Избранные фэнтезийные циклы романов. Компиляция. Книги 1-19 [Майкл Муркок] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Майкл Муркок Элрик из Мелнибонэ
Уважаемый читатель!
Об Элрике часто говорят как об антигерое, но я предпочитаю думать о нем все же как о герое. Когда я рос, мои любимые персонажи (Уильям, Тарзан, Морд Эм’ли, Зенит Альбинос, Джо Марч, сыщики агентства «Континенталь») казались мне борцами за свободу и самобытность, которые вынуждены полагаться на собственную систему ценностей и собственную сообразительность, но в определенные жизненные моменты готовые на серьезные, чтобы не сказать вынужденные, жертвы ради общественных интересов. Есть некий уровень, на котором герой становится довольно нелепой фигурой, и нередко это объясняется тем, что у него никогда не возникает сомнения в справедливости устройства общества, в котором он живет. Джон Уэйн всегда отдавал предпочтение старомодному патернализму, каким бы индивидуалистом он себя ни объявлял. Позднее меня очень заинтересовали книги, где исследуются мифы, делающие героя привлекательным (например, «Лорд Джим»), и тогда я понял, что существует опять-таки некий уровень, на котором героизм может использоваться как пропагандистское оружие, имеющее целью, скажем, подвигнуть молодых женщин пожертвовать своим будущим в неравных браках или молодых мужчин – своими жизнями в несправедливых войнах. «Отчужденный» герой или героиня нередко способны отойти в сторонку и сообразить, что же происходит на самом деле. Литературные произведения, где они выступают как протагонисты, позволяют им (часто при ничтожных шансах на успех) совершать отчаянные поступки и идти на риск, на какой пошло бы большинство из нас, будь у нас их возможности или друзья. В реальной жизни такие возможности приобретаются лишь в результате групповых действий и всенародного голосования, но нам всем знакомы примеры локального героизма, мужества отдельных личностей в опасных обстоятельствах. Я не вижу ничего плохого в героях, которые отражают лучшие наши представления о том, каким нужно быть и как поступать. Я все еще не стыжусь своей любви к моим героям, которые скептически относятся к власти и ее заявлениям. Я начал писать истории об Элрике в середине 1950-х. Они развивались постепенно, и нередко это происходило в результате моей переписки с Джоном Которном, который присылал мне свои идеи в виде рисунков, и наконец в 1959 году меня попросили написать серию для журнала Теда Карнелла «Сайенс фэнтези». Элрик был задуман как сознательное противопоставление существовавшим тогда тенденциям «мачо». Впервые он появился в «Грезящем городе», и лишь позднее я вернулся к нему и описал более ранние его приключения. В Элрике, как я уже отметил однажды, отразились черты той личности, какой я был, когда впервые писал о нем. Его конфликты и поиски имеют много общего с моими конфликтами и поисками (в известной мере и до сего дня). Элрик был моим героем-первенцем, переросшим свое детство, и именно с ним я больше, чем с кем-либо другим, отождествляю себя. Хотя я и расставил его приключения в том порядке, в котором вы найдете их в этой книге, и внес незначительные исправления в текст, стилистических изменений книга, как какая-нибудь дворняжка, практически не претерпела и, пережив несколько литературных периодов, продолжает, я надеюсь, с изрядным удовольствием выполнять поставленную перед ней задачу. Свою благодарность Энтони Скину (Мсье Зенит), Флетчеру Прэтту («Колодец единорога»), Джеймсу Бранчу Кейбелу («Юрген»), Лорду Дансени, Фрицу Лейберу, Полу Андерсону, а также «Замку Отранто», «Айвенго», «Мельмоту-скитальцу» и другим книгам и авторам я уже выражал. Первая книга Элрика появилась в 1963 году и была посвящена моей матери. Это издание я с большой благодарностью посвящаю Джону Дэйви, оказавшему мне огромную помощь. Ваш Майкл Муркок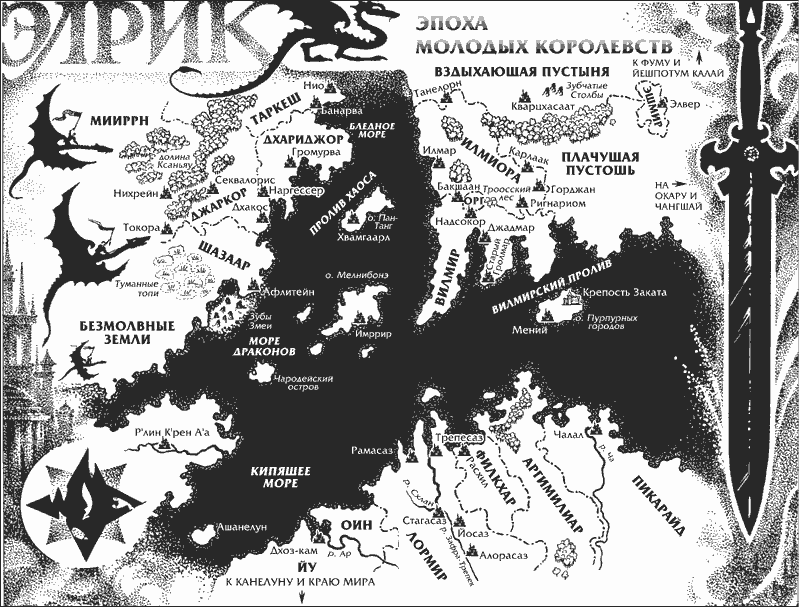
Элрик из Мелнибонэ
Полу Андерсону за «Сломанный меч» и «Три сердца и три льва». Покойному Флетчеру Прэтту за «Колодец единорога». Покойному Бертольду Брехту за «Трехгрошовую оперу». По неясным причинам я считаю эти книги главными среди всех других, оказавших определяющее влияние на первые истории про Элрика.
Пролог
Это история про Элрика тех времен, когда его еще не называли Женоубийцей, а Мелнибонэ не пал окончательно. Это история соперничества Элрика со своим кузеном Йиркуном и любви Элрика к Симорил, сестре Йиркуна, незадолго до того, как это соперничество и эта любовь привели к гибели в огне Имррира, Грезящего города, разграбленного пиратами из Молодых королевств. Это история двух Черных Мечей, Буревестника и Утешителя, – история о том, как они были обретены и какую роль сыграли в судьбе Элрика и всего Мелнибонэ; судьбе, которой суждено было определить судьбу еще большую – судьбу мира. Это история тех времен, когда Элрик был королем, которому подчинялись драконы в воздухе и корабли на воде – и все люди той получеловеческой расы, что десять тысяч лет правила миром. Это история трагедии – история Мелнибонэ, острова Драконов. Это рассказ о жестоких чувствах и непомерных притязаниях. Это история колдовства и измены, высоких идеалов и низменных наслаждений, агонии, горчайшей любви и нежнейшей ненависти. Это история Элрика из Мелнибонэ. Большую ее часть Элрик вспоминал как кошмарный сон. Хроника Черного МечаЧасть первая
В островном королевстве Мелнибонэ все еще соблюдаются старые обряды, хотя вот уже пять сотен лет звезда этого народа идет к закату и он поддерживает свой образ жизни лишь за счет торговли с Молодыми королевствами, а также благодаря тому, что город Имррир стал местом встреч купцов со всего мира. Нужны ли эти обряды сегодня, можно ли от них отказаться и избежать гибельной судьбы? Тот, кто стремится занять место императора Элрика, предпочитает думать, что нельзя. Он утверждает, что Элрик, отказавшись чтить все эти обряды (хотя Элрик почитает многие из них), станет причиной падения Мелнибонэ. И вот перед нами начинает разворачиваться трагедия, которая завершится много лет спустя и ускорит гибель этого мира.Глава первая Печальный король: двор пытается его развеселить
Цвета выбеленного черепа его кожа, а волосы, что струятся ниже плеч, молочной белизны. С узкого лица смотрят миндалевидные глаза – малиновые и грустные. Из рукавов желтого одеяния выглядывают тонкие руки, также цвета кости – они покоятся на подлокотниках трона, вырезанного из огромного рубина. В малиновых глазах беспокойство, и время от времени одна рука поднимается, чтобы поправить легкий шлем на белых волосах; шлем сделан из какого-то темно-зеленого сплава и искусно отлит в виде готового взлететь дракона. А на палец руки, рассеянно поглаживающей корону, надет перстень с редким камнем Акториосом, и сердцевина камня неторопливо движется и меняет форму – словно это некий живой дым, которому так же неспокойно в драгоценной тюрьме, как и молодому альбиносу на Рубиновом троне. Он смотрит вдоль длинного пролета кварцевых ступеней вниз, туда, где его придворные танцуют с такой манерностью и таким змеиным изяществом, что их можно принять за призраков. Он размышляет о сути нравственности, и уже одно это отдаляет правителя от подавляющего большинства его подданных, ведь народ этот – не люди. Это народ Мелнибонэ, острова Драконов, который властвовал над миром десять тысяч лет и чья власть закончилась менее пятисот лет назад. Народ этот жесток и умен, а «нравственность» для них – это всего лишь уважение к традициям, насчитывающим сотню веков. Молодому человеку – четыреста двадцать восьмому в родовой линии, идущей от первого императора-чародея Мелнибонэ, – их представления кажутся не только высокомерными, но и глупыми. Ведь очевидно, что остров Драконов потерял Почти всю свою мощь, еще сто-двести лет – и само его существование будет поставлено под угрозу: назревает прямое столкновение с набирающими силу человеческими народами, которых в Мелнибонэ снисходительно называют Молодыми королевствами. Пиратские флоты уже предпринимали неудачные набеги на Имррир Прекрасный, Грезящий город – столицу Мелнибонэ, острова Драконов. Но даже ближайшие друзья императора отказываются обсуждать с ним возможное падение Мелнибонэ. Они выражают недовольство, когда он заговаривает об этом, считая его доводы не только немыслимыми, но и противоречащими хорошему вкусу. Вот поэтому император и размышляет в одиночестве. Он досадует, что его отец, Садрик Восемьдесят шестой, не оставил больше детей и поэтому более достойный монарх не может занять место на Рубиновом троне. Вот уже год, как Садрик ушел в мир иной – и, по слухам, с радостью встретил смерть. Всю жизнь Садрик оставался верен своей супруге – императрица умерла при родах единственного болезненного младенца. А Садрик, чье чувство к своей жене столь сильно отличалось от того, что свойственно людям, так и не смог оправиться. Его не смог утешить и собственный сын, единственное напоминание о жене и ее невольный убийца. Принца выходили волшебными снадобьями, пением заклинаний, настоями редких трав, силы его поддерживались всеми способами, известными королям-чародеям Мелнибонэ. И он выжил – и живет до сих пор – единственно благодаря колдовству, потому что, слабый от природы, без своих лекарств он и руки не способен поднять большую часть суток. Если молодой император и находит какое-то преимущество в своей слабости, так только в том, что он волей-неволей много читает. Ему еще не исполнилось и пятнадцати, когда он прочел все книги в библиотеке отца, и некоторые из них – не по одному разу. Его колдовские силы, основу которых заложил Садрик, теперь превышают силы любого из его предков во многих поколениях. Он обладает глубокими познаниями о мире за пределами Мелнибонэ, хотя пока еще почти не соприкасался с ним напрямую. Если бы он пожелал, то мог бы вернуть прежнюю мощь острову Драконов и править как полновластный тиран не только своей землей, но и Молодыми королевствами. Но чтение научило его сомневаться в пользе силы, сомневаться в том, что он вообще должен применять власть, которой обладает. Причиной этой его обостренной «нравственности» – которую он сам едва понимает – стало чтение. Вот почему он – загадка для своих подданных, а для некоторых Даже и угроза, ведь он думает и действует не так, как, по их представлениям, должен думать и действовать истинный мелнибониец (а тем более император). Его кузен Йиркун, например, не раз выражал сильные сомнения в праве последнего императора властвовать над народом Мелнибонэ. «Этот хилый книжник погубит нас всех», – сказал он как-то раз Дивиму Твару, магистру Драконьих пещер. Дивим Твар был одним из немногих друзей императора, а потому он сообщил ему об этом разговоре, однако юноша посчитал замечание кузена «всего лишь мелкой изменой», тогда как любой из его предков наградил бы за подобные мысли Медленной и жестокой публичной казнью. Положение императора в еще большей степени осложняется тем, что Йиркун, почти не скрывающий своего желания занять трон, приходится братом Симорил – девушке, которую альбинос считает своим самым близким другом и которая со временем станет его императрицей. На мозаичном полу принц Йиркун в великолепных шелках и мехах, в драгоценностях и парче танцует с сотней женщин поочередно – все они, по слухам, были его любовницами, одновременно или по очереди. Его темное лицо, одновременно красивое и мрачное, обрамлено длинными черными волосами, завитыми и умасленными, смотрит он, как всегда, язвительно, а выглядит высокомерно. Тяжелый парчовый плащ раскручивается то в одну, то в другую сторону, с силой ударяя других танцующих. Он носит этот плащ словно доспехи, а может быть, и оружие. Многие придворные относятся к принцу Йиркуну с трепетом и почтением. Его высокомерие кое-кому не нравится, но они предпочитают об этом помалкивать, потому что Йиркун весьма сведущ в колдовстве. Кроме того, его поведение соответствует представлениям двора о том, как должна себя вести знатная персона, и именно такое поведение придворные бы хотели видеть у своего императора. Император все это знает. Он и сам бы не прочь угодить двору, который пытается оказать ему почтение своими танцами и своим остроумием, но не может заставить себя принять участие в том, что, по его мнению, представляет собой утомительную и раздражающую последовательность ритуальных движений. В этом смысле он, пожалуй, высокомернее Йиркуна, который всего лишь неотесанный невежа. С галерей все громче доносятся звуки музыки – это пение рабов, специально обученных и прооперированных таким образом, чтобы каждый из них мог петь одну-единственную ноту, но зато безупречно. Даже молодого императора трогает зловещая гармония их голосов, почти не напоминающих человеческие. «Почему их боль рождает такую великолепную красоту? – спрашивает он себя. – Или любая красота рождается из боли? Может, это и есть великая тайна искусства – и человеческого, и мелнибонийского?» Император Элрик закрывает глаза. В зале внизу возникает какое-то движение. Ворота открываются, придворные, прекратив танец, расступаются и низко кланяются вошедшим воинам. Воины облачены в голубые одежды, их шлемы имеют необычную форму, а длинные копья с широкими наконечниками украшены сверкающими лентами. В центре между ними – молодая женщина, чье синее платье гармонирует с цветом одежды солдат; на ее обнаженных руках пять или шесть золотых браслетов с бриллиантами и сапфирами. В ее волосы вплетены нити с бриллиантами и сапфирами. В отличие от большинства женщин двора, на ее лице нет ни следа традиционной косметики. Элрик улыбается. Это Симорил. Воины – ее личная церемониальная гвардия, которая по традиции должна сопровождать Симорил к императору. Они поднимаются по ступенькам, ведущим к Рубиновому трону. Элрик встает и протягивает ей навстречу руки. – Симорил. Я было подумал, что ты сегодня решила не удостаивать двор своим присутствием. Она возвращает ему улыбку. – Мой император, оказалось, что меня сегодня тянет поболтать. Элрик ей благодарен. Она знает, что ему скучно, а еще она знает, что принадлежит к числу тех немногих обитателей Мелнибонэ, с которыми ему интересно говорить. Если бы обычай допускал это, он предложил бы Симорил место на троне, но ей можно сесть лишь на верхней ступеньке у трона. – Пожалуйста, сядь, милая Симорил. Он снова садится на трон и наклоняется поближе к ней, а она усаживается на ступеньке и заглядывает в его глаза. На ее лице выражение радости и нежности. Она начинает говорить вполголоса, а ее гвардейцы отступают и смешиваются с личными гвардейцами императора. Ее слова слышит только Элрик. – Мой господин, ты не хочешь прогуляться завтра со мной в дикий уголок острова? – Есть дела, которыми мне нужно будет заняться… – Однако его явно привлекло это предложение. Он уже несколько недель не выезжал из города. Обычно в таких прогулках их эскорт следовал на некотором расстоянии за ними. – Срочные дела? Он пожимает плечами. – Какие в Мелнибонэ могут быть срочные дела? За десять тысяч лет большинство проблем уже решилось само собой. – Его улыбка скорее напоминает ухмылку ученика, который собирается сбежать с уроков. – Договорились. Мы поедем рано утром, когда все еще будут спать. – Воздух за стенами Имррира будет чистым и свежим, солнце – теплым и ласковым, а небо – голубым и безоблачным. Элрик смеется. – Я смотрю, тебе пришлось немало поколдовать для этого. Симорил опускает глаза, словно изучая рисунок мраморных плит. – Ну, разве что чуть-чуть. У меня есть друзья среди слабейших элементалей… Протянув руку, Элрик касается ее прекрасных темных волос. – Йиркун знает? – Нет. Принц Йиркун запретил сестре заниматься магией. Друзья принца принадлежат к темным сверхъестественным существам, и он знает, что иметь с ними дело опасно. На этом основании он делает вывод, что опасно любое колдовство. А еще ему ненавистна мысль о том, что другие могут быть равны ему по силе. Может быть, именно это он и ненавидит в Элрике больше всего. – Будем надеяться, что всему Мелнибонэ завтра понадобится хорошая погода, – говорит Элрик. Симорил недоуменно смотрит на него. Как истинной мелнибонийке, ей и в голову не приходит, что ее колдовство Может кому-то принести вред. Поведя плечами, она легонько прикасается к руке своего императора. – Это чувство «вины»… – говорит она. – Эти метания совести… Наверное, мой разум слишком примитивен – я не могу их понять. – Должен признаться, я тоже не всегда понимаю. Никакого практического применения им нет. И тем не менее некоторые наши предки предсказывали, что природа нашей земли изменится – и духовно, и физически. Может быть, мои странные немелнибонийские мысли – признаки приближения этих перемен… Музыка усиливается. Музыка затихает. Придворные продолжают танец, но глаза их устремлены на Элрика и Симорил, сидящих на возвышении. Когда же Элрик объявит Симорил своей императрицей? И возобновит ли император традицию, отмененную Садриком: приносить в жертву Владыкам Хаоса двенадцать невест и их женихов, чтобы обеспечить хороший брак правителей Мелнибонэ? Ведь совершенно очевидно, что именно отказ Садрика от этой традиции и стал причиной его несчастий и смерти его жены, из-за этого сын у него родился больным и само продолжение династии поставлено под угрозу. Элрик должен бояться повторения роковой участи своего отца. Но некоторые утверждают, что нынешний император тоже намерен пренебречь этим обычаем, а это ставит под угрозу не только его жену, но и существование самого Мелнибонэ и всего, что оно собой воплощает. Те, кто так говорит, как правило, состоят в хороших отношениях с принцем Йиркуном. Принц продолжает свой танец, будто не замечая ни перешептывания придворных, ни тихой беседы сестры с его кузеном, восседающим на Рубиновом троне… правда, сидит Элрик на краешке трона, забыв об императорском достоинстве; правда, ему ничуть не свойственна жестокая и надменная гордыня, одолевавшая в прошлом чуть ли не каждого императора Мелнибонэ; правда, он болтает дружески, словно забыв, что двор танцует для его удовольствия. А затем принц Йиркун внезапно замирает, не завершив пируэта, и поднимает свои темные глаза на императора. Из угла зала Дивим Твар наблюдает за театрально застывшим Йиркуном. Повелитель Драконьих пещер хмурится, рука его тянется к поясу, но на балах ношение мечей запрещено. Дивим Твар внимательно и напряженно смотрит на принца Йиркуна, когда этот высокий аристократ начинает подниматься по ступенькам к Рубиновому трону. Много глаз следит за кузеном императора, и теперь уже почти никто не танцует, хотя музыка и становится громче – хозяева музыкальных рабов подстегивают их, чтобы они вкладывали в пение еще больше усердия. Элрик поднимает глаза и видит, что Йиркун стоит ступенькой ниже той, на которой сидит Симорил. Йиркун совершает поклон – не без некоторого оскорбительного вызова. – Я прошу внимания императора, – говорит он.Глава вторая Аристократ-выскочка: он бросает вызов своему кузену
– Ну и как тебе нравится бал, кузен? – спросил Элрик, понимая, что мелодраматический жест Йиркуна имел целью застать его врасплох и, если возможно, унизить. – Тебе такая музыка по вкусу? Йиркун опустил глаза, а его губы сложились в едва заметную ухмылку. – Мне все по вкусу, мой господин. А тебе? Ты чем-то недоволен? Ты не хочешь танцевать со всеми? Элрик поднес бледный палец к подбородку и заглянул в полуприкрытые глаза Йиркуна. – Мне нравится танец, кузен. Разве нельзя получать Удовольствие от удовольствия других? Йиркун, казалось, искренне удивился. Его глаза раскрылись и встретили взгляд Элрика. Слегка вздрогнув, Элрик отвел глаза и плавным жестом указал в сторону музыкальных хоров. – А может, удовольствие мне доставляет боль других. Не переживай за меня, кузен. Я доволен. Я – доволен. Ты Можешь продолжать танец, зная, что твой император получает удовольствие от бала. Но Йиркуна не так-то легко сбить с толку. – Чтобы подданные не ушли в печали и расстройстве, оттого что они не смогли угодить своему правителю, император должен показать, что он доволен… – Позволь мне напомнить тебе, кузен, – тихо сказал Элрик, – что у императора нет обязательств перед своими подданными. Кроме одного – править ими. А их долг – подчиняться. Такова традиция Мелнибонэ. Йиркун не ожидал, что Элрик воспользуется таким аргументом, но ответ у него уже был готов. – Я согласен, мой господин. Долг императора править своими подданными. Может быть, именно поэтому многие из них не наслаждаются этим балом так, как могли бы. – Я не понимаю тебя, кузен. Симорил поднялась и встала, сцепив руки, на ступеньке выше брата. Она была напряжена и взволнована, язвительный тон брата, его надменность обеспокоили ее. – Йиркун… – сказала она. Лишь сейчас он обратил на нее внимание. – Сестра, я вижу, ты делишь с императором нежелание танцевать. – Йиркун, – начала она, – ты заходишь слишком далеко. Император терпелив, но… – Терпелив? А может, он просто ко всему равнодушен? Может, ему безразличны традиции нашего великого народа? Может, он презирает то, чем гордится этот народ? По ступенькам поднимался Дивим Твар. Он тоже понял, что Йиркун выбрал этот момент для проверки прочности власти Элрика. Симорил взволнованно сказала: – Йиркун, если ты проживешь… – Мне не нужна жизнь, если погибнет душа Мелнибонэ. А защита души нашего народа – обязанность императора. Но что произойдет, если у нас появится император, который окажется не в состоянии выполнить эту свою обязанность? Если наш император окажется слаб? Если нашему императору будет безразлично величие острова Драконов и его народа? – Это гипотетический вопрос, кузен. – Самообладание вернулось к Элрику, в его голосе была слышна ледяная неторопливость. – Такой император никогда еще не восходил на Рубиновый трон и никогда не взойдет. Дивим Твар приблизился к Йиркуну и тронул его за плечо. – Принц, если тебе дорога твоя честь и твоя жизнь… Элрик поднял руку. – В этом нет необходимости, Дивим Твар. Принц Йиркун просто развлекает нас интеллектуальным разговором. Ему показалось, что музыка и танцы утомили меня – хотя на самом деле это не так, – и он решил развлечь нас. И тебе это несомненно удалось, принц Йиркун. – Последнее предложение Элрик произнес покровительственным тоном. Йиркуна от гнева бросило в краску, и он прикусил губу. – Продолжай, мой дорогой кузен, – сказал Элрик. – Мне любопытно. Развивай свою аргументацию. Йиркун оглянулся, словно ища поддержки. Но все его сторонники находились далеко – в зале. А поблизости были только друзья Элрика – Дивим Твар и Симорил. И тем не менее Йиркун знал, что его сторонники слышат каждое слово, и Если он не найдет достойного ответа, то потеряет перед ними Лицо. Элрик чувствовал, что Йиркун предпочел бы закончить этот разговор и продолжить противостояние в другом месте и в другое время, но это было невозможно. У самого Элрика не было никакого желания продолжать эту глупую перепалку. Что ни говори, а она была ничуть не лучше, чем ссора двух маленьких девочек, которые не могут решить, кто из них будет первой играть с рабынями. Он решил поставить точку. Йиркун начал: – Тогда позволь мне предположить, что у физически слабого императора может оказаться и слабая воля и он не сможет править, как… И тут Элрик поднял руку. – Ты сказал достаточно, мой дорогой кузен. Более чем достаточно. Ты утомляешь себя этим разговором, тогда как мог бы в это время беззаботно танцевать. Меня тронула твоя озабоченность. Но теперь и меня начинает одолевать усталость. – Элрик дал знак своему старому слуге Скрюченному, который стоял среди воинов на тронном возвышении чуть поодаль. – Скрюченный! Мой плащ. Элрик встал. – Я еще раз благодарю тебя за заботу, кузен. – Потом он обратился ко всему двору: – Мне было весело. Атеперь я ухожу. Скрюченный принес плащ из меха белой лисы и накинул его на плечи своего господина. Скрюченный был очень стар и ростом гораздо выше Элрика, несмотря на сгорбленную спину и узловатые, словно ветви старого дерева, руки и ноги. Элрик пересек тронное возвышение и вышел в коридор, ведущий в его покои. Йиркун кипел. Он повернулся на тронном возвышении и подался вперед, словно собираясь обратиться с речью к наблюдавшим за ним придворным. Некоторые, не входившие в число его сторонников, откровенно улыбались. Сжав кулаки, Йиркун вперился в насмешников тяжелым взглядом. Он сверкнул Глазами на Дивима Твара и разжал тонкие губы, собираясь что-то произнести. Дивим Твар спокойно выдержал его взгляд, ожидая начала речи. Тогда Йиркун тряхнул головой, откидывая назад волосы – завитые и намасленные. И – засмеялся. Резкий звук наполнил зал. Музыка прекратилась. Смех продолжался. Йиркун сделал шаг назад, ближе к трону. Он завернулся в свой плащ – его тело целиком исчезло под тяжелой тканью. Симорил шагнула к нему. – Йиркун, пожалуйста… Он движением плеча оттолкнул ее. Йиркун медленно подошел к Рубиновому престолу. Стало ясно, что он собирается сесть на трон, что по законам Мелнибонэ было самым страшным из преступлений. Бросившись вперед, Симорил схватила его за руку. Смех Йиркуна стал еще громче. – Они хотят видеть Йиркуна на Рубиновом троне, – сказал он своей сестре. Та в ужасе оглянулась на Дивима Твара, на лице которого застыло жесткое, сердитое выражение. Дивим Твар подал знак гвардейцам – и внезапно между Йиркуном и троном возникли две шеренги воинов в латах. Йиркун бросил гневный взгляд на повелителя Драконьих пещер. – Твое счастье, если ты погибнешь вместе со своим Господином, – прошипел он. – Этот почетный караул проводит тебя из зала, – спокойно сказал Дивим Твар. – Твой сегодняшний разговор был для всех нас хорошим развлечением, принц Йиркун. Йиркун помедлил, оглянулся, напряженность его позы вдруг исчезла. Он пожал плечами. – Времени еще достаточно. Если Элрик не отречется, он будет смещен. Гибкое тело Симорил напряглось, глаза горели. Она сказала брату: – Если хоть волос упадет с головы Элрика, я сама убью тебя, Йиркун. Он поднял брови и улыбнулся. Казалось, что в этот миг он ненавидит сестру даже больше, чем кузена. – Свой верностью этому выродку ты предопределила свою судьбу, Симорил. Ты скорее умрешь, чем продолжишь его род. Я не позволю примешивать к крови нашего дома его кровь. Да что там примешивать – марать его кровью нашу. Ты лучше подумай о своей собственной жизни, сестра, прежде чем угрожать мне. Он опрометью бросился вниз по ступеням, расталкивая тех, кто подошел поздравить его. Он знал, что потерпел поражение, и шепоток лизоблюдов только еще больше раздражал его. Огромные двери с грохотом захлопнулись. Йиркун исчез из зала. Дивим Твар поднял обе руки. – Танцуйте, господа. Наслаждайтесь всем, что есть в зале. Так вы больше всего угодите императору. Но было ясно, что танцы на сегодня закончились. Придворные погрузились в разговоры, возбужденно обсуждая случившееся. Дивим Твар повернулся к Симорил. – Принцесса Симорил, Элрик не хочет признать опасность. Амбиции Йиркуна могут всех нас привести к гибели. – Включая и Йиркуна, – вздохнула Симорил. – Да, включая и Йиркуна. Но, Симорил, как нам избежать этого, если Элрик не разрешает арестовать твоего брата? – Он считает, что таким, как Йиркун, нужно позволить говорить то, что им нравится. Это часть его философии. Я ее почти не понимаю, владыка драконов, но она согласуется со всем его мировоззрением. Если он уничтожит Йиркуна, то тем самым уничтожит и принципы своей логики. Так, по крайней мере, он мне пытался объяснить. Дивим Твар вздохнул и нахмурился. Он не мог понять Элрика и побаивался, как бы ему самому в один прекрасный день не пришлось принять точку зрения Йиркуна. Доводы принца, по крайней мере, были относительно ясны и понятны. Он Слишком хорошо знал характер Элрика и даже мысли не допускал, что тот действует таким образом из слабости или апатии. Парадокс состоял в том, что Элрик спокойно относился к предательству Йиркуна именно потому, что был силен и мог уничтожить Йиркуна в любую секунду. А характер Йиркуна подталкивал его к тому, чтобы испытывать силу Элрика, потому что он инстинктивно чувствовал – если Элрик даст слабину и прикажет его убить, это будет означать, что он, Йиркун, победил. Ситуация была непростой, и Дивим Твар всей душой хотел не быть впутанным в ее перипетии. Но его преданность королевскому дому Мелнибонэ была сильна, а его личная преданность Элрику – неколебима. Он подумывал, не организовать ли тайное убийство Йиркуна, но знал, что такой план почти наверняка обречен на неудачу. Будучи опытным колдуном, Йиркун несомненно дознается о том, что готовится покушение на его жизнь. – Принцесса Симорил, – сказал Дивим Твар, – я могу только молиться о том, чтобы твой брат захлебнулся в собственной ненависти. – Я буду молиться вместе с тобой, повелитель Драконьих пещер. Они вместе вышли из зала.Глава третья Утренняя прогулка: миг спокойствия
Первые лучи солнца коснулись башен Имррира, и те засверкали в вышине. Множество башен, и у каждой был свой оттенок – тысячи разных цветов. Розовые и нежно-желтые, алые и светло-зеленые, розовато-лиловые, коричневые, оранжевые, голубоватые, белые, зернисто-золотые – все они были прекрасны в солнечном свете. Два всадника выехали из ворот Грезящего города и направились по зеленой траве к сосновому лесу, где среди массивных стволов словно бы еще таились тени минувшей ночи. Суетились белки, пробирались в свои норы лисы, пели птицы, а лесные цветы раскрывали свои бутоны, наполняя воздух сладкими ароматами. Лениво жужжали просыпающиеся насекомые. Контраст между жизнью в городе и этой неторопливой природой был колоссален и, казалось, отражал контрасты, существовавшие в сознании по крайней мере одного из всадников, который теперь спешился и, по колено утопая в ковре голубых цветов, вел своего коня. Другой всадник, девушка, остановила своего коня, но спешиваться не стала. Она склонилась к луке высокого мелнибонийского седла и улыбнулась мужчине, своему любимому. – Элрик, ты хочешь остановиться так близко к городу? Он улыбнулся ей через плечо. – Ненадолго. Мы так поспешно бежали. Мне нужно собраться с мыслями, прежде чем ехать дальше. – Как ты спал прошлой ночью? – Неплохо, Симорил. Может быть, я даже видел сны, но забыл их… понимаешь, когда я проснулся, во мне осталось предчувствие чего-то… Хотя, возможно, это последствия неприятного разговора с Йиркуном. – Ты думаешь, он собирается применить против тебя свое колдовство? Элрик пожал плечами. – Если бы он планировал что-нибудь серьезное, я бы почувствовал это. А он знает мои силы. Сомневаюсь, что он осмелится прибегнуть к магии. – У него есть причины считать, что ты не будешь использовать колдовство. Он столько времени проверял твой характер, нет ли теперь опасности, что он станет проверять твое искусство? Не начнет ли он испытывать твои колдовские способности, как испытывал твое терпение? Элрик нахмурился. – Да, я полагаю, такая опасность существует. Но мне кажется, что думать об этом еще рано. – Он не успокоится, пока не погубит тебя, Элрик. – Или не погибнет сам, Симорил. – Элрик нагнулся и сорвал цветок. Он улыбнулся. – Твой брат не приемлет компромиссов, ведь так? Как же все-таки слабые ненавидят слабость. Симорил поняла смысл сказанного. Она спешилась и подошла к нему. Ее тонкое платье было почти того же оттенка, что и полевые цветы, сквозь которые она шла. Элрик протянул ей цветок, и она взяла его, коснувшись лепестков красивыми губами. – А сильные ненавидят силу, моя любовь. Йиркун – мой родственник, и тем не менее я даю тебе этот совет – используй свою силу против него. – Убить его я не могу. У меня нет такого права. – На лице Элрика появилось знакомое ей задумчивое выражение. – Ты мог бы изгнать его. – Разве для мелнибонийца изгнание не равносильно смерти? – Ты ведь и сам собирался посетить Молодые королевства. Элрик горько рассмеялся. – Может быть, я не настоящий мелнибониец. Йиркун ведь так и говорит, а другие с ним соглашаются. – Он тебя ненавидит, потому что ты склонен предаваться размышлениям. Твой отец был склонен предаваться размышлениям, но никто не говорил, что он плохой император. – Мой отец решил, что лучше не воплощать в жизнь плоды своих размышлений. Он правил так, как и должен править император. Должен признать, Йиркун тоже правил бы так, как подобает править императору. И у него есть шанс вернуть величие Мелнибонэ. Если бы он стал императором, то тут же начались бы завоевательные войны ради восстановления империи в ее первоначальных границах. Он вновь распространил бы нашу власть на всю землю. И именно этого желает Большинство моих подданных. Вправе ли я идти против их желаний? – Ты вправе поступать, как считаешь нужным, ведь ты император. Все, кто тебе предан, думают так же, как и я. – Может быть, их преданность неправомерна. Может быть, Йиркун прав, и я не оправдаю их преданности, и по моей вине рок обрушится на остров Драконов. – Его задумчивые малиновые глаза встретились с ее взглядом. – Может быть, лучше было бы, если бы я умер, покинув чрево матери. Тогда императором стал бы Йиркун. Я помешал его судьбе. – Судьбе нельзя помешать. То, что случилось, должно Было случиться, потому что этого захотела судьба, если только она существует и если наши действия не являются всего лишь ответом на действия других. Элрик глубоко вздохнул и посмотрел на нее с ироничным выражением на лице. – Если верить традициям Мелнибонэ, то твоя логика заводит тебя в ересь, Симорил. Может быть, тебе лучше забыть дружбу со мной. Она рассмеялась. – Ты начинаешь говорить, как мой брат. Уж не испытываешь ли ты мою любовь к тебе, мой господин? Он запрыгнул в седло. – Нет, Симорил, но я бы посоветовал тебе самой испытать свою любовь, потому что я предчувствую – наша любовь чревата трагедией. Садясь в седло, она улыбнулась и покачала головой. – Ты во всем видишь рок. Почему ты не можешь принять те дары, что были тебе даны? Они ведь достаточно многочисленны. – Да, с этим я согласен. Услышав стук копыт, они обернулись и увидели невдалеке всадников в желтых доспехах, скакавших нестройной группой. Это была их стража, от которой они решили скрыться, желая побыть вдвоем. – Вперед! – воскликнул Элрик. – Через лес и за холм – там они нас никогда не найдут. Они пришпорили коней и поскакали через пронизанный солнечными лучами лес, а потом вверх по склону холма, Потом, перевалив через его гребень, – вниз и дальше по долине, поросшей нойделем, чьи сочные ядовитые плоды отливали пурпурно-синим, цветом ночи, которую не мог рассеять даже дневной свет. В Мелнибонэ было много таких ягод и растений, и некоторым из них Элрик был обязан своей жизнью. Другие использовались для колдовских отваров, и их высеивали предки Элрика поколение за поколением. Теперь лишь немногие мелнибонийцы покидали город ради этих растений, но уже не сеяли их, а лишь собирали. В большей части острова теперь никто не бывал, кроме рабов, собиравших корни и плоды кустарников, благодаря которым можно было видеть чудовищные и великолепные сны – главное удовольствие мелнибонийских аристократов. Этот народ всегда был подвержен настроениям и интересовался только собой, за что Имррир и назвали Грезящим городом. Даже самый последний раб жевал ягоды, которые приносили ему забвение, – рабами, таким образом, было легко управлять, потому что они скоро попадали в зависимость от своих грез. И только один Элрик не прибегал к ним, потому что ему требовалось множество других средств просто для поддержания жизни. Одетые в желтое стражники остались позади, а Элрик и Симорил пересекли долину, где росли кусты нойделя, и теперь пустили коней неторопливым шагом. Скоро они оказались у скал, а потом вышли к морю. Море ярко и лениво поблескивало, омывая выбеленные берега под скалами. Морские птицы кружили в ясном небе, а их далекие крики лишь подчеркивали ощущение покоя, снизошедшее теперь на Элрика и Симорил. Влюбленные в молчании направились по крутой тропинке к берегу, где привязали коней, а потом пошли по песку; ветер, дувший с востока, играл их волосами – его, белыми, и ее, черными как смоль. Они нашли большую сухую пещеру, которая улавливала звуки моря и отвечала им шелестящим эхом, и в ее тени, сняв шелковые одежды, предались любви. Потом они лежали в объятиях друг друга, а день тем временем вступил в свои права, ветерок стих. Потом они купались, и небеса слушали их смех. Когда они высохли и начали одеваться, горизонт потемнел, и Элрик сказал: – До возвращения в Имррир мы опять промокнем. Как бы мы ни мчались, буря догонит нас. – Может, переждем в пещере? – предложила она, подойдя и прижавшись к нему своим нежным телом. – Нет, – сказал он. – Мне пора возвращаться – в Имррире остались отвары, без которых мое тело утратит силу. Еще час-другой, и я начну слабеть. Ты ведь уже видела меня ослабевшим, Симорил. Она погладила его лицо, в глазах ее светилось сочувствие. – Да, я видела тебя ослабевшим, Элрик. Идем залошадьми.Когда они подошли к лошадям, небо над их головами уже посерело, а на востоке его затянула кипящая чернота. Они услышали гром, а потом небо пронзила молния. Море колотилось о берег, словно небеса заразили его своим безумием. Лошади храпели и били копытами в песок – домой, домой! Не успели Элрик и Симорил усесться в седла, а крупные капли дождя уже падали им на головы, расползались по плащам. Они во весь опор поскакали назад в Имррир, а вокруг них сверкали молнии и, как свирепый великан, грохотал гром, словно какой-то великий древний Владыка Хаоса пытался незваным гостем явиться в земное царство. Симорил взглянула на бледное лицо Элрика, освещенное на мгновение вспышкой небесного огня, и почувствовала ледяной холод, пронзивший ее насквозь. Но этот холод не имел никакого отношения к ветру или дождю – ей в это мгновение показалось, что кроткий книгочей, которого она любила, вдруг под воздействием стихий превратился в злобного демона, в монстра, ничем не напоминающего представителя их расы. Малиновые глаза Элрика горели адским пламенем на мертвенно-бледном лице, ветер трепал его волосы, стоявшие дыбом, словно плюмаж зловещего шлема, и в неверном отблеске молний казалось, что рот императора перекосила жуткая смесь гнева и агонии. И вдруг Симорил все поняла. В глубине сердца она знала теперь, что сегодняшняя утренняя прогулка была для них последним мирным мгновением, которое уже никогда не повторится. Эта буря была знаком Самих богов – предупреждением о грядущих бурях. Она снова взглянула на своего любимого. Элрик смеялся. Он запрокинул голову, и теплый дождь хлестал его прямо по лицу, вода лилась в открытый рот. Он смеялся беззаботным, легким смехом счастливого ребенка. Симорил тоже попыталась было смеяться, но тут же отвернулась, чтобы Элрик не увидел ее лица, – она заплакала. Она продолжала плакать, когда на горизонте появился Имррир – черные причудливые очертания на ярком фоне еще не тронутого бурей запада.
Глава четвертая Пленники: у них выведывают тайны
Всадники в желтых доспехах увидели Элрика и Симорил, когда те приблизились к самым малым из восточных ворот. – Наконец-то они нас нашли, – улыбнулся сквозь дождь Элрик. – Правда, поздновато, да, Симорил? Симорил, все еще погруженная в свои мысли о неумолимой судьбе, просто кивнула и попыталась улыбнуться в ответ. Элрик счел это проявлением разочарования – ничем другим – и крикнул охранникам: – Эй, скоро мы все просохнем! Но капитан стражников с озабоченным видом подъехал к Элрику и сообщил: – Мой повелитель, твое присутствие необходимо в башне Моншанджика, там задержаны шпионы. – Шпионы? – Да, мой повелитель. – Лицо стражника было бледным. Вода стекала с шлема, и его тонкий плащ потемнел от влаги. Он едва сдерживал своего коня, который рвался вперед, норовя обогнать коня императора и разбрызгивая воду из луж, образовавшихся на разбитой дороге. – Их схватили этим утром в лабиринте. Судя по их клетчатой одежде, это варвары с юга. Их пока не убили, чтобы император сам мог их допросить. Элрик махнул рукой. – Тогда веди, капитан. Посмотрим, что за храбрые глупцы, отважившиеся войти в морской лабиринт Мелнибонэ.Башня Моншанджика была названа по имени колдуна-архитектора, который тысячу лет назад построил морской лабиринт. Этот лабиринт был единственным путем в огромную гавань Имррира, и секреты его тщательно охранялись, потому что он лучше всего защищал город от внезапного нападения. Лабиринт был сложным, и корабли по нему могли проводить только хорошо подготовленные лоцманы. До сооружения лабиринта гавань представляла собой внутреннюю лагуну, заполненную морской водой, которая поступала через систему естественных пещер в нависавшей скале, отделявшей лагуну от океана. В лабиринте было пять различных проходов, и каждый из лоцманов знал только один. В наружной стене скалы имелось пять входов. Перед ними и ждали корабли Молодых королевств, пока к ним на палубу не поднимется лоцман. Тогда ворота одного из входов открывались, всем, кто находился на борту, завязывали глаза и отправляли вниз, за исключением командира гребцов и кормчего. Правда, на них тоже надевали тяжелые стальные шлемы, и они ничего не могли видеть и делать, кроме как подчиняться сложным распоряжениям лоцмана. Если же корабль из Молодых королевств, не сумев выполнить какую-либо из команд, разбивался о скалы, в Мелнибонэ не очень расстраивались – все, кто оставался в живых, становились рабами. Все, кто желал торговать с Грезящим городом,понимали, что рискуют, но каждый месяц к острову прибывалидесяткикораблей, готовыхподвергнуть себя опасностям лабиринта и обменять свои жалкие товары на роскошные изделия Мелнибонэ. Башня Моншанджика стояла над гаванью и массивной дамбой, доходившей до середины лагуны. Эта башня, окрашенная в цвет морской волны, была довольно приземистой в сравнении с другими башнями Имррира, хотя и оставалась при этом красивым конусным сооружением с широкими окнами, из которых открывался вид на всю гавань. В башне Моншанджика совершались все торговые сделки, а в ее подвальных этажах содержались пленники – нарушители каких-либо из тьмы правил, регулировавших работу гавани. Простившись с Симорил, которая вместе со стражниками направилась во дворец, Элрик въехал в башню через огромную арку в ее основании – врассыпную бросились купцы, которые ждали разрешения начать торговлю; весь нижний этаж был занят матросами, купцами и мелнибонийскими чиновниками, ответственными за торговлю, хотя сами товары выставлялись не здесь. Тысячи Голосов, обсуждавших тысячи всевозможных условий сделок, эхом разносились по помещению, но при появлении Элрика они смолкли. Император со своей стражей величественно проехал через еще одну темную арку в другом конце зала. За аркой начинался пандус, который, извиваясь змеей, уходил вниз, в чрево башни. Вниз по этому пандусу устремились всадники, минуя рабов, слуг и чиновников, которые поспешно расступались и низко кланялись, узнав императора. Туннель освещали огромные факелы, они чадили, дымили и отбрасывали пляшущие тени на ровные обсидиановые стены. Воздух здесь был прохладный и сырой, потому что вода омывала наружные стены под причалами Имррира. Император ехал все дальше, а пандус уходил все ниже в блестящую породу. Потом им навстречу поднялась волна тепла, и впереди показался мерцающий свет. Вскоре они оказались в камере, наполненной дымом и запахом страха. С низкого потолка свисали цепи, и на восьми из них были подвешены за ноги четыре человека. Одежды были с них сорваны, но их тела были облачены в кровавые покровы: кровь вытекала из небольших ранок, а сами ранки, точные и глубокие, были нанесены художником, который стоял тут же со скальпелем в руке, любуясь своей работой. Художник был высок и очень худ и в своей белой, покрытой пятнами одежде напоминал скелет. Губы у него были тонкие, глаза – щелочки, пальцы тонкие, волосы тонкие, и скальпель, который он держал в руке, тоже был тонок, почти невидим, кроме тех мгновений, когда на него падал луч света от пламени, вырывающегося из ямы в дальнем углу камеры. Художника звали доктор Остряк, а его искусство было скорее искусством исполнителя, чем творца (хотя он не без некоторой доли убедительности и доказывал обратное): он обладал талантом добывания тайн из тех, кто владел ими. Доктор Остряк был главным дознавателем Мелнибонэ. Он посмотрел лукавым взглядом на вошедшего Элрика, держа скальпель двумя тонкими пальцами правой руки. Доктор Остряк замер в ожидании, почти как танцор, а потом поклонился в пояс. – Мой добрый император! – Голос у него был тонок. Он исходил из его тонкой глотки, словно рвался наружу, и слышавшие его оставались в недоумении: слышали ли они вообще какие-нибудь слова – так быстро они произносились и исчезали. – Доктор, это те самые южане, что были схвачены сегодня утром? – Они самые, мой повелитель. – Еще один лукавый поклон. – К твоему удовольствию. Элрик холодно оглядел пленников. Он не испытывал к ним сострадания. Они были шпионами, а значит, сами виновны в своем нынешнем положении. Они знали, что с ними случится, если их поймают. Но один из них был мальчишкой, а другая – женщиной, хотя они так корчились в своих цепях, что догадаться об этом сразу было затруднительно. Он почувствовал укол жалости. И тут женщина, выплюнув в него остатки зубов, прошипела: – Демон! Элрик отступил назад и сказал: – Они тебе уже сказали, что делали в нашем лабиринте? – Они все еще дразнят меня намеками. У них прекрасный драматический дар. Я его вполне оценил. Я бы сказал, что они прибыли сюда, чтобы составить карту лабиринта, которой Потом могли бы воспользоваться нападающие. Детали они пока скрывают. Но такова игра, и мы все знаем, как в нее нужно играть. – И когда они скажут тебе правду, доктор Остряк? – Очень скоро, мой господин. – Хорошо бы знать, следует ли нам ждать нападения. Чем скорее мы узнаем, тем меньше времени потеряем на отражение атаки. Ты согласен, доктор? – Согласен, повелитель. – Отлично. – Элрик испытывал раздражение таким поворотом событий – ему испортили удовольствие от прогулки, вынудив сразу же заняться делами. Доктор Остряк вернулся к своим обязанностям и, протянув свободную руку, умело ухватил гениталии одного из пленников-мужчин. Сверкнул скальпель. Раздался стон. Доктор Остряк бросил что-то в огонь. Элрик сел в приготовленное для него кресло. Ритуалы, сопутствующие сбору информации, вызывали у него скорее скуку, чем отвращение, а сопровождающие их крики, звон цепей, тонкое бормотание доктора Остряка – все это понемногу сводило на нет то хорошее настроение, в котором он пребывал до того, как вошел в камеру. Но таковы были его королевские обязанности – присутствовать при подобных ритуалах и оставаться здесь до тех пор, пока ему не будет предоставлена вся необходимая информация и он не поздравит с этим своего главного дознавателя. После чего император прикажет готовиться к отражению нападения. Но и это еще не все – после этого ему, возможно, всю ночь придется совещаться с полководцами и адмиралами, выслушивать их аргументы, решать, как лучше расположить войска и корабли. С трудом скрывая зевоту, Элрик откинулся к спинке кресла и смотрел, как ловко доктор Остряк орудует пальцами, скальпелем, клещами, щипцами и пинцетами. Скоро он начал размышлять о других делах – о философских вопросах, ответы на которые он до сих пор не смог найти. Дело было вовсе не в том, что Элрик был лишен жалости, просто он всегда оставался мелнибонийцем. Он с детства привык к подобным зрелищам. Он не мог бы спасти пленников, даже если бы захотел, ведь тем самым он нарушил бы все традиции острова Драконов. Да и лучшего способа для предотвращения возможной угрозы действительно не было. Он научился заглушать в себе чувства, противоречащие его долгу Императора. Если бы был какой-нибудь смысл в освобождении четырех пленников, которые сейчас корчились к удовольствию доктора Остряка, то он бы освободил их – но смысла в этом не было никакого, и четверка удивилась бы, обойдись здесь с ними иначе. Если речь заходила о нравственных решениях, то Элрик в общем и целом руководствовался соображениями практическими. Решения принимались исходя из того, какие действия он может предпринять. В данном случае он не мог предпринять никаких действий. Такой образ действий стал его второй натурой. Желание его состояло не в том, чтобы преобразовать Мелнибонэ, а в том, чтобы преобразовать себя; и не в том, чтобы предпринимать какие-либо действия, а в том, чтобы знать, как наилучшим образом реагировать на действия других. В данной ситуации принять решение было легко. Шпион являлся агрессором. От агрессора защищаются всеми средствами. Доктор Остряк использовал все имеющиеся в его распоряжении средства. – Мой повелитель? Элрик рассеянно поднял взгляд. – Теперь мы знаем все, мой повелитель. – Тонкий голос доктора Остряка разносился по камере. Четыре цепи были уже пусты, и рабы собирали что-то с пола и швыряли в огонь. Два остававшихся бесформенных комка напоминали Элрику куски мяса, тщательно приготовленные шеф-поваром. Один из комков все еще подрагивал, другой не двигался. Доктор Остряк сунул свои инструменты в плоский футляр, пристегнутый к его поясу. Белые одеяния главного дознавателя были почти целиком покрыты пятнами. – Похоже, что перед этими здесь побывали и другие шпионы, – сказал своему господину доктор Остряк. – Эти же пришли только для того, чтобы еще раз проверить маршрут. Даже если они не вернутся вовремя, варвары все равно предпримут атаку. – Но они будут знать, что мы готовы встретить их? – спросил Элрик. – Возможно, что и нет, мой повелитель. Среди купцов и моряков из Молодых королевств был пущен слух, что в лабиринте были обнаружены и заколоты четверо шпионов – их хотели задержать, но они бросились наутек, и пришлось убить их на месте. – Понимаю. – Элрик нахмурился. – Тогда лучше всего нам будет приготовить ловушку для нападающих. – Да, мой повелитель. – Тебе известно, какой из маршрутов они выбрали? – Да, мой повелитель. Элрик повернулся к одному из стражников. – Послать гонцов ко всем нашим полководцам и адмиралам. Который теперь час? – Только что миновал час заката, мой господин. – Пусть они соберутся у Рубинового трона через два часа после заката. Элрик устало поднялся. – Ты, как всегда, хорошо поработал, доктор Остряк. Худой художник поклонился – словно бы сложился вдвое. Его ответом был тонкий и вкрадчивый вздох.
Глава пятая Сражение: король демонстрирует свое военное искусство
Йиркун прибыл первым – он был во всеоружии, а сопровождали его два внушительного вида стражника, каждый из которых нес по одному из цветистых военных знамен принца. – Мой император! – Крик Йиркуна был исполнен гордыни и презрения. – Позволь мне командовать войсками. Это тебя избавит по крайней мере от одной из забот, которыми ты столь перегружен. Элрик нетерпеливо ответил: – Ты очень заботлив, принц Йиркун, но можешь за меня не опасаться. Командовать войсками и народом Мелнибонэ буду я сам, потому что это обязанность императора. Йиркун нахмурился и отошел в сторону – в зале появился Дивим Твар, повелитель Драконьих пещер. С ним не было никаких стражников, а одевался он, судя по всему, в спешке. Шлем он держал под рукой. – Мой император, я принес сообщение о драконах… – Благодарю тебя, Дивим Твар, но тебе придется подождать, пока не прибудут все командиры, чтобы ты мог сообщить эту новость и им тоже. Дивим Твар поклонился и занял место по другую сторону – напротив принца Йиркуна. Воины прибывали один за другим, и наконец у подножия ступенек, ведущих к Рубиновому трону, на котором восседал Элрик, собрались все полководцы Мелнибонэ. На Элрике все еще были те одежды, в которых он отправился на прогулку сегодня утром. У него не было времени переодеться: он до последнего мгновения был занят изучением карт лабиринта – карт, которые мог читать только он и которые в мирное время были спрятаны с помощью колдовства от любого, кто попытался бы их найти. – Южане хотят разграбить сокровища Имррира и перебить всех нас, – начал Элрик. – Они полагают, что нашли проход через наш морской лабиринт. К Мелнибонэ приближается флот из сотни кораблей. Завтра он будет ждать за горизонтом наступления темноты, а потом приблизится и войдет в лабиринт. Они рассчитывают в полночь войти в гавань и до расСвета захватить спящий город. Возможно ли такое, спрашиваю я. – Нет! – в один голос ответили все собравшиеся. – Нет. – Элрик улыбнулся. – Так, может, получим Удовольствие от той маленькой войны, что они нам предлагают? Как и всегда, первым закричал Йиркун. – Отправимся же немедленно им навстречу с драконами и боевыми барками. Будем преследовать врага до их земли и возвратим им их войну. Нападем на них и сожжем их города! Победим их и обеспечим себе безопасность! Снова заговорил Дивим Твар. – Никаких драконов, – сказал он. – Что? – взвился Йиркун. – Что? – Никаких драконов, принц. Их не разбудить. Они спят в своих пещерах в изнеможении после того, как ими воспользовались по твоему требованию. – По моему? – Ты использовал их в сражении против вилмирских пиратов. Я тебе говорил, что их нужно поберечь для более крупных дел. Но ты выпустил их против пиратов, чтобы сжечь эти жалкие лодчонки. А теперь драконы спят. Йиркун нахмурился. Он бросил взгляд на Элрика. – Я не думал… Элрик поднял руку. – Нам не следует будить драконов до того времени, когда в них действительно возникнет нужда. Это нападение флота южан – игрушки. Но мы сохраним наши силы, если дождемся подходящего момента. Пусть они думают, что мы не готовы. Пусть они войдут в лабиринт. Как только вся эта сотня будет в лабиринте, мы заблокируем все входы и выходы. Они окажутся в ловушке и будут разгромлены. Йиркун раздраженно бегал глазами по полу, явно желая найти какой-нибудь изъян в этом плане. Высокий старый адмирал Магум Колим в своих латах цвета морской волны сделал шаг вперед и поклонился. – Золотые боевые барки Имррира готовы защитить наш город, мой господин. Однако, чтобы вывести их на позицию, понадобится время. И я сомневаюсь, что всех их удастся разместить в лабиринте. – Тогда часть нужно сейчас же вывести в открытое море и спрятать вдоль побережья, чтобы они расправились с теми, кто избегнет гибели в лабиринте и попытается бежать, – приказал Элрик. – Прекрасный план, мой господин. – Магум Колим поклонился и, сделав шаг назад, исчез среди других полководцев. Обсуждение продолжалось еще какое-то время, наконец все вопросы были решены и военные собрались уже было уходить, но тут снова возопил принц Йиркун. – Я повторяю мое предложение императору. Его жизнь слишком дорога, чтобы рисковать ею в сражении. Моя же ничего не стоит. Позволь мне командовать воинами на суше и на море, чтобы император мог оставаться в своем дворце и не волновался за исход битвы: она будет выиграна, а южане – уничтожены. Может быть, император хочет дочитать какую-нибудь из своих книг? Элрик улыбнулся. – Я еще раз благодарю тебя за заботу, принц Йиркун. Но император должен тренировать не только ум, но и тело. Завтра я сам буду командовать воинами. Прибыв в свои покои, Элрик обнаружил, что Скрюченный уже подготовил его тяжелые черные доспехи. Эта броня служила сотням императоров Мелнибонэ и была выкована с помощью колдовства, отчего имела прочность, не знающую себе равных в земных пределах. Ходили слухи, что она может выдержать даже удар мифических рунных клинков – Буревестника и Утешителя, которыми сражались самые коварные из множества коварнейших мелнибонийских правителей, прежде чем этим оружием завладели Владыки Высших Миров и навечно спрятали там, где даже сами Владыки редко отваживались появляться. Лицо Скрюченного светилось, когда он своими длинными узловатыми пальцами прикасался к латам, к прекрасно сбалансированному оружию. Он поднял свое покрытое шрамами Лицо навстречу озабоченному лицу Элрика. – О, мой господин! Мой король! Скоро ты узнаешь радость сражения! – О да, Скрюченный. И будем надеяться, это будет настоящая радость. – Я научил тебя всем приемам – искусству удара мечом, искусству стрельбы из лука, искусству сражаться копьем, как в седле, так и пешим. И ты хорошо учился, что бы там ни говорили о твоей слабости. Только один во всем Мелнибонэ Может сравниться с тобой в искусстве владения мечом. – Принц Йиркун, возможно, более искусный воин, – задумчиво сказал Элрик. – Разве нет? – Я же сказал «только один», мой повелитель. – И этот один и есть Йиркун. Что ж, когда-нибудь настанет день, и мы проверим это в деле. Я искупаюсь, прежде чем облачаться во все это железо. – Лучше бы тебе поспешить, господин. Судя по тому, что я слышал, дел у тебя немало. – Апосле купания еще и посплю. – Элрик улыбнулся, видя испуг на лице своего старого друга. – Так будет лучше. Ведь я не могу лично направлять барки на их боевые позиции. Я должен буду командовать всей битвой, а потому будет лучше, если я отдохну. – Если ты считаешь, что это для пользы дела, повелитель, то так тому и быть. – А ты удивлен. Тебе не терпится увидеть, как я облачусь во все это железо и стану расхаживать в нем, надменный, как сам Ариох… Рука Скрюченного взметнулась ко рту, словно эти слова произнес не его хозяин, а он и тут же пожелал остановить их. Его глаза расширились. Элрик рассмеялся. – Ты думаешь, я говорю кощунственные речи? Ну, я говорил кое-что и похуже, а ничего дурного со мной не случилось. На Мелнибонэ, Скрюченный, демоны подчиняются императорам, а не наоборот. – Как тебе будет угодно, мой господин. – Это истина, – сказал Элрик и вышел из комнаты, сзывая рабов. Военная лихорадка охватила его – он ликовал. Наконец он облачился в доспехи: массивная кираса, кожаная куртка на подкладке, длинные поножи, кольчужные рукавицы. В руке он держал пятифутовый палаш, который, согласно легенде, принадлежал человеческому герою по имени Обек На палубе, опираясь о золотые перильца мостика, стоял его огромный щит с нарисованным на нем пикирующим драконом. Голову Элрика украшал шлем – черный шлем с головой дракона, венчающей вершину, и крыльями дракона, отходящими от головы вверх и назад, и хвостом дракона на задней части. Шлем снаружи был черным, но внутри виднелась бледная тень, с которой смотрели два малиновых глаза, а с боков выбивалисыгряди молочно-белых волос, похожие на дым, струящийся из окон горящего здания. А когда шлем поворачивался в слабом свете, исходящем из фонаря, который висел у основания главной мачты, очертания белой тени становились резче – точеные, красивые черты, прямой нос, изогнутые губы, миндалевидные глаза. Император Элрик Мелнибонийский вглядывался во мрак лабиринта, в котором уже были слышны первые звуки, издаваемые приближающимися морскими разбойниками. Он стоял на высоком мостике огромного золотого боевого барка, который, как и все остальные суда такого рода, напоминал плывущий зиккурат, оснащенный мачтами, парусами, веслами и катапультами. Этот барк назывался «Сын Пьярая» и был флагманом флота. Рядом с Элриком стоял гранд-адмирал Магум Колим. Как и Дивим Твар, адмирал был одним из немногих близких друзей Элрика. Он знал Элрика со дня его рождения и помогал ему узнать все, что можно было узнать о командовании боевыми кораблями и о сражениях флотов. Хотя Магум Колим про себя иногда и думал, что Элрик слишком большой книгочей и слишком уж любит предаваться размышлениям, чтобы властвовать в Мелнибонэ, но он признавал право Элрика на власть и, слыша разговоры Йиркуна и ему подобных, приходил в ярость. На флагманском барке был и принц Йиркун, хотя в настоящее мгновение и находился внизу, осматривая корабельные катапульты. «Сын Пьярая» стоял на якоре в огромном гроте – одном из сотен, вырубленных в скалах лабиринта при его строительстве и имевших одно назначение: служить местом засады для боевых кораблей. Здесь было достаточно высоты для мачт и пространства для работы веслами. Каждый из золотых боевых барков был оснащен несколькими рядами весел, каждый ряд для двадцати-тридцати гребцов. Число весельных рядов составляло четыре, пять или шесть (как на «Сыне Пьярая»). Барки могли иметь до трех независимых рулевых систем – носовых и кормовых. Облаченные в золотую броню, эти корабли были практически неуязвимы и, несмотря на большие размеры, двигались быстро и легко маневрировали, когда того требовали обстоятельства. Они уже не первый раз поджидали врагов в засаде – и не в последний (хотя в следующий раз обстоятельства будут совсем не похожими на нынешние). Боевые барки Мелнибонэ нынче редко можно было увидеть в открытых морях, но когда-то они бороздили моря, как зловещие плавучие золотые горы, и там, где они появлялись, поселялся ужас. В те времена флот был больше и включал сотни судов. Сейчас их оставалось менее сорока. Но и этого количества было достаточно. И теперь в туманной темноте они поджидали врага. Прислушиваясь к ударам волн о борта барка, Элрик сожалел, что не придумал плана получше. Он не сомневался, что и этот сработает, но испытывал горькое чувство, оттого что будет погублено немало жизней – как мелнибонийских, так и варварских. Лучше было бы придумать что-нибудь такое, что отпугнуло бы варваров, чтобы не нужно было сражаться с ними в лабиринте. Флот южан был не первый, кто польстился на сказочные богатства Имррира. Южане были не первыми, кто тешил себя верой, что, мол, мелнибонийцы, не отваживавшиеся теперь покидать пределы Грезящего города, утратили свою былую силу и не могут защитить свои сокровища. И потому южан необходимо уничтожить, чтобы все получили недвусмысленный урок. Мелнибонэ по-прежнему было сильным королевством. По мнению Йиркуна, оно было достаточно сильно, чтобы восстановить свое прежнее владычество над миром, – сильно если не воинской силой, то колдовством. – Тихо! – Адмирал Магум Колим подался вперед. – Кажется, это был звук весла. Элрик кивнул. – Похоже. Теперь они слышали ритмичные всплески – это ряды весел погружались в воду и делали гребки; слышался и скрип дерева. Южане приближались. «Сын Пьярая» находился ближе всего к входу в лабиринт, и он первым должен был выйти из засады, но только после того, как последний корабль южан пройдет мимо. Адмирал Магум Колим протянул руку и загасил фонарь, а потом быстро и бесшумно спустился вниз предупредить команду о приближении южан. Незадолго перед этим Йиркун с помощью колдовских заклинаний вызвал особого рода туман, который скрывал от взора врагов золотые барки, но не ухудшал видимость с мелнибонийских кораблей. И вот теперь Элрик увидел факелы впереди – это налетчики осторожно двигались по лабиринту. На расстоянии в несколько минут от них прошел десяток галер. Адмирал Магум Колим вернулся на мостик к Элрику, с ним появился и принц Йиркун. На Йиркуне тоже был шлем в виде дракона, хотя и не такой великолепный, как на Элрике – Элрик был одним из немногих живущих на Мелнибонэ владык драконов. Йиркун ухмылялся в темноте в предвкушении предстоящей бойни. «Жаль, что Йиркун выбрал именно этот барк», – подумал Элрик. Но Йиркун был вправе находиться на флагманском Корабле, и Элрик не мог отказать ему в этом. Мимо них прошло уже полсотни кораблей. Йиркун нетерпеливо прохаживался по мостику, бряцая доспехами. Его рука в кольчужной рукавице держала рукоятку палаша. «Уже скоро, – повторял он про себя. – Уже скоро!» И вот, когда последнее судно южан прошло мимо них, застонал поднимаемый якорь и погрузились в воду весла «Сына Пьярая». Корабль из грота устремился в канал. Он врезался во вражескую галеру и раскроил ее на две части. Команда варваров дико завопила. Люди разбегались в разные стороны. На остатках палубы бешено плясали факелы – люди старались остаться на плаву, не упасть в темные, холодные воды канала. Несколько отважных пик царапнули борта мелнибонийского флагмана, который продирался сквозь размолотые останки вражеского судна. Но лучники Имррира стреляли точно, и оставшиеся в живых варвары были убиты. Звук этого скоротечного столкновения стал сигналом для других барок. Они в боевом порядке вышли из своих укрытий в высоких скальных стенах, а изумленным варварам, вероятно, показалось, что эти огромные золотые корабли появились прямо из монолита скал – корабли-призраки, полные демонов, которые обрушились на них дождем пик, стрел и горящих головешек. Теперь весь извилистый канал был обуян хаосом сражения, его наполняли боевые кличи, эхом отдававшиеся от стен, скрежет стали о сталь напоминал дикое шипение какой-то чудовищной змеи, расчлененной на сто кусков высокими, неуязвимыми судами мелнибонийцев. Казалось, золотые барки без всякого страха надвигаются на врага, их таранящий металл устремлялся к деревянным палубам и бортам и словно бы притягивал вражеские суда, чтобы легче было их уничтожить. Но южане были отважны и, хотя и оказались захвачены врасплох, скоро оправились. Три их галеры устремились на «Сына Пьярая», поняв, что это флагманский корабль. Горящие стрелы взметнулись в воздух и упали на деревянную палубу, которая не была защищена золотой броней. Стрелы несли воинам огненную смерть, а там, где они падали на палубу, занимался пожар. Элрик поднял над головой щит, и в него ударились две стрелы, срикошетили и, по-прежнему горя, упали вниз. Элрик следом за стрелами перепрыгнул через перила на самую широкую и незащищенную палубу, на которой грудились воины, готовясь отразить нападение галер. Послышался звук стреляющих катапульт, и черноту прорезали три шара голубого огня – зажигательные ядра, упавшие в воду рядом с галерами. Последовал новый залп, и один из клубов пламени, попав в мачту дальней галеры, рухнул на палубу, по которой тут же побежали огненные языки. Абордажные крючья вцепились в борта галеры и подтащили ее к барку. Элрик был среди первых, кто оказался на палубе вражеского корабля. Он ринулся туда, где увидел капитана южан, облаченного в грубые разноцветные доспехи под таким же разноцветным плащом. Капитан, державший обеими руками огромный меч, криком понукал своих людей, призывая их сопротивляться «мелнибонийским собакам». Элрик приблизился к мостику, и тут на него бросились три варвара, вооруженные кривыми мечами и прикрывающиеся небольшими продолговатыми щитами. Их лица были искажены страхом, но тем не менее пираты были исполнены решимости сражаться до конца, словно не сомневались в своей близкой гибели, но намеревались дорого продать свои жизни. Перекинув перевязь своего щита поближе к плечу, Элрик двумя руками ухватил палаш и атаковал моряков – одного он сбил с ног кромкой своего щита, а другому размозжил ключицу. Третий варвар отпрыгнул в сторону и сунул свой кривой меч в лицо Элрику. Элрик едва увернулся, но острое лезвие все же царапнуло ему щеку, из которой появились капельки крови. Элрик взмахнул палашом, как косой, и тот, глубоко войдя в бок варвара, почти рассек его надвое. Еще мгновение тот продолжал сражаться, не в силах поверить, что уже мертв, но, когда Элрик высвободил палаш, глаза варвара закрылись ион упал. Тот, кто получил удар щитом Элрика, теперь пытался встать на ноги, но тут Элрик повернулся, увидел его и вонзил клинок ему в череп. Теперь путь к мостику был свободен. Элрик начал подниматься по трапу, отметив про себя, что Капитан его видит и ждет наверху. Элрик поднял щит, чтобы отразить первый удар капитана. Сквозь царящий вокруг шум он слышал, что человек кричит ему: – Умри, ты, белолицый демон! Умри! Тебе больше нет места на земле! Эти слова едва не отвлекли Элрика от необходимости защищаться. Ему показалось, что в них есть зерно истины. Возможно, ему и в самом деле больше не было места на земле. Может быть, именно поэтому Мелнибонэ медленно умирало, именно поэтому рождалось все меньше детей, именно поэтому и драконы прекратили размножаться. Он дал капитану Возможность еще раз нанести удар по щиту, а потом под его прикрытием бросился в ноги варвару. Но капитан предвидел это движение и отскочил назад. Это дало Элрику время, чтобы подняться во весь рост и встать лицом к лицу с капитаном. Лицо варвара было таким же бледным, как и у Элрика, по нему струился пот. Дышал он тяжело, а в глазах его застыли смертная тоска и дикий страх. – Почему вы не оставите нас в покое, варвар? – услышал Элрик собственный голос. – Мы не делаем вам ничего плохого. Когда мелнибонийцы в последний раз нападали на Молодые королевства? – Вы делаете нам плохо уже одним своим существованием, бледнолицый. Вашим колдовством. Вашими традициями. Вашим высокомерием. – Так вы поэтому приплыли сюда? Причина вашего нападения в том, что мы вызываем у вас отвращение? Или вы хотите поживиться нашими богатствами? Признай, капитан, в Мелнибонэ вас привела алчность. – По крайней мере, алчность – честное качество, понятное. Но в вас нет ничего человеческого. Еще хуже: вы не боги, хотя и ведете себя так, будто вы – боги. Ваше время кончилось, и вы должны быть стерты с лица земли, ваш город – уничтожен, а ваше колдовство – предано забвению. Элрик кивнул. – Возможно, ты и прав, капитан. – Я прав. Наши святые так говорят. Наши ясновидцы предвидят ваше падение. Это падение вызовут сами Владыки Хаоса, которым вы служите. – Владыки Хаоса потеряли интерес к делам Мелнибонэ. Они лишили нас своей поддержки почти тысячу лет назад. – Элрик внимательно смотрел на капитана, выверяя расстояние между ним и собой. – Может быть, именно поэтому ослабели и мы сами. А может быть, мы просто устали от своей силы. – Как бы то ни было, – сказал капитан, отирая капли пота со лба, – ваше время истекло. Вы должны быть раз и навсегда уничтожены. – И тут он застонал, потому что палаш Элрика вошел в его тело ниже разноцветного нагрудника и пронзил желудок и легкие. Опустившись на колено, Элрик начал извлекать свой длинный палаш, глядя в лицо варвару, на котором теперь появилось выражение умиротворенности. – Это несправедливо, бледнолицый. Мы едва успели сказать друг другу несколько слов, а ты прервал разговор. Ты отличный боец. Чтоб тебе вечно мучиться в Высшем Ацу. Прощай. Элрик не знал, зачем он это сделал, но, когда капитан рухнул лицом вниз, он дважды ударил клинком по его шее, и голова, отделившись от туловища, покатилась по мостику и упала вниз – в холодные, глубокие воды. И тут из-за спины Элрика появился Йиркун все с той же ухмылкой на лице. – Ты сражался яростно и умело, мой повелитель. Этот мертвец был прав. – Прав? – Элрик вперил гневный взгляд в кузена. – Прав? – Да, в том, что касалось его мнения о твоем воинском искусстве. Йиркун, хмыкнув, отправился руководить боем – его люди добивали последних оставшихся в живых варваров. Элрик не знал, почему он отказывался ненавидеть Йиркуна прежде. Но теперь он и в самом деле ненавидел его. В это мгновение он бы с удовольствием прикончил своего кузена. Ему казалось, что Йиркун заглянул в самую его, Элрика, душу и испытал презрение к тому, что там увидел. Внезапно альбиноса переполнило чувство гневной тоски, он всем сердцем в это мгновение жалел, что он мелнибониец, что он император и что Йиркун вообще явился на этот свет.Глава шестая Преследование: умышленное предательство
Словно огромные великаны, плыли золотые боевые барки над разметенными в щепы вражескими кораблями. Несколько кораблей еще горели, несколько – тонули, но большинство уже лежало в неизмеримых глубинах канала. Тени горящих Кораблей плясали на скальных стенах – словно призраки бойни посылали свое последнее «прости», прежде чем отправиться в морские глубины, где, согласно легендам, все еще властвовал Владыка Хаоса, снаряжавший души всех погибших в морских сражениях в команды своих призрачных кораблей. А может быть, их ждала не столь тяжелая судьба – может быть, они становились слугами Страаши, повелителя водных элементалей, который властвовал в верхних слоях океана. Но некоторым удалось бежать. Каким-то образом моряки-южане сумели прорваться по каналу мимо мощных боевых барков, и теперь они, видимо, уже достигли открытого моря. Такое сообщение поступило на флагман, где на мостике снова стояли вместе Элрик, Магум Колим и принц Йиркун, обозревая произведенное ими разрушение. – Мы должны пуститься за ними в погоню и уничтожить, – сказал Йиркун. Он сильно вспотел, его темное лицо лоснилось, глаза лихорадочно сверкали. – Мы должны преследовать их. Элрик пожал плечами. Он чувствовал слабость. Он не взял с собой запаса снадобья, чтобы пополнить свои силы, и теперь жаждал вернуться в Имррир и отдохнуть. Он устал от кровопролития, устал от Йиркуна, но больше всего устал от себя. Ненависть, которую он испытывал к своему кузену, еще Больше истощала его, и он ненавидел свою ненависть. Это было хуже всего. – Нет, – сказал он. – Пусть уходят. – Пусть уходят? Безнаказанными? Очнись, мой Император! Это не по-нашему! – Принц Йиркун повернулся к престарелому адмиралу. – Разве это по-нашему, адмирал Магум Колим? Магум Колим пожал плечами. Он тоже устал, но в глубине души был согласен с принцем Йиркуном. Враг Мелнибонэ должен понести наказание за то, что хотя бы помыслил о нападении на Грезящий город. И тем не менее он сказал: – Это должен решить император. – Пусть они уходят, – повторил Элрик. Он тяжело оперся о поручень. – Пусть они принесут это известие в свои варварские земли. Пусть они расскажут там, как их победили владыки драконов. Это известие распространится повсюду. И уверен, после этого они надолго оставят нас в покое. – В Молодых королевствах полно дураков, – ответил Йиркун. – Они не поверят этому известию. Они всегда будут пиратами. Наилучший способ предупредить их – сделать так, чтобы ни один южанин не остался живым или свободным. Элрик глубоко вздохнул, пытаясь преодолеть слабость, которая грозила свалить его с ног. – Принц Йиркун, ты испытываешь мое терпение… – Но, мой император, я думаю только о благе Мелнибонэ. Ведь ты же не хочешь, чтобы твой народ решил, что ты слаб, что ты боишься сразиться с пятью кораблями южан. Тут гнев Элрика придал ему сил. – Кто скажет, что Элрик слаб? Может быть, ты, Йиркун? – Он знал, что следующее его заявление лишено всякого смысла, но не смог сдержаться. – Хорошо, мы отправимся в погоню за этими жалкими лодчонками и потопим их. И давайте поспешим. Я устал от всего этого. В глазах Йиркуна, отправившегося отдавать приказания, сверкнул зловещий огонек. Небо из черного стало серым, когда мелнибонийский флот достиг открытого моря и взял курс на юг – к Кипящему морю и лежащему за ним континенту. Корабли варваров не смогли бы преодолеть Кипящего моря – считалось, что ни один Корабль смертных не сможет этого сделать, – они бы просто обогнули эти воды. Но корабли варваров и не имели ни малейшего шанса добраться до границы Кипящего моря, потому что огромные боевые барки были очень быстроходны. Рабов, сидевших за веслами, опаивали специальным отваром, который увеличивал их силы на срок до десяти часов, после чего они погибали. А вдобавок поднятые паруса поймали ветер. Эти корабли напоминали золотые горы, мчащиеся по морю. Секрет их создания был утерян мелнибонийцами, которые забыли немало из того, что знали их предки. Легко было понять, почему жители Молодых королевств ненавидят Мелнибонэ со всеми его изобретениями, ведь эти барки, несущиеся за появившимися уже на горизонте галерами, и в самом деле принадлежали более древним и чужим временам. Впереди шел «Сын Пьярая», катапульты которого были взведены задолго до того, как кто-либо из команды увидел врага. Рабы, истекая потом, заправили в катапульты губительные зажигательные ядра, размещая их в бронзовых чашах с помощью длинных ложкообразных щипцов. Эти щипцы поблескивали в предрассветном мраке. Теперь рабы поднялись по ступенькам к мостику, неся вино и еду на платиновых подносах для трех владык драконов, которые находились там с самого начала преследования. Сил есть у Элрика не было, но он ухватил высокий кубок с желтым вином и опустошил его. Вино было крепким и немного восстановило его силы. Ему налили еще один кубок, и он так же быстро осушил и второй. Он вглядывался вперед. Уже почти рассвело, на горизонте появилась алая полоска света. – При появлении солнечного диска, – сказал Элрик, – выпускайте зажигательные ядра. – Я отдам приказ, – сказал Магум Колим, вытирая губы и откладывая мясную косточку. Он оставил мостик. Элрик слышал, как удаляются его шаги. И сразу же альбинос почувствовал себя в окружении врагов. Во время его спора с принцем Йиркуном поведение Магума Колима показалось ему странным. Элрик попытался стряхнуть с себя эти глупые мысли. Но его усталость, неуверенность в себе, открытое издевательство кузена – все это усилило его ощущение одиночества, ему казалось, что он остался совсем без друзей. Ведь даже Симорил и Дивим Твар были в конечном счете мелнибонийцами и не могли понять те мотивы, которыми он руководствовался. Может быть, ему стоит отказаться от всего мелнибонийского и отправиться странствовать по миру безымянным солдатом удачи, служа тому, кому понадобятся его услуги. Над черной линией далекой воды показался тускловатый полукруг красного солнца. Последовал звук выстрелов катапульт с передней палубы флагмана, потом раздался удаляющийся резкий свист, словно десяток метеоритов пронзили над головой небеса. Это в направлении пяти галер, находившихся теперь на расстоянии не более чем тридцати корабельных корпусов, полетели зажигательные ядра. Элрик увидел, как загорелись две галеры, но три оставшиеся начали маневрировать, избегая зажигательных ядер, которые падали в море и рассыпались искрами, прежде чем, не прекращая гореть, уйти на глубину. Подготовили новые ядра, и Элрик услышал, как Йиркун кричит с другой стороны мостика, понукая рабов. Теперь убегающие галеры сменили тактику, явно понимая, что скоро с ними будет покончено; они развернулись и направились на «Сына Пьярая» – так же поступали в лабиринте и другие корабли. Дело было не только в их отваге, которая восхищала Элрика, но и в искусстве маневрирования и быстроте, с которой они приняли это логически обоснованное, хотя и безнадежное решение. Солнце находилось за кормой развернувшихся южан. Три силуэта храбрых кораблей приближались к мелнибонийскому флагману, а море заиграло алым цветом, словно предвещая кровопролитие. Флагман дал еще один залп зажигательными ядрами. Передняя галера попыталась уйти от удара, но два огненных шара упали прямо на ее палубу, и скоро весь корабль был охвачен огнем. Горящие моряки прыгали в воду. Горящие моряки обстреливали флагман из луков. Горящие моряки выпадали из своих боевых порядков. Горящие моряки умирали, но горящий корабль шел вперед – кто-то закрепил руль, направив галеру прямо на «Сына Пьярая». Она врезалась в золотой борт боевого барка, и несколько языков пламени попало на палубу флагмана, где стояли основные катапульты. Загорелся котел, в котором находился воспламенитель, и к нему сразу же со всех концов бросились моряки – сбивать пламя. Элрик усмехнулся, увидев сделанное варварами. Может быть, этот корабль намеренно подставился под зажигательные ядра. Теперь большая часть команды была занята тушением пожара, а корабли южан тем временем приблизились, забросили на флагман абордажные крюки и бросились в атаку. – Эй, на палубе, – закричал с большим опозданием Элрик. – Варвары атакуют! Йиркун, оценив ситуацию, кинулся вниз с мостика. – Оставайся здесь, мой король, – крикнул он Элрику на бегу. – Ты слишком слаб, чтобы сражаться. Элрик собрал остатки сил и поплелся следом за кузеном на помощь защитникам корабля. Варвары дрались не за свою жизнь – они знали, что их Судьба решена. Они сражались из чувства доблести. Они хотели захватить один из мелнибонийских кораблей и погибнуть вместе с ним, и, конечно же, этим кораблем должен быть вражеский флагман. Презирать такого противника было трудно. Они знали, что даже если захватят флагман, другие барки скоро расправятся с ними. Но другие корабли отстали от флагмана. Прежде чем они успеют подойти, многим придется расстаться с жизнью. На нижней палубе Элрик оказался перед двумя высокими варварами. У каждого был кривой меч и маленький продолговатый щит. Он бросился вперед, но доспехи сковывали его движения, его собственные щит и меч были так тяжелы, что он едва мог их поднять. Два меча почти одновременно ударили по его шлему. Он отпрянул назад и ухватил одного из нападавших за руку, другого ударил своим щитом. Кривой меч лязгнул по его доспеху, и он потерял равновесие. Вокруг поднимались удушающие клубы дыма, жар пламени опалял воинов, схватка была в самом разгаре. Он рывком развернулся и почувствовал, как его палаш глубоко входит в плоть. Один из его противников упал с булькающим звуком, кровь хлынула у него изо рта и носа. Другой сделал обманное движение, и Элрик, отступив назад, споткнулся о тело убитого им человека и упал, выставив перед собой палаш, который держал в руке. И когда торжествующий варвар прыгнул вперед, намереваясь прикончить альбиноса, Элрик, направив на него острие своего палаша, пронзил врага. Мертвец свалился на Элрика, но тот не почувствовал падения тела – он почти потерял сознание. Уже не в первый раз его больная кровь, не подкрепленная снадобьем, предавала его.Он почувствовал соль во рту и поначалу подумал, что это кровь. Но это была соленая вода. Волна, окатив палубу, привела его в чувство. Он попытался выбраться из-под мертвого тела и тут услышал знакомый голос. Он повернул голову и поднял глаза. Перед ним стоял ухмыляющийся принц Йиркун. Он явно радовался тому положению, в котором оказался Элрик. Черный маслянистый дым все еще клубился вокруг, но звуки сражения стихли. – Мы… мы победили, кузен? – спросил Элрик, превозмогая боль. – Да. Все варвары мертвы. Мы поворачиваем к Имрриру. Элрик облегченно вздохнул. Если он не доберется до запасов своего снадобья, то скоро умрет. Облегчение, отразившееся на его лице, было настолько очевидным, что Йиркун рассмеялся. – Хорошо, что сражение не затянулось, мой господин, а то мы бы остались без своего императора. – Помоги мне, кузен. – Элрику очень не хотелось просить о помощи принца Йиркуна, но выбора у него не было. Он протянул свою руку. – Я вполне в силах осмотреть корабль. Йиркун сделал шаг, словно для того, чтобы взять его за руку, но вдруг остановился все с той же ухмылкой на лице. – Но, мой господин, я возражаю. Когда корабль снова повернет на восток, ты уже будешь мертв. – Чепуха. Даже без моих лекарств я проживу достаточно долго, правда мне трудно двигаться. Помоги мне, Йиркун, я тебе приказываю. – Ты мне не можешь приказывать, Элрик. Видишь ли, теперь император я. – Остерегись, кузен. Я, возможно, и не обращу внимания на твое предательство, но другие не пройдут мимо. А Потому я буду вынужден… Йиркун перепрыгнул через тело Элрика и подошел к борту. Здесь на засовах была установлена секция фальшборта, которую убирали, когда опускался трап. Йиркун медленно сдвинул засовы и швырнул ее в океан. Элрик предпринимал все более отчаянные усилия освободиться из-под мертвого тела, но он едва мог двигаться. Йиркун же, напротив, казалось, приобрел неимоверную силу. Он нагнулся и легко отшвырнул в сторону тело варвара. – Йиркун, – сказал Элрик, – ты поступаешь неблагоразумно. – Я никогда не был чересчур осторожен, кузен, и ты это прекрасно знаешь. – Йиркун поставил ногу в сапоге на грудь Элрику и началтолкать его. Элрик заскользил к проему в борту. Он видел, как черное море волнуется внизу. – Прощай, Элрик. Теперь на Рубиновый трон воссядет истинный мелнибониец. И, кто знает, может быть, сделает Симорил своей королевой? Такое случалось… Элрик почувствовал, как перекатывается за борт, почувствовал, как падает, почувствовал, как ударяется о воду, почувствовал, как доспехи тянут его вниз. Последние слова Йиркуна отдавались в ушах Элрика, как настойчивые удары волн о борт боевого барка.
Часть вторая
Еще меньше, чем всегда, уверенный в своей судьбе, король-альбинос вынужден воспользоваться своим колдовским искусством; он сознательно прибегает к действиям, которые сделают его жизнь не такой, как ему хотелось бы. Все проблемы должны быть решены. Он должен начать властвовать. Он должен стать жестоким. Но даже и теперь он столкнется с препятствиями.Глава первая Пещеры морского короля
Элрик быстро погружался, отчаянно пытаясь сохранить последние остатки воздуха. Сил плыть у него не было, а вес доспехов не давал ему ни малейшей надежды подняться на поверхность и быть замеченным Магумом Колимом или кем-то другим, кто еще оставался верен ему. Рев в его ушах постепенно сменился на шепот, отчего у него возникло впечатление, будто с ним разговаривают еле слышные голоса, голоса водных элементалей, с которыми у него во времена его юности возникло что-то вроде дружбы. Боль в его легких стихла, красный туман рассеялся в глазах Элрика, и ему показалось, что он видит лицо своего отца Садрика, лицо Симорил, промелькнуло и лицо Йиркуна. Йиркун – глупец, он хоть и гордился тем, что он мелнибониец, но вот мелнибонийской изощренности у него не было. Он был груб и прямолинеен, как некоторые варвары из Молодых королевств, которых он так презирал. И тут Элрик почувствовал чуть ли не благодарность к своему кузену. Жизнь была кончена. противоречия, раздиравшие императорский ум, больше не беспокоили Элрика. Его страхи, его мучения, его ненависть и любовь – все оставалось в прошлом, а впереди было только забвение. Когда последние глотки воздуха покинули его тело, он целиком отдался во власть моря, во власть Страаши, повелителя водных элементалей, когда-то союзника народа Мелнибонэ. И тут он вспомнил старое заклинание, которым пользовались его предки, когда им нужно было вызвать Страаша. Это заклинание само собой возникло в его умирающем мозгу.Глава вторая Новый император и император вернувшийся
Странного цвета облака заполнили небо, огромное тяжелое солнце висело в вышине, а океан был черен под золотыми барками, устремившимися к дому впереди потрепанного флагмана. Сам флагман двигался медленно, с мертвыми рабами на веслах, порванными парусами на мачтах, прокопченными дымом моряками на палубах и новым императором на мостике. Из всех возвращавшихся ликовал один только новый император, и уж он-то ликовал по-настоящему. На главной мачте флагмана теперь полоскалось его – а не Элрика – знамя, поскольку он не терял времени и провозгласил Элрика убитым, а себя – правителем Мелнибонэ. Для Йиркуна особый оттенок неба был знаком перемен, возвращения к прежним традициям и прежней власти острова Драконов. Когда он отдавал приказы, в голосе его слышалось удовольствие, и адмирал Магум Колим, который всегда не без подозрения относился к Элрику, но теперь был вынужден подчиняться Йиркуну, спрашивал себя: не лучше ли будет обойтись с Йиркуном таким же образом, каким (у адмирала были на сей счет свои соображения) тот обошелся с Элриком. Дивим Твар стоял, опершись на борт своего собственного судна – «Удовольствия Терхали», – и тоже посматривал на небо, хотя и не видел в нем предзнаменований судьбы. Не видел же он их потому, что оплакивал Элрика и прикидывал, как ему отомстить принцу Йиркуну, если выяснится, что Йиркун убил своего кузена, дабы завладеть Рубиновым троном. На горизонте показалось Мелнибонэ – нагромождение скал, черный монстр, присевший на корточки в море и зовущий своих детей вернуться назад, к изощренным наслаждениям Грезящего города. Огромные утесы приблизились, центральные ворота лабиринта открылись, вода принялась волноваться и плескаться, когда золотые барки, разрезая ее своими золотыми носами, вошли внутрь и исчезли во влажном мраке туннеля. На поверхности воды все еще плавали обломки кораблей – следы вчерашней схватки; время от времени в свете факелов мелькали распухшие тела мертвецов. Боевые барки безучастно двигались по этим бренным останкам, но на них не царило веселье – они везли известие о гибели в бою их прежнего императора (Йиркун рассказал им, что случилось). В течение следующей ночи – а всего в течение семи ночей – улицы Мелнибонэ будут наполнены Диким танцем. Отвары и специальные напитки никому не дадут уснуть, потому что во время траура по умершему императору сон запрещен как старым, так и молодым. Владыки драконов, обнаженные, будут бродить по городу и брать любую приглянувшуюся им молодую женщину, чтобы наполнить ее своим семенем, потому что такова была традиция: если умирает император, то знать Мелнибонэ должна произвести как можно больше детей аристократической крови. Музыкальные рабы будут завывать с вершин всех башен. Другие рабы будут убиты, а некоторые – съедены. Это был жуткий танец, танец скорби, и отнимал он не меньше жизней, чем создавал. Одна из башен будет разрушена, а одна возведена за эти же семь дней, и новая башня будет названа в честь Элрика VIII, императора-альбиноса, который погиб в море, защищая Мелнибонэ от пиратов с юга. Погиб в море, а тело его взято волнами. Это было плохим предзнаменованием, так как означало, что Элрик отправился служить Пьяраю-Щупальценосному нашептывателю невероятных тайн, Владыке Хаоса, который управлял флотом Хаоса – погибшими кораблями с погибшими моряками, навечно попавшими к нему в рабство. А такая судьба не подобает тому, в ком течет кровь правителей Мелнибонэ. «Да, но траур будет долгим», – думал Дивим Твар. Он любил Элрика, хотя и не одобрял иногда его методов управления островом Драконов. Он сегодня тайно отправится в Драконьи пещеры и проведет все дни траура со спящими драконами – единственными, кого он любил теперь, после смерти Элрика. А еще Дивим Твар подумал о Симорил, которая ждет возвращения Элрика. Корабли окутались сумерками приближающегося вечера. Факелы и фонари уже горели на набережной Имррира, которая была пуста, если не считать небольшой группки, стоявшей вокруг колесницы, подогнанной к самому концу центрального причала. Дул холодный ветер. Дивим Твар знал, что это Симорил со своей охраной ждет возвращения флота. Хотя флагман вошел в лабиринт последним, остальным кораблям пришлось ждать – «Сына Пьярая» подвели к причалу первым. Если бы не традиция, то Дивим Твар покинул бы свой корабль, чтобы поговорить с Симорил, проводить ее с набережной и рассказать все, что ему было известно об обстоятельствах смерти Элрика. Но это было невозможно. Еще до того, как «Удовольствие Терхали» бросила якорь, с «Сына Пьярая» был спущен трап, и император Йиркун, которого распирала гордыня, сошел вниз, воздев руки и торжественно приветствуя таким образом свою сестру, продолжавшую обшаривать взглядом палубу корабля в поисках своего возлюбленного альбиноса. Внезапно Симорил поняла, что Элрик мертв и что Йиркун каким-то образом причастен к его гибели. Либо Йиркун не пришел на помощь к Элрику, на которого набросились южане, либо сам убил Элрика. Она знала своего брата и сразу же догадалась, что означает выражение его лица. Он был доволен собой, когда ему удавалось то или иное предательство. Гнев загорелся в ее наполненных слезами глазах. Она откинула назад голову и закричала, обращаясь к непостоянным зловещим небесам: – О! Йиркун погубил его! Охранники вздрогнули от испуга. Их капитан заботливо сказал: – Госпожа? – Элрик мертв, и убил его мой брат. Капитан, арестуй принца Йиркуна. Убей его, капитан! Капитан с несчастным видом взялся за рукоять своего меча. Молодой воин, более порывистый, вытащил свой меч и прошептал: – Я убью его, госпожа, если таково твое желание. Этот молодой воин любил Симорил беззаветно и бескорыстно. Капитан бросил на воина предостерегающий взгляд, но тот был слеп к предостережениям. Два других стражника тоже извлекли из ножен мечи, когда Йиркун, завернувшись в красный плащ, в шлеме с драконами, поблескивающем в свете факелов, раздуваемых ветром, выступил вперед и воскликнул: – Теперь Йиркун-император! – Нет! – закричала сестра Йиркуна. – Элрик! Элрик! Где ты? – Он служит своему новому хозяину, Пьяраю из Хаоса. Его мертвые руки держат весло корабля Хаоса, сестра. Его мертвые глаза ничего не видят. Его мертвые уши слышат только удары бичей Пьярая, а его мертвая плоть не чувствует ничего, кроме неземной боли. Элрик в своих доспехах ушел на дно моря. – Убийца! Предатель! – Симорил зарыдала. Капитан, который был не чужд практичности, вполголоса сказал своим воинам: – Вложите мечи в ножны и приветствуйте нового Императора. Не подчинился только молодой охранник, который любил Симорил. – Но ведь он же убил императора! Так сказала госпожа Симорил! – Ну и что? Теперь он император. Встань на колени, или через минуту ты будешь мертв. Молодой воин с криком бросился на Йиркуна, который отступил, пытаясь высвободить руки из складок плаща. Он не ожидал нападения. Но вперед выскочил капитан с уже обнаженным мечом и пронзил юношу – тот, удивленно открыв рот, повернулся назад и упал к ногам Йиркуна. Этот поступок капитана свидетельствовал о том, что Йиркун теперь и в самом деле обладает властью, и он, ухмыльнувшись, бросил взгляд на поверженное тело. Капитан опустился на колено, не выпуская из рук окровавленный меч. – Мой император, – сказал он. – Ты продемонстрировал свою преданность, капитан. – Я предан Рубиновому трону. – Именно. Симорил дрожала от скорби и гнева – но гнев ее был бессилен. Теперь она знала, что друзей у нее нет. Император Йиркун, смерив Симорил плотоядным взглядом, подошел к ней. Он протянул руку и потрепал ее по шее, щеке, губам. Потом его рука упала, задев ее грудь. – Сестра, – сказал он, – теперь ты полностью принадлежишь мне. И Симорил тоже упала к его ногам – она потеряла сознание. – Поднимите ее, – сказал Йиркун охранникам. – Отнесите ее в башню, и пусть она никуда оттуда не выходит. Два стражника должны находиться при ней постоянно, и даже в самые интимные моменты они должны наблюдать за ней, Потому что она может замыслить предательство против Рубинового трона. Капитан поклонился и дал знак своим людям выполнять приказ императора. – Да, мой господин, будет исполнено. Йиркун оглянулся на тело молодого воина. – А этого скормите сегодня ее рабам, чтобы он и после смерти послужил ей. – Он улыбнулся. Капитан тоже улыбнулся, оценив шутку. Как хорошо, думал он, что в Мелнибонэ снова будет править настоящий император. Император, который умеет себя вести, император, который знает, как обращаться с врагами, который принимает рабскую, не знающую сомнений преданность как должное. Капитану казалось, что впереди у Мелнибонэ прекрасные боевые времена. Золотые боевые барки и воины Имррира смогут снова отправиться в поход, чтобы варвары из Молодых королевств вечно жили, как им подобает, в восхитительном страхе. Он уже представлял себе, как поживится богатствами Лормира, Аргимилиара и Пикарайда, а может быть, Илмиоры и Джадмара. Его даже могут назначить губернатором какой-нибудь провинции, скажем, острова Пурпурных городов. Ах, какие роскошные мучения припасены у него для этих выскочек – морских владык, в особенности для графа Смиоргана Лысого, который уже сейчас пытался соперничать с Мелнибонэ, сделав свой остров второй торговой столицей мира! Провожая бесчувственную Симорил в башню, капитан поглядывал на ее тело и чувствовал, как его одолевает похоть. Йиркун отблагодарит его за преданность, в этом он не сомневался. Несмотря на холодный ветер, капитан даже вспотел в предвкушении будущего. Он сам будет охранять Симорил. Уж он-то вовсю насладится этим.Йиркун во главе своей армии прошествовал к башне Д’а’рпутны – башне императоров, в которой находился Рубиновый трон. Он решил обойтись без носилок, которые были поданы ему, и шел пешком, чтобы насладиться каждым мгновением своего торжества. Он приблизился к башне, возвышавшейся над другими в самом центре Имррира, как приближаются к возлюбленной. Он приблизился к башне, изощряя свои ощущения неторопливостью, потому что знал: теперь она принадлежит ему. Он оглянулся. За ним маршировала его армия. Ее вели Магум Колим и Дивим Твар. Вдоль петляющих улиц стояли люди и низко кланялись ему. Рабы падали ниц. Даже вьючных животных ставили на колени при его приближении. Йиркун Почти ощущал вкус власти, как можно ощущать вкус сочного плода. Он глубоко вдыхал воздух. Даже воздух принадлежал ему. Весь Имррир принадлежал ему. Все Мелнибонэ. А скоро весь мир будет у его ног – и уж тогда-то он будет править. Ах, как он будет править! Снова великий ужас воцарится на земле, ужас, который охватит всех! Император Йиркун, от ликования почти ничего не видя вокруг, вошел в башню. Он помедлил у огромных дверей тронного зала. Он дал знак открыть двери, и, когда они распахнулись, он стал вкушать вид зала по крохотным кусочкам, растягивая наслаждение. Стены, знамена, трофеи, галереи – все это теперь принадлежало ему. Тронный зал сейчас был пуст, но скоро он наполнится светом, и праздником, и настоящими мелнибонийскими развлечениями. Давно уже запах крови не услащал воздуха в этом зале. Его глаза медленно обшаривали ступеньку за ступенькой у подножия Рубинового трона. Но прежде чем Йиркун взглянул на трон, он услышал, как ахнул за спиной Дивим Твар. Тогда он резко перевел взгляд на Рубиновый трон, и челюсть его отвисла. Глаза Йиркуна в недоумении расширились. – Иллюзия! – Призрак, – не без удовлетворения сказал Дивим Твар. – Ересь! – крикнул император Йиркун, делая нетвердые шаги вперед и указывая пальцем на фигуру в плаще и капюшоне, восседающую на Рубиновом троне. – Трон мой! Мой! Фигура ничего не ответила. – Мой! Исчезни! Этот трон принадлежит Йиркуну. Теперь Йиркун император! Кто ты такой? Почему ты встал на моем пути? Капюшон упал на плечи, и все увидели белое лицо в копне струящихся молочно-белых волос. Малиновые глаза холодно смотрели на вопящую фигуру, которая, спотыкаясь, двигалась к трону. – Ты мертв, Элрик! Я знаю, что ты мертв! Призрак ничего не ответил, но едва заметная улыбка коснулась его белых губ. – Ты не мог выжить. Ты утонул. Ты не можешь вернуться. Твоя душа принадлежит Пьяраю! – В море есть и другие владыки, – сказала фигура на Рубиновом троне. – Почему ты убил меня, кузен? Вместо вероломного Йиркуна теперь в зале стоял другой Йиркун – испуганный, неуверенный. – Потому что я должен править в Мелнибонэ. Потому что ты был недостаточно силен, недостаточно жесток, ты и пошутить по-мелнибонийски никогда не умел… – А разве это плохая шутка, кузен? – Исчезни! Исчезни! Исчезни! Никакое привидение меня не испугает! В Мелнибонэ не может править мертвый Император! – Это мы увидим, – сказал Элрик, давая знак Дивиму Твару и его воинам.
Глава третья Традиционное правосудие
– А теперь я буду править так, как ты того хотел, кузен. – Элрик смотрел, как воины Дивима Твара, окружив и схватив за руки несостоявшегося узурпатора, отбирают у него оружие. Йиркун дышал, как загнанный волк. Он сверкал глазами и крутил головой, надеясь, что кто-нибудь из воинов поддержит его, но они смотрели либо нейтрально, либо не скрывая презрения. – И ты, принц Йиркун, первым почувствуешь все блага моего нового правления. Ты доволен? Йиркун опустил голову. Теперь его пробрала дрожь. Элрик рассмеялся. – Что же ты молчишь, кузен? – Пусть Ариох и все герцоги Ада вечно мучают тебя, – прорычал Йиркун. Он откинул назад голову, глаза его безумно вращались в орбитах, губы искривились. – Ариох! Ариох! Предай проклятию этого слабого альбиноса! Ариох! Уничтожь его, или ты увидишь, как падет Мелнибонэ! Элрик продолжал смеяться. – Ариох не слышит тебя. Хаос сейчас слаб. Нужно колдовство посильнее твоего, чтобы Владыки Хаоса вернулись на землю и помогли тебе, как помогали нашим предкам. А Теперь, Йиркун, скажи мне, где госпожа Симорил. Но Йиркун опять погрузился в упрямое молчание. – Она в своей башне, мой император, – сказал Магум Колим. – Ее повел туда один из прихвостней Йиркуна, – сказал Дивим Твар, – капитан стражи Симорил. Он убил воина, который хотел защитить свою госпожу от Йиркуна. Возможно, принцесса Симорил в этот момент в опасности, мой господин. – Быстро ступай в башню. Возьми с собой отряд. Приведи сюда Симорил и капитана ее стражи. – А что делать с Йиркуном, мой господин? – спросил Дивим Твар. – Он останется здесь, пока не вернется его сестра. Дивим Твар поклонился и, отобрав несколько воинов, вышел из тронного зала. Все отметили, что шаг Дивима Твара стал легче, а выражение лица – не таким мрачным, как в тот миг, когда он следом за принцем Йиркуном приближался к тронному залу. Йиркун поднял голову и оглядел двор. На какое-то мгновение он стал похож на неразумное и озадаченное дитя. Весь гнев и вся ненависть исчезли, и Элрик даже испытал что-то вроде сочувствия к своему кузену. Но на сей раз он подавил в себе это чувство. – Довольствуйся тем, кузен, что в течение нескольких часов ты был владыкой всего Мелнибонэ. Йиркун произнес тихим, недоуменным голосом: – Как тебе удалось спастись? У тебя не было ни времени, ни сил на колдовство. Ты едва мог двигаться, а твои доспехи должны были утащить тебя на дно, ты не мог не утонуть. Это несправедливо, Элрик. Ты должен был утонуть. Элрик пожал плечами. – У меня есть друзья в море. Они, в отличие от тебя, признают мою королевскую кровь и мое право властвовать. Йиркун попытался скрыть удивление. Явно его уважение к Элрику выросло – как и его ненависть к императору-Альбиносу. – Друзья? – Да, – сказал Элрик с едва заметной улыбкой. – А я… я думал, ты дал обет не использовать свое колдовское искусство. – Но ведь ты думал, что такой обет не подобает мелнибонийскому монарху, да? Что ж, я с тобой согласен. Как видишь, Йиркун, в конечном счете победа осталась за тобой. Йиркун в упор взглянул на Элрика, словно пытаясь понять тайное значение его слов. – Ты вернешь Владык Хаоса? – Ни один, даже самый сильный колдун не может призвать Владык Хаоса, также как Владык Закона, если они сами не пожелают быть призванными. Ты это знаешь. Ты должен это знать, Йиркун. Разве ты сам не пытался? А Ариох так и не пришел, разве нет? Разве он принес тебе тот дар, о котором ты просил, – два Черных Меча? – Ты знаешь об этом? – Я не знал. Догадывался. Теперь знаю. Йиркун попытался что-то сказать, но гнев переполнял его так, что слова не подчинялись ему. Вместо этого он издал сдавленный рык и несколько мгновений пытался вырваться из рук державших его стражников. Дивим Твар вернулся с Симорил. Девушка была еще бледна, но улыбалась. Она вбежала в тронный зал. – Элрик! – Симорил! Тебе никто не причинил вреда? Симорил бросила взгляд на поникшего капитана стражников, которого тоже привели в тронный зал. На ее тонком лице появилось отвращение. Потом она отрицательно покачала головой. – Нет, мне никто не причинил вреда. Капитан стражников дрожал отужаса. Он умоляющим взглядом смотрел на Йиркуна, словно его сотоварищ по пленению мог ему чем-то помочь. Но Йиркун продолжал разглядывать пол. – Подведите этого поближе. – Элрик показал на капитана стражников. Того подтащили к подножию ступенек, ведущих к Рубиновому трону. Капитан застонал. – Ты жалкий предатель, – сказал Элрик. – У Йиркуна по крайней мере хватило мужества попытаться убить меня. И у него были весьма честолюбивые помыслы. А твое честолюбие состояло в том, чтобы стать его прихвостнем. И поэтому ты предал свою госпожу и убил одного из своих людей. Как тебя зовут? Слова капитану давались с трудом, но наконец он пробормотал: – Меня зовут Валгарик. А что я мог сделать? Я служу Рубиновому трону, кто бы на нем ни сидел. – Значит, предатель заявляет, что руководствовался преданностью. Но я так не думаю. – Так оно и было, мой господин. Так оно и было, – заскулил капитан. Он упал на колени. – Убей меня легко. Не наказывай меня. Элрик хотел было выполнить просьбу капитана, но тут он взглянул на Йиркуна, а потом вспомнил выражение на лице Симорил, когда та смотрела на своего стражника. Он чувствовал важность момента и знал, что на примере капитана Валгарика должен теперь преподать всем урок. Поэтому он покачал головой. – Нет, я накажу тебя. Сегодня ты умрешь здесь по традициям Мелнибонэ, когда мои придворные будут праздновать новую эру моего правления. Валгарик заплакал. Потом он взял себя в руки, прекратил рыдания и поднялся на ноги – как настоящий мелнибониец. Он низко поклонился и сделал шаг назад, предаваясь в руки стражи. – Я должен подумать, как ты разделишь судьбу с тем, кому хотел служить, – сказал Элрик. – Как ты убил молодого воина, который хотел остаться верным Симорил? – Мечом. Я пронзил его. Это был чистый удар. Один. – А что стало с телом? – Принц Йиркун приказал мне скормить его рабам принцессы Симорил. – Понимаю. Что ж, принц Йиркун, ты можешь сегодня присоединиться к нашему пиршеству, пока капитан Валгарик будет развлекать нас своей смертью. Лицо Йиркуна стало бледнее лица Элрика. – Что ты хочешь этим сказать? – Тебе будут подавать кусочки плоти капитана Валгарика, которые доктор Остряк будет вырезать из его тела. Ты сможешь давать указания, как бы тебе хотелось приготовить мясо капитана. Мы бы не хотели, чтобы ты ел его сырым. Даже Дивим Твар был удивлен решением Элрика. Оно, конечно же, было в духе Мелнибонэ и иронично усовершенствовало идею самого Йиркуна, но не отвечало характеру Элрика, того Элрика, которого он знал до сегодняшнего дня. Услышав о своей участи, капитан Валгарик испустил полный ужаса вопль и уставился на принца Йиркуна, словно тот уже вкушал его плоть. Йиркун попытался отвернуться, плечи его дрожали. – И это будет только начало – сказал Элрик. – Пир начнется в полночь. А до этого времени заточите Йиркуна в его башне. После того как принца Йиркуна и капитана Валгарика увели, Дивим Твар и принцесса Симорил подошли к Элрику, который откинулся на спинку своего огромного трона, глядя в никуда. – Остроумная пытка, – сказал Дивим Твар. – Они оба заслужили это, – добавила Симорил. – Да, – пробормотал Элрик. – Именно так и поступил бы мой отец. Именно так поступил бы и Йиркун, окажись он на моем месте. Я всего лишь следую традициям. Я больше не делаю вида, что принадлежу себе. Я останусь здесь до своей смерти – в ловушке Рубинового трона и буду служить ему, как, по словам Валгарика, служил он. – А ты не мог бы убить их быстро? – спросила Симорил. – Ты знаешь, что я прошу не потому, что он мой брат. Я ненавижу его как никого другого. Но если ты продолжишь так себя вести, это может погубить тебя. – Ну и что? Значит, я буду уничтожен. Пусть я стану всего лишь бездумным продолжением моих предков. Марионетка призраков и воспоминаний, которую дергают за веревочки, уходящие назад во времени на десять тысяч лет. – Может быть, тебе нужно сначала выспаться… – предложил Дивим Твар. – Я чувствую, что после этого не буду спать много ночей. Но твой брат не умрет, Симорил. После наказания – когда он отведает мяса капитана Валгарика – он будет отправлен в ссылку. Он в одиночестве отправится в Молодые королевства. Но ему не будет позволено взять с собой его колдовские книги. Он должен будет выжить в землях варваров, предоставленный сам себе. Я полагаю, это не слишком суровое наказание. – Оно слишком мягкое, – возразила Симорил. – Лучше его убить. Пошли к нему воинов, чтобы у него не было времени замыслить какой-нибудь заговор. – Я не боюсь его заговоров. – Элрик устало поднялся. – А теперь мне хотелось бы, чтобы вы оба оставили меня и вернулись за час до начала праздника. Я должен подумать. – Я вернусь в свою башню и подготовлюсь к вечеру, – сказала Симорил. Она поцеловала Элрика в бледный лоб. Он поднял глаза, светившиеся любовью и нежностью, протянул руку и прикоснулся к ее волосам и щеке. – Помни, что я тебя люблю, Элрик, – сказала она. – Я прикажу, чтобы тебя проводили домой, – сказал ей Дивим Твар. – И ты должна выбрать нового командира для своей стражи. Позволь мне помочь тебе в этом. – Я буду тебе благодарна, Дивим Твар. Они оставили Элрика, который замер на Рубиновом троне, уставясь в пустоту. Рука, которую он время от времени поднимал к своей бледной голове, немного подрагивала, а его странные малиновые глаза с болью смотрели на мир. Немного позже он поднялся с Рубинового трона и медленно, склонив голову, пошел в свои покои – стражники потянулись следом. Он помедлил у дверей, за которыми по ступенькам можно было подняться в библиотеку. Он инстинктивно искал утешения и забвения в знаниях, но в этот миг вдруг испытал прилив ненависти к своим книгам и свиткам. Уж слишком они были озабочены такими понятиями, как «нравственность» или «справедливость». Он винил их в том, что теперь, когда он принял решение вести себя, как то подобает мелнибонийскому монарху, чувство вины и отчаяние переполняли его. Поэтому он прошел мимо дверей библиотеки в свои покои – но и здесь ему было не по себе. Обстановка в покоях царила аскетичная, не соответствующая тем представлениям о роскоши, что были свойственны всем мелнибонийцам (за исключением разве что его отца), которым доставляло удовольствие сочетание ярких красок и причудливых форм. Он все здесь изменит – и сделает это как можно скорее. Он подчинится тем призракам, которые овладели им. Какое-то время Элрик бродил из комнаты в комнату, пытаясь заглушить в себе голос, который требовал, чтобы он проявил милосердие к Валгарику и Йиркуну, хотя бы убил их обоих сразу, а еще лучше – отправил в ссылку. Но изменить это решение было уже невозможно. Наконец он опустился в кресло у окна, из которого открывался вид на весь город. По небу все еще бежали беспокойные облака, но теперь сквозь них пробивалась луна, похожая на желтый глаз какого-то полумертвого зверя. Казалось, она смотрела на него с какой-то торжествующей иронией, словно радуясь поражению его совести. Элрик уронил голову на руки. Пришло время, и слуги сообщили ему, что придворные уже собираются на праздничный пир. Он позволил слугам одеть себя в желтое парадное одеяние и водрузить ему на голову корону, после чего вернулся в тронный зал, где его встретили громкими приветствиями, гораздо более сердечными, чем все, что ему доводилось слышать прежде. Приняв приветствия, он сел на Рубиновый трон и бросил взгляд на столы, которыми теперь был заставлен зал. Перед ним тоже поставили стол и два дополнительных сиденья – для Дивима Твара и Симорил, которые должны сесть рядом с ним. Но Дивима Твара и Симорил еще не было, не привели и предателя Валгарика. А где же Йиркун? Они уже должны были находиться в центре зала – Валгарик в цепях, и Йиркун рядом с ним за столом. Здесь уже был доктор Остряк – он разогревал свою жаровню, на которой стояли сковородки, проверял и подтачивал ножи. В зале стоял возбужденный шум – придворные ожидали потехи. Уже принесли еду, хотя никто не мог к ней притронуться, пока не начнет есть император. Элрик дал знак командиру своей стражи. – Принцесса Симорил и господин Дивим Твар еще не прибыли в башню? – Нет, мой господин. Симорил опаздывала редко, а Дивим Твар – никогда. Элрик нахмурился. Может быть, они не были в восторге от предстоящего развлечения? – А что узники? – За ними послали, мой господин. Доктор Остряк поднял нетерпеливый взгляд – его тонкие губы растянулись в предвкушении предстоящего развлечения. И тут поверх гула голосов, стоявшего в зале, Элрик услышал звук. Это было что-то вроде стона, разносившегося по всей башне. Он наклонил голову и прислушался. Двери тронного зала распахнулись, и появился Дивим Твар. Он тяжело дышал и был весь в крови. Одежда его была разорвана, на теле зияли раны. А следом за ним в зал ворвался туман – бурлящий туман темно-пурпурного и ядовитого синего цвета; этот-то туман и издавал стоны. Элрик вскочил с трона и, отшвырнув в сторону стол, бросился по ступеням к своему другу. Стенающий туман пробирался в тронный зал глубже, словно пытаясь добраться до Дивима Твара. Элрик обнял друга. – Дивим Твар! Что это за колдовство? На лице Дивима Твара застыло выражение ужаса, губы его словно свело судорогой; наконец он произнес: – Это колдовство Йиркуна. Он вызвал стонущий туман, чтобы тот помог ему бежать. Я попытался преследовать Йиркуна за городом, но туман поглотил меня, и я потерял разум. Я шел в башню к Йиркуну, чтобы доставить его сюда вместе с Валгариком, но колдовство уже совершилось. – А Симорил? Где она? – Он забрал ее, Элрик. Она с ним. С ним также Валгарик и еще сотня воинов, которые тайно оставались преданы ему. – Значит, мы должны снарядить за ним погоню. Мы скоро схватим его. – Против стонущего тумана мы бессильны. Он наступает. Туман и в самом деле начал обволакивать их. Элрик попытался рассеять его, размахивая руками, но он собрался вокруг него плотной массой. Печальный стон наполнял уши Элрика, а жуткие цвета слепили ему глаза. Он попытался прорваться сквозь туман, но тот окружал его со всех сторон. И теперь ему показалось, что за стонами он слышит слова: «Элрик слаб. Элрик глуп. Элрик должен умереть!» – Прекрати! – крикнул он. Он столкнулся с кем-то и упал на колени. Он начал отползать в сторону, отчаянно пытаясь вырваться из тумана. Теперь в тумане стали вырисовываться лица – страшные лица, ничего ужаснее он в жизни не видел, даже в своих ночных кошмарах. – Симорил! – закричал он. – Симорил! И одно из этих лиц стало лицом Симорил – Симорил, которая насмехалась и издевалась над ним, потом ее лицо начало постепенно стареть, и наконец он увидел грязную старуху, а потом – череп с лоскутами полусгнившей плоти. Он закрыл глаза, но этот образ не исчез. «Симорил! – шептали голоса. – Симорил!» Отчаяние овладевало Элриком, и он слабел от этого. Он позвал Дивима Твара, но услышал только насмешливое эхо – такое же отозвалось ему, когда он назвал имя Симорил. Он сомкнул уста, закрыл глаза и, продолжая ползти, попытался освободиться от стонущего тумана. Но прежде чем стоны сделались всхлипами, а всхлипы стали слабыми отзвуками, прошли, казалось, часы. Элрик попытался подняться и открыл глаза, чтобы увидеть, как рассеивается туман, но его ноги подогнулись, и он рухнул на первую из ступенек, ведущих к Рубиновому трону. Он еще раз не последовал совету Симорил, как поступить с ее братом, и ей снова грозила опасность. последняя мысль Элрика была проста: «Я не гожусь для жизни».Глава четвертая Вызвать владыку Хаоса
Как только Элрик пришел в себя после удара, от которого лишился сознания, а оттого потерял еще больше времени, он послал за Дивимом Тваром. Он с нетерпением ждал новостей, но Дивим Твар ничего не мог сообщить ему. Йиркун призвал себе на помощь колдовские силы, и те помогли ему бежать. – Наверно, у него были какие-то магические способы покинуть остров, потому что он бежал не на корабле, – сказал Дивим Твар. – Ты должен снарядить погоню, – сказал Элрик. – Пошли тысячи отрядов, если понадобится. Пошли всех мелнибонийцев. Попытайся разбудить драконов, чтобы можно было воспользоваться ими. Подготовь боевые барки. Отправь наших людей во все уголки мира, но найди Симорил. – Я уже сделал все это – сказал Дивим Твар. – Вот только Симорил я пока не нашел. Прошел месяц. Воины Имррира прочесали Молодые королевства в поисках своих соотечественников, вставших на путь измены. «Я заботился больше о себе, чем о Симорил, и называл это нравственностью, – подумал альбинос. – Я подвергал испытанию свою обидчивость, а не свою совесть». Прошел второй месяц, и драконы Имррира наводнили небеса на юге и на востоке, на западе и на севере, но, хотя они и перелетали через горы, моря, леса и долины и невольно сеяли панику во многих городах, нигде не нашли и следа Йиркуна и его отряда. «Ведь в конечном счете человека судят по его делам, – подумал Элрик. – Я взвесил все, что я делал, – не то, что собирался сделать, и не то, что мне хотелось бы сделать, и вот выяснилось: все, что я сделал, было глупо, разрушительно и не имело никакого смысла. Йиркун был прав, презирая меня, а я именно за это воспылал к нему ненавистью». Пришел четвертый месяц; корабли Имррира стояли в дальних портах, а моряки Имррира спрашивали других странников и землепроходцев, не знают ли те что-нибудь про Йиркуна. Но колдовство Йиркуна было сильным, и никто его не видел (или не помнил, что видел). «Теперь я должен попытаться понять скрытое значение всех этих мыслей», – сказал сам себе Элрик. Самые быстрые из воинов устало возвращались домой со своими бесполезными новостями. И когда вера исчезла и надежда умерла, Элрик исполнился решимости. Он обрел силы – как душевные, так и физические. Он экспериментировал с новыми снадобьями, которые должны были увеличить запас его жизненной силы. Он проводил много времени в библиотеке, хотя теперь всем книгам предпочитал одни колдовские, перечитывая их снова и снова. Эти книги были написаны на мелнибонийском высоком наречии – древнем колдовском языке, с помощью которого предки Элрика общались со сверхъестественными силами, которых они вызывали к себе. И наконец-то Элрик остался доволен – он понял эти книги до конца, хотя то, что он читал, временами грозило приостановить выбранный им образ действий. А оставшись доволен (опасность неправильного понимания скрытого смысла того, что было написано в этих книгах, грозила катастрофой), он принял снадобья и проспал три дня. И теперь Элрик был готов. Он выгнал всех рабов и слуг из своих покоев. Он поставил стражников у дверей, приказав им не впускать никого, каким бы срочным ни было дело. Он освободил один из больших залов от всего, оставив там единственную колдовскую книгу, которую поместил в самом центре. Потом он сел рядом с книгой и принялся думать. Просидев более пяти часов, Элрик взял кисть и сосуд с чернилами и начал рисовать на стенах и полу сложные символы. Некоторые из них имели такую замысловатую форму, что словно бы исчезали под углом к поверхности, на которой были изображены. Покончив с этим, Элрик улегся в самом центре нарисованной им огромной руны – к полу лицом, положив одну руку на колдовскую книгу, а другую (сАкториосом на ней) вытянул в сторону ладонью вниз. Луна была полной. Ее лучи падали прямо на голову Элрика, превращая его волосы в серебро. И началось призывание. Элрик направил свой разум в петляющие туннели логики, сквозь бескрайние долины идей, через горы символов и бесконечные миры смежных истин. Он направлял свой разум все дальше и дальше, а с ним посылал слова, слетавшие с его перекошенных губ, – слова, которые мало кто из его современников был способен понять, хотя от одного их звука кровь застыла бы у них в жилах. Тело его наливалось тяжестью, по мере того как он заставлял его оставаться в начальном положении, а время от времени с его губ срывался стон. И постоянно снова и снова повторялись одни и те же слова. Одним из этих слов было имя. «Ариох». Ариох, демон-покровитель предков Элрика, один из самых могущественных герцогов Ада, которого звали Рыцарем Мечей, Повелителем Семи Бездн, Владыкой Высшего Ада и еще множеством других имен. – Ариох! Именно Ариоха призывал Йиркун, прося у Владыки Хаоса проклятия на голову Элрика. Именно Ариоха пытался призвать себе на помощь Йиркун, покушаясь на Рубиновый трон. Именно Ариох был известен как хранитель двух Черных Мечей – мечей внеземного происхождения, источника бесконечной силы, которой когда-то владели императоры Мелнибонэ. – Ариох! Я вызываю тебя. Ритмические и бессвязные руны вырывались из горла Элрика. Его разум достиг сфер, в которых обитал Ариох. Теперь он искал самого Ариоха. – Ариох, тебя зовет Элрик из Мелнибонэ. Элрик узрел глаз, уставившийся на него. Этот глаз поплыл и присоединился к другому. Теперь на него взирали два глаза. – Ариох! Мой господин! Помоги мне! Глаза моргнули и исчезли. – Ариох! Приди ко мне! Приди ко мне! Помоги мне, и я буду служить тебе. Очертания, ничуть не похожие на человеческие, материализовались, и наконец черная голова без лица уставилась на Элрика. За головой мерцал ореол красных огней. Потом и это исчезло. Элрик в изнеможении позволил рассеяться возникшему было образу. Его разум скользил сквозь измерения, возвращаясь назад. Его губы больше не распевали руны и имена. Он молча лежал в изнеможении на полу зала, не в силах шевельнуться. Он не сомневался – у него ничего не вышло. Послышался какой-то тихий звук. Превозмогая боль, он с трудом поднял голову. В зал залетела муха. Она жужжала то здесь, то там, словно бы следуя линиям рун, совсем недавно нарисованных Элриком. Муха замирала то на одной руне, то на другой. «Наверное, она влетела в окно», – подумал Элрик. Эта помеха раздражала его – и в то же время притягивала внимание. Муха села на лоб Элрика. Большая черная муха – жужжание ее было до неприличия громким. Она потерла друг о дружку передние лапки и, словно бы проявляя особый интерес к этому бледному лицу, поползла по нему. Элрик вздрогнул, но прогнать муху у него не было сил. Когда она снова появилась в поле его зрения, он скосил на нее глаза. Когда он ее не видел, он чувствовал ее мохнатые лапки на своей коже. Потом она поднялась в воздух и, пролетев немного с прежним громким жужжанием, уселась вблизи носа Элрика. И тут Элрик увидел глаза насекомого. Это были те самые глаза – или не глаза? – которые он видел в ином измерении. Он начал понимать, что это не какая-то обычная муха. У нее были черты, отдаленно напоминающие человеческие. Муха улыбалась ему. Своей осипшей глоткой и сухими губами он смог произнести одно-единственное слово: – Ариох? И тут муха обернулась прекрасным юношей. Прекрасный юноша заговорил прекрасным голосом – мягким, сочувственным, но в то же время мужественным. Его одежды словно были сделаны из жидких драгоценных камней, но они не слепили Элрика, потому что из них не исходило никакого света. На его поясе висел узкий меч, но шлема на явившемся не было, а вокруг головы мерцал красный огонь. Глаза у него были мудрые, глаза у него были старые, а если смотреть внимательно, то в них можно было увидеть древнее и абсолютное зло. – Элрик. Больше юноша ничего не сказал, но и это вдохнуло силы в альбиноса, и он смог подняться на колени. – Элрик. Теперь Элрик смог встать. Он был полон сил. Юноша был выше Элрика. Он смотрел на императора Мелнибонэ сверху вниз и улыбался той же улыбкой, которой улыбалась муха. – Ты единственный в этом мире, кто годится на то, чтобы служить Ариоху. Давно меня не приглашали в это измерение, но теперь, придя сюда, я помогу тебе, Элрик. Я стану твоим покровителем. Я буду защищать тебя, я дам тебе силы и источник силы, хотя хозяином буду я, а ты – рабом. – Как я должен служить тебе, Владыка Ариох? – спросил Элрик, которому пришлось сделать чудовищное усилие над собой, потому что его наполнил ужас при мысли о скрытом содержании слов демона. – Сейчас ты будешь служить мне, служа себе. Но придет время, и я призову тебя, чтобы ты послужил мне особым образом. А пока я почти ничего не прошу у тебя, кроме клятвы в том, что ты не откажешься мне служить. Элрик задумался. – Ты должен дать эту клятву, – рассудительно сказал Ариох, – иначе я не смогу помочь тебе с твоим кузеном Йиркуном и с его сестрой Симорил. – Клянусь служить тебе, – сказал Элрик. Тело его наполнил ликующий огонь, и он, задрожав от радости, упал на колени. – Теперь я могу сказать тебе, что время от времени ты Можешь обращаться ко мне за помощью, и я приду, если твоя нужда и в самом деле будет отчаянной. Я появлюсь в том виде, какой будет наиболее соответствовать моменту, или вообще вне всякой формы, если это опять же будет соответствовать моменту. А сейчас, прежде чем я удалюсь, ты можешь задать мне еще один вопрос. – Мне нужны ответы на два вопроса. – На твой первый вопрос я не могу ответить. И не отвечу. Ты должен признать, что поклялся служить мне. Я не скажу тебе, что тебя ждет в будущем. Но тебе нечего бояться, если ты будешь хорошо служить мне. – Тогда вот мой второй вопрос. Где принц Йиркун? – Принц Йиркун на юге, в земле варваров. Колдовством, превосходством в оружии и знаниях он покорил два небольших народа, один из которых называется Оин, а другой – Ю. Он уже сегодня готовит войска Оина и Ю к походу на Мелнибонэ, ведь он знает, что твои силы рассеяны по всей земле – в поисках его. – Как он спрятался? – Он не прятался. Он завладел Зеркалом Памяти – волшебным устройством, которое он нашел при помощью колдовства. Тот, кто взглянет в это Зеркало, теряет память. В этом зеркале миллионы воспоминаний тех людей, которые заглядывали в него. И любого, кто отважится отправиться в Оин или в Ю или зайдет морем в столицу (а она у обоих государств одна), заставляют заглянуть в Зеркало, и он забывает о том, что видел в тех землях принца Йиркуна и его людей. Это наилучший способ оставаться необнаруженным. – Верно. – Элрик нахмурил брови. – Поэтому было бы разумно уничтожить Зеркало. Но что случится после этого? Ариох поднял свою красивую руку. – Хотя я ответил больше чем на один вопрос (правда, все остальные были частью первого вопроса), дальше отвечать я не буду. Возможно, в твоих интересах уничтожить Зеркало, но лучше, если бы ты придумал другие способы противостоять его воздействию, потому что – напоминаю тебе – оно содержит много воспоминаний, и некоторые из них находились в заточении не одну тысячу лет. А теперь мне пора. Пора и тебе – отправляйся в страны Оин и Ю, которые лежат на расстоянии нескольких месяцев пути отсюда – следуй на юг, они расположены гораздо южнее Лормира. Лучше всего туда добраться на Корабле, что плавает по суше и по морю. Прощай, Элрик. Прежде чем исчезнуть, муха несколько мгновений жужжала на стене. Элрик ринулся из зала, призывая своих рабов.Глава пятая Корабль, что плавает по суше и по морю
– Сколько еще драконов спит в пещерах? – Эрик шагал туда-сюда по галерее, выходящей окнами на город. Наступило утро, но солнце не смогло пробиться сквозь плотные тучи, низко висевшие над башнями Спящего города. Жизнь Имррира на улицах внизу текла как обычно, вот только воинов было мало – большинство еще не вернулись домой из бесплодных поисков и, наверное, долго еще не вернутся. Дивим Твар стоял у перил галереи и невидящим взглядом смотрел на улицы. Усталое лицо, сложенные на груди руки – он словно пытался сохранить остаток сил. – Вероятно, два. Разбудить их будет непросто, а если это и удастся, вряд ли они будут нам полезны. О каком это «Корабле, что плавает по суше и по морю» говорил Ариох? – Я читал о нем – в Серебряной книге и других фолиантах. Это волшебный корабль. На нем плавал один мелнибонийский герой, когда Мелнибонэ еще не было империей. Но я не знаю, где он находится и существует ли он вообще. – А кто знает? – Дивим Твар распрямился и повернулся спиной к улице. – Ариох, – пожал плечами Элрик. – Но он мне не скажет. – А твои друзья – водные элементали? Разве они не обещали помогать тебе? И кому, как не им, знать про корабли? Элрик нахмурился, морщины, появившиеся некоторое время назад на его лице, стали заметнее. – Да, Страаша, может, и знает. Но я не хочу еще раз прибегать к его помощи. Водные элементали не обладают такой силой, как Владыки Хаоса. Их возможности ограниченны, а кроме того, они капризны, как и свойственно стихиям. Более того, Дивим Твар, мне не хотелось бы использовать колдовство, если только в этом нет абсолютной необходимости… – Ты чародей, Элрик. И ты недавно доказал свое высокое искусство в этой области – воспользовался самым сильным колдовством и смог вызвать Владыку Хаоса. Почему же ты сомневаешься? Я бы посоветовал тебе, мой господин, поразмыслить над своей логикой, и тогда ты поймешь, что она непоследовательна. Ты решил воспользоваться колдовством, чтобы найти принца Йиркуна. Жребий уже брошен. Было бы разумно воспользоваться колдовством еще раз. – Ты не можешь себе представить, каких душевных и физических усилий это требует… – Могу, мой господин. Я твой друг и не хочу, чтобы ты испытывал боль, – но тем не менее… – Есть и еще одно препятствие, Дивим Твар: моя физическая слабость, – напомнил своему другу Элрик. – Сколько я еще смогу пользоваться этими сверхсильными снадобьями, которые поддерживают меня теперь? Да, они дают мне силы, но при этом истощают меня. Я могу умереть, прежде чем найду Симорил. – Я виноват, мой повелитель. Но Элрик подошел к Дивиму Твару и положил свою белую руку на его желтоватого цвета плащ. – Но что мне терять? Пожалуй, ты прав. Я трус – колеблюсь, когда речь идет о жизни Симорил. Я повторяю свои глупости – те самые глупости, которые и стали причиной этой беды. Я сделаю то, о чем ты говоришь. Ты пойдешь со мной на берег? – Да, мой император. Дивим Твар начал чувствовать, как груз, лежавший на совести Элрика, давит и на него. Для мелнибонийца это было необычное чувство, и Дивим Твар понял, что оно ему не нравится. В последний раз Элрик был здесь, когда они с Симорил были счастливы. Казалось, это было так давно. Как же он был глуп, когда верил в долговечность этого счастья. Он направил своего белого жеребца к скалам и морю за ними. Моросил дождь. Зима на Мелнибонэ быстро вступала в свои права. Они оставили коней у скал, чтобы их не испугало колдовство Элрика, и спустились к берегу. Дождь падал в море. Над водой – не далее чем в пяти корабельных корпусах от береговой черты – висел туман. Стояла мертвая тишина, и Дивиму Твару подумалось, что, оказавшись между высокими черными скалами сзади и стеной тумана впереди, они вошли в безмолвный мир царства мертвых, где легко можно встретить печальные души тех, кто, по легенде, совершил самоубийство, медленно уничтожая свое тело по частям. Звук их шагов по прибрежной гальке был громок, но его сразу же заглушал туман, который жадно поглощал его – словно питался этим звуком, поддерживая таким образом в себе жизнь. – Сейчас, – пробормотал Элрик. Он, казалось, не замечал мрачного, гнетущего пейзажа. – Сейчас я должен вспомнить руну, которая так легко, сама собой пришла мне на память всего несколько месяцев назад. Оставив Дивима Твара, он подошел к месту, где холодная вода плескалась у берега. Здесь он медленно сел, скрестив ноги. Его невидящие глаза устремились в туман. Дивиму Твару показалось, что альбинос, сев на берегу, уменьшился в размерах. Он стал похож на беспомощного ребенка, и сердце Дивима Твара сострадало Элрику, как могло сострадать отважному, измученному мальчику. Дивим Твар уже готов был предложить Элрику отказаться от колдовства и искать страны Оин и Ю обычными средствами. Но Элрик уже поднимал голову, как это делает собака, собирающаяся завыть на луну. С его губ стали срываться странные, пугающие слова, и Дивим Твар понял, что, даже если он попытается сейчас заговорить, Элрик его не услышит. Дивим Твар и сам был немного знаком с высоким наречием (его, как и всякого знатного мелнибонийца, учили этому языку), но слова ничего ему не говорили, потому что Элрик использовал специальные интонации и ударения, которые придавали словам особый и тайный смысл. К тому же он распевал их голосом, то понижавшимся до глухого баса, то повышавшимся до визга. Слушать такие звуки, производимые смертным, было неприятно, и теперь Дивим Твар понимал, почему Элрик не хочет прибегать к волшебству. Повелитель Драконьих пещер, хотя и был типичным мелнибонийцем, почувствовал желание отойти назад шага на два-три, а то и вернуться на вершину скалы и наблюдать за Элриком оттуда. Ему пришлось взять себя в руки, чтобы остаться на месте и смотреть, как продолжается призывание. Пение рун продолжалось довольно долго. Дождь все сильнее барабанил по прибрежной гальке, покрывшейся теперь глянцем. Он свирепо лупил спокойное, темное море, хлестал беловолосую голову поющего и вызывал дрожь у Дивима Твара, который плотнее запахнул свой плащ. – Страаша… Страаша… Страаша… Слова смешивались со звуком дождя. Они были почти не похожи на слова, скорее – звуки, которые может производить дождь, или язык, на котором говорит море. – Страаша… И опять у Дивима Твара возникло желание оставить свое место, но теперь он хотел подойти к Элрику, сказать ему, Чтобы он остановился и взвесил другие возможности добраться до земель Оин и Ю. – Страаша! В это крике слышалась скрытая агония. – Страаша! Дивим Твар готов был уже позвать Элрика – но вдруг почувствовал, что не может сделать это. – Страаша! Фигура со скрещенными ногами раскачивалась. Крик летел зовом ветра сквозь пещеры времени. – Страаша!Дивиму Твару стало очевидно, что руна по каким-то причинам не действует и Элрик безрезультатно тратит свои силы. Но повелитель Драконьих пещер ничего не мог поделать. Язык его не двигался. Ноги, казалось, вросли в землю. Он посмотрел на туман. Тот вроде бы приблизился к берегу и заискрился странным зеленоватым светом. Вода вдруг взволновалась. Море ринулось на берег. Зашуршала галька. Туман отступил. В воздухе замелькали неясные огоньки, и Дивиму Твару показалось, что он увидел туманный силуэт огромной фигуры, появляющейся из моря. И тут он понял, что пение Элрика прекратилось. – Король Страаша, – начал Элрик, и теперь его голос стал почти нормальным, – я пришел. Я благодарю тебя. Силуэт заговорил – его голос напомнил Дивиму Твару звук неторопливых, тяжелых волн, перекатывающихся под дружеским солнцем. – Мы, элементали, озабочены, Элрик. До нас дошел слух, что ты пригласил в свой мир Владыку Хаоса, а стихии никогда не любили Владык Хаоса. Но я знаю, ты сделал это, потому что такова твоя судьба, и мы не питаем к тебе вражды. – Это было вынужденное решение, король Страаша. Ничего другого мне не оставалось. Если ты поэтому не склонен помогать мне, я тебя пойму и больше не стану тебя беспокоить. – Я помогу тебе, хотя помогать тебе теперь стало труднее. Но не из-за того, что должно произойти в ближайшем будущем, а из-за того, что грядет через много лет. А теперь побыстрее скажи мне, как мы, водные элементами, можем послужить тебе? – Тебе известно, где находится Корабль, что плавает по суше и по морю? Мне необходимо его найти, потому что я Должен исполнить обет и найти свою возлюбленную Симорил. – Я хорошо знаю этот корабль – он принадлежит мне. На него предъявляет права и Гроум, но этот корабль мой. По справедливости он мой. – Гроум Земной? – Гроум Земель под корнями. Гроум, владыка почвы и всего, что живет в ней. Мой брат Гроум. Давным-давно, когда мы, элементали, еще не вели счет времени, мы с Гроумом построили этот корабль, чтобы можно было путешествовать между царствами Воды и Земли – как мы пожелаем. Но мы поссорились (будь мы прокляты за эту глупость) и начали драться. А это означало землетрясения, приливные волны, извержения вулканов, тайфуны и сражения, в которых участвовали все стихии. В результате возникли новые континенты, а старые погрузились под воду. Мы дрались уже не в первый раз, но тот был последний. И наконец, чтобы не уничтожить друг друга окончательно, мы примирились. Я отдал Грому часть моих владений, а он отдал мне Корабль, что плавает по суше и по морю. Но отдавал он его не очень охотно, а потому этот корабль плавает по морям Лучше, чем по суше. Гроум, если у него появляется такая Возможность, препятствует ходу корабля. И все же, если этот корабль тебе нужен, ты можешь взять его. – Я благодарю тебя, король Страаша. Где мне его найти? – Он придет к тебе. А теперь я устал – чем больше удаляюсь я от моего царства, тем труднее мне поддерживать мою смертную оболочку. Прощай, Элрик. И будь осторожен. Ты сильнее, чем ты думаешь, и многие будут пытаться использовать твою силу в своих интересах. – Где мне ждать Корабля, что плавает по суше и по морю? Здесь? – Нет. – Голос морского короля растворялся вместе с его силуэтом. Туда, где только что были его очертания и зеленые огоньки, пополз серый туман. Море снова успокоилось. – Жди. Жди в своей башне… Он придет… Несколько малых волн накатились на берег, и все приобрело такой вид, словно короля водных элементалей никогда и не было здесь. Дивим Твар потер глаза. Медленно приблизившись к тому месту, где все еще сидел Элрик, он осторожно наклонился и протянул альбиносу руку. Элрик поднял на него удивленный взгляд. – Дивим Твар? Сколько времени прошло? – Несколько часов, Элрик. Скоро настанет ночь. Уже Почти стемнело. Нам нужно поторопиться назад в Имррир. Элрик с помощью Дивима Твара поднялся на неверных ногах. – Да, – рассеянно пробормотал он, – морской король сказал… – Я слышал слова морского короля, Элрик. Я слышал его совет и его предупреждение. Ты должен запомнить и то и другое. Мне не очень-то нравится идея с этим волшебным Кораблем. Как и большинство вещей, имеющих колдовское происхождение, этот корабль наделен не только добродетелями, но и пороками. Это как двусторонний клинок, которым ты собираешься поразить врага и который поражает тебя… – Там, где есть колдовство, этого следует ожидать. Ведь это ты, мой друг, настоял, чтобы я прибегнул к нему. – Да, – сказал Дивим Твар себе под нос; он шел первым по тропинке, ведущей вверх по скале, туда, где стояли их лошади. – Да, я не забыл этого, мой король. Элрик слабо улыбнулся и прикоснулся к руке Дивима Твара. – Не переживай. Призывание завершилось, и теперь у нас есть судно, которое быстро доставит нас к принцу Йиркуну в земли Оин и Ю. – Будем надеяться. – Дивим Твар в душе сомневался, даст ли им какие-нибудь преимущества Корабль, что плавает по суше и по морю. Они добрались до лошадей, и он принялся стряхивать воду с боков своего чалого коня. – Я сожалею, что мы еще раз впустую растратили силы драконов. С отрядом этих созданий мы бы вмиг расправились с принцем Йиркуном. Вот было бы здорово еще раз вместе, бок о бок подняться в воздух, как мы делали это прежде. – Мы займемся этим, когда покончим с Йиркуном и привезем домой Симорил, – сказал Элрик, устало забрасывая свое тело в седло на белом жеребце. – Ты протрубишь в драконий рог, наши братья драконы услышат зов, а потом мы с тобой споем «Песню драконьих владык». Мы оседлаем Огнеклыка и Мягколапа, и наши стрекала засверкают огнем. Это будет похоже на прежние времена Мелнибонэ, но мы не станем говорить, что свобода и власть – это одно и то же, а позволим Молодым королевствам жить так, как они хотят, и будем уверены, что и они не станут вмешиваться в нашу жизнь. Дивим Твар натянул поводья. Его одолевали мрачные мысли. – Будем молиться, мой господин, чтобы этот день настал. Но я не могу прогнать навязчивую мысль: мне кажется, что дни Имррира сочтены и моя собственная жизнь близится к закату… – Чепуха, Дивим Твар. Ты переживешь меня. В этом нет никаких сомнений, хотя ты и старше меня. Они поскакали сквозь сгущающиеся сумерки. Дивим Твар сказал: – У меня двое сыновей. Ты знаешь об этом, Элрик? – Ты никогда не говорил о них. – Их родили мне прежние мои любовницы. – Я рад за тебя. – Они превосходные мелнибонийцы. – К чему ты говоришь об этом, Дивим Твар? – Элрик заглянул в лицо своего друга, пытаясь прочесть его выражение. – К тому, что я люблю их и хочу, чтобы они наслаждались жизнью на острове Драконов. – Почему бы и нет? – Не знаю. – Дивим Твар в упор посмотрел на Элрика. – Я хочу сказать, что судьба моих сыновей в твоих руках, Элрик. – В моих? – Из того, что я услышал от элементаля воды, я понял, что от твоего решения зависит судьба острова Драконов. Я Прошу тебя помнить о моих сыновьях, Элрик. – Я буду помнить о них, Дивим Твар. Я уверен, из них получатся прекрасные владыки драконов, а один из них унаследует твою должность повелителя Драконьих пещер. – Кажется, ты не понял меня, мой господин император. Элрик посмотрел на своего друга и покачал головой. – Я понял тебя, мой старый друг. Но я думаю, ты Слишком сурово судишь меня, если считаешь, что я могу сделать что-либо во вред Мелнибонэ и всему, что оно собой представляет. – Тогда прости меня. – Дивим Твар опустил голову. Но выражение его глаз не изменилось.
Добравшись до дома, они переоделись, выпили горячего вина и поели приправленной пряностями пищи. Элрик, невзирая на всю свою усталость, испытывал душевный подъем, какого не знал уже много месяцев. Но за этим внешним его настроением, которое побуждало его говорить весело и двигаться энергично, крылось что-то еще. Дивим Твар полагал, что перспективы их явно улучшились и скоро они вступят в борьбу с Йиркуном. Но впереди их подстерегали неведомые опасности и, вполне вероятно, огромные трудности. Однако он из чувства дружбы к Элрику не хотел портить ему настроение. Напротив, он был рад тому, что Элрик, казалось, пришел в хорошее расположение духа. Они принялись обсуждать, что нужно им взять с собой в путешествие к таинственным землям Ю и Оина, высказывали предположения о вместимости Корабля, который может плыть по суше и по воде, – сколько воинов смогут они взять на борт, сколько провизии. Отправляясь в свою спальню, Элрик уже не волочил устало ноги, как это было свойственно ему в последнее время, и Дивим Твар, пожелав ему спокойной ночи, еще раз испытал то же, что поразило его на берегу, когда Элрик начинал свою руну. Возможно, он не случайно вспомнил сегодня своих сыновей в разговоре с Элриком, вызвавшим у него чуть ли не отеческое чувство – чувство, словно Элрик был мальчиком, с нетерпением предвкушавшим какое-то удовольствие, которое, возможно, вовсе и не принесет ему ожидаемой радости. Дивим Твар постарался прогнать эти мысли и тоже отправился спать. Элрик сам виноват в деле с Йиркуном и Симорил, но Дивим Твар спрашивал себя, не лежит ли и на нем часть вины в случившемся. Возможно, ему нужно было быть настойчивее со своим советом, убедительнее, пытаться больше влиять на молодого императора. Но потом он совсем по-мелнибонийски прогнал эти сомнения и вопросы как совершенно бессмысленные. Было только одно правило: ищи удовольствия, где только можешь. Но неужели мелнибонийцы всегда следовали этому правилу? Внезапно Дивиму Твару пришла в голову мысль: а что, если у Элрика не больная, а регрессивная кровь? Может быть, Элрик – реинкарнация одного из своих далеких предков? Всегда ли мелнибонийцам было свойственно думать только о себе и своих собственных наслаждениях? И опять Дивим Твар прогнал от себя это предположение. Какой прок от всех этих размышлений? Мир – это мир. Мелнибониец – это мелнибониец. Прежде чем лечь, он зашел к обеим своим возлюбленным, разбудил их и потребовал, чтобы они показали ему его сыновей – Дивима Слорма и Дивима Мава. И когда привели его сыновей, с заспанными глазами, недоумевающих, он долго смотрел на них, прежде чем отослать назад. Он им ничего не сказал, но часто морщил лоб, тер лицо и тряс головой, а когда их увели, сказал Ниопал и Сарамал, своим возлюбленным, которые недоумевали не меньше его отпрысков: – Отведите их завтра в Драконьи пещеры, пусть начинают учиться. – Так рано, Дивим Твар? – спросила Ниопал. – Да, боюсь, что времени осталось мало. Он не стал распространяться на этот счет, потому что не мог. Просто такое было у него предчувствие. Но это чувство быстро превращалось в наваждение.
Утром Дивим Твар вернулся в башню Элрика и нашел императора в галерее над городом; Элрик мерил ее шагами и нетерпеливо спрашивал, не появился ли у берега какой-нибудь корабль. Слуги убедительно отвечали, что если бы император мог описать этот корабль, то они бы знали, что именно им высматривать. Но Элрик не мог назвать ни одной приметы – лишь то, что корабль может появиться и не на море вовсе, а на суше. На нем было его военное облачение, и Дивим Твар сразу же понял, что Элрик значительно увеличил порции снадобья, которое укрепляло его кровь. Малиновые глаза сверкали, речь была быстрой, а когда Элрик делал даже самый малый жест, молочно-белые руки двигались с неестественной скоростью. – Ты сегодня здоров, мой господин? – спросил повелитель Драконьих пещер. – Я прекрасно себя чувствую, благодарю, Дивим Твар, – усмехнулся Элрик. – Хотя я бы чувствовал себя лучше, если бы здесь появился Корабль, что плавает по суше и по морю. – Он подошел к перилам и оперся на них. Взгляд его скользнул Сначала по водной глади, а потом по суше – в пространство далеко за башнями и городскими стенами. – Где же он может быть? Жаль, что король Страаша не пожелал уточнить. – Я согласен с тобой. – Дивим Твар, не успев позавтракать дома, угощался разнообразными яствами, стоявшими на столе. Было очевидно, что Элрик не прикоснулся к еде. Дивим Твар спросил у себя, не подействовали ли такие большие количества снадобья на мозг его старого друга. Не исключено, что Элриком начало овладевать безумие, вызванное его связью с мощными колдовскими силами, его тревогой за Симорил, его ненавистью к Йиркуну. – Не лучше ли тебе отдохнуть и подождать, пока не появится корабль? – тихо предложил Дивим Твар, вытирая губы. – Да, в этом есть смысл, – согласился Элрик. – Но я не могу. Меня словно толкают какие-то силы, я спешу встретиться с Йиркуном, отомстить ему, снова соединиться с Симорил. – Я тебя понимаю. И тем не менее… Смех Элрика прозвучал громко и резко. – Ты печешься о моем здоровье прямо как Скрюченный. Две няньки мне не нужны, повелитель Драконьих пещер. Дивим Твар через силу улыбнулся. – Ты прав. Что ж, я просто боюсь, что волшебный Корабль… Что это там? – Он ткнул пальцем в направлении дальнего леса. – Там какое-то движение. Словно гуляет ветер. Но никакого ветра сегодня нет. Элрик проследил за направлением его взгляда. – Ты прав. Интересно… И тут они увидели, как что-то появилось из леса, словно бы рассекая землю. Это что-то сверкало белым, синим и Черным. Оно приближалось. – Парус, – сказал Дивим Твар. – Кажется, это твой Корабль, мой повелитель. – Да, – прошептал Элрик, подавшись вперед. – Мой Корабль. Готовься, Дивим Твар. После полудня мы покинем Имррир.
Глава шестая Король Гроум
Корабль был высок, строен и красив. Его перила, мачты, фальшборты украшала тонкая резьба, которая явно была не по плечу смертному резчику. Хотя дерево, послужившее материалом для изготовления корабля, покрашено не было, оно отливало естественной синевой, чернотой и зеленью, а также сочным дымчато-красным цветом. Корабельная оснастка цветом напоминала морские водоросли, а в досках полированной палубы виднелись прожилки, похожие на корни деревьев. Паруса на трех конусных мачтах были плотные, легкие и белые, как облака в погожий летний день. Корабль являл собою все, что было в природе приятного для глаза, немногие могли бы, глядя на него, не испытывать удовольствия, какое испытываешь, сталкиваясь с совершенством. Иными словами, корабль излучал гармонию – Элрик и представить себе не мог лучшего корабля, на котором можно было бы выступить против принца Йиркуна и опасностей далеких земель Оин и Ю. Корабль плавно двигался по суше, как по поверхности воды, и земля расходилась под ним кильватерными струями, словно бы мгновенно превращаясь в воду. Это превращение происходило со всем, чего касался киль и что было вокруг, но по мере движения корабля земля возвращалась в свое прежнее твердое состояние. Вот почему деревья в лесу расступались, пропуская корабль, направляющийся в Имррир. Корабль, что плавает по суше и по морю, был невелик. Он был гораздо меньше любого мелнибонийского боевого барка и лишь немногим больше галер, на которых приходили южане. Но по изяществу, по изгибам, по горделивой осанке ничто не могло с ним сравниться. Трап уже был спущен, и корабль готов к походу. Элрик, уперев руки в бока, разглядывал дар короля Страаши. От ворот городских стен рабы несли провизию и оружие, поднимали их по трапу. А Дивим Твар тем временем собирал имррирских воинов, назначал им звания и задания на этот поход. Воинов было немного. Только половина из имевшихся сил могла отправиться в плавание, а другая половина должна была остаться под командой Магума Колима для защиты города. После того как слух о каре, постигшей пиратов, разошелся по варварским землям, вряд ли кто решится предпринять сколь-нибудь крупную атаку на Имррир, но меры предосторожности принять было необходимо, в особенности еще и потому, что принц Йиркун поклялся захватить Имррир. А еще по какой-то странной причине, которую не смог разгадать ни один зевака, Дивим Твар созвал добровольцев-ветеранов, получивших ранения в прежних битвах, и составил из них – не годных для дальнего похода, как полагали зеваки, – специальный отряд. Но поскольку пользы от них при защите города не было никакой, то они с таким же успехом могли отправиться в поход с Элриком. Этих ветеранов первыми и провели на борт. Последним поднялся по трапу Элрик. Он шел медленно, тяжело – величавый воин в черных доспехах. Взойдя на палубу, он повернулся, отсалютовал городу и приказал поднять трап. Дивим Твар ждал его на полуюте. Повелитель Драконьих пещер, сняв кольчужную рукавицу, провел голой рукой по странно окрашенному дереву перил. – Этот корабль строился не для сражений, Элрик, – сказал он. – Мне бы не хотелось увидеть, как он будет поврежден в бою. – Как он может быть поврежден? – беззаботно спросил Элрик. Имррирцы тем временем вскарабкались на мачты и начали ставить паруса. – Неужели ты думаешь, что Страаша допустит это? Или Гроум? Не тревожься, Дивим Твар, за Корабль, что плавает по суше и по морю. Тревожься только за нас самих и за успех нашей экспедиции. А теперь давай-ка посмотрим на карты. Помнишь, Страаша предупреждал нас о своем брате Гроуме? Я предлагаю двигаться по морю, где только возможно, и зайти вот сюда, – он показал на карте порт на западном побережье Лормира, – выверить дальнейшее направление и узнать, что можно, о землях Оин и Ю и том, как они защищены. – Немногие отваживались заходить дальше Лормира. Говорят, что Край Мира лежит на южных границах этой страны. – Дивим Твар нахмурился. – Как ты думаешь, не может весь этот поход оказаться ловушкой? Ловушкой Ариоха? Что, если он в сговоре с принцем Йиркуном, а нас обманом заманили в этот поход, который закончится нашей гибелью? – Я думал об этом, – сказал Элрик. – Но выхода у нас нет. Мы должны довериться Ариоху. – Пожалуй что так, – иронически улыбнулся Дивим Твар. – Я сейчас подумал вот еще о чем. Как тронется с места этот Корабль? Я не видел у него якорей, а о приливных течениях на суше мне ничего не известно. Ты видишь, как ветер наполняет паруса? А что дальше? Паруса и в самом деле наполнились ветром, мачты слегка поскрипывали от напряжения. Элрик пожал плечами и вытянул руки. – Я думаю, мы просто должны дать кораблю команду, – предположил он. – Корабль, мы готовы к походу. Элрик не без удовольствия смотрел на Дивима Твара – у того на лице появилось недоуменное выражение, когда Корабль, накренившись, начал двигаться. Он шел ровно, как по спокойному морю, и Дивим Твар инстинктивно ухватился за перила и закричал: – Мы сейчас врежемся в городскую стену! Элрик быстро подошел к большому рычагу в центре полуюта – это рычаг был горизонтально прикреплен к храповику, который, в свою очередь, был связан с валом. Это явно был механизм управления кормилом. Элрик ухватился за рычаг, как хватаются за весло, и повернул его на одну или две зарубки. Корабль тут же отреагировал – он изменил направление, но курс его все равно лежал на стену. Элрик дернул рычаг в другую сторону, и корабль наклонился, словно протестуя, развернулся в другую сторону и поплыл через остров. Элрик удовлетворенно засмеялся. – Ну, Дивим Твар, видишь, как это просто. Нужно было только немного подумать! – И тем не менее, – неуверенно сказал Дивим Твар, – я бы предпочел путешествовать на драконах. Они-то хоть звери, и их можно понять. А тут колдовство – оно меня беспокоит. – Такие слова не подобают благородному мелнибонийцу! – прокричал Элрик, перекрывая шум ветра, скрип корабельной оснастки, хлопанье огромных белых парусов. – А может, и нет, – сказал Дивим Твар. – Может, это объясняет, почему я стою здесь рядом с тобой, мой господин. Элрик бросил на своего друга недоуменный взгляд, а потом спустился вниз – найти рулевого, которого можно было бы поставить у штурвала корабля. Корабль резво двигался по скалистым хребтам, поднимался по поросшим утесником склонам, он срезал путь, двигаясь по лесу, а потом величественно плыл по травянистым полям. Корабль двигался, как низко парящий ястреб, который держится над самой землей, но перемещается в поисках добычи с невероятной скоростью и точностью, выправляя курс едва заметным движением крыла. Воины Имррира собрались на палубе. Разинув рты, они отмечали продвижение корабля по суше, и многих пришлось загонять на места у парусов и на другие посты. Казалось, единственный из команды, кто не удивлялся этому чуду, был огромный воин, которого назначили боцманом. Он вел себя так, как если бы находился на борту своего боевого барка – невозмутимо исполнял свои обязанности, требуя, чтобы все делалось, как полагается – по-моряцки. А вот рулевой, которого выбрал Элрик, напротив, пребывал в легкой панике, с недоверием относясь к кораблю, которым управлял. По его виду было понятно, что он чувствует: корабль в любую минуту может удариться о скалу или запутаться в зарослях сосен. Он все время облизывал губы и, невзирая на свежий ветер, отирал пот со лба, а дыхание его вырывалось изо рта клубами пара. И тем не менее он был хорошим рулевым и постепенно приспособился к управлению кораблем, хотя его движения и оставались в силу необходимости более быстрыми, чем на обычном корабле, потому что времени на размышления у него не было и решения нужно было принимать немедленно – корабль двигался по суше со скоростью, от которой захватывало дыхание. Они перемещались быстрее скачущего коня, даже быстрее любимых драконов Дивима Твара. И в то же время эта скорость наполняла их сердца восторгом, о чем свидетельствовало выражение на лицах имррирцев. Довольный смех Элрика разносился по кораблю, заражая весельем всех членов команды. – Ну, если сейчас Гроум пытается замедлить наше движение, то я даже представить себе не могу, с какой скоростью мы будем двигаться по воде, – сказал он Дивиму Твару. Настроение Дивима Твара немного изменилось к лучшему. Его длинные волосы струились по ветру, обрамляя улыбающееся лицо, обращенное к его другу. – Да, пожалуй, нас снесет с палубы, и мы все упадем в море. И вдруг, словно отвечая на их слова, корабль начал дергаться и одновременно раскачиваться из стороны в сторону – он как будто попал в мощные поперечные потоки. Рулевой побледнел и вцепился в рычаг, пытаясь снова подчинить его себе. Раздался короткий ужасающий вопль, и один из моряков свалился с самой высокой реи на палубу, в мгновение ока превратившись в мешок с костями. Потом корабль дернулся еще раз-другой, и помехи остались позади – они продолжили плавное движение. Элрик посмотрел на тело упавшего моряка. Внезапно все его веселье как рукой сняло, и он ухватился за перила руками в черных кольчужных рукавицах. Его крепкие зубы заскрипели, яростно засверкали малиновые глаза, а губы скривились в иронической усмешке: «Какой же я глупец! Какой же я глупец – искушаю богов!» Хотя теперь корабль двигался почти также ровно, как прежде, что-то, казалось, мешало ему, словно слуги Гроума цеплялись за днище, как раки могут цепляться за днище в море. И Элрик ощутил что-то в воздухе, что-то в шуршании деревьев, мимо которых они неслись, что-то в колебаниях травы, кустов и цветов, по которым они двигались, что-то в громаде скал, в крутизне горных склонов. Он понял: это присутствие Гроума Земного – Гроума Земли под корнями, Гроума, который хотел единолично владеть тем, чем когда-то они владели вместе с братом Страашей, тем, что когда-то они соорудили в знак своего союза и из-за чего поссорились. Гроум желал вернуть себе Корабль, что может плавать по суше и по морю. И Элрик, глядя на черную землю, почувствовал, как ужас охватывает его.Глава седьмая Чего пожелал бог земли
Наконец, хотя земля и цеплялась за их киль, они добрались до моря, соскользнули в воду и понеслись, с каждым мгновением набирая скорость. Вскоре Мелнибонэ скрылось из виду, и они увидели густые облака пара, которые всегда висели над Кипящим морем. Элрик решил, что, пусть у них и волшебное судно, рисковать, заходя в эти воды, не стоит, и потому корабль повернули и направили к берегу Лормира, самого спокойного и миролюбивого из Молодых королевств, – точнее, к порту Рамасаз на западном побережье Лормира. Если бы варвары-южане, с которыми мелнибонийцы недавно сражались, были из Лормира, то Элрик направил бы корабль в какой-нибудь другой порт, но те варвары явно пришли с юго-востока – с дальней оконечности континента за Пикарайдом. Лормирцы, которыми правил толстый и осторожный король Фадан, вряд ли присоединились бы к налету, не будь гарантирован полный его успех. Медленно войдя в порт Рамасаза, Элрик отдал приказ причалить корабль, как обычное судно. Однако корабль привлек внимание своей красотой, к тому же обитатели города были удивлены, увидев на борту мелнибонийцев. Хотя мелнибонийцев в Молодых королевствах не любили, но в то же время их и побаивались. Вот почему, по крайней мере внешне, Элрик и его люди были встречены с подобающим уважением, а на постоялых дворах, куда они заходили, им подавали неплохую еду и вино. В самой большой из прибрежных гостиниц, называвшейся «Плыви в мир и возвращайся домой», Элрик познакомился с говорливым хозяином, который прежде был удачливым рыбаком и хорошо знал южные земли. Он, конечно же, знал Оин и Ю, но не питал к ним ни малейшего уважения. – Ты полагаешь, что они готовятся к войне, мой Господин? – Он поднял брови, глядя на Элрика, и тут же его лицо исчезло за кубком с вином. Отерев губы, он потряс рыжей головой. – Значит, они собираются воевать с воробьями. Оин и Ю – это даже и не настоящие страны. У них на двоих есть всего один полуприличный город – Дхоз-Кам. Половина на одном берегу реки Ар, половина – на другом. А в остальной части Оина и Ю обитают только земледельцы – невежественные и суеверные, они прозябают в нищете. Из них никакие воины никогда не получатся. – А ты ничего не слышал о предателе-мелнибонийце, который завоевал Оин и Ю и стал готовить из этих землепашцев воинов? – Дивим Твар наклонился к стойке рядом с Элриком. Он привередливо сделал глоток из толстостенного кубка вина. – Его зовут принц Йиркун. – Так это его вы ищете? – заинтересовался хозяин гостиницы. – Владыки драконов поссорились? – Это наше дело, – высокомерно ответил Элрик. – Никто не спорит, мои господа. – А тебе что-нибудь известно о зеркале, которое похищает воспоминания? – спросил Дивим Твар. – Волшебное Зеркало! – Хозяин гостиницы откинул назад голову и от всего сердца рассмеялся. – Да я думаю, что во всех землях Оин и Ю нет ни одного порядочного зеркала! Нет, мои господа, я думаю, вы ошибаетесь, если ждете нападения из тех краев! – Ты несомненно прав, – сказал Элрик, глядя в свой кубок с вином, к которому он так и не прикоснулся. – Но нам бы хотелось самим убедиться. К тому же это в интересах Лормира, если мы найдем то, что ищем, и соответственно предупредим вас. – За Лормир можете не опасаться. Мы быстро подавим любую глупую попытку развязать войну из тех краев. Но если вы хотите убедиться сами, то плывите вдоль берега три дня, пока не увидите большую бухту. В эту бухту впадает река Ар, а на берегах Ара стоит Дхоз-Кам – дрянной городишко, в особенности для столицы двух народов. Его обитатели погрязли в воровстве, грязи и болезнях, но, к счастью, они ужасно ленивы, а потому неприятностей от них ждать не приходится, в особенности если держишь свой меч наготове. Проведя в Дхоз-Каме всего один час, вы поймете, что этот народ никому не может угрожать, если только они не подойдут к вам настолько близко, что вы подхватите какую-нибудь смертельную заразу! – И хозяин гостиницы снова рассмеялся собственному остроумию. Когда смех перестал его сотрясать, он добавил: – А может быть, вы опасаетесь их флота? Он состоит из дюжины ужасно грязных рыбацких лодок, причем Большинство изних не годится для выхода в море, а потому они отваживаются ловить рыбку только на мелководье. Элрик оттолкнул от себя кубок с вином. – Мы благодарим тебя, хозяин. – Он положил на прилавок мелнибонийскую серебряную монету. – У меня вряд ли найдется сдача, – сказал хитроватый хозяин гостиницы. – Оставь ее себе целиком, – сказал ему Элрик. – Благодарю вас, господа. Вы не останетесь на ночь в моем заведении? Я могу вам предложить наилучшие в Рамасазе постели. – Пожалуй, нет, – ответил Элрик. – Мы проведем ночь на борту нашего корабля, чтобы тронуться в путь с рассветом. Хозяин проводил мелнибонийцев взглядом. Он инстинктивно попробовал серебряную монету на зуб – вкус ему показался странным, и он, вытащив монету изо рта, принялся ее разглядывать, переворачивать то одной, то другой стороной. Уж не ядовито ли мелнибонийское серебро для простых смертных? Лучше, пожалуй, не рисковать, решил он. Хозяин сунул монетку в свой кошелек и взял два кубка, оставшиеся после мелнибонийцев. Хотя он и не любил лишних трат, но решил, что лучше будет выкинуть эти сосуды – вдруг на них осталась какая-нибудь зараза.Корабль, что плавает по суше и по морю, достиг нужной бухты к полудню следующего дня и остановился недалеко от берега, скрытый от города коротким полуостровом, поросшим густой, почти тропической растительностью. Элрик и Дивим Твар по мелководью вброд добрались до берега и вошли в лес. Они решили, что осторожность не помешает и лучше им не обнаруживать себя, пока они не убедятся, что презрительные слова хозяина гостиницы о Дхоз-Каме отвечают действительности. У оконечности полуострова находилась довольно высокая гора, на которой возвышались несколько рослых деревьев. Элрик и Дивим Твар мечами расчистили себе путь через подлесок к вершине. Оказавшись наверху под деревьями, они выбрали наиболее подходящие, чтобы вскарабкаться на них. Ствол одного дерева вначале шел прямо, а затем изгибался. Элрик вложил в ножны меч, обхватил ствол руками и подтянулся – еще и еще раз. Так он добрался до веток, которые могли выдержать его вес. Дивим Твар вскарабкался на другое дерево, росшее рядом. Наконец им открылся вид на бухту и на город Дхоз-Кам, который и в самом деле отвечал описанию хозяина гостиницы. Городок был с низенькими домишками, мрачный и явно бедный. Несомненно, именно поэтому Йиркун и выбрал его – страны Оин и Ю легко было покорить Даже горсткой хорошо подготовленных имррирцев с помощью нескольких колдовских союзников Йиркуна. И верно, немногие захотели бы завоевывать эти земли, поскольку богатств здесь явно никаких не было, а их географическое положение не играло никакой стратегической роли. Лучшего места для укрытия Йиркуну было не найти. Но вот что касается флота Дхоз-Кама, то тут хозяин гостиницы ошибался. Даже отсюда Элрик и Дивим Твар смогли насчитать не менее тридцати довольно мощных боевых кораблей в гавани, а в реке на якорях стояли, кажется, и другие. Но мелнибонийцев интересовали не столько корабли, сколько нечто сиявшее и сверкавшее над городом. Оно было водружено на огромные столбы, на столбах покоился вал, а на валу было смонтировано огромное круглое зеркало в раме. Сооружение явно не было творением рук смертного, как и корабль, который доставил сюда мелнибонийцев. Не было сомнений – перед ними находилось Зеркало Памяти, и любой, попадавший в гавань, покидая ее, мгновенно лишался воспоминаний о том, что он здесь видел. – Мне кажется, мой повелитель, – сказал Дивим Твар со своего места в нескольких ярдах от Элрика, – что нам не стоит плыть прямо в гавань Дхоз-Кама. Если мы там окажемся, нам будет грозить опасность. Я думаю, сейчас мы можем без всякого вреда для себя смотреть на это Зеркало, потому что оно не направлено на нас. Но обрати внимание – там есть механизмы, которые могут поворачивать его в любом направлении, кроме одного. Его невозможно повернуть вглубь страны, в земли за городом. И в этом нет необходимости, потому что никто, кроме местных жителей, не придет оттуда, никто не попадет в Оин и Ю через пустыню, лежащую за этими землями. – Кажется, я понял твою мысль, Дивим Твар. Ты предлагаешь воспользоваться особыми свойствами нашего корабля и… – И попасть в Дхоз-Кам по суше. Мы нападем неожиданно и в полной мере используем наших ветеранов. Мы будем двигаться быстро, не вступая в бой с новыми союзниками принца Йиркуна, а направляя все силы на поиски самого принца и всех остальных предателей. Как ты думаешь, Элрик, сможем мы ворваться в город, захватить Йиркуна, спасти Симорил, а потом убраться тем же манером? – Поскольку людей для лобовой атаки у нас слишком мало, то нам не остается ничего другого, хотя это и очень опасно. Мы потеряем преимущество неожиданности после того, как атакуем, и если первая попытка окажется неудачной, повторить ее будет гораздо труднее. Альтернатива – потихоньку пробраться в город в надежде найти Йиркуна и Симорил, не ввязываясь в бой, но, поскольку в этом случае мы лишаем себя нашего главного оружия – корабля, я думаю, что нужно действовать по твоему плану. Развернем корабль на сушу и будем надеяться, что на сей раз Гроум найдет нас не сразу – я все еще беспокоюсь, не попытается ли он вернуть корабль в свое владение. И альбинос принялся спускаться. Оказавшись снова на полуюте прекрасного корабля, Элрик отдал команду рулевому повернуть в глубь континента. Корабль под половиной парусов легко двинулся по воде, а потом, преодолев крутой берег, пошел по земле, деревья и цветущие кустарники расступались перед ним. Вскоре они оказались среди буйной зелени джунглей. Испуганные птицы с криками взмывали в воздух, мелкие зверьки застывали в изумлении, взирая с деревьев на корабль, который плавает по суше и по воде. Некоторые из них теряли равновесие и чуть ли не падали, завидев великолепный корабль, спокойно передвигающийся по лесу, лишь иногда огибая самые могучие из деревьев. Так они пробрались в глубь страны под названием Оин, лежавшей к северу от реки Ар, по которой проходила граница между Оином и страной, называемой Ю, с общей для обеих столицей. Страна Оин представляла собой по большей части джунгли и скудные поля, на которых вели свое хозяйство землепашцы, боявшиеся заходить в чащи, хотя именно там они и могли найти богатство. Корабль резво шел по джунглям и полям, и вскоре они увидели впереди сверкание большой реки. Дивим Твар, взглянув на весьма приблизительную карту, которую они раздобыли в Рамасазе, предложил снова повернуть к югу и подойти к Дхоз-Каму, описав большой полукруг. Элрик согласился, и корабль начал закладывать поворот. И в это время земля снова вздыбилась. На этот раз огромные волны поросшей травой земли стали расходиться вокруг корабля, меняя окружающий пейзаж. Бешеная килевая и бортовая качка принялась трепать корабль. Еще двое членов команды свалились с рей и погибли, ударившись о палубу. Боцман хромке выкрикивал команды, хотя вся эта земляная буря и происходила в полной тишине, а тишина делала ситуацию еще более зловещей. Боцман скомандовал своим людям привязаться к реям, а тем, кому нечем привязаться, – немедленно спускаться вниз. Элрик, обмотавшись шарфом вокруг пояса, привязал себя к фальшборту. Дивим Твар в техже целях воспользовался длинным поясным ремнем. Но их все равно швыряло во всех направлениях, они часто падали с ног, когда корабль кренило то туда, то сюда, и Элрику казалось, что все кости в его теле переломаны, что на коже не осталось ни одного живого места. И корабль трещал, протестовал, грозил развалиться под ударами дыбящейся земли. – Это дело рук Гроума? – выдохнул Дивим Твар. – Или это колдовство Йиркуна? Элрик покачал головой. – Нет, это не Йиркун, это Гроум. И я не знаю, как утихомирить его. Гроум хоть и думает меньше всех Королей Стихий, но зато, возможно, самый сильный из них. – Но, делая это, он явно нарушает договор со своим братом. – Нет, не думаю. Король Страаша предупреждал нас об этом. Нам остается только надеяться, что Гроум израсходует всю свою силу, а корабль уцелеет, как он может уцелеть во время шторма на море. – Это похуже любого шторма, Элрик! Элрик согласно кивнул, но ничего не ответил, потому что палуба наклонилась под невероятным углом, и ему пришлось вцепиться в перила, чтобы не свалиться вниз. И тут наступил конец тишине. Они услышал рев и урчание, напоминавшие смех. – Король Гроум! – закричал Элрик. – Король Гроум. Оставь нас! Мы не сделали тебе ничего плохого! Но смех становился еще громче, а весь корабль задрожал, когда земля вокруг него поднялась, а потом обрушилась. Деревья, горы и скалы сначала устремились к кораблю, грозя поглотить его, а потом возвратились на свои места. Гроум явно хотел заполучить свой корабль в целости и сохранности. – Гроум, смертные ни в чем не провинились перед тобой! – снова закричал Элрик. – Оставь нас! Проси нас о любой услуге, но и нам даруй свою услугу в ответ. Элрик выкрикивал все, что приходило ему в голову. Вообще-то он и не надеялся, что бог земли услышит его, да и не рассчитывал, что король Гроум захочет слушать, даже если у него и был слух. Но ничего другого не оставалось. – Гроум! Гроум! Гроум! Послушай меня! В ответ раздавался еще более громкий смех, отчего Элрик дрожал, как в ознобе. И с каждым раскатом смеха земля то дыбилась выше, то опадала ниже, и корабль начал вращаться, делая круг за кругом, пока Элрик полностью не потерял ориентацию. – Король Гроум! Король Гроум! Ты погубишь тех, кто не принес тебе ни малейшего вреда. И тут земля понемногу прекратила дыбиться, корабль замер, а перед ним появилась исполинская коричневая фигура. Цвет этой бородатой фигуры, похожей на огромный корявый дуб, отвечал цвету земли. Волосы у него были цвета листвы, глаза – цвета золотой руды, зубы – цвета гранита, ноги были подобны корням, кожа вместо волосков словно была покрыта зелеными побегами, от него исходил крепкий запах затхлости, и был это Гроум, король Земных Элементалей. Он вдохнул воздух, нахмурился и сердито сказал низким, могучим, сиплым голосом: – Мне нужен мой корабль. – Мы не можем отдать его тебе, король Гроум, – сказал Элрик. Раздражение в голосе Гроума стало еще заметнее. – Мне нужен мой корабль, – медленно произнес он. – Он мне нужен. Он мой. – Какая тебе от него польза, король Гроум? – Польза? Он мой. Гроум топнул ногой, и по земле побежали круги. Элрик в отчаянии сказал: – Это корабль твоего брата, король Гроум. Это корабль короля Страаши. Он отдал тебе часть своего царства, а ты оставил ему этот корабль. Таков был договор. – Я ничего не знаю о договоре. Этот корабль мой. – Ты знаешь, что если ты возьмешь этот корабль, король Страаша заберет у тебя земли, которые он тебе дал. – Мне нужен мой корабль. – Огромная фигура переступила с ноги на ногу, и с нее посыпались комья земли, с отчетливым звуком ударяясь о дерн или о палубу. – Чтобы получить его, ты должен убить нас, – сказал Элрик. – Убить? Гроум не убивает смертных. Он ничего не убивает. Гроум строит. Гроум возвращает к жизни. – Ты уже убил троих из нас, – ответил альбинос. – Три Человека погибли, потому что ты устроил земляную бурю. Огромные брови Гроума сошлись, он поскреб свой огромный лоб, отчего раздалось громкое шуршание. – Гроум не убивает, – повторил он. – Король Гроум, – возразил Элрик, – убил троих. Гроум захрипел в ответ: – Но мне нужен мой корабль. – Корабль дал нам на время твой брат. Мы не можем отдать этот корабль тебе. И кроме того, он нам нужен для одной цели, для одной благородной, на мой взгляд, цели. Мы… – Я не знаю никаких целей. Мне нет дела до всех вас. Мне нужен мой корабль. Мой брат не должен был давать его вам. Я о нем почти забыл. Но теперь, когда вспомнил, я хочу, Чтобы он принадлежал мне. – А ты не примешь чего-нибудь вместо корабля, король Гроум? – неожиданно спросил Дивим Твар. – Какой-нибудь другой дар? Гроум отрицательно покачал своей жуткой головой. – Что мне может дать смертный? Наоборот, смертные Сами все время что-нибудь берут у меня. Они похищают мои кости, мою кровь, мою плоть. Вы мне можете отдать все то, что взяли у меня существа вашей породы? – Неужели нет ничего, что бы тебе было нужно? – сказал Элрик. Гроум закрыл глаза. – Драгоценные металлы, алмазы? – подсказал Дивим Твар. – У нас их много в Мелнибонэ. – У меня у самого их хватает, – сказал король Гроум. Элрик в отчаянии пожал плечами. – Как можем мы торговаться с богом, Дивим Твар? – Он горько улыбнулся. – Чего может желать Владыка Почвы? Больше солнца, больше дождя? Но мы не в силах дать ему это. – Я из грубоватых богов, – сказал Гроум, – если только я и в самом деле бог. Но я не хотел убивать ваших товарищей. Мне пришла в голову одна мысль. Отдайте мне тела погибших. Похороните их в моей земле. Сердце Элрика радостно забилось. – Это все, о чем ты просишь у нас? – Мне кажется, что это немало. – И за это ты позволишь нам двигаться дальше? – Позволю, но только по воде, – проворчал Гроум. – Не вижу причин, почему я должен пропускать вас по моей земле. Вы можете добраться вон до той реки, но с этого момента Корабль будет обладать только теми свойствами, которыми его одарил мой брат Страаша. Его киль больше никогда не коснется моих владений. – Но, король Гроум, нам нужен этот корабль. У нас важное дело. Нам нужно добраться до того города. – Элрик указал в направлении Дхоз-Кама. – Вы можете добратьсядо реки, но после этого корабль сможет плавать только по воде. А теперь дайте мне то, что я прошу. Элрик крикнул боцману, который, казалось, впервые был изумлен происходящим: – Принести тела. Тела вынесли наверх. Гроум протянул одну из своих огромных землистых рук и подобрал мертвецов. – Я благодарю вас, – прорычал он. – Прощайте. И Гроум начал медленно погружаться в землю, его огромное тело постепенно, атом за атомом уходило вниз и наконец было целиком поглощено землей. И тогда корабль снова тронулся, медленно направляясь к реке – в последнее свое короткое путешествие по суше. – Значит, наши планы меняются, – сказал Элрик. Дивим Твар с горечью во взгляде смотрел на сверкающую реку. – Да, из этого теперь ничего не получится. Мне не хотелось говорить тебе об этом, Элрик, но боюсь, у нас нет другого выхода – ты должен опять прибегнуть к колдовству, чтобы у нас появился хоть какой-то шанс на успех. Элрик вздохнул. – Боюсь, что так, – сказал он.
Глава восьмая Город и зеркало
Принц Йиркун был доволен. Его план прекрасно сработал. Принц смотрел сквозь высокую ограду, окружавшую плоскую крышу его трехэтажного дома, одного из лучших в Дхоз-Каме. Взгляд Йиркуна был устремлен на гавань, где стоял его великолепный плененный флот. Любой корабль, приходивший в гавань Дхоз-Кама, если он был не под флагом какой-либо сильной державы, легко переходил во владение принца, после того как его команда заглядывала в огромное зеркало, смонтированное на столбах над городом. Эти столбы построили демоны, а принц Йиркун заплатил им за работу душами всех тех жителей Оина и Ю, которые сопротивлялись ему. Оставалось воплотить в жизнь последний его честолюбивый замысел, после чего он со своими новыми сторонниками возьмет курс на Мелнибонэ… Он повернулся к своей сестре. Симорил лежала на деревянной скамье, устремив невидящий взгляд в небеса. Одета она была в обтрепанные остатки платья, которое было на ней в тот день, когда Йиркун похитил ее из башни. – Посмотри на наш флот, Симорил! Золотые барки разбросаны по всему свету, и мы беспрепятственно сможем добраться до Имррира и провозгласить свою власть над ним. Элрик теперь не сможет защититься от нападения. Он так легко попался в мою ловушку. Он глуп. И ты тоже глупа, что влюбилась в него! Симорил ничего не ответила. Все эти месяцы Йиркун примешивал к ее еде и питью специальные снадобья, от которых она погрузилась в апатию, вполне сравнимую с состоянием Элрика, когда тот оставался без своих лекарств. От экспериментов с колдовскими силами Йиркун похудел, словно бы запаршивел, глаза у него запали. Он прекратил заботиться о своей внешности. А у Симорил вид был опустошенный, загнанный, но вся ее красота сохранилась. Словно бы захолустность Дхоз-Кама повлияла на них обоих, но только по-разному. – Не опасайся за свое будущее, моя сестра, – продолжил Йиркун. Он усмехнулся. – Ты все же будешь императрицей и воссядешь рядом с императором на Рубиновом троне. Только императором буду я, а Элрик умрет на вечные времена, вот только я буду более изобретательным, чем он, в том, что касается способа его смерти. Голос Симорил звучал безразлично и как бы издалека. Она даже не повернула головы: – Ты безумен, Йиркун. – Безумен? Брось, сестра, истинные мелнибонийцы так не говорят. Мы никого не судим как безумного или не безумного. Мы – такие, какие есть. Что мы делаем, то и делаем. Ты просто слишком много времени провела в Молодых королевствах и перенимаешь их привычки. Но с этим скоро будет покончено. Мы вернемся на остров Драконов, и ты забудешь это, как если бы сама заглянула в Зеркало Памяти. Он вскинул вверх нервный взгляд, словно надеясь, что сейчас и перед ним появится Зеркало. Симорил закрыла глаза. Дыхание ее было тяжелым и очень медленным. Она сносила этот кошмар стоически, будучи уверена, что Элрик в конце концов спасет ее. Только эта надежда и удерживала ее от самоубийства. Если бы эта надежда исчезла, она немедленно покончила бы с собой, с Йиркуном и со всеми этими ужасами. – Разве я тебе не говорил вчера, что добился успеха? Я вызвал демонов, Симорил. Очень могущественных демонов. Я научился у них всему, чего еще не знал. Я наконец-то открыл врата Теней. Скоро я пройду через них и там найду то, что ищу. Я стану сильнейшим из смертных на земле. Разве я не говорил тебе это? Он говорил об этом несколько раз сегодняшним утром, но Симорил не обратила тогда внимания на его слова – не Больше, чем теперь. Она устала и чувствовала сонливость. Медленно, словно напоминая себе о чем-то, она произнесла: – Я тебя ненавижу, Йиркун. – Но скоро ты меня полюбишь, Симорил. Скоро. – Придет Элрик… – Элрик! Он сидит без толку в своей башне в ожидании новостей, которых никто ему не принесет, кроме меня. – Элрик придет, – сказала она. Йиркун издал рычание. Оинианка с некрасивым лицом принесла ему утреннюю порцию вина. Йиркун схватил сосуд и пригубил вино, но тут же выплюнул его на оинианку. Девушка пригнулась. Йиркун взял кружку и вылил ее содержимое на белый песок, покрывавший крышу. – Вот водянистая кровь Элрика. Точно также я выпушу ее! Но Симорил снова не слушала его. Она пыталась вспомнить своего любовника альбиноса и те немногие счастливые дни, что они провели вместе, начиная с самого их детства. Йиркун швырнул пустую кружку в голову девушки – но та ловко увернулась, повторяя обычный свой ответ на все нападки и оскорбления Йиркуна: – Спасибо, повелитель демонов! Спасибо, повелитель демонов! Йиркун рассмеялся. – Вот именно, повелитель демонов. Твои соплеменники правильно меня называют, потому что в моей власти больше демонов, чем воинов. Мои силы возрастают с каждым днем. Оинианка поспешила прочь – принести еще вина, потому что знала – через мгновение он потребует еще. Йиркун пересек крышу, чтобы сквозь прутья ограды еще раз увидеть доказательство своей силы. Однако, глядя на корабли, он услышал звуки какого-то смятения, доносившиеся с другой стороны. Неужели жители Ю и Оина поссорились между собой? А где их имррирские центурионы? Где капитан Валгарик? Он стрелой метнулся мимо Симорил, которая казалась спящей, и выглянул на улицу с другой стороны крыши. – Пожар? – пробормотал он. – Пожар? Улицы и правда были охвачены огнем. Но огонь был необычный. Казалось, огненные шары скачут по улицам, поджигая соломенные крыши, двери, все, что может гореть, словно вражеская армия предавала огню захваченный город. Йиркун нахмурился, решив было, что он проявил неОсторожность и какие-то его чары обернулись против него же, но потом он перевел взгляд на горящие дома у реки и увидел там необычный корабль – корабль удивительной красоты, который казался скорее творением природы, чем рук смертного. И тогда он понял, что на них совершено нападение. Но кто решил атаковать Дхоз-Кам? Грабить здесь было нечего. Имррирцы? Невозможно… Элрик? Невозможно. – Никакой это не Элрик, – прорычал он. – Зеркало. Нужно повернуть его на нападающих. – И на себя, брат? – Симорил через силу поднялась, опираясь о стол. Она улыбалась. – Ты был слишком самоуверен, Йиркун. Это Элрик. – Элрик?! Чушь! Просто какие-нибудь варвары, что живут в глубине континента. Когда они окажутся в центре города, мы сможем использовать против них Зеркало Памяти. – Он подбежал к двери-люку, ведущей в дом. – Капитан Валгарик! Валгарик, где ты? В комнате внизу появился Валгарик. По его лицу катился пот. Его рука в перчатке сжимала меч, хотя, судя по его виду, он еще не принимал участия в схватке. – Подготовь Зеркало, Валгарик. Поверни его на нападающих. – Но мой господин, мы можем… – Поторопись. Делай, что я говорю. Скоро эти варвары вместе с их кораблем встанут в наши ряды. – Варвары, мой господин? Разве элементали огня подчиняются варварам? Мы сражаемся с духами огня. Их нельзя убить, как нельзя убить и сам огонь. – Огонь можно убить водой, – напомнил принц Йиркун своему подчиненному. – Водой, капитан Валгарик. Ты что, забыл? – Но, принц Йиркун, мы пытались погасить этих духов водой, но вода не выливалась из наших ведер. На стороне нападающих какой-то сильный колдун. И ему помогают духи огня и воды. – Ты спятил, капитан Валгарик, – твердо сказал Йиркун. – Спятил. Приготовь Зеркало, я больше не хочу слушать эти глупости. Валгарик облизнул сухие губы. – Слушаюсь, мой господин. – Он поклонился и пошел исполнять приказание своего хозяина. Йиркун подошел к ограде и посмотрел сквозь нее. Теперь на улицах появились нападающие – им противостояли его собственные воины, однако дым ухудшал видимость и Йиркун не мог разобрать, кто эти пришельцы. – Порадуйтесь пока своей жалкой победе, – усмехнулся Йиркун, – потому что скоро Зеркало отберет ваш разум и вы станете моими рабами. – Это Элрик, – спокойно сказала Симорил. – Элрик пришел отомстить тебе, брат. Йиркун хихикнул. – Ты так думаешь? Ты так думаешь? Ну, если это и так, то он меня не найдет. У меня есть средства избежать встречи с ним, а тебя он найдет в состоянии, которое ему вовсе не понравится. Оно принесет ему сильные мучения. Но это не Элрик. Это какой-то неотесанный шаман из степей, что лежат на востоке отсюда. Скоро он будет в моей власти. Симорил тоже смотрела на улицу сквозь ограды. – Элрик, – сказала она. – Я вижу его шлем. – Что? – Йиркун оттолкнул ее в сторону. Там, на улицах, имррирцы сражались с имррирцами, Теперь сомнений уже не осталось. И воины Йиркуна – Имррирцы, оинианцы, юанцы – отступали. А во главе наступающих был виден черный драконий шлем, какой мог принадлежать только одному мелнибонийцу. Это был шлем Элрика. И это был меч Элрика – когда-то он принадлежал графу Обеку из Маладора. Этот меч поднимался и падал, и в лучах утреннего солнца на его лезвии сверкала кровь. На мгновение Йиркуна охватила паника. Он простонал: «Элрик! Элрик! Элрик! Мы все время недооцениваем друг друга! Что же это за проклятие лежит на нас?» Теперь Симорил гордо держала голову, лицо ее оживилось. – Я же тебе говорила, что он придет, брат! Йиркун вихрем налетел на нее. – Да, он пришел, но Зеркало лишит его разума, и он станет моим рабом. Он будет верить всему, что я втисну в его череп. Это даже еще лучше, чем я планировал. – Он поднял глаза, а потом закрыл их ладонями, поняв, что он сделал. – Быстро… вниз… в дом… Зеркало начинает поворачиваться! – Послышался скрежет шестерен и цепей – жуткое Зеркало поворачивалось в сторону улиц. – Скоро Элрик и его люди пополнят мои войска. Ах, какая же в этом изумительная ирония! – Йиркун торопил сестру и, когда она спустилась по ступеням, закрыл люк, ведущий наверх. – Сам Элрик будет участвовать в нападении на Имррир. Он будет сражаться с соплеменниками. Он сам себя свергнет с Рубинового трона. – Ты что же, думаешь, Элрик не предвидел угрозы Зеркала Памяти? – не без издевки спросила Симорил. – Предвидел – да, но сопротивляться ему он не в силах. Чтобы сражаться, он должен видеть. Он должен либо дать себя рассечь пополам, либо смотреть во все глаза. Никто, имеющий глаза, не избежит воздействия Зеркала. – Он оглядел скудно обставленную комнату. – Где Валгарик? Где этот трус? В комнату вбежал Валгарик. – Зеркало поворачивают, мой господин. Но оно повлияет и на наших воинов. Я боюсь… – Тогда прекрати бояться. Что с того, что наши попадут под его чары? Мы сможем вложить в их разум то, что им нужно знать. То же самое мы проделаем с нашими поверженными врагами. Что-то ты слишком уж беспокоишься, капитан Валгарик. – Но их ведет Элрик… – А у Элрика такие же глаза, как у всех, хотя они и похожи на алые камни. Он получит то же, что и его воины. На улицах вокруг дома принца Йиркуна Элрик, Дивим Твар и их воины теснили деморализованного противника. Нападающие не потеряли почти никого, тогда как многие оинианцы и юанцы лежали мертвыми на улицах рядом со своими поверженными имррирскими командирами. Элементали огня, которых не без труда призвал себе на помощь Элрик, начали понемногу рассеиваться, потому что им дорого стоило длительное пребывание в том мире, куда их вызвал Элрик. Однако необходимое преимущество было уже завоевано, и вопрос о том, кто выйдет из схватки победителем, был решен: в городе горели сотни домов, поджигая собой другие, и без вмешательства защитников пожар грозил уничтожить весь этот жалкий городишко. Корабли в гавани тоже горели. Дивим Твар первым заметил, что Зеркало начало поворачиваться в сторону улиц. Он поднял палец, потом повернулся, затрубил в своей рог и приказал пустить вперед воинов, которые до сих пор участия в схватке не принимали. – Теперь вы должны вести нас! – крикнул он, опуская шлем на лицо. Глазницы шлема были заделаны, и свет через них не проникал. Элрик тоже медленно опустил свой шлем. Теперь он Ничего не видел – но звук сражения не стихал: ветераны, приплывшие из Мелнибонэ, заняли место воинов, отступивших теперь назад. Глазницы шлемов вышедших вперед имррирцев заделаны не были. Элрик молился, чтобы их план удался.Йиркун, осторожно выглядывая через дыру в плотном занавесе, недовольно сказал: – Валгарик! Они продолжают драться. Почему? Разве Зеркало не повернуто? – Должно быть повернуто, мой господин. – Тогда посмотри сам – имррирцы продолжают прорываться сквозь ряды наших защитников, а наши воины подпадают под влияние Зеркала. Что случилось, Валгарик? Что произошло? Валгарик втянул воздух через сжатые зубы – он восхищенно смотрел, как дерутся имррирцы. – Они слепы, – сказал он. – Они дерутся по слуху, осязанию и обонянию. Они слепы, мой император, и они ведут Элрика и его воинов, которые ничего не видят через свои шлемы. – Слепы? – В голосе Йиркуна слышалось недоумение, он отказывался понять происходящее. – Слепы? – Да. Слепые воины, потерявшие зрение в прошлых сражениях, но оставшиеся хорошими бойцами. Вот как Элрик обманул наше Зеркало, мой господин. – Нет! Нет! – Йиркун сильно ударил капитана по спине, и тот отпрянул в сторону. – Элрик не мог этого придумать. Он не наделен хитростью. Эти мысли внушают ему какие-то коварные демоны. – Возможно, мой господин. Но разве есть демоны сильнее тех, что помогают тебе? – Нет, – сказал Йиркун. – Таких нет. Ах, если бы я мог вызвать их теперь! Но я израсходовал все силы, открывая врата Теней. Я должен был предвидеть это… Я не мог это предвидеть… Ах, Элрик, я все равно уничтожу тебя, когда рунные мечи станут моими! – Тут Йиркун нахмурился. – Но как он сумел подготовиться? Какой демон?.. Если только он не вызвал самого Ариоха. Но у него нет сил вызвать Ариоха. Я сам не мог его вызвать… И тут – словно в ответ – Йиркун услышал боевую песню Элрика, раздавшуюся с ближайшей улицы. И эта песня ответила на его вопрос. – Ариох, Ариох! Кровь и души для моего повелителя Ариоха! – Тогда я должен заполучить рунные мечи. Я должен пройти через врата Теней. Там у меня будут союзники – сверхъестественные силы, которые легко разберутся с Элриком, если в этом возникнет необходимость… Но мне нужно время… – бормотал себе под нос Йиркун, меряя шагами комнату. Валгарик продолжал наблюдать за сражением. – Они приближаются, – сказал капитан. Симорил улыбнулась. – Приближаются, Йиркун? Так кто же глуп теперь? Элрик или все же ты? – Замолчи! Я думаю. Я думаю… – Йиркун мял пальцами губы. Вдруг его глаза загорелись, и он коварным взглядом смерил Симорил, а потом повернулся к капитану Валгарику. – Валгарик, ты должен уничтожить Зеркало Памяти. – Уничтожить? Но это же наше единственное оружие, мой господин. – Именно… но теперь от него никакой пользы. – Никакой. – Уничтожь его, и оно снова послужит нам. – Йиркун указал своим длинным пальцем в направлении двери. – Иди и уничтожь Зеркало. – Но принц Йиркун… император… я хочу сказать, разве мы не лишимся нашего единственного оружия? – Делай, что тебе говорят, Валгарик! Или погибни! – Но как я его уничтожу, мой господин? – Своим мечом. Ты должен забраться по столбу сзади Зеркала. А потом, не глядя в него, ударь по нему мечом и разбей. Оно легко разобьется. Ты ведь знаешь о тех мерах предосторожности, что я был вынужден всегда предпринимать, Чтобы случайно его не разбить. – И это все, что я должен сделать? – Да. А после этого ты свободен… Можешь бежать или делать, что тебе заблагорассудится. – И мы не пойдем в поход на Мелнибонэ? – Конечно нет. Я придумал другой способ захватить остров Драконов. Валгарик пожал плечами. По выражению его лица было видно, что он никогда особо не верил заверениям Йиркуна. Но ему не оставалось ничего другого – только следовать за Йиркуном: ведь, окажись он в руках Элрика, его ждала бы страшная казнь. Опустив плечи, капитан отправился выполнять приказ принца. – А теперь, Симорил… – Йиркун ухмылялся, как хорек, ухватив сестру за нежные плечи. – А теперь я подготовлю тебя к встрече с твоим возлюбленным Элриком. Один из слепых воинов воскликнул: – Мой господин, они больше не сопротивляются! Они просто стоят, хоть разрубай их на части. Почему так? – Зеркало лишило их памяти, – сказал Элрик, обернувшись на звук его голоса. – Теперь веди нас в дом – там, я надеюсь, Зеркало не сможет нам повредить. Наконец они оказались внутри. Сняв свой шлем, Элрик подумал, что они находятся на каком-то складе. К счастью, помещение было достаточно велико – в нем поместился весь их отряд. Когда все вошли внутрь, Элрик приказал закрыть двери, и они стали обсуждать план дальнейших действий. – Мы должны найти Йиркуна, – сказал Дивим Твар. – Давайте допросим одного из этих воинов… – В этом мало проку, мой друг, – напомнил ему Элрик. – Они лишились воспоминаний. Сейчас они не помнят даже, кто они такие. Подойди к тем ставням – там Зеркало не действует, и посмотри, не увидишь ли дом, который мог бы занимать мой кузен. Дивим Твар быстро подошел к ставням и осторожно выглянул наружу. – Там есть один дом – он больше, чем остальные, и я вижу какое-то движение внутри. Похоже на перегруппировку оставшихся в живых воинов. Не исключено, что это опорный пункт Йиркуна. Его можно взять без труда. Элрик подошел к нему. – Да, согласен. Там мы найдем Йиркуна. Но мы должны поспешить, чтобы он не убил Симорил. Мы должны сообразить, как быстрее всего добраться до этого дома. Нужно сказать нашим слепым воинам, сколько улиц, сколько домов мы должны пройти до него. – Что это за странный звук? – Один из слепых воинов поднял голову. – Похоже на далекий удар гонга. – Я тоже слышу, – сказал другой слепец. Теперь его услышал и Элрик. Зловещий звук. Его источник был где-то в воздухе над ними. Он доносился сверху. – Зеркало! – Дивим Твар поднял вверх глаза. – Может быть, у Зеркала есть какие-то свойства, которые мы не предусмотрели? – Возможно… – Элрик пытался вспомнить, что говорил ему Ариох. Но Ариох говорил полунамеками. Он ни словом не обмолвился об этом жутком, мощном звуке, этом звоне, похожем на металлический лязг, словно… – Он разбил Зеркало! – сказал Элрик. – Но для чего? Что-то стояло за этим, стучалось в его мозг, словно этот звук сам был одушевленным существом. – Может, Йиркун убит, а с ним погибает и его колдовство, – начал было Дивим Твар, но тут же, застонав, умолк. Звук становился громче, интенсивнее, отдаваясь болью в ушах. И теперь Элрик понял. Он закрыл уши руками в кольчужных рукавицах. Воспоминания из Зеркала. Они хлынули в его мозг. Зеркало было разбито и теперь выпускало из себя все воспоминания, накопленные им за столетия, а может и за миллионы лет. Многие из этих воспоминаний принадлежали вовсе не смертным. Многие из них были воспоминаниями животных и разумных существ, существовавших задолго до появления Мелнибонэ. И эти воспоминания искали места в мозгу Элрика, в черепах всех имррирцев, в черепах тех несчастных, что стояли на улицах, издавая жалобные крики, разносившиеся по городу, в черепе капитана Валгарика, предателя, который потерял равновесие на громадной опоре и полетел с огромной высоты вниз вместе с осколками Зеркала. Но Элрик не слышал крика капитана Валгарика, не слышал, как его тело ударилось сначала о крышу, а потом свалилось на землю, где осталось лежать под разбившимся Зеркалом. Элрик лежал на каменном полу склада, корчась, как и его товарищи, стараясь выкинуть из головы миллионы воспоминаний, не принадлежавших ему, – воспоминаний о любви, ненависти, о странных событиях и обычных событиях, о войнах и путешествиях, о лицах родственников, которые не были его родственниками, о мужчинах, женщинах, детях, животных, кораблях и городах, о сражениях, о страсти, о страхах и желаниях – все эти воспоминания боролись за место в его переполненном мозгу, угрожая выдавить из его головы его собственные воспоминания, а значит, лишить его личности. Корчась на полу и зажимая уши руками, альбинос твердил одно-единственное слово и с одной только мыслью – не потерять себя: «Элрик. Элрик. Элрик». И постепенно, с усилием, которое от него потребовалось только раз, когда он вызывал Ариоха в плоскость Земли, ему удалось вытеснить все эти чуждые воспоминания, сохранив собственные. Голоса в голове умолкли, и только тогда он смог убрать от ушей дрожащие руки. После этого Элрик встал и огляделся. Более двух третей его воинов были мертвы, слепы или ранены. Здоровяк боцман погиб, он лежал с широко открытыми глазами, на его губах замер крик, правая его глазница зияла рваным мясом и кровоточила в том месте, где он пытался вырвать себе глаз. Все тела лежали в неестественном положении, глаза у всех были открыты (если только у них были Глаза), на многих видны были раны, которые они нанесли сами себе, другие лежали в собственной блевотине, третьи размозжили себе головы о стену. Дивим Твар был жив, но скорчился в углу, бормоча что-то себе под нос, и Элрику показалось, что его друг сошел с ума. Некоторые из других выживших и в самом деле потеряли разум, но вели себя тихо, никому не угрожали. Только пятеро, включая Элрика, казалось, сумели воспротивиться чужим воспоминаниям и сохранить рассудок. Элрик, перешагивая через тела, понял, что большинство из них умерли от разрыва сердца. – Дивим Твар? – Элрик положил руку на плечо своего друга. – Дивим Твар? Дивим Твар убрал руки, поднял голову и заглянул в глаза Элрику. В глазах Дивима Твара читался опыт прошедших тысячелетий, но они светились и иронией. – Я жив, Элрик. – Нас осталось мало. Немного позже они вышли из склада – ведь Зеркала можно было больше не опасаться. Улицы были усеяны мертвецами, воспринявшими воспоминания Зеркала. Скорчившиеся тела протягивали к ним руки. Мертвые губы шептали беззвучные мольбы о помощи. Элрик, проходя мимо, старался не смотреть на них, но желание отомстить кузену стало в нем теперь еще сильнее. Наконец они достигли дома. Дверь была открыта, а пол внутри усеян мертвыми телами. Но никаких следов принца Йиркуна не было. Элрик и Дивим Твар повели немногих оставшихся в живых имррирцев вверх, мимо застывших в умоляющих позах тел. Наконец они оказались на верхнем этаже дома. И здесь они увидели Симорил. Она, обнаженная, лежала на кушетке. На ее теле были начертаны руны, и эти руны сами по себе были непристойны. Она с трудом подняла веки и поначалу не узнала вошедших. Элрик ринулся к ней, прижал ее к себе. Ее тело было до странности холодно. – Он… меня… усыпил… – сказала Симорил. – Колдовской сон, и только он может вывести меня из этого сна… – Она зевнула. – Я сумела продержаться лишь напряжением воли… ждала Элрика… – Элрик здесь, – нежно сказал ее возлюбленный. – Я Элрик, Симорил. – Элрик? – Она расслабилась в его объятиях. – Ты должен найти Йиркуна… только он сможет… разбудить меня… – Куда он делся? – Налице Элрика появилось жесткое выражение. Его малиновые глаза пылали от ярости. – Куда? – Ушел на поиски двух Черных Мечей – рунных мечей наших предков. Утешителя… – И Буревестника, – мрачно сказал Элрик. – Эти мечи прокляты. Но куда он пошел, Симорил? Как ему удалось бежать? – Через… через… через… врата Теней… он прибег к колдовству… он заключил самый ужасный союз с демонами, Чтобы пройти через эти врата… В другой комнате… Симорил уснула, но выражение ее лица явно было умиротворенным. Элрик смотрел, как Дивим Твар с мечом в руке пересек комнату и распахнул дверь. Из соседнего помещения, погруженного в темноту, потянуло жуткой вонью. В дальнем его углу что-то мерцало. – Да, это колдовство, – сказал Элрик. – Йиркун обыграл меня. Он колдовством отыскал врата Теней и прошел через них в один из низших миров. В какой – мне неведомо, ведь их великое множество. Ах, Ариох, я многое бы отдал, чтобы последовать за моим кузеном! – Так следуй же за ним! – раздался сверху полный иронии голос. Поначалу альбинос подумал, что это чье-то чужое воспоминание все еще продолжает искать себе место в его голове, но он тут же понял, что с ним говорит Ариох. – Пусть уйдут твои спутники, чтобы я мог поговорить с тобой наедине, – сказал Ариох. Элрик заколебался. Он хотел остаться наедине, но не с Ариохом. Он хотел остаться с Симорил, потому что с трудом сдерживал рыдания. Слезы уже наполнили его малиновые глаза. – То, что я сейчас скажу, поможет тебе разбудить Симорил, – сказал голос. – Более того, это поможет тебе победить Йиркуна и отомстить ему. Возможно, это даже сделает тебя сильнейшим из смертных. Элрик посмотрел на Дивима Твара. – Оставьте меня все на некоторое время. – Конечно, – сказал Дивим Твар и, выведя воинов из комнаты, закрыл дверь. Ариох появился, опираясь спиной о ту же дверь. Он и на сей раз принял обличье и манеры красивого молодого человека. Он дружески и открыто улыбался, и только древние глаза не соответствовали его внешности. – Пора тебе самому отправиться на поиски Черных Мечей, Элрик, – сказал Ариох. – Иначе Йиркун первый доберется до них. А с рунными мечами Йиркун будет так силен, что сможет уничтожить половину мира и даже глазом не моргнет. Поэтому-то твой кузен и решился подвергнуться опасностям иного мира за вратами Теней. Если Йиркун заполучит эти мечи, то придет конец тебе, Симорил, Молодым королевствам и, вполне возможно, уничтожено будет и Мелнибонэ. Я помогу тебе войти в иной мир в поисках рунных мечей-близнецов. Элрик задумчиво сказал: – Меня часто предупреждали об опасностях, сопровождающих поиски этих мечей. Но еще большая опасность – владеть ими. Мне кажется, что лучше будет воспользоваться каким-нибудь иным способом, мой господин Ариох. – Другого способа нет. Йиркун жаждет завладеть мечами, хотя тебя они и не интересуют. С Утешителем в одной руке и Буревестником в другой он будет неуязвим, потому что они дают своему владельцу огромную силу. Огромную силу. – Ариох помолчал немного. – Ты должен сделать то, что я говорю. Это ради твоего же блага. – И твоего, господин Ариох? – Да, и моего. Я не совсем уж бескорыстен. Элрик потряс головой. – Я запутался. В этом деле было слишком много сверхъестественного. Я подозреваю, что боги манипулируют нами… – Боги служат только тем, кто готов служить им. А еще боги служат судьбе. – Мне это не по душе. Остановить Йиркуна – это одно, пойти по его честолюбивым следам и завладеть мечами – это другое. – Это твоя судьба. – А могу я изменить судьбу? Ариох отрицательно покачал головой. – Не больше, чем я. Элрик погладил волосы спящей Симорил. – Я ее люблю. Кроме нее, мне ничего не нужно. – Ты ее не разбудишь, если Йиркун найдет мечи раньше тебя. – А как мне найти мечи? – Войди во врата Теней – я открыл их для тебя, хотя Йиркун думает, что они закрыты. Там ты должен будешь найти Туннель Под Болотом, который ведет к Пульсирующей пещере. В ней-то и хранятся рунные мечи. Они лежат там с тех самых пор, как твои предки отказались от них… – Почему отказались? – Твоим предкам не хватило мужества. – Мужества для чего? – Для того чтобы заглянуть себе в душу. – Ты говоришь загадками, мой господин Ариох. – Таковы традиции Владык Высших Миров. Поторопись. Даже я не могу долго держать открытыми врата Теней. – Хорошо. Я пойду. И Ариох исчез. Элрик охрипшим голосом позвал Дивима Твара, который сразу же вошел в комнату. – Элрик? Что здесь произошло? Что-нибудь с Симорил? Ты выглядишь как… – Я пойду следом за Йиркуном. Пойду один, Дивим Твар. Ты с оставшимися воинами должен добраться до Мелнибонэ сам. Возьми с собой Симорил. Если я не вернусь спустяприемлемое время, ты должен будешь провозгласить ее императрицей. Если она все еще будет спать, ты должен будешь править как регент до ее пробуждения. Дивим Твар тихо спросил: – Ты знаешь, что делаешь? Элрик отрицательно покачал головой. – Нет, Дивим Твар, не знаю. Он встал и направился в другую комнату, где его ждали врата Теней.
Часть третья
И теперь уже не повернешь назад. Судьба Элрика выкована и предопределена с такой же неумолимостью, с какой выкованы и предопределены были судьбы адских мечей миллионы лет назад. Выл ли в его жизни момент, когда он мог свернуть с пути, ведущего к отчаянию, проклятию и гибели? Или таков был его рок с самого рождения? Рок, действующий через тысячи перерождений и не знающий ничего, кроме скорби и борьбы, одиночества и сожаления, рок вечного воителя за неизвестное дело?Глава первая Через Врата Теней
Элрик шагнул в тень и оказался в мире теней. Он повернулся, но тень, через которую он вошел, рассеялась и исчезла. В руке альбинос сжимал старый меч Обека, на нем были Черный шлем и черные доспехи, и только это было знакомо ему, потому что все вокруг лежало в темени и мраке, словно находилось в огромной пещере, стены которой, хотя и оставались невидимы, придавливали к земле и угнетали. И Элрик пожалел, что, поддавшись панике и усталости, дал себя уговорить, подчинился своему демону-покровителю Ариоху и прошел Через врата Теней. Но жалеть о содеянном было бессмысленно, и он выкинул эти мысли из головы. Йиркуна нигде не было видно. Либо кузен Элрика ускакал на коне, либо – что было более вероятно – он вошел в этот мир под несколько иным углом (потому что было известно, что все плоскости вращаются друг относительно друга) и таким образом оказался или ближе к их цели, или дальше от нее. Воздух был пропитан запахом моря, и альбиносу казалось, что его ноздри забиты солью – словно он шел по дну моря и дышал морской водой. Возможно, этим объяснялись и малая Видимость во всех направлениях, и большое количество теней, и сходство неба с занавесом, словно бы укрывавшим своды пещеры. Элрик вложил меч в ножны – никакой опасности в настоящий момент не предвиделось, и медленно повернулся, пытаясь успокоить дыхание. Кажется, в направлении, которое он определил как восточное, виднелись неровные хребты гор, а на западе – лес. Определить расстояние и направление более или менее точно в отсутствие солнца, звезд или луны было невозможно. Он стоял в каменистой долине, над которой свистел холодный ленивый ветер, дергающий его за плащ, словно желая завладеть этим одеянием. Он увидел несколько кривых деревьев без листьев – они стояли шагах в ста от него. Кроме них да еще какой-то здоровенной бесформенной каменной глыбы вдалеке за ними, в этой неприветливой долине ничего не было. Казалось, этот мир лишен всякой жизни, потому что когда-то здесь сошлись в битве Закон и Хаос, ничего не оставив после себя. Сколько было еще таких миров, как этот? – спрашивал себя Элрик. Императора вдруг охватило жуткое предчувствие, касающееся его судьбы и судьбы его богатого – не в пример этому – мира. Но он тут же прогнал от себя эти мысли и направился к деревьям и каменной глыбе за ними. Он добрался до деревьев и прошел мимо них. Его плащ чуть коснулся одной из веток, и она тут же превратилась в прах, который унесло ветром. Элрик запахнул на себе плащ. Приближаясь к камню, он услышал звук, вроде бы исходивший от этой глыбы. Он замедлил шаги и положил ладонь на рукоять меча. Звук продолжался – тихий, ритмичный звук. Элрик сквозь мрак тщательно разглядывал камень, пытаясь обнаружить источник звука. Внезапно этот звук прекратился, а на смену ему пришел другой – мягкое шарканье, поступь ног, а потом тишина. Элрик сделал шаг назад и вытащил меч Обека. Первый звук издавал спящий человек. Второй – человек, идущий и возможно готовый напасть на Элрика или защищаться. Альбинос сказал: – Я Элрик Мелнибонийский. Я чужой в этих краях. И тут он услышал почти одновременно пение отпущенной тетивы и свист стрелы, пролетевшей рядом с его шлемом. Элрик метнулся в сторону в поисках укрытия, но никаких укрытий здесь не было, кроме камня, за которым прятался лучник. И тут из-за камня раздался голос. Он звучал твердо и сурово: – Я не желаю тебе вреда – лишь демонстрирую мое умение на тот случай, если ты желаешь вреда мне. Я достаточно пообщался с демонами в этом мире, а у тебя вид самого опасного из всех, белолицый. – Я смертный, – ответил Элрик, выпрямляясь. Он решил, что уж если ему суждено умереть, то он должен встретить смерть с достоинством. – Ты назвал Мелнибонэ. Я слышал об этом месте. Это остров демонов. – Значит, ты слышал о Мелнибонэ слишком мало. Я – смертный, как и все мои соплеменники. Только невежественные люди считают, что мы демоны. – Я вовсе не невежественный, друг мой. Я воин-жрец из Фума. Я был рожден в этой касте наследником всех ее знаний, и до недавнего времени моими покровителями были сами Владыки Хаоса. Но потом я отказался служить им, и они сослали меня сюда. Возможно, у тебя такая же судьба, ведь народ Мелнибонэ служит Хаосу, да? – Да. И я знаю про Фум, это страна лежит на Неведомом Востоке – за Плачущей пустошью, за Вздыхающей пустыней, дальше самого Элвера. Это одно из старейших Молодых королевств. – Ты прав, хотя я не согласен с тем, что восток неведомый. Он неведом только дикарям с запада. Значит тебе, похоже, и в самом деле суждено разделить мою ссылку. – Я здесь не в ссылке. Я в поиске. Когда мои поиски завершатся, я вернусь в мой мир. – Ты сказал – вернусь? Весьма интересно, мой бледный друг. Я полагал, что возвращение невозможно. – Не исключено, что так оно и есть, а меня просто обманули. И если твоих сил не хватило, чтобы найти путь в другой мир, может, и моих сил для этого будет недостаточно. – Сил? Нет у меня никаких сил, после того как я прекратил служить Хаосу. Итак, друг, ты хочешь драться со мной? – В этом измерении есть только один, с кем я хочу драться, и это не ты, воин-жрец из Фума. – Элрик вложил свой меч в ножны. И тут же из-за камня появился тот, чей голос он слышал; стрелу с алым оперением он упрятал в алый колчан. – Меня зовут Ракхир, – сказал человек. – А еще меня называют Красный Лучник, потому что я, как ты видишь, ношу алую одежду. Воины-жрецы из Фума с давних времен выбирают себе какой-то один цвет. Это единственная традиция, верность которой я все еще сохраняю. На нем были алая куртка, алые штаны, алые ботинки и алая шапочка с алым пером. Лук у него был алого цвета, а рукоятка его меча отливала рубиново-красным оттенком. Лицо его – худое, с орлиным носом – было словно вырезано из кости, лишенной плоти, сухую коричневую кожу бороздили морщины. Он был высок, худ, но на его руках и торсе перекатывались сильные мышцы. Глаза светились иронией, а губы кривились в подобии улыбки, хотя, судя по лицу, его полная приключений жизнь давало ему мало поводов для радости. – Странное место ты выбрал для поисков, – сказал Красный Лучник. Он стоял, уперев руки в бока и оглядывая Элрика с головы до ног. – Но я готов заключить с тобой договор, если это тебя интересует. – Что ж, и я готов заключить с тобой договор, если условия мне подойдут, потому что ты, кажется, знаешь об этом мире гораздо больше, чем я. – Понимаешь, ты должен найти здесь что-то и убраться, тогда как мне здесь вообще ничего не нужно, а убраться Отсюда я тоже хочу. Если я помогу тебе в твоих поисках, ты возьмешь меня с собой, когда будешь возвращаться в наш мир? – Похоже, такой договор справедлив, но я не могу обещать то, что не в моих силах. Я могу только сказать, что если смогу взять тебя в наше измерение до окончания моих поисков или после, то непременно сделаю это. – Резонно, – сказал Ракхир Красный Лучник. – А теперь скажи мне, что ты ищешь. – Я ищу два меча, выкованных тысячи лет назад бессмертными. Ими пользовались мои предки, но потом отказались от них и спрятали в этом измерении. Эти мечи большие, тяжелые и черные, и на них начертаны тайные руны. Мне было сказано, что я найду их в Пульсирующей пещере, куда можно добраться Туннелем Под Болотом. Ты слышал что-нибудь об этих местах? – Нет, не слышал. И о двух мечах я тоже ничего не слышал. – Ракхир потер свой костлявый подбородок. – Хотя я помню, что в одной из Книг Фума было что-то написано об этом, и то, что я прочел, мне сильно не понравилось. – Это легендарные мечи. О них написано во многих книгах, и почти всегда сведения эти очень загадочны. Говорят, есть один фолиант, в котором изложена история этих мечей и всех, кто владел ими, и всех, кто еще будет ими владеть. Это извечная книга, в которой написано обо всех временах. Ее называют Хроникой Черного Меча, и говорят, что в ней люди могут прочитать о своей судьбе. – Об этой книге я тоже ничего не знаю. Она не входит в число Книг Фума. Боюсь, друг мой Элрик, что нам придется отправиться в город Амирон и задать твои вопросы его обитателям. – В этом мире есть город? – Да. Я в нем останавливался ненадолго, потому что предпочитаю дикую природу. Но с другом я, пожалуй, смогу выдержать там и подольше. – А почему Амирон тебе не по вкусу? – Потому что его обитатели несчастны. Они самые горемычные и многострадальные люди, потому что все они – ссыльные, или беженцы, или заблудившиеся между мирами путешественники, которым не суждено найти дорогу назад. Никто не живет в Амироне по своему выбору. – Воистину город проклятых. – Да, так бы сказал поэт. – Ракхир иронически подмигнул Элрику. – Но мне иногда кажется, что все города таковы. – А какова природа того мира, где мы находимся? Насколько я могу судить, здесь не видно ни планет, ни луны, ни солнца. А воздух здесь как в большой пещере. – Существует теория, что это некая сфера в толще камня. Другие говорят, что этот мир находится в будущем нашей Земли – в будущем, где умерла Вселенная. Я слышал тысячи теорий за то короткое время, что провел в Амироне. И все они, мне кажется, имеют право на существование. Все они кажутся справедливыми. А почему бы нет? Есть и такие, кто считает, что все – ложь. И наоборот, все с таким же успехом Может быть истиной. Теперь наступила очередь Элрика иронизировать. – Из тебя философ ничуть не хуже лучника, Ракхир из Фума. Ракхир рассмеялся. – Как тебе будет угодно! Именно такой образ мысли ослабил мою преданность Хаосу и привел к моему нынешнему положению. Я слышал, есть город, который называется Танелорн – его иногда можно обнаружить на меняющихся окраинах Вздыхающей пустыни. Если я когда-нибудь вернусь в наш мир, друг мой Элрик, то найду этот город, потому что слышал: там можно обрести покой. Там все споры о природе истины считаются бессмысленными. Люди в Танелорне довольствуются тем, что просто живут. – Им можно позавидовать, – сказал Элрик. Ракхир вздохнул. – Да, но, возможно, и там меня ждет разочарование. Лучше уж легендам оставаться легендами, а любые попытки воплотить их в реальность пусть будут обречены на провал. Идем, Амирон расположен вон там, и он, к несчастью, очень похож на все города в самых разных мирах. Два высоких человека, оба по-своему изгнанники, начали свой путь по этой мрачной и необитаемой пустоши.Глава вторая В городе Амироне
На горизонте появился город Амирон – Элрик никогда не видел такого места прежде. В сравнении с Амироном Дхоз-Кам мог показаться чистым и ухоженным городком. Город лежал под скалистым плато в узкой долине, над которой постоянно висел дым – грязное, потрепанное покрывало, призванное скрыть это место от людей и богов. Дома представляли собой наполовину развалившиеся сооружения, были и полные развалины, а рядом с ними стояли сараи или шатры. Смесь архитектурных стилей (некоторые были знакомы Элрику, другие – нет) была такова, что альбинос не увидел и двух одинаковых сооружений. Тут были хибарки и замки, коттеджи, башни и форты, простые квадратные дома и деревянные хижины, украшенные резьбой. Другие представляли собой нагромождение камней с неровным отверстием вместо двери. Но ни у одного из этих сооружений не было приятного для глаза вида, да и не могло быть – под этими вечно мрачными небесами. Здесь и там горели красные огни, отчего дым становился еще гуще. Когда Элрик и Ракхир достигли окраин города, им в нос ударил сильный запах с огромным разнообразием оттенков. – Основным качеством большинства обитателей Амирона является не гордыня, а высокомерие, – сказал Ракхир, сморщив ястребиный нос. – Если только у них вообще остались какие-либо черты характера. Элрик пробирался через мусор. По тесным зданиям двигались тени. – Здесь нет какой-нибудь гостиницы, где можно было бы спросить о Туннеле Под Болотом? – Нет тут никаких гостиниц. Обитатели города живут только для себя. – Ну, а городская площадь, куда сходятся горожане? – У города нет центра. Каждый житель или группа жителей строят собственное жилье там, где им заблагорассудится или где есть место, а попадают они сюда из самых разных Миров и из самых разных веков, отсюда вся эта неразбериха, запустение и древность многих жилищ. Отсюда эта грязь, отсутствие надежды, упадок большинства горожан. – А на что они живут? – Они живут за счет друг друга. Торгуют с демонами, которые время от времени заглядывают в Амирон… – С демонами? – Да. А самые смелые охотятся на крыс, которые обитают в пещерах под городом. – А что это за демоны? – Такие существа, в основном слабейшие из слуг Хаоса, которым требуется то, что можно найти в Амироне: одну-другую украденную душу, например ребенка (хотя здесь мало рождается детей). Ты и сам можешь представить, зачем они наведываются сюда, если тебе известно, что обычно демонам нужно от колдунов. – Да, могу себе представить. Значит, Хаос может приходить в этот мир и уходить отсюда по своему желанию? – Не уверен, что все обстоит так просто. Но демонам, конечно, легче попасть сюда, чем в нашу плоскость. – А ты видел этих демонов? – Да, обычные твари. Грубые, глупые и сильные – многие из них прежде были людьми, но потом заключили сделку с Хаосом. А теперь это физические и умственные калеки в образе демонов. Элрику пришлись не по душе слова Ракхира. – Так это что же – судьба тех, кто заключает сделки с Хаосом? – спросил он. – Тебе, мелнибониец, это должно быть ведомо. Я знаю, что в Фуме такого почти не случается. Но кажется, что чем выше ставки, тем менее заметны изменения, которые претерпевает человек, когда Хаос соглашается вступить с ним в договор. Элрик вздохнул. – И у кого же мы спросим про Туннель Под Болотом? – Тут был один старик… – начал было Ракхир, но в этот момент у него за спиной раздалось хрюканье, и он замолчал. Из тьмы материализовалась физиономия с клыками. Физиономия хрюкнула еще раз. – Кто ты? – спросил Элрик, держа наготове руку у меча. – Свинья, – сказало лицо с клыками. Элрик не понял – то ли его обозвали, то ли существо просто представилось. Из темноты возникли еще два клыкастых лица. – Свинья, – сказало одно. – Свинья, – сказало другое. – Змея, – сказал голос за Элриком и Ракхиром. Элрик повернулся, а Ракхир продолжал разглядывать свиней. Перед альбиносом стоял высокий молодой человек. Там, где у него должна была быть голова, извивались тела приблизительно дюжины довольно крупных змей. Голова каждой смотрела на Элрика. Мелькали змеиные языки, пасти одновременно открылись и произнесли: – Змея. – Нечто, – сказал другой голос. Элрик бросил взгляд в том направлении, у него вырвался стон, и он, чувствуя, как его одолевает тошнота, вытащил из ножен меч. И тут свиньи, змея и нечто набросились на них. Ракхир покончил с одной из свиней, не успела она сделать и трех шагов. Он снял лук с плеча, натянул тетиву, наложив на нее стрелу с красным оперением, и выстрелил – и все это за считанные мгновения. Он успел пристрелить еще одну свинью, а потом бросил лук и вытащил меч. Встав спиной друг к другу, они с Элриком приготовились защищаться от нападавших на них демонов. Змея была довольно опасна с ее дюжиной голов, которые шипели и щелкали налитыми ядом зубами. Нечто постоянно меняло свои очертания: сначала появилась рука, потом лицо – все это из бесформенной, дыбящейся плоти, которая неумолимо надвигалась на них. – Нечто! – прокричало это существо. Два меча сверкнули перед альбиносом, который разбирался с последней свиньей – он неточно нанес удар, попав свинье не в сердце, а в легкие. Свинья сделала шаг назад и упала на землю в лужу грязи. Несколько мгновений она еще корчилась, но потом замерла. Нечто извлекло откуда-то пику, и Элрик с трудом отбил удар своим мечом. Ракхир тем временем вступил в схватку со змеей – два демона наступали, желая покончить со своими противниками. Половина голов змеи корчилась на земле, а Элрику удалось отсечь руку твари, но у демона оставались три другие. Казалось, этот демон – не одно существо, а несколько. Элрик вдруг подумал: а что, если и его вследствие всех этих сделок с Ариохом ждет такая же судьба – стать демоном, бесформенным чудовищем. Но разве он уже не стал отчасти чудовищем? Разве его люди и теперь не принимают за демона? Эти мысли придали ему сил. Он, размахивая мечом, воскликнул: – Элрик! И его противник откликнулся: – Нечто! – Он тоже желал утвердиться в том, чем считал себя. Еще один взмах меча Обека, и еще одна рука упала на землю. Следующий удар копьем был отражен, появился еще один меч и обрушился на шлем Элрика. Удар был столь силен, что альбинос, потеряв равновесие, отлетел назад – на Ракхира, который отступал от змеи, чьи четыре головы грозили вот-вот ужалить его. Альбинос взмахнул мечом, и щупальце, державшее меч, отделилось от тела, но тут же снова вернулось к нему. Элрика снова замутило. Он вонзил свой меч в эту массу плоти, которая закричала: – Нечто! Нечто! Нечто! Элрик ударил еще раз, в ответ возникли четыре меча и две пики, которые попытались отразить клинок Обека. – Нечто! – Это дело рук Йиркуна, – крикнул Элрик. – Нет никаких сомнений. Он узнал, что я отправился за ним, и теперь пытается нас остановить с помощью своих союзников демонов. – Он сжал зубы и заговорил сквозь них: – Если только один из этих не есть Йиркун собственной персоной! Эй, нечто, ты не мой кузен Йиркун? – Нечто… – Голос прозвучал чуть ли не жалобно. Оружие сверкнуло, раздался лязг металла о металл, но нечто уже атаковало Элрика не так яростно, как прежде. – А может, ты какой-нибудь другой старый друг? – Нечто… Элрик снова вонзил свой меч в массу плоти. На его доспехи брызнула густая, маслянистая кровь. Альбинос не мог понять, почему сопротивление демона вдруг так ослабло. – Давай же! – раздался голос над головой Элрика. – Быстрее! Элрик поднял взгляд и увидел красное лицо, рыжую бороду, размахивающие руки. – Не смотри на меня, ты, глупец! Давай – бей! И альбинос, ухватив меч двумя руками, вонзил клинок в бесформенную фигуру, которая застонала и едва слышно прошептала: – Фрэнк… – и испустила дух. Ракхир в этот момент с остервенением набросился на змею, вонзив свой клинок в грудь под двумя оставшимися головами – он попал прямо в сердце, и юное тело этого демона тоже испустило дух. В этот момент с разрушенной арки спрыгнул седоволосый человек. Он смеялся. – Ниун еще не разучился колдовать – даже здесь, да? Я слышал, как тот длинный наставлял своих друзей-демонов, как им лучше напасть на вас. Мне показалось несправедливым – пятеро против двух, и вот я сидел на стене и лишал многорукого демона сил. Значит, я еще кое-что могу. Все еще могу. Теперь у меня есть сила – или немалая часть моей прежней силы, – и я чувствую себя гораздо лучше, чем на протяжении многих, многих лун. Если только такая вещь, как луна, существует. – Этот демон сказал: «Фрэнк», – нахмурившись, произнес Элрик. – Как по-твоему, это имя? Его прежнее имя? – Возможно, – сказал старый Ниун. – Возможно. Несчастное существо. Но оно мертво. Вы двое не амиронцы, хотя тебя, красный, я уже видел здесь прежде. – Ая видел тебя, – с улыбкой сказал Ракхир. Он отер кровь змеи со своего клинка, используя для этой цели одну из змеиных голов. – Ты Ниун, Знавший Все. – Да, знавший все. А теперь знающий очень мало. Скоро я забуду все окончательно, и тогда это кончится. Тогда я смогу вернуться из этой ужасной ссылки. Такое соглашение я заключил с Орландом, хранителем Посоха. Я был глупцом, желавшим знать все, и мое любопытство привело меня к приключению, связанному с этим Орландом. Орланд показал мне ошибку моего выбора и послал сюда, чтобы я забыл. К несчастью, как вы уже заметили, я все еще помню кое-что из прежнего. Я знаю, что вы ищете Черные Мечи. Я знаю, что ты – Элрик из Мелнибонэ. И я знаю, что будет с тобой. – Ты знаешь мою судьбу? – с волнением спросил Элрик. – Расскажи мне о ней, Ниун, Знавший Все. Ниун открыл было рот, словно собираясь заговорить, но потом решительно сомкнул уста. – Нет, – сказал он. – Я забыл. – Нет. – Элрик протянул руку, словно хотел схватить старика. – Нет! Ты помнишь! Я же вижу, что помнишь! – Я забыл. – Ниун опустил голову. Ракхир прикоснулся к руке Элрика. – Он забыл, Элрик. Мелнибониец кивнул. – Ладно. Спустя какое-то время он сказал: – А ты не помнишь, где находится Туннель Под Болотом? – Помню. Это болото совсем недалеко от Амирона. Идите в ту сторону. Там увидите монумент в виде орла из черного мрамора. У основания этого монумента и находится вход в туннель. – Ниун, словно попугай, повторил сказанное, но когда поднял лицо, взгляд у него прояснился. – Что я сказал тебе только что? – Ты только что объяснил, как добраться до входа в Туннель Под Болотом. – Правда? – Ниун хлопнул старческими ладонями. – Замечательно. Теперь я уже и это забыл. А вы кто такие? – Мы те, кого лучше всего забыть, – сказал Ракхир с мягкой улыбкой. – Прощай, Ниун, и спасибо тебе. – Спасибо за что? – За то, что помнишь, и за то, что забыл. Они прошли по жалкому городу Амирону, оставив позади счастливого старого колдуна. Из окон или дверей на них посматривали старые лица, а они старались вдыхать как можно меньше этого грязного воздуха. – Кажется, из всех обитателей этого заброшенного места я завидую одному только Ниуну, – сказал Ракхир. – А мне жаль его, – сказал Элрик. – Почему? – Я подумал, что, когда он забудет все, он вполне может забыть и о том, что ему позволено покинуть Амирон. Ракхир рассмеялся и ударил альбиноса по спине, облаченной в черные доспехи. – Ты мрачный спутник, Элрик. Неужели все твои мысли так безнадежны? – Боюсь, что они склоняются в этом направлении, – сказал Элрик, и на его лице появилось какое-то подобие улыбки.Глава третья Туннель под болотом
И двинулись они по этому печальному и мрачному миру, пока наконец не достигли болота. Болото было черным. На кочках росла черная остролистная трава. Там было холодно и сыро. Темный туман лежал Почти над самой землей, а в тумане иногда возникали какие-то приземистые силуэты. Из тумана поднимался какой-то Черный предмет, который мог быть только тем монументом, о котором говорил Ниун. – Монумент, – сказал Ракхир. Он остановился и оперся на свой лук. – Он далеко в глубине болота, а как до него добраться, непонятно. Как ты думаешь, это разрешимая проблема, друг Элрик? Элрик осторожно поставил ногу на болотистую почву и почувствовал, как холодная топь засасывает его. Не без труда вытащил он ногу. – Здесь должна быть тропинка, – сказал Ракхир, поковыряв в костлявом носу. – Иначе как бы туда мог попасть твой кузен? Элрик оглянулся через плечо на Красного Лучника и пожал плечами. – Кто знает? Может, с ним были колдовские помощники, которым пройти по болоту не составляет труда. И тут Элрик опустился на влажный камень. От резкого запаха соли с болота на него нахлынула слабость. Действие снадобий, которые он принял, перед тем как пройти во врата Теней, заканчивалось. Ракхир подошел к альбиносу и встал рядом с ним. Он улыбнулся, и в улыбке его читалось сочувствие. – Ну что ж, господин колдун, а ты не можешь вызвать таких же помощников? Элрик отрицательно покачал головой. – Я почти ничего не знаю о том, как вызывать малых демонов. У Йиркуна есть его колдовские книги, его любимые заклинания, его обращения к миру демонов. Если мы хотим добраться до того монумента, нам придется прибегнуть к обычным способам, воин-жрец из Фума. Ракхир извлек из недр своего одеяния красный платок и высморкался. После этого он протянул руку, помог Элрику подняться на ноги, и вместе они пошли вдоль края болота, не выпуская из виду черный монумент. Наконец они нашли путь. Но это была не природная тропинка, а своего рода мраморные мостки, уходящие во мрак трясины. Эта мраморная тропинка была скользкой, покрытой липкой ряской. – Я бы сказал, что это ложная тропинка – обманка, которая приведет нас к смерти, – сказал Ракхир. Они с Элриком стояли у начала этой тропинки, уходящей вглубь болота. – Но нам уже нечего терять. – Идем, – сказал Элрик, осторожно шагнув на мостки. В руке у него было некое подобие факела – связка потрескивающего тростника, который давал неприятный желтый свет и много зеленоватого дыма. Но это было лучше, чем ничего. Ракхир, прежде чем сделать очередной шаг, проверял почву луком, при этом он насвистывал легонькую, незатейливую мелодию. Его соплеменник признал бы в этой мелодии «Песню сына героя Высшего Ада, готового пожертвовать своей жизнью», популярную в Фуме, особенно среди воинов-жрецов. Элрика эта мелодия раздражала и отвлекала, но он ничего не сказал, потому что все свое внимание сосредоточил на том, чтобы не упасть со скользкой поверхности мостков. Те раскачивались так, будто плавали на поверхности трясины. Они уже прошли половину пути до монумента, чьи очертания были теперь хорошо различимы: огромный орел распростер крылья, нацелившись мощными когтями и клювом на жертву. Орел был сделан из того же черного мрамора, которым вымощена была неустойчивая тропинка под их ногами. Элрику этот монумент напомнил надгробный памятник. Может быть, здесь был похоронен какой-то древний герой? Или это надгробье было сооружено как хранилище Черных Мечей, их тюрьма, – чтобы они никогда больше не смогли попасть в мир и похищать там человеческие души? Мостки зашатались под их ногами еще сильнее. Элрик пытался сохранить равновесие, но ему для этого приходилось переминаться с ноги на ногу. Факел в его руке бешено дергался. Наконец Элрик поскользнулся и свалился с мостков в болото, сразу увязнув по колено. Он начал погружаться все глубже и глубже. Однако он не выпустил из рук факела и в его свете различал одетого в красное лучника, вглядывавшегося вперед. – Элрик? – Я здесь, Ракхир. – Ты тонешь? – Да, похоже, болото вознамерилось поглотить меня. – Ты можешь лечь? – Лечь – могу, но мои ноги уже засосало. – Элрик попытался пошевелиться в трясине, которая затягивала его. Что-то метнулось перед его лицом, издавая приглушенное бормотание. Элрик изо всех сил старался сдержать страх, который грозил поглотить его. – Я думаю, ты должен оставить меня, друг Ракхир. – Что? И потерять надежду выбраться из этого мира? Ты, вероятно, слишком хорошо обо мне думаешь – я эгоист, друг Элрик. Держи. Ракхир осторожно опустился на мостки и протянул Элрику руку. Оба они теперь были покрыты липкой грязью, оба дрожали от холода. Ракхир тянулся к Элрику, а Элрик – к Ракхиру, пытаясь дотянуться до его руки, но это было неВозможно. И с каждой секундой Элрик погружался все глубже и глубже в трясину болота. Тогда Ракхир снял с себя лук и протянул один его конец альбиносу. – Хватайся за лук, Элрик. Можешь? Растягивая каждую косточку и мышцу своего тела, Элрик все же сумел ухватиться за лук. – А теперь я должен… Ой! – Ракхир, тащивший за лук, поскользнулся на мостках, которые теперь раскачивались, как безумные. Он выбросил руку, чтобы ухватиться за край мостков с другой стороны, не выпуская лук из другой руки. – Поторопись, Элрик! Скорее! Элрик, превозмогая боль, изо всех сил пытался вылезти из болота. Мостки по-прежнему безумно раскачивались, и лицо Ракхира теперь было чуть ли не бледнее лица Элрика – Ракхир отчаянно пытался удержаться за мостки и не выпустить из рук лука. Но альбинос, весь в грязи, трясине, сумел подобраться к мосткам и вылез на них. Факел продолжал гореть в его руке, а сам Элрик, лежа на мостках, тяжело дышал. Ракхир тоже ловил ртом воздух, но при этом он смеялся. – Ну и рыбу я поймал! – сказал он. – Самую большую, готов побиться об заклад. – Я благодарен тебе, Ракхир Красный Лучник. Я благодарен тебе, воин-жрец из Фума. Я обязан тебе жизнью, – сказал Элрик спустя какое-то время. – И я клянусь тебе, закончатся ли мои поиски удачей или нет, я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты вернулся через врата Теней в тот мир, к которому мы оба принадлежим. Ракхир пожал плечами и ухмыльнулся. – Я предлагаю продолжить наш путь на четвереньках. Хоть это и может показаться не очень достойным, но зато это безопаснее. И ползти осталось уже недолго. Элрик согласился. Прошло не очень много времени в этой не знающей времени темноте, и они достигли поросшего мхом островка, на котором стоял монумент – огромный и тяжелый, он высился над ними, уходя во мрак небес или под мрачный свод пещеры. А у основания монумента они увидели низкую дверь, ведущую в туннель. И дверь эта была открыта. – Ловушка? – спросил Ракхир. – Или Йиркун решил, что мы нашли смерть в Амироне? – сказал Элрик, стараясь стряхнуть с себя тину и слизь. Он тяжело вздохнул. – Давай войдем, а там будь что будет. Они вошли. И оказались в небольшой комнате. Элрик в слабом свете факела разглядел еще одну дверь. В остальном стены были ровные, вырубленные в слабо мерцающем черном мраморе. В комнате висела тишина. Они молча подошли к следующей двери, за которой обнаружились ступеньки, ведущие вниз и вниз – в полную черноту. Они долго спускались, по-прежнему не говоря ни слова, и наконец достигли дна, где увидели перед собой вход в узкий туннель неправильной формы, отчего он больше походил на творение природы, чем разума. Со сводов капала влага, и размеренный звук падающих на пол капель напоминал биение сердца – звук, который эхом разносился по туннелю, в самые его глубины. – Это явно туннель, – сказал Красный Лучник. – И он, безусловно, проходит под болотом. Элрик чувствовал, что и Ракхир не горит желанием входить в туннель. Он стоял, высоко подняв свой факел, прислушиваясь к звуку капель и пытаясь распознать тот другой звук, слабое эхо которого доносилось из глубин туннеля. И тогда он заставил себя шагнуть вперед, почти бегом ринулся в туннель. Его уши внезапно наполнились ревом, который то ли звучал в его голове, то ли доносился от какого-то источника в туннеле. Он слышал за собой шаги Ракхира. Элрик обнажил свой меч – меч погибшего героя Обека – и услышал звук собственного дыхания, эхом отдававшегося от стен туннеля, который теперь полнился самыми разными звуками. Альбиноса била дрожь, но он не останавливался. В туннеле было тепло. Пол под ногами Элрика напоминал губку, запах морской воды становился все сильнее. Потом он увидел, что стены туннеля стали ровнее, что они ритмично колеблются. Он услышал позади изумленный вздох Ракхира – лучник тоже обратил внимание на необычные свойства туннеля. – Похоже на плоть, – пробормотал воин-жрец из Фума. – Живую плоть. Элрик не смог ответить. Все его внимание было сосредоточено на том, чтобы заставлять себя двигаться вперед. Его охватил ужас. Все его тело дрожало. Пот градом катил с него, а ноги грозили в любое мгновение подогнуться под ним. Рука его так ослабела, что он едва мог удержать свой меч. И в его памяти мелькали какие-то образы – образы, с которыми не хотел мириться его разум. Был ли он здесь раньше? Дрожь его нарастала, желудок едва ли не выворачивался наизнанку – но Элрик продолжал двигаться вперед, выставив перед собой факел. И теперь мягкий непрерывный бренчащий звук стал громче, и он увидел впереди – в самом конце туннеля – небольшое, почти круглое отверстие. Он остановился, раскачиваясь. – Туннель заканчивается, – прошептал Элрик. – Дальше пути нет. Малое отверстие пульсировало мягкими ровными биениями. – Пульсирующая пещера… Именно ее мы и должны увидеть в конце Туннеля Под Болотом. Вероятно, это и есть вход… – Он слишком мал – в него не войти, – резонно ответил Ракхир. – Нет… Элрик на нетвердых ногах приблизился к отверстию. Он вложил меч в ножны и отдал факел Ракхиру. Тот и слова не успел сказать, как Элрик головой вперед ринулся в отверстие, словно ввинчиваясь в него. Стены хода раздались перед ним, а потом снова сомкнулись. Ракхир остался по другую сторону. Элрик медленно поднялся на ноги. Слабый розоватый свет исходил от стен, а впереди альбинос увидел еще один вход – чуть больше, чем тот, через который он проник сюда. Воздух был теплый, густой и соленый. Элрик почти задыхался в нем. В голове у него стучало, все тело болело, и он едва мог действовать или думать – только продвигаться вперед. На подгибающихся ногах он бросился к следующему входу, слыша, как непрестанные приглушенные пульсации в его ушах становятся все громче и громче. – Элрик! За ним стоял Ракхир – бледный, вспотевший. Он оставил факел и последовал за мелнибонийцем. Элрик облизнул сухие губы и попытался заговорить. Ракхир подошел ближе. – Ракхир, ты не должен здесь находиться, – хрипло произнес Элрик. – Я же говорил, что буду помогать тебе. – Да, но… – Вот я и помогаю. Сил спорить у Элрика не было, поэтому он кивнул и руками стал раздвигать мягкие стены второго отверстия. Оно вело в пещеру, стены которой дрожали и пульсировали, а в ее середине прямо в воздухе без всякой опоры висели два меча. Два великолепных, неотличимых друг от друга огромных черных меча. Между мечами с выражением вожделения и жадности на лице стоял принц Йиркун Мелнибонийский. Он тянулся к мечам, губы его шевелились, но слов слышно не было. И сам Элрик, войдя в помещение и замерев на дрожащем полу, смог произнести одно только слово: – Нет! Йиркун услыхал это слово. Он повернулся с выражением ужаса на лице. Он зарычал, увидев Элрика, и тоже произнес одно слово, которое было одновременно и воплем ненависти: – Нет! Элрик с трудом вытащил из ножен клинок Обека. Но меч оказался слишком тяжел, и альбинос не смог удержать его на весу – острие уперлось в пол. Теперь Элрик стоял, бессильно опустив руки. Он тяжело дышал, втягивая в легкие густой Воздух, перед глазами у него все расплывалось. Йиркун превратился в тень. Четко видны были только два меча, неподвижно висевшие в центре этой круглой камеры. Элрик почувствовал, как вошел и встал рядом с ним Ракхир. – Йиркун, – сказал наконец Элрик, – эти мечи мои. Йиркун с улыбкой потянулся к мечам. От них, казалось, исходили какой-то особенный стонущий звук и слабое черное свечение. Элрик, охваченный ужасом, видел выгравированные на мечах руны. Ракхир наложил стрелу на лук, натянул до самого плеча тетиву, целясь прямо в сердце принца Йиркуна. – Если он должен умереть, только скажи мне, Элрик. – Убей его, – ответил Элрик. Ракхир отпустил тетиву. Движение стрелы было очень, очень медленным – она пролетела половину расстояния между лучником и целью и повисла в воздухе. Йиркун повернул к ним лицо, на котором застыла жуткая ухмылка. – Оружие смертных здесь бессильно, – сказал он. Элрик повернулся к Ракхиру. – Кажется, он прав. И твоя жизнь здесь в опасности, Ракхир. Уходи… Ракхир посмотрел на него недоуменным взглядом. – Нет, я должен остаться и помогать тебе. Элрик покачал головой. – Ты мне не сможешь помочь. А если останешься, то погибнешь. Уходи. Красный Лучник неохотно снял тетиву с лука, скользнул подозрительным взглядом по двум мечам, а потом протиснулся через выход и исчез. – А теперь, Йиркун, – сказал Элрик, роняя меч Обека на пол, – мы должны уладить наш спор. Ты и я.Глава четвертая Два черных меча
А затем рунные мечи Утешитель и Буревестник покинули места, на которых находились так долго. Буревестник оказался в правой руке Элрика, Утешитель – в правой руке Йиркуна. Эти двое стояли по разным концам Пульсирующей пещеры – сначала они долго смотрели друг на друга, потом на мечи в своих руках. Мечи пели. Их голоса были тихими, но вполне отчетливыми. Элрик легко поднял огромный клинок, повернул его туда-сюда, восхищаясь этой зловещей красотой. – Буревестник, – сказал он. Его охватил страх. Ему показалось, будто он родился заново, а вместе с ним появился на свет и этот рунный меч. Ощущение было такое, словно они никогда и не расставались. – Буревестник. И меч в ответ издал приятный стон и еще удобнее устроился в его руке. – Буревестник! – прокричал Элрик и прыгнул на своего кузена. – Буревестник! И он был полон страха – невыносимого страха. И этот страх вызвал в нем какую-то безумную радость, дьявольское желание драться и убить своего кузена, вонзить меч глубоко в сердце Йиркуна. Отомстить. Пролить его кровь. Отправить в ад его душу. А потом, перекрывая звенящие голоса мечей и пульсирующую дробь пещеры, раздался крик Йиркуна. – Утешитель! И Утешитель встретил удар Буревестника и, отразив его, нанес ответный – но Элрик отскочил в сторону и обрушил Буревестник на своего врага сверху и сбоку, отбросив на мгновение назад Йиркуна с его Утешителем. Но и следующий удар Буревестника был встречен. И следующий. Если силы противников были равны, то равны были и силы мечей, которым, казалось, передалась ненависть их владельцев. Лязг металла о металл превратился в безумную песню Мечей. Это была ликующая песня, словно они радовались тому, что снова наконец-то ведут бой – пусть и друг против друга. Элрик едва видел своего кузена, принца Йиркуна, лишь изредка перед ним мелькало его темное безумное лицо. Все внимание Элрика было целиком поглощено Черными Мечами, потому что ему казалось, будто мечи сражаются между собой за приз в виде жизни одного из противников – а может, и обоих. Вражда Элрика и Йиркуна меркла в сравнении с враждой мечей, словно бы наслаждавшихся возможностью сойтись в схватке после многих тысяч лет бездействия. И это наблюдение навело Элрика – который теперь сражался не только за жизнь, но и за душу – на мысль о характере его ненависти к Йиркуну. Да, он убьет Йиркуна, но не по воле другой силы. Не для того, чтобы доставить удовольствие этим зловещим мечам. Острие Утешителя мелькнуло перед его глазами, но Буревестник снова отразил удар. Элрик больше не сражался со своим кузеном. Он сражался с волей двух Черных Мечей. Буревестник рванулся к открывшемуся на мгновение горлу Йиркуна. Элрик ухватился за меч и оттащил его назад, сохранив жизнь кузену. Буревестник жалобно застонал, как собака, которой не дали укусить забравшегося в дом чужака. Стиснув зубы, Элрик процедил: – Я не твоя марионетка, рунный меч. Если мы должны быть вместе, то пусть наше единство будет основано на взаимопонимании. Меч, казалось, заколебался, потерял бдительность, и Элрик с трудом отразил неистовую атаку Утешителя, который словно почувствовал свое преимущество. Элрик вдруг ощутил, что энергия потекла через его правую руку, наполняя тело силой. Это мог сделать только меч. Теперь ему не нужны были его снадобья, теперь он никогда больше не будет испытывать приступы слабости. В бою он будет побеждать, в мирное время – править, как могущественный властелин. Он сможет путешествовать один, не опасаясь за свою жизнь. Меч словно бы напоминал ему обо всем этом, отражая одновременно атаку Утешителя. Но что меч потребует взамен? Элрик знал. Меч сказал ему об этом без всяких слов. Рунному клинку необходимо сражаться, потому что таков был смысл его существования. Буревестнику нужно было убивать, потому что это давало ему энергию – жизни и души людей, демонов, даже богов. На мгновение Элрик замер в нерешительности, и в этот момент его кузен издал пронзительный крик и устремился на него. Утешитель скользнул по шлему, отбросив альбиноса назад. Тот упал и увидел, как Йиркун перехватил свой стонущий Черный Меч двумя руками, чтобы вонзить его в тело своего кузена. И Элрик понял, что не может смириться с такой судьбой – чтобы его душа была взята Утешителем, чтобы его силы питали принца Йиркуна. Он стремительно откатился в сторону, поднялся на одно колено, повернулся и поднял Буревестник одной рукой в кольчужной рукавице за клинок, а другой – за рукоятку, чтобы отразить сильнейший удар принца Йиркуна. Два Черных Меча взвизгнули, словно от боли, задрожали, излучая черноватое сияние, которым они истекали, как истекает кровью человек, пронзенный множеством стрел. Элрика, по-прежнему стоявшего на коленях, отбросило в сторону от этого сияния. Он хватал ртом воздух и обшаривал глазами пещеру в поисках исчезнувшего из виду Йиркуна. Элрик услышал, как Буревестник снова заговорил с ним. Если Элрик не хочет умереть от Утешителя, то он должен согласиться на сделку, которую предлагает ему Черный Меч. – Йиркун не должен умереть! – сказал Элрик. – Я не стану его убивать, чтобы доставить тебе удовольствие! И тут из черного свечения возник Йиркун, он рычал, как безумный, размахивая мечом. И опять Буревестник ринулся к незащищенному месту на теле Йиркуна, и опять Элрик удержал его, и Йиркун получил лишь царапину. Буревестник бился в руке альбиноса. Элрик сказал: – Ты не будешь моим хозяином. И Буревестник словно бы понял, успокоился, как бы смирился. И Элрик рассмеялся, решив, что теперь рунный меч в его власти и с этого момента будет подчиняться ему. – Мы разоружим Йиркуна, – сказал Элрик. – Мы не будем его убивать. Альбинос поднялся на ноги. Буревестник двигался молниеносно, словно острие рапиры. Он отражал удары, делал ложные движения, нападал. Йиркун, который только что чувствовал себя победителем, с рычанием отступал, торжествующая ухмылка исчезла с его мрачного лица. Теперь Буревестник действовал заодно с Элриком. Он совершал выпады, нужные Элрику. И Йиркун, и Утешитель были словно обескуражены таким поворотом событий. Утешитель, казалось, кричал в недоумении, не в силах понять поведения брата. Альбинос нанес удар по правой руке своего кузена – пронзил одежду, пронзил плоть, пронзил сухожилия, пронзил кость. Хлынула кровь, рука Йиркуна покрылась красным, кровь залила рукоятку меча. Скользкая кровь ослабила хватку принца – он уже не мог, как прежде, держать свой рунный меч. Он взял его в обе руки, но все равно не мог удерживать его крепко. Элрик тоже взял Буревестник обеими руками. Неземная сила наполнила его тело. Сильнейшим ударом обрушил он Буревестник на Утешителя в том месте, где лезвие переходило в рукоять. Рунный меч выпал из рук Йиркуна и заскользил по полу Пульсирующей пещеры. Элрик улыбнулся. Он подчинил волю своего меча своей воле, а кроме того, сумел победить меч-близнец. Утешитель ударился о стену Пульсирующей пещеры и замер на несколько мгновений. Словно бы стон вырвался из потерпевшего поражение меча. Высокий вопль наполнил Пульсирующую пещеру. Чернота затопила призрачный розовый свет и погасила его. Когда свет вернулся, Элрик увидел лежащие у его ног ножны. Ножны были черные – той же зловещей работы, что и рунный меч. Элрик увидел Йиркуна. Принц стоял, рыдая, на коленях, глаза его рыскали по стенам пещеры в поисках Утешителя. Он с испугом взглянул на Элрика, понимая, что сейчас должен умереть. – Утешитель? – безнадежно позвал Йиркун. Он знал, что его последний час наступил. Утешитель исчез из Пульсирующей пещеры. – Твоего меча нет, – спокойно сказал Элрик. Йиркун заскулил и пополз ко входу в пещеру. Но вход сузился до размера монетки. Йиркун зарыдал. Буревестник дрожал, он жаждал заполучить душу Йиркуна. Элрик ссутулился. Йиркун торопливо заговорил: – Не убивай меня, Элрик. Только не этим рунным мечом. Я сделаю все, что ты скажешь. Я готов умереть любым другим способом. Элрик сказал: – Мы жертвы заговора, кузен, игры, разыгранной богами, демонами и одушевленными мечами. Они хотят, чтобы один из нас умер. Я подозреваю, что они больше хотят твоей смерти, чем моей. И по этой причине я не убью тебя здесь. Он подобрал ножны и убрал в них Буревестник – тот моментально успокоился. Элрик снял свои прежние ножны и оглянулся в поисках меча Обека, но и его нигде не было. Альбинос отбросил старые ножны и пристегнул новые к поясу. Он положил левую ладонь на рукоять Буревестника и не без жалости посмотрел на существо, которое было его кузеном. – Ты червяк, Йиркун. Но твоя ли это вина? Йиркун недоуменно посмотрел на него. – Любопытно: если бы ты получил все, что хотел, то перестал бы быть червем? Йиркун поднялся на колени. В его глазах блеснул лучик надежды. Элрик улыбнулся и глубоко вздохнул. – Ну что ж, посмотрим, – сказал он. – Ты должен разбудить Симорил. – Я подчиняюсь тебе, Элрик, – сказал Йиркун смиренным тоном. – Я разбужу ее. Вот только… – Ты не можешь разрушить эти чары? – Нам не выйти из Пульсирующей пещеры. Время ушло… – Как это? – Я не знал, что ты последуешь за мной, и думал, что Потом смогу без труда прикончить тебя. Но теперь время прошло. Вход можно удерживать открытым только малое время. Он пропускает любого, кто пожелает войти в Пульсирующую пещеру, но никого не выпускает, когда действие колдовства заканчивается. Я потратил столько сил, чтобы узнать это колдовство. – Ты растратил всего себя на пустяки, – сказал Элрик. Он подошел ко входу и заглянул в него. С другой стороны ждал Ракхир. Лицо Красного Лучника выражало беспокойство. Элрик сказал ему: – Воин-жрец из Фума, похоже, мы с моим кузеном оказались здесь в ловушке. Пещера не выпускает нас. – Элрик потрогал рукой теплое влажное вещество, из которого состояла стена. Она подалась лишь чуть-чуть. – Ты можешь либо присоединиться к нам, либо вернуться назад. Если присоединишься к нам, то разделишь нашу судьбу. – Но если я вернусь, то моя судьба тоже будет не лучше, – сказал Ракхир. – Есть у вас хоть какие-то шансы? – Всего один, – ответил Элрик. – Я могу вызвать моего покровителя. – Владыку Хаоса? – Лицо Ракхира перекосила гримаса. – Именно, – сказал Элрик. – Я вызову Ариоха. – Ариоха? Ну что ж, ему нет дела до беглеца из Фума. – Так что ты выбираешь? Ракхир сделал шаг вперед – Элрик отошел назад. В отверстии сначала появилась голова Ракхира, потом его плечи, а Потом и весь он целиком. Вход за ним тут же сомкнулся. Ракхир выпрямился и, отвязав тетиву от лука, расправил ее рукой. – Я согласился разделить твою судьбу – поставить на карту все, лишь бы выбраться из этого измерения, – сказал Красный Лучник. Он с удивлением посмотрел на Йиркуна. – Твой враг все еще жив? – Да. – Ты воистину милосерден. – Возможно. Или упрям. Я не хочу убивать его только за то, что какие-то потусторонние силы сделали его в своей игре пешкой, которую я должен убить, если одержу победу. Я еще не полностью принадлежу Владыкам Высших Миров, и Никогда не буду принадлежать, пока во мне остается хоть капля воли, чтобы противиться им. Ракхир ухмыльнулся. – Я разделяю твой взгляд на мир, хотя и не уверен в том, что он отражает истинное положение вещей. Я смотрю, ты завладел одним из этих Черных Мечей. А нельзя ли им прорубиться наружу? – Нет, – сказал Йиркун со своего места у стены. – Вещество, из которого сделаны эти стены, не поддается никакому воздействию. – Я поверю тебе, – сказал Элрик, – потому что не собираюсь часто пользоваться этим мечом. Сначала я должен научиться управлять им. – Значит, придется вызвать Ариоха, – вздохнул Ракхир. – Если только это возможно, – сказал Элрик. – Он наверняка уничтожит меня, – сказал Ракхир, глядя на Элрика в надежде, что альбинос опровергнет это утверждение. Вид у Элрика был мрачный. – Возможно, мне удастся заключить с ним сделку. А еще это будет проверкой. Элрик повернулся спиной к Йиркуну и Ракхиру. Сосредоточившись, он послал мысленнный зов сквозь огромные расстояния и сложные лабиринты и воскликнул: – Ариох! Ариох! Помоги мне, Ариох! Он почувствовал, что что-то слушает его. – Ариох! Что-то шевельнулось в тех местах, куда направлялась его мысль. – Ариох… И Ариох услышал его. Элрик знал, что это Ариох. Ракхир испустил испуганный крик. Взвизгнул в страхе и Йиркун. Элрик повернулся и увидел: у дальней стены появилось что-то отвратительное. Оно было черно и грязно, оно пускало слюни, и его форма была невыносимо зловещей. Неужели это был Ариох? Как такое возможно? Ведь прежде он был прекрасен. Но возможно, подумал Элрик, такова истинная внешность Владыки Хаоса. В этом мире, в этой пещере Ариох не мог ввести в заблуждение тех, кто смотрел на него. Но вдруг эта форма исчезла, и вместо нее появился преКрасный юноша с древними глазами – он смотрел на трех смертных. – Ты завоевал меч, Элрик, – сказал Ариох, не обращая внимания на остальных. – Поздравляю. И ты пощадил жизнь своего кузена. Почему? – Причин несколько, – ответил Элрик. – Но, скажем, он должен оставаться живым, чтобы разбудить Симорил. Лицо Ариоха помрачнело на мгновение, загадочная улыбка пробежала по нему, и Элрик понял, что избежал ловушки. Если бы он убил Йиркуна, разбудить Симорил было бы неВозможно. – А что делает с тобой этот маленький предатель? – Ариох холодно глянул на Ракхира, который изо всех сил старался не спасовать перед Владыкой Хаоса и не отвел взгляда. – Он мой друг, – сказал Элрик. – Я заключил с ним договор: если он поможет мне найти Черный Меч, то я возьму его с собой в наш мир. – Это невозможно. Ракхир сослан сюда. Таково его наказание. – Он вернется со мной, – сказал Элрик. Он ослабил крепление ножен и, вытащив из них Буревестник, выставил меч перед собой. – Или я не возьму этот меч. И тогда мы все втроем останемся здесь навсегда. – Это неразумно, Элрик. Подумай о своих обязанностях. – Я уже подумал. Таково мое решение. На спокойном лице Ариоха появилось гневное выражение. – Ты должен взять с собой этот меч. Такова твоя судьба. – Это ты говоришь. Но я знаю, что этот меч может принадлежать только мне. Он не может принадлежать тебе, Ариох, иначе ты бы уже давно завладел им. Только я или другой смертный вроде меня может вынести его из Пульсирующей пещеры. Разве не так? – Ты умен, Элрик из Мелнибонэ, – с ироническим восхищением сказал Ариох. – Ты вполне подходишь для того, чтобы служить Хаосу. Отлично. Пусть этот предатель отправляется с тобой. Но пусть он поостережется. Владыки Хаоса мстительны… Ракхир сиплым голосом произнес: – Я слышал об этом, владыка Ариох. Ариох не обратил внимания на слова лучника. – В конечном счете, судьба этого типа из Фума не имеет никакого значения. А если ты хочешь пощадить жизнь своего кузена – так тому и быть. Это ничего не решает. У судьбы Может быть несколько лишних нитей в ее пряже, но цель при этом останется неизменной. – Хорошо, – сказал Элрик. – Выведи нас отсюда. – Куда? – В Мелнибонэ, если ты не возражаешь. Улыбаясь почти ласково, Ариох посмотрел на Элрика и потрепал его по щеке мягкой рукой. – Ты, несомненно, самый милый из моих рабов, – сказал Владыка Хаоса, внезапно вырастая вдвое. Раздалось журчание. Послышался звук, напоминающий рев моря. Элрик ощутил приступ жуткой тошноты. В мгновение ока все трое оказались в большом тронном зале Имррира. В зале было пусто, только в одном углу клубилась какая-то черная тень – но и она вскоре исчезла. Ракхир пересек зал и осторожно уселся на нижней из ступенек, ведущих к Рубиновому трону. Йиркун и Элрик не двинулись с места – они смотрели в глаза друг другу. Потом Элрик рассмеялся и похлопал по ножнам, в которых покоился меч. – А теперь, кузен, ты должен выполнить свое обещание. И тогда я тебе сделаю одно предложение. – Мы как на рынке, – сказал Ракхир. Он сидел, подперев голову локтем и изучая перо на своей алой шапке. – Сплошные сделки.Глава пятая Милосердие бледного короля
Йиркун отступил от постели своей сестры. Вид у него был усталый, лицо осунулось. – Готово, – произнес он безжизненным голосом. Затем отвернулся и через окно бросил взгляд на башни Имррира, на гавань, где стояли на якорях золотые боевые барки и корабль, подаренный королем Страашей Элрику. – Она сейчас проснется, – рассеянно проговорил Йиркун. Дивим Твар и Ракхир Красный Лучник вопросительно смотрели на Элрика, который стоял на коленях подле кровати и смотрел в лицо Симорил. На ее лице появилось умиротворенное выражение, и на одно страшное мгновение ему показалось, что принц Йиркун обманул его и убил Симорил. Но Потом ее веки дрогнули, глаза открылись, и она улыбнулась, увидев его. – Элрик? Сны… Ты в безопасности? – В безопасности, Симорил. Как и ты. – А Йиркун?.. – Он разбудил тебя. – Но ты поклялся убить его… – Я был околдован, как и ты. Мой ум пребывал в смятении. Я до сих пор еще не во всем разобрался. Но Йиркун Теперь стал другим. Я победил его. Он не оспаривает моей власти. Он больше не стремится на Рубиновый трон. – Ты милосерден, Элрик. – Она откинула волосы с лица. Элрик обменялся взглядами с Ракхиром. – Возможно, мной движет не милосердие, – сказал Элрик. – Возможно, это просто чувство дружбы к Йиркуну. – Дружбы? Но не можешь же ты питать дружеские чувства к… – Мы оба смертные. Мы оба жертвы игры, разыгранной Владыками Высших Миров. Я должен проявлять сострадание к своим соплеменникам – поэтому-то я перестал ненавидеть Йиркуна. – Это и есть милосердие, – сказала Симорил. Йиркун направился к двери. – Позволь мне уйти, мой император. Элрику показалось, что он увидел странный блеск в глазах своего поверженного кузена. Но, возможно, это были только униженность или отчаяние. Элрик кивнул. Йиркун вышел и тихо закрыл за собой дверь. Дивим Твар сказал: – Не доверяй Йиркуну, Элрик. Он предаст тебя еще раз. – На лице повелителя Драконьих пещер появилось обеспокоенное выражение. – Нет, – сказал Элрик. – Если он и не боится меня, то боится меча, которым я владею. – И ты тоже должен бояться этого меча, – сказал Дивим Твар. – Нет, – ответил Элрик. – Я хозяин этого меча. Дивим Твар хотел было возразить, но лишь грустно покачал головой, кивнул и вышел вместе с Ракхиром Красным Лучником, оставив Элрика и Симорил наедине. Симорил обняла Элрика. Они поцеловались. Они заплакали.В Мелнибонэ целую неделю продолжался праздник. Теперь уже почти все корабли, воины и драконы вернулись домой. Вернулся домой и Элрик, так убедительно доказав свое право властвовать, что население приняло все его причуды – из которых самой странной представлялось его «милосердие». В тронном зале устроили бал, и это был самый роскошный бал на памяти придворных. Элрик танцевал с Симорил, принимал участие во всем, что происходило. Только Йиркун не танцевал, предпочитая оставаться в тихом уголке под галереей с музыкальными рабами. Никто из гостей не обращал на него внимания. Ракхир Красный Лучник танцевал с разными мелнибонийскими дамами и всем им назначал свидания – ведь он теперь был в Мелнибонэ героем. Танцевал и Дивим Твар, хотя в его глазах, как только они останавливались на принце Йиркуне, появлялось задумчивое выражение. А потом, когда гости угощались, Элрик заговорил с Симорил. Они оба сидели на подмостках Рубинового трона. – Ты хочешь стать императрицей, Симорил? – Ты же знаешь, что я выйду за тебя, Элрик. Мы оба знали это уже много лет назад. – Значит, ты станешь моей женой? – Да. – Она рассмеялась, думая, что он шутит. – А ты готова не быть императрицей? По крайней мере, в течение года? – Что ты имеешь в виду, мой господин? – Я должен буду на год уехать из Мелнибонэ. То, что я узнал за последние месяцы, вынуждает меня отправиться в Молодые королевства, посмотреть, как ведут свои дела другие народы. Потому что я уверен: если мы хотим, чтобы Мелнибонэ продолжало существовать, оно должно измениться. Мелнибонэ может стать огромной доброй силой в этом мире, потому что оно еще не утратило своего влияния. – Доброй силой? – Симорил была удивлена, и еще в ее голосе слышалась тревога. – Мелнибонэ никогда не выступало за добро или зло – только за себя и удовлетворение своих желаний. – Я должен изменить это. – Ты собираешься переделать все? – Я собираюсь отправиться в путешествие по миру, а потом посмотреть, есть ли смысл в таком решении. Владыки Высших Миров вынашивают честолюбивые намерения, связанные с нашим миром. И хотя они и предоставили мне недавно помощь, я опасаюсь их. Я бы хотел понять, могут ли люди Сами управляться со своими делами. – Значит, ты уезжаешь? – В ее глазах появились слезы. – Когда? – Завтра… вместе с Ракхиром. Мы возьмем корабль короля Страаши и направимся на остров Пурпурных городов, где у Ракхира есть друзья. Ты хочешь отправиться со мной? – Не могу себе представить… Не могу. Ах, Элрик, зачем отказываться от счастья, которым мы владеем теперь? – Затем, что это счастье будет недолгим, пока мы не разберемся, кто мы такие. Она нахмурилась. – Что ж, значит, ты должен разобраться в этом, – медленно сказала она. – Но ты должен сделать это один, потому что у меня нет такого желания. Ты должен сам отправиться в Земли варваров. – И ты не хочешь сопровождать меня? – Это невозможно. Я… я мелнибонийка. – Она вздохнула. – Я люблю тебя, Элрик. – И я тебя люблю, Симорил. – Значит, мы поженимся, когда ты вернешься. Через год. Элрик был исполнен печали, но он знал, что его решение правильно. Если он не уедет, им скоро овладеет беспокойство и он будет смотреть на Симорил как на врага, который заманил его в ловушку. – До моего возвращения ты должна будешь править как императрица, – сказал он. – Нет, Элрик, я не могу принять на себя такую ответственность. – Тогда кто?.. Дивим Твар?.. – Я знаю Дивима Твара. Ему не по силам такая власть. Может быть, Магум Колим?.. – Нет. – Тогда скажи ты, Элрик. Элрик обвел взглядом тронный зал внизу. Он остановился на одинокой фигуре под галереей музыкальных рабов. Элрик иронически улыбнулся и сказал: – Тогда это должен быть Йиркун. Симорил пришла в ужас. – Нет, Элрик, он будет злоупотреблять властью… – Теперь не будет. И это справедливо. Он единственный, кто хотел стать императором. И теперь он может властвовать как император целый год до моего возвращения. Если он будет править хорошо, то, может быть, я по возвращении отрекусь в его пользу. Если же он будет править плохо, то таким образом раз и навсегда будет доказано, что все его амбиции ничего не стоят. – Элрик, – сказала Симорил. – Я люблю тебя. Но ты глупец… ты преступник, если ты еще раз поверишь Йиркуну. – Нет, – мягко возразил он. – Я не глупец. Я всего лишь Элрик. И с этим я ничего не могу поделать, Симорил. – И это тот Элрик, которого я люблю! – зарыдала Симорил. – Но Элрик обречен. Если ты не останешься, обречены мы все. – Я не могу остаться. Потому что люблю тебя, Симорил. Она встала. Она плакала. Она была потрясена. – А я – Симорил, – сказала она. – Ты погубишь нас обоих. – Ее голос смягчился, она погладила волосы Элрика. – Ты уничтожишь нас, Элрик. – Нет, – ответил он. – Я построю кое-что получше. Я открою новое. Когда я вернусь, мы поженимся. Мы будем жить долго и счастливо, Симорил. И вот Элрик изрек три неправды. Первая – о его кузене Йиркуне. Вторая – о Черном Мече. Третья – о Симорил. И эти три неправды определили судьбу Элрика – ведь именно в том, что для нас важнее всего, мы лжем открыто и с глубокой убежденностью.
Эпилог
Был порт, что звался Мений, и был он самым спокойным и дружественным из всех портов Пурпурных городов. Как и другие города на острове, он был построен в основном из пурпурного камня, который и дал городам название. Крыши домов были красными, и множество разных кораблей под яркими парусами стояли в гавани, которая открылась взглядам Элрика и Ракхира Красного Лучника, когда они ранним утром приблизились к берегу. Увидели они и нескольких моряков, торопившихся к своим судам. Прекрасный корабль короля Страаши бросил якорь на некотором расстоянии за пределами волнолома гавани. На маленькой лодке доплыли они до берега и оглянулись на свой корабль. Они плыли без команды, сами по себе, и корабль хорошо слушался их. – Итак, я должен найти легендарный Танелорн и обрести покой, – сказал Ракхир, и в голосе его слышалась изрядная доля самоиронии. Он потянулся и зевнул – лук затанцевал на его спине. Элрик был одет просто, как любой солдат удачи из Молодых королевств. Вид у него был подтянутый и энергичный, альбинос улыбался солнцу. Единственной примечательной вещью у него был рунный клинок на боку. Пока этот меч был при нем, Элрику требовалось гораздо меньше снадобий, Чтобы поддерживать в нем жизнь. – А я должен искать знания в тех местах, что помечены на моей карте, – сказал Элрик. – Я должен учиться и к концу года привезти свои знания в Мелнибонэ. Жаль, что Симорил нет со мной, но я ее понимаю. – Ты вернешься? – спросил Ракхир. – Вернешься, когда год истечет? – Она притянет меня назад! – рассмеялся Элрик. – Единственное, чего я боюсь, так это как бы не дать слабину и не вернуться до завершения моих поисков. – Я хотел бы сопровождать тебя, – сказал Ракхир, – потому что я посетил многие страны и мог бы стать тебе хорошим проводником – не хуже, чем был в потустороннем мире. Но я поклялся найти Танелорн, хотя, насколько мне известно, никакого Танелорна на самом деле нет. – Я надеюсь, ты найдешь его, воин-жрец из Фума, – сказал Элрик. – Я уже никогда не буду воином-жрецом, – сказал Ракхир. Вдруг его глаза расширились. – Смотри – твой корабль! Элрик оглянулся и увидел, как корабль, называвшийся когда-то Кораблем, что плавает по суше и по морю, медленно уходит под воду. Король Страаша забирал его себе. – Элементали – мои друзья, – сказал он. – Но я боюсь, их могущество слабеет, как слабеет и Мелнибонэ. Хотя Обитатели Молодых королевств и считают, что мы, мелнибонийцы, – воплощение зла, у нас много общего с духами Воздуха, Земли, Огня и Воды. Мачты корабля скрылись под водой, и Ракхир сказал: – Я завидую, что у тебя такие друзья, Элрик. Ты можешь доверять им. – Да. Ракхир посмотрел на рунный меч, висевший у бедра Элрика. – Но лучше бы тебе не верить больше никому, – добавил он. Элрик рассмеялся. – Не опасайся за меня, Ракхир. Я сам себе хозяин – по крайней мере на год. К тому же я теперь хозяин этого меча. Меч, казалось, шевельнулся у него на боку, и Элрик, положив ладонь на рукоять меча, похлопал Ракхира по спине и рассмеялся, встряхнув головой так, что его белые волосы разметались по ветру. А потом он поднял свои необычные темно-красные глаза к небесам и сказал: – Когда я вернусь в Мелнибонэ, я буду совсем другим.Майкл Муркок Скиталец по морям судьбы
Посвящается Биллу Батлеру, Майку и Тони, а также всем работникам издательства «Юникорн букс» в Уэльсе
Часть первая Плавание в будущее
Глава первая В которой принц драконов поднимается на борт таинственного корабля
Казалось, что человек стоит в огромной пещере, своды и стены которой были сложены из неустойчивых сгустков темного света, время от времени пропускающих внутрь свет луны. Трудно было поверить, что эти стены – всего лишь тучи над горами и океаном, если бы лунные лучи не пронзали их, высвечивая штормовое море, омывавшее берег, на котором стояла одинокая фигура. Вдали прогремел гром, сверкнула молния. Пошел дождь. Тучи ни мгновения не оставались на месте. Они вихрились, приобретая разные оттенки – от густо-черного до мертвенно-бледного; они напоминали плащи мужчин и женщин, танцующих какой-то гипнотический менуэт. Человек, стоявший на гальке мрачного берега, глядя на тучи, представлял себе гигантов, пляшущих под музыку далекого шторма, и чувствовал себя так, как может чувствовать человек, который неосторожно зашел в зал, где веселятся боги. Он перевел взгляд с туч на воду. Море казалось уставшим. Огромные волны с трудом наползали одна на другую и падали в изнеможении с тяжелым вздохом на твердые камни. Человек поглубже натянул на голову капюшон. Он несколько раз оглянулся через облаченное в кожу плечо и подошел поближе к воде, так что буруны стали докатываться до носков его высоких черных сапог. Постарался заглянуть в пустоту, образованную скоплением туч, но ничего разглядеть не смог. Невозможно было сказать, что там, на другой стороне водного пространства, и как далеко оно простирается. Он наклонил голову, прислушался, но не услышал Ничего, кроме звуков небес и моря. Вздохнул. На мгновение его коснулся лунный луч, и на белом лице стали видны два малиновых глаза, полных страдания. Затем вернулась темнота. Человек снова оглянулся, явно опасаясь того, что луч света мог обнаружить его перед каким-то врагом. Стараясь не шуметь, он направился влево – к укрытию в скалах. Элрик устал. Он по наивности предложил губернатору города Райфель в стране, называющейся Пикарайд, свои услуги в качестве наемника. За свою глупость он поплатился – его посадили в тюрьму как мелнибонийского шпиона (губернатору было совершенно очевидно, что никем другим Элрик быть не может), и ему лишь недавно удалось бежать оттуда с помощью взяток и небольшого колдовства. Однако за ним почти сразу же снарядили погоню. Для этого использовали специально обученных собак, и сам губернатор возглавлял преследование даже за пределами Пикарайда – в необитаемых сланцевых долинах, называемых Мертвыми Холмами, где почти ничего не росло, да и не пыталось расти. Альбинос поднялся по крутым склонам невысоких гор; склоны были из серого крошащегося сланца, отчего его восхождение можно было услышать за милю. Он уходил от своих преследователей по долинам, похожим на пустыню, по руслам рек, которые десятки лет не видели воды, по пещерам-туннелям, в которых не было даже сталактитов, по плато, на которых возвышались каменные курганы, возведенные исчезнувшим народом, – и наконец ему стало казаться, что он навсегда покинул знакомый ему мир, пересек границу потустороннего и оказался в тех мрачных местах, о которых читал в легендах его народа, где когда-то безрезультатно сражались между собой Закон и Хаос, оставив после себя опустошенные земли, на которых никогда больше не сможет возродиться жизнь. В конце концов он загнал своего коня, и сердце животного разорвалось; Элрик оставил его труп и продолжил бегство пешком, направляясь к морю, к этому узкому берегу, и теперь он не мог ни идти вперед, ни вернуться назад, опасаясь, что враги подстерегут его. Он много бы отдал сейчас за лодку. Скоро собаки обнаружат его след и выведут своих хозяев к берегу. Его пробрала дрожь. Уж лучше умереть здесь в одиночестве, быть убитым теми, кто даже не знает его имени. Он жалел только, что Симорил не будет знать, почему он не вернулся к концу года. Пищи у него оставалось мало, подходили к концу и запасы снадобья, которое поддерживало в нем силы. Не возобновив в себе энергии, он не мог воспользоваться колдовством, с помощью которого можно было попытаться получить какое-нибудь плавучее средство, пересечь море и попасть, скажем, на остров Пурпурных городов, народ которого был меньше всех враждебен Мелнибонэ. Прошли месяцы с тех пор, как он оставил свой двор, будущую королеву, посадил до своего возвращения на троне Йиркуна. Он полагал, что узнает больше о человеческой породе, населяющей Молодые королевства, если поживет среди них, – но они не принимали его, демонстрируя либо свою неприкрытую ненависть, либо настороженность, либо покорность. Нигде он не нашел никого, готового поверить, что мелнибониец (а они не знали, что он – император) по доброй воле решил связать свою судьбу с человеческими существами, которые когда-то были в рабстве у этой жестокой и древней расы. И вот теперь, стоя у бушующего моря, чувствуя себя в западне и почти уже побежденным, Элрик знал, что он один во враждебной вселенной, без друзей и без цели – бесполезный больной анахронизм, глупец, низведенный на самое дно собственным комплексом неполноценности, своей полной неспособностью верить в правоту или несправедливость чего бы то ни было. Ему недоставало веры в собственную расу, в право властвовать, полученное им от рождения, в богов или людей, а самое главное – ему недоставало веры в себя самого. Его шаг замедлился, ладонь легла на рукоять рунного меча. Буревестник, полуразумное создание неведомых сил, оставался теперь его единственным спутником, его единственным наперсником, и у Элрика вошло в болезненную привычку говорить с мечом, как другие говорят с конем или как заключенный может делиться мыслями с тараканом в камере. – Ну так что, Буревестник, может быть, зайдем в море и покончим со всем этим? – Голос его звучал глухо, едва слышно. – Так мы по крайней мере получим удовольствие, введя в недоумение наших преследователей. Он сделал нерешительное движение в сторону моря, но его усталому мозгу показалось, что меч запротестовал, зашевелился у него на бедре, потянул его назад. Альбинос усмехнулся. – Ты существуешь, чтобы жить и забирать жизни. А я, судя по всему, существую, чтобы нести тем, кого я люблю и ненавижу, освобождение в смерти, – и в конце концов умереть. Иногда так мне и кажется. Печальная закономерность, если только это действительно закономерность. Но за этим должно стоять что-то большее… Он повернулся спиной к морю и, подставив лицо легкому дождю, принялся вглядываться в чудовищные тучи, что клубились у него над головой. Прислушался к сложной, печальной музыке моря, обрушивающегося волнами на скалы и гальку и вновь откатывающегося назад. Дождь лишь немного освежил его. Он не спал две ночи совсем, а перед этим почти не спал еще несколько ночей. До того как загнать до смерти лошадь, он скакал почти неделю. У основания влажного гранитного утеса, поднимавшегося футов на тридцать над его головой, он нашел выемку, в которой можно было спрятаться от порывов дождя и ветра. Завернувшись поплотнее в кожаный плащ, он протиснулся в эту нору и сразу же заснул. Пусть они его найдут, пока он спит. Он хотел умереть, не зная об этом. Элрик шевельнулся, и в глаза ему ударил резкий серый свет. Он поднял голову, едва сдержав стон – шея у него затекла, – и открыл глаза. Моргнул. Настало утро. Может, даже уже был день, но солнца видно не было. Берег был покрыт холодным туманом. Сквозь туман на небе все еще были видны темные тучи, создававшие эффект огромной пещеры. Море слегка волновалось, продолжая плескаться и шипеть, набегая на берег, хотя и казалось гораздо спокойнее, чем накануне вечером. Звука бури больше не было слышно. Воздух сильно похолодал. Элрик приподнялся, опираясь на меч, и внимательно прислушался – но ничто не говорило о приближении его врагов. Они, несомненно, прекратили поиски – возможно, после того как нашли его коня. Элрик вытащил из поясной сумки ломоть копченого бекона и сосуд с желтоватой жидкостью. Глотнув из сосуда, он вставил на место пробку и, вернув сосуд в сумку, принялся жевать бекон. Он испытывал жажду. Он побрел вдоль берега и нашел лужицу с дождевой водой, почти не испорченной солью. Он напился, поглядывая вокруг. Туман был довольно густым, и Элрик знал: если он отойдет далеко от берега, то сразу же заблудится. Впрочем, имело ли это какое-то значение? Ему некуда было идти. Его преследователи поняли это. Без коня он не может вернуться в Пикарайд, самое восточное из Молодых королевств. Без лодки он не сможет выйти в море и попытаться вернуться на остров Пурпурных городов. Он не помнил ни одной карты, на которой было бы показано восточное море, и понятия не имел, далеко ли он ушел от Пикарайда. Император решил, что если хочет выжить, то должен идти на север – другой возможности у него нет. Он должен идти вдоль берега в надежде рано или поздно выйти к какому-нибудь порту или рыбацкой деревне, где он сможет немногими оставшимися у него вещами заплатить за плавание по морю. Но эта надежда была невелика, потому что еды и снадобья осталось у него от силы на день-два. Он глубоко вздохнул, готовясь к пути, и тут же пожалел об этом: туман впился ему в горло и легкие тысячью булавочек. Закашлялся. Сплюнул на гальку. И тут он услышал нечто иное, чем переменчивый шепоток моря. Это было мерное поскрипывание, словно звук шагающих ног, обутых в жесткую кожу. Его правая рука переместилась к левому бедру и мечу, висевшему там. Он поворачивался в разные стороны в поисках источника шума, но в тумане ничего нельзя было понять. Шум мог доноситься откуда угодно. Элрик украдкой направился назад к своему убежищу и, встав спиной к утесу, чтобы никто не мог подобраться к нему сзади, стал ждать. Скрип повторился, и к нему добавились другие звуки. Элрик услышал позвякивание, всплески, похоже – какой-то голос, шаги по дереву. И тут он понял, что либо у него начались галлюцинации – побочный эффект его снадобья, либо он слышал, как корабль приблизился к берегу и встал на якорь. Элрик вздохнул с облегчением; у него возникло искушение посмеяться над собой – уж слишком быстро он решил, что этот берег необитаем. Он думал, что эти мрачные утесы тянутся на многие мили, возможно на сотни миль во всех направлениях. Вероятно, эта мысль была следствием усталости и мрачного настроения. Элрику пришло в голову, что он вполне мог открыть страну, не нанесенную на карту, но достаточно цивилизованную, где есть корабли и гавани для них. Но альбинос не спешил покинуть свое укрытие. Напротив, он отошел за утес, вглядываясь в туман в направлении моря. Наконец он разглядел тень, которой не было там вчера. Черная угловатая тень, которая не могла быть ничем иным, как кораблем. Он заметил что-то похожее на корабельные канаты, услышал что-то напоминающее звуки голосов, поскрипывание снастей – спускались паруса на мачте. Элрик прождал не меньше часа, ожидая, что команда сойдет на берег, иначе зачем они вообще входили в эту опасную бухту. Но на корабль опустилась тишина, словно вся команда улеглась спать. Элрик осторожно вышел из-за утеса и пошел к кромке берега. Теперь очертания корабля вырисовывались яснее на фоне красноватого солнечного света за ним, слабого и водянистого, рассеянного туманом. Это был корабль средних размеров, весь сработанный из черного дерева. Его конструкция была замысловатой, незнакомой Элрику – высокие палубы на корме и носу и никаких следов весельных портов. Это было необычно для корабля – ни в Мелнибонэ, ни в Молодых кородевствах таких не делали, – что вроде бы подтверждало его мысль: он столкнулся с цивилизацией, по какой-то причине отрезанной от остального мира, как Элвер или Неведомый Восток были отделены от остального мира огромными пространствами Вздыхающей пустыни и Плачущей пустоши. Он не видел никакого движения на борту, не слышал звуков, какие предполагаешь услышать на корабле, даже когда большая часть команды отдыхает. Туман слегка рассеялся, и теперь больше солнечных лучей освещало корабль. Элрик увидел мощные штурвалы как на носовой, так и на кормовой палубах, стройную мачту, свернутый парус, сложную геометрическую резьбу перилец и ростра, огромный, искривленный нос, который создавал ощущение силы и мощи, и Альбинос даже подумал, что перед ним военный, а не торговый корабль. Но с кем можно сражаться в этих водах? Он, забыв об осторожности, сложил ладони чашечкой, поднес их ко рту и крикнул: – Эй, на борту! Элрику показалось, что в тишине, которая была ему ответом, присутствует какая-то нерешительность, словно люди на борту услышали его, но не знают – следует ли им отвечать. – Эй, на борту! Налевой палубе появилась фигура, перевесилась через борт, глядя в его сторону. На незнакомце были доспехи, такие же темные и странные, как конструкция корабля. Шлем скрывал большую часть лица, но Элрик разглядел густую золотистую бороду и проницательные голубые глаза. – Эй, на берегу, – сказал человек в доспехах. Его акцент был незнаком Элрику, тон его, как и вообще манеры, был небрежен. Элрику показалось, что человек улыбнулся. – Что тебе от нас надо? – Помощи, – сказал Элрик. – Я попал в беду. Мой конь пал. Я заблудился. – Заблудился? Ух ты! – Голос человека эхом разнесся в тумане. – Заблудился. И ты хочешь подняться на борт? – Я могу заплатить, хотя и не очень много. Я могу предложить свои услуги в качестве платы, если вы доставите меня до ближайшего порта, куда направляетесь, или высадите где-нибудь вблизи Молодых королевств. Там я обзаведусь картой и смогу двигаться дальше самостоятельно… – Ну что ж, – неторопливо сказал другой, – для воина всегда найдется работа. – У меня есть меч, – сказал Элрик. – Вижу. Хорошее боевое оружие. – Так я могу подняться на борт? – Сначала мы должны посоветоваться. Подожди немного… – Конечно, – сказал Элрик. Манеры этого человека привели Элрика в замешательство, но перспектива тепла и еды на борту воодушевила его. Он терпеливо ждал, и наконец рыжебородый воин снова появился на палубе. – Как тебя зовут? – спросил воин. – Я Элрик из Мелнибонэ. Воин вроде бы сверялся со списком – его палец скользил по пергаментному свитку; наконец рыжебородый удовлетворенно кивнул и засунул список за пояс с огромной пряжкой. – Ну что ж, – сказал он, – ожидание имело смысл. Я никак не мог поверить. – И о чем же вы совещались и чего ждали? – Тебя, – сказал воин, сбрасывая за борт веревочную лестницу, конец которой погрузился в воду. – Добро пожаловать на борт, Элрик из Мелнибонэ.Глава вторая Слепой капитан
Элрика удивила небольшая глубина моря, и он не мог понять, как столь большой корабль смог подойти так близко к берегу. Войдя в море по грудь, альбинос ухватился за черную ступень лестницы. С большим трудом удалось ему вытащить свое тело из воды – ему мешали и покачивание корабля, и тяжесть рунного меча, но в конце концов он все-таки перевалился через борт и встал на палубу. Вода стекала с его одежды, он весь дрожал от холода. Элрик огляделся. Сверкающий красноватый туман прилип к темным реям и такелажу, белый туман лежал на крыше и боковинах двух больших строений, расположенных перед мачтой и за ней, и этот туман не был похож на тот, что висел в воздухе за кораблем. Элрику даже показалось, что этот туман путешествует вместе с кораблем. Он улыбнулся про себя, объясняя свои странные ощущения тем, что он почти не спал и не ел. Когда корабль окажется в более солнечных водах, Элрик наверняка увидит, что это совершенно обыкновенное судно. Светловолосый воин взял Элрика за руку. Ростом он не уступал альбиносу и имел плотное телосложение. Улыбнувшись под шлемом, он сказал: – Идем вниз. Они подошли к сооружению перед мачтой, и воин, открыв раздвижную дверь, отступил в сторону, пропуская Элрика вперед. Пригнувшись, альбинос вошел в теплое помещение. Здесь горела лампа красно-серого стекла, висевшая на четырех серебряных цепочках, прикрепленных к потолку. В свете лампы Элрик увидел несколько плотных фигур в доспехах самого разнообразного вида. Они сидели за квадратным прочным столом, вделанным в пол. Все лица повернулись к Элрику и вошедшему за ним воину, который сказал: – Это он. Один из присутствующих, сидевший в самом дальнем углу каюты, чье лицо невозможно было разглядеть в тени, кивнул: – Да, это он. – Вы знаете меня? – спросил Элрик, усаживаясь на край скамьи и снимая с себя промокший кожаный плащ. Ближайший к Элрику воин придвинул к нему металлическую кружку с горячим вином, и альбинос с благодарностью принял ее. Он начал пить небольшими глотками терпкую жидкость, удивляясь тому, как быстро она прогнала холод из его костей. – В некотором смысле, – ответил сидевший в тени воин. Голос его звучал иронически и в то же время грустно, и Элрика это не обидело, потому что язвительность, казалось, в большей степени относилась к самому говорившему, чем к Элрику. Светловолосый воин уселся напротив Элрика. – Меня зовут Брут – сказал он. – Я из Лашмара, где у моей семьи до сих пор есть земля, но я не заглядывал туда уже много лет. – Значит, ты из Молодых королевств? – спросил Элрик. – Да, когда-то был. – Значит, ваш корабль не заходит в те края? – Видимо, не заходит, – сказал Брут. – Я думаю, что сам-то я на борту не очень давно. Я искал Танелорн, но вместо него нашел этот корабль. – Танелорн? – Элрик улыбнулся. – Сколько же народу, оказывается, ищет это мифическое место. Тебе не знаком Человек по имени Ракхир, когда-то он был воином-жрецом в Фуме? У нас с ним было одно совместное приключение. Он оставил меня, а сам отправился на поиски Танелорна. – Я его не знаю, – сказал Брут из Лашмара. – А эти воды, – спросил Элрик, – они далеко от Молодых королевств? – Очень далеко, – сказал сидевший в тени человек. – Может быть, вы из Элвера? – спросил Элрик. – Или из какого другого места, расположенного в тех краях, что мы на западе называем Неведомым Востоком? – Большинство наших земель и в самом деле вам неведомы, – сказал человек из тени и рассмеялся. И опять Элрик не уловил в его смехе ничего оскорбительного для себя. И вся таинственность, на которую намекал этот человек, нимало не тревожила его. Солдаты удачи – а Элрик решил, что именно с такими людьми он и имеет дело, – радовались своим шуткам и намекам. Обычно больше их ничего и не объединяло, кроме готовности продать свое умение сражаться тому, кто хочет за это заплатить. Снаружи раздался звук поднимаемого якоря, и качка усилилась. Потом Элрик услышал хлопки поднятого паруса. Он спрашивал себя, как они собираются выйти из бухты – на море стоял почти полный штиль. Он обратил внимание, что лица воинов, которые были видны ему, напряглись, когда корабль начал двигаться. Элрик переводил взгляд с одного мрачного, испуганного лица на другое и спрашивал себя – а не выглядит он сам точно так же? – И куда же мы направляемся? – спросил он. Брут пожал плечами. – Я знаю одно: мы должны были зайти сюда, чтобы подобрать тебя, Элрик из Мелнибонэ. – Вы знали, что я буду здесь? Человек в тени шевельнулся и отхлебнул еще немного горячего вина из кувшина, стоявшего в углублении в центре стола. – Ты последний, кто был нам нужен, – сказал он. – А я был взят на борт первым. Пока у меня не было поводов жалеть, что я отправился в это путешествие. – А как тебя зовут? – Элрик решил, что хватит ему пребывать в таком невыгодном положении. – Ах, уж эти имена. У меня их было немало. Больше всего мне нравится Эрекозе. Но еще, насколько мне известно, меня называли Урлик Скарсол, Джон Дейкер, Илиана из Гараторма. Что-то подсказывает мне, что я был и Элриком Женоубийцей… – Женоубийцей? Не очень приятное прозвище. И кто же этот другой Элрик? – На это я не могу дать полного ответа, – сказал Эрекозе. – Но я, кажется, разделяю это имя более чем с одним пассажиром на нашем корабле. Я, как и Брут, искал Танелорн, но оказался на этом корабле. – У нас у всех это общее, – сказал еще один воин. Это был чернокожий человек, черты лица которого были странным образом искажены рассекавшим его лицо шрамом в виде перевернутой буквы V, начинавшимся на лбу, проходившим через обе глазницы и щеки и заканчивающимся на скулах. – Я был в земле, называемой Гхаджа-Ки, – неприятнейшее, заболоченное место, населенное странной и больной жизнью. Мне рассказывали про город, который находится там, и я решил, что это и есть Танелорн. Я ошибался. Населяют эту землю голубокожие двуполые люди, которые вознамерилисьизбавить меня от пороков моего неправильного развития – исправить цвет моей кожи и лишить признаков пола. Этот шрам – их рук дело. Боль, которую я испытал во время этой операции, придала мне сил, и я смог вырваться и бежать голым в болота. Я брел по болотам много миль и наконец вышел к озеру, из которого вытекала широкая река. Над ней висели тучи насекомых, с жадностью набросившихся на меня. Но туг появился этот корабль, и я был более чем рад найти на нем убежище. Меня зовут Отто Блендкер, прежде книжник из Брунса, а теперь сделавшийся за свои грехи наемником. – Брунс? Это где-то неподалеку от Элвера? – спросил Элрик. Он никогда прежде не слышал об этом месте в Молодых королевствах. Чернокожий покачал головой. – Элвер мне неизвестен. – Значит, мир значительно больше, чем я себе представлял, – сказал Элрик. – Вот уж точно, – отозвался Эрекозе. – Ачто ты ответишь, если я предложу тебе такую теорию: море, по которому мы плывем, находится в нескольких мирах. – Я склонен тебе поверить, – улыбнулся Элрик. – Я изучал такие теории. Больше того, я побывал в других мирах. – Я рад это слышать, – сказал Эрекозе. – Не все на нашем корабле готовы принять мою теорию. – Я ее почти что принял, – сказал Отто Блендкер, – хотя она меня и ужасает. – Согласен, – послышался снова голос Эрекозе. – Ужасает даже больше, чем ты можешь себе представить, друг Отто. Элрик придвинулся к столу и отхлебнул еще вина. Его одежда немного подсохла, и физически он чувствовал себя гораздо лучше. – Я рад, что этот туманный берег остался позади, – сказал Элрик. – Берег-то остался, – сказал Брут. – Но вот туман – он всегда с нами. Туман словно следует за кораблем, или корабль, куда бы он ни плыл, сам создает этот туман. Мы очень редко видим землю, а когда все же видим – как сегодня, – то она Такая тусклая, как отражение в блеклом погнутом щите. – Мы плывем по потустороннему морю, – сказал другой воин, протягивая к кувшину руку в рукавице. Элрик передал ему кувшин. – В Хасгхане, откуда я родом, есть легенда о Заколдованном море. Если моряк оказывается в его водах, он никогда не вернется домой, он обречен на вечные скитания. – Боюсь, что в твоей легенде есть доля правды, Терндрик из Хасгхана, – сказал Брут. – А сколько всего воинов на борту? – спросил Элрик. – Шестнадцать, если не считать Четверых, – сказал Эрекозе. – Всего двадцать. В команде человек десять, и потом есть еще капитан. Ты его, несомненно, скоро увидишь. – Четверых? И кто же они? Эрекозе рассмеялся. – Мы с тобой – двое из Четверых. Двое других в передней каюте. А если хочешь узнать, почему нас называют Четверо, то спроси капитана, хотя, должен тебя предупредить, его ответы не всегда понятны. Элрик вдруг почувствовал, что его качнуло. – Этот корабль развивает неплохую скорость, – сказал он, – если учесть, что ветра почти нет. – Отличная скорость, – согласился Эрекозе. Он поднялся из своего угла – широкоплечий человек неопределенного возраста, явно немало повидавший в жизни. Он был красив и, несомненно, участвовал не в одной схватке, потому что руки и лицо у него сплошь были покрыты шрамами, хотя и не изуродованы. Его глаза, хотя и глубоко посаженные и темные и, казалось, не имеющие определенного цвета, были странно знакомы Элрику. Он чувствовал, что когда-то видел их во сне. – Мы не встречались раньше? – спросил Элрик. – Возможно… или еще встретимся. Какое это имеет значение? Наши предназначения одинаковы. У нас одна судьба. И возможно, у нас есть и еще кое-что общее. – Еще? Я не понял первую часть твоего высказывания. – Ну, это и к лучшему, – сказал Эрекозе, протискиваясь между своих товарищей, чтобы перебраться на другую сторону стола. Он положил свою удивительно мягкую руку на плечо Элрика. – Идем, мы должны встретиться с капитаном. Он изъявил желание увидеть тебя сразу же, как ты появишься. Элрик кивнул и поднялся. – Этот капитан – как его имя? – Он не назвал нам ни одного, – сказал Эрекозе. Они вдвоем вышли на палубу. Туман был густой и мертвенно-бледный, как и прежде, лунные лучи больше не пятнали его. Дальний конец палубы был почти не виден, и, хотя Корабль двигался довольно быстро, ветра Элрик не почувствовал. Однако воздух был теплее, чем он ожидал. Альбинос последовал за Эрекозе вперед в каюту, находившуюся ниже той палубы, где располагался один из штурвалов-двойников, при котором находился высокий человек в одежде из стеганой оленьей кожи. Стоял он так недвижно, что напоминал статую. Рыжеволосый рулевой и глазом не повел, когда они проходили мимо, направляясь к входу в каюту, однако Элрик мельком увидел его лицо. Дверь, казалось, была сработана из какого-то отшлифованного металла, который поблескивал, как выделанная шкура животного. Она была красновато-коричневой – и самой яркой из всего, что Элрик пока видел на корабле. Эрекозе легонько постучал в дверь. – Капитан, – сказал он. – Элрик прибыл. – Входите, – раздался голос, звучавший одновременно мелодично и как бы издалека. Когда дверь открылась, наружу хлынул розоватый свет, который чуть не ослепил Элрика. Когда его глаза привыкли к освещению, он увидел очень высокого, одетого в светлое Человека, который стоял на ярком ковре в середине каюты. Элрикуслышал, как дверь закрылась, и понял, что Эрекозе остался на палубе. – Ты пришел в себя, Элрик? – спросил капитан. – Да – благодаря вашему вину. В чертах лица капитана было не больше человеческого, чем в чертах Элрика. Они были тоньше и одновременно резче, чем черты мелнибонийцев, но в то же время имели какое-то сходство с ними – такой же овальный разрез глаз, такое же сужение лица к подбородку. Длинные волосы капитана ниспадали ему на плечи рыжевато-золотистыми волнами, а на лбу были подобраны обручем из голубого нефрита. Одет он был в светлую тунику и рейтузы, на ногах – серебряного цвета сандалии и серебряные ремешки до колен. Если бы не одежда, то он был бы точной копией рулевого, которого только что видел Элрик. – Хочешь еще вина? Капитан направился к сундуку в дальней стороне каюты около закрытого иллюминатора. – Спасибо, – сказал Элрик. Теперь он понял, почему глаза капитана не смотрели на него. Капитан был слеп. При том, что двигался он точно и ловко, было очевидно, что он ничего не видит. Он налил вина из серебряного кувшина и пошел в сторону Элрика, держа перед собой кубок. Элрик шагнул вперед и принял его. – Я тебе благодарен за решение присоединиться к нам, – сказал капитан. – Большим облегчением было узнать, что ты с нами. – Ты очень любезен, – сказал Элрик, – хотя должен сказать, что принять это решение мне было вовсе не трудно. Выбора у меня не было. – Это я понимаю. Поэтому-то мы и причалили к берегу именно в том месте и в то время. Ты еще узнаешь, что все твои товарищи были в сходной ситуации, перед тем как подняться на борт. – Ты, кажется, неплохо осведомлен о передвижениях многих людей, – сказал Элрик. Он так и не пригубил вина, держа кубок в левой руке. – Многих, – согласился капитан, – во многих мирах. Насколько я понимаю, ты человек образованный, мой друг, так что ты сможешь понять природу моря, по которому плывет мой корабль. – Пожалуй. – Мы плывем между мирами. Большей частью между разными плоскостями одного и того же мира, чтобы быть точнее. – Капитан помолчал, отвернув свое слепое лицо от Элрика. – Ты должен понять, что у меня нет намерений мистифицировать тебя. Есть вещи, которых я не понимаю, а другие вещи я не имею права раскрыть тебе до конца. Я просто верю, и я надеюсь, ты сможешь уважать мой подход. – У меня пока нет причин относиться к этому иначе, – ответил альбинос, глотнув вина. – Я оказался в прекрасной компании – сказал капитан. – Я надеюсь, что вы и впоследствии, когда мы достигнем пункта нашего назначения, будете дорожить моим доверием. – А что у нас за пункт назначения, капитан? – Остров в этих водах. – Должно быть, острова тут большая редкость. – Верно. Когда-то он был никому не известен, и на нем не было тех, кто стали нашими врагами. Теперь, когда они его обнаружили и поняли его силу, нам грозит огромная опасность. – Кому это нам? Вашему народу или тем, кто находится на этом корабле? Капитан улыбнулся. – У меня нет никакого народа, кроме меня самого. Я думаю, что речь идет обо всем человечестве. – Значит, эти враги не принадлежат к роду человеческому? – Нет. Они неразделимо связаны с человеческой историей, но, несмотря на это, они не испытывают к нам никаких добрых чувств. Когда я говорю «человечество», то использую это слово в широком смысле, включая в это понятие тебя и себя. – Понимаю, – сказал Элрик. – Как называется этот народ? – По-разному, – сказал капитан. – Извини, но сейчас я не могу продолжать. Если ты подготовишься к сражению, Можешь не сомневаться, я открою тебе больше, когда придет время. Только снова оказавшись за красновато-коричневой дверью и увидев Эрекозе, шагающего навстречу ему сквозь туман, альбинос спросил себя – а уж не загипнотизировал ли его Капитан до такой степени, что он, Элрик, забыл о здравом смысле. Как бы то ни было, но слепец и в самом деле произвел на него сильное впечатление, и ему не оставалось ничего другого, как оставаться на корабле и плыть к острову. Он пожал плечами. Он всегда сможет изменить решение, если вдруг обнаружит, что обитатели острова вовсе не являются его врагами. – Ну так что, ты еще больше сбит с толку? – улыбаясь, спросил Эрекозе. – В некотором смысле да, в некотором – нет, – ответил Элрик. – Но мне почему-то все равно. – Значит, ты чувствуешь то же, что и мы все, – сообщил ему Эрекозе. И только когда Эрекозе отвел его в каюту перед мачтой, Элрик вспомнил: он ведь так и не спросил капитана, кто такие эти Четверо и для чего они нужны.Глава третья Несколько слов о Троих, которые Одно
Вторая каюта в точности повторяла первую, только находилась она по другому борту корабля. Здесь тоже расположились около дюжины человек – все, судя по их внешности и одежде, опытные солдаты удачи. Двое сидели рядом по центру правой стороны стола. Один, с обнаженной головой, светловолосый, выглядел как человек, много в жизни испытавший, другой лицом напоминал Элрика. На левой руке у него было что-то вроде серебряной боевой рукавицы, на правой – ничего. Доспехи его имели изящный и необычный вид. Он поднял взгляд на вошедшего Элрика, и в его единственном глазу (на втором была парчовая повязка) загорелся свет узнавания. – Элрик Мелнибонийский! – воскликнул он. – Мои теории обретают смысл! – Он повернулся к своему товарищу: – Вот, видишь, Хоукмун, это тот самый, о ком я тебе говорил. – Ты знаешь меня? – Слова этого человека застали Элрика врасплох. – Посмотри на меня, Элрик. Ты должен меня узнать! В башне Войлодиона Гхагнасдиака. Вместе с Эрекозе. Хотя и с другим Эрекозе. – Я не знаю такой башни. И имени такого не слышал. А Эрекозе я увидел здесь в первый раз. Ты знаешь меня и знаешь мое имя, но я тебя не знаю. Меня это приводит в замешательство. – Я тоже не знал принца Корума, пока он не появился на корабле, – сказал Эрекозе. – Но он утверждает, что когда-то мы сражались вместе. Я склонен ему верить. Время в разных мирах не всегда течет одинаково. Принц Корум вполне может существовать в том, что мы называем будущим. – А я-то надеялся отдохнуть здесь от таких парадоксов, – сказал Хоукмун, проведя рукой по лицу. Он мрачно улыбнулся. – Но тут, похоже, не отдохнешь. Миры здесь постоянно переходят из одного в другой, и даже наши личности могут измениться в любую минуту. – Мы были Тремя, – сказал Корум. – Неужели ты не помнишь, Элрик? Трое, которые Одно? Элрик отрицательно покачал головой. Корум пожал плечами, тихо говоря себе: – Ну, теперь мы Четверо. Капитан что-нибудь говорил об острове, на который мы должны высадиться? – Говорил, – сказал Элрик. – Ты знаешь, кто эти враги? – Мы знаем столько же, сколько и ты, Элрик, – сказал Хоукмун. – Я ищу место под названием Танелорн и своих детей. Возможно, еще и Рунный Посох, но в этом я не вполне уверен. – Мы как-то раз его нашли, – сказал Корум. – Мы трое. В башне Войлодиона Гхагнасдиака. Он нам здорово помог. – Я тоже многим обязан Рунному Посоху, – сказал ему Хоукмун. – Когда-то я служил ему. И дорого заплатил за это. – У нас много общего, – вставил Эрекозе. – Я тебе уже об этом говорил, Элрик. Может, у нас и хозяева общие. Элрик пожал плечами. – У меня нет хозяев, кроме меня самого. И удивился, когда все остальные разом улыбнулись. Эрекозе тихо сказал: – Мы склонны забывать о приключениях, подобных этому, как мы забываем сны. – Это и есть сон, – сказал Хоукмун. – В последнее время я видел много подобных сновидений. – Если хочешь знать, все это сон, – сказал Корум. – Все наше существование. Элрика подобная философия мало интересовала. – Сон или реальность, какая разница. Опыт, который мы приобретаем, в обоих случаях одинаков. Разве нет? – Верно, – сказал Эрекозе со слабой улыбкой. Так они проговорили еще час-два, потом Корум потянулся, зевнул и сказал, что хочет спать. Другие тоже почувствовали усталость, а потому вышли из каюты и спустились вниз, где у каждого воина было по койке. Растянувшись на своей койке, Элрик сказал Бруту из Лашмара, который забрался на койку над Элриком: – Хорошо бы узнать, когда начнется эта битва. Брут перевесился через край и уставился на альбиноса. – Я думаю, скоро, – сказал он.Элрик стоял в одиночестве на палубе, опираясь на леер и вглядываясь в море, – но море, как и весь остальной мир, Было затянуто белым клубящимся туманом. Элрик спрашивал себя – а есть ли вообще под килем корабля вода. Он поднял взгляд на парус, наполненный теплым и сильным ветром. Было светло, но он не мог определить, который теперь час. Рассказ Корума об их прежней встрече привел Элрика в недоумение, и он задавался вопросом – не мог ли он раньше видеть сны, похожие на этот, сны, которые он совершенно забыл по пробуждении. Однако бессмысленность подобных рассуждений скоро стала ему очевидна, и он обратился к вопросам Более насущным – что это за капитан ведет свой странный Корабль по не менее странным водам? – Капитан, – услышал Элрик голос Хоукмуна и повернулся, чтобы пожелать доброго утра этому высокому светловолосому человеку с необычным шрамом посередине лба, – просит нас четверых к себе в каюту. Из тумана появились двое других, и все вместе они направились в носовую часть корабля. Они постучали в красновато-коричневую дверь, и их тут же пригласили внутрь – капитан уже налил вина в четыре серебряных кубка. Он сделал движение рукой в направлении огромного комода, на котором стояло вино. – Угощайтесь, друзья мои. Они взяли кубки – четыре высоких, гонимых роком воина, и, хотя внешне они ничем не походили друг на друга, на каждом была некая печать, свидетельствовавшая об их принадлежности к одной категории людей. Элрик обратил на это внимание. «Да, он один из них» – сказал он себе и попытался припомнить подробности вчерашнего рассказа Корума. – Мы приближаемся к месту назначения, – сказал Капитан. – Скоро высадка. Я думаю, наши враги не ожидают нас, но сражаться с этими двумя все равно будет нелегко. – С двумя? – спросил Хоукмун. – Только с двумя? – Только с двумя, – улыбнулся капитан. – С братом и сестрой. Колдунами из другой вселенной. Из-за недавних нарушений в ткани нашего мира – тебе, Хоукмун, об этом кое-что известно, и тебе тоже, Корум, – на свободе оказались некие существа, обретшие такую власть, какой у них никогда не было. Но им мало этого, они жаждут еще больше власти, они хотят заполучить всю власть, какая есть в нашей вселенной. Эти существа безнравственны на свой манер – не так, как Владыки Закона или Хаоса. Они не сражаются за власть над Землей, как сражаются известные нам боги. Они только жаждут преобразовать основную энергию нашей вселенной и использовать ее для своих нужд. Я полагаю, что они питают честолюбивые планы относительно их собственной вселенной, которые смогут реализовать, если достигнут своих целей здесь. В настоящее время, несмотря на крайне благоприятные для них обстоятельства, они еще не набрали полной силы, но недалеко то время, когда они добьются своего. На человеческом языке они зовутся Атак и Джагак, и никакие из наших богов не имеют над ними ни малейшей власти. Вот почему был собран более мощный отряд – вы. Вечный Воитель в четырех своих инкарнациях – Эрекозе, Элрик, Корум и Хоукмун. Четыре – это наибольшее число, которое мы можем собрать в одном месте и времени, не рискуя спровоцировать новые разрывы в ткани бытия. Каждый из вас будет руководить четырьмя другими – их судьбы связаны с вашими собственными, и каждый из них по-своему великий воин. Хотя они и не разделяют ваших предназначений во всех смыслах. Каждый из вас может выбрать четырех, с которыми пожелает сражаться плечом к плечу. Я думаю, вы легко определитесь. Мы уже очень скоро увидим берег. – Ты поведешь нас? – спросил Хоукмун. – Я смогу только доставить вас на остров и ждать тех, кто останется в живых. Если кто-нибудь останется в живых. Элрик нахмурился. – Не думаю, что это мое сражение. – Оно твое, – спокойно сказал капитан. – И мое. Если бы мне было разрешено, я бы сошел с вами на берег. Но мне это запрещено. – Почему? – спросил Корум. – Вы узнаете об этом в свое время. У меня не хватает мужества сказать вам. Однако я не желаю вам ничего, кроме добра. Можете в этом быть уверены. Эрекозе потер подбородок. – Что ж, поскольку моя судьба – сражаться, и поскольку я, как и Хоукмун, продолжаю искать Танелорн, и поскольку в случае победы у меня появляется хоть какой-то шанс воплотить мои устремления в жизнь, то я согласен выступить против этой пары – Атака и Джагак. Хоукмун кивнул. – Я по тем же причинам присоединяюсь к Эрекозе. – И я, – сказал Корум. – Не так давно, – сказал Элрик, – я считал, что у меня нет друзей. Теперь вижу, что их у меня много. По одной только этой причине я буду сражаться вместе с ними. – Возможно, это лучшая из причин, – одобрительно сказал Эрекозе. – За эту работу не будет вознаграждения, кроме моего заверения, что ваш успех избавит мир от многих несчастий, – сказал капитан. – А что касается тебя, Элрик, то твое вознаграждение будет еще меньше, чем у остальных. – А может быть, и нет, – возразил Элрик. – Как скажешь. – Капитан сделал жест в сторону кувшина с вином. – Еще вина, друзья? Она налили себе еще вина, а капитан продолжал, подняв слепой взор к потолку каюты: – На этом острове есть руины. Возможно, когда-то они были городом под названием Танелорн. В центре этих руин возвышается одно-единственное целое здание. Это здание и занимают Атак и его сестра. И именно его и нужно атаковать. Я думаю, что вы без труда найдете его. – И мы должны убить этих двоих? – спросил Эрекозе. – Если сможете. У них есть слуги, которые будут им помогать. Их тоже нужно убить. А потом – поджечь здание. Это важно. – Капитан помедлил. – Именно поджечь. Другими способами уничтожить его нельзя. Элрик сухо улыбнулся: – Есть и другие способы разрушить здание, господин Капитан. Капитан улыбнулся в ответ и чуть наклонил голову, признавая правоту слов Элрика. – Да, ты прав. И тем не менее вам стоит запомнить то, что я сказал. – Ты знаешь, как выглядит эта пара – Атак и Джагак? – спросил Корум. – Нет. Возможно, они похожи на существ из нашего мира. А может, и нет. Видели их очень немногие. Да и материализовались они совсем недавно. – А как их проще всего победить? – спросил Хоукмун. – Мужеством и изобретательностью. – Выражаешься ты не очень ясно, капитан, – сказал Элрик. – Настолько ясно, насколько это возможно. А теперь, друзья, я предлагаю вам отдохнуть и приготовить оружие. Когда они вышли из капитанской каюты, Эрекозе вздохнул. – У нас нет выбора, – сказал он. – И почти нет свободы воли, как бы мы ни убеждали себя в противном. Погибнем мы или останемся в живых, по большому счету это не имеет никакого значения. – Кажется, у тебя мрачное настроение, мой друг, – сказал Хоукмун. Туман полз по мачте, обволакивал такелаж, затоплял палубу. Элрик взглянул на лица трех других – их тоже окутывал туман. – Просто реалистичное, – сказал Корум. Туман гуще обычного оседал на палубе, словно саваном одевая воинов. Корабельное дерево трещало, и Элрику казалось, что он слышит карканье воронья. Похолодало. Молча разошлись они по своим каютам, чтобы проверить крепление доспехов, заточить оружие и попытаться уснуть. – Я не питаю ни малейшей любви к колдовству, – сказал Брут из Лашмара, поглаживая свою рыжую бороду. – Потому что колдовство стало причиной моего позора. Элрик перед этим пересказал Бруту слова капитана и попросил его войти в четверку, которая будет сражаться под его началом. – Тут все сплошное колдовство, – сказал Отто Блендкер и улыбнулся едва заметной улыбкой, протягивая Элрику руку. – Я буду сражаться рядом с тобой. Еще один воин поднялся, откинув назад шлем. Его доспехи цвета морской волны слабо поблескивали в свете фонаря, лицо было почти таким же белым, как у Элрика, но глубоко посаженные глаза, в отличие от глаз альбиноса, были черными. – Я тоже буду сражаться с тобой, – сказал Хоун Заклинатель Змей, – хотя, боюсь, толку от меня на суше немного. Последний, кто поднялся под взглядом Элрика, был воин, который раньше не произнес ни слова. Голос у него был низкий, заикающийся. На его голове сидел простой боевой шлем, а рыжие волосы ниже него были собраны в косицы. Каждая косица заканчивалась костями пальцев, которые при движении бренчали на его кольчуге. Звали этого воина Ашнар Рысь. Глаза его почти постоянно сверкали яростью. – У меня нет вашего красноречия и воспитания, – сказал Ашнар. – И я незнаком с колдовством или другими вещами, о которых вы ведете речь. Но я хороший воин, и в сражениях – моя радость. Я встану под твое начало, Элрик, если ты возьмешь меня. – Буду рад, – сказал Элрик. – Значит, никаких разногласий нет, – сказал Эрекозе, обращаясь к тем, кто решил войти в его четверку. – Все это, без всяких сомнений, предопределено. Наши судьбы были связаны с самого начала. – Такая философия может привести к нездоровому фатализму, – сказал Терндрик из Хасгхана. – Давайте лучше считать, что наши судьбы принадлежат нам, даже если все свидетельствует об обратном. – Думай, как считаешь нужным, – сказал Эрекозе. – Я прожил немало жизней, хотя хорошо помню только одну. – Он пожал плечами. – Но, наверно, я обманываю себя, когда думаю, что работаю на то время, когда найду Танелорн и, Возможно, воссоединюсь с тем, кого ищу. Именно эти устремления и питают меня энергией, Терндрик. Элрик улыбнулся. – Ая, наверно, сражаюсь потому, что меня влечет дух боевой дружбы. Само по себе это довольно прискорбное состояние, не правда ли? – Да. – Эрекозе опустил взгляд. – Ну что ж, попытаемся отдохнуть.
Глава четвертая О боли, сражении и утрате
Берег вырисовывался неясными очертаниями. Они пробирались по белой воде, сквозь белый туман, держа над головами мечи, которые были их единственным оружием. У каждого в четверке был меч необычных размеров и формы, но никто не владел мечом, похожим на Буревестник, таким, который время от времени словно бы нашептывал что-то. Оглянувшись, Элрик увидел капитана у борта – тот стоял слепым лицом в сторону острова, его бледные губы шевелились, словно он говорил сам с собой. Вода теперь доходила им до пояса, а песок под ногами Элрика твердел и наконец превратился в твердую породу. Элрик шел вперед осторожно и в полной готовности сразиться с теми, кто может защищать этот остров. Но теперь туман начал рассеиваться, словно не имея власти над землей, а никаких следов защитников видно не было. За поясом у каждого воина торчал факел, конец которого был завернут в промасленную материю, чтобы не отсырел, когда придет время зажечь его. У каждого в маленькой коробочке, прикрепленной к поясу, имелся также запас трута, чтобы можно было в любой момент зажечь факел. – Только огонь навсегда уничтожит этого врага, – повторил капитан, вручая им факелы и коробочки с трутом. По мере того как туман рассеивался, их взору открывался пейзаж, наполненный тенями. Тени лежали на красных скалах и желтой растительности – тени самых разных форм и размеров, напоминающие самые разные предметы. Казалось, что их создавало огромное, кровавого цвета солнце, которое постоянно находилось в зените над островом. Но беспокоило воинов то, что тени эти вроде бы брались ниоткуда, словно объекты, которые их отбрасывали, были невидимы или существовали где-то не здесь, не на острове. Казалось, что и небо полно этих теней, но если на острове они оставались бездвижны, то, похоже, на небе они двигались заодно с облаками. А красное солнце проливало свой кровавый свет на двадцать воинов, касаясь их своим неприветливым сиянием так же, как оно касалось земли. Они, опасливо поглядывая по сторонам, уходили все дальше от берега. Временами странный мерцающий свет озарял остров, отчего очертания всего окружающего на несколько мгновений делались неустойчивыми. Элрик решил, что это его глаза играют с ним шутку, но тут Хоун Заклинатель Змей, который с трудом передвигался по земле, заметил: – Я редко бываю на берегу, это правда, но мне кажется, что земля тут какая-то необычная. Тут все мерцает. Все искажается. Несколько голосов согласились с ним. – И откуда берутся все эти тени? – Ашнар Рысь озирался вокруг – его охватил естественный суеверный страх, – почему мы не видим того, что их отбрасывает? – Возможно, – сказал Корум, – что это тени от предметов, существующих в других измерениях. Если, как предполагалось, все плоскости Земли встречаются в этом месте, то вот вам и вполне правдоподобное объяснение. – Он поднес свою серебряную руку к вышитой повязке, закрывавшей его глаз. – Это еще не самый необычный пример подобного пересечения, какому я был свидетелем. – Правдоподобное объяснение, – хмыкнул Отто Блендкер. – Только умоляю, не надо мне никаких неправдоподобных объяснений! Они двинулись дальше сквозь тени и мрачный свет и Наконец оказались на окраине руин. Эти руины, подумал Элрик, очень похожи на полуразвалившийся город Амирон, в котором он побывал, когда искал Черный Меч. Вот только здесь они занимали больше пространства и напоминали скопление маленьких городков, каждый из которых имел свою собственную архитектуру. – Может, это и есть Танелорн? – сказал Корум, успевший там побывать. – А точнее, все когда-либо существовавшие версии Танелорна. Ведь Танелорн существует в разных формах, каждая из которых определяется представлениями тех, кто наиболее страстно стремится найти его. – Это не тот Танелорн, который предполагал найти я, – горько сказал Хоукмун. – И я тоже, – мрачно добавил Эрекозе. – Может быть, это и не Танелорн, – сказал Элрик. – Может, и нет. – Возможно, это кладбище? – сдержанно сказал Корум и нахмурился. – Кладбище, на котором покоятся все забытые варианты этого странного города. Воины начали перебираться через развалины. Они шли все дальше, приближаясь к центру, и их сопровождало бряцание оружия. По задумчивым выражениям лиц своих спутников Элрик видел, что они, как и он, задаются вопросом: а не происходит ли все это во сне. Иначе почему они оказались в этой необычной ситуации, почему собираются рисковать своими жизнями – а может, и душами, – сражаясь с тем, что никто из них даже не может узнать? Эрекозе подошел ближе к Элрику. – Ты обратил внимание, – спросил он, – что теперь тени стали на что-то похожи? Элрик кивнул. – По развалинам можно судить, как выглядели здания, когда были целыми. Эти тени – тени тех зданий, которые стояли здесь, прежде чем превратиться в развалины. – Именно, – сказал Эрекозе. Их обоих пробрала дрожь.Наконец они добрались до вероятного центра и увидели здесь целое здание. Оно стояло на расчищенном пространстве и являло собой сооружение из металлических листов, пластин и сверкающих труб. – Оно скорее похоже на машину, а не на здание, – сказал Хоукмун. – И скорее на музыкальный инструмент, чем на машину, – задумчиво сказал Корум. Отряд остановился, четверки собрались вокруг своих предводителей. Сомнений не было – они прибыли к месту своего назначения. Посмотрев внимательнее на здание, Элрик увидел, что фактически оно состоит из двух – совершенно одинаковых и соединенных в разных местах системами изгибающихся труб. Вероятно, эти трубы представляли собой соединительные коридоры, хотя трудно было себе представить, какие существа могут пользоваться подобными коридорами. – Тут два здания, – сказал Эрекозе. – Мы к этому не были готовы. Что нам теперь – разделиться и атаковать оба? Элрик инстинктивно почувствовал, что такие действия были бы неблагоразумны. Он покачал головой. – Я думаю, мы все вместе должны войти в одно, иначе наши силы будут рассеяны. – Согласен, – сказал Хоукмун. Остальные тоже приняли план Элрика. Укрытия, за которым можно было бы подойти незаметно, не было, и потому они смело двинулись к ближайшему к ним зданию – к тому его месту, где невысоко над землей виднелось черное отверстие неправильной формы. Никаких следов защитников видно не было, и это тревожило нападавших. Здание пульсировало, мерцало и время от времени шептало что-то, но этим дело и ограничивалось. Элрик со своей группой вошел первым. Они оказались в теплом и сыром коридоре, который почти сразу же уходил резко вправо. За ними последовали другие, и вскоре весь отряд стоял в коридоре, настороженно поглядывая вперед и ожидая нападения. Но нападения не последовало. С Элриком во главе они сделали несколько шагов, как вдруг коридор бешено затрясся, отчего Хоун Заклинатель Змей свалился на пол. Воин в доспехах цвета морской волны поднялся на ноги, и в этот момент по коридору эхом разнесся голос. Источник его вроде бы находился довольно далеко, но голос звучал отчетливо, и в нем слышалось раздражение. – Кто? Кто? Кто? – раздавались вопли. – Кто? Кто? Кто вторгся в меня? Тряска закончилась и перешла в постоянное колебательное движение. Голос стал глуше, слабее, неувереннее. – Кто напал на меня? Кто? Двадцать воинов удивленно поглядывали друг на друга. Наконец Элрик пожал плечами и повел отряд вперед. Скоро коридор стал шире, и они оказались в зале, стены, потолок и пол которого были покрыты липкой жидкостью. Дышать здесь было тяжело. И в этот момент, каким-то образом пройдя Через стены, появились первые защитники – уродливые твари, вероятно слуги Атака и Джагак. – Нападайте, – послышался далекий голос. – Уничтожьте это. Уничтожьте! Твари были довольно примитивны, в основном представляли собой разверстые пасти и скользкие тела. Однако их Было много, и они ринулись на двадцатку воинов, которые быстро перестроились в четыре боевых отряда и приготовились защищаться. Скользкие твари, приближаясь, издавали жуткие чавкающие звуки, и костные наросты, служившие им зубами, клацали, готовясь ухватить альбиноса и его товарищей. Элрик извлек свой меч, который почти не встретил сопротивления, войдя в тела нескольких нападавших одновременно. Но теперь воздух стал еще гуще, а хлынувшая на пол жидкость издавала такой омерзительный запах, что они едва ли не задыхались. – Двигайтесь сквозь них, – скомандовал Элрик. – Прорубайте себе путь. Направление – вон то отверстие, – указал он левой рукой. Они двинулись вперед, разрубая сотни примитивных тварей, что делало воздух совершенно непригодным для дыхания. – Сражаться с этими бестиями нетрудно, – выдохнул Хоун Заклинатель Змей. – Но каждая убитая тварь уменьшает наши шансы выжить. Элрик чувствовал иронию ситуации. – Несомненно, все это хитроумно предусмотрено нашими врагами. Он закашлялся и разрубил еще десяток скользких бестий, надвигавшихся на него. Они не знали страха, но были глупы. Ничего похожего на стратегию в их действиях не просматривалось. Наконец Элрик добрался до следующего коридора, где Воздух был чуточку чище. Он с радостью наполнил им легкие и сделал знак своим товарищам. Мечи поднимались и обрушивались вниз. Наконец все Воины добрались до нового коридора, и лишь несколько тварей последовали за ними. Остальные заходить в этот коридор побаивались, и Элрик подумал, что где-то в глубинах этого прохода таится опасность, которой страшатся даже эти безмозглые твари. Однако их отряду не оставалось ничего другого, как идти вперед, и Элрик только радовался, что все двадцать преодолели это первое препятствие. Тяжело дыша, они остановились немного передохнуть, прислонившись к дрожащим стенам и прислушиваясь к далекому голосу, теперь приглушенному и неясному. – Что-то мне не нравится это сооружение, – проворчал Брут из Лашмара, разглядывая дырку в своем рукаве в том месте, где его цапнула скользкая тварь. – Это все порождение сильного колдовства. – Это только то, что мы знаем, – напомнил ему Ашнар Рысь, которому едва удавалось сдерживать дрожь. Костяшки пальцев в его косицах бренчали в такт пульсирующей стене, и у огромного варвара, убеждающего себя преодолеть страх, вид был довольно жалкий. – Трусы они, эти колдуны, – сказал Отто Блендкер. – Сами они не показываются. – Он повысил голос. – Неужели у них такой омерзительный вид, что они боятся нам показаться? На этот вызов никто не ответил. Они шли дальше по коридорам, но никаких признаков Атака или его сестры Джагак не было. В коридорах становилось то светлее, то темнее. Иногда коридор сужался так, что они едва протискивались сквозь него, но потом снова расширялся до размеров чуть ли не зала. По большей части коридоры, казалось, поднимались. Элрик попытался представить себе обитателей здания. В этом сооружении не было ни ступеней, ни каких-либо узнаваемых предметов. Неизвестно почему, но Атак и Джагак представлялись ему в форме пресмыкающихся – ведь именно рептилии предпочитают пандусы ступенькам, а обычной мебели им, несомненно, не требуется. Но они, конечно же, могут по желанию менять свою форму, при необходимости принимая человеческую. Ему поскорее хотелось увидеть обоих или хотя бы одного колдуна. У Ашнара Рыси были другие причины проявлять нетерпение – по крайней мере, так он говорил. – Мне сказали, здесь будет сокровище, – пробормотал он. – Я предполагал рискнуть своей жизнью за справедливое вознаграждение, но тут нет ничего ценного. – Он приложил мозолистую руку к влажному веществу стены. – Это даже не камень и не кирпич. Из чего сделаны эти стены, Элрик? Элрик покачал головой. – Меня это тоже интересует, Ашнар. И тут Элрик увидел большие свирепые глаза, выглядывавшие из мрака впереди. Он услышал какой-то стрекочущий, шелестящий звук, и глаза стали увеличиваться в размерах. Он увидел красную пасть, желтые клыки, оранжевую шерсть. Потом раздалось рычание, и зверь прыгнул на него, но Элрик успел поднять Буревестник для защиты и криком предупредить других. Это существо напоминало огромного бабуина, а за ним появились еще не меньше десятка других. Элрик сделал выпад всем телом, целясь зверю в пах. Бабуин вытянул лапы и царапнул ему когтями плечо и бок. Элрик застонал, почувствовав, как по меньшей мере один из когтей до крови впился ему в кожу. Рука его попала в ловушку, и он никак не мог вытащить Буревестник из тела врага. Ему оставалось только еще глубже сунуть меч в рану. Элрик, собрав все силы, повернул рукоять. Огромная обезьяна закричала, ее налитые кровью Глаза засверкали, она обнажила желтые клыки, потянувшись мордой к горлу Элрика. Зубы сомкнулись на его шее, от вонючего дыхания он чуть не потерял сознание. Он еще раз крутанул рукоять меча, и зверь снова завопил от боли. Клыки вонзились в латный воротник, что и спасло Элрика от немедленной смерти. Он попытался высвободить хотя бы одну руку, повернув меч в третий раз, а потом принялся дергать его вверх-вниз, чтобы увеличить рану. Рычание и стоны бабуина стали еще громче, зубы еще сильнее вдавились в воротник, но теперь за звуками, производимыми обезьяной, Элрик услышал бормотание и почувствовал, как Буревестник завибрировал в его руке. Он знал, что меч вытягивает силы из обезьяны, которая пыталась убить его. Элрик почувствовал прилив энергии. В отчаянии альбинос собрал все силы и рванул меч вверх, рассекая тело обезьяны – кровь хлынула на него из обезьяньего брюха, и он, оказавшись на свободе, сделал неуверенный шаг-другой назад, тем же движением извлекая меч из животного. Обезьяна тоже отступила на нетвердых лапах, глядя на свою рану с глуповатым недоумением, и наконец рухнула на пол коридора. Элрик повернулся, готовый оказать помощь ближайшему товарищу, но успел увидеть только гибель Терндрика из Хасгхана – он бился в лапах обезьяны еще большего размера, которая откусила голову воина, и из зияющей раны хлестала кровь. Элрик вонзил Буревестник точно между лопаток убийцы Терндрика, прямо в сердце обезьяны, и она рухнула рядом со своей жертвой. Погибло еще двое воинов, кое-кто получил серьезные раны, но оставшиеся сражались, их мечи и доспехи были покрыты алыми брызгами. В узком коридоре было душно от вони обезьяньих тел, пота и крови. Элрик продолжил бой – он расколол череп обезьяны, которая схватилась с Хоуном Заклинателем Змей. Хоун бросил на альбиноса благодарный взгляд, нагнувшись, отер свой меч, и вдвоем они бросились на самую крупную из обезьян. Этот бабуин, прижавший к стене Эрекозе, был значительно выше Элрика. Эрекозе успел уже пронзить плечо зверя. Хоун и Элрик атаковали с двух сторон, и бабуин зарычал, завизжал, поворачивая морду к новым противникам. Меч Эрекозе торчал у него в плече. Он ринулся на них, и они снова ударили одновременно, поразив монстра в самое сердце и легкие, и когда он зарычал на них, кровь полилась из его пасти. Обезьяна упала на колени, глаза ее потускнели, и она рухнула мордой вниз. Теперь в коридоре воцарилась тишина, и вокруг оставшихся в живых там и здесь лежали мертвые. Убит был Терндрик из Хасгхана. Погибли двое из команды Корума. Все оставшиеся в живых воины Эрекозе были тяжело ранены. Мертв был один из людей Хоукмуна, зато у трех других не было практически ни царапины, а Ашнар Рысь был только растрепан, не больше. Ашнар за время драки убил двух бабуинов. Но теперь, когда варвар стоял, тяжело дыша и опершись о стену, глаза его закатились. – Я начинаю подозревать, что вся это затея не оправдывает наших потерь, – сказал он с усмешкой. Взяв себя в руки, он перешагнул через труп обезьяны. – Чем быстрее все это закончится, тем лучше. Что скажешь, Элрик? – Согласен с тобой, – с такой же усмешкой ответил Элрик. – Идем. И он пошел впереди по коридору в помещение, стены которого мерцали розовым светом. Он не успел сделать и нескольких шагов, как что-то ухватило его за коленку, и альбинос, посмотрев вниз, в ужасе увидел, что вокруг его ноги обвилась змея. Использовать меч было поздно, поэтому он ухватил змею за шею выше головы и стащил со своей ноги, а потом оторвал голову от тела. Остальные принялись топать ногами и криками предупреждать других. Змеи вроде бы были неядовитыми, но их тут оказались тысячи, и они появлялись словно из пола. Они были телесного цвета, без глаз и скорее напоминали земляных червей, чем рептилий, но при этом обладали достаточной силой. И тогда Хоун Заклинатель Змей запел странную песню, в которой было много мелодичных свистящих звуков, производящих необычное действие на этих тварей. Сначала по одной, а затем все увеличивающимся числом они падали на пол, явно засыпая. Хоун усмехнулся, радуясь своему успеху. – Теперь я понимаю, откуда у тебя такое прозвище, – сказал Элрик. – Я не был уверен, что песня на них подействует, – ответил ему Хоун. – Ведь они не похожи на змей, которых я видел в морях своего мира. Он перебрались через груды спящих змей и оказались в следующем коридоре, резко уходившем вверх. Иногда, карабкаясь по необычно скользкой поверхности пола, они были вынуждены прибегать к помощи рук. В этом коридоре было гораздо жарче, и воины истекали Потом. Несколько раз они останавливались, чтобы отдохнуть и отереть лоб. Казалось, у этого коридора не будет конца. Иногда в нем встречались повороты, а пол если и выравнивался до горизонтали, то всего на несколько футов. Временами коридор сужался до размеров трубы, по которой приходилось ползти на животах, временами потолок над их головами исчезал, превращаясь в мрачную бесконечность. Элрик давно уже оставил попытки соотнести их положение с развалинами вне сооружения, в котором они находились. Время от времени им попадались маленькие бесформенные существа, устремлявшиеся стайками им навстречу явно с намерением атаковать, но серьезной опасности они не представляли, и скоро воины, продолжая свое восхождение, просто перестали обращать на них внимание. Некоторое время странного голоса, который встретил их при входе, не было слышно, но теперь до них снова доносился его шепот. – Где? Где? О, боль! Они остановились, пытаясь определить направление, откуда исходит звук, но ощущение возникало такое, будто звук идет отовсюду. Они с мрачными лицами продолжили свой путь, преследуемые тысячами маленьких существ, которые впивались в обнаженные участки их тел, как комары, но насекомыми при этом они не были. Ничего подобного раньше Элрик не видел. Они были бесформенными, примитивными и совершенно бесцветными. Они вились вокруг его лица и напоминали собой ветер. Он чувствовал, как силы покидают его – он почти ничего не видел, задыхался и потел. Воздух теперь был таким плотным, горячим и соленым, что возникало ощущение, будто они двигаются сквозь жидкость. Состояние других было ничуть не лучше. Кто-то спотыкался, двое упали, и их товарищи, не менее выбившиеся из сил, помогли им подняться. У Элрика возникло желание сбросить с себя доспехи, но он понимал, что в этом случае еще большая часть его тела окажется во власти маленьких летучих существ. Они продолжали свое восхождение, и теперь ещебольшее количество змееобразных тварей вились вокруг их ног, препятствуя дальнейшему продвижению. Для них Хоун тоже пел свою песню – пел, пока не охрип. – Если так будет и дальше, скоро нам всем конец, – сказал Ашнар Рысь, подойдя к Элрику. – Если мы и найдем колдуна или его сестру, то ничего не сможем им противопоставить. Элрик мрачно кивнул. – И я так считаю, но ничего другого нам не остается, разве нет? – Ничего, – сказал Ашнар тихим голосом. – Ничего. – Где? Где? Где? – Это слово шуршало в воздухе вокруг них. Многие из воинов заметно нервничали.
Глава пятая Значение теней
Они достигли вершины этого коридора. Раздраженный Голос теперь стал гораздо громче. Они увидели арку, а за ней – освещенное помещение. – Это явно комната Атака, – сказал Ашнар, покрепче берясь за рукоять меча. – Возможно, – сказал Элрик. У него было такое ощущение, будто он существует отдельно от своего тела. Должно быть, на него подействовали жара и усталость или его растущее беспокойство. Но что-то заставило его взять себя в руки, и он не без колебаний вошел в помещение. Комната имела восьмиугольную форму, и у каждой из ее восьми скошенных сторон была своя окраска, причем все цвета постоянно менялись. Время от времени стены становились полупрозрачными, и сквозь них далеко внизу открывался полный вид разрушенного города (или собрания городов), а также вид сооружения в точности такого же, как то, в котором они находились, со всеми его проводами и трубами. Но прежде всего их вниманием завладел бассейн в середине помещения. Впечатление возникало такое, что бассейн достаточно глубок, а наполнен он был вязкой жидкостью с отвратительным запахом. Жидкость пузырилась. В ней образовывались какие-то формы. Гротескные и странные, прекрасные и знакомые, формы эти, казалось, вот-вот обретут твердые очертания, но они туг же растворялись в бассейне. Голос здесь звучал громче, и теперь было ясно, что его источник находится в бассейне. – ЧТО? ЧТО? КТО ВТОРГАЕТСЯ? Элрик заставил себя подойти поближе к краю бассейна. Несколько секунд снизу на него смотрело его же собственное лицо, а потом исчезло. – КТО ВТОРГАЕТСЯ? АХ! КАКАЯ СЛАБОСТЬ! Элрик заговорил с бассейном. – Мы те, кого ты хочешь уничтожить, – сказал он. – Мы те, кого ты хочешь сожрать. – АХ! АГАК! АГАК! Я БОЛЬНА! ГДЕ ТЫ? К Элрику присоединились Ашнар и Брут. На лицах воинов было написано отвращение. – Атак, – прорычал Ашнар Рысь, глаза его сузились. – Наконец-то хоть какое-то свидетельство того, что этот колдун здесь. Остальные воины сбились в кучу, стараясь держаться подальше от бассейна, но все они смотрели как зачарованные на разнообразные формы, образующиеся и распадающиеся в вязкой жидкости. – Я СЛАБЕЮ… МНЕ НУЖНО ПОПОЛНИТЬ ЭНЕРГИЮ… МЫ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ НЕМЕДЛЕННО, АТАК… МЫ ТАК ДОЛГО ДОБИРАЛИСЬ ДО ЭТОГО МЕСТА. МНЕ НУЖНО ОТДОХНУТЬ. НО ЗДЕСЬ НЕ ОТДОХНЕШЬ. БЕСПОКОЙСТВО… ОНО НАПОЛНЯЕТ МОЕ ТЕЛО. АГАК ПРОСНИСЬ, АГАК. ПРОСНИСЬ! – Наверное, это какой-то слуга Атака, несущий ответственность за оборону этого помещения, – тихим голосом предположил Хоун Заклинатель Змей. Но Элрик продолжал вглядываться в бассейн, начиная, как ему показалось, прозревать истину. – Так Атак проснется? – спросил Брут. – Он придет сюда? – Брут нервно оглянулся по сторонам. – Атак! – выкрикнул Ашнар Рысь. – Трус! – Атак! – закричали воины, размахивая мечами. Элрик, однако, ничего не сказал. Он обратил внимание, что Хоукмун, Корум и Эрекозе тоже хранят молчание. Он подумал, что они, как и он, начинают понимать. Он посмотрел на них. В глазах Эрекозе он прочел муку, жалость к себе и своим товарищам. – Мы – Четверо, которые Одно, – сказал Эрекозе. Голос его дрогнул. Элрик почувствовал неожиданный порыв – порыв, который вызвал у него отвращение и ужас. – Нет… – Он попытался вложить Буревестник в ножны, но меч воспротивился этому. – АГАК! БЫСТРЕЕ! – Если мы не сделаем этого, – сказал Эрекозе, – они пожрут все наши миры. Не останется ничего. Элрик свободной рукой дотронулся до лба. Его качало на краю пугающего бассейна. Он застонал. – Значит, мы должны сделать это, – раздался голос Корума. – Я не стану, – сказал Элрик. – Я – это я. – И я! – сказал Хоукмун. Но Корум Джаелен Ирсеи сказал: – Другого нам не дано – ведь мы одно. Неужели вы не понимаете? Кроме нас, нет никого в нашей вселенной, кто бы мог покончить с этими колдунами – единственным способом, каким они могут быть уничтожены! Элрик посмотрел на Корума, на Хоукмуна, на Эрекозе – и снова увидел в них какую-то часть себя самого. – Мы Четверо, которые Одно, – сказал Эрекозе. – Наша объединенная сила больше, чем просто сумма наших сил. Мы должны объединиться, братья. Мы должны победить здесь, прежде чем сможем надеяться победить Атака. – Нет… – Элрик отошел в сторону, и все равно каким-то образом оказался на краю булькающего вонючего бассейна, из которого по-прежнему доносились жалобы и бормотание и где продолжали образовываться и исчезать все новые и новые формы. На трех других углах бассейна стояли его товарищи – по одному на каждом. На лицах всех четверых было обреченное выражение. Остальные воины отошли к стенам. Отто Блендкер и Брут из Лашмара стояли около дверей, прислушиваясь к звукам в коридоре. Ашнар Рысь гладил факел, заткнутый за пояс, его грубое лицо было искажено страхом. Элрик почувствовал, как поднимается под воздействием меча его рука, и он увидел, что и три его товарища тоже поднимают мечи. Потом они вытянули руки так, что кончики Мечей встретились точно в центре бассейна. Элрик закричал, чувствуя, как что-то входит в его существо. Он попытался освободиться, но эта внешняя сила была непреодолима. Другие голоса раздались в его голове. – Понимаю… – Это был донесшийся издалека шепот Корума. – Это единственный способ. – Нет, нет, нет… – Это был голос Хоукмуна, но слова сорвались с губ Элрика. – АТАК! – закричал бассейн. Жидкость в нем стала волноваться сильнее, сделалась беспокойнее. – АТАК!БЫСТРЕЕ! ПРОСНИСЬ! Тело Элрика задрожало, но рука его надежно держала меч. Атомы его тела стали распадаться, а потом соединяться снова в некую единую текучую сущность, которая устремилась по лезвию меча к его острию. И Элрик все еще оставался Элриком, который исступленно кричал в ужасе от происходящего. Элрик все еще оставался Элриком, когда он отошел от бассейна, но, взглянув на себя теперь, увидел, что он полностью воссоединился с тремя другими своими частями. Существо парило над бассейном. Со всех сторон его головы находилось по лицу, и каждое лицо принадлежало одному из его товарищей. Безмятежные и жуткие глаза смотрели не мигая. У существа было восемь рук, и эти руки оставались неподвижны. Оно присело над бассейном на восьми ногах, а в его доспехах смешались все цвета, хотя отдельные части оставались неизменными. Это существо всеми восемью руками сжимало один огромный меч, который, как и само существо, мерцал призрачным золотистым светом. И тогда Элрик вошел в это тело и стал иным – самим собой, и тремя другими, и чем-то еще, что являлось суммой этого союза. Четверо, которые Одно, повернули свой чудовищный меч, направив острие вниз, на бешено бурлящую жидкость в бассейне. Эта жидкость боялась меча. Она захныкала: – Агак, Агак… Существо, частью которого был Элрик, собрало все силы и начало опускать меч. На поверхности стали появляться бесформенные волны. Цвет жидкости сменился с болезненно-желтого на нездоровый зеленый. – Агак, я умираю… Меч безжалостно направился вниз. Он коснулся поверхности. Жидкость заметалась, попыталась перетечь через край бассейна. Меч погружался все глубже, и Четверо, которые Одно, чувствовали, как по лезвию в них вливаются новые силы. Раздался стон. Медленно бассейн успокаивался. Он замолчал. Движение прекратилось. Жидкость посерела. И тогда Четверо, которые Одно, спустились в бассейн, Чтобы быть поглощенными им. Теперь они видели все отчетливо. Они проверили свое тело. Они контролировали каждый свой орган, каждую функцию. Они торжествовали. Своим единственным восьмиугольным глазом они смотрели во всех направлениях одновременно, видели все руины города. Потом они перенесли все внимание на своего близнеца. Атак проснулся слишком поздно, но он все же проснулся, пробужденный криками своей умирающей сестры Джагак, в чье тело смертные вторглись первыми, чью хитрость превзошли, чьим глазом теперь смотрели и чьими силами вскоре собирались воспользоваться. Атаку не нужно было поворачивать голову, чтобы взглянуть на существо, которое он продолжал считать своей сестрой. Его разум, как и ее, находился в огромном восьмиугольном глазу. – Ты звала меня, сестра? – Я произнесла твое имя, не больше, брат. – Остатков жизненных сил Джагак хватало, чтобы Четверо, которые Одно, могли подражать ее голосу. – Ты кричала? – Во сне. – Четверо помолчали, потом продолжили: – Болезнь. Мне снилось, что на этом острове есть что-то такое, от чего мне нездоровится. – Разве такое возможно? Нам слишком мало известно об этих измерениях и существах, в них обитающих. Но никто из них по силе не может сравниться с Агаком или Джагак. Ничего не бойся, сестра. Скоро мы начнем. – Уже все в порядке. Я проснулась. Атак был озадачен. – Ты говоришь как-то странно. – Сон… – ответило существо, которое вошло в тело Джагак и уничтожило ее. – Пора начинать, – сказал Атак. – Измерения смещаются, и время пришло. Ты почувствуй. Оно ждет, когда мы возьмем его. Как оно богато энергией! Какой будет наша победа, когда мы вернемся домой! – Я чувствую, – ответили Четверо, и они действительно это чувствовали. Они чувствовали, как вся их вселенная, измерение за измерением, принялась вращаться вокруг них. Звезды, планеты и луны, измерение за измерением, во всей полноте энергии, которую желали заполучить Атак и Джагак. И в Четверых все еще была жива достаточная часть Джагак, чтобы они почувствовали сильный, хотя и преждевременный голод, который скоро, когда измерения займут нужное положение, будет утолен. Четверо испытывали искушение присоединиться к Атаку в грядущем пиршестве, хотя они и понимали, что тем самым ограбят собственную вселенную, оставив ее без энергии. Звезды погаснут, миры умрут. Погибнут даже Владыки Закона и Хаоса, потому что являются частью той же самой вселенной. Однако ради овладения этой силой, может быть, и стоит пойти на такое чудовищное преступление… Четверо подавили в себе это желание и подготовились к атаке, прежде чем Атак поймет, что происходит. – Начнем пир, сестра? Четверо поняли: корабль очень вовремя доставил их на остров. Еще чуть-чуть, и они опоздали бы. – Сестра? – В голосе Атака снова послышалось недоумение. – Что?.. Четверо поняли, что пора отсоединиться от Атака. Трубки и провода оторвались от тела Атака и втянулись в тело Джагак. – Что такое? – Несколько мгновений тело Атака сотрясала дрожь. – Сестра? Четверо приготовились. Они вобрали в себя воспоминания и инстинкты Джагак, а потому не были уверены, что смогут атаковать Атака в обличье его сестры. Но поскольку колдунья обладала способностью менять свой внешний вид, Четверо стали меняться, громко стеная, испытывая жуткую боль, собирая воедино все материалы своего украденного существа, и вот то, что имело вид здания, теперь превратилось в мясистую бесформенную плоть. Недоумевающий Атак смотрел на сестру. – Сестра? Ты не больна?.. Здание – существо, которое было Джагак, заметалось, начало плавиться и рассыпаться. Оно мучительно завизжало. Оно приняло свою форму. Оно рассмеялось. Четыре лица хохотали на гигантской голове. Восемь рук взметнулись к небесам в торжествующем жесте. Восемь ног пришли в движение, и над головой взлетел единственный огромный меч. И существо побежало. Оно неслось на Атака, а колдун из других миров все еще пребывал в своей неподвижной форме. Меч вращался с угрожающим гудением, и воздух пронзали лучи призрачного золотистого света, отраженные его лезвием. Четверо сравнялись с Агаком в размерах, и в этот миг они были равны ему по силе. Атак понял, какая ему грозит опасность, и начал вбирать энергию. Неторопливое пиршество с сестрой отменялось. Он должен напитаться энергией этой вселенной, если хочет иметь достаточно сил для самозащиты, получить то, что ему необходимо, для уничтожения этого врага, убийцы его сестры. Атак забирал в себя энергию, уничтожая миры. Но этого было недостаточно. Атак попытался прибегнуть к хитрости. – Это центр твоей вселенной. Все ее измерения пересекаются здесь. Приди, ты можешь разделить со мной эту силу. Моя сестра мертва. Я принимаю ее смерть. Теперь ты будешь моим напарником. Имея такую силу, мы покорим вселенную, гораздо более богатую, чем эта. – Нет! – сказали Четверо, продолжая наступать. – Что ж, знай тогда, что тебя ждет поражение. Четверо взмахнули мечом. Меч обрушился на фасеточный глаз в бассейне, являвшемся мозгом Атака. Бассейн этот бурлил, как недавно бурлил бассейн его сестры. Но Атак уже успел набрать силы и мгновенно оправился от удара. Появились щупальца Атака и замахнулись на Четверых, но Четверо ударили по щупальцам мечом. Атак вобрал в себя еще энергии. Его тело, принятое смертными за здание, начало мерцать алым светом и излучать невыносимый жар. Меч взревел и взмыл вверх, отчего черный свет смешался с золотым и столкнулся с алым. И все это время Четверо чувствовали, как их собственная вселенная сжимается и умирает. – Атак, верни то, что ты украл! – сказали Четверо. Плоскости, углы, кривые, провода и трубы мерцали темно-красным цветом. Раздался вздох Атака. Вселенная застонала. – Я сильнее тебя, – сказал Атак. – Смотри! Атак снова начал поглощать энергию. Четверо понимали, что в эти короткие мгновения внимание Атака отвлечено. Четверо знали также, что они тоже должны подпитываться энергией из вселенной, если хотят победить Атака. И вот меч снова взмыл вверх. Сперва меч двинулся назад для размаха, рассекая десятки тысяч измерений и впитывая в себя их силу. Затем он начал обратное движение. Меч готовился к удару, и черное сияние исходило от его лезвия. Меч готовился к удару, и Атак почувствовал это. Его тело начало изменяться. Черный клинок стремился туда, где находился огромный глаз колдуна, туда, где находился бассейн – мозг Атака. Множество щупалец колдуна поднялись в попытке отразить удар, но меч легко разрубил их и ударил по восьмиугольному помещению, которое было глазом Атака, и вонзился в бассейн – мозг Атака, глубоко вошел в вещество, которое было органом восприятия колдуна. Меч впитал в себя энергию колдуна и передал ее своему хозяину – Четверым, которые Одно. И во вселенной раздался крик, и по вселенной прошла дрожь. И вселенная умерла, и в этот миг начал умирать и Атак. У Четверых не было времени проверить, в самом ли деле мертв Атак. Они отправили меч назад, сквозь измерения, и везде, где проходил меч, энергия возвращалась. Меч вращался еще и еще, распространяя повсюду энергию. Меч, ликуя, пел свою песню победителя. Сполохи черного и золотистого света уносились прочь, и мир поглощал их. Одно мгновение вселенная была мертва. Но теперь, когда ей была отдана энергия Атака, она ожила. Атак тоже был жив, но обессилен. Он тщетно пытался изменить форму. Теперь он частично напоминал здание, которое увидел Элрик, добравшись до центра развалин, но частично он напоминал Четверых, которые Одно: здесь была часть лица Корума, здесь – нога, здесь фрагмент меча. Словно Атак в конце решил, что Четверых можно победить, лишь приняв их форму, точно так же, как Четверо приняли форму Джагак. – Мы столько ждали… – вздохнул Атак и умер. И Четверо вложили свой меч в ножны. Потом над руинами многих городов разнесся вопль, и по телу Четверых ударил такой сильный ветер, что оно вынуждено было встать на все восемь своих колен и опустить голову. Потом Четверо постепенно приняли форму Джагак, колдуньи, потом они оказались в бассейне с разлагающимся мозгом Джагак, потом поднялись оттуда, на мгновение зависли над бассейном и вытащили из него свой меч. Затем четыре существа разделились, и Элрик, Хоукмун, Эрекозе и Корум встали по четырем углам бассейна, сведя острия мечей в центре. Вся четверка вложила свои мечи в ножны. Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу, видя там ужас и трепет. Элрик отвернулся. В нем не было ни мыслей, ни чувств, связанных с тем, что только что произошло. Он не находил слов. Он стоял, недоуменно глядя на Ашнара Рысь, и спрашивал себя, чему это ухмыляется Ашнар, почему он жует свою бороду и скребет Лицо ногтями, а его меч лежит без дела на полу комнаты. – Теперь у меня опять есть плоть. У меня есть плоть, – повторял Ашнар. Элрик недоумевал – почему это Хоун Заклинатель Змей лежит, свернувшись клубком, у ног Ашнара и почему Брут, появившийся из коридора, вытянулся на полу, задергался и застонал, словно его потревожили во сне. В помещение вошел Отто Блендкер. Его меч был в ножнах. Глаза его были плотно закрыты, и он дрожал, обхватив себя руками. Элрик подумал: «Я должен забыть все это, иначе сойду с ума». Он подошел к Бруту и помог светловолосому воину подняться на ноги. – Что ты видел? – Больше, чем я заслужил за свои грехи. Мы оказались в ловушке. В ловушке этого черепа… Брут заплакал, как маленький ребенок, и Элрик обнял высокорослого воина, погладил по голове, но не смог найти ни слов, ни звуков, чтобы утешить его. – Нам нужно идти, – сказал Эрекозе. Глаза его помутнели. Он шел, спотыкаясь. Поддерживая тех, кто не держался на ногах, направляя тех, кто потерял разум, оставив тех, кто погиб, двигались они по мертвым коридорам тела Джагак. Теперь на них не падали твари, которых создавала колдунья, пытаясь очистить свое тело от тех, кого он воспринимала как вторгшуюся в нее болезнь. В коридорах и помещениях теперь стоял холод, и воины были рады, когда, добравшись наконец до выхода, увидели развалины, тени, неизвестно чем образуемые, красное неподвижное солнце. Отто Блендкер был, кажется, единственным из них, кто ни на миг не утратил здравого рассудка, пока они, без их на то согласия, находились в теле Четверых, которые Одно. Он вытащил факел из-за пояса, достал трут и поджег его. Скоро факел Отто разгорелся, и остальные подожгли от него свои. Элрик подошел к тому месту, где лежали останки Атака, и вздрогнул, узнав в чудовищном обездвиженном лице какие-то свои черты. Казалось, это вещество неспособно гореть – но оно загорелось. За ним занялось и тело Джагак. Огонь медленно поглощал их, и вверх устремились столбы пламени и бело-алого дыма, от которого небеса заволокло дымкой, затмившей розовый диск солнца. Воины смотрели, как горят эти тела. – Интересно, – сказал Корум, – знал ли капитан, зачем он посылает нас сюда. – Подозревал ли он, как все будет? – добавил Хоукмун. Его голос был исполнен негодования. – Только мы – только это существо – могло сразиться с Агаком и Джагак более или менее на равных, – сказал Эрекозе. – Другие средства здесь были бы бесполезны, ни одно другое существо не могло иметь тех свойств, той огромной силы, что была необходима для победы над такими необычными колдунами. – Пожалуй что так, – сказал Элрик. Больше он не хотел говорить об этом. – Будем надеяться, что ты забудешь эти события, как забыл – или забудешь – другие. Элрик смерил его внимательным взглядом. – Будем надеяться, брат, – сказал он. В смешке Эрекозе слышалась ирония. – А кто сможет это вспомнить? – И он тоже больше не сказал ничего. Ашнар Рысь, который притих, когда занялся огонь, внезапно завопил и бросился прочь. Он подбежал к мерцающей колонне, а потом метнулся в другую сторону и исчез среди развалин и теней. Отто Блендкер посмотрел на Элрика вопросительным взглядом, но альбинос покачал головой. – Не имеет смысла преследовать его. Разве мы можем чем-то ему помочь? – Он посмотрел на Хоуна Заклинателя Змей. Этот воин в доспехах цвета морской волны был ему особенно по душе. Элрик пожал плечами. Они пошли назад, оставив тело Хоуна там, где оно и лежало, и лишь помогая Бруту из Лашмара перебираться через развалины. Вскоре впереди показался белый туман, и они поняли, что приблизились к морю, хотя корабля и не было видно. У кромки тумана Хоукмун и Эрекозе остановились. – Я не вернусь на корабль, – сказал Хоукмун. – Я чувствую, что сполна оплатил проезд. Если Танелорн где и есть, то искать его нужно только здесь. – И я чувствую то же самое. – Эрекозе согласно кивнул. Элрик посмотрел на Корума. Корум улыбнулся. – Я уже нашел Танелорн. Я вернусь на корабль, в надежде, что он доставит меня к более знакомым берегам. – Я надеюсь на то же самое, – сказал Элрик. Он все еще поддерживал Брута из Лашмара. Брут прошептал: – Что это было? Что с нами случилось? Элрик покрепче сжал плечо воина. – Ничего, – сказал он. Когда альбинос повел Брута дальше, в туман, тот отстранился и сделал шаг назад. – Я останусь, – сказал он и еще дальше отодвинулся от Элрика. – Извини. Элрик пребывал в недоумении. – Брут? – Извини, – повторил Брут. – Я боюсь тебя. Я боюсь этого корабля. Элрик попытался было вернуть Брута, но почувствовал на своем плече тяжелую серебряную руку Корума. – Уйдем отсюда, друг. – Он улыбнулся мрачной улыбкой. – Лично я боюсь не корабля, а того, что осталось у нас за спиной. Они бросили взгляд на развалины. Вдалеке виднелись остатки пожарища, и теперь там прибавились еще две тени – Атака и Джагак, такие, какими воины впервые их увидели. Элрик вдохнул холодный воздух. – Я согласен, – сказал он Коруму. Единственным, кто решил вместе с ними вернуться на Корабль, был Отто Блендкер. – Если это и есть Танелорн, то он совсем не такой, какой мне нужен, – сказал он. Скоро они уже шли по пояс в воде. Перед ними снова возникли очертания корабля, они увидели капитана, облокотившегося на леер, капитан поднимал руку, словно приветствуя кого-то или что-то на острове. – Капитан, – окликнул его Корум, – мы возвращаемся на борт. – Добро пожаловать, – сказал капитан. – Да, добро пожаловать. – Слепое лицо повернулось к ним, когда Элрик протянул руку к веревочной лестнице. – Не хотите ли некоторое время поплавать в тихих местах, в спокойных местах? – Пожалуй, – сказал Элрик. Он задержался на середине лестницы, потрогал свою голову. – У меня много ран. Он дотянулся до леера, и холодные руки капитана помогли ему перебраться на палубу. – Они затянутся, Элрик. Элрик подошел к мачте. Прислонясь к ней, он смотрел, как команда молча разворачивает паруса. Корабль слегка покачивало. Отто Блендкер посмотрел на Элрика, потом на капитана, потом отправился в каюту и закрыл за собой дверь, так и не произнеся ни слова. Парус наполнился ветром, и корабль начал двигаться. Капитан протянул руку и нащупал Элрика. Он взял его под руку и повел в свою каюту. – Вино, – сказал он. – Оно исцеляет все раны. У дверей капитанской каюты Элрик остановился. – А больше никаких свойств у этого вина нет? – спросил он. – Оно не затемняет рассудок? Уж не поэтому ли я принял твое предложение, капитан? Капитан пожал плечами. – Что такое рассудок? Корабль набирал скорость. Белый туман стал гуще, холодный ветер трепал остатки одежды на Элрике, обдувал его доспехи. Он втянул носом воздух – на мгновение ему показалось, что потянуло дымком. Он приложил ладони к лицу, прикоснулся к своей коже. Лицо его было холодным. Потом, уронив руки, он последовал за капитаном в тепло каюты. Капитан налил вино из серебряного кувшина в серебряные кубки и сделал Элрику и Коруму приглашающий жест рукой. Они выпили. Чуть позднее капитан спросил: – Как ты себя чувствуешь? – Я не чувствую ничего, – сказал Элрик. В ту ночь ему снились только тени, а утром он никак не мог понять, что же ему снилось.Часть вторая Плавание в настоящее
Глава первая Кое-что о судьбе душ
Его рука с длинными пальцами и кожей цвета кости покоилась на голове демона, вырезанной из черно-коричневого дерева, – подобные украшения были на корабле повсюду. Высокий человек стоял в одиночестве на полубаке корабля и большими миндалевидными глазами темно-красного цвета вглядывался в туман, сквозь который они двигались со скоростью и уверенностью, способными удивить любого смертного моряка. Вдалеке послышались какие-то звуки, несовместимые со звуками этого безымянного моря, лежащего за пределами времени, – звуки высокие, мучительные и жуткие, и, хотя они так и продолжали звучать вдалеке, корабль двигался на них, словно они притягивали к себе. Звуки становились все громче – в них слышались боль и отчаяние, но преобладал ужас. Элрик слышал прежде такие звуки – они доносились из помещения, принадлежащего его кузену Йиркуну и иронически называемого им «Камера удовольствий». Было это в те дни, когда Элрик еще не бежал от своих обязанностей управлять тем, что осталось от империи Мелнибонэ. Эти голоса принадлежали людям, чьи не только тела, но и души подвергались мучительной пытке, людям, для которых смерть была не прекращением бытия, а продолжением существования в вечном рабстве у какого-то жестокого хозяина из потустороннего мира. Ему не нравились эти звуки – он их ненавидел; он повернулся спиной к их источнику и уже собирался спуститься по трапу на основную палубу, но тут заметил, что у него за спиной стоит Отто Блендкер. Теперь, когда Корума унесли Друзья на колесницах, способных двигаться по поверхности воды, Блендкер оставался последним из воинов, которые сражались с Элриком против двух колдунов, прибывших из другого мира, – Атака и Джагак. Черное, иссеченное шрамами лицо Блендкера выражало беспокойство. Бывший книжник, превратившийся в наемника, зажимал уши огромными ладонями. – Элрик, во имя двенадцати символов разума, кто это там шумит? У меня такое чувство, будто мы приплыли к берегам преисподней. Принц Элрик Мелнибонийский пожал плечами. – Я бы предпочел воздержаться от ответа и оставить любопытство неудовлетворенным, мастер Блендкер, если, конечно, наш корабль переменит курс. Но пока мы все время приближаемся к источнику этих звуков. Блендкер прохрипел в ответ: – У меня нет никакого желания встречаться с тем, от чего эти бедняги так вопят! Может быть, стоит сказать капитану? – Ты думаешь, он не знает, куда плывет его корабль? – В улыбке Элрика не было ничего веселого. Высокий чернокожий человек потрогал свой шрам в виде перевернутой буквы V, перечеркивавший его лоб и скулы. – Уж не собирается ли он снова отправить нас в бой? – Больше я не буду сражаться для него. – Ладонь Элрика переместилась с резного демона на рукоять рунного меча. – У меня есть свои дела, которыми мне нужно заняться, когда я вернусь в реальный мир. Ниоткуда налетел ветер. В тумане внезапно появилась прореха, и Элрик увидел, что корабль плывет по ржавого цвета воде, в которой поблескивали какие-то необычные огоньки вблизи от поверхности. Возникало впечатление, что это какие-то существа, с трудом передвигающиеся в океанских водах. На мгновение Элрику показалось, что он увидел белое распухшее лицо, чем-то напоминающее его собственное – лицо мелнибонийца. Он инстинктивно подался вперед, наклонился над леером, пытаясь сдержать тошноту, подступившую к горлу. Впервые с того дня, как Элрик оказался на палубе Темного корабля, он ясно увидел судно во всю его длину. Он видел два больших штурвала: один рядом с ним на носу, другой – на корме. У штурвала, как и всегда, находился рулевой – внешне полный двойник капитана. На огромной мачте висел наполненный ветром черный парус, а слева и справа от мачты находились две каюты, одна из которых теперь была абсолютно пуста – ее обитатели погибли во время их последней высадки, а во второй располагались Элрик и Блендкер. Элрик снова перевел взгляд на рулевого, и уже не в первый раз альбинос спросил себя – какое влияние оказывает близнец капитана на курс Темного корабля. Рулевой казался неутомимым, он редко, насколько то было известно Элрику, спускался в свою каюту, располагавшуюся на кормовой палубе, тогда как капитанская располагалась на носовой. Раз или два Элрик и Блендкер пытались завязать разговор с рулевым, но он казался глухим в той же степени, в какой был слепым его брат. В одеяле бледного тумана, все еще цеплявшегося к кораблю (и опять Элрик задался вопросом – уж не создает ли сам корабль этот туман, окружающий его), образовались прорехи, и взгляду открылась загадочная геометрическая резьба, испещрявшая большую часть обшивки корабля от кормы до ростра. Элрик смотрел, как рисунки медленно окрашиваются бледно-розовым цветом – это красная звезда, неизменно следовавшая за ними, пронзила своими лучами нависавшую над кораблем тучу. До Элрика донесся какой-то шум снизу. Из своей каюты появился капитан, его длинные рыжевато-золотистые волосы развевались на ветру, которого не чувствовал Элрик. Обруч голубого нефрита, которым капитан закреплял волосы, обрел в этом розоватом свете лиловую окраску, а его светлые штаны и туника отражали этот оттенок. Даже серебряные сандалии с серебряными шнурками отливали розовым. Элрик снова взглянул на таинственное слепое лицо, в известном смысле столь же чуждое человеческой расе, как и лицо мелнибонийца. Элрику не давал покоя вопрос – откуда взялся этот слепой, который требовал, чтобы его называли не иначе как капитаном. Словно по призыву капитана, туман снова сгустился вокруг корабля – такженщина набрасывает на плечи меховую накидку. Свет красной звезды потускнел, но крики вдалеке продолжались. Неужели капитан только сейчас обратил внимание на эти звуки, или он просто разыграл перед Элриком удивление? Его слепая голова наклонилась, он приложил к уху руку. Удовлетворенным тоном он пробормотал: «Ага!» Потом выпрямил голову и произнес: – Элрик? – Здесь, – сказал альбинос. – Над тобой. – Мы почти на месте, Элрик. Хрупкая на вид рука нащупала перила трапа. Капитан начал подниматься. Элрик смотрел на него сверху. – Если это сражение… Улыбка у капитана была загадочная, горькая. – Это было сражением… или будет. – …то мы в нем не участвуем, – завершил альбинос начатую фразу. Голос его звучал твердо. – Это сражение не из тех, в которых мой корабль участвует непосредственно, – заверил его слепой. – Те, кого ты слышишь, это побежденные. Они затерялись в некоем будущем, которое ты, как мне думается, проживешь в конце твоего нынешнего воплощения. Элрик раздраженно махнул рукой. – Я был бы рад, капитан, если бы мы обходились без подобных пустых мистификаций. Я от них устал. – Извини, если это оскорбляет твой слух. Но я отвечаю буквально, руководствуясь своими чувствами. Капитан, пройдя мимо Элрика и Отто Блендкера, встал у леера; в голосе его слышалась извиняющаяся интонация. Некоторое время он молчал, прислушиваясь к жутковатому и непонятному бормотанию, доносившемуся до них из тумана. Потом он, явно удовлетворенный, кивнул. – Скоро будет земля. Если вы хотите оставить корабль и отправиться на поиски вашего мира, то я бы посоветовал вам сделать это сейчас. Мы подошли как никогда близко к вашему измерению – ближе уже никогда не будем. Элрик не скрывал гнева. Он выругался, помянув имя Ариоха, и положил руку на плечо капитана. – Что? Ты не можешь вернуть меня непосредственно в мое измерение? – Слишком поздно. – Волнение капитана явно не было поддельным. – Корабль продолжает плавание. Мы приближаемся к концу нашего долгого путешествия. – Но как я найду свой мир? Я не знаю колдовства, которое позволило бы мне перемещаться между измерениями! А помощь демонов здесь недоступна. – Здесь есть врата в твой мир, – сказал ему капитан. – Поэтому я и предлагаю тебе сойти на берег. Твоя плоскость пересекаются с этой. – Но ты говоришь, что эта земля находится в моем будущем. – Не сомневайся – ты попадешь в свое время. Здесь ты находишься вне времени. Вот почему твои воспоминания так слабы. Вот почему ты не помнишь почти ничего из того, что с тобой происходит. Ищи врата – они малинового цвета, и они расположены в море рядом с берегом этого острова. – Какого острова? – Того, к которому мы приближаемся. Элрик помедлил. – А куда направишься ты, когда я сойду? – В Танелорн, – сказал капитан. – У меня есть там кое-какие дела. Мы с братом должны завершить нашу судьбу. Мы везем не только людей, но и груз. Многие теперь будут пытаться нас остановить, потому что они боятся этого груза. Мы можем погибнуть, но тем не менее должны сделать все Возможное, чтобы попытаться попасть в Танелорн. – Так значит, то место, где мы сражались с Агаком и Джагак, не было Танелорном? – ТобьжвсеголишьразрушенныйсоноТанелорне, Элрик. Альбинос понял, что больше он ничего не добьется от Капитана. – Ты предлагаешь мне плохой выбор. Отправиться с тобой в опасное путешествие и никогда больше не увидеть моего мира – или рискнуть и высадиться на этом острове, населенном, судя по звукам, которые мы слышим, проклятыми и мучителями проклятых. Капитан уставился невидящим взглядом в Элрика. – Да, я знаю, – тихо сказал он. – Но ничего лучше я тебе не могу предложить. Теперь вопли, мольбы, крики ужаса звучали громче, но их стало меньше. Элрик бросил взгляд вниз, и ему показалось, что он увидел пару рук в латах, поднимающихся из воды. На воде появилась пена, покрытая красными крапинками и вонючая, возникла какая-то желтоватая накипь, в которой плавали навевающие ужас обломки: – поломанные мачты, обрывки парусов, лоскуты флагов и одежды, части оружия и – все в больших и больших количествах – мертвые тела. – Но где состоялась эта битва? – прошептал Блендкер, которого это зрелище ужасало и влекло. – Не в этой плоскости, – ответил ему капитан. – Вы видите только обломки, которые приплыли из одного мира в другой. – Значит, то была битва сверхъестественных сил? Капитан снова улыбнулся. – Я не всеведущ. Но я думаю, что здесь и в самом деле были задействованы сверхъестественные силы. Воины половины мира сошлись в морском сражении, решающем судьбу мультивселенной. Это было – или будет – одно из решающих сражений. От него зависит судьба человечества, оно определит удел человека в грядущем цикле. – И кто в нем участвовал? – спросил Элрик, хотя и решил больше не задавать вопросов капитану. – За что они сражались? – Я думаю, в свое время ты узнаешь об этом. – Капитан снова повернул лицо к морю. Блендкер потянул носом воздух. – Отвратительно! Элрику тоже все больше не нравился этот запах. То здесь, то там в воде возникали огни. Они высвечивали лица тонущих, некоторые все еще цеплялись за черные обгорелые обломки. Не все лица были человеческими, хотя по виду прежде и принадлежали людям. Существа со свиными рылами, бычьими мордами тянули к Темному кораблю сведенные агонией руки, жалобно хрюкали, умоляя о помощи, но капитан словно не замечал их, а рулевой не менял курса. Огни разлетались искрами, вода шипела, дым смешивался с туманом. Элрик закрыл нос и рот рукавом и был рад, что дым и туман ухудшают видимость, потому что обломков становилось все больше, а тела напоминали теперь скорее рептилий, чем людей, – из их распоротых, бледных, как у ящериц, животов хлестала жидкость, не похожая на кровь. – Если это мое будущее, – сказал Элрик капитану, – то я, пожалуй, останусь на борту. – Ты, как и я, должен исполнить свой долг, – тихо сказал капитан. – Будущее необходимо отработать, так же как прошлое и настоящее. Элрик покачал головой. – Я презрел свой долг перед империей, потому что искал свободы, – сказал альбинос. – Поэтому я должен оставаться свободным. – Нет, – пробормотал капитан. – Свободы нет. Пока еще нет. Для нас. Мы должны пройти через новые испытания, прежде чем начнем прозревать, что же такое свобода. Цена за это знание, вероятно, выше, чем та, что ты готов заплатить на данном этапе твоей жизни. И нередко эта цена – сама жизнь. – А еще, покинув Мелнибонэ, я искал отдохновения от всей этой метафизики, – сказал Элрик. – Я соберу свои вещи и высажусь на этой земле. Если повезет, может, быстро найду эти Малиновые врата и вернусь к опасностям и мукам, которые хотя бы знакомы мне. – Другого решения ты и не мог принять. – Голова слепого капитана повернулась к Блендкеру: – А ты, Отто Блендкер? Что будешь делать ты? – Мир Элрика мне чужой, и мне не нравятся эти крики. Что ты можешь мне обещать, если я останусь на корабле? – Ничего, кроме достойной смерти. – В голосе капитана слышалось сожаление. – Смерть – это обещание, с которым мы рождаемся, мой господин. Достойная смерть лучше недостойной. Я останусь с тобой. – Как хочешь. Я думаю, ты поступаешь разумно. – Капитан вздохнул. – Итак, я прощаюсь с тобой, Элрик из Мелнибонэ. Ты хорошо сражался на моей службе, и я благодарю тебя. – Сражался за что? – спросил Элрик. – Можешь называть это человечеством. Можешь называть это судьбой. Называй это мечтой или идеалом – как хочешь. – Я никогда не получу от тебя ответа яснее? – Не от меня. Я думаю, ясного ответа просто нет. – Ты почти не оставляешь надежды, – сказал Элрик и начал спускаться по трапу. – Есть два вида надежды, Элрик. Как и в случае со свободой, есть надежда, которую легко хранить, но в конечном счете выясняется, что она того не стоит. А есть надежда, которая дается с большим трудом. Согласен – я почти не оставляю первой. Элрик зашагал к каюте. Он рассмеялся, чувствуя в этот миг искреннюю симпатию к слепому капитану. – Я думал, что только у меня склонность к подобным двусмысленностям, но в твоем лице я встретил себе ровню, Капитан. Он заметил, что рулевой оставил свое место у штурвала, извлек лодку из шлюпбалки и готовится спустить ее на воду. – Это для меня? Рулевой кивнул. Элрик исчез в каюте. Он сходил с корабля с тем же, что Было при нем, когда он поднялся на палубу, вот только его доспехи и одежда пребывали теперь в более плачевном состоянии, а разум – в еще большем смятении. Он без колебаний собрал свои вещи, набросил на плечи тяжелый плащ, надел рукавицы, застегнул пряжки доспехов и вернулся на палубу. Капитан указывал сквозь туман в направлении темнеющей впереди береговой линии. – Ты видишь там землю, Элрик? – Вижу. – Тогда поторопись. – Охотно. Элрик перебрался через леер и оказался в лодке. Лодка несколько раз стукнулась о борт корабля, отчего корпус загудел, словно ударили в огромный похоронный барабан. Других звуков на окутанной туманом воде теперь не было. Исчезли и обломки. Блендкер отсалютовал ему. – Удачи тебе, друг. – И тебе тоже, мастер Блендкер. Лодка начала спускаться на плоскую поверхность моря, поскрипывали шкивы. Элрик вцепился в канат, который отпустил, когда днище коснулось воды. Он тяжело сел и отвязал канаты. Лодка сразу же отвалила от борта Темного корабля. Элрик достал весла и вставил их в уключины. Он принялся грести в направлении берега. До него вдруг донесся голос капитана, но слова были приглушены туманом, и Элрик так никогда и не узнал, было ли это предостережение или просто вежливое прощальное пожелание. Ему было все равно. Лодка ровно шла по воде. Туман начал рассеиваться, но при этом слабел и свет. Внезапно он оказался под сумеречными небесами, на которых после захода солнца стали появляться звезды. Прежде чем он добрался до суши, наступила полная темнота, потому что луны не было. Элрик не без труда причалил к плоскому каменному берегу. Спотыкаясь, альбинос побрел прочь от воды и остановился, лишь когда достиг безопасного места, куда приливные волны не доходили. И тогда, вздохнув, он лег, собираясь привести в порядок свои мысли, прежде чем двигаться дальше. Но почти сразу же он уснул.Глава вторая Сон и пробуждение
Элрику снился сон. Во сне он видел не только конец своего мира, но и окончание всего цикла в истории мультивселенной. Ему снилось, что он не только Элрик из Мелнибонэ, что он – это еще и другие, и все они призваны защищать какое-то сверхъестественное дело, которое они и описать толком не могли. И ему снилось, что ему снится Темный корабль, Танелорн, Атак и Джагак, а сам он лежит на берегу где-то за границей Пикарайда. И когда он проснулся, на губах у него была ироническая улыбка – он поздравил себя со столь масштабным воображением. Но полностью выкинуть из головы впечатление, произведенное на него этим сном, он не мог. Берег стал другим – несомненно, с ним, Элриком, за это время что-то произошло. Может быть, его опоили работорговцы, а потом бросили здесь, обнаружив, что он не тот, кто им нужен. Хотя нет, это объяснение не годилось. Если он выяснит, где находится, то, возможно, вспомнит и истинные происшествия. Светало – в этом можно было не сомневаться. Он сел и оглянулся. Он спал на темных, омываемых волнами, растрескавшихся известковых плитах. Трещины были такими глубокими, что по многим из них, как по каналам, устремлялись потоки пенящейся соленой воды, отчего утро, довольно тихое во всем остальном, полнилось звуками. Элрик поднялся на ноги, опираясь на ножны своего рунного меча. Его веки, белые, словно кость, на мгновение прикрыли малиновые глаза – он снова попытался вспомнить события, в результате которых оказался здесь. Элрик вспомнил свой побег из Пикарайда, охватившую его панику, чувство безнадежности, вспомнил свои сны, и поскольку он явно не был мертв и не находился в плену, то по меньшей мере можно было заключить, что его преследователи в конце концов отказались от погони, потому что если бы они его нашли, то непременно убили бы. Открыв глаза и оглянувшись, он обратил внимание на странный голубоватый оттенок света – явно какая-то игра солнца за серыми облаками, делавшая ландшафт призрачным и придававшая морю мрачноватый металлический цвет. Известковые террасы,поднимавшиеся из моря и уходившие вверх, блестели, как отполированный свинец. Поддавшись порыву, он выставил руку на свет и посмотрел на нее. Его обычно бесцветная белая кожа приобрела какой-то синеватый оттенок и слегка светилась. Ему это понравилось, и он улыбнулся, как улыбается в невинном недоумении ребенок. Он предполагал, что его будет одолевать усталость, но Теперь чувствовал себя неожиданно свежо, словно он хорошо выспался после сытного обеда. Решив не подвергать сомнению эту счастливую – и маловероятную – очевидность, он вознамерился подняться на утесы в надежде получить представление, где он находится, а потом уже думать, куда направить стопы. Хотя известняк и осыпался у него под ногами, восхождение не было трудным, потому что террасы плавно переходили одна в другую. Он поднимался осторожно и упорно, находя удобные места для ног. Довольно быстро он забрался на значительную высоту, однако до вершины добрался только к полудню. Он оказался на краю широкого каменистого плато, которое резко уходило вверх, приближая линию горизонта. За плато было только небо. То здесь, то там виднелись поросли скудной коричневатой травы, а вот никаких следов человека он не увидел. Только теперь Элрик впервые понял, что здесь нет и никаких форм жизни. В воздухе не было ни одной морской птицы, в траве не ползало ни одного насекомого. Над коричневатой долиной царила полная тишина. Элрик по-прежнему был на удивление бодр, а потому решил наилучшим образом воспользоваться этой энергией и добраться до края плато в надежде, что оттуда он сможет увидеть какой-нибудь город или деревню. Он шел вперед, не испытывая ни холода, ни жажды, и походка его была до странности энергичной. Однако он ошибся в оценке расстояния, и солнце начало заходить за горизонт задолго до завершения его пути к краю плато. Небо со всех сторон стало приобретать темновато-синий оттенок, и немногие облака светились синевой. И тут Элрик впервые обратил внимание, что и у солнца здесь необычный цвет, что горит оно темным пурпуром. И снова Элрику пришла в голову мысль: а уж не видит ли он все это во сне. Начался крутой подъем, и теперь шаги стали даваться ему с большим трудом, но, прежде чем свет погас совсем, Элрик добрался до крутого склона, спускающегося в широкую долину; хотя деревьев долина была лишена, по ней текла река, петлявшая между камней, красновато-коричневых кустов и папоротника. Немного передохнув, Элрик, хотя уже наступила ночь, решил продолжить свой путь, чтобы добраться до реки, где ему, возможно, удастся напиться, а утром, может быть, поймать рыбу. И опять луна не взошла, поэтому ему пришлось идти в Почти полной темноте. Он шел час или два, иногда спотыкался, наткнувшись на большой камень, но через некоторое время почва выровнялась, и он решил, что наконец-то у него под ногами земля долины. Его теперь мучила сильная жажда, и он испытывал голод, но все же сказал себе, что лучше дождаться утра и тогда заняться поисками реки. Но внезапно, обогнув особенно крупный камень, он с удивлением увидел огонь костра. Он подумал, что это может быть группа купцов, торговый караван на пути в какую-нибудь цивилизованную страну. Возможно, они позволят ему присоединиться к ним в обмен на его услуги наемника – он уже не в первый раз, после того как покинул Мелнибонэ, зарабатывал себе на хлеб таким способом. Но осторожность не оставила Элрика – он тихо приближался к костру, стараясь, чтобы его не заметили. Он остановился в тени нависающей скалы, наблюдая за группой из пятнадцати-шестнадцати человек, которые сидели или лежали рядом с костром, увлекшись игрой в кости и то и дело переворачивая пронумерованные пластинки. В отблесках пламени сверкали золотые, бронзовые и серебряные монеты – игроки делали крупные ставки, кидали кости, переворачивали пластинки. Элрик понял, что, если бы не увлеченность игрой, эти люди непременно заметили бы его приближение, потому что они не были купцами. Судя по всему, они были воинами; одетые в поцарапанную кожу и помятые доспехи, они держали оружие под рукой, но явно не принадлежали ни к одной армии – разве что к армии разбойников, – потому что были людьми разных рас и, как это ни странно, словно бы вышли из разных исторических периодов Молодых королевств. У Элрика возникло впечатление, что они ограбили какого-нибудь человека, собиравшего коллекцию редкостей. Здесь был воин поздней Лормирианской республики, вооруженный боевым топором; республика эта перестала существовать Более двухсот лет назад, а воин лежал на боку, упираясь плечом в локоть лучника-чалалита, принадлежащего приблизительно к той же эпохе, что и Элрик. Рядом с чалалитом сидел невысокий илмиорский пехотинец прошлого века. Рядом с ним расположился филкхарец в варварском одеянии, какое носил этот народ на самом раннем этапе своей истории. Здесь были таркешиты, шазаарцы, вилмирцы, и единственное, что их объединяло, – так это злодейская наружность. В других обстоятельствах Элрик прошел бы мимо, но он был рад видеть хоть какие-то человеческие существа, а потому предпочел не обратить внимания на тревожные несообразности. Однако пока он продолжил наблюдение. Один из этих людей, вызывавший меньшее отвращение, чем другие, был крупный чернобородый лысый моряк, небрежно носивший кожаную с шелком одежду, принятую в Пурпурных городах. И когда этот человек достал большое золотое мелнибонийское колесо – монету, которая не чеканилась, как большинство монет, а вырезалась мастерами по древнему и сложному рисунку, – любопытство Элрика победило его осмотрительность. В Мелнибонэ было немного таких монет, а за его пределами, насколько то было известно Элрику, – ни одной, поскольку эти монеты не использовались в торговле с Молодыми королевствами. Они высоко ценились даже среди мелнибонийской знати. Элрик решил, что лысый мог приобрести эту монету только у другого мелнибонийского путешественника, но Элрик не знал ни одного мелнибонийца, который, как он, питал бы склонность к странствованиям. Отбросив осторожность, он шагнул в освещенный круг. Если бы мысли его не были заняты мелнибонийским колесом, то его позабавило бы, как при виде незнакомца руки игроков потянулись к оружию. Несколько мгновений – и Большинство уже стояли на ногах, держа оружие наготове. Элрик на миг забыл о золотом колесе. Держась за рукоять меча, другой рукой он сделал успокаивающее движение. – Прошу простить мое вторжение, господа. Но я всего лишь такой же, как вы воин, утомленный путешествием. Я буду рад присоединиться к вам. Я бы хотел получить у вас кое-какую информацию и приобрести немного еды, если у вас есть лишняя. У воинов, поднявшихся на ноги, вид стал еще более зловещим. Они усмехались – вежливые манеры Элрика забавляли, но не впечатляли их. Один из них, морской разбойник в пантангской одежде, в шлеме с пером и с соответствующей разбойничьей наружностью, набычившись, воинственно произнес: – Нам не нужна ничья компания, белолицый. А мелнибонийские демоны среди нас вообще не в чести. Ты, должно быть, богат. Элрик вспомнил, с какой враждебностью относятся к мелнибонийцам в Молодых королевствах, а особенно в Пан-Танге, который завидовал силе и мудрости острова Драконов, а в последнее время начал откровенно подражать Мелнибонэ. Элрик спокойным голосом, хотя и внутренне собравшись, сказал: – У меня совсем мало денег. – Мы все равно возьмем их, демон. – Пантангец протянул грязную руку, сунув ладонь прямо к носу Элрика, и зарычал: – Давай сюда деньги и убирайся. Элрик улыбнулся вежливой, тонкой улыбкой, словно услышал дурную шутку. Пантангец имел мнение о своей шутке гораздо лучшее, чем Элрик, потому что он рассмеялся от души и бросил взгляд на ближайшего к себе товарища в поисках одобрения. Грубый, хриплый смех огласил ночь, не смеялся только Лысый чернобородый человек. Он даже отступил на шаг или два, тогда как другие приблизились к Элрику. Пантангец подошел вплотную к Элрику, и альбинос ощущал его грязное дыхание, видел вшей в его волосах, однако не терял головы и отвечал все тем же примирительным тоном: – Дайте мне немного еды, фляжку с водой или вино, Если найдется, и я с радостью отдам вам деньги, которые у меня есть. Снова раздался смех, смолкнувший, когда Элрик продолжил: – Но если вы попытаетесь отобрать мои деньги силой, то я буду защищаться. У меня хороший меч. Пантангец попытался подражать ироническому тону Элрика. – Но ты уже понял, господин демон, что мы превосходим тебя числом. И значительно. Голос альбиноса звучал тихо. – Я обратил на это внимание, но меня это не беспокоит… – И он извлек из ножен Черный Меч, не закончив фразы, потому что они навалились на него. Пантангец умер первым, меч рассек его пополам, перерубив позвоночник, и Буревестник, забрав первую душу, начал тихонько напевать. Следующим умер чалалит – он прыгнул, выставив вперед метательное копье, и напоролся на острие Буревестника, который забормотал от радости. Но лишь когда клинок снес с плеч голову филкхарца, бросившегося на Элрика с пикой, началась настоящая песня, меч полностью вернулся к жизни. Черный огонь мерцал по всей его длине, таинственные руны засияли. Поняв, что имеют дело с колдовством, воины стали осторожнее, но атаку не прекратили, и Элрику, который наносил и отражал удары, рубил и колол, требовалась вся свежая энергия, которую передавал ему меч. Копья, мечи, топоры и кинжалы встречали должный отпор, раны получал и Элрик, и его противники, однако число мертвецов еще не превысило числа живых, когда Элрик оказался прижат спиной к скале, вынужденный отражать не менее дюжины клинков, ищущих его смерти. Альбинос уже было засомневался, что ему удастся одолеть такое множество врагов, но тут лысый воин с топором в одной руке и мечом в другой возник в круге света и атаковал своих товарищей – тех, кто был ближе к нему. – Благодарю тебя, друг, – смог выкрикнуть Элрик, получив такую неожиданную помощь. Воспрянув духом, альбинос возобновил боевые действия. Лормирец, предпринявший ложный выпад, был рассечен от бедра до бедра, филкхарец, который должен был умереть четыре столетия назад, упал, кровь хлынула у него изо рта и носа, мертвые тела грудились одно на другое. Буревестник продолжал петь свою зловещую песню, рунный меч передавал энергию своему хозяину, и с каждым убитым Элрик обретал силы для нового удара. Оставшиеся в живых уже жалели о своей опрометчивости – они кричали, что их нападение было случайным. Если раньше с их губ срывались угрозы и ругательства, то теперь они жалобно молили о милосердии, а те, кто прежде нагло хохотал, теперь плакали, как юные девицы. Но Элрик, которого обуял его прежний боевой пыл, не щадил никого. Тем временем выходец из Пурпурных городов неплохо работал своими топором и мечом и без помощи колдовства: еще трое из прежних его товарищей были убиты, а он с удовольствием предавался своим трудам, словно уже не первый день развивал в себе вкус к такого рода действу. – Йо-хо, хорошенькое дельце! – крикнул чернобородый. И тут бойня подошла к концу – на поле боя не осталось никого, кроме самого Элрика и его нового союзника, который стоял, опираясь на свой боевой топор; чернобородый тяжело дышал и ухмылялся, как гончая, прикончившая добычу. Он вернул на голову свалившуюся во время схватки стальную ермолку и, отерев окровавленным рукавом потное лицо, сказал низким добродушным голосом: – Теперь, значит, мы неожиданно сделались богачами. Элрик всунул в ножны Буревестник, который все еще не хотел туда возвращаться. – Тебе нужно их золото? Ты мне поэтому помог? Чернобородый воин рассмеялся. – У меня был должок перед ними, и я дожидался удобного момента, когда его можно будет заплатить. Эти негодяи – остатки пиратской команды, которая поубивала всех на борту моего корабля, когда мы оказались в незнакомых водах; они и меня убили бы, если бы я не сказал, что хочу присоединиться к ним. Теперь я отомщен. Не скажу, что меня не привлекает золото, поскольку большая его часть принадлежит мне и моим убитым братьям. Я отдам его их женам и детям, когда вернусь в Пурпурные города. – А как тебе удалось убедить их не убивать тебя? – Элрик принялся искать что-нибудь съестное и, найдя сыр, стал жевать. – У них не было ни капитана, ни штурмана. Никто из них не был моряком, они все прибрежные разбойники, обосновавшиеся на этом острове. Их высадили на этом берегу, и они обратились к пиратству как к последнему средству, но в открытое море выходить не рисковали. А потом, после сражения они остались без корабля. Мы смогли затопить его время схватки. Мы доплыли до берега на моем корабле, но провизии на нем почти не оставалось, а в море выходить они опасались. И вот я сказал им, что знаю этот берег (пусть боги возьмут мою душу, если я когда-либо после этого дела увижу его еще раз!), и предложил провести их в деревню в центре острова, которую они смогут ограбить. Они о такой деревне не знали, но поверили мне, когда я сказал, что она расположена в защищенной долине. Таким образом я продлил свою жизнь, а сам только искал случая отомстить им. Я знаю, что шансы на это были призрачны. И все же, – он усмехнулся, – то, как все оно вышло, говорит, что надежды мои были небезосновательны. А? Чернобородый настороженно посмотрел на Элрика. Он не знал, что ему скажет альбинос, но надеялся на его дружбу, хотя и был наслышан о том, как высокомерны мелнибонийцы. Элрик чувствовал, какие мысли одолевают его нового знакомого, он видел немало людей, производивших в уме такие же расчеты. Поэтому он искренно улыбнулся и похлопал чернобородого по плечу. – Ты спас и мою жизнь, друг. Нам обоим повезло. Человек вздохнул с облегчением и закинул топор себе за спину. – Именно. Повезло – как раз то самое слово. Вот только будет ли нам везти и дальше? – Тебе совсем незнаком этот остров? – Ни остров, ни воды. Я понятия не имею, как мы здесь оказались. Но это, без всяких сомнений, заколдованные воды. Ты видел, какого здесь цвета солнце? – Видел. – Да, – моряк наклонился, чтобы снять драгоценную цепочку с шеи пантанца, – ты явно более сведущ в колдовстве, чем я. А как ты оказался здесь, господин мелнибониец? – Не знаю. Я бежал от преследователей. Добрался до берега, откуда дальше бежать было некуда. Потом я долго спал… А проснувшись, я снова оказался на берегу, но уже на берегу этого острова. – В безопасное место, подальше от врагов, тебя перенЕсли духи, дружески расположенные к тебе. – Это возможно, – согласился Элрик, – потому что у нас немало друзей среди элементалей. Меня зовут Элрик, и я по собственной воле покинул Мелнибонэ. Я путешествую, Потому что убежден: мне есть чему поучиться у жителей Молодых королевств. У меня нет другой силы, кроме той, что ты видишь… Пришурясь, чернобородый смерил мелнибонийца оценивающим взглядом, а потом ткнул себя в грудь большим пальцем. – Я Смиорган Лысый, когда-то морской владыка из Пурпурных городов. У меня был целый торговый флот. Может, и до сих пор есть. Я узнаю об этом, когда вернусь… Если я, конечно, вернусь. – Давай же объединим наши знания и наши силы, Смиорган Лысый. Составим план, как нам поскорее выбраться с этого острова. Элрик подошел к тому месту, где пираты играли в кости. Кости, серебряные и бронзовые монеты были теперь втоптаны в окровавленную землю, но он отыскал золотое мелнибонийское колесо. Он подобрал монету и положил себе на раскрытую ладонь. В прежние времена это были деньги королей. – Это твое, друг? – спросил он Смиоргана. Смиорган Лысый поднял голову – он все еще искал на пантанще украденные вещи – и кивнул. – Да. Хочешь – возьми ее как свою долю. Элрик пожал плечами. – Ты мне лучше скажи, как она к тебе попала. Кто тебе ее дал? – Она не была украдена. Значит, это мелнибонийская монета? – Да. – Я догадался. – И от кого же ты ее получил? Смиорган выпрямился, завершив свои поиски. Он почесал царапину на предплечье. – Этой монетой был оплачен проезд на нашем корабле. А потом мы сбились с курса, и на нас напали разбойники. – Оплачен проезд? Кем? Мелнибонийцем? – Может быть, – сказал Смиорган. Казалось, ему не хочется думать об этом. – Это был воин? Смиорган улыбнулся в бороду. – Нет, это была женщина. – Смиорган начал собирать остальные деньги. – Это длинная история, и любой купец Может рассказать тебе что-нибудь в таком роде. Мы искали новые рынки для наших товаров и оснастили большой флот, которым командовал я – крупнейший держатель акций. – Он небрежно уселся на крупное тело чалалита и принялся подсчитывать деньги. – Хочешь услышать эту историю или я уже тебе наскучил? – Я буду рад послушать. Смиорган вытащил из-за пояса убитого фляжку с вином и предложил Элрику, который принял фляжку и выпил несколько глотков вина, оказавшегося неожиданно хорошим. Потом Элрик вернул сосуд Смиоргану, который сказал: – Это часть нашего груза. Мы гордились им. Хороший виноград, правда? – Отличный. Итак, вы отбыли из Пурпурных городов? – Да, мы отправились в направлении Неведомого Востока. Мы держали этот курс около двух недель и наконец увидели берег, мрачнее которого я не встречал. А потом в течение следующей недели мы не видели никакой земли. Тогда мы вошли в воды, которым дали название Ревущие скалы. Что-то вроде Зубов Змеи у побережья Шазаара, но только гораздо больше. Огромные вулканические скалы, которые поднимаются из моря отовсюду. Вокруг них волны бурлят и ревут с такой яростью, какой я прежде не видел. Короче говоря, флот рассеялся, и по меньшей мере четыре корабля погибло на этих скалах. Наконец нам удалось выйти из этих вод. Наш корабль оказался в спокойном море – один. Мы принялись искать другие корабли, но безуспешно. И тогда мы решили двигаться прежним курсом еще неделю, а потом повернуть домой, Потому что нам никак не хотелось вновь нарваться на Ревущие скалы. Провизия у нас подходила к концу, когда мы опять увидели землю – поросшие травой утесы и гостеприимные берега, а чуть подальше – возделанные земли. Мы поняли, что снова вышли к обитаемым землям. Мы зашли в небольшую гавань, где стояли рыбацкие суда, и убедили местных жителей – а они не говорили ни на одном из языков Молодых королевств, – что не имеем враждебных намерений. И вот тогда-то к нам и вышла женщина. – Мелнибонийка? – Больше всего она походила на мелнибонийку. Очень красивая, можешь мне поверить. У нас оставалось мало провизии, я тебе уже говорил, и не было средств, чтобы докупить припасов, а рыбаков не интересовали наши товары. Отказавшись от своих первоначальных целей, мы были готовы повернуть снова на запад. – А женщина? – Она просила высадить ее в Молодых королевствах. Ее устраивал Мений – наш родной город, куда мы и направились. За проезд она расплатилась двумя колесами. На одно мы накупили провизии в городе – кажется, он называется Грагхин – и после небольшого ремонта отплыли оттуда. – И вы так никогда и не попали в Пурпурные города? – На море начались шторма – странные шторма. Все наши инструменты вышли из строя, наши компасы перестали работать. Мы заблудились окончательно. Некоторые из моих людей говорили, что мы вообще покинули пределы нашего мира. Кое-кто обвинял в этом женщину, говоря, что она колдунья и вовсе не хочет попасть в Мений. Но я ей верил. Наступила ночь, и нам казалось, что она длится вечность, но наконец мы выплыли в спокойный рассвет под голубым солнцем. Мои люди были близки к панике, а чтобы ввергнуть в панику моих людей, нужно очень сильное средство. И тут мы увидели этот остров. Мы направились к нему, но на нас напали пираты. Они плыли на корабле, который принадлежал другой эпохе. Он давно уже должен был лежать на дне океана, а не плавать по поверхности. Я видел изображения таких судов на стенах храма в Таркеше. Они атаковали нас, сблизившись бортами, но их развалина начала тонуть, когда они еще не успели перебраться к нам на борт. Это были отчаянные дикари – полуголодные, кровожадные. Мы устали за долгое путешествие, но сражались хорошо. Во время схватки женщина исчезла – должно быть, покончила с собой, когда увидела нападающих. После долгой борьбы в живых остался только я и еще один, который вскоре умер. Вот тут-то я и прибег к хитрости, решив дождаться случая и отомстить. – А как звали эту женщину? – Она не назвала своего имени. Я потом обдумывал все случившееся и подозреваю, что она все же воспользовалась нами. Может быть, ей вовсе не нужно было в Мений и Молодые королевства. Может быть, ей и нужно было именно в этот мир, и она с помощью колдовства завела нас сюда. – Этот мир? Ты думаешь, этот мир не наш? – Да уже по одному странному цвету солнца такое можно предположить. А ты разве так не думаешь? Ты, со своей мелнибонийской осведомленностью в таких вещах. – Я видел подобное во снах, – признал Элрик, но больше он ничего не сказал. – Большинство пиратов думали то же, что и я, – они принадлежали к разным векам и происходили из Молодых королевств. Большего я так и не узнал. Некоторые – из начальных лет этой эры, некоторые из нашего времени, а кое-кто из будущего. Большинство из них – искатели приключений, и в какой-то период жизни они отправлялись на поиски легендарной земли, полной огромных богатств, – земли, которая лежит по ту сторону древнего прохода и поднимается из середины океана. Но здесь все они оказались в ловушке, не в состоянии проплыть назад сквозь эти таинственные врата. Другие участвовали в морских сражениях, они считали себя утонувшими, но проснулись на этом острове. Многие когда-то, я думаю, были не лишены добродетелей, но жизнь на острове так скудна, что они превратились в волков, которые живут за счет друг друга или случайного корабля, на свое несчастье проникшего в эти воды сквозь тот же или иной проход. Элрик вспомнил часть своего сна. – А никто не называл его Малиновыми вратами? – Да, некоторые так и говорили. – И все же эта теория маловероятна, прости уж мне мое недоверие, – сказал Элрик. – Когда-то через врата Теней я попал в Амирон… – Значит, тебе знакомы иные миры? – Да, но об этом я никогда не слышал. А я такими вопросами специально интересовался. Поэтому-то я и сомневаюсь в твоей логике. Но все же – мне снился сон… – Сон? – Да нет, ерунда. Я к таким снам привык и не придаю им особого значения. – Но такая теория не может показаться невозможной мелнибонийцу. – Смиорган снова ухмыльнулся. – Уж если кто тут и должен демонстрировать недоверие, то только я. На это Элрик ответил, и ответ его наполовину предназначался ему самому: – Возможно, я просто больше боюсь тех трудностей, что с этим связаны. – Он поднял голову и принялся ворошить костер концом поломанной пики. – Некоторые из моих предков-колдунов полагали, что параллельно нашему миру существует неограниченное число других. И должен сказать, что последние мои сны подтверждают это. – Он заставил себя улыбнуться. – Но я не могу себе позволить верить в такие вещи. Поэтому я их отвергаю. – Давай дождемся рассвета, – сказал Смиорган Лысый. – Может быть, цвет солнца подтвердит эту теорию. – Может быть, он подтвердит только то, что мы оба спим, – сказал Элрик. Запах смерти душил его. Альбинос отодвинул подальше ближайшие к огню мертвые тела и устроился на ночь. Смиорган Лысый запел что-то звучное и веселое на своем языке, который Элрик понимал плохо. – Ты поешь о победе над врагами? – спросил альбинос. Смиорган помолчал несколько мгновений, размышляя. – Нет, друг Элрик, я пою, чтобы тени оставались в своих норах. Призраки этих парней, возможно, шныряют где-то поблизости в темноте, ведь с момента их смерти прошло всего ничего. – Не бойся, – сказал Элрик. – Их души уже выпиты. Но Смиорган продолжил свою песню, и теперь его голос звучал еще громче, песня стала гораздо эмоциональнее, чем раньше. Сквозь дрему Элрику послышалось ржание лошади, и он хотел было спросить у Смиоргана, были ли среди пиратов всадники, но не успел – уснул.Глава третья Некоторые свидетельства колдовства
Не помня почти ничего из своего путешествия на Темном корабле, Элрик так никогда и не узнал, как он оказался в том мире, где встретил Смиоргана. В более поздние годы он вспоминал пережитое как сон, и действительно, все это казалось сном даже во время самих событий. Спал он тревожно, а проснувшись, увидел, что облака стали гуще. Они светились тем самым странным свинцовым светом, хотя солнца и не было видно. Смиорган Лысый из Пурпурных городов уже проснулся. Он указал вверх и победным тоном сказал: – Ну, этого достаточно, чтобы тебя убедить, Элрик из Мелнибонэ? – Я убедился в свойствах этого света, а может быть, и этой земли, из-за которых солнце кажется голубым, – ответил Элрик. Он с отвращением посмотрел на лежащие вокруг мертвые тела – это жуткое зрелище наполняло его ощущением какой-то смутной тоски, в которой не было ни раскаяния, ни сожаления. Смиорган иронически вздохнул. – Ну что ж, господин скептик, давай-ка вернемся по моим следам к моему кораблю. Что скажешь? – Согласен, – сказал ему альбинос. – Ты долго шел от берега до того, как наткнулся на нас? Элрик объяснил. Смиорган улыбнулся. – Да, ты прибыл вовремя. Я бы сегодня оказался в незавидном положении, когда мы вышли бы к морю, а я не смог бы предъявить моим друзьям пиратам никакой деревни. Я Никогда не забуду то, что ты сделал, Элрик. Я граф из Пурпурных городов, где имею немалое влияние. Если я смогу быть тебе каким-либо образом полезен по возвращении, ты мне только дай знать. – Благодарю, – мрачно сказал Элрик. – Но сначала мы должны найти способ убраться отсюда. Смиорган собрал в сумку еду, немного воды и вина. У Элрика не было желания завтракать среди стольких трупов, а Потому он закинул сумку себе на плечо. – Я готов, – сказал он. Смиорган был удовлетворен. – Идем, нам в эту сторону. Элрик пошел за морским владыкой по сухой, ломкой траве. Крутые стены долины нависали над ними, придавая свету особый неприятный зеленоватый оттенок – следствие смешения коричневатого цвета травы и голубых лучей сверху. Добравшись до узкой, торопливо бежавшей между камней речки, пересечь которую не составляло труда, они передохнули и перекусили. Оба они чувствовали усталость после вчерашнего сражения, оба были рады возможности смыть кровь и грязь со своих тел в речной воде. Освежившись, Элрик и Смиорган направились дальше. Они принялись подниматься по склонам, почти не разговаривая, чтобы сберечь силы. Был полдень, когда они достигли вершины и окинули взглядом долину, очень похожую на ту, что Элрик пересек раньше. Теперь у Элрика было неплохое представление о географии острова. Он напоминал вершину горы с углублением – долиной – в центре. Альбинос снова остро почувствовал отсутствие здесь какой-либо жизни и обратил на это внимание Смиоргана, который подтвердил: да, и он не видел здесь ничего – ни птиц, ни рыб, ни зверей. – Это безжизненный маленький мир, друг Элрик. Горе моряку, которого шторм выбросил на этот берег. Они пошли дальше и наконец увидели море, которое вдали встречалось с горизонтом. Первым услышал этот звук у них за спиной Элрик – ритмичный стук копыт скачущей галопом лошади, но, оглянувшись, он не увидел ни всадника, ни места, где бы всадник мог спрятаться. Он решил, что от усталости ему это чудится. Возможно, он просто слышал гром. Смиорган неутомимо шел вперед, хотя и он тоже, вероятно, слышал этот звук. И снова раздался стук копыт. И снова Элрик обернулся. И снова он ничего не увидел. – Смиорган, ты слышал коня? Смиорган шел вперед, не оглядываясь. – Слышал, – проворчал он. – А раньше ты его слышал? – Не раз – с тех пор как здесь оказался. Пираты тоже его слышали, и некоторые решили, что это их возмездие – Ангел Смерти ищет их, чтобы воздать им за все преступления. – И ты не знаешь источника этого звука? Смиорган замедлил шаг, остановился. Когда он повернулся к Элрику, на его лице было мрачное выражение. – Один или два раза я, кажется, краем глаза видел лошадь. Высокую лошадь, белую, в богатой сбруе, но без наездника. Не обращай на нее внимания, Элрик. Лично я так и делаю. У нас есть заботы похлеще этой. – Ты боишься этой лошади, Смиорган? Тот не стал отпираться. – Да, признаюсь. Но ни страхи, ни размышления не помогут нам от нее избавиться. Идем! Элрик не мог не почувствовать логику этих слов и принял ее, но когда приблизительно через час звук повторился, Элрик ничего не смог с собой поделать и повернул голову. Ему показалось, что он увидел очертания крупного оседланного жеребца – но, возможно, это была всего лишь игра воображения, навеянная словами Смиоргана. Воздух стал прохладнее, и в нем появился какой-то горьковатый запах. Элрик сказал об этом графу Смиоргану, и тот ответил, что для него это уже не в новинку. – Этот запах приходит и уходит, но по большей части он присутствует в той или иной степени. – Похоже на запах серы, – сказал Элрик. Граф Смиорган рассмеялся, и в его смехе слышалась немалая доля иронии, словно Элрик вспомнил шутку, произнесенную когда-то самим Смиорганом. – О да. Именно серы! Стук копыт за их спинами стал громче, и когда они наконец приблизились к берегу, Смиорган тоже обернулся. И теперь они увидели коня – в этом не было никаких сомнений: без всадника, но под седлом и в сбруе, с темными умными глазами, конь гордо нес свою красивую белую голову. – И ты все еще считаешь, что тут обошлось без колдовства? – не без торжества спросил граф Смиорган. – Этот конь был невидимым. Теперь мы его видим. – Он передвинул боевой топор у себя за спиной в более удобное положение. – Либо это, либо он легко перемещается из одного мира в другой, а мы слышим главным образом стук копыт. – Если так, – иронически заметил Элрик, глядя на жеребца, – то он вполне может вернуть нас в наш мир. – Значит, ты признаешь, что нас забросило в какую-то потустороннюю глухомань? – Да, это вполне возможно. – Ты не знаешь никакого колдовства, чтобы поймать этого коня? – Колдовство дается мне не очень легко, потому что я не питаю к нему никакой любви, – сказал альбинос. Разговаривая, они шли по направлению к жеребцу, но он не подпускал их ближе. Он храпел и отходил назад, и расстояние между ними не изменялось. Наконец Элрик сказал: – Мы теряем время, граф Смиорган. Поторопимся на твой корабль и забудем про голубое солнце и заколдованных коней. Когда мы окажемся на борту, я, без сомнения, вспомню одно-другое заклинание, потому что нам понадобится помощь, если мы хотим вдвоем управиться с большим кораблем. Они пошли дальше, но конь последовал за ними. Они подошли к кромке утеса и оказались над узкой каменистой бухтой, в которой на якоре стоял потрепанный корабль. У корабля были высокие, изящные обводы, присущие торговым кораблям Пурпурных городов, но палуба его была завалена кусками парусов, обрывками канатов, надорванными тюками ткани, разбитыми кувшинами из-под вина и другим хламом. Фальшборт был пробит в нескольких местах, реи сломаны. Было видно, что шторма и морские сражения здорово потрепали корабль – удивительно, что он еще оставался на плаву. – Мы должны навести там порядок, а для плавания использовать только главный парус, – размышлял вслух Смиорган. – Надеюсь, мы сможем найти достаточно съестных припасов, чтобы продержаться… – Смотри! – Элрик указал рукой на корабль, уверенный, что увидел кого-то на корме. – Уж не оставили ли там пираты кого-нибудь из своих? – Нет. – А только что ты никого не видел на корабле? – Мои глаза играют дурные шутки с моей головой, – ответил Смиорган. – Это все из-за этого проклятого голубого Света. На борту шныряет пара крыс, больше там никого нет. Именно их ты и видел. – Возможно, – сказал Элрик и оглянулся. Конь пощипывал коричневатую травку и словно бы не обращал на них внимания. – Ну что ж, давай закончим наше путешествие. Они спустились по крутой стене утеса и скоро оказались на берегу, а потом пошли по неглубокой воде к кораблю, поднялись по скользким канатам, которые все еще свисали с бортов, и наконец с облегчением поставили ноги на палубу. – Я уже чувствую себя в относительной безопасности, – сказал Смиорган. – Этот корабль так долго был моим домом! Он принялся разбирать мусор на палубе и нашел целый кувшин с вином. Раскупорив, он протянул его Элрику. Альбинос поднял тяжелый кувшин и пролил немного доброго вина себе в рот. Когда пить начал граф Смиорган, Элрик опять увидел – теперь у него не было в этом сомнений – движение на кормовой части палубы и тут же направился туда. Теперь он явственно слышал сдерживаемое быстрое дыхание, как у человека, который предпочитает ограничить свою потребность в воздухе, чем быть обнаруженным. Звуки были едва слышимы, но слух у альбиноса, в отличие от зрения, был очень острый. Готовый в любой момент обнажить меч, он осторожно направился к источнику звука – Смиорган за ним. Она появилась из своего укрытия, прежде чем он добрался до нее. Волосы ее свисали тяжелыми грязными локонами вокруг бледного лица, плечи были опущены, мягкие руки безвольно висели вдоль бедер, платье было грязное и драное. Элрик приблизился, и она упала перед ним на колени. – Возьми мою жизнь, – покорно сказала она, – но, умоляю тебя, не отдавай меня назад Саксифу Д’Аану, хотя ты, верно, его слуга или родственник. – Это она! – в изумлении воскликнул Смиорган. – Наша пассажирка. Она, наверно, все это время пряталась. Элрик сделал шаг вперед, приподнял подбородок девушки, чтобы получше разглядеть ее лицо. У нее были мелнибонийские черты, но не без примеси крови Молодых королевств. К тому же ей недоставало мелнибонийской гордости. – Какое имя ты назвала, девушка? – спросил он мягко. – Ты говоришь о Саксифе Д’Аане? Графе Саксифе Д’Аане Мелнибонийском? – Да, мой господин. – Я не его слуга, можешь этого не опасаться, – сказал ей Элрик. – Что же касается родства, то да, я его родственник по материнской линии, а точнее, по линии моей прабабки. Он был одним из моих предков. Его уже не меньше двух столетий нет в живых! – Нет, мой господин, – сказала она. – Он жив. – На этом острове? – Он обитает не на этом острове, но в этом мире. Я надеялась спастись от него через Малиновые врата. Я бежала через них на ялике, добралась до города, где ты нашел меня, граф Смиорган, но, когда я оказалась на борту корабля, он затянул меня назад. Он затянул меня, а вместе со мной и весь корабль. Мне жаль, что так получилось, и я прошу прощения за то, что произошло с твоей командой. Но я знаю, он ищет меня. Я чувствую – он подбирается ко мне все ближе и ближе. – Он что, невидим? – внезапно спросил Смиорган. – Уж не сидит ли он в седле на белом коне? Она была в ужасе от услышанного. – Он и в самом деле рядом! Иначе откуда бы на острове взяться коню? – Так он всадник на этом коне? – спросил Элрик. – Нет-нет! Он боится белого коня не меньше, чем я боюсь его. Этот конь преследует его! Элрик вытащил из кошелька мелнибонийское золотое колесо. – Ты взяла его у графа Саксифа Д’Аана? – Да. Альбинос нахмурился. – Кто он такой, Элрик? – спросил граф Смиорган. – Ты говоришь, что он твой предок, но он живет в этом мире. Что тебе о нем известно? Элрик взвесил большую золотую монету в руке и только после этого сунул ее назад в мешочек. – Он был в Мелнибонэ чем-то вроде легенды. Его история – часть нашей литературы. Он был великим колдуном – одним из величайших. И он влюбился. Мелнибонийцы редко влюбляются в общепринятом смысле этого слова, но еще реже питают они подобные чувства к девушке, которая принадлежит к другой расе. Насколько мне известно, она была полукровкой и родилась в стране, которая в то время была владением Мелнибонэ, ее западной провинцией рядом с Дхариджором. Граф приобрел ее в партии рабов, которых он собирался использовать в своих колдовских экспериментах, но потом отделил ее от остальных и тем самым спас от той судьбы, что была уготована другим. Он щедро расточал ей свое внимание, давал ей все. Ради нее он оставил колдовство, бросил шумную жизнь в Имррире и предался спокойной жизни, и я думаю, она испытывала к нему чувство благодарности, хотя вроде бы и не любила. Потом появился другой. Звали его, насколько мне помнится, Каролак, и он тоже был наполовину мелнибонийцем. Он стал наемником в Шазааре и достиг высокого положения при шазаарском дворе. До похищения она была обручена с этим Каролаком… – Она его любила? – спросил граф Смиорган. – Она была с ним обручена и должна была стать его женой, однако позволь мне закончить рассказ… – Элрик продолжил: – И вот этот Каролак, который сколотил неплохое состояние и стал в Шазааре вторым человеком после короля, поклялся спасти ее. Он прибыл к берегам Мелнибонэ вместе с отрядом пиратов и с помощью колдовства нашел дворец Саксифа Д’Аана. После этого он нашел девушку – в покоях, которые выделил ей Саксиф Д’Аан. Он сказал, что прибыл, чтобы объявить ее своей невестой, спасти от преследования. Девушка, как это ни странно, воспротивилась. Она, видимо, к тому времени слишком долго уже была рабыней в мелнибонийском гареме и была не в силах изменить свои привычки и вести жизнь принцессы при шазаарском дворе. Каролак только посмеялся, услышав это. Он связал девушку, и ему удалось вместе с нею покинуть замок. Он привязал ее к седлу и уже собрался скакать к своим людям на берегу, когда его обнаружил Саксиф Д’Аан. Я думаю, что Каролак был убит или заколдован. Что же касается девушки, то Саксиф Д’Аан, будучи уверен, что она собиралась бежать с любовником, приказал в приступе ревности распять ее на Колесе Хаоса. Ее кости медленно дробились, а Саксиф Д’Аан долгие дни сидел и смотрел, как она умирает. Кожу ее отдирали от плоти, а Саксиф Д’Аан наблюдал ее мучения во всех подробностях. Скоро стало понятно, что снадобья и заклинания, поддерживающие в ней жизнь, уже не действуют, и тогда Саксиф Д’Аан приказал снять ее с Колеса Хаоса и положить на кушетку. «Ну вот, – сказал он. – Ты была наказана за то, что предала меня, и я рад этому. Теперь ты можешь умереть». И он увидел, что ее губы, на которых запеклась кровь, шевелятся, и наклонился поближе, чтобы услышать слова. – Эти слова были слова мести? Проклятие? – спросил Смиорган. – Последнее ее движение было попыткой обнять его. А слов таких он никогда прежде от нее не слышал, хотя и надеялся, что она когда-нибудь скажет их. Она повторяла снова и снова: «Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю», – пока дыхание не оставило ее. А потом она умерла. Смиорган почесал бороду. – О боги! Ну и что потом? Что сделал твой предок? – Он испытал раскаяние. – Ясное дело! – Совсем не такое ясное для мелнибонийца. Мы редко испытываем раскаяние. Чувство вины было так велико, что граф Саксиф Д’Аан покинул Мелнибонэ и никогда туда не вернулся. Считается, что он умер в какой-то далекой стране, пытаясь замолить грехи перед единственным существом, которое он любил. Но оказывается, он искал Малиновые врата, вероятно, полагая, что через них попадет в ад. – Но почему он преследует меня? – воскликнула девушка. – Ведь я же не она! Меня зовут Васслисс, я дочь купца из Джаркора. Я направлялась к своему дядюшке в Вилмир, но наш корабль потерпел крушение. Лишь немногим удалось спастись в шлюпке. Меня смыло с палубы, и я уже тонула, когда, – тут дрожь прошла по ее телу, – когда его галера нашла меня. Тогда я была ему благодарна… – И что же случилось? – Элрик откинул спутанные волосы с ее лица и предложил ей вина. Она с благодарностью выпила. – Он отвез меня в свой дворец и сказал, что женится на мне, что я навечно буду его императрицей и буду править рядом с ним. Но я перепугалась. В нем живет такая боль… а вместе с ней и жестокость. Я боялась, что он поглотит меня, уничтожит меня. Вскоре после пленения я взяла деньги и лодку и отправилась на поиски врат, о которых он мне говорил… – И ты сможешь найти эти врата для нас? – спросил Элрик. – Я думаю, да. Я научилась морскому делу у отца. Но какая от этого будет польза, мой господин? Он снова найдет нас и затянет назад. И я чувствую, он уже где-то тут, совсем рядом. – Я тоже кое-что понимаю в колдовстве, – успокоил ее Элрик. – И, если понадобится, применю свои знания против Саксифа Д’Аана. – Он повернулся к графу Смиоргану. – Сможем мы быстро поднять парус? – Сможем. – Тогда поспешим, граф Смиорган Лысый. Возможно, у меня есть способ провести нас через Малиновые врата и освободить от неприятной необходимости иметь дело с мертвецами.Глава четвертая Появление белого коня
Граф Смиорган и Васслисс смотрели, как бледный Элрик, тяжело дыша, опустился на палубу. Его первая попытка прибегнуть к колдовству в этом мире отняла много сил, но оказалась неудачной. – Теперь я больше убежден, что мы находимся в другом мире, – сказал он Смиоргану, – иначе мои заклинания дались бы мне легче. – У тебя ничего не получилось? Элрик с трудом поднялся на ноги. – Я попробую еще раз. Он обратил свое белое лицо к небесам, закрыл глаза, вытянул руки, его тело напряглось, и он снова начал произносить заклинания. Голос его становился все громче и громче, все выше и выше, пока не стал напоминать завывания ветра. Он забыл, где находится, он забыл, кто он такой, он забыл о тех, кто находился рядом с ним, – весь разум его был сосредоточен на призывании. Он послал свой зов за пределы этого мира, в таинственное царство, где обитают элементали, где до сих пор можно найти могущественных существ воздуха – сильфов бризов и шарнахов, живущих в бурях, и самых могучих из них х’Хааршанов, созданий ураганов. И вот наконец некоторые из них стали откликаться на его зов – они были готовы служить ему, связанные древним договором: ведь элементали служили его предкам. И тогда парус корабля начал медленно наполняться ветром, заскрипела мачта. Смиорган поднял якорь, и корабль взял курс прочь от острова, через каменистый вход в бухту, в открытое море, а над ним по-прежнему светило странное голубое солнце. Скоро вокруг них выросла огромная волна, которая подняла корабль и понесла его поокеану, так что граф Смиорган и девушка только удивлялись скорости их продвижения, а Элрик, чьи малиновые глаза были теперь открыты, но ничего не видели и оставались пусты, продолжал взывать к своим невидимым союзникам. Корабль несся по водной глади, и скоро остров скрылся из виду, а девушка, сверив местоположение корабля с положением солнца, помогла Смиоргану проложить курс. Как только у него появилась такая возможность, Смиорган подошел к Элрику, который неподвижно стоял на палубе. Смиорган потряс его за плечо. – Элрик, ты так убьешь себя. Нам больше не нужна помощь твоих друзей! И тут же ветер стих, волна исчезла, и Элрик, тяжело вздохнув, рухнул на палубу. – Здесь все труднее, – сказал он. – Здесь все гораздо труднее. Такое чувство, что звать мне приходится через гораздо большие бездны, чем прежде. И тут Элрик уснул.Он лежал на теплой койке прохладной каюты. Через иллюминатор проникал рассеянный голубоватый свет. Он потянул носом воздух и почувствовал запах горячей пищи, потом повернул голову и увидел Васслисс с тарелкой бульона в руках. – Я приготовила это тебе, – сказала она. – Поешь – станет лучше. Насколько я могу судить, мы приближаемся к Малиновым вратам. Море вблизи этого места всегда штормит, так что тебе понадобятся силы. Элрик вежливо поблагодарил ее и начал есть бульон. Она смотрела на него. – Ты очень похож на Саксифа Д’Аана, – сказала она. – Но в чем-то ты жестче и в то же время мягче. Он всегда такой холодный. Я понимаю, почему эта девушка не могла ему сказать, что любит его. Элрик улыбнулся. – Это всего лишь предание – история, что я рассказал. Твой Саксиф Д’Аан может быть совсем другим человеком. Или самозванцем, который взял его имя. Или колдуном. Некоторые колдуны принимают имена других колдунов, потому что думают – это даст им больше сил. Сверху раздался крик, но разобрать слов Элрик не смог. На лице у девушки появилось встревоженное выражение. Ничего не говоря, она поспешила на палубу. Элрик поднялся на нетвердые ноги и последовал за ней вверх по трапу. Граф Смиорган стоял у штурвала своего корабля и указывал на горизонт за кормой. – Что ты об этом думаешь, Элрик? Элрик посмотрел туда, но ничего не увидел. Зрение нередко подводило его, как сейчас. Но девушка голосом, в котором слышалось отчаяние, сказала: – Это золотой парус. – Ты его узнаешь? – спросил ее Элрик. – Как же не узнать! Это галеон графа Саксифа Д’Аана. Он нас нашел. Может быть, он дожидался где-то на пути нашего следования, зная, что мы пойдем именно здесь. – Сколько нам еще до этих врат? – Не знаю. В этот момент откуда-то снизу раздался ужасный шум, словно что-то со всей силы ударило в корабельное днище. – Это под передней палубой! – крикнул Смиорган. – Посмотри, что там такое, друг Элрик. Только будь осторожен, приятель! Элрик откинул крышку одного из люков и уставился в мрачную пустоту трюма. Шум – удары, стуки – продолжался, и, когда его глаза привыкли к мраку, он увидел его источник. Там, в трюме, был белый конь. Увидев альбиноса, он заржал, словно приветствуя его. – Как он попал на борт? – спросил Элрик. – Я ничего такого не видел и не слышал. Лицо девушки стало почти таким же бледным, как у Элрика. Она упала на колени рядом с люком, закрыв лицо руками. – Мы пропали! Мы пропали! – У нас есть еще шанс вовремя добраться до Малиновых врат, – попытался успокоить ее Элрик. – А когда мы окажемся в моем мире, я смогу прибегнуть к гораздо более сильному колдовству, чтобы защитить нас. – Нет, – рыдала девушка. – Слишком поздно. Иначе здесь не было бы белого коня. Он знает, что Саксиф Д’Аан скоро должен догнать нас. – Прежде чем он заполучит тебя, ему придется обнажить меч, – пообещал ей Элрик. – Ты не видел его людей – они все головорезы. Такие отчаянные и хищные. Они не знают жалости. Лучше уж тебе сразу отдать меня в руки Саксифа Д’Аана и спасти свою жизнь. А защищать меня бессмысленно. Но я хочу попросить тебя об одной услуге. – Какой? – Найди для меня маленький нож, чтобы я могла убить себя, как только буду знать, что вы в безопасности. Элрик рассмеялся и поднял ее на ноги. – Я не допущу этого, дитя мое! Мы вместе. Может, нам удастся заключить сделку с Саксифом Д’Ааном. – Что ты можешь ему предложить? – Немногое. Но он об этом не знает. – Похоже, он умеет читать чужие мысли. Он обладает огромной силой. – Я – Элрик из Мелнибонэ. Многие знают, что я тоже в известной мере владею искусством колдовства. – Но ты не такой одержимый, как Саксиф Д’Аан, – просто сказала она. – Им владеет одна идея – сделать меня своей супругой. – Многие девушки были бы польщены таким предложением – стать императрицей, женой императора Мелнибонэ, – с иронией сказал Элрик. Васслисс не обратила внимания на его тон. – Поэтому-то я и боюсь его, – пробормотала она. – Если бы я хоть на минуту утратила свою твердость, я смогла бы его полюбить. Он уничтожит меня. Наверное, она это знала!
Глава пятая Знатный мелнибониец
Сверкающий галеон с позолоченными парусами и корпусом, отчего казалось, что в погоню за ними устремилось само солнце, резво двигался по водной поверхности. Девушка и граф Смиорган смотрели на него в ужасе, а Элрик отчаянно и безуспешно пытался призвать своих союзников среди элементалей. Золотистый корабль неумолимо надвигался на них в бледно-голубом свете. Его размеры были чудовищны, создаваемое им ощущение мощи – огромно, по мере того как он несся вперед, от его гигантского носа в обе стороны расходились громадные пенистые волны. С видом человека, приготовившегося к смерти, граф Смиорган Лысый достал свой боевой топор, проверил, как ходит меч в ножнах, водрузил себе на голову маленькую металлическую шапочку. Девушка не двигалась и не издавала ни звука – она безмолвно плакала. Элрик встряхнул головой, и его длинные молочно-белые волосы на мгновение ореолом взвились вокруг него. Печальные малиновые глаза императора Мелнибонэ начали сосредоточиваться на окружающем его мире. Он узнал корабль – он был копией мелнибонийских боевых барок. Никаких сомнений – именно на этом корабле граф Саксиф Д’Аан оставил родную землю в поисках Малиновых врат. Теперь Элрик не сомневался, что это тот самый Саксиф Д’Аан; его страх перед графом был куда как меньше, чем у его спутников, а вот любопытство – гораздо больше. Он и в самом деле чуть ли не с ностальгией смотрел на пущенное передней катапультой с золоченого корабля зажигательное ядро – как оно, сверкая, словно комета, зеленоватым светом, летело на них, шипя и рассыпая искры. Он бы ничуть не удивился, увидев в небе над собой огромного дракона, потому что именно с такими золотыми кораблями и драконами Мелнибонэ когда-то покорило мир. Зажигательное ядро упало в воду в нескольких дюймах от их носа – стрелявшие именно туда и целили; это было предупреждение. – Не останавливайтесь! – крикнула Васслисс. – Лучше уж погибнем в огне! Так будет лучше! Смиорган смотрел вверх. – У нас нет выбора. Смотрите. Кажется, он заставил ветер стихнуть. На море стоял полный штиль. Элрик мрачно улыбнулся. Теперь он понимал, что чувствовали жители Молодых королевств, когда его предки использовали против них подобную тактику. – Элрик? – Смиорган повернулся к альбиносу. – Ведь это мелнибонийцы. И корабль этот, без всяких сомнений, из Мелнибонэ. – Как и их тактика, – ответил ему Элрик. – Во мне течет королевская кровь. Я мог бы сейчас сидеть на императорском троне, если бы захотел. Есть шанс, хоть и небольшой, что граф Саксиф Д’Аан, хотя и жил раньше, признает меня, а потому признает мою власть. Ведь мы, обитатели острова Драконов, довольно патриархальны. Девушка заговорила, облизнув сухие губы. В голосе ее слышалась безнадежность: – Он признает власть только Владык Хаоса – тех, кто ему помогает. – Ну, эту власть признают все мелнибонийцы, – шутливо сказал Элрик. Звуки из трюма становились сильнее – ржание и стук копыт жеребца. – Мы со всех сторон окружены колдовством! – Обычно румяное лицо графа Смиоргана побледнело. – Неужели ты ничего не можешь противопоставить этому, принц Элрик? – Кажется, ничего. Золотой корабль был теперь совсем близко. Элрик увидел, что высоко над ними у бортов сгрудились не имррирские Воины, а головорезы вроде тех, с которыми он сражался на острове, и они явно принадлежали к самым разным историческим периодам и народам. Борт золотого корабля царапнул борт корабля Элрика, полетели абордажные крючья, впившиеся в деревянную оснастку торгового судна, и сверху раздались радостные крики – разбойники смеялись над своими жертвами, грозя им оружием. Девушка бросилась было к другому борту корабля, но Элрик остановил ее, схватив за руку. – Не надо, умоляю! – крикнула она. – Лучше прыгнем вместе и утонем! – Ты думаешь, смерть спасет тебя от Саксифа Д’Аана? – спросил Элрик. – Если он и в самом деле обладает такой силой, как ты говоришь, то смерть тем надежнее сделает тебя его рабой! Девушку пробрала дрожь, а когда она услышала голос, обратившийся к ним с одной из палуб золотого корабля, то издала стон и, потеряв сознание, упала на руки Элрику. Он, ослабевший после заклинаний, едва удержался на ногах, чтобы не упасть вместе с ней на палубу. Этот голос звучал над грубыми криками и гоготом команды. Голос звучал чисто, ритмично и даже весело. Это был Голос мелнибонийца, хотя слова и произносились на общем языке Молодых королевств, являвшем собой испорченный вариант языка Сияющей империи. – Прошу разрешения капитана подняться на борт. Граф Смиорган проворчал в ответ: – Вы нас крепко держите, господин! Не пытайтесь прикрывать акт пиратства вежливыми манерами. – Насколько я понял, вы мне даете разрешение. – Голос того, кто говорил это, оставаясь невидимым, ничуть не изменился. Элрик увидел, как участок леера на корабле убрали и с галеона на их палубу спустили трап, обитый золотыми гвоздями, чтобы не скользили ноги. На вершине трапа появилась высокая худая фигура с тонкими чертами мелнибонийского аристократа. Одетый в просторные одежды из ткани с золотой нитью, в замысловатом шлеме, с золотыми и эбеновыми украшениями на длинных каштановых кудрях, свисающих из-под шлема, он двигался, надменно неся голову. У него были серо-голубые глаза, бледная кожа с едва заметным красноватым оттенком, и, насколько мог судить Элрик, шел он без оружия. Граф Саксиф Д’Аан начал величественным шагом спускаться по трапу, его головорезы – за ним. Контраст между этим красивым и умным созданием, и теми, кем он командовал, был разительный. Если его осанка была горделива, изящна и благородна, то они шли сутулясь – грязные, опустившиеся, тупые, радующиеся легкой победе. Ни в одном из них не было и следа человеческого достоинства – на каждом не к месту пышные, но потрепанные и грязные наряды, у каждого при себе не меньше трех видов оружия, и на каждом награбленные драгоценности – кольца в носу и в ушах, серьги, браслеты, ожерелья, перстни на руках и ногах, подвески, булавки и все в таком роде. – О боги! – пробормотал Смиорган. – Мне еще не доводилось видеть столько отбросов сразу, хотя кого я только ни встречал в своих путешествиях. Как это такой человек выносит их компанию? – Может, это соответствует его чувству юмора, – предположил Элрик. Граф Саксиф Д’Аан сошел на палубу и обвел взглядом троих, так и оставшихся стоять на юте. Он слегка поклонился. Выражение лица у него было сдержанное, и лишь по глазам читалось, какая в нем бушует буря эмоций, в особенности когда он увидел девушку в объятиях Элрика. – Я граф Саксиф Д’Аан из Мелнибонэ, а ныне повелитель островов за Малиновыми вратами. У вас находится то, что принадлежит мне. Я желаю забрать это у вас. – Ты имеешь в виду госпожу Васслисс из Джаркора? – спросил Элрик голосом таким же ровным, как голос графа. Саксиф Д’Аан, казалось, в первый раз обратил внимание на Элрика. На лбу у него появилась морщинка, но быстро пропала. – Она моя, – сказал он. – Вы можете быть уверены, что ей не причинят никакого вреда. Элрик знал, что сильно рискует, но, желая получить преимущество, заговорил на высоком мелнибонийском – языке, на котором говорили между собой те, в ком текла королевская кровь. – Я знаю твою историю, а потому меня одолевают сомнения, Саксиф Д’Аан. Человек в золотой одежде чуть напрягся, и в его серо-голубых глазах сверкнуло пламя. – Кто ты такой, что говоришь на языке королей? Откуда тебе известно мое прошлое? – Я Элрик, сын Садрика, четыреста двадцать восьмой император народа из Р’лин К’рен А’а, – народа, высадившегося на острове Драконов десять тысяч лет назад. Я Элрик, твой император, граф Саксиф Д’Аан, и я требую, чтобы ты соблюдал верность мне. Граф Саксиф Д’Аан теперь надежно держал себя в руках. Он ничем не показал, произвели ли на него впечатление слова Элрика. – Твое правление не простирается за пределы твоего мира, благородный император, хотя я и приветствую тебя как такого же монарха, как и я сам. – Он распростер руки, отчего его длинные рукава зашуршали. – Этот мир мой. Я властвую над всем, что лежит под голубым солнцем. А потому ты вторгся на мою территорию. И я имею все права поступать так, как мне нравится. – Пиратская бравада, – пробормотал граф Смиорган, который не понял ни слова из этого разговора, но по тону кое о чем догадался. – Пиратское хвастовство. Что он говорит, Элрик? – Он убеждает меня, что он не пират в твоем понимании этого слова, граф Смиорган. Он говорит, что он правитель этого мира. А поскольку других тут явно нет, мы должны принять его притязания. – О боги! Тогда пусть он и ведет себя как монарх и пропустит нас через свои воды. – Возможно, он и пропустит, если мы отдадим ему девушку. Граф Смиорган покачал головой. – Я этого не сделаю. Она – мой пассажир. Я за нее отвечаю. Я скорее умру, чем отдам ее. Таков кодекс морских Владык из Пурпурных городов. – Вы славитесь своей преданностью этому кодексу, – сказал Элрик. – Что же касается меня, то я взял эту девушку под свою защиту, и как наследственный император Мелнибонэ я не могу позволить запугать себя. Разговаривали они шепотом, но граф Саксиф Д’Аан услыхал их. – Должен вам сообщить, – ровным тоном сказал он на обычном языке, – что эта девушка принадлежит мне. Ты похитил ее у меня. Разве так ведут себя императоры? – Она не рабыня, – сказал Элрик, – она дочь свободного купца из Джаркора. Ты не имеешь на нее никаких прав. Граф Саксиф Д’Аан ответил на это: – Значит, я не смогу открыть вам Малиновые врата. Вы останетесь в моем мире навсегда. – Ты закрыл врата? Разве это возможно? – Для меня возможно. – Ты знаешь, что девушка предпочтет смерть твоему плену, граф Саксиф Д’Аан. Тебе доставляет удовольствие вселять в людей такой ужас? Человек в золоте заглянул в глаза Элрику, словно тот бросил ему какой-то таинственный вызов. – Дар страдания всегда был любимым даром нашего народа, разве нет? Но я предлагаю ей другой дар. Она называет себя Васслисс из Джаркора, но она не знает себя. Я знаю. Она – Гратьеша, принцесса Фвем-Омейо, и она станет моей невестой. – Как же это получается, что она не знает собственного имени? – Она реинкарнация – душа и плоть идентичны. Вот почему мне это известно. И я ждал ее, император Мелнибонэ, много десятков лет. И я не позволю обманом отнять ее у меня. – Как ты сам отнял ее у себя два века назад в Мелнибонэ? – Ты многим рискуешь, говоря таким откровенным языком, брат монарх! – В голосе Саксифа Д’Аана зазвучала предостерегающая нотка, куда как более яростная, чем могло показаться по его словам. – Что ж, – пожал плечами Элрик, – ты сильнее нас. Мое колдовство почти не действует в твоем мире. Твои головорезы превосходят нас числом. Тебе не составит труда забрать ее у нас. – Вы должны отдать ее мне. И тогда вы сможете без помех вернуться в свой мир и свое время. Элрик улыбнулся. – Это твое колдовство. Она никакая не реинкарнация. Ты перенес дух своей утраченной любви из загробного мира в тело этой девушки. Я прав? Поэтому она должна быть отдана добровольно, иначе твои чары ударят по тебе самому… во всяком случае, опасность такая есть. Неужели ты готов рисковать? Граф Саксиф Д’Аан отвернулся, чтобы Элрик не видел его глаз. – Она та самая девушка, – сказал он на высоком мелнибонийском. – Я это знаю. Я не желаю ей зла. Я просто верну ей ее воспоминания. – Тогда положение безвыходно, – сказал Элрик. – Разве у тебя нет никакого сочувствия к собрату королевской крови? – пробормотал Саксиф Д’Аан, по-прежнему не глядя на Элрика. – Но ведь ты сам тоже не выказал такого сочувствия, Насколько мне помнится, граф Саксиф Д’Аан. Если ты принимаешь меня как императора, то должен принимать и мои решения. Эта девушка находится под моей защитой. Или ты должен будешь взять ее силой. – Я слишком горд. – Подобная гордость всегда будет убивать любовь, – почти с состраданием произнес Элрик. – Ну и что теперь, повелитель лимба? Что будешь делать с нами? Граф Саксиф Д’Аан поднял свою благородную голову, собрался было ответить, но туг из трюма снова раздались ржание и стук копыт. Глаза графа расширились. Он вопросительно посмотрел на Элрика, и что-то похожее на гримасу ужаса исказило его лицо. – Что это? Что там у тебя в трюме? – Всего лишь ездовой конь, – ровным голосом сказал Элрик. – Лошадь? Обычная лошадь? – Белоголовая. Жеребец под седлом и в сбруе. Без всадника. Саксиф Д’Аан туг же резким голосом отдал команду своим людям: – Этих троих взять на борт нашего корабля. А этот затопить немедленно! Быстрее! Быстрее! Элрик и Смиорган оттолкнули потянувшиеся было к ним руки и сами двинулись к трапу, вдвоем неся девушку. – Пока мы живы, Элрик. Но что будет потом? Элрик покачал головой. – Мы должны надеяться, что сможем и дальше пользоваться гордыней графа Саксифа Д’Аана против него и к нашей выгоде, хотя одни только боги знают, как нам выпутаться из этого положения. Граф Саксиф Д’Аан спешил по трапу впереди них. – Скорее! – закричал он. – Поднимайте трап! Они стояли на палубе золотого боевого барка и смотрели, как поднимают трап и возвращают на место леер. – Зарядить катапульты, – приказал Саксиф Д’Аан. – Используйте свинец. Немедленно затопите это судно! Звуки в переднем трюме стали еще слышнее, лошадиное ржание разносилось по кораблю и над водой. Копыта колотили все яростнее, и вдруг конь пробил доски между люками, зацепился передними копытами за палубу и через мгновение уже стоял наверху, бил копытами по дереву – шея вздыблена, из носа валит пар, глаза сверкают, словно конь готов ринуться в схватку. Граф Саксиф Д’Аан уже не делал попыток скрыть обуявший его ужас. Голос графа срывался на вопли, когда он подгонял своих головорезов, пугая их самыми страшными пытками, если они не будут выполнять его приказания со всей сноровкой, на какую только способны. Катапульты были поставлены на позиции, и огромные свинцовые шары полетели на палубу корабля Смиоргана. Они пробили доски, как стрелы пробивают пергамент, и корабль сразу же начал тонуть. – Обрезайте абордажные крючья! – закричал Саксиф Д’Аан, выхватывая меч из рук одного из своих людей и перерубая ближайший к нему канат. – Руби концы! Корабль Смиоргана стонал и ревел, как тонущий зверь, а когда канаты были перерублены, почти сразу же перевернулся вверх килем, и конь исчез из виду. – Поворачивай, – кричал Саксиф Д’Аан. – Назад в Фхалигарн, и побыстрее, или я скормлю ваши души самым свирепым демонам! Из пенящихся бурунов послышалось высокое ржание, и корабль Смиоргана скрылся под водой. Элрик увидел белого жеребца – тот плыл мощно и уверенно. – Вниз! – приказал граф Саксиф Д’Аан, указывая натрап. – Этот конь может учуять девушку, и тогда уйти от него будет в два раза труднее. – Почему ты его так боишься? – спросил Элрик. – Ведь это всего лишь конь. Он ничем не может тебе повредить. Саксиф Д’Аан с горечью рассмеялся. – Ты так считаешь, мой собрат монарх? Ты так считаешь? Они несли девушку вниз, и Элрик хмурил лоб, пытаясь вспомнить подробности легенды о Саксифе Д’Аане, о девушке, так жестоко им наказанной, и о ее любовнике – принце Каролаке. Последние услышанные им слова графа Саксифа Д’Аана были: – Ставьте больше парусов! Больше! Потом люк за ними закрыли, и они оказались в кают-компании, обставленной с мелнибонийской роскошью. Здесь были богатые обои на стенах, много драгоценного металла, украшения необыкновенно изящного и, по мнению графа Смиоргана, упаднического стиля. Первым внимание на запах обратил Элрик – как только опустил на диван девушку. – Хм, это же запах склепа – сырой, плесневелый. Но никакого гниения тут нет. Удивительно, не правда ли, друг Смиорган? – Я его почти не заметил, Элрик. – Смиорган говорил упавшим голосом. – Но в одном я с тобой не могу не согласиться. Сильно я сомневаюсь, что мы выйдем из этой переделки живыми.Глава шестая «У меня есть ключ от Малиновых врат…»
Прошел час с того момента, когда их вынудили подняться на борт. Дверь за ними заперли, а Саксиф Д’Аан был слишком занят, – спасался от белого коня, – и пленников не беспокоил. Элрик сквозь прутья решетки на иллюминаторе видел место, где затонул их корабль. Они уже удалились от этого места на много лиг, но Элрику все же казалось, что время от времени он видит плечи и голову жеребца над волнами. Васслисс пришла в себя и теперь сидела, бледная и дрожащая, на диване. – Что тебе известно об этом коне? – спросил у нее Элрик. – Вспомни, что тебе известно об этом жеребце, мне это важно. Она покачала головой. – Саксиф Д’Аан почти ничего о нем не говорил, но я думаю, всадника он боится больше, чем коня. – Ага! – Элрик наморщил лоб. – Я это подозревал! А всадника ты никогда не видела? – Никогда. Я думаю, и Саксиф Д’Аан его никогда не видел. Я думаю, он считает, что если всадник когда-нибудь сядет на этого коня, то ему, Саксифу Д’Аану, конец. Элрик улыбнулся про себя. – Почему ты все время спрашиваешь об этом коне? – пожелал узнать Смиорган. Элрик покачал головой. – Я чувствую – в этом что-то есть, только и всего. И еще мне вспоминается нечто смутно знакомое. Но я буду молчать и как можно меньше думать об этом, потому что, как говорит Васслисс, Саксиф Д’Аан умеет читать мысли. Они услышали шаги наверху – кто-то спускался к ним. Загремела задвижка, и Саксиф Д’Аан – его уверенность полностью вернулась к нему – показался в дверях, руки у него были скрыты рукавами. – Я надеюсь, вы простите то насилие, в результате которого вы оказались здесь. Существовала опасность, которую нужно было предотвратить любой ценой. Поэтому мои манеры и были неподобающими. – Опасность для нас, – спросил Элрик, – или для тебя, граф Саксиф Д’Аан? – В данных обстоятельствах, поверьте мне, для всех нас. – А кто всадник? – напрямую спросил Смиорган. – И почему ты боишься его? Граф Саксиф Д’Аан снова вполне владел собой, а потому по его реакции невозможно было понять, с какими чувствами он воспринял этот вопрос. – Это мое личное дело, – тихо сказал он. – Не хотите пообедать со мной? Девушка издала какой-то горловой звук, и граф Саксиф Д’Аан тут же обратил на нее пылающий взор. – Гратьеша, тебе нужно помыться и привести себя в порядок. Я прикажу, чтобы тебе подали все необходимое. – Я не Гратьеша, – сказала она. – Я Васслисс, дочь купца. – Ты еще вспомнишь – сказал он. – Придет время, и вспомнишь. – В его голосе была такая уверенность, такая убежденность, что даже Элрик преисполнился душевного трепета. – Тебе принесут все, что надо, и ты можешь пользоваться этой каютой как своей собственной, пока мы не вернемся в мой дворец в Фхалигарне. Прошу вас, господа… – Он сделал жест, приглашая их выйти из каюты. Элрик сказал: – Я ее не оставлю, Саксиф Д’Аан. Она слишком боится тебя. – Она боится только правды, брат. – Она боится тебя и твоего безумия. Саксиф Д’Аан безразлично пожал плечами. – Тогда я выйду первым. Если вы не возражаете, прошу вас за мной… – Он пошел прочь, они зашагали за ним. Элрик, повернувшись, бросил через плечо: – Васслисс, ты можешь не сомневаться в моей защите. – Он закрыл за собой дверь каюты. Граф Саксиф Д’Аан стоял на палубе, подставив благородное лицо брызгам, поднимаемым кораблем, который несся по морю со сверхъестественной скоростью. – Ты назвал меня безумным, принц Элрик? Но ты и сам, должно быть, искушен в колдовстве. – Конечно, во мне течет королевская кровь. В моем мире я считаюсь осведомленным в этих вопросах. – А здесь? Как действует твое колдовство здесь? – Должен признать, что плохо. Расстояния между плоскостями здесь, кажется, довольно велики. – Именно. Но я соединил их мостами. У меня было время узнать, как их соединить. – Этим ты хочешь сказать, что сильнее меня? – Это факт, разве нет? – Факт. Но я не предполагал участвовать в колдовских поединках, граф Саксиф Д’Аан. – Конечно. Но если ты хочешь обойти меня в колдовстве, я бы советовал тебе сначала хорошенько подумать. – С моей стороны было бы глупо вообще рассматривать такую возможность. Это могло бы стоить мне души. Или, по меньшей мере, жизни. – Верно. Я смотрю, ты реалист. – Считаю себя таким. – Тогда мы можем перейти к более простой теме и обсудить, как нам уладить наши разногласия. – Ты предлагаешь дуэль? – Элрик был удивлен. Граф Саксиф Д’Аан рассмеялся от всего сердца. – Конечно же, нет – не сражаться же против твоего меча. Он обладает силой во всех мирах, хотя ее величина и меняется. – Я рад, что ты знаешь об этом, – со значением сказал Элрик. – И кроме того, – добавил граф Саксиф Д’Аан, подходя к лееру; его золотые одежды зашуршали, – ты не можешь меня убить, потому что только я знаю, как покинуть этот мир. – Возможно, мы пожелаем остаться, – сказал Элрик. – Тогда вы станете моими подданными. Но вам здесь не понравится. Я тут в добровольной ссылке. Теперь я не мог бы вернуться в свой мир, даже если бы и захотел. Но я намереваюсь основать здесь, под голубым солнцем, династию. Мне нужна жена, принц Элрик. Мне нужна Гратьеша. – Ее зовут Васслисс, – упрямо сказал Элрик. – Это она так считает. – Значит, так оно и есть. Я поклялся защищать ее. И граф Смиорган тоже. И мы будем ее защищать до последнего. Тебе придется убить нас. – Вот именно, – сказал граф Саксиф Д’Аан с видом человека, который долго подталкивал нерадивого ученика к правильному ответу. – Именно так. Мне придется вас убить. Ты мне почти не оставляешь другого выбора, принц Элрик. – И что тебе это даст? – Даст кое-что. Несколько часов некий могущественный демон будет у меня на службе. – Мы будем сопротивляться. – У меня хватает людей, и я ничуть не ценю их жизни. Они просто задавят вас числом. Разве нет? Элрик не ответил. – Я использую колдовство, чтобы помочь моим людям, – добавил Саксиф Д’Аан. – Кое-кто из них умрет. Но я думаю, что таких будет немного. Элрик смотрел в море мимо Саксифа Д’Аана. Он был уверен, что конь следует за ними. Он был уверен, что и Саксиф Д’Аан знает об этом. – А если мы отдадим тебе девушку? – Тогда я открою вам Малиновые врата. Вы будете моими почетными гостями. Я обеспечу ваш безопасный проход, Даже доставлю на какую-нибудь гостеприимную землю вашего мира, потому что даже по прохождении врат вам будет грозить опасность. Шторма. Элрик словно бы обдумывал услышанное. – У тебя на принятие решения осталось очень мало времени, принц Элрик. Я надеялся, что это случится до того, как мы доберемся до моего дворца, Фхалигарна. Долго думать я тебе не позволю. Принимай решение. Ты знаешь, что я говорю правду. – Ведь тебе известно, что кое-какое колдовство в вашем мире мне все же доступно? – Ты призвал на помощь несколько дружественных тебе элементалей, да, я знаю об этом. Но какой ценой? Неужели ты хочешь бросить вызов мне напрямую? – Это было бы неразумно с моей стороны. Смиорган дергал его за рукав. – Прекрати этот бесполезный разговор. Он знает, что мы дали девушке слово, а потому должны с ним сражаться. Граф Саксиф Д’Аан вздохнул. В его голосе слышалось искреннее сожаление. – Нучтож, если вы твердо решили расстаться с жизнью… – начал он. – Мне хотелось бы знать, почему ты так спешишь с тем, чтобы я принял решение? – спросил Элрик. – Почему мы не можем дождаться, когда прибудем во Фхалигарн? По выражению лица графа Саксифа Д’Аана было видно – он что-то прикидывает. Он снова заглянул в малиновые Глаза Элрика. – Я думаю, тебе это известно, – едва слышно сказал он. Элрик, однако, покачал головой. – Я думаю, ты переоцениваешь мои способности. – Может быть. Элрик знал, что Саксиф Д’Аан пытается прочесть его мысли, а потому он намеренно выкинул все из головы, и ему Казалось, что в поведении колдуна теперь сквозит разочарование. И тут альбинос набросился на своего родственника и ухватил его рукой за горло. Граф был абсолютно не готов к такому повороту событий. Он собрался было позвать на помощь, но голосовые связки ему отказали. Еще один удар, и он без сознания свалился на палубу. – Быстро, Смиорган, – крикнул Элрик и принялся резво карабкаться по мачте к верхней рее. Изумленный Смиорган последовал за ним, а Элрик, Добравшись до «вороньего гнезда», вытащил меч и снизу сквозь решетку вонзил его в пах впередсмотрящему, который даже не понял, что с ним произошло. Затем Элрик принялся рубить канаты, удерживающие основной парус на рее. Несколько головорезов из команды Саксифа Д’Аана уже карабкались по мачте следом за ними. Тяжелый золотой парус упал на пиратов и нескольких из них увлек за собой на палубу. Элрик забрался в «воронье гнездо» и перекинул убитого Через перильца следом за его товарищами. Потом он двумя руками поднял меч над головой, его глаза снова стали пусты, голова поднята к голубому солнцу. Смиоргана, цеплявшегося за мачту чуть ниже, пробрала дрожь, когда он услышал эти странные звуки, вырывавшиеся из горла альбиноса. На мачту карабкались новые головорезы, и Смиорган, перерубив канаты трапа, с удовлетворением увидел, как с полдюжины пиратов свалились вниз и разбились о палубу или исчезли в волнах океана. Граф Саксиф Д’Аан начал приходить в себя, но он все еще был оглушен. – Глупец! – выкрикнул он. – Глупец! – Однако понять, к кому обращает он эти слова – то ли к Элрику, то ли к себе самому, было невозможно. Голос Элрика, распевавшего заклинание, превратился в ритмичное завывание, от которого кровь стыла в жилах. Силы убитого им пирата перетекли в Элрика и теперь его поддерживали. Малиновые глаза императора, казалось, теперь мерцали каким-то иным огнем – другого, безымянного цвета, и все тело его содрогалось по мере того, как необычные руны исходили из горла, явно не предназначенного для произнесения подобных звуков. Заклинание продолжалось, и голос Элрика перешел в вибрирующий стон. Смиорган, видя, как новые пираты стараются вскарабкаться по главной мачте, почувствовал, как смертельный холодок охватывает его. Граф Саксиф Д’Аан прокричал снизу: – Ты не осмелишься! Колдун начал делать пассы в воздухе, с его губ тоже стали срываться заклинания, и у Смиоргана вырвался вздох ужаса, когда в пространстве чуть ниже него вдруг образовалось какое-то существо, состоящее из клубов дыма. Существо чмокнуло губами, ухмыльнулось и протянуло к Смиоргану свою лапу, которая тут же обрела плоть. Смиорган рубанул по лапе мечом. – Элрик! – прокричал он, забрался чуть выше и ухватился за перила «вороньего гнезда». – Элрик! Он натравил на нас демонов! Но Элрик не слышал голоса Смиоргана. Его разум пребывал теперь в другом мире, еще более темном и мрачном, чем этот. Сквозь серые туманы увидел он фигуру, выкрикнул имя. «Приди! – взывал он на древнем языке своих предков. – Приди!» Граф Смиорган сыпал проклятиями, видя, как демон становится все более материальным. Клацали красные клыки, сверкали зеленые глаза. В сапог Смиоргана вцепилась когтистая лапа, и как он ни размахивал мечом, демон словно бы не замечал ударов. Места для Смиоргана в «вороньем гнезде» не было. Он стоял на внешней кромке и кричал от ужаса – ему была отчаянно необходима помощь. Но Элрик продолжал свои заклинания. – Элрик, мне конец! Лапа демона вцепилась Смиоргану в колено. – Элрик! Из моря прогремел гром, на мгновение появилась молния и тут же исчезла. Из ниоткуда раздался стук лошадиных копыт и торжествующий человеческий голос. Когда Элрик, держась за перильца, открыл глаза, он увидел, как Смиоргана кто-то медленно стаскивает вниз. Собрав все силы, Элрик перегнулся через перила и нанес удар Буревестником. Рунный меч попал точно в правый глаз демона. Тот зарычал и, отпустив Смиоргана, принялся колотить по клинку, который вытягивал из него энергию. Энергия переходила в клинок, а из него в Элрика, и на лице альбиноса Появилась такая жуткая ухмылка, что несколько мгновений Смиорган больше опасался своего друга, чем демона. Демон начал дематериализовываться – это был единственный для него способ спастись от Буревестника, который пил его жизненные силы. А наверх, звеня мечами, карабкались уже новые головорезы. Элрик перепрыгнул через перила и, опасно балансируя на рее, принялся рубить нападавших, воодушевляя себя старым мелнибонийским боевым кличем. Смиорган ничем не мог ему помочь и только наблюдал. Он увидел, что Саксифа Д’Аана нет на палубе, и крикнул альбиносу: – Элрик! Саксиф Д’Аан отправился за девушкой. Элрик вовсю сражался с пиратами, а те старались, как могли, избежать ударов стонущего рунного меча. Некоторые даже предпочитали прыгать в воду, чтобы не встретиться с ним. Элрик и Смиорган, быстро прыгая с реи на рею, спустились на палубу. – Чего он так боится? Почему он не прибегает к более сильному колдовству? – переводя дыхание, спросил граф Смиорган, когда они бросились к каюте. – Я вызвал всадника, – сказал ему Элрик. – У меня почти не было времени, и я ничего не мог тебе рассказать, потому что Саксиф Д’Аан узнал бы о моих замыслах если не по моим, то по твоим мыслям! Двери каюты были надежно заперты изнутри. Элрик попытался прорубить их Черным Мечом, но они обладали прочностью, несвойственной дереву. – Он их запечатал с помощью колдовства, и мне их не открыть, – сказал альбинос. – Он убьет ее? – Не знаю. Он может попытаться перенести ее в какое-нибудь другое измерение. Мы должны… В это мгновение по палубе застучали копыта, и за их спинами встал на дыбы белый жеребец, только теперь на нем был всадник, одетый в ярко-пурпурные и желтые доспехи. С его молодого, хотя и покрытого давними шрамами лица, окаймленного неприкрытыми густыми светлыми кудрями, смотрели темно-синие глаза. Он натянул поводья, успокаивая коня, и внимательно посмотрел на Элрика. – Так это ты открыл мне путь, мелнибониец? – Я. – Тогда я благодарю тебя, хотя мне нечем тебе отплатить. – Ты мне уже отплатил, – сказал Элрик и дал знак Смиоргану отойти в сторону. Всадник пригнулся к шее коня и пришпорил его, направив прямо на дверь; они прошли через дверь, как если бы та была из старой, прогнившей ткани. Из каюты донесся жуткий крик, и, путаясь в своем золотом одеянии, оттуда выскочил граф Саксиф Д’Аан. Он вырвал из руки ближайшего мертвеца меч, бросив на Элрика взгляд, исполненный не столько ненависти, сколько изумленного отчаяния, и повернулся к всаднику. Всадник тем временем уже спешился и выходил из каюты, одной рукой обнимая дрожащую девушку, другой – держа под уздцы коня. Печальным голосом он сказал: – Ты причинил мне столько зла, граф Саксиф Д’Аан, но неизмеримо больше – Гратьеше. Теперь ты должен заплатить за все это. Саксиф Д’Аан помедлил и глубоко вздохнул. Глаза его смотрели без испуга, достоинство вернулось к нему. – Должен ли я заплатить сполна? – Да. – Я это заслужил, – сказал Саксиф Д’Аан. – Много лет удавалось мне уходить от судьбы, но от тяжести своего преступления мне было не уйти. Но любила она меня, а не тебя. И ты это знаешь. – Я думаю, она любила нас обоих. Но тебе она отдала любовь вместе со своею душой. Я бы не пожелал взять такого ни у одной женщины. – Тогда ты был обречен на поражение. – Ты так никогда и не узнал, как сильно она тебя любила. – Только… только потом… – Мне жаль тебя, граф Саксиф Д’Аан. – Молодой человек передал уздечку девушке и вытащил свой меч. – Странные мы соперники, не правда ли? – Ты все эти годы находился в лимбе, куда я изгнал тебя… в том саду в Мелнибонэ? – Да, все эти годы. Только мой конь мог следовать за тобой. Конь моего отца Тендрика – тоже мелнибонийца и тоже волшебника. – Если бы я знал, я бы убил тебя, а коня отправил в лимб. – Ревность затмила твой разум, граф Саксиф Д’Аан. Но теперь мы будем сражаться так, как должны были сразиться Тогда – сталью, один на один, за руку той, которая любит нас обоих. Это больше, чем ты заслуживаешь. – Гораздо больше, – согласился колдун и сделал выпад, направив острие своего меча на молодого человека, который, как догадался Смиорган, не мог быть никем иным, как самим принцем Каролаком. Исход этой схватки был предопределен. Если Каролаку это было неизвестно, то Саксиф Д’Аан знал это. Саксиф Д’Аан владел мечом не хуже любого знатного мелнибонийца, но не мог сравниться в боевом искусстве с профессиональным воином, который день за днем сражался за свою жизнь. Двигаясь по палубе под взглядами недоумевающих головорезов, соперники сошлись в дуэли, которая должна была состоиться на две сотни лет раньше. Девушка, которую оба они считали реинкарнацией Гратьеши, наблюдала за их схваткой с такой же тревогой, с какой могла бы наблюдать ее исходная ипостась за встречей Саксифа Д’Аана и принца Каролака в саду перед дворцом графа много лет назад. Саксиф Д’Аан сражался хорошо, а Каролак – благородно, потому что ни разу не предпочел воспользоваться явным своим преимуществом. Наконец Саксиф Д’Аан отбросил в сторону свой меч и закричал: – Хватит! Я признаю твое право мести, принц Каролак. Я позволю тебе забрать девушку. Но я не принимаю твоего милосердия – гордость моя останется при мне. И тогда Каролак кивнул, сделал шаг вперед и поразил Саксифа Д’Аана в самое сердце. Клинок вошел глубоко и должен был бы убить Саксифа Д’Аана, но этого не случилось. Граф пополз по палубе к основанию мачты и прислонился к ней спиной. Из его раны хлестала кровь, а он улыбался. – Кажется, – слабым голосом произнес он, – я не могу умереть – так долго я поддерживал в себе жизненные силы с помощью колдовства. Я перестал быть человеком. Эта мысль, похоже, не обрадовала его, но принц Каролак, подойдя к сопернику, наклонился и успокоил его. – Ты умрешь, – пообещал он. – Скоро. – А что ты сделаешь с ней – с Гратьешей? – Ее зовут Васслисс, – упрямо сказал граф Смиорган. – Она дочь купца из Джаркора. – Она должна решить это сама, – сказал Каролак, не обратив внимания на слова Смиоргана. Граф Саксиф Д’Аан обратил взгляд на Элрика. – Я должен поблагодарить тебя, – сказал он. – Ты доставил сюда того, кто принес мне успокоение, хотя я и боялся этого поединка. – Наверно, поэтому твое колдовство против меня не имело большой силы? – спросил Элрик. – Ты в глубине души хотел, чтобы Каролак пришел и снял груз вины с твоих плеч? – Может быть, Элрик. В некоторых вопросах ты, Кажется, мудрее меня. – А как насчет Малиновых врат? – проворчал Смиорган. – Их можно отпереть? У тебя есть еще силы на это, граф Саксиф Д’Аан? – Пожалуй. – Из складок своего окровавленного золотого одеяния колдун извлек большой кристалл, светившийся темным рубиновым цветом. – Он не только приведет вас к вратам, но и позволит пройти сквозь них. Только должен вас предупредить… – Саксиф Д’Аан закашлялся. – Этот корабль, как и мое тело, держался на колдовстве… и потому… – Голова его упала на грудь. Он с огромным усилием поднял ее и уставился мимо них на девушку, которая все еще держала под уздцы белого жеребца. – Прощай, Гратьеша, принцесса Фвем-Омейо. Я любил тебя. – Его глаза остановились на ней, хотя смотрели уже мертвым взглядом. Каролак повернулся и посмотрел на девушку. – Как ты себя чувствуешь, Гратьеша? – Меня зовут Васслисс, – сказала она. Она улыбнулась, глядя на его молодое, иссеченное шрамами лицо. – Так меня называют, принц Каролак. – Ты знаешь меня? – Теперь знаю. – Ты пойдешь со мной, Гратьеша? Будешь моей невестой в тех необычных землях за гранью мира, что я открыл? – Пойду, – сказала она. Он помог ей сесть в седло белого жеребца, а сам запрыгнул сзади нее. Он поклонился Элрику. – Еще раз благодарю тебя, господин колдун, хотя я и не думал, что мне когда-нибудь будет помогать тот, в чьих жилах течет кровь королей Мелнибонэ. Элрик посмотрел на него с шутливым выражением на лице. – В Мелнибонэ мне часто говорят, что эта кровь загрязнена, – сказал он. – Может быть, она загрязнена милосердием? – Может быть. Принц Каролак отсалютовал им. – Надеюсь, принц Элрик, ты обретешь покой, как обрел его я. – Боюсь, мой покой будет больше похож на тот, что обрел Саксиф Д’Аан, – мрачно ответил Элрик. – Как бы там ни было, но я благодарю тебя за добрые слова, принц Каролак. И тогда Каролак, рассмеявшись, направил коня на леер, перепрыгнул через него и исчез из виду. На корабле воцарилась тишина. Оставшиеся в живых головорезы неуверенно поглядывали друг на друга. Элрик обратился к ним: – Знайте: у меня есть ключ от Малиновых врат и только я знаю, как им воспользоваться. Помогите мне добраться туда, и мы вместе выберемся из этого мира! Что скажете? – Приказывай, капитан, – сказал беззубый пират и весело гоготнул. – Это лучшее предложение, что мы получали за сотню, а может, и больше лет!Глава седьмая Проход в прошлое
Первым Малиновые врата увидел Смиорган. Он держал в руке огромный драгоценный камень и указывал вперед. – Вот они! Вот они, Элрик! Саксиф Д’Аан нас не обманул! Море внезапно вздыбилось огромными волнами, а поскольку главный парус лежал на палубе, управляться с кораблем команде было нелегко. Однако возможность покинуть мир голубого солнца придавала им сил, и они работали с удвоенной энергией. Золотой боевой корабль медленно, но неуклонно приближался к двум малиновым столбам, возвышающимся над поверхностью моря. Столбы поднимались над серой ревущей водой, придавая особый оттенок гребням волн. Казалось, в них было мало что материального, однако они стояли крепко и выдерживали напор воды, бушующей вокруг них. – Будем надеяться, что расстояние между ними больше, чем кажется, – сказал Элрик. – Через них и в спокойную-то погоду пройти непросто, что уж тут говорить о таком волнении. – Пожалуй, встану-ка я за штурвал, – сказал граф Смиорган, передавая Элрику камень. Он пошел по кренящейся палубе и забрался в рулевую рубку, отпустив стоявшего там испуганного пирата. Элрику ничего другого не оставалось, кроме как наблюдать за Смиорганом, который демонстрировал свое искусство мореплавателя, ведя среди волн огромный корабль, то взмывавший на гребень, то падавший вниз так, что у Элрика душа уходила в пятки. Вокруг них грозно дыбились водные утесы, но корабль успевал оседлать новую волну, прежде вода могла со всей силой обрушиться на его палубу. Элрик скоро промок до нитки, и, хотя здравый смысл говорил, что лучше бы ему спуститься вниз, он цеплялся за леер и смотрел, как Смиорган с поразительной уверенностью ведет корабль к Малиновым вратам. Внезапно палубу затопило малиновым светом, и Элрика на некоторое время ослепило. Отовсюду полилась вода, Раздался ужасный скрежет, потом треск ломающихся о столбы весел. Корабль задрожал и начал разворачиваться бортом к ветру, но Смиорган вернул его на прежний курс. И вдруг свет слегка изменился, хотя море и осталось бурным, – и Элрик понял, что над его головой за тяжелыми облаками снова светит желтое солнце. Теперь треск и скрежет донеслись откуда-то из чрева боевого корабля. Запах гниения, замеченный Элриком еще Раньше, сделался почти невыносимым. Смиорган спешно вернулся к Элрику, передав штурвал пирату. Его лицо снова было бледным. – Корабль разрушается, Элрик, – выкрикнул он, стараясь перекричать рев ветра и волн. На мгновение Смиорган потерял равновесие, когда огромная волна налетела на корабль и вырвала несколько досок из палубы. – Он разваливается на части! – Саксиф Д’Аан пытался предупредить нас об этом! – прокричал в ответ Элрик. – Его жизнь и жизнь этого корабля – обе держались на колдовстве. Это судно было уже старым, когда Саксиф Д’Аан привел его в другой мир, и пока оно находилось там, колдовство держало корабль на плаву, но в этом измерении колдовство потеряло силу. Смотри! – И он, оторвав кусок леера, показал, как сгнившее дерево крошится в его пальцах. – Мы должны найти какую-нибудь целую часть. В этот момент с мачты свалилась рея, ударилась о палубу и покатилась к ним. Элрик пополз по накренившейся палубе, ухватил этот брус и попробовал его твердость. – Хорошее дерево. Привяжись к нему ремнем или любым, что найдешь! Ветер выл в разваливающемся такелаже, волны били в борта, пробивая огромные дыры ниже ватерлинии. Пиратский экипаж корабля пребывал в состоянии полной паники, некоторые пытались спустить на воду маленькие шлюпки, но те разваливались прямо в воздухе, другие члены команды лежали лицом вниз на палубе и молились своим богам. Элрик как можно крепче привязался к отломанной рее, и Смиорган последовал его примеру. Следующая волна, ударившая по кораблю, подняла их, повлекла за собой, перебросила через остатки леера прямо в холодные ревущие воды страшного моря. Элрик, не проронив ни слова, размышлял над иронией судьбы. Он сумел избежать страшных опасностей, но теперь ему грозила банальная смерть в морской пучине. Вскоре он потерял сознание и оказался во власти бурлящих, но в то же время, как ему казалось, дружественных вод океана. Он пришел в себя оттого, что почувствовал прикосновение чьих-то рук. Он попробовал сбросить с себя эти руки, но оказался слишком слаб. Он услышал чей-то смех – грубоватый и добродушный. Вода перестала реветь и дыбиться вокруг него. Ветер больше не выл. Но Элрик чувствовал какое-то легкое движение. Он услышал удары волн о дерево борта. Он находился на другом корабле. Элрик открыл глаза и заморгал от теплого желтого света солнца. Над ним стояли и усмехались краснощекие вилмирские моряки. – Ты счастливый человек, если только ты и в самом деле человек, – сказал один из них. – А мой друг? – Элрик поискал глазами Смиоргана. – Он был не так плох, как ты. Сейчас он в каюте герцога Авана. – Герцог Аван? – Элрик знал это имя, но в нынешнем своем состоянии не мог вспомнить откуда. – Вы нас спасли? – Да, мы нашли вас обоих в воде, вы были привязаны к отломанной рее. На ней были вырезаны самые странные знаки, какие мне доводилось видеть. Наверно, это был мелнибонийский корабль, а? – Да, но только очень старый. Они помогли ему подняться на ноги. Элрика раздели и завернули в шерстяное одеяло. Солнце уже подсушило его волосы. Элрик был очень слаб. Он спросил: – Где мой меч? – У герцога Авана, в каюте. – Скажите герцогу, чтобы он был с ним поосторожнее. – Уж он-то знает. – Сюда, – сказал другой. – Герцог ждет тебя.Часть третья Плавание в прошлое
Глава первая Что теряет народ
Элрик сидел в удобном мягком кресле. Он принял кубок с вином из рук хозяина. Пока Смиорган заканчивал свою порцию поданной им горячей еды, Элрик и герцог Аван оценивающе поглядывали друг на друга. Судя по плотному красивому лицу, герцогу Авану было лет около сорока. На нем был позолоченный серебряный нагрудник, поверх доспехов герцог набросил белый плащ. Его бриджи, заправленные в высокие, до колена, сапоги, были из оленьей кожи кремового цвета. На маленьком столике возле локтя герцога покоился его шлем, украшенный красными перьями. – Для меня большая честь принимать такого гостя, – сказал герцог Аван. – Я знаю, что ты Элрик из Мелнибонэ. Я ищу тебя вот уже несколько месяцев, с того самого дня, как узнал, что ты оставил свой остров – и власть – и пустился в странствия по Молодым королевствам инкогнито. – Ты неплохо осведомлен. – Я тоже выбрал судьбу скитальца. Я почти догнал тебя в Пикарайде, но там, насколько я понимаю, у тебя случились какие-то неприятности. Ты быстро оставил эту страну, и там я потерял твои следы. Я уже собирался оставить поиски, как мне ни нужна была твоя помощь, но тут неожиданное везение. Я нашел тебя в воде! – Герцог Аван рассмеялся. – У тебя передо мной преимущество, – сказал, улыбаясь, Элрик. – Твой рассказ рождает много вопросов. – Это – Аван Астран из Старого Гролмара, – пробурчал граф Смиорган, обгладывая огромный свиной окорок. – Он хорошо известен как искатель приключений, а вернее, исследователь, торговец. У него репутация – лучше не бывает. Мы можем ему доверять, Элрик. – Теперь я вспомнил твое имя, – сказал Элрик герцогу. – Но зачем ты искал моей помощи? Запах еды со стола оказал наконец на Элрика свое действие, и он поднялся. – Ты не возражаешь, если я поем, пока ты будешь рассказывать, герцог Аван? – Угощайся, принц Элрик, для меня большая честь принимать тебя. – Ты спас мне жизнь, герцог. И мне никогда не спасали ее так учтиво. Аван Астран улыбнулся. – У меня еще никогда не было удовольствия выловить такую учтивую – скажем так – рыбу. Если бы я был суеверен, принц Элрик, то я бы решил, что нас свела какая-то непреодолимая сила. – Я предпочитаю смотреть на это как на простое совпадение, – сказал альбинос, начиная есть. – А теперь расскажи, чем я могу быть тебе полезен. – Я не хочу ни к чему принуждать тебя только потому, что мне повезло стать твоим спасителем, – сказал герцог Аван Астран. – Прошу тебя помнить об этом. – Непременно. Герцог Аван погладил перья на своем шлеме. – Я много где побывал, как справедливо заметил граф Смиорган. Я бывал у вас в Мелнибонэ и даже отважился проникнуть восточнее – в Элвер и на Неведомый Восток. Я был в Мииррне, где живут крылатые люди. Я добрался до Края Света, и, надеюсь, когда-нибудь мне удастся за него заглянуть. Но я никогда не пересекал Кипящее море и знаю только небольшой участок побережья западного континента – у этого континента нет имени. Ты там был, Элрик, во время своих странствий? Альбинос покачал головой: – Меня интересуют иные культуры, иные цивилизации – поэтому-то я и отправился в странствия. До сего дня меня туда ничто не влекло. На том континенте обитают только дикари, разве не так? – Так считается. – У тебя есть другие сведения? – Ну, ты ведь знаешь – существуют некоторые свидетельства, – осторожно сказал герцог Аван, – что твои предки пришли именно оттуда, с того континента. – Свидетельства? – Элрик напустил на лицо отсутствующее выражение. – Всего-навсего какие-то старые легенды. – Одна из этих легенд рассказывает о городе, который старше Имррира. О городе, который до сих пор существует в непроходимых джунглях на западе. Элрик вспомнил свой разговор с графом Саксифом Д’Ааном и улыбнулся про себя. – Ты имеешь в виду Р’лин К’рен А’а? – Да. Странное название. – Герцог Аван Астран наклонился вперед, и глаза его засветились любопытством. – Ты произносишь его более напевно, чем я. Ты говоришь на тайном наречии, высоком наречии, языке королей… – Конечно. – Вам запрещено преподавать его кому бы то ни было, кроме собственных детей, правда? – Ты, кажется, неплохо осведомлен о мелнибонийских обычаях, герцог Аван, – сказал Элрик, опустив веки так, что они почти закрыли его глаза. Он откинулся на спинку стула, с удовольствием кусая ломоть свежего хлеба. – Тебе известно, что означают эти слова? – Мне говорили, что на древнем языке Мелнибонэ они значат «Там, где встречаются Высшие», – сказал ему герцог Аван Астран. Элрик наклонил голову. – Верно. Но на самом деле это всего лишь маленький городок. Там приблизительно раз в год встречались местные вожди и устанавливали цену на зерно. – Ты веришь в это, принц Элрик? Элрик внимательно изучал содержимое своего блюда. Он отведал телятины в густой душистой подливке. – Нет, – сказал он. – Значит, ты веришь, что существовала еще более древняя цивилизация, чем твоя, из которой родилась ваша культура? Ты веришь, что Р’лин К’рен А’а все еще находится где-то там – в джунглях запада? Элрик проглотил кусок телятины, потом покачал головой. – Нет, – сказал он. – Я верю, что его вообще нет. – Разве твои предки совсем тебя не интересуют? – А что, должны интересовать? – Говорят, что они сильно отличались от тех, кто основал Мелнибонэ. Были мягче… – Герцог Аван Астран заглянул в глаза Элрику. Элрик рассмеялся. – Ты умный человек, герцог Аван из Старого Гролмара. Ты проницательный человек. И воистину ты хитрый человек! Герцог Аван усмехнулся, выслушав этот комплимент. – А ты знаешь об этих легендах гораздо больше, чем признаешь, если я не ошибаюсь. – Возможно. – Элрик вздохнул. Пища подкрепила его. – Мы, мелнибонийцы, известны как скрытный народ. – И тем не менее, – сказал герцог Аван, – ты представляешься мне нетипичным мелнибонийцем. Кто другой оставил бы свою империю, чтобы скитаться в тех краях, где твой народ ненавидят? – Император правит лучше, герцог Аван Астран, если он имеет представление о мире, в котором правит. – Мелнибонэ больше не правит в Молодых королевствах. – Мощь Мелнибонэ все еще велика. Но я имел в виду не это. Я придерживаюсь мнения, что в Молодых королевствах есть нечто, утраченное в Мелнибонэ. – Жизненные силы? – Возможно. – Человечность! – проворчал граф Смиорган Лысый. – Вот что утратил твой народ, принц Элрик. Я не имею в виду тебя, но возьми графа Саксифа Д’Аана. Как такой мудрец мог оказаться таким простаком? Он потерял все – гордость, любовь, власть, а все потому, что ему недоставало человечности. А то человеческое, что в нем было, стало причиной его гибели. – Кое-кто говорит, что это же погубит и меня, – сказал Элрик. – Но может быть, именно человечности я ищу, чтобы вернуть ее в Мелнибонэ, граф Смиорган. – Тогда ты погубишь свое королевство! – откровенно сказал Смиорган. – Уже слишком поздно спасать Мелнибонэ. – Можетбыть, явсилахпомочьтебевтвоихпоисках, принц Элрик, – тихо сказал герцог Аван Астран. – Возможно, еще есть время спасти Мелнибонэ, если ты чувствуешь, что существование такого могущественного народа находится под угрозой. – Эта угроза внутри, – сказал Элрик. – Но что-то я слишком уж откровенен. – Да, мелнибонийцы обычно более скрытны. – А как ты узнал об этом городе? – спросил Элрик. – Ни один другой человек, с кем мне доводилось встречаться в Молодых королевствах, не знал о Р’лин К’рен А’а. – Этот город помечен на имеющейся у меня карте. Элрик неторопливо пережевал кусок мяса и проглотил его. – Это явно поддельная карта. – Может быть. А больше ты ничего не помнишь из легенд о Р’лин К’рен А’а? – Есть одна история о Существе, Обреченном Жить. – Элрик отодвинул блюдо с едой и налил себе вина. – Говорят, что этот город получил свое название, потому что там как-то раз встретились Владыки Высших Миров, чтобы установить правила Войны. Их подслушал один из жителей, который не бежал с другими, а остался в городе, когда появились Владыки. Обнаружив его, они приговорили его к вечной жизни и обрекли на вечное знание страшной истины… – Я тоже слышал эту историю. Но меня интересуют жители Р’лин К’рен А’а, которые так никогда и не вернулись в свой город. Они направились на север, а потом переплыли море. Иные добрались до острова, который мы сегодня называем Чародейским островом. Другие поплыли дальше, их унес сильный шторм – и они оказались на острове, населенном драконами. Их яд сжигал все, на что попадал. Этот остров и естьМелнибонэ. – И ты хочешь узнать, насколько истинна эта история. У тебя к этому научный интерес? Герцог Аван рассмеялся. – В некотором роде. Но мой главный интерес к Р’лин К’рен А’а носит более приземленный характер. Твои предки, покинув город, оставили в нем драгоценное сокровище – статую Ариоха, Владыки Хаоса: огромное изваяние, вырезанное из нефрита, глаза которого сделаны из двух драгоценных камней, какие больше нигде на земле не встречаются. Это камни с другого уровня бытия, они могут раскрыть все тайны Высших Миров, тайны прошлого и будущего, тайны бессчетного множества измерений вселенной… – У всех культур есть подобные легенды. Это всего лишь потребность выдавать желаемое за действительное, герцог Аван, только и всего… – Но мелнибонийская культура не похожа на другие. Ты прекрасно знаешь, что мелнибонийцы по большому счету не принадлежат к роду человеческому. Они обладают могуществом, какого нет у других, их знания превосходят знания других народов… – Когда-то так оно и было, – сказал Элрик. – Но я не обладаю ни могуществом, ни знаниями. Разве что в малой мере. – Я искал тебя в Бакшаане, а потом в Джадмаре не для того, чтобы ты подтвердил то, что я слышал. Я пересек море, добираясь до Филкхара, а потом до Аргимилиара и, наконец, Пикарайда, не потому что думал – вот, мол, встречу тебя, и ты тут же засвидетельствуешь: так все оно и есть. Я отправился в эти поиски, потому что считаю тебя единственным человеком, согласившимся бы сопровождать меня в путешествии, которое подтвердит или опровергнет эти легенды раз и навсегда. Элрик наклонил голову и отхлебнул из кубка вина. – А сам ты не можешь это сделать? Зачем тебе моя компания в такой экспедиции? Из того, что я о тебе знаю, герцог Аван – ты не из тех, кому нужна чья-то помощь в подобных предприятиях… Герцог Аван рассмеялся. – Я в одиночестве добрался до Элвера, когда мои люди бросили меня в Плачущей пустоши. Не в моих привычках поддаваться страху. Но мне удавалось выжить в путешествиях только потому, что перед тем, как отправиться в дорогу, я проявлял известную предусмотрительность и принимал меры предосторожности. В этом же случае мне, возможно, придется столкнуться с опасностями, которых я не могу предвосхитить. Может быть, с колдовством. Поэтому я и подумал: мне нужен попутчик, который имеет опыт противостояния колдовству. А поскольку у меня не было никакого желания заводить отношения с обычными магами, например со всяким отребьем из Пан-Танга, то ты и оказался моим единственным выбором. Ты, принц Элрик, ищешь, как и я, знания. Можно даже сказать, что, если бы не твоя тяга к знаниям, твой кузен никогда не попытался бы завладеть Рубиновым троном Мелнибонэ… – Хватит об этом, – горько сказал Элрик. – Поговорим об экспедиции. Где твоя карта? – Ты будешь меня сопровождать? – Покажи карту. Герцог Аван вытащил свиток из сумки. – Вот она. – Где ты ее нашел? – В Мелнибонэ. – Ты был там недавно? – Элрик почувствовал, как в нем нарастает гнев. Герцог Аван поднял руку. – Я прибыл туда с торговцами и отдал немало денег за одну шкатулочку, которая была запечатана чуть ли не целую вечность. В шкатулочке обнаружилась эта карта. Он расстелил свиток на столе. Элрик узнал стиль и письмо – древнее высокое наречие Мелнибонэ. Это была карта части западного континента – той части, которую он не видел ни на одной другой карте. Здесь была изображена огромная река, уходящая вглубь континента на сотни миль. Река, кажется, протекала по джунглям, а Потом разделялась на две, через некоторое время соединявшиеся. На этом «острове» стоял черный кружок. Против кружка все тем же письмом древних мелнибонийцев было начертано название – Р’лин К’рен А’а. Элрик тщательно осмотрел свиток. Он не был похож на подделку. – Это все, что ты нашел? – спросил Элрик. – Свиток был запечатан, а на печати было вот это, – сказал герцог Аван, протягивая руку мелнибонийцу. На ладони Элрика оказался крохотный рубин такого насыщенного цвета, что поначалу Элрик счел его сплошь черным, но, повернув к свету, увидел изображение в центре и узнал его. Он нахмурился, потом сказал: – Я соглашусь на твое предложение, герцог Аван. Ты позволишь мне взять это? – Ты знаешь, что это такое? – Нет. Но мне бы хотелось выяснить. Он мне что-то напоминает… – Хорошо, бери его. А я буду хранить карту. – Когда ты собираешься отправиться в путь? Герцог Аван иронически улыбнулся. – Мы уже и так направляемся вдоль южного побережья к Кипящему морю. – Из этих вод мало кто возвращался, – горько пробормотал Элрик. Он поднял глаза и увидел, что Смиорган смотрит на него умоляющим взглядом – не надо, мол, участвовать в авантюре герцога Авана. Элрик улыбнулся своему другу. – Это приключение по моему вкусу. Смиорган с жалким видом пожал плечами. – Кажется, мое возвращение в Пурпурные города откладывается.Глава вторая Неестественная жара
Побережье Лормира исчезло в теплом тумане, и шхуна герцога Авана Астрана взяла курс на запад, к Кипящему морю. Вилмирский экипаж был непривычен ни к такому климату, ни к такой напряженной работе, и потому они, как поКазалось Элрику, исполняли свои обязанности с весьма несчастным видом. Стоя рядом с Элриком на юте корабля, граф Смиорган Лысый утирал пот с лысины и ворчал: – Вилмирцы ленивые ребята, принц Элрик. Герцогу Авану для такого путешествия нужны настоящие моряки. Будь у меня такая возможность, я бы набрал ему команду… Элрик улыбнулся. – Никому из нас не оставили никаких возможностей, граф Смиорган. Нас поставили перед свершившимся фактом. Он умный человек – герцог Астран. – Я такой ум не очень уважаю – он ведь не предложил нам никакого выбора. Старая пословица говорит, что свободный человек – всегда лучший попутчик, чем раб. – Почему же ты тогда не сошел на берег – ведь у тебя была такая возможность? – Из-за обещанного сокровища, – откровенно признался чернобородый. – Я должен вернуться в Пурпурные города с честью. Не забывай, что я потерял флот, которым командовал… Элрик понял графа. – Мои мотивы просты, – сказал Смиорган. – Твои – куда как сложнее. Ты, кажется, так и ищешь опасностей, как другие ищут женской любви или выпивки. Словно в опасности ты обретаешь забвение. – Разве такое не справедливо по отношению ко многим профессиональным воинам? – Ты не просто профессиональный воин, Элрик. Ты знаешь об этом не хуже меня. – И тем не менее немногие из опасностей, с которыми я сталкивался, помогали мне обрести забвение, – заметил альбинос. – Я бы сказал, что они еще сильнее напоминали мне, кто я такой, напоминали о том, какой выбор передо мной стоит. – Элрик тяжело и печально вздохнул. – Я иду туда, где существуют опасности, потому что мне кажется – только там я смогу получить ответ. Хоть какое-то объяснение всех этих парадоксов и этой трагедии. Притом я уверен, что ответа так и не получу. – Так ты поэтому решил отправиться в Р’лин К’рен А’а? Ты надеешься, что твои далекие предки знали ответ, который ты ищешь? – Р’лин К’рен А’а – миф. Даже если карта окажется подлинной, что мы там найдем, кроме руин? Имррир простоял десять тысяч лет, но его построили целых два века спустя после того, как мои предки высадились на острове. Время давно сровняло Р’лин К’рен А’а с землей. – А эта статуя? Этот нефритовый образ, о котором говорил Аван? – Если такая статуя и существовала, ее за прошедшие сотни веков давно уже украли. – А Существо, Обреченное Жить? – Миф. – Но ты все же надеешься, что там все так, как говорит герцог Аван?..Граф Смиорган положил руку на плечо Элрика. – Да? Вглядываясь в клубящийся пар, который поднимался из моря, Элрик покачал головой. – Нет, Смиорган. Я опасаюсь, что там все так, как говорит герцог Аван. Ветер был капризным, и шхуна продвигалась медленно. Жара все возрастала, и команда все сильнее обливалась потом и понемногу начинала роптать. На каждом лице застыло выражение ужаса перед грядущим. Казалось, только герцог Аван не теряет уверенности. Он призывал всех не падать духом, убеждал их, что скоро все они будут богаты, он отдал приказ опустить весла, потому что ветру больше нельзя было доверять. Команда ворчала, все поснимали с себя рубашки, обнажив кожу, красную, как вареные раки. Герцог Аван пошутил на сей счет, но вилмирцы в этих незнакомых суровых водах больше не смеялись над его шутками. Вокруг корабля ревело и волновалось море, и курс прокладывался по немногим имеющимся у них навигационным инструментам, потому что видимость из-за пара была нулевая. Один раз из моря выглянуло что-то зеленое, посмотрело на них и снова исчезло. Ели и спали они мало, и Элрик редко покидал ют. Граф Смиорган без жалоб переносил жару, герцог Аван вообще не обращал внимания на неудобства и с веселым видом обходил корабль, подбадривая матросов. Граф Смиорган не мог оторвать взгляд от воды. Он слышал об этом море, но раньше бывать здесь ему не доводилось. – А ведь это только внешняя кромка моря, Элрик, – сказал он с удивленным выражением на лице. – Представь, что там может быть в его середине. Элрик усмехнулся. – Лучше уж я не буду. Я и так боюсь, что не доживу до завтрашнего дня – сварюсь в этих водах. Проходивший мимо герцог Аван услышал его и похлопал по плечу. – Не беда, принц Элрик. Пар над морем только на пользу! Нет ничего здоровее! – Герцог Аван не без удовольствия потянулся. – Эта вода удаляет все яды из организма. Граф Смиорган смерил его сердитым взглядом, и герцог Аван рассмеялся. – Не переживай, граф Смиорган. По моим подсчетам, Если только они верны, через пару дней мы увидим берег западного континента. – Эта мысль не очень-то поднимает мне настроение, – сказал граф Смиорган, но все-таки улыбнулся. Юмор герцога заразил его. Вскоре после этого разговора море стало медленно успокаиваться, пар рассеялся и жара немного спала. Наконец они вошли в тихие воды под сверкающим голубым небом, в котором висело красновато-золотистое солнце. Трое вилмирцев во время перехода по кипящему морю умерли, а четверо заболели – они сильно кашляли, их трясло, как в лихорадке, а по ночам они кричали и бредили. Некоторое время стоял штиль, но наконец потянуло свежестью, и паруса шхуны наполнились ветром. Вскоре показалась первая на их пути земля – маленький желтый островок, где они нашли фрукты и родниковую воду. Здесь они похоронили троих, не выдержавших перехода через Кипящее море; вилмирцы не захотели тела товарищей отдать океану, говоря, что, мол, не желают, чтобы они там сварились, «как мясо в супе». Пока шхуна стояла на якоре неподалеку от берега, герцог Аван пригласил Элрика к себе в каюту и во второй раз показал ему древнюю карту. Сквозь иллюминаторы лился золотистый солнечный свет, падавший на старый пергамент, изготовленный из шкуры давно вымершего животного. Элрик и герцог Аван Астран из Старого Гролмара склонились над картой. – Видишь, – сказал герцог. – Этот остров обозначен. Масштаб, кажется, довольно точен. Еще три дня, и мы доберемся до устья реки. Элрик кивнул. – Но было бы благоразумно передохнуть здесь немного, восстановить силы и поднять дух команды. Ведь не случайно люди на протяжении многих веков избегали западных джунглей. – Конечно, ведь там обитают дикари, некоторые говорят, что они даже не принадлежат к роду человеческому. Но я уверен, мы справимся с этими опасностями. Я побывал во всяких землях, принц Элрик. – Но ты же сам говорил, что страшишься других опасностей. – Это правда. Ну что ж, сделаем так, как ты предлагаешь. На четвертый день подул сильный восточный ветер, и они подняли якорь. Шхуна перепрыгивала через волны при половине поставленных парусов, и команда сочла это добрым знаком. – Они глупцы, – сказал Смиорган Элрику, с которым стоял на носу, держась за канат. – Придет время, и они будут с ностальгией вспоминать трудности Кипящего моря. Это путешествие, мой друг Элрик, не обогатит никого из нас, даже Если драгоценности Р’лин К’рен А’а все еще находятся там, в джунглях. Но Элрик не ответил. Его одолевали странные, необычные для него мысли: он вспоминал детство и отца, который был последним настоящим правителем Сияющей империи – грубым, безразличным, жестоким. Отец ждал, что он, Элрик, вернет былую славу Мелнибонэ. Может быть, эти ожидания основывались на странном альбинизме его сына. Элрик же, наоборот, поставил под угрозу и остатки этой славы. Его отец, как и он сам, был чужим в эту новую эпоху Молодых королевств, но отказывался признавать это. Путешествие на западный континент, в землю предков, по-особому привлекало Элрика. Отсюда больше не появилось ни одного народа. Континент, насколько было известно Элрику, оставался неизменным с тех пор, как его предки оставили Р’лин К’рен А’а. Эти джунгли – те самые, что были известны его предкам, эта земля – та самая земля, на которой возникла их необычная раса, земля, определившая характер народа, предпочитавшего жестокие удовольствия, мрачные искусства и темные наслаждения. Чувствовали ли его предки эту агонию знания, это бессилие перед лицом понимания того, что существование не имеет смысла, не имеет цели, не имеет надежды? По этой ли причине построили они такую необычную цивилизацию и презирали более простые духовные ценности человечества? Он знал, что многие интеллектуалы из Молодых королевств сочувствовали этому могущественному народу, считая его безумным. Но если они были безумны и заражали своим безумием весь мир в течение сотни веков, то почему стали они такими? Может быть, тайна скрыта в Р’лин К’рен А’а, но не в какой-то осязаемой форме, а в самой атмосфере, создаваемой темными джунглями и древними глубокими реками. Может быть, здесь наконец-то и прекратится его душевный разлад. Элрик провел пальцами по своим волосам молочного цвета, и в его малиновых глазах появилась какая-то невинная боль. Возможно, он последний в своем роду, но в то же время он не такой, каким был его род. Смиорган ошибался. Элрик знал, что у всего сущего есть противоположность. Он может обрести покой в опасности. И конечно же, в покое может таиться опасность. Будучи несовершенным существом, живущим в несовершенном мире, он постоянно ощущал парадоксальность бытия. И поэтому в парадоксе всегда была своя правда. Поэтому-то и процветали философы и прорицатели. В совершенном мире для них не было бы места. В несовершенном мире загадки никогда не имели решений, а потому выбор решений был огромен. Наутро третьего дня впереди они увидели землю, и шхуна, маневрируя между песчаными банками огромной дельты, подошла ближе к берегу и бросила якорь в том самом месте, где темные воды безымянной реки впадали в океан.Глава третья Обитатели опасного леса
Наступил вечер, и солнце стало опускаться за черные очертания мощных деревьев. Из джунглей доносился густой, сильный запах, в сумерках звучали крики странных птиц и зверей. Элрику хотелось как можно скорее отправиться в поиски по реке. Сон, который всегда давался ему с трудом, теперь не шел вообще. Альбинос стоял недвижно на палубе, смотрел немигающими глазами, мозг его почти не работал, словно в ожидании того, что может случиться в ближайшем будущем. На Элрика падали солнечные лучи, на палубе от его фигуры протянулась черная тень. Потом появились звезды, взошла луна и наступила тихая темная ночь. Он хотел, чтобы джунгли поглотили его. Он хотел слиться воедино с деревьями, кустами и ползающими тварями. Он хотел, чтобы мысли исчезли. Он втянул тяжелый, напоенный ароматами воздух, словно одного этого было достаточно, Чтобы он стал тем, чем хотел стать в эти мгновения. Жужжание насекомых превратилось в один бормочущий голос, который звал его в сердце старого-старого леса. Но сейчас он не мог ни пошевелиться, ни ответить на этот зов. Наконец на палубу вышел граф Смиорган, коснулся Элрикова плеча, сказал что-то, и Элрик покорно пошел вниз к своей койке, завернулся в плащ и лег, продолжая прислушиваться к голосам джунглей. Даже герцог Аван казался более задумчивым, чем обычно, когда на следующее утро они подняли якорь и пошли на веслах против течения по вязкой, тяжелой воде. Листва над их головой была густой, и им казалось, что они, оставив позади залитое солнцем море, движутся по огромному мрачному туннелю. Яркие растения вились по лианам, свисавшим с высоких крон, и цеплялись за мачты плывущего корабля. Похожие на крыс животные с длинными лапами раскачивались на ветках и смотрели на них яркими умными глазами. Река сделала поворот, и море скрылось из виду. Лучи солнечного света, проникавшие сквозь кроны на палубу, приобрели зеленоватый оттенок. Элрик пребывал в напряжении, какого не знал с того момента, как согласился сопровождать герцога Авана. Он проявлял острый интерес ко всему, что видел в джунглях и на белой реке, – к роям насекомых, похожих на волнистые облака тумана, клубящиеся над водной гладью; к плывущим бутонам цветов, напоминающим капли крови. Отовсюду доносилось шуршание, внезапное гоготание, лай и плески, производимые рыбами или речными животными. Весла, поднимающие из воды комья водорослей и прячущуюся в них речную живность, вспугивали водных созданий, и те сейчас же бросалась врассыпную, преследуемые каким-нибудь хищником. Многие стали жаловаться на укусы насекомых, однако Элрика крылатые твари не донимали, возможно, потому, что насекомым не нравилась такая нездоровая кровь. Мимо него по палубе прошел герцог Аван. Вилмирец хлопнул себя по лбу. – Кажется, ты немного повеселел, принц Элрик? Элрик с отсутствующим видом улыбнулся: – Возможно. – Должен признаться, что меня все происходящее слегка угнетает. Я буду рад, когда мы доберемся до города. – Ты все еще убежден, что найдешь его? – Я буду убежден в обратном, лишь когда исследую каждый дюйм этого острова и ничего не найду. Элрика так поглотила атмосфера джунглей, что он почти не замечал ни корабля, ни своих спутников. Корабль медленно – со скоростью чуть большей скорости пешехода – двигался по реке. Прошло несколько дней, но Элрик даже не заметил этого, потому что джунгли не изменялись. Но вот река стала шире, кроны деревьев разошлись, и широкое, жаркое небо внезапно наполнилось огромными птицами, взмывшими в воздух при появлении корабля. Все, кроме альбиноса, воспрянули духом, снова оказавшись под открытым небом. Элрик спустился к себе в каюту. Нападение на корабль произошло почти сразу же. Раздался какой-то свист, потом крик, и один из матросов скорчился и упал, держась за серый тонкий полукруг чего-то, вонзившегося в его живот. Верхняя рея с треском упала на палубу, увлекая за собой парус и такелаж. Тело другого матроса – без головы – сделало две пары шагов в направлении юта, прежде чем рухнуть на доски палубы. Из жуткой дыры в шее хлестала кровь. Отовсюду раздавался тонкий, свистящий звук. Элрик услышал эти звуки из своей каюты и тут же кинулся наверх, пристегивая меч к поясу. Первым он увидел Смиоргана. Вид у лысого графа был встревоженный, он, пригнувшись, сидел за фальшбортом. Элрик увидел, что по воздуху со свистом летают какие-то серые кляксы, вонзающиеся в человеческую плоть и корабельную оснастку, в дерево, в паруса. Некоторые кляксы падали на палубу, и Элрик разглядел, что это тонкие каменные диски диаметром около фута. Они летели с обоих берегов реки, и от них не было защиты. Он попытался разглядеть, кто бросает эти диски, и увидел какое-то движение среди деревьев по правому берегу. Внезапно свистящий звук смолк – больше диски не прилетали, Наступила пауза, которой воспользовались матросы, кинувшиеся искать более надежного укрытия. На корме появился герцог Аван. Он обнажил меч и закричал: – Бегите вниз, берите щиты, надевайте доспехи, несите луки! Вооружайтесь, или вам конец! В этот момент атакующие появились из-за деревьев и пошли вброд по воде. Дисков они больше не запускали, словно у них кончился весь запас. – Чардрос меня забери! – выдохнул Аван. – Это настоящие существа или порождения какого-то колдовства? Существа эти, скорее всего, были рептилиями, но с перьевыми гребешками и бородками на шее, хотя лица у них были почти человеческие. Их передние лапы напоминали человеческие руки, а задние имели невероятную длину, как у аиста. Тела на этих длиннющих лапах возвышались над водой. Они держали громадные дубинки, в которых были прорезаны щели; с их помощью они, скорее всего, и запускали свои кристаллические диски. Элрик пришел в ужас, глядя на лица этих существ. Они отдаленно напоминали ему черты его собственного народа – мелнибонийцев. Может быть, эти существа – его отдаленные родственники? Или его народ корнями уходит к ним? Он перестал задавать себе эти вопросы, потому что испытал вдруг острый приступ ненависти к этим тварям. Они были отвратительны – от одного их вида желчь поднималась к горлу. Элрик инстинктивно обнажил Буревестник. Черный Меч начал свою заунывную песню и засветился знакомым черным сиянием. Руны, начертанные на его клинке, пульсировали красным цветом, который медленно переходил в темно-пурпурный, а потом – снова в черный. Существа наступали по воде на своих высоких птичьих ногах, но, увидев меч, остановились и стали переглядываться. Не только их вывело из равновесия это зрелище – герцог Аван и его люди побледнели. – О боги! – воскликнул Аван. – Не знаю, на что мне приятнее смотреть: на тех, кто на нас нападет, или на того, кто нас защищает. – Держитесь подальше от этого меча, – предупредил Смиорган. – У него привычка убивать больше, чем хочет его хозяин. И тут похожие на рептилий дикари бросились в атаку, они цеплялись за леера, карабкались по бортам, но в этот момент на палубу вернулись вооруженные моряки. Дубинки обрушились на Элрика со всех сторон, но Буревестник взвизгнул и отразил все удары. Альбинос держал меч двумя руками, рубя им чешуйчатые тела направо и налево. Существа шипели, в гневе и агонии разевая красные рты, а их густая черная кровь ручьями стекала в воды реки. Хотя их туловища были не крупнее туловища высокого, хорошо сложенного человека, жизненной силы в них было гораздо больше, чем у любого человека, и самые глубокие раны, казалось, никак на них не действовали, даже если эти раны наносил Буревестник. Элрик был удивлен, увидев такое сопротивление его мечу. Нередко мечу хватало малой царапины, чтобы выпить из Человека душу. Эти же существа выглядели неуязвимыми. Может быть, у них вовсе не было души? Он продолжал сражаться, и ярость придавала ему силы. Но повсюду на корабле моряки отступали. Леер был проломлен в нескольких местах, огромные дубинки крошили доски и такелаж. Дикари вознамерились уничтожить не только корабль, но и людей. И сомнений в том, что они добьются своего, теперь уже почти не было. Аван прокричал Элрику: – Принц Элрик, во имя всех богов, ты должен прибегнуть к колдовству. Иначе мы обречены! Элрик знал, что Аван говорит правду. Повсюду вокруг него эти похожие на пресмыкающихся существа буквально разрывали корабль на части. Большинство из них, хотя и получили страшные раны от защищающихся, продолжали сражаться, и лишь один или двое были убиты. Элрик начал подозревать, что они сражаются с существами, наделенными сверхъестественной силой. Элрик отступил и, найдя укрытие за полуразбитой дверью, попытался сосредоточиться на способе, каким можно было вызвать колдовскую подмогу. Он тяжело дышал и держался за балку, потому что корабль сильно качало. Он изо всех сил старался выкинуть все посторонние мысли из головы. И тут он вспомнил заклинание. Он не был уверен, годится ли оно для данного случая, но другие не приходили ему на память. Его предки за несколько тысяч лет до этого заключили договор со элементалями, которые управляют миром животных. В прошлом он прибегал к помощи разных духов этого вида, но никогда не обращался к тому, о котором вспомнил сейчас. С его языка стали срываться древние, прекрасные и сложные слова мелнибонийского высокого наречия. – Крылатый король! Повелитель всех, кто трудится и невидим, от чьих трудов зависят все остальные! Ннуууррр’с’с из народа насекомых, я призываю тебя! Элрик перестал воспринимать все, что происходит вокруг него, кроме разве что движения корабля. Звуки сражения притупились, и он перестал их слышать – он направлял свой разум за пределы земли в другой мир, где властвовал король насекомых Ннуууррр’с’с, верховный владыка своего народа. Альбинос услышал жужжание, которое постепенно стало переходить в слова. – Кто ты такой, смертный? Какое право имеешь ты призывать меня? – Я – Элрик, правитель Мелнибонэ. Мои предки помогали тебе, Ннуууррр’с’с. – Да, но это было очень давно. – И помощи твоей в последний раз они просили очень давно! – Верно. Какая же тебе нужна помощь, Элрик из Мелнибонэ? – Взгляни в мой мир. Ты увидишь, что я в опасности. Можешь ты спасти меня от этой угрозы, Друг Насекомых? Перед Элриком возникла туманная тень, которую он видел словно бы через несколько слоев полупрозрачного шелка. Элрик пытался сфокусировать взгляд на этой тени, но она все время уплывала из его поля зрения, а потом снова возвращалась на несколько мгновений. Он знал, что смотрит в другую плоскость Земли. – В твоих силах помочь мне, Ннуууррр’с’с? – Разве у тебя нет покровителя твоего собственного вида? Разве ты не можешь обратиться к какому-либо Владыке Хаоса? – Мой покровитель Ариох, а его настроение весьма переменчиво. В последнее время этот демон мало мне помогает. – Хорошо, я пошлю тебе союзников, смертный. Но после этого больше не обращайся ко мне. – Больше я к тебе не обращусь, Ннуууррр’с’с. Туманные слои исчезли, а вместе с ними и тень. Элрик снова услышал звук сражения, яснее прежнего стали доноситься до него крики моряков и шипение пресмыкающихся. Выглянув из своего укрытия, Элрик увидел, что половина команды мертва. Когда он появился на палубе, к нему подбежал Смиорган. – Я уж думал, что ты убит, Элрик! Что с тобой случилось? – Он явно испытал облегчение, увидев, что его друг жив. – Я искал помощи в другом измерении, но пока она еще вроде бы не появилась. – Мне кажется, мы обречены, и ничего лучше мне не приходит в голову, как плыть к берегу и искать укрытия в джунглях. – А что с герцогом Аваном? Он жив? – Он жив. Но эти твари неуязвимы. Корабль скоро пойдет на дно. – Смиорган с трудом удержал равновесие, когда палуба накренилась. Он ухватился за канат, и его меч повис на запястном ремне. – Пока что они еще не трогали корму. Мы можем спрыгнуть в воду оттуда… – Я заключил договор с герцогом Аваном, – напомнил графу Элрик. – Я не могу его бросить. – Тогда нам конец! – Что это такое? – Элрик наклонил голову, прислушиваясь. – Я ничего не слышу. Это был какой-то вой, тональность которого становилась все ниже и ниже, пока не перешла в гудение. Теперь и Смиорган услышал этот звук, он оглянулся в поисках его источника. Внезапно он в изумлении открыл рот и указал вверх. – Так об этой помощи ты просил? На них надвигалась огромная черная туча, затмившая половину неба. Солнце за нею мерцало самыми разными красками – темно-синей, зеленой или красной. Туча опускалась кругами на корабль, и теперь нападавшие и защищающиеся замолкли и, подняв головы, смотрели наверх. Летающие существа были похожи на огромных стрекоз, а от яркости и богатства их окраски захватывало дух. Их крылья и производили гудение, громкость которого, по мере приближения этих гигантских насекомых, стала нарастать. Поняв, что объектом нападения являются именно они, люди-рептилии попятились на своих длинных ногах, а потом припустили к берегу, намереваясь добраться до него, прежде чем гигантские насекомые обрушатся на них. Но их отступление запоздало. Стрекозыопустились на дикарей, тела которых скоро скрылись из виду под слоем насекомых. Шипение стало громче, приобрело чуть ли не жалостливый оттенок – насекомые не оставляли своим жертвам никакой надежды, предавая их мучительной смерти. Может быть, они жалили рептилий своими хвостами – со стороны этого было не видно. Иногда из воды появлялась птичья нога и несколько мгновений конвульсивно дергалась в воздухе. Скоро под слоем насекомых исчезли не только тела рептилий, даже их крики заглушило это странное, раздававшееся со всех сторон гудение, от которого кровь стыла в жилах. На палубе появился весь мокрый от пота герцог Аван с мечом в руке. – Это твоих рук дело, принц Элрик? Элрик посмотрел на него довольным взглядом, но остальных мутило от отвращения. – Моих, – ответил альбинос. – Я благодарю тебя за помощь. Корпус пробит в нескольких местах, и вода быстро прибывает. Чудо, что мы еще не утонули. Я отдал приказ садиться за весла и надеюсь, что мы успеем доплыть до острова. – Он указал рукой вверх по течению. – Вот он, уже виден. – А что, если там мы найдем других дикарей? – спросил Смиорган. Аван мрачно улыбнулся, указывая на дальний берег. – Смотри. – Дюжина или больше дикарей, ставших свидетелями судьбы своих товарищей, улепетывали на своих птичьих ногах в джунгли. – Я думаю, больше они не захотят на нас нападать. Теперь огромные стрекозы снова поднимались в воздух, и Аван отвернулся, увидев то, что они оставили после себя. – О боги, какое кровожадное у тебя колдовство, принц Элрик. Жуть берет! Мелнибониец улыбнулся и пожал плечами. – Зато эффективное, герцог Аван. – Элрик вложил в ножны свой рунный меч, который тут же заворчал – казалось, он не хочет возвращаться в свое обиталище. Смиорган посмотрел на меч. – Судя по этому мечу, скоро его снова ожидает пиршество, хочешь ты этого или нет, Элрик. – Меч наверняка найдет, чем покормиться в лесу, – сказал альбинос. Он переступил через кусок обломанной мачты и пошел вниз. Граф Смиорган посмотрел на то, что плавало по поверхности воды, и вздрогнул.Глава четвертая Сумерки в джунглях
Разбитая шхуна почти не держалась на плаву, когда команда спрыгнула за борт и стала тащить ее на канатах по илу, который забил все дно на подступах к острову. Перед ними встала стена растительности, казавшаяся непроходимой. Смиорган последовал за Элриком, спрыгнув на мелководье. Они вброд направились к берегу. Выйдя из воды и оказавшись на твердой земле, Смиорган уставился на лесные заросли. Деревья стояли совершенно неподвижно, на остров опустилась необычная тишина. Из леса не раздавались крики птиц, не жужжали насекомые, не доносились вой и рычание зверей, какие слышны были во время их путешествия по реке. – Кажется, что эти твои потусторонние друзья перепугали не только дикарей, – пробормотал чернобородый. – Тут словно вообще нет никакой жизни. Элрик кивнул. – Странно. К ним присоединился герцог Аван. Он снял свое пышное одеяние – оно тоже пострадало во время сражения – и теперь был одет в кожаную куртку на подкладке и замшевые бриджи. На боку у него висел меч. – Большинство людей мы потеряли, – с горечью сказал он. – Оставшиеся займутся ремонтом, а мы тем временем направимся на поиски Р’лин К’рен А’а. – Он поплотнее завернулся в свой легкий плащ. – Что это – мне так кажется или здесь действительно какая-то странная атмосфера? – Мы уже обратили на это внимание, – сказал Смиорган. – Жизнь словно бы покинула остров. Герцог Аван ухмыльнулся. – Ну, если тут все такое робкое, то нам нечего бояться. Должен признать, принц Элрик, что если бы я желал тебе зла, а потом увидел, как ты вызвал этих тварей из воздуха, то я бы поостерегся приближаться к тебе. Да, спасибо тебе еще раз за то, что ты сделал. Если бы не ты, мы бы все уже погибли. – Для этого ты и просил меня присоединиться к тебе, – устало произнес Элрик. – Давайте поедим, отдохнем, а Потом продолжим нашу экспедицию. Лицо герцога Авана омрачилось. Что-то в манере Элрика встревожило его.Войти в джунгли оказалось непросто. Шесть участников экспедиции (больше выделить было никак нельзя), вооружившись топорами, начали прорубаться через подлесок. Неестественная тишина по-прежнему висела над ними… К сумеркам им удалось пройти лишь около полумили. Лес был таким густым, что они едва нашли место, чтобы устроить привал. Единственным источником света был маленький костерок. Члены команды спали, где смогли устроиться, под открытым небом. Элрик никак не мог уснуть, но беспокоили его вовсе не джунгли. Его озадачивала тишина, император не был уверен – стало ли их появление причиной того, что жизнь покинула эти места. Они не видели ни одного даже самого мелкого грызуна, ни одной птицы, ни насекомого, никаких следов лесной жизни. Не исключено, что на острове вот уже довольно длительное время – может быть, несколько веков – оставалась только растительная жизнь. Он вспомнил другую часть старой легенды о Р’лин К’рен А’а. В ней говорилось, что когда боги устроили на острове встречу, то бежали не только люди, но и все животные. Никто и ничто не могло осмелиться увидеть Владык Высших Миров и услышать их разговор. Элрика пробрала дрожь. Он никак не мог устроиться – поворачивал голову, лежавшую на скрученном плаще, то в одну, то в другую сторону, его малиновые глаза были полны муки. Если им грозит опасность на этом острове, то более коварная, чем та, с какой они столкнулись на реке. Звуки их продвижения по лесу стали единственными звуками на острове, когда на следующее утро они продолжили путь. С компасом в одной руке и картой в другой герцог Аван прокладывал маршрут, показывал своим людям, в каком направлении прорубаться дальше. Но их продвижение еще больше замедлилось – было ясно, что ни одно живое существо много веков не ходило этим путем. На четвертый день они достигли естественной прогалины, устланной плоской вулканической породой. Здесь они нашли родник. Элрик начал умывать лицо прохладной водой, и тут услышал крик у себя за спиной. Он подпрыгнул. Один из членов команды, вытащив лук и стрелу, натягивал тетиву. – В чем дело? – спросил герцог Аван. – Я что-то видел, мой господин! – Ерунда, здесь нет ни… – Смотри! – Моряк натянул тетиву и направил стрелу в кроны деревьев. Там и в самом деле произошло какое-то движение, и Элрику показалось, что среди стволов мелькнула серая тень. – Ты не видел, что это за существо? – спросил у моряка Смиорган. – Нет, господин. Поначалу я испугался – подумал, что это снова те же самые твари. – Они слишком напуганы и на остров за нами не пойдут, – успокоил его герцог Аван. – Надеюсь, ты прав, – нервно сказал Смиорган. – Тогда что же это могло быть? – недоуменно произнес Элрик. – Мне… мне показалось, что это человек, – неуверенно ответил моряк. – Человек? – Элрик задумчиво разглядывал деревья. Герцог Аван пожал плечами: – Скорее, тень облака над деревьями. По моим расчетам, мы должны уже были добраться до города. – Значит, ты все же думаешь, что он существует? – сказал Элрик. – Знаешь, меня это уже мало волнует, принц Элрик. – Герцог прислонился к стволу огромного дерева и откинул в сторону лиану, которая коснулась его лица. – Нам ничего другого не остается, как искать его. Все равно корабль еще не готов к плаванию. – Он заглянул в гущу ветвей. – Ну а то, что здесь отсутствуют насекомые, которые изводили нас по пути сюда, так лично меня это очень даже устраивает. Моряк, тот, что стрелял из лука, снова закричал: – Вот он! Я его видел! Это человек! Остальные смотрели, но ничего не могли разглядеть, а герцог Аван по-прежнему стоял, опираясь на дерево: – Ничего ты не видел. Нечего здесь видеть. Элрик повернулся к нему: – Дай мне карту и компас, герцог Аван. У меня такое ощущение, что я могу отыскать дорогу. Вилмирец пожал плечами с выражением сомнения на лице. Он протянул Элрику компас и карту. Ночью они отдыхали, а утром тронулись дальше, теперь их вел Элрик. В полдень они вышли из леса и увидели руины Р’лин К’рен А’а.
Глава пятая Граненые купола
На развалинах города ничего не росло. Улицы представляли собой руины – на них лежали обвалившиеся стены домов, но из трещин не поднималась трава, и ощущение возникало такое, будто город только-только был разрушен землетрясением. Лишь одно сохранилось в целости – над руинами возвышалась гигантская статуя из белого, серого и зеленого нефрита. Это была фигура обнаженного юноши с лицом красоты Почти женской. Незрячие глазницы изваяния были обращены на север. – Глаза! – сказал герцог Аван. – Они исчезли! Остальные молча смотрели на статую и окружающие ее развалины. Площадь была относительно невелика, а здания Почти не имели украшений. Похоже, покинувшие их обитатели были простыми, непритязательными людьми, совершенно непохожими на мелнибонийцев. Элрик не мог поверить, что жители Р’лин К’рен А’а были его предками. Они казались ему слишком здравомыслящими. – Глаза похищены, – продолжал герцог Аван. – Наше треклятое путешествие было бесполезным! Элрик рассмеялся. – Неужели, мой господин, ты и в самом деле полагал, что сможешь извлечь из глазниц глаза Нефритового человека? Высота статуи была не меньше башен Грезящего города, да и его голова была размером с солидное здание. Герцог Аван сложил губы трубочкой и сделал вид, что не слышит издевки в голосе Элрика. – Но мы все же можем окупить наше путешествие, – сказал герцог. – В Р’лин К’рен А’а были и другие сокровища. Он возглавил поход по городу. Лишь немногие из городских зданий оставались более или менее целыми. И все-таки, несмотря на произведенные разрушения, они очаровывали уже одной своей необыкновенной природой материалов, из которых были построены, – путешественники не видели ничего подобного прежде. Тут было множество самых разных оттенков камня, но от времени все они потускнели, превратившись в светло-красный, светло-желтый, светло-голубой. Сочетаясь друг с другом, они давали практически бесконечное количество комбинаций. Элрик протянул руку, чтобы коснуться одной из стен, и удивился прохладе материала поверхности и его гладкости. Это был не камень, не дерево и не металл. Может быть, этот материал доставлен сюда из другого мира? Он попытался представить себе город, каким он был до того, как население покинуло его. Улицы были широкие, городская стена отсутствовала, дома строились невысокими, внутри них находились большие, просторные дворы. Если народ Мелнибонэ действительно уходил корнями сюда, то что же так изменило выходцев из Р’лин К’рен А’а, почему их безумные архитекторы стали возводить вычурные грезящие башни Имррира? Элрик полагал найти здесь разгадку тайны, но нашел лишь еще одну тайну. Такова была его судьба, покорно подумал он про себя. И тут первый кристаллический диск рассек воздух над его головой и врезался в полуобрушенную стену. Следующий диск расколол череп одному из моряков, а третий – оцарапал ухо Смиоргана. Путешественники повалились на землю и вжались в нее. – Эти твари мстительны, – сказал Аван с невеселой улыбкой. – Они готовы многим рискнуть, чтобы отплатить нам за смерть своих товарищей. На лицах оставшихся в живых моряков застыл ужас. Страх стал закрадываться и в глаза Авана. Воздух рассекли еще несколько дисков, но было ясно, что путешественники временно оказались вне поля зрения обстреливающих их рептилий. Смиорган закашлялся, когда очередной диск выбил из ближайшего к нему камня облачко белой пыли, попавшей ему в горло. – Лучше бы тебе позвать этих своих союзничков, Элрик. Элрик покачал головой. – Не могу. Мой союзник сказал, что во второй раз он мне не станет помогать. – Он посмотрел налево, где все еще стояли четыре стены дома. Двери в них не было, только окно. – Тогда позови кого-нибудь другого – настойчиво требовал граф Смиорган. – Кого угодно. – Я не уверен… Тут Элрик перекатился через спину и запрыгнул через окно внутрь дома. Приземлился он на кучу строительного мусора, в кровь разбив руки и колени. Он поднялся на ноги. Вдалеке виднелась громадная слепая статуя бога, стоящего над городом. Считалось, что это Ариох, хотя статуя и не была похожа ни на одно из изображений этого демона, которые помнил Элрик. Может быть, эта статуя защищала Р’лин К’рен А’а – или, наоборот, должна была вселять страх в его жителей. Раздался чей-то крик. Он выглянул в окно и увидел, что диск ранил одного из моряков в руку. Элрик вытащил Буревестник и поднял его, встав лицом к нефритовой статуе. – Ариох! – воскликнул он. – Ариох, помоги мне! Из клинка струился черный свет, потом меч запел, словно присоединяясь к заклинанию Элрика. – Ариох! Придет ли демон к нему на помощь? Нередко покровитель королей Мелнибонэ отказывался появляться, объясняя это тем, что у него есть более неотложные дела – дела, связанные с вечным противостоянием Закона и Хаоса. – Ариох! Меч и его хозяин окутались дрожащим черным туманом, и белое, запрокинутое назад лицо Элрика словно бы колебалось вместе с туманной дымкой. – Ариох! Я прошу тебя о помощи! К тебе обращается Элрик! И туг до его ушей донесся голос – мягкий, успокаивающий, увещевающий. Он звучал ласково. – Элрик, я горжусь тобой. Я люблю тебя больше, чем какого-либо другого смертного, но помочь тебе не могу – еще рано. Элрик в отчаянии воскликнул: – Тогда мы обречены здесь погибнуть. – Ты можешь избежать этой опасности. Беги в лес. Брось остальных, пока еще есть время. У тебя предназначение, которое ты должен будешь выполнить в другое время и в другом месте… – Я их не брошу. – Ты глуп, милый Элрик. – Ариох, со дня основания Мелнибонэ ты помогал его королям. Помоги сегодня его последнему королю! – Я не могу впустую растрачивать свою силу. Впереди жестокая схватка. И если я вернусь в Р’лин К’рен А’а, мне это будет дорого стоить. Беги скорее. Ты сможешь спастись. Умрут другие. Сказав это, герцог Ада исчез. Элрик почувствовал его уход. Он нахмурился, потрогал сумку на поясе, пытаясь вспомнить нечто, слышанное им прежде. Он медленно вложил сопротивляющийся меч в ножны. Послышался глухой звук, и рядом с Элриком встал, тяжело переводя дыхание, Смиорган. – Ну, что? Подмога уже в пути? – Боюсь, что нет. – Элрик в отчаянии покачал головой. – Ариох снова отказал мне в помощи. Он опять говорит о великой судьбе, о необходимости копить силы. – Твои предки могли бы выбрать в качестве покровителя более сговорчивого демона. Наши друзья-рептилии окружают нас. Смотри… – Смиорган указал на окраину города. Группа в дюжину птиценогих тварей наступала, держа наготове свои огромные дубинки. Раздался новый удар о стену, и сквозь образовавший пролом появился Аван, а за ним – его люди. Аван сыпал проклятиями. – Боюсь, что помощи нам ждать неоткуда, – сказал ему Элрик. Вилмирец мрачно улыбнулся. – Значит, эти твари знали больше нас! – Похоже. – Нужно попытаться спрятаться от них, – без особой уверенности сказал Смиорган. – В схватке нам их не победить. Маленький отряд вышел из полуразрушенного дома и начал пробираться по городу, прячась за укрытиями, которые им удавалось найти. Они медленно продвигались к центру и статуе Нефритового человека. По резкому шипению сзади они понимали, что рептилии не теряют их из виду. Упал еще один вилмирец – у него из спины торчал диск, – и отряд пустился в паническое бегство. Впереди они увидели красное здание в несколько этажей и с сохранившейся крышей. – Давайте внутрь! – крикнул герцог Аван. Они, с облегчением и ни мгновения не колеблясь, вбежали в здание, пронеслись по нескольким пыльным переходам и Наконец остановились перевести дыхание в большом мрачном зале. Зал был совершенно пуст, а тот свет, что попадал внутрь, просачивался сквозь трещины в стенах. – Это строение сохранилось лучше других, – сказал герцог Аван. – Интересно, каково его назначение? Может, это Крепость? – Они, похоже, были совсем не воинственным народом, – заметил Смиорган. – Я думаю, у этого здания имелось другое назначение. Три оставшихся в живых моряка испуганно поглядывали вокруг. Судя по их лицам, они предпочли бы встретить рептилий под открытым небом. Элрик пошел через зал, но вдруг остановился, заметив какой-то рисунок на дальней стене. Смиорган тоже увидел его. – Что это такое, друг Элрик? Альбинос узнал в нарисованных символах высокое наречие древнего Мелнибонэ, но этот язык несколько отличался от того, что знал он, а потому Элрику потребовалось некоторое время, чтобы понять значение написанного. – Ты прочел, что тут сказано, Элрик? – пробормотал герцог Аван, присоединяясь к ним. – Да, но смысл довольно темен. Тут написано: «Если ты пришел убить меня, добро пожаловать. Если ты не принес того, что разбудит Нефритового человека, тогда исчезни…» – Может, это адресовано нам? – задумчиво сказал Аван. – Или это тут уже давно? Элрик пожал плечами. – Эта надпись могла быть сделана в любое время за последние десять тысяч лет… Смиорган подошел к стене и прикоснулся к ней. – Мне кажется, она сделана довольно недавно, – сказал он. – Краска еще сырая. Элрик нахмурился. – Значит, здесь есть еще обитатели. Почему же они никак не обнаруживают себя? – А может, обитатели Р’лин К’рен А’а – это те самые рептилии? – сказал Аван. – В легенде ведь не сказано, что бежавшие отсюда жители были людьми… Лицо Элрика омрачилось, и он хотел было сердито возразить герцогу, но тут вмешался Смиорган. – А может, тут всего один обитатель? Не об этом ли ты думаешь, Элрик? Существо, Обреченное Жить? Может, эти надписи принадлежат ему?.. Элрик спрятал лицо в ладонях и ничего не ответил. – Идем, – сказал Аван. – У нас нет времени рассуждать о древних легендах. Он пересек зал, прошел через дверной пролет и начал спускаться. Когда он дошел до самого низа, они услышали его удивленный вскрик. Остальные присоединились к нему и увидели, что он стоит на пороге еще одного зала, на полу которого россыпью лежали пластины какого-то металла, тонкого и гибкого, как пергамент. На стенах были тысячи небольших ячеек, располагавшихся рядами, и над каждой был нарисован какой-то знак. – Что это? – спросил Смиорган. Элрик наклонился и подобрал с полу одну из пластинок. На ней были начертаны буквы языка, напоминающие современный мелнибонийский. Кто-то основательно потрудился над надписью, затерев ее до неузнаваемости. – Это бывшая библиотека, – тихо сказал Элрик. – Библиотека моих предков. Кто-то пытался ее уничтожить. Эти надписи, похоже, уничтожить нельзя, но кто-то потратил немало усилий на то, чтобы сделать их нечитаемыми. – Он пнул пластинки ногой. – Наш друг – или наши друзья – последовательный ненавистник просвещения. – Несомненно, – с горечью в голосе сказал Аван. – Трудно себе даже представить научную ценность этих табличек! И все испорчены! Элрик пожал плечами. – Меня не волнует наука – их ценность была велика для меня лично! Смиорган положил руку на плечо друга, но Элрик стряхнул ее. – Я надеялся… Смиорган чуть наклонил свою лысую голову. – Судя по звукам, эти рептилии идут следом за нами в здание. Они услышали отдаленный звук необычных шагов в коридорах, по которым только что прошли. Путешественники, стараясь не шуметь, двинулись по стертым табличкам и оказались в другом коридоре, который резко уходил вверх. Внезапно они увидели дневной свет. Элрик вглядывался вперед. – Судя по всему, коридор впереди разрушен и прохода нет. Крыша обвалилась, но мы сможем выбраться вон через ту дыру. Они вскарабкались по груде камней, опасливо оглядываясь – не появились ли их преследователи. Наконец они оказались на центральной площади города. На дальней ее стороне они увидели ноги гигантской статуи, возвышавшейся над ними своей громадой. Прямо перед ними находились два необычных сооружения, которые, в отличие от других зданий, были абсолютно целыми. Они имели форму многогранных куполов и были воздвигнуты из какого-то стекловидного материала, отражавшего солнечные лучи. За спиной раздались звуки приближающихся рептилий. – Мы укроемся в ближайшем из этих куполов, – сказал Элрик. Он бросился вперед – остальные вбежали за ним через проем неправильной формы у основания куполообразного здания. Оказавшись внутри, они остановились и, прикрывая глаза козырьком ладоней, попытались определить, куда им двигаться дальше. – Похоже на зеркальный лабиринт! – с удивлением сказал Смиорган. – О боги, я не видел ничего прекраснее! Интересно, каково его назначение? Казалось, что коридоры расходятся во всех направлениях, однако, вполне возможно, они были всего лишь отражением того коридора, где находились Элрик и его товарищи. Осторожно Элрик стал пробираться дальше в лабиринт, остальные пятеро – за ним. – Тут явно попахивает колдовством, – пробормотал Смиорган. – Может, нас таким образом заманили в ловушку? Элрик вытащил меч. Тот заворчал чуть ли не раздраженно. Все вдруг сместилось, и очертания его товарищей расплылись. – Смиорган! Герцог Аван! Он услышал какие-то невнятные голоса, но они принадлежали не его друзьям. – Граф Смиорган! Но тут коренастый морской владыка вовсе пропал из виду, и Элрик остался один.Глава шестая Глаза нефритового человека
Он обернулся и увидел красную сверкающую стену, которая ослепила его. Он попытался крикнуть, но его голос превратился в печальный вой, словно кто-то решил подразнить его. Он попытался сделать шаг или несколько, но не мог сказать, то ли он остался на том же месте, то ли прошел дюжину миль. Вдруг он заметил кого-то в нескольких ярдах от себя – нечеткая фигура за прозрачной ширмой из многоцветных драгоценных камней. Он ступил вперед, чтобы отодвинуть ширму, но она исчезла, и он резко остановился. Перед ним предстало лицо, на котором застыло выражение бесконечной печали. И это лицо было его собственным, вот только цвет кожи у этого человека был нормальным, а волосы – черными. – Кто ты? – еле ворочая языком, спросил Элрик. – У меня много имен. Одно из них – Эрекозе. Я был разными людьми. Может быть, я – все человечество. – Но ты похож на меня! – Я и есть ты. – Нет! В глазах призрака, с сожалением смотревших на Элрика, стояли слезы. – Не смей плакать по мне! – с гневом сказал Элрик. – Я обойдусь без твоего сочувствия. – Может быть, я плачу по себе, ведь я знаю нашу судьбу. – И что же это за судьба? – Ты не поймешь. – Скажи мне. – Спроси своих богов. Элрик поднял меч. С яростью в голосе он сказал: – Нет, я заставлю тебя ответить! При этих словах призрак исчез. Элрика пробила дрожь. Перед ним появились тысячи таких призраков. Каждый произносил свое имя, не похожее на других. На каждом были свои неповторимые одеяния. Но у каждого было его лицо, а порою и такой же цвет кожи. – Исчезните! – закричал Элрик. – О боги, что это за место? Повинуясь его крику, они исчезли. – Элрик? Альбинос резко повернулся, держа меч наготове. Но это оказался герцог Аван Астран из Старого Гролмара. Дрожащими пальцами он прикоснулся к своему лицу, но голос его звучал ровно. – Должен тебе сказать, у меня такое чувство, будто я схожу с ума, принц Элрик… – Что ты видел? – Много всего. Не могу описать. – А где Смиорган и остальные? – Наверняка каждый пошел своим путем – как и мы. Элрик поднял Буревестник и со всей силой обрушил клинок на кристаллическую преграду. Черный Меч застонал, и стена поддалась и треснула. Через образовавшуюся щель Элрик увидел обычный дневной свет. – Идем, герцог Аван, здесь можно выйти! Аван, недоумевая, последовал за ним – они вышли из кристаллоподобного здания и оказались на центральной площади Р’лин К’рен А’а. На сей раз здесь было шумно. Двигались кареты и колесницы. На одной стороне были воздвигнуты конюшни. По площади мирно шествовали люди. И никакой Нефритовый человек не возвышался над городом – его на площади просто не было. Элрик взглянул на лица людей. У всех были мелнибонийские черты. Но что-то в них было странное – Элрик не сразу смог определить, что именно. Однако потом он понял – умиротворенность. Он протянул руку и прикоснулся к одному из прохожих. – Скажи мне, друг, какой сейчас год?.. Но человек не услышал его. Он прошел мимо. Элрик попытался остановить и других, но никто не видел и не слышал его. – Какжеониутратилиэтуумиротворенность? – изумленно спросил герцог Аван. – Каким образом они превратились в таких, как ты, принц Элрик? Мелнибониец сердито прервал вилмирца, резко повернувшись к нему: – Тихо! Герцог Аван пожал плечами. – Может быть, это просто иллюзия. – Возможно, – печально ответил Элрик. – Но я уверен – именно так они и жили до пришествия Владык Высших Миров. – Значит, ты во всем винишь богов? – Я виню то отчаяние, которое принесли сюда боги. Герцог Аван мрачно кивнул. – Я тебя понимаю. Он снова повернулся к огромному зданию-кристаллу и остановился, прислушиваясь. – Ты слышишь голос, принц Элрик? Что он говорит? Элрик слышал этот голос. Казалось, он доносится до них из кристалла. Говорил он на древнем языке Мелнибонэ, но с каким-то необычным акцентом. – Сюда, – звал голос. – Сюда! Элрик медлил. – Нет у меня желания возвращаться туда. – У нас есть выбор? – спросил Аван. И оба вошли внутрь. Они снова оказались в лабиринте, который мог быть как одним коридором, так и множеством. Голос здесь звучал отчетливее. – Сделайте два шага вправо, – сказал голос. Аван бросил взгляд на Элрика. – Что он сказал? Элрик перевел. – Послушаемся? – спросил Аван. – Да. – В голосе альбиноса не было и капли покорности. Они сделали два шага вправо. – Теперь четыре налево, – сказал голос. Они сделали четыре шага налево. – Теперь один вперед. Они вышли на разрушенную площадь Р’лин К’рен А’а. Там стояли Смиорган и один из матросов. – Где остальные, – спросил Аван. – Спроси у него, – устало сказал Смиорган, указывая мечом, который он держал в правой руке. Они увидели человека, который был либо альбиносом, либо прокаженным. Он был абсолютно голый и сильно походил на Элрика. Поначалу Элрик решил было, что это еще один призрак, но тут обратил внимание – их лица были вовсе не идентичны. Что-то торчало из бока этого человека между третьим и четвертым ребром. Потрясенный Элрик понял, что это обломанная вилмирская стрела. Нагой человек кивнул. – Да, стрела нашла цель. Но убить меня она не могла. Я Дж’осуи К’релн Реир… – Ты считаешь себя Существом, Обреченным Жить, – пробормотал Элрик. – Я он и есть. – Человек горько улыбнулся. – Или ты думаешь, что я пытаюсь вас обмануть? Элрик взглянул на обломок стрелы, потряс головой. – Значит, тебе десять тысяч лет? – Аван уставился на нагого. – Что он говорит? – спросил Дж’осуи К’релн Реир у Элрика. Элрик перевел. – Неужели только десять тысяч? – Человек вздохнул. Потом он внимательно всмотрелся в лицо Элрика. – Кажется, ты принадлежишь к моей расе? – Похоже. – Из какой ты семьи? – Я из королевского рода. – Значит, я все-таки дождался тебя. Я тоже из этого рода. – Я тебе верю. – Я вижу, за вами охотятся олабы? – Олабы? – Эти первобытные существа с дубинками. – Да, мы встретились с ними, когда поднимались по реке. – Я выведу вас в безопасное место. Идем. Элрик позволил Дж’осуи К’релн Реиру провести их через площадь к тому месту, где все еще стояла часть шаткой стены. Здесь человек поднял каменную плиту и показал им ступеньки, ведущие вниз – в темноту. Они последовали за ним, Осторожно ступая во мраке, а он поставил плиту на место. Они оказались в комнате, освещенной масляными лампадками. В комнате не было ничего, кроме соломенной подстилки. – Ты живешь весьма скромно, – сказал Элрик. – Мне больше ничего не надо. Мне достаточно моих воспоминаний… – А откуда взялись олабы? – Они здесь объявились недавно. Не больше тысячи лет назад, а может и пятисот… Они пришли с верховьев реки, поссорившись с каким-то другим племенем. На остров они обычно не заходят. Наверно, вы убили многих из них, если они не оставляют вас в покое. – Многих. Дж’осуи К’релн Реир сделал жест в сторону остальных путешественников, которые смотрели на него, испытывая некоторую неловкость. – А они? Тоже первобытные? Они не из нашего народа. – Наш народ вымирает. – Что он говорит? – спросил герцог Аван. – Он говорит, что эти воинственные рептилии называются олабами, – сказал ему Элрик. – Глаза Нефритового человека украли олабы? Когда Элрик перевел вопрос Существу, Обреченному Жить, тот удивился: – Так ты ничего не понял? – Не понял чего? – Так ведь вы уже побывали в глазах Нефритового человека! Эти огромные кристаллы, по которым вы бродили, – они и есть его глаза.Глава седьмая Ирония судьбы
Когда Элрик сообщил эти сведения герцогу Авану, тот расхохотался. Он откинул назад голову и принялся весело гоготать, тогда как другие по-прежнему с тревогой поглядывали вокруг. Мрачное выражение, не сходившее с лица герцога в последние дни, внезапно исчезло, и он снова стал таким, каким его впервые увидел Элрик. Улыбнулся и Смиорган. Даже Элрик признал иронию в том, что с ними случилось. – Эти кристаллы упали с его лица, словно слезы, и произошло это вскоре после того, как отсюда удалились Высшие, – продолжил Дж’осуи К’релн Реир. – Значит, Владыки Высших Миров все же приходили сюда? – Да… Нефритовый человек появился здесь, предупредил жителей, и все они ушли, заключив с ним договор. – Так значит, Нефритовый человек был сделан не твоим народом? – Нефритовый человек – это герцог Ада Ариох. В один прекрасный день он пришел сюда из леса, встал на площади и рассказал людям, что должно произойти: мол, наш город лежит на пересечении каких-то особых линий, и Владыки Высших Миров могут встретиться только здесь. – А договор? – За оставленный город наш королевский род получал покровительство Ариоха и в будущем должен был расширить свою власть. Ариох обещал им великое знание и средства для строительства города в другом месте. – И они приняли этот договор без всяких условий? – Выбора у них почти не было, брат. Элрик опустил глаза на пыльный пол. – Вот так и началось их падение, – пробормотал он. – Только я отказался признать эту сделку. Я не хотел покидать город и не доверял Ариоху. Когда все остальные отправились вниз по реке, я остался здесь – где мы сейчас находимся – и слышал, как прибыли Владыки, слышал их переговоры, слышал, как они обговаривали правила, по которым должны будут сражаться Закон и Хаос. Когда они покинули город, я вышел из укрытия. Но Ариох – Нефритовый человек – все еще оставался здесь. Он посмотрел на меня своими кристаллическими глазами и проклял. После этого кристаллы упали туда, где вы их видели. Дух Ариоха удалился, но его нефритовое изображение осталось здесь. – И ты все еще помнишь то, что происходило между Владыками Закона и Хаоса? – Такова моя судьба. – Может быть, она легче судьбы тех, кто покинул город, – тихо сказал Элрик. – Я – последний наследник той злосчастной судьбы… Вид у Дж’осуи К’релн Реира был недоумевающий, потом он заглянул в глаза Элрика, и выражение сочувствия появилось на его лице. – Я не думал, что возможна судьба, которая хуже моей, но теперь я верю в это… Элрик с волнением сказал: – Но ты можешь хоть немного облегчить мою участь. Ты, вероятно, знаешь, что произошло в те дни между Высшими Владыками. Я должен понять природу своего существования, по крайней мере, так, как ты понимаешь свою. Прошу тебя, расскажи мне! Дж’осуи К’релн Реир нахмурился и заглянул в глаза Элрику. – Значит, тебе не до конца известна моя история? – Есть что-то еще? – Я могу только помнить, что произошло между Владыками Высших Миров, но если я пытаюсь передать свои знания или записать их, у меня ничего не получается… Элрик схватил Дж’осуи К’релн Реира за плечо. – Ты должен попытаться! Должен попробовать! – Я знаю, что не могу. Видя муку на лице Элрика, Смиорган подошел к нему. – В чем дело, Элрик? Элрик обхватил руками голову. – Наше путешествие было напрасным. – Он бессознательно произнес это слово на старом мелнибонийском. – Совсем не обязательно, – сказал Дж’осуи К’релн Реир. – По крайней мере, для меня. – Он помедлил. – Скажи мне, как вы нашли этот город. Где карта? Элрик достал карту. – Вот она. – Да, это она самая. Много веков назад я положил ее в шкатулку, которую поместил в небольшой ларец. Я пустил ларец по реке, надеясь, что его прибьет течением туда, где оказался мой народ, и они поймут, что это такое. – Эта шкатулка оказалась в Мелнибонэ, но никто не удосужился открыть ее, – сказал Элрик. – Это дает тебе представление о том, во что превратился народ, покинувший этот город… Странный человек мрачно кивнул. – А печать на карте была? – Была. Она у меня. – Изображение одной из ипостасей Ариоха, запечатленное в маленьком рубине? – Да, мне показалось, что я узнал это изображение, но не мог вспомнить, что оно значит. – Образ в камне, – пробормотал Дж’осуи К’релн Реир. – Он вернулся так, как я и молил об этом: его принес тот, в ком течет королевская кровь! – И каков его смысл? В разговор вмешался Смиорган: – Так он поможет нам бежать отсюда, Элрик? Хорошо бы поскорей… – Не спеши, – сказал альбинос. – Я вам все расскажу чуть позже. – Образ в камне может стать инструментом моего освобождения, – сказало Существо, Обреченное Жить. – Если в том, кто им владеет, течет королевская кровь, то он сможет повелевать Нефритовым человеком. – Но почему ты сам не воспользовался этим камнем? – Из-за наложенного на меня проклятия. Я мог повелевать, но не имел власти вызвать этого демона. Насколько я понимаю, такова была шутка Владык Высших Миров. Элрик увидел горькую тоску в глазах Дж’осуи К’релн Реира. Он посмотрел на его белую обнаженную плоть, белые волосы, на тело, которое было не молодым и не старым, на обломок стрелы, торчащий из его левого бока. – И что я должен сделать? – спросил Элрик. – Ты должен вызвать Ариоха, а потом приказать ему снова вернуться в это тело, вернуть на место глаза, чтобы он мог видеть, и уйти из Р’лин К’рен А’а. – И что будет, когда он уйдет? – Вместе с ними уйдет и проклятие. Элрик задумался. Если он вызовет Ариоха – который, Несомненно, не хочет сюда являться, – а потом заставит его сделать то, что тот не хочет делать, то это могущественное и к тому же непредсказуемое существо вполне может превратиться в его врага. Но, с другой стороны, они здесь в ловушке, в окружении воинственных олабов, и не имеют никаких средств вырваться. Если Нефритовый человек тронется с места, то олабы разбегутся, и Элрик с товарищами сможет вернуться к кораблю и добраться до моря. Он объяснил все это своим спутникам. Этот план не понравился ни Смиоргану, ни Авану, а оставшийся в живых последний член экипажа вообще пребывал в прострации. – Я должен это сделать, – сказал Элрик. – Ради этого Человека. Я должен вызвать Ариоха и снять проклятие, которое лежит на Р’лин К’рен А’а. – Ачтоже тогда будет с нами? – спросил герцог Аван, инстинктивно прикоснувшись к рукояти меча. – Нет, я думаю, мы должны попытать счастья и дать бой олабам. Оставь этого человека – он сошел с ума, он бредит. Пойдем отсюда. – Иди, если ты так решил, – сказал Элрик. – А я остаюсь с Существом, Обреченным Жить. – Это означает, что ты остаешься здесь навсегда. Нельзя же верить в его россказни. – Явнихверю. – Ты должен идти с нами. Твой меч поможет нам победить. Без него олабы нас уничтожат – в этом можно не сомневаться. – Ты уже видел, что Буревестник малоэффективен против олабов. – И все же он действует. Не бросай меня, Элрик! – Я тебя не бросаю. Я должен вызвать Ариоха. Это пойдет вам на пользу, я уж не говорю о себе. – Я не уверен. – Ведь тебе в этом путешествии требовалось мое колдовское искусство. Теперь оно к твоим услугам. Аван подался назад. Казалось, существовало что-то, чего герцог боялся больше, чем олабов, больше, чем призывания демонов. Он словно прочел угрозу на лице альбиноса, угрозу, которой не осознавал даже сам Элрик. – Мы должны выйти наружу, – сказал Дж’осуи К’релн Реир. – Мы должны встать под Нефритовым человеком. – А когда мы покончим с этим, – внезапно спросил Элрик, – как мы выберемся из Р’лин К’рен А’а? – Здесь есть лодка. Провизии на ней, правда, нет, но зато на нее погружена большая часть городских богатств. Она находится в западной оконечности острова. – Хоть какое-то утешение, – сказал Элрик. – А ты сам не мог ею воспользоваться? – Я не в силах покинуть город. – Это часть проклятия, что лежит на тебе? – Да… проклятия моей робости. – Твоя робость держала тебя здесь десять тысяч лет? – Да. Они вышли из помещения на площадь. Настала ночь, и в небесах висела огромная луна. Если смотреть с того места, где находился Элрик, луна образовывала ореол вокруг головы Нефритового человека. Тишина стояла полная. Элрик вытащил из кошелька образ в камне и взял его большим и указательным пальцами левой руки. Правой рукой он вытащил из ножен Буревестник. Аван, Смиорган и вилмирский матрос отошли в сторону. Элрик посмотрел на огромные нефритовые ноги, гениталии, торс, руки, голову, поднял меч и закричал: – АРИОХ! Голос Буревестника почти что заглушил голос Элрика. Меч ожил и завыл, угрожая вырваться из рук хозяина. – АРИОХ! Теперь наблюдавшие за происходящим видели только пульсирующий, светящийся меч, белые руки и лицо альбиноса и его малиновые глаза, сверкающие в темноте. – АРИОХ! И тут до ушей Элрика донесся голос, который не принадлежал Ариоху – казалось, заговорил сам меч. – Элрик… Ариох должен получить кровь и души! Кровь и души, мой повелитель… – Нет. Это мои друзья, а олабам Буревестник не приносит никакого вреда. Ариох должен прийти без крови, без душ. – Только кровь и души могут вызвать Ариоха наверняка! – сказал голос, звучавший теперь отчетливее. В нем слышалась насмешка, и доносился он, казалось, откуда-то из-за спины Элрика. Альбинос повернулся, но там ничего не было. Он увидел взволнованное лицо герцога Авана, и когда остановил на нем взгляд, меч описал круг в воздухе и потащил Элрика в направлении герцога. – Нет! – крикнул Элрик. – Остановись! Но Буревестник не остановился – он пронзил тело герцога и вошел ему глубоко в сердце, утоляя свою жажду. Оставшийся в живых моряк в ужасе смотрел, как умирает его хозяин. Герцог Аван воскликнул в агонии: – Нет! Элрик! Какое предательство!.. Он дернулся: – Прошу тебя… Он затрепетал: – Моя душа… Он умер. Элрик вытащил меч из сердца вилмирца и разрубил надвое моряка, который бросился на помощь своему хозяину. Это Было сделано чисто механически, без раздумий. – Теперь Ариох получил свои кровь и души, – холодно сказал Элрик. – Пусть придет Ариох! Смиорган и Существо, Обреченное Жить, отступили назад, в ужасе глядя на одержимого Элрика. Лицо альбиноса исказила жестокая гримаса. – ПУСТЬ ПРИДЕТ АРИОХ! – Я здесь, Элрик. Элрик повернулся и увидел, что в тени ног статуи кто-то есть – тень в тени. – Ариох, ты должен вернуться в эту статую, чтобы она навсегда покинула Р’лин К’рен А’а. – Я не хочу, Элрик. – Тогда мне придется приказать тебе, герцог Ариох. – Приказать? Приказать мне может лишь тот, кто владеет образом в камне, и только один раз. – Я владею образом в камне. – Элрик вытянул руку с рубином. – Смотри. Тень в тени несколько мгновений шевелилась, словно пришла в гнев. – Если я подчинюсь, то тем самым будет приведена в действие цепочка событий, которые тебе могут не понравиться, – сказал Ариох, переходя на низкий мелнибонийский – Видимо, для того, чтобы придать своим словам еще более мрачную окраску. – Пусть будет, что будет. Я повелеваю: войди в Нефритового человека и вставь назад в глазницы его глаза, чтобы он мог отсюда уйти. И еще я повелеваю: оставь этот город и забери с собой проклятие, наложенное на него Владыками Высших Миров. На это Ариох ответил: – Когда Нефритовый человек перестанет охранять место, где встречаются Высшие, за этот мир начнется великая битва Высших Миров. – Я повелеваю, Ариох: войди в Нефритового человека. – Ты упрям, Элрик. – Ступай! – Элрик поднял Буревестник. Меч запел, словно охваченный чудовищной радостью. В этот миг он казался сильнее самого Ариоха, сильнее всех Владык Высших Миров. Земля заходила под ногами. Вокруг огромной статуи внезапно засверкал огонь. Тень в тени исчезла. И тогда Нефритовый человек наклонился. Его огромное тело перегнулось через Элрика, рука протянулась и нащупала два кристалла, лежащих на земле. Взяв по кристаллу в руку, статуя выпрямилась. Элрик, спотыкаясь, бросился к дальнему углу площади, где уже в страхе приникли к земле Смиорган и Дж’осуи К’релн Реир. Из глаз Нефритового человека вырвался ослепительный свет, нефритовые губы открылись. – Сделано, Элрик! – послышался громогласный голос. Дж’осуи К’релн Реир зарыдал. – А теперь уходи, Ариох. – Я ухожу. Проклятие с Р’лин Крен Аа и Дж’осуи К’релн Реира снято, но за это еще большее проклятие ложится на весь ваш мир. – Какое проклятие, Ариох? Говори яснее! – воскликнул Элрик. – Скоро узнаешь. Прощай! Охромные нефритовые ноги внезапнотронулись с места, за один раз перешагнули через развалины и, круша на своем пути деревья, начали свой путь через джунгли. Через мгновение Нефритовый человек исчез. И тогда Существо, Обреченное Жить, рассмеялось. Странная радость звучала в его голосе. Смиорган зажал уши руками. – А теперь, – закричал Дж’осуи К’релн Реир, – теперь твой клинок должен взять мою жизнь. Наконец-то я могу умереть! Элрик отер рукой лицо. Он едва ли осознавал то, что произошло в последние мгновения. – Нет, – сказал он ошеломленным голосом. – Я не могу… Но тут Буревестник вырвался из его руки, преодолел расстояние между Элриком и Существом, Обреченным Жить, и вонзился в его грудь. Умирая, Дж’осуи К’релн Реир смеялся. Он упал на землю, губы его двигались. С них срывался шепот. Элрик подошел поближе, чтобы слышать. – Теперь в этом мече мое знание. Я сбросил с плеч это бремя. Глаза закрылись. Жизнь Дж’осуи К’релн Реира, продолжавшаяся десять тысяч лет, завершилась. Элрик ослабевшей рукой вытащил меч из груди Дж’осуи К’релн Реира и вложил его в ножны. Он посмотрел на тело Существа, Обреченного Жить, затем – вопросительно – на Смиоргана. Коренастый морской владыка отвернулся. Начался восход. Занялся серый рассвет. Элрик смотрел на тело Дж’осуи К’релн Реира, которое на его глазах превратилось в прах, а налетевший ветер рассеял его, смешав с развалинами города. Элрик пересек площадь, подошел к тому месту, где лежало скорчившееся тело герцога Авана, и упал перед ним на колени. – Герцог Аван Астран из Старого Гролмара, ты получил предупреждение о том, что тех, кто соединяет свою судьбу с Элриком из Мелнибонэ, ждет злая участь. Но ты не поверил. Теперь ты знаешь. Вздохнув, он поднялся на ноги. Смиорган встал рядом с ним. Солнце уже касалось верхушек развалин. Смиорган протянул руку и положил ее на плечо своего друга: – Олабы исчезли. Я так думаю, они тут вволю насмотрелись колдовства – больше не хотят. – Вот и еще один человек погиб от моей руки, Смиорган. Неужели я навечно привязан к этому проклятому мечу? Я Должен найти способ избавиться от него, иначе моя больная совесть так согнет меня, что я уже никогда не смогу распрямиться. Смиорган откашлялся, но ничего не сказал. – Я похороню герцога Авана, – сказал Элрик. – А ты вернись туда, где мы оставили корабль, и скажи команде, что мы возвращаемся. Смиорган зашагал через площадь на запад. Элрик осторожно поднял тело герцога Авана и пересек площадь, направляясь к подземному укрытию, где Существо, Обреченное Жить, обитало десять тысяч лет. Все произошедшее казалось Элрику нереальным, но он знал, что это вовсе не сон: Нефритовый человек исчез, оставив в джунглях свой след из вывороченных и поломанных деревьев. Элрик спустился по ступеням и положил тело герцога на травяную подстилку. Потом он вытащил кинжал герцога Авана и, за неимением чего-либо более подходящего, обмакнул его в кровь герцога и написал на стене над телом: Здесь лежит герцог Аван из Старого Гролмара. Он исследовал мир и привез в свою страну, Вилмир, много знаний и сокровищ. У него была мечта, но он потерялся в мечте другого и оттого умер. Он обогатил Молодые королевства и таким образом породил еще одну мечту. Он умер ради того, чтобы могло умереть Существо, Обреченное Жить, как оно того и желало… Элрик остановился, потом отбросил в сторону кинжал. Он не мог оправдать себя, сочиняя в высоком штиле эпитафию человеку, которого убил. Он постоял, тяжело дыша, потом снова подобрал кинжал: Он умер из-за того, что Элрик из Мелнибонэ желал обрести покой и знание, которых все равно никогда не сможет найти. Он умер от Черного Меча. Наступил полдень. Снаружи, в центре площади, все еще лежало тело вилмирского моряка. Никто не знал его имени. Никто не скорбел по нему, никто не попытался написать ему эпитафию. Мертвый вилмирец погиб не ради каких-то там высоких целей, не ради сказочной мечты. Даже в смерти тело его не исполнит своего назначения. На этом острове нет стервятников. Среди развалин города нет земли, которую оно могло бы удобрить. Элрик вышел на площадь и увидел это мертвое тело. На несколько мгновений оно стало для Элрика символом того, что произошло здесь и что случится позднее. – Жизнь лишена смысла, – пробормотал Элрик. Возможно, его далекие предки в конце концов поняли это, но решили не обращать внимания. Понадобился Нефритовый человек, чтобы они обратили на это внимание, а потом сошли с ума в своих страданиях. Это знание заставило их закрыть Глаза на многое. – Элрик! Это вернулся Смиорган. Элрик посмотрел на него. – Я застал только одного выжившего. Он перед смертью успел мне сообщить, что олабы, прежде чем отправиться за нами, разделались и с кораблем, и с командой. Все убиты. Корабль уничтожен. Элрик вспомнил, что сказало ему Существо, Обреченное Жить. – У нас есть лодка, – сказал он. – Она на западной оконечности острова.Они потратили остаток дня и всю ночь на поиски суденышка Дж’осуи К’релн Реира. Утром, едва рассвело, они дотащили его до воды и внимательно осмотрели. – Надежная посудина – одобрительно сказал граф Смиорган. – Судя по виду, она из того же неизвестного материала, что мы видели в библиотеке Р’лин К’рен А’а. – Он залез в лодку и принялся изучать ее изнутри. Элрик смотрел назад, на город, думая о человеке, который мог бы стать его другом, как граф Смиорган. У него не было друзей, кроме Симорил в Мелнибонэ. Он вздохнул. Смиорган открыл несколько сундучков, которые отыскались в лодке, и ухмыльнулся при виде их содержимого. – Хвала богам, я вернусь в Пурпурные города не с пустыми карманами – мы нашли то, что я искал! Элрик! Сокровища! В конечном счете это путешествие пошло нам на пользу! – Да… – Мысли Элрика были о другом. Он заставил себя вспомнить о делах более практических. – Но драгоценностями сыт не будешь, граф Смиорган, – сказал он. – А путешествие до дома нам предстоит дальнее. – До дома? – Граф Смиорган выпрямил могучую спину, зажав в руке связку ожерелий. – До Мелнибонэ? – В Молодые королевства. Ты, помнится, приглашал меня к себе. – На всю оставшуюся жизнь, если пожелаешь. Ты спас меня от смерти, друг Элрик, а теперь ты помог спасти мою честь. – И эти события ничуть не встревожили тебя? Ты видел, что может сделать мой клинок не только с врагами, но и с друзьями. – Мы в Пурпурных городах не любим предаваться размышлениям о прошлом, – серьезно ответил граф Смиорган. – И мы постоянны в своей дружбе. Тебя, принц Элрик, мучит такая боль, какой я никогда не испытаю и никогда не пойму. Но я уже успел поверить в тебя. Почему я должен изменять своей вере? Мы в Пурпурных городах так не поступаем. – Граф Смиорган почесал свою черную бороду и подмигнул Элрику. – Я видел несколько ящиков с провизией на разбитой шхуне Авана. Мы обогнем остров и заберем их. Элрик попытался стряхнуть с себя дурное настроение, но это было не так-то просто, ведь он убил человека, который верил ему, а разговоры Смиоргана о доверии только усугубляли его чувство вины. Совместными усилиями столкнули они лодку в воду, в которой густо росли водоросли, и Элрик, еще раз обернувшись на молчаливый лес, вздрогнул. Он думал обо всех надеждах, какие возлагал на это путешествие вверх по реке, и проклинал себя за глупость. Он попытался вспомнить, как он оказался в этом месте, но слишком много прошлых событий перемешались с удивительно живописными недавними снами, посещавшими его. Были ли реальными Саксиф Д’Аан и мир голубого солнца? Элрик уже не был в этом уверен. А это место – было оно реальным или нет? Что-то похожее на сон в нем явно присутствовало. Ему казалось, что он проплыл по многим морям судьбы после своего побега из Пикарайда, и обещание покоя в Пурпурных городах влекло его сейчас больше всего. Скоро должно прийти время, когда настанет пора возвращаться к Симорил, в Грезящий город, и Элрик обязан будет решить, готов ли он принять на себя ответственность за Сияющую империю Мелнибонэ. Но прежде он намеревается побыть у своего нового друга Смиоргана и познакомиться с обычаями простого и откровенного народа Мении. Они подняли парус и поплыли по ветру, и Элрик сказал Смиоргану: – Так значит, ты веришь мне, граф Смиорган? Морской владыка был несколько озадачен прямотой этого вопроса. Он почесал бороду. – Да, – сказал он. – Я верю тебе как человеку. Но мы живем в циничные времена, принц Элрик. Даже боги утратили свою чистоту, разве нет? Элрик был озадачен. – Ты думаешь, что я могу однажды предать тебя, как… как я предал здесь Авана? Смиорган покачал головой. – Такие мысли не в моем характере. Ты преданный друг, принц Элрик. Твой цинизм напускной, и в то же время я, пожалуй, еще не встречал человека, который, как ты, столь остро нуждался бы хоть в малой доли цинизма. – Он улыбнулся. – Тебя предал твой меч, разве нет? – Вышел из-под моей власти, ты это имеешь в виду? – Да, в этом-то и состоит усмешка судьбы. Человек может доверять человеку, принц Элрик, но, наверно, мы никогда не будем жить в воистину разумном мире, пока люди не научатся доверять человечеству. И тогда, я думаю, наступит конец всякому колдовству. И тут Элрику показалось, что его рунный меч задрожал у него на боку и слабо застонал, словно слова графа Смиоргана встревожили его. И наконец Элрик повернул стопы к дому, к острову Драконов, намереваясь занять место на своем троне. Но он не учел вероломства своего кузена. До него дошла весть – и об этом будет следующая история, – что принц Йиркун узурпировал власть на острове, погрузил в сон Симорил, а его, Элрика, объявил преступником. Отказавшись от всех своих надежд, Элрик поклялся отомстить кузену и начал планировать действия, которые неминуемо должны были привести к краху всего, что он любил и ценил… Хроника Черного Меча.
Майкл Муркок Грезящий город / The Dreaming City [= Падение Имррира, Гибель Призрачного города, Гибель Имррира]
Моей матери посвящается
ГЛАВА ПЕРВАЯ Волки собираются
— Который час? — Чернобородый человек снял с головы золоченый шлем и отшвырнул его в сторону, нимало не заботясь о том, куда тот упадет. Он стащил с себя кожаные рукавицы и подошел поближе к огню, чтобы согреть продрогшее до костей тело. — Полночь давно прошла, — прорычал в ответ один из людей, сидевших вокруг очага; все они были в доспехах. — Ты уверен, что он придет? — Он же считается человеком слова, если тебе от этого станет легче. Говорил высокий бледнолицый молодой человек. Его тонкие губы словно пережевывали слова, чтобы тут же их злобно выплюнуть. Он ухмылялся волчьей ухмылкой, глядя новоприбывшему прямо в глаза и оThe Dreaming Cityткровенно насмехаясь над ним. Чернобородый пожал плечами и отвернулся. — Как бы ты ни иронизировал, Йарис, но так оно и есть. — Он говорил голосом человека, который хочет успокоить себя самого. Теперь вокруг очага сидели уже шесть человек. Шестым был Смиорган — граф Смиорган Лысый из Пурпурных городов. Это был невысокий коренастый мужчина пятидесяти лет с иссеченным шрамами лицом, местами покрытым густой черной порослью. Его мрачные глаза горели огнем, а толстые пальцы нервно постукивали по богато украшенной рукоятке длинного меча. Голова графа была совершенно лысой, благодаря чему он и получил прозвище. Поверх изысканно украшенных доспехов на нем надет был свободный шерстяной плащ алого цвета. Голос Смиоргана прозвучал низко: — Он терпеть не может своего кузена. И есть за что. Йиркун сидит на Рубиновом троне, а его объявил преступником и предателем. Мы нужны Элрику — без нас ему не вернуть ни трона, ни невесты. Мы можем ему доверять. — Ты сегодня — само доверие, граф. — Йарис улыбнулся желчной улыбкой. — Такое редко встретишь в наши трудные времена. Я вот что скажу… — Он замолчал и набрал в грудь побольше воздуха, обводя взглядом товарищей и пытаясь предугадать их реакцию. Взгляд его на мгновение останавливался на их лицах — от Дхармита из Джаркора до Фадана из Лормира, который, глядя в огонь, сложил трубочкой толстые губы. — Говори, Йарис, — нетерпеливо сказал Наклон, вил-мириец с аристократическим лицом. — Послушаем, что ты хочешь сказать, приятель, если только это стоит слушать. Йарис посмотрел на щеголя Джику, который невежливо зевал и почесывал свой длинный нос. — Ну?! — раздраженно проговорил Смиорган. — Так что ты хочешь сказать? — Я хочу сказать, что мы должны начать прямо сейчас и больше не терять времени, пока Элрик где-то там развлекается. Небось сидит себе теперь в какой-нибудь таверне за сто миль отсюда и посмеивается над нами, а то и того хуже — договаривается с Владыками Драконов, как заманить нас в ловушку. Мы несколько лет планировали этот рейд. У нас мало времени для нанесения удара — наш флот слишком велик, слишком заметен. Да даже если Элрик нас и не предал, шпионы скоро побегут на восток и предупредят драконов, что против них собран мощный флот. У нас две возможности. Либо мы получаем огромные сокровища, завоевав крупнейший торговый порт мира и захватив все его богатства. Либо, если мы будем слишком долго собираться, Владыки Драконов предают нас мучительной смерти. Давайте не будем попусту тратить время и поспешим в путь, прежде чем наш трофей дознается о наших планах и вызовет подкрепление. — Ты всегда был чересчур подозрительным, Йарис, — сказал, неторопливо проговаривая каждое слово, король Наклон из Вилмира. При этом он смерил молодого человека неприязненным взглядом. — Нам не добраться до Имррира без Элрика. Только он один знает лабиринт, ведущий во внутреннюю гавань. Без Элрика все наши усилия обречены на провал. Он нам нужен. Мы должны дождаться его или отказаться от наших планов и отправиться по домам. — Но я готов рискнуть! — выкрикнул Йарис, его раскосые глаза излучали злость. — Вы настоящие старики — все вы. Сокровища не завоевываются осторожностью и осмотрительностью — их захватывают быстрым налетом, молниеносной атакой. — Глупец! — В освещенном огнем помещении загремел голос Дхармита. Он устало рассмеялся. — Я в юности говорил то же самое и в результате потерял флот. Мы сможем победить Имррир лишь с помощью хитрости и знаний Элрика. Ну и конечно, с помощью крупнейшего флота, который когда-либо появлялся в море Драконов с тех времен, когда перед знаменами Мелнибонэ вынуждены были склониться все народы земли. Мы здесь — самые могущественные морские владыки, каждый привел сюда по сотне быстроходных судов. Наших имен страшатся, они известны повсюду, наши флоты опустошают побережья десятков малых стран. Мы обладаем силой! — Дхармит помахал огромным кулаком перед лицом Йариса. Голос его стал более ровным. Он зловеще улыбался, испепеляя Йариса взглядом и стараясь тщательно подбирать слова. — Но все это ничего не стоит, бессмысленно без той силы, которой обладает Элрик. А это сила знания… колдовства, если уж воспользоваться этим проклятым словом. Его отцы знали тайну лабиринта, который защищает Имррир от нападения с моря. И они передали эту тайну ему. Имррир, Грезящий город, он почиет в мире и будет продолжать почивать, если у нас не окажется проводника, который проложит курс через опасные пороги, ведущие в гавань. Нам нужен Элрик — мы знаем это, и Элрик это знает. Такова истина! — Такое доверие, мои господа, греет мне сердце. — В низком голосе, донесшемся от входа в зал, слышалась ирония. Головы шести морских владык повернулись к двери. От самоуверенности Йариса ничего не осталось, когда его глаза встретились с глазами Элрика из Мелнибонэ — глазами старика, глядевшими с молодого, тонко очерченного лица. Йарис вздрогнул и повернулся к Элрику спиной, предпочтя смотреть на ярко пылающий огонь. Элрик тепло улыбнулся, когда граф Смиорган положил руку ему на плечо. Между ними давно установилось что-то наподобие дружбы. Небрежным кивком поприветствовав остальных, Элрик легким шагом подошел к огню. Йарис отступил, пропуская его. _Элрик был высокого роста, узок в талии и широк в плечах. Его длинные волосы были собраны в пучок и заколоты на затылке. По каким-то непонятным причинам он носил одеяния варвара из южных земель — высокие, до колена сапоги из мягкой замши, серебряный нагрудник необычной работы, клетчатая куртка из серо-голубой материи, бриджи из алой шерсти и плащ из шуршащего зеленого бархата. На бедре у него висел Черный Меч, Буревестник, наводящий ужас, меч, выкованный с помощью древнего нечеловеческого колдовства. Его странная одежда выглядела безвкусно и вычурно и никак не отвечала чувственному лицу и чуть ли не женственным рукам с длинными пальцами. Тем не менее Элрик щеголял в своем одеянии, подчеркивая этим тот факт, что он сам по себе и не примыкает ни к какой группировке, что он изгнанник, человек, всем чужой. Хотя на самом деле необходимости носить такую бросающуюся в глаза одежду у него не было — одних глаз Элрика, одного цвета его кожи было достаточно, чтобы выделить его из любой толпы. Элрик, последний правитель Мелнибонэ, был чистым альбиносом, черпавшим силы из тайного и жуткого источника. Смиорган вздохнул. — Так что же, Элрик, когда мы предпримем атаку на Имррир? Эдрик пожал плечами. — Когда хотите. Мне все равно. Мне только нужно немного времени, чтобы завершить свои дела. — Завтра… Как насчет завтра? — неуверенно сказал Йарис, чувствуя странную силу, исходящую от человека, которого он только что обвинил в предательстве. Элрик улыбнулся и ответил отказом. — Через три дня, — сказал он. — Три или больше. — Три дня! Но к тому времени в Имррире станет известно о наших планах! — заговорил толстый осторожный Фадан. — Я сделаю так, чтобы флот не был обнаружен, — пообещал Элрик. — Сначала мне нужно побывать в Имррире и вернуться. — Ты не успеешь за три дня даже на самом быстром корабле, — удивленно произнес Смиорган. — Я прибуду в Грезящий город меньше чем через день, — тихо, но с твердым выражением в голосе сказал Элрик. Смиорган пожал плечами. — Если ты так говоришь, я тебе верю. Но что за необходимость посещать город перед атакой? — Я испытываю некоторые угрызения совести, граф Смиорган. Но можешь не беспокоиться — вас я не предам. Я сам возглавлю наступление — в этом не сомневайтесь. — Мертвенно-бледное лицо Элрика освещалось призрачным светом очага, его красные глаза горели. Тонкая рука императора уверенно покоилась на рукояти рунного меча. Дыхание его словно бы участилось. — Дух Имррира пал пять веков назад, а вскоре настанет и его окончательное падение! Мне нужно вернуть один старый должок. Это единственная причина, по которой я вам помогаю. Вам известны те два условия, которые я поставил: вы должны сровнять город с землей и не причинить никакого вреда одной женщине и одному мужчине. Я имею в виду моего кузена Йиркуна и его сестру Симорил… Тонкие губы Йариса сделались неприятно сухими. Его нетерпеливость объяснялась главным образом ранней потерей отца. Старый морской король умер, оставив юного Йариса владыкой своих земель и флотов. Йарис вовсе не был уверен, что способен управлять таким огромным королевством, какое ему досталось, а потому пытался демонстрировать больше уверенности, чем в нем было на самом деле. — И как же нам спрятать флот, господин Элрик? — спросил он. Мелнибониец выслушал вопрос. — Это я беру на себя, — пообещал он. — Я покину вас в том числе и ради того; чтобы заняться этим вопросом, но все ваши люди сначала должны сойти на берег. Ты проследишь, чтобы это было выполнено, Смиорган? — Да, — сказал коренастый граф. Они с Элриком вместе вышли из зала, оставив пятерых у огня — пятерых, которые в нагретом воздухе зала чувствовали ледяное дыхание судьбы. — Как же он собирается спрятать целый флот, если даже мы, зная этот фиорд как пять своих пальцев, не смогли отыскать укрытия? — недоуменно сказал Дхармит из Джаркора. Никто ему не ответил. Они пребывали в состоянии нервного, напряженного ожидания, огонь в очаге уже не пылал, а вяло горел и скоро погас совсем. Наконец вернулся Смиорган, шумно шагая по дощатому полу. Он принес с собой атмосферу какого-то нестерпимого ужаса — это была почти осязаемая аура. Дыхание графа было тяжелым, и мощные, мучительные судороги сотрясали его тело. — Ну так что, спрятал Элрик флот? Что он там такое сделал? — нетерпеливо спросил Дхармит, сознательно не обращая внимания на тяжелое состояние Смиоргана. — Спрятал. — Больше Смиорган ничего не сказал, и голос его прозвучал слабо, как голос больного, страдающего от жара. Йарис выглянул за порог, пытаясь выяснить, что происходит на берегах фиорда. Но увидел только пламя многих костров. Ни силуэтов кораблей, ни мачт, ни такелажа — ничего этого он не заметил. — Слишком сильный туман, — пробормотал он. — Не могу понять, есть там корабли или нет. — Тут рот его открылся от изумления — из вязкого тумана показалось белое лицо. — Мои приветствия, господин Элрик, — пробормотал он, заметив капельки пота на застывшем в напряжении лице мелнибонийца. Элрик на негнущихся ногах прошел мимо него в зал. — Вина! — потребовал он. — Я сделал то, что обещал, и далось это мне нелегко. Дхармит достал кувшин крепкого кадсандрийского вина и трясущейся рукой налил его в резной деревянный кубок. Не говоря ни слова, он передал кубок Элрику, и тот его в момент осушил. — Я должен поспать, — сказал Элрик, вытягиваясь в кресле и заворачиваясь в зеленый плащ. Он закрыл усталые малиновые глаза и в полном изнеможении погрузился в сон. Фадан поспешил к двери и закрыл ее на тяжелую щеколду. Никто из шестерых толком этой ночью не спал, а утром оказалось, что дверь отперта и Элрик исчез. Выйдя наружу, они оказались в таком густом тумане, что потеряли друг друга из виду, хотя были один от другого не дальше чем в двух-трех футах.Элрик, широко расставив ноги, стоял на гальке узкой береговой полосы. Он смотрел на горловину фиорда, с удовлетворением отмечая, что туман сделался еще гуще, хотя клубился лишь над гладью воды, укрывая многочисленный флот. В других местах воздух был чист, а в небесах светило бледное зимнее солнце, высвечивая черные зубцы скал, что нависали над берегом. Перед ним с унылым однообразием набегали на берег волны, напоминая грудь дышащего морского чудовища, — прозрачные, со стальным отливом, они играли бликами на холодном солнце. Элрик тронул рельефные руны на рукояти своего Черного Меча. Упрямый северный ветер надувал парусом широкие складки его темно-зеленого плаща, и плащ полоскался на его высокой гибкой фигуре. Альбинос чувствовал себя лучше, чем минувшей ночью, когда он потратил все свои силы, вызывая туман. Элрик был неплохо искушен в искусстве практической магии, но у него не было того резерва энергии, каким владели императоры-чародеи Мелнибонэ, когда правили миром. Его предки передали ему свои знания, но не свою необыкновенную жизненную силу, и он не мог воспользоваться многими из чар и секретов, которыми владел, поскольку не имел запасов сил, ни душевных, ни телесных, необходимых для воплощения этих чар и секретов в жизнь. И при этом Элрику был известен еще только один мелнибониец, который мог сравниться с ним в колдовских познаниях, — его кузен Йиркун. Пальцы Элрика крепче сжали рукоять меча, когда он вспомнил о своем кузене, который дважды предал его. Но Элрик заставил себя сосредоточиться на своей первостепенной задаче — заклинаниях, способных помочь ему в его путешествии на остров Драконов, единственный город которого, Имррир Прекрасный, был целью нападения морских владык. К берегу была причалена небольшая лодчонка Элрика — суденышко надежное и гораздо более прочное, чем это могло показаться на первый взгляд. Затаившееся море с отливом оставляло вокруг клочья морской пены, и Элрик, глядя на эту картину, понял, что у него почти не осталось времени, чтобы прибегнуть к задуманному колдовству. Тело его напряглось, он выкинул все посторонние мысли из головы, вызывая сокровенные знания из темных глубин души. Тело его раскачивалось, взор был устремлен вперед, но глаза ничего не видели, вытянутые руки подергивались, рисуя в воздухе нечестивые символы; он начал говорить свистящими звуками, речь его лилась монотонно. Постепенно высота его голоса нарастала, напоминая едва слышимые порывы далекого штормового ветра по мере их приближения. Внезапно голос резко взмыл вверх, и небеса услышали вой, а воздух начал дрожать и колебаться. Стали вырисовываться неясные очертания, которые все время двигались, метались вокруг тела Элрика, и тот неуверенно двинулся в направлении лодки. В голосе его уже не было ничего человеческого, он превратился в безостановочный вой, призывание элементалей воздуха — сильфов бризов, шарнахов, живущих в бурях, х'Хааршанов, созданий ураганов; смутные и бесформенные, они крутились вокруг Элрика, отвечая на его призыв о помощи, произнесенный словами его праотцов, которые много веков назад заключили немыслимый договор с элементалями, дабы заручиться их поддержкой. Все также неуверенно, на негнущихся ногах Элрик вошел в лодку, и его руки автоматически подняли парус и закрепили его. Вдруг из спокойного моря появилась огромная волна — она поднималась все выше и выше и наконец нависла над суденышком. Огромным валом вода обрушилась на лодку, подхватила ее и понесла в море. Элрик, сидевший с невидящим взором на корме, продолжал страшное заунывное пение, а духи ветров надували паруса и несли лодку все скорее и скорее, как не может двигаться ни один корабль смертных. И все это время воздух вокруг лодки полнился оглушающими жуткими визгами освобожденных элементалей, потом берег исчез за горизонтом, и теперь с лодки можно было увидеть только бескрайнее море.
ГЛАВА ВТОРАЯ Старые друзья, древние союзники
Так, сопровождаемый демонами ветра, Элрик, последний из королевского рода властителей Мелнибонэ, возвращался в последний город, в котором все еще правил его народ, — последний город и последний пережиток мелнибонийской архитектуры. Облачно-розовые и светло-желтые оттенки ближних башен появились на горизонте через несколько часов после того, как Элрик покинул устье фиорда. Перед самым берегом острова Драконов элементали оставили лодку и вернулись в свои тайные обиталища среди высочайших вершин мира. Лишь теперь Элрик вышел из транса и свежим взглядом окинул издалека свой родной город — увидел красоту его грациозных башен, все еще защищенных со стороны моря устрашающей стеной с огромными вратами, лабиринтом с пятью входами, состоящим из множества пересекающихся каналов, из которых только один вел во внутреннюю гавань Имррира. Элрик знал, что не рискнет войти в гавань по лабиринту, хотя маршрут этот был известен ему как никому другому. Вместо этого он решил высадиться на лодке чуть дальше по берегу в небольшой бухте, известной ему с давних пор. Уверенной, умелой рукой направил он маленькое суденышко в тайную бухту, скрытую зарослями кустарника, плодоносящего жуткого вида синими ягодами, ядовитыми для людей: на всякого, их отведавшего, сперва нападала слепота, а потом постепенно человеком овладевало безумие. Эта ягода, называвшаяся нойдель, росла только на Мелнибонэ, как и некоторые другие редкие и смертельно опасные растения. Легкие низкие облачка медленно катились по раскрашенному солнцем небу, подобно лоскуткам паутины, подхваченным нежданным порывом ветра. Казалось, весь мир разрисован в синий, золотой, зеленый и белый цвета, и Элрик, затаскивая свою лодку на берег, вдыхал чистый, свежий зимний воздух и наслаждался запахами прелой листвы и гниющего подлеска. Где-то затявкала лисица, благодарная своему самцу, и Элрик вдруг пожалел о том, что его вымирающий народ больше не умеет наслаждаться красотой природы, предпочитая держаться поближе к городу и проводить большую часть жизни в грезах, вызванных различными снадобьями. Грезил вовсе не город — грезили его чересчур цивилизованные обитатели. Элрик, вдыхая сочные, чистые запахи зимы, радовался тому, что, невзирая на свое наследное право, он не властвует в городе, как то надлежит ему по рождению. Вместо этого его кузен Йиркун восседает на Рубиновом троне Имррира Прекрасного, питая лютую ненависть к Элрику, потому что знает, что альбинос, невзирая на всю свою неприязнь к коронам и прочим атрибутам власти, остается истинным правителем острова Драконов, а он, Йиркун, является узурпатором, ибо Элрик не ставил его на власть, как того требуют мелнибонийские традиции. Но у Элрика было куда как больше причин ненавидеть кузена. И именно по этим причинам древняя столица должна была пасть во всем своем пышном великолепии, и тогда розовые, желтые, алые и белые башни рухнут, и последний осколок когда-то славной империи будет предан забвению… если Элрик добьется своего, а морским владыкам будет сопутствовать успех. Элрик отправился в Имррир пешком; позади оставались мили пути, поросшего мягкой травой, солнце окутывало землю охристой дымкой, а потом скатилось за горизонт, уступив место темной, безлунной ночи, зловещей и чреватой всевозможными дурными предзнаменованиями. Наконец он добрался до города. Имррир выделялся резкими черными контурами, город фантастического великолепия как по замыслу, так и по исполнению. Это \ был старейший из городов мира, построенный художниками и замысленный как произведение искусства, а не просто место для проживания; но Элрик знал, что на многих узеньких улочках царит нищета, в то время как по воле властителей Имррира многие башни пусты и необитаемы и городская чернь никогда в них не будет допущена. Истинных Владык Драконов, тех, кто мог похвалиться чистой мелнибонийской кровью, оставалось совсем немного. Город естественным образом вписывался в местность, на которой располагался, повторяя ее рельеф; его петляющие улицы поднимались до вершины горы, где стоял замок — высокий, горделивый, с множеством шпилей, этот великолепный, непревзойденный шедевр древнего художника, построившего его, чье имя давно забыто. Но Имррир Прекрасный не издавал ни одного звука, от него исходило только ощущение какого-то убаюкивающего упадка. Город спал — Владыки Драконов, их жены, их рабы для особого рода утех спали, приняв свои снадобья, и видели сонные грезы, полные величия и неописуемого ужаса, тогда как простые жители, подчиняясь комендантскому часу, ворочались на тощих тюфяках и пытались не спать вообще. Элрик, как всегда держа руку поближе к рукояти меча, прошел через неохраняемые ворота за городскую стену и направился по неосвещенным петляющим улочкам вверх к дворцу Йиркуна. В пустых помещениях башен вздыхал ветер. Элрику иногда приходилось прятаться в темных проулках, если слышался звук шагов — это проходил наряд стражников, чьей обязанностью было обеспечение комендантского часа. Нередко до Элрика доносился чей-то безумный смех из какой-нибудь башни, освещенной яркими факелами, отбрасывающими на стены странные, жутковатые тени. Случалось, до него долетал безумный, душераздирающий крик — это умирал в бесстыдной агонии какой-нибудь несчастный раб, ублажая своего хозяина. Элрика не ужасали ни эти звуки, ни мрачные картины, открывающиеся его глазам. Он наслаждался ими. Он все еще был мелнибонийцем, законным властителем всех этих людей (если только он пожелал бы восстановить над ними свою королевскую власть), и хотя он и испытывал подспудное желание скитаться по земле и предаваться менее изощренным наслаждениям внешнего мира, десять тысяч лет жестокой, блестящей, агрессивно-злобной культуры цепко держали Элрика, а в больных венах императора Мелнибонэ пульсировала кровь его предков.Элрик нетерпеливо постучал в тяжелую дверь черного дерева. Он уже добрался до дворца и теперь, опасливо оглядываясь (он знал, что Йиркун отдал приказ стражникам убить его, Элрика, если он объявится в Имррире), стоял у малого заднего входа. С другой стороны послышался скрежет щеколды, и дверь бесшумно открылась внутрь. Элрик увидел худое, в шрамах лицо. — Это король? — прошептал человек, вглядываясь в ночь. Задавший вопрос был высоким, очень худым, с длинными искривленными конечностями; он подошел ближе — каждое движение давалось ему с трудом — и, напрягая свои глаза-бусинки, вгляделся в Элрика. — Это принц Элрик, — сказал альбинос. — Но ты, мой друг Скрюченный, забыл, что новый король восседает на Рубиновом троне. Скрюченный покачал головой, и его редкие волосы упали ему на лицо. Дергающимися движениями он забросил их пятерней назад и отошел в сторону, пропуская Элрика. — На острове Драконов всего один король, и его зовут Элрик, какие бы узурпаторы ни восседали на троне. Элрик пропустил мимо ушей это заявление, однако улыбнулся едва заметной улыбкой, дожидаясь, когда Скрюченный закроет дверь на щеколду. — Она все еще спит, мой господин, — пробормотал старик, когда они начали подниматься по неосвещенной лестнице — Скрюченный впереди, Элрик сзади. — Я это предчувствовал, — сказал Элрик. — Я нисколько не занижаю колдовских способностей моего милого кузена. Двое поднимались в тишине по лестнице и оказались наконец в коридоре, освещенном пляшущим пламенем факела. Огонь отражался в мраморе стены, и Элрик, притаившийся со Скрюченным за колонной, увидел, что перед интересующим его помещением стоит коренастый лучник (по виду евнух), бдительно несущий охрану. Стражник был лыс и толст, сине-черные сверкающие доспехи плотно сидели на его теле, а пальцы натягивали тетиву короткого костяного лука с установленной на ложе тонкой стрелой. Элрик понял, что это один из знаменитых лучников-евнухов, входящих в Безмолвную стражу, лучший отряд воинов Имррира. Скрюченный, который обучал Элрика искусству фехтования и стрельбы из лука, знал о том, что здесь находится стражник, и приготовился к этому. Он заранее спрятал лук за колонной. Безмолвно взяв лук, он согнул его о колено и надел тетиву. Вставив стрелу, он прицелился в правый глаз лучника и выстрелил в тот момент, когда лучник повернулся к нему лицом. Стрела не попала в цель — она ударилась в латный воротник и, не причинив воину вреда, упала на выстланный тростником пол. И тут в дело незамедлительно вступил Элрик. Он прыгнул, выставив перед собой рунный меч, неземная сила тут же хлынула в Элрика. Меч завыл, сверкнув своей черной сталью, и отбил костяной лук, которым евнух надеялся отразить удар. Стражник тяжело дышал, его толстые губы были влажны, он набрал в грудь воздуха, чтобы закричать. Когда он открыл рот, Элрик увидел то, что и ожидал: у воина не было языка. Немой лучник вытащил свой короткий меч и сумел парировать следующий удар Элрика. Этот удар высек искры из стали, и Буревестник врезался в тонкий клинок евнуха. Стражник пошатнулся и упал на спину под напором Черного Меча, жившего вроде бы своей собственной жизнью. Звон металла громко разнесся по небольшому коридору, и Элрик проклял судьбу, которая в самый опасный момент подсунула ему это препятствие. Он молча и с мрачным видом сломил сопротивление стражника. Евнух лишь мельком увидел лицо своего противника за черным неугомонным мечом, который казался таким легким и в два раза превосходил длиной его собственный короткий клинок. Мысли евнуха метались, он пытался сообразить, с кем имеет дело, и ему даже показалось, что он узнал это лицо. Но тут алый всплеск застил ему глаза, его лицо словно обожгло, и он с философской обреченностью (ведь евнухам свойствен определенный фатализм) понял, что умирает. Элрик встал над распростертым телом евнуха, извлек меч из черепа и отер его от крови и мозгов о плащ поверженного противника. Скрюченный благоразумно исчез. Элрик слышал стук сандалий по лестничным ступеням. Он толкнул дверь и вошел в комнату, освещенную двумя свечами, стоящими по обе стороны широкой, богато убранной кровати. Он подошел к кровати и посмотрел на лежащую на ней черноволосую девушку. Губы Элрика скривились, его необычные, малинового цвета глаза наполнились слезами. Его пробрала дрожь; он вложил в ножны меч, повернулся к двери и закрыл ее щеколдой, потом вернулся к ложу и встал на колени перед спящей девушкой. Она была похожа на Элрика, но ее такие же, как у него, тонкие черты обладали к тому же некой изысканной красотой. Ее сон был вызван не естественной усталостью, а злобным колдовством собственного брата, и дыхание ее было поверхностным. Элрик нежно взял тонкую руку девушки в свою, приложил к губам и поцеловал. — Симорил, — произнес он, и в этом имени прозвучала мучительная тоска. — Симорил, проснись. Девушка не шевельнулась, ее дыхание было по-прежнему поверхностным, а глаза оставались закрытыми. Гримаса отчаяния исказила белое лицо Элрика, его малиновые глаза пылали, а тело сотрясалось в ужасном и непреодолимом гневе. Он сжал руку девушки — вялую и безжизненную, как у мертвеца; он сжимал ее все сильнее, но потом разжал хватку, опасаясь, что может сломать хрупкие пальцы. Потом он услышал крики воина и удары в дверь. Элрик вернул руку на грудь девушки и поднялся на ноги. Он недоумевающим взглядом посмотрел на дверь. Крик воина был прерван более резким холодным голосом: — Что тут происходит? Неужели кто-то пытался пробраться в комнату моей спящей сестры? — Йиркун, адское отродье, — прошептал Элрик. Вслед за сбивчивым бормотанием воина послышался громкий голос Йиркуна, прокричавшего сквозь закрытую дверь: — Кто бы ты ни был, когда тебя схватят, ты будешь уничтожен тысячу раз. Тебе некуда бежать. Если ты причинишь хоть малейший вред моей милой сестре, то ты не умрешь никогда, это я тебе обещаю. Но ты будешь вечно молить богов о собственной смерти! — Йиркун, ты жалкий хвастун! Как ты можешь угрожать тому, кто равен тебе в темных искусствах?! Это говорю я, Элрик, твой законный повелитель. Возвращайся в свою крысиную нору, пока я не вызвал все злые силы над землей, на земле и под землей, чтобы уничтожить тебя! Йиркун неуверенно рассмеялся. — Значит, ты вернулся, чтобы еще раз попытаться разбудить мою сестру. Любая такая попытка не только убьет ее, а отправит ее душу в самые пучины ада, где ты сможешь легко к ней присоединиться. — Клянусь шестью зверями Арнары, это ты скоро будешь умирать тысячью смертей. — Ну, хватит этой болтовни, — повысил голос Йиркун. — Воины, я приказываю выломать дверь и взять этого предателя живым. Есть две вещи, Элрик, которыми ты больше никогда не будешь владеть, — любовью моей сестры и Рубиновым троном. Можешь как угодно распорядиться тем немногим временем, что тебе осталось, потому что скоро ты будешь пресмыкаться передо мной и молить, чтобы я освободил тебя от агонии твоей души. Элрик пропустил мимо ушей угрозы Йиркуна — он смотрел на узкое окно комнаты. Через него едва могло протиснуться человеческое тело. Он наклонился и поцеловал Симорил в губы, потом подошел к двери и бесшумно отодвинул щеколду. Послышался грохот — воин всем телом навалился на дверь. Дверь распахнулась, человек ввалился в комнату и распростерся на полу лицом вниз. Элрик вытащил меч, поднял его повыше и отсек воину голову, которая покатилась по полу. И тогда Элрик громко закричал низким с переливами голосом: — Лриох! Лриох! Я даю тебе кровь и души, только помоги мне теперь! Я отдаю тебе эту душу, о могущественнейший из Герцогов Ада — помоги же своему слуге, Элрику из Мелнибонэ! Трое воинов ввалились в комнату. Элрик снес полголовы одному, тот издал страшный крик. — Ариох, Владыка Тьмы, я даю тебе кровь и души, помоги мне, король зла! В дальнем углу темной комнаты начал медленно формироваться черный туман, однако воины наступали, и Элрику с трудом удавалось сдерживать их. Он без конца выкрикивал имя Ариоха, Владыки Высшего Ада, делая это чуть ли не бессознательно, отбиваясь от превосходящего числа воинов. За ними бесился Йиркун, с пеной у рта приказывая своим людям взять Элрика живым. Это давало Элрику небольшое преимущество. Рунный меч сверкал странным черным светом, и его леденящий душу вой терзал уши тех, кто слышал его. Еще два тела упали на застеленный ковром пол, и их кровь впиталась в роскошную ткань ковра. — Кровь и души для моего повелителя Ариоха! Черный туман стал клубиться и принимать очертания. Элрик бросил взгляд в угол, и, хотя и был закален зрелищами ужасов ада, его пробрала дрожь. Наступавшие воины сражались спиной к тому углу, а Элрик находился у окна. Аморфная масса, являвшая собой далеко не самое приятное для глаза проявление изменчивого бога, покровительствовавшего Элрику, снова принялась дыбиться, и Элрик различил невыносимо ужасную форму. Желчь хлынула ему в рот, и он, выводя воинов лицом на это чудовище, зловеще продвигающееся вперед, боролся с безумием, которое овладевало им. Внезапно воины, казалось, поняли, что за ними что-то есть. Они повернулись, и все четверо издали безумный крик, а черный ужас, сделав последний бросок, поглотил их. Ариох нагнулся над ними, выпивая их души. Потом их кости начали слабеть и трескаться, и воины, не прекращая звериного крика, распростерлись на полу, словно какие-то омерзительные беспозвоночные. Но хотя их хребты были переломаны, они продолжали жить. Элрик отвернулся, поблагодарив провидение, что Симорил спит и не видит этого, и запрыгнул на подоконник. Он посмотрел вниз, и отчаяние охватило его — через окно бежать было невозможно. От земли его отделяли несколько сотен футов. Он ринулся к двери, — где Йиркун с расширившимися от ужаса глазами пытался изгнать Ариоха, чей образ уже начал терять очертания. Элрик, бросив прощальный взгляд на Симорил, проскочил мимо кузена и пустился назад тем путем, которым пришел, ноги его поскальзывались на крови. Скрюченный встретил его у начала темной лестницы. — Что случилось, король Элрик? Что там происходит? Элрик ухватил Скрюченного за тощее плечо и направил вниз по лестнице. — Нет времени, — тяжело дыша, проговорил он. — Мы должны поспешить, пока Йиркун занят своей насущной проблемой. Через пять дней у Имррира начнется новый период его истории, возможно — последний. Я хочу, чтобы ты позаботился о Симорил. Она должна быть в безопасности. Ты понял? — Понял, мой господин, но… Они оказались у двери, и Скрюченный отодвинул щеколду. — У меня нет времени на подробности. Я должен бежать,пока есть возможность. Я вернусь через пять дней… с товарищами. Когда придет время, ты поймешь, что я имею в виду. Отнеси Симорил в башню Д'а'рпутны и жди меня там. Сказав это, Элрик неслышно исчез в ночи, а вопли умирающих все еще звучали во мраке у него за спиной.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ О мести, предательстве и вине
Элрик молча стоял на носу флагманского корабля графа Смиоргана. После своего возвращения в фиорд и последующего выхода флота в открытое море Элрик не произносил иных слов, кроме слов команды, да и те давал самые короткие. Морские владыки поговаривали между собой, что его одолевает великая ненависть, что она терзает его душу и в таком состоянии он становится опасен, независимо от того, друг он тебе или враг. Даже граф Смиорган избегал подверженного переменчивым настроениям альбиноса. Флотилия взяла курс на восток, и море было черным-черно от множества легких кораблей, раскачивающихся на воде, — они были похожи на какую-то огромную морскую птицу, распростершую на волнах свои крылья. Около пятисот боевых кораблей вышли в путь; у всех них была почти одна и та же форма — продолговатая и узкая, и созданы они были скорее для быстрого плавания, чем для боя, поскольку предназначались для налетов на прибрежные поселения и для торговли. Бледное солнце высветило паруса, изготовленные из нового, яркого материала, — оранжевые, синие, черные, алые, красные, желтые, светло-зеленые или белые. На каждом корабле находилось по шестнадцать или больше гребцов, а каждый гребец был к тому же и воином. Команды также состояли из воинов, которые собирались участвовать в атаке на Имррир, — люди имели по нескольку обязанностей, поскольку морские народы были малочисленны и ежегодно теряли в своих регулярных морских рейдах сотни жизней. В середине этого огромного флота расположились более крупные суда. На них находились тяжелые катапульты, предназначавшие для штурма стены Имррира, защищавшей город со стороны моря. Граф Смиорган и другие морские владыки с гордостью взирали на свои корабли, но Элрик смотрел только вперед; он не смыкал глаз, по его белому лицу хлестали соленые брызги и ветер, а его пальцы обнимали рукоять меча. Корабли целеустремленно двигались на восток в направлении острова Драконов и его фантастических богатств — или адского ужаса. Они неумолимо, движимые судьбой, продвигались все дальше и дальше, их весла работали в унисон, их паруса наполнялись попутным ветром. Они плыли все дальше и дальше, к Имрриру Прекрасному, чтобы ограбить и разорить старейший из городов мира. Через два дня после того, как флот поставил паруса, на горизонте появился берег острова Драконов, и плески весел сменились бряцанием оружия — огромный флот приближался к городу и готовился совершить то, что разумные люди считали невозможным. С корабля на корабль передавались приказы, и флот начал строиться в боевой порядок. Потом весла заскрипели в уключинах, и флот с уложенными парусами продолжил свое неумолимое движение. День стоял ясный, прохладный и свежий, и среди всех участвующих в походе — от морских владык до последнего моряка — царило напряженное воодушевление, все они погрузились в мысли о ближайшем будущем и о том, что оно им сулит. Ростры кораблей смотрели на огромную каменную стену, которая блокировала первый вход в гавань. Высота стены составляла почти сотню футов, и венчали ее башни, но не ажурные, как те, что мерцали вдали над городом, а мощные, боевые. Через большие ворота в середине стены дозволялось проходить только кораблям Имррира, а тайна прохода в лабиринте (даже самого входа в него) держалась в строжайшей тайне. Теперь по этой стене, высящейся перед флотом, приведенные в замешательство стражники неслись на свои посты. Угроза атаки им казалась совершенно немыслимой, и тем не менее огромный флот — такой огромный, каких страже и видеть-то не доводилось, — подошел к стенам Имррира Прекрасного! Они заняли свои посты, ветер играл их желтыми плащами и юбками, бряцали их бронзовые доспехи, но, растерянные, они двигались с неохотой, словно отказываясь признать то, что открылось их взглядам. И свои посты они заняли с какой-то отчаянной обреченностью, чувствуя, что, даже если вражеские корабли никогда не достигнут лабиринта, они, защитники этой стены, никогда не увидят поражения атакующих. Дивим Таркан, командир стражи, был человеком чувственным, любившим жизнь и ее удовольствия. Он был сноб и красавец с тонкой бородкой и крохотными усиками. В бронзовых доспехах и высоком шлеме с оперением выглядел командир превосходно. Он вовсе не хотел умирать. С отработанной четкостью он прокричал лаконичные слова приказа своим людям, и те подчинились. Дивим Таркан озабоченно прислушивался к далеким крикам на кораблях и спрашивал себя, какой первый ход сделают нападающие. Долго ждать ответа ему не пришлось. Катапульта на одном из кораблей авангарда гортанно зазвенела, и ее метательный рычаг пришел в движение, выстрелив огромным камнем, который со всем возможным изяществом лениво полетел к стене. Не долетев до цели, он плюхнулся в воду, которая тут же бурунами ударила о камни стены. Сглотнув слюну и всеми силами стараясь скрыть дрожь в руках, Дивим Таркан приказал произвести выстрел собственной катапультой. Когда с глухим ударом перерубили спускной канат, в направлении вражеского флота полетело зажигательное ядро. Корабли располагались так близко друг к другу, что ядро не могло не попасть в цель — оно упало на палубу флагманского корабля Дхармита из Джаркора и проломило ее. Не прошло и нескольких мгновений, как корабль под крики искалеченных и тонущих моряков затонул, а с ним погиб и Дхармит. Некоторые члены команды были подняты на другие корабли, но раненых оставили тонуть. Прогремел выстрел еще одной катапульты, и теперь снаряд попал точно в цель — в башню, полную лучников. Каменная кладка разрушилась, и те, кто остался жив, с криками попадали вниз, чтобы погибнуть в пенящейся воде, бьющей о стену. Теперь имррирские лучники, раздосадованные гибелью своих товарищей, натянули тетивы и обрушили тучу стрел на врага. Нападающие, в чьи тела жадно вонзались оснащенные красным оперением стрелы, кричали от боли. Но они тоже ответили градом стрел, и вскоре на стене осталась только горстка защитников — новые пущенные из катапульт снаряды поражали башни и людей, уничтожили единственную катапульту, а вместе с ней разрушили часть стены. Дивим Таркан был все еще жив, хотя его желтый плащ и пропитала красная кровь, а из левого плеча торчал обломок стрелы. Он был все еще жив, когда первый корабль-таран неумолимо надвинулся на ворота и, ударив по створкам, ослабил их. К первому присоединился второй, и совместными усилиями они пробили ворота и вошли внутрь. Впервые не мелнибонийский корабль смог это сделать. Наверное, Дивима Таркана обуял ужас из-за того, что древний запрет был нарушен, и он, потеряв равновесие, свалился вниз и сломал шею о палубу флагманского корабля графа Смиоргана, торжествующе проплывавшего сквозь разбитые ворота. Тараны расчистили путь для корабля графа Смиоргана, где находился Элрик, который должен был провести флот по лабиринту. Перед ними виднелись пять высоких входов, похожих на пять одинаковых зияющих пастей. Элрик указал на средний, и гребцы короткими ударами весел направили корабль к нему. Некоторое время они плыли в темноте. — Огни! — крикнул Элрик. — Зажечь огни! Факелы были заготовлены заранее, и теперь их подожгли. Нападающие увидели, что находятся в огромном туннеле, прорубленном в естественной скале и имеющем многочисленные ответвления. — Сблизиться! — приказал Элрик, и его голос в десятки раз усилился эхом. Сверкало пламя факелов, и лицо Элрика представляло собой маску теней и пляшущих отблесков — длинные языки пламени от факелов рвались чуть ли не к мрачным сводам туннеля. Элрик слышал, как моряки за его спиной перешептываются, преисполнившись трепета перед увиденным. В лабиринт входили все новые и новые суда, загорались новые факелы, и Элрик видел, как дергалось пламя в дрожащих руках тех, кого в этом туннеле пробрал суеверный страх. Элрик смотрел на все эти пляшущие тени, и ему стало не по себе; его глаза лихорадочно блестели, когда в них отражался свет факелов. С жуткой регулярностью повторялся плеск, который производили весла; корабли продвигались вперед, и теперь туннель стал шире, взорам нападавших предстало еще несколько вырубленных в скалах коридоров. — Средний вход! — скомандовал Элрик. Рулевой кивнул и направил корабль туда, куда указал Элрик. Если не считать приглушенного шепота моряков и плеска весел, в туннеле висела зловещая тишина. Элрик смотрел вниз, на холодную, темную воду, и его пробирала дрожь. Наконец они снова оказались под открытым небом, и моряки, глядя вперед, дивились огромным стенам над ними. На этих стенах стояли лучники в желтых плащах и доспехах из бронзы, и, когда корабль графа Смиоргана вышел из черного туннеля на морозный воздух со все еще горящими факелами, в узкий проход посыпались стрелы, впиваясь в тела моряков. — Быстрее! — крикнул Элрик. — Гребите быстрее! Теперь наше единственное оружие — скорость. Гребцы налегли на весла, выкладываясь изо всех сил, и корабли стали прибавлять скорость, хотя имррирские стрелы и продолжали собирать с идущих на приступ тяжелую дань. Теперь канал с высокими стенами шел только прямо, и Элрик уже видел впереди пристани Имррира. — Быстрее! Быстрее! Добыча уже близко! И вот внезапно стены остались позади, и корабль оказался в тихой воде гавани, направляясь прямо на воинов, расположившихся впереди на пристани. Элрик отдал приказ остановиться и дождаться подкрепления из канала. Когда к гавани подтянулись еще два десятка кораблей, Элрик отдал команду высаживаться, и Буревестник запел в его ножнах. Флагманский корабль врезался в пристань, и его встретила туча стрел. Они свистели вокруг, но чудесным образом ни одна из них не коснулась Элрика, когда он повел свой отряд на берег. Дорогу им преградили выступившие вперед вооруженные топорами имррирцы, но сразу было видно, что их боевой дух подавлен, и скоро они оказались рассеяны. Черный Меч Элрика с неимоверной силой обрушился на первого из воинов, вооруженных топорами, и отсек ему голову. Вновь отведав крови, меч демонически завыл и начал выворачиваться из рук Элрика в поисках новой живой плоти. Элрик рубил мечом направо и налево, и на его бесцветных губах гуляла жестокая, мрачная улыбка, а глаза сузились. В его намерения входило предоставить поле боя тем, кого он привел, потому что у него были другие дела, которые требовали его срочного участия. За одетыми в желтое воинами высились башни Имррира, прекрасные благодаря своим мягкие, искрящимся краскам — кораллово-розовым, словно припорошенным синевой, золотистым и бледно-желтым, белым и с зеленоватым отливом. Одна из таких башен и была теперь его целью — башня Д'а'рпутны, куда он приказал Скрюченному доставить Симорил, зная, что, когда поднимется паника, попасть туда будет практически возможно. Элрик прорубал кровавый коридор, если кто-то оказывался на его пути, и воины падали с жуткими криками, когда рунный меч выпивал их души. Но вот Элрик вырвался из этого круга, предоставив имррирских воинов мечам воинов с кораблей, которые уже наводнили пристань, и бросился вверх по извилистым улочкам. Его меч убивал по пути всех, кто пытался его остановить. Сейчас он был похож на белолицего упыря — одежда порвана, вся в крови, доспехи поцарапаны и помяты. Элрик несся по вымощенным камнями петляющим улицам и наконец оказался перед высокой башней мутно-синего и золотистого цветов — башней Д'а'рпутны. Ее открытая дверь говорила о том, что внутри кто-то есть, и Элрик бросился через дверной проем в большое помещение первого этажа. Никто его там не встретил. — Скрюченный! — закричал он, и его голос оглушил даже его самого. — Скрюченный, ты здесь? Он огромными прыжками понесся вверх по лестнице, выкрикивая имя своего слуги. На третьем этаже он внезапно остановился, услышав низкий стон из одной комнаты. — Скрюченный, это ты? Элрик бросился в эту комнату, услышав из нее сдавленное дыхание. Он распахнул дверь, и желудок его чуть не вывернулся наизнанку — он увидел старика, распростертого на голом полу и тщетно пытающего остановить кровь, хлещущую из раны в его в боку. — Что случилось, Скрюченный… где Симорил? Старческое лицо Скрюченного исказила гримаса боли и скорби. — Она… я принес ее сюда, хозяин, как ты и приказал. Но… — Он закашлялся, и кровь потекла по его морщинистому подбородку. — Но принц Йиркун… он задержал меня… должно быть, выследил нас. Он ранил меня и забрал с собой Симорил… сказал, что она будет в безопасности… в башне Б'аал'незбетта. Я виноват, хозяин… — Конечно, ты виноват, — зло ответил Элрик, но его тон сразу же смягчился. — Не беспокойся, старый друг. Я отомщу за тебя и за себя. Я еще найду Симорил — я знаю, куда Йиркун спрятал ее. Спасибо, Скрюченный, что попытался… пусть твое долгое путешествие по последней реке пройдет спокойно. Он резко повернулся на каблуках и, выскочив из комнаты, бросился вниз по лестнице и снова на улицу. Башня Б'аал'незбетта была самой высокой в королевском дворце, и Элрик прекрасно знал ее, потому что именно в ней его предки изучали черное колдовство и проводили жуткие эксперименты. Дрожь пробрала его при мысли о том, что может Йиркун сотворить с собственной сестрой. Улицы города казались на удивление спокойными и непривычно пустыми, но у Элрика не было времени размышлять о том, почему это так. Он добежал до дворца — главные ворота не охранялись, и у главного входа в здание не было стражи. Такого прежде не случалось — Элрику повезло, и он стрелой бросился вверх по знакомой лестнице к верхней башне. Наконец он добрался до двери из сверкающего черного кристалла без ручки или засова. Элрик в ярости ударил по кристаллу своим колдовским мечом, но кристалл лишь слегка изменил форму. Удары не давали никакого результата. Элрик сосредоточился, пытаясь вспомнить то единственное слово, которое открывает дверь. Он не осмелился погрузиться в транс, в котором со временем непременно вспомнил бы это слово, вместо этого он в поисках нужного слова обшаривал свое подсознание. Все его тело содрогалось, лицо перекосилось, и сам мозг Элрика стал сотрясаться. Слово родилось в его голосовых связках и было вытолкнуто потоком воздуха из легких. Когда слово было произнесено, все существо Элрика пронзила боль, вызванная напряжением. Он закричал: — Приказываю: отворись! Он знал, что, как только дверь откроется, кузен узнает о его, Элрика, появлении, но ему приходилось рисковать. Кристалл расширился, пульсируя и бурля, а потом начал растекаться. Он растекался в никуда, в нечто, лежащее за пределами физической вселенной, за пределами времени. Элрик облегченно вздохнул и вошел в башню Б'аал'незбетта. Он пробирался по ступенькам в центральное помещение, а вокруг него вился призрачный огонь, от которого кровь застывала в жилах и мозг переходил грань, за которой наступало безумие. Вокруг него слышалась странная музыка, жуткая музыка, которая пульсировала, стучала и рыдала в его голове. Над собой он увидел ухмыляющегося Йиркуна, тоже с Черным Мечом в руке — близнецом того, который держал Элрик. — Адское отродье! — низким голосом тихо сказал Элрик. — Я вижу, ты добыл Утешитель. Что ж, опробуй его силу против меча-брата. Я пришел уничтожить тебя, кузен. Буревестник издавал особый стонущий звук, заглушавший визгливую потустороннюю музыку, которая сопровождала лижущий леденящий огонь. Рунный меч извивался в руке Элрика, и он с трудом его контролировал. Собрав все силы, он преодолел последние несколько ступенек и приготовился нанести Йиркуну смертельный удар. За призрачным огнем пузырилась желто-зеленая лава, возникавшая со всех сторон, снизу и сверху. Их двоих окружал только странный огонь и лава, которая кралась следом; они находились вне Земли, друг перед другом, готовые к последней битве. Лава бурлила и начала сворачиваться, поглощая огонь. Два клинка встретились, и жуткий, пронзительный вой оглушил Элрика. Руку его словно обожгло, и она онемела. Элрик чувствовал себя марионеткой. Он больше не принадлежал себе, его действия теперь определял меч. Клинок с Элриком, приросшим к рукояти меча, пробил защиту своего брата и нанес глубокую рану Йиркуну на левой руке. Йиркун взвыл, глаза его расширились от боли. Утешитель нанес ответный удар Буревестнику и ранил Элрика в то самое место, в которое был ранен его кузен. Элрик застонал от боли, но продолжил движение вверх и теперь нанес удар Йиркуну в бок — удар был такой силы, что мог бы убить любого другого. Но Йиркун рассмеялся, как спятивший демон из самых грязных глубин Ада. Наконец-то безумие обуяло его, и теперь у Элрика было преимущество. Но страшное колдовство, сотворенное кузеном, еще не потеряло силы, и у Элрика было такое ощущение, будто, несмотря на преимущество, его схватил и пытается сокрушить какой-то великан. А кровь, хлеставшая из раны Йиркуна, попадала и на Элрика. Лава постепенно исчезала, и теперь Элрик увидел вход в центральную комнату. За спиной его кузена возникла чья-то фигура. Элрик был ошеломлен. Симорил проснулась и что-то кричала ему — на ее лице застыло выражение ужаса. Меч описал черную дугу и пробил оборону брата — теперь Йиркун был беззащитен. — Элрик! — в отчаянии кричала Симорил. — Спаси меня! Спаси меня сейчас, иначе мы прокляты навсегда. Элрика озадачили слова девушки. Он не мог понять их смысла. Он в безумной ярости гнал Йиркуна к верхней комнате. — Элрик… оставь Буревестник. Вложи меч в ножны, или мы расстанемся снова. Но даже если бы Элрик и мог контролировать свистящий клинок, в ножны его он не убрал бы. Ненависть владела его существом, и, прежде чем спрятать клинок, он должен был погрузить его в злобное сердце кузена. Симорил рыдала, молила его убрать меч. Но Элрик был бессилен. Тот слюнявый идиот, который прежде был Йиркуном из Имррира, повернулся на крики сестры и смерил ее похотливым взглядом. Идиот загоготал, протянул трясущуюся руку и схватил девушку за плечо. Она попыталась вырваться, но колдовские силы еще не оставили Йиркуна. Воспользовавшись тем, что его кузен отвлекся, Элрик нанес удар, которым почти рассек тело Йиркуна надвое. Но Йиркун, как это ни невероятно, все еще оставался живым, он черпал силы из клинка, который все еще огрызался, нанося удары по рунному мечу Элрика. Собрав последние силы, Йиркун толкнул Симорил вперед, нанизав ее на Буревестник, и та, вскрикнув, умерла. И тогда Йиркун издал последний визгливый смешок, и его черная душа с воем отправилась в ад. Башня восстановила свои прежние пропорции, огонь и лава исчезли. Элрик был ошеломлен, он никак не мог привести мысли в порядок. Он опустил взгляд на мертвые тела брата и сестры. Поначалу он увидел только два трупа — мужчины и женщины. Потом страшная истина дошла до него, и он застонал в отчаянии, словно зверь. Он убил ту, которую любил. Буревестник выпал из его руки — на его лезвии была кровь Симорил — и со звоном покатился вниз по лестнице. Рыдая, Элрик опустился на колени рядом с мертвой девушкой и поднял ее. — Симорил, — простонал он, и его тело сотрясали рыдания. — Симорил… я убил тебя.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Признание родства
Элрик оглянулся на ревущие, рушащиеся, падающие, объятые пламенем развалины Имррира и приказал мокрым от пота гребцам работать быстрее. Корабль со все еще развернутыми парусами, поймав встречный ветер, клюнул кормой, и Элрику пришлось вцепиться в леер, чтобы его не выбросило за борт. Он смотрел на Имррир, и в горле у него стоял ком. Элрик понимал: теперь он превратился в бездомного, в предателя и женоубийцу — пусть и невольного. В своей слепой мстительной ярости он убил единственную женщину, которую любил. Теперь с этим было покончено — со всем было покончено. Он не видел для себя никакого будущего, потому что его будущее было связано с прошлым, а теперь это прошлое лежало в охваченных огнем руинах. В груди у него родились бесслезные рыдания, и он еще крепче ухватился за леер. Его ум против желания возвращался к Симорил. Он уложил ее тело на ложе и поджег башню. Потом он вернулся и увидел, что атака увенчалась успехом — победители тащили к кораблям драгоценности и девушек, которым было суждено стать рабынями. По пути они на радостях поджигали высокие красивые здания. Он стал причиной гибели того последнего, что свидетельствовало о существовании когда-то великой и могущественной Сияющей империи, и теперь ему казалось, что и большая часть его самого перестала существовать. Элрик оглянулся на Имррир, и внезапно еще большая скорбь обуяла его — он увидел, как башня, хрупкая и прекрасная, словно тонкое кружево, накренилась и рухнула, объятая пламенем. Он сровнял с землей последний великий памятник умирающего народа — его собственного народа. Когда-нибудь люди, возможно, научатся строить прочные, изящные башни, похожие на башни Имррира, но в ревущем хаосе, сопровождающем падение Грезящего города и исчезновение мелнибонийского народа, умирало само это знание. А что же Владыки Драконов? Ни они, ни их золотые барки не вышли навстречу пиратам — город защищали только пешие воины. Может быть, они спрятали корабли в какой-нибудь тайной бухте и бежали внутрь острова, когда захватчики напали на город? Сражение было слишком уж скоротечным, чтобы считать, что мелнибонийцы потерпели окончательное поражение. Уж слишком легко далась чужакам победа. Может быть, теперь, когда флот отходит, Мелнибонэ собирается нанести внезапный удар возмездия? Элрик чувствовал, что такой план мог бы существовать, возможно, этот план предусматривал использование драконов. Его пробрала дрожь. Он ничего не сказал своим союзникам об этих зверях, которых мелнибонийцы в течение многих веков использовали в своих целях. А ведь даже в этот самый момент кто-нибудь может отпирать Драконьи пещеры. Он заставил себя не рассматривать этот вопрос с такой пугающей стороны.Флот направлялся в открытое море, а Элрик не мог оторвать скорбных глаз от Имррира, словно воздавая молчаливый долг городу его предков и мертвой Симорил. Скорбь волной снова нахлынула на него, когда перед его мысленным взором возникла Симорил, погибающая от его меча. Элрик вспомнил, о чем она предупреждала его, когда он отправлялся в Молодые королевства: оставляя на Рубиновом троне Йиркуна, отказываясь на год от своей власти, он обрекает ее и себя на гибель. Он проклял собственную глупость. И тут по кораблям пиратского флота прошел какой-то ропот, словно вдалеке прозвучал удар грома. Элрик резко повернулся, намереваясь выяснить причину внезапного испуга. Мелнибонийские боевые барки с золотыми парусами появились по обеим сторонам гавани. Их было тридцать, и они вышли из двух гротов лабиринта. Элрик понял, что они, видимо, скрывались в других каналах, намереваясь атаковать неприятеля, когда тот будет возвращаться, понеся урон и пресытившись грабежами. Это были остатки могущественного флота Мелнибонэ, огромные боевые корабли, секрет строительства которых был утрачен. На вид они казались древними и неповоротливыми, но тем не менее двигались быстро, имея по четыре или пять рядов огромных широких весел, и скоро окружили вражеский флот. Корабли, ведомые Элриком, на его глазах словно бы уменьшились в размерах; теперь, рядом с исполненными величия огромными сверкающими боевыми барками, они казались сборищем утлых лодчонок. Барки были прекрасно оснащены и готовы к бою, тогда как воины и матросы, штурмовавшие Имррир, выдохлись после сражения. Элрик понимал, что есть только один способ сохранить хотя бы малую часть флота. Он должен колдовством вызвать ветер, который надует паруса его кораблей. Большинство флагманских кораблей были рядом с ним, а он теперь занимал корабль Йариса, который напился во время сражения и погиб от ножа мелнибонийской рабыни-шлюхи. За кораблем Элрика шел корабль графа Смиоргана — этот коренастый морской владыка хмурился, прекрасно понимая, что, несмотря на численное превосходство, их флот в предстоящем сражении обречен на разгром. Но вызвать ветер, силы которого хватило бы на столько кораблей, было делом опасным, поскольку в результате высвобождалось колоссальное количество энергии, и элементали, управлявшие ветром, вполне могли обратить эту энергию на самого чародея, если он не примет соответствующих мер предосторожности. Но других возможностей не было, иначе катапульты с золотых кораблей разнесут пиратский флот в щепки. Элрик, сосредоточиваясь, начал произносить древние и страшные длинные имена существ, обитавших в воздухе. И опять он не мог позволить себе впасть в транс, потому что ему приходилось быть начеку — ему нельзя было пропустить тот момент, когда элементали попытаются взяться за него. Он обращался к ним голосом, который иногда был высокий, как крик баклана, а иногда шелестел, как приливная волна, и перед его помутневшим взором стали вырисовываться неясные очертания сил ветра. Сердце его стучало, как молот в груди, в ногах ощущалась слабость. Он собрал все свои силы и призвал ветер, который пронзительно и неистово застонал, бесясь в воздухе рядом с ним, и принялся раскачивать даже огромные мелнибонийские суда. И тогда Элрик направил его в паруса приблизительно сорока пиратских судов. Многих он был не в силах спасти, потому что они находились за пределами даже его немалых возможностей. Сорок судов избежали губительных столкновений с барками мелнибонийцев и под завывания ветра и скрип дерева понеслись по волнам, их мачты трещали, когда очередной порыв ветра ударял в паруса. Весла вырывались из рук гребцов, и в бурунном кильватерном следе за каждым из кораблей оставались обломки дерева. Очень быстро они оказались за пределами медленно смыкающегося круга мелнибонийских барков и с безумной скоростью понеслись по открытому морю. Моряки чувствовали, что воздух изменился, и видели вокруг себя какие-то странные меняющиеся формы. В существах, которые помогали им, было что-то зловещее, какая-то неземная враждебность. Смиорган махнул Элрику и благодарно усмехнулся. — Благодаря тебе, Элрик, мы в безопасности! — закричал он через разделявшее их водное пространство. — Я знал, что ты принесешь нам удачу! Элрик сделал вид, что не слышит его. Владыки Драконов, подстегиваемые чувством мести, бросились в погоню. Золотые барки Имррира летели почти с такой же скоростью, что и пиратские корабли, которым помогало колдовство, и некоторые из преследуемых галер, на которых под напором ветра раскололись и рухнули мачты, не ушли от возмездия. Элрик видел, как огромные абордажные крючья из зловеще мерцающего металла полетели с палуб имррирских барков и с хрустом впились в изуродованное дерево тех пиратских кораблей, которые из-за поломок плелись в хвосте флота. Из катапульт на кораблях Владык Драконов в сторону многих преследуемых судов полетели огненные шары. Обжигающее вонючее пламя словно лава растекалось по палубам, пожирая дерево, как купорос бумагу. Люди кричали, пытаясь сбить пламя с горящей одежды, некоторые прыгали в воду, но пламя не гасло даже там. Некоторые уходили под воду, и с поверхности можно было проследить их погружение — пламя продолжало гореть и внизу, а потому люди и суда опускались на дно, как горящие усталые мотыльки. Палубы судов, которых не коснулся огонь, были красны от крови — взбешенные имррирские воины, перебравшись на корабли противника, крошили всех и вся своими огромными мечами и боевыми топорами, производя страшное опустошение в пиратских рядах. Имррирские стрелы и метательные копья тучами летели с высоких палуб мелнибонийских кораблей, сея панику на небольших пиратских судах. Элрик видел все это по мере того, как его корабль стал медленно обгонять ведущую имррирскую барку, флагманский корабль адмирала Магума Колима, командира мелнибонийского флота. И теперь Элрик позволил себе сказать несколько слов графу Смиоргану. — Мы обошли их! — прокричал он, перекрывая рев ветра, чтобы было слышно на соседнем корабле, где Смиорган стоял, во все глаза глядя в небо. — Только держи курс на запад, или нам конец! Но Смиорган не ответил. Он продолжал смотреть в небо, и в глазах у него застыл ужас — ужас в глазах человека, который прежде никогда не знал, что такое страх. Элрик с тревогой проследил за направлением взгляда Смиоргана и тоже увидел их. Без сомнений, это были драконы! От огромных рептилий их пока отделяли несколько миль, но Элрик знал, на что способны летающие чудовища. Средний размах крыльев этих почти что вымерших монстров составлял около тридцати футов. Их змееподобные тела, начинающиеся узкомордой головой и заканчивающиеся смертоносным хвостом, имели в длину около сорока футов, и, хотя из их пастей не извергались пламя и дым, Элрик знал, что их яд горюч и может поджечь дерево или ткань. На спинах драконов сидели имррирские воины. Вооруженные длинными пикообразными стрекалами, они дули в необычной формы рожки, и над морем разносилась странная мелодия. Когда до золотого флота оставалось с пол-лиги, ведущий дракон нырнул вниз и сделал круг над огромным флагманским барком, крылья его, рассекавшие воздух, производили звуки, похожие на разряды молний. Серо-зеленая чешуйчатая тварь кружила над золотым кораблем, который раскачивался на пенящемся, бурном море. Дракон был хорошо виден на фоне безоблачного неба, и Элрик смог неплохо его разглядеть. Стрекало, которым укротитель дракона помахивал адмиралу Магу му Колиму, представляло собой длинную, тонкую пику со странным вымпелом, расцвеченным черными и белыми зигзагами и различимым даже с такого расстояния. Элрик узнал знаки различия вымпела. Во главе преследователей, жаждущих отомстить за Имррир Прекрасный, был Дивим Твар, друг юношеских лет Элрика, повелитель Драконьих пещер. Элрик крикнул Смиоргану: — Вот теперь начнется самое страшное. Делай, что можешь, чтобы их отогнать! Забряцало оружие — люди с ощущением почти полной безнадежности готовились отразить эту новую угрозу. Колдовской ветер почти не давал никакого преимущества против быстрокрылых драконов. Дивим Твар явно согласовал свои действия с Магумом Колимом, и его стрекало сильно хлестнуло по шее дракона. Огромная рептилия взмыла вверх и стала набирать высоту. За первым последовали одиннадцать остальных драконов. С кажущейся медлительностью драконы начали неумолимо приближаться к пиратским кораблям, экипажи которых молили своих богов о чуде. Они были обречены. Опровергнуть этот факт было невозможно. Обречены были все пиратские корабли, а налет таким образом становился бесплодным. Элрик видел отчаяние на лицах людей, видел, как гнутся под напором пронзительного колдовского ветра мачты пиратских кораблей. Теперь им оставалось только одно — умереть… Элрик постарался прогнать из головы неопределенность, которая заполняла его мысли. Он вытащил свой испещренный рунами меч и ощутил его пульсирующую злобную силу. Но теперь он ненавидел ее — ведь она вынудила его убить единственное существо, которое он любил. Он отдавал себе отчет в том, насколько его собственная сила зависит от Черного Меча его предков и насколько слабым он будет без него. Он был альбиносом, а это означало, что жизненной энергии у него меньше, чем у обычного человеческого существа. Туман в его голове замещался красной пеленой страха, а он с дикой и тщетной яростью проклинал надуманные предлоги мести, которые привели его на Мелнибонэ, проклинал тот день, когда согласился возглавить рейд на Имррир, а более всего клял он мертвого Йиркуна и его порочную зависть, которая и стала причиной всех этих предопределенных роком событий. Но для проклятий самого разного рода теперь было поздно. Воздух наполнился хлопками драконьих крыльев — чудовища приближались к спасающемуся бегством пиратскому флоту. Ему нужно было принять какое-то решение; хотя он и не испытывал жажды жизни, но не хотел умирать от рук мелнибонийцев. Он поклялся себе, что умрет только от собственных рук. Он принял решение, ненавидя себя. Он отпустил колдовской ветер, когда драконий яд пролился на палубу находящегося в арьергарде корабля. Он собрал все свои силы, чтобы послать более сильный ветер в паруса собственного корабля, а его ошеломленные товарищи на внезапно остановившихся кораблях взывали к водной стихии, отчаянно вопрошая о причине такого события. Корабль Элрика несся теперь на всех парусах и имел хороший шанс уйти от драконов. Так он, по крайней мере, надеялся. Он оставил на произвол судьбы человека, который доверял ему — графа Смиоргана, — и смотрел, как яд пролился с небес и поглотил его сверкающим зеленым и алым пламенем. Элрик — этот гордый владыка руин, спасался бегством, стараясь не думать о будущем и громко рыдая. Он проклинал тот день, когда злобные боги, не найдя для себя лучшего развлечения, породили племя человеческое. Сзади внезапно вспыхнул ярким жутким пламенем последний из пиратских кораблей, и команда, хотя и благодарная Элрику за то, что избежала судьбы своих товарищей, поглядывала на него с осуждением. А он продолжал рыдать, не обращая на них внимания, великая скорбь разрывала его душу. День спустя, вечером, у берега острова, называвшегося Пан-Танг, когда их корабль оказался в безопасности и им уже не грозило страшное возмездие со стороны Владык Драконов и их монстров, Элрик стоял в задумчивости на корме, а команда, с ненавистью и страхом поглядывая на него, шепталась между собой, осуждая его предательство и бессердечную трусость. Казалось, они забыли о собственном страхе и спасении. Элрик размышлял, держа в обеих руках свой Черный Меч. Буревестник был не просто боевым мечом — это Элрик знал уже не первый год. Теперь Элрик понял и то, что меч обладал сознанием в гораздо большей степени, чем он, Элрик, мог себе это представить. И в то же время зависимость альбиноса от меча была просто ужасающей — Элрик ясно осознал этот непреложный факт. Но он боялся меча и ненавидел его силу, ненавидел его всей душой за ту неразбериху, что меч сеял в его душе и мыслях. С мучительной неопределенностью взвешивал он клинок в руках, заставляя себя обдумывать все сопутствующие факторы. Без этого зловещего меча он потерял бы чувство собственного достоинства, может, даже жизнь, но, вероятно, познал бы и утешающую умиротворенность ничем не нарушаемого покоя. С мечом он имел власть и силу, но меч вел его к роковому будущему. Меч давал ему силу, но на покой Элрик мог не рассчитывать. Воздух огласило его громкое сдавленное рыдание, и под воздействием слепого мгновения Элрик швырнул меч в посеребренное луной море. Как это ни странно, но меч не пошел на дно. Но и на поверхности он остался каким-то необычным образом. Он развернулся острием вниз и, подрагивая, повис в воде, как если бы вонзился в дерево. Он так и остался в воде, погрузившись лезвием на шесть дюймов, и начал издавать короткие бесовские вопли — крики лютой злобы. Испустив приглушенное проклятие, Элрик вытянул свою гонкую белую руку, пытаясь достать наделенный сознанием дьявольский клинок. Он тянулся все дальше, свешиваясь за леер, но не мог дотянуться до клинка — не хватало одного-двух футов. Тяжело дыша, Элрик, которого переполняло чувство поражения, перевалился через борт и, погрузившись в ледяную воду, принялся напряженными, неестественными гребками плыть в сторону висящего меча. Он потерпел поражение — меч вышел победителем. Он доплыл до меча и обхватил пальцами его рукоятку. Меч мигом удобно устроился в его руке, и Элрик почувствовал прилив сил в свое измученное болью тело. И тут он понял, что они с мечом взаимозависимы, потому что хотя ему, Элрику, и был нужен этот меч, Буревестнику, этому кровососу, тоже был необходим хозяин, без которого он терял свою силу. «Значит, мы связаны друг с другом, — в отчаянии прошептал Элрик. — Связаны выкованной в аду цепью и роковыми обстоятельствами. Ну что ж, пусть так оно и будет, и мужчины пусть трясутся от страха, заслышав имена Элрика из Мелнибонэ и его меча Буревестника. Мы принадлежим к одному роду и порождены эпохой, которая изменила нам. Так дадим же этой эпохе повод нас ненавидеть!» Ощутив приток сил, Элрик вложил Буревестник в ножны, и меч устроился у него на боку. И тогда Элрик мощными гребками поплыл в направлении острова, а команда корабля вздохнула с облегчением, размышляя над тем, погибнет ли он в мрачных водах этого безымянного моря или доберется до берега…
Майкл Муркок Когда боги смеются
Моему отцу посвящается
Я вихрь, когда смеются боги.Я – Страстей водоворот в тиши морей,Чьи волны гладят брег души моейИ сердце мглой надеются объять..Мервин Пик, «Очертания и звуки», 1941(Перевод Р. Адрианова)
Глава первая Женщина, готовая принять скорбь на душу
Однажды вечером, когда Элрик в мрачном настроении сидел в таверне и пил вино, из бури выплыла бескрылая женщина из Мииррна и приникла к нему своим гибким, податливым телом. У нее было тонкое, болезненное лицо, почти такая же белая, как у Элрика, кожа, а ее светло-зеленые одеяния красиво контрастировали с темно-рыжими волосами. Таверна была освещена пламенем свечей, а воздух полнился досужими спорами и скучноватым смехом, однако слова женщины из Мииррна, звучавшие четко и мелодично, перекрыли назойливый шум. – Я искала тебя двадцать дней, – сказала она Элрику, который высокомерно поглядывал на нее полуприкрытыми малиновыми глазами. Он лениво сидел на стуле с высокой спинкой, держа в длинных пальцах правой руки серебряный кубок с вином, а левой поглаживая рукоять своего рунного меча Буревестника. – Двадцать дней, – едва слышно и намеренно грубовато проговорил мелнибониец, словно обращаясь к самому себе. – Красивая женщина не должна так долго бродить одна по свету. – Он открыл глаза чуть шире и заговорил, обращаясь теперь прямо к ней: – Я Элрик из Мелнибонэ, как тебе, несомненно, известно. Я не ищу ничьего покровительства и сам никому не покровительствую. Запомни это. А теперь скажи, почему ты двадцать дней искала меня. Женщина, на которую надменный тон альбиноса не произвел ни малейшего впечатления, ровным голосом ответила: – Ты ожесточившийся человек, Элрик. Мне и это известно. Ты погружен в скорбь по причинам, которые уже успели стать легендой. Я не ищу твоего покровительства, а хочу сделать тебе одно предложение, включающее и меня. Чего ты желаешь больше всего на свете? – Покоя, – просто ответил ей Элрик. Потом он иронически улыбнулся и добавил: – Я злой человек, госпожа, и меня преследует адский рок. Однако я вовсе не глуп и не лишен чувства справедливости. Позволь мне напомнить тебе частичку этой истины. Можешь называть это легендой, если тебе так хочется, – мне все равно. Год назад от моего верного меча погибла одна женщина. – Он резко хлопнул по клинку, а в его глазах появилось жестокое выражение, исполненное самоиронии. – С тех пор я не ухаживал ни за одной женщиной и ни одну не желал. Зачем мне отказываться от таких безопасных привычек? Уверяю тебя, я мог бы говорить с тобой языком любви, ведь ты обладаешь изяществом и красотой, которые наводят меня на интересные мысли, но я не стал бы и малую часть темного бремени, которое несу, перекладывать на такие хрупкие плечи. Любые отношения между нами, кроме формальных, приведут к тому, что, помимо моей воли, часть этого бремени все же ляжет на твои плечи. – Он помолчал несколько мгновений, а потом медленно добавил: – Должен признаться, что иногда я кричу во сне, а иногда меня мучают непередаваемые приступы отвращения к самому себе. Так что уходи, госпожа, пока не поздно, и забудь Элрика, потому что ничего, кроме горя, он тебе не принесет. Быстрым движением он отвел от нее взгляд, поднял серебряный кубок, осушил его и снова наполнил из стоящего рядом кувшина. – Нет, – спокойно сказала бескрылая женщина из Мииррна, – никуда я не уйду. Ступай за мной. Она поднялась и мягко взяла Элрика за руку. Элрик, сам не зная почему, позволил вывести себя из таверны в грозу, которая бушевала в филкхарском городе Расхиле, – грозу без единой капли дождя. На губах Элрика застыла циничная и покровительственная улыбка. Женщина повела его к берегу, о который хлестали морские волны, и там назвала свое имя – Шаарилла из Танцующего Тумана, бескрылая дочь ныне покойного чародея, калека в собственной необычной стране и изгнанница. Элрик испытывал неловкость оттого, что его влечет к этой женщине со спокойными глазами, женщине, которая не тратит впустую слов. Он почувствовал сильный всплеск эмоций в своей душе – таких эмоций, на какие уже не рассчитывал в своей жизни; ему захотелось обнять эти тонкие плечи, прижать ее хрупкое тело к себе. Но он подавил в себе этот порыв, изучая ее точеную фигуру, разглядывая ее волосы, которыми вовсю играл ветер. Этот неугомонный ветер траурно завывал на море, а между ними воцарилось благодатное молчание. Здесь Элрик мог не обращать внимания на теплые запахи города, и он позволил себе расслабиться. Наконец, глядя мимо него в бурлящее море, она сказала: – Ты, конечно, знаешь о Книге Мертвых Богов? Элрик кивнул. Несмотря на потребность как можно больше отдалиться от людей, у Элрика вдруг проснулся интерес к этой женщине. Эта Книга, согласно легендам, содержала знания, которые могли бы решить многие проблемы, преследовавшие людей на протяжении многих веков. Она содержала великую мудрость, приобщиться к которой желал каждый чародей. Но считалось, что Книга эта уничтожена, заброшена на солнце в те дни, когда Древние Боги умирали в пространствах космоса, лежащих за пределами Солнечной системы. В другой легенде – явно более позднего происхождения – туманно говорилось о неких темных силах, которые перехватили Книгу на пути к солнцу и, не допустив ее уничтожения, похитили. Большинство ученых отвергали эту легенду, говоря, что если бы Книга и в самом деле не погибла, то должна была непременно где-нибудь объявиться за такой огромный промежуток времени. Отвечая Шаарилле, Элрикнапустил на себя скучающее выражение, чтобы не показать своего интереса. – Почему ты говоришь об этой Книге? – Я знаю, что она существует – энергично ответила Шаарилла, – и я знаю, где она находится. Мой отец получил эти сведения перед самой своей смертью. Если ты поможешь мне раздобыть эту Книгу, то, если захочешь, сможешь получить и ее, и меня. Может быть, в этой Книге содержится тайна душевного покоя, подумал Элрик. Может быть, он, найдя Книгу, сможет расстаться с Буревестником? – Если она тебе так нужна, что ты просишь меня о помощи, – сказал Элрик, – почему же ты готова отдать ее мне? – Потому что я побоялась бы постоянно хранить такую вещь у себя. Такими книгами не должны владеть женщины, но ты, возможно, последний чернокнижник на земле, и тебе она подойдет как нельзя лучше. И потом, чтобы заполучить ее, возможно, придется убивать, и я никогда не чувствовала бы себя в безопасности с таким фолиантом на руках. Мне нужна только малая часть содержащейся в ней мудрости. – И какая же? – спросил Элрик, изучая ее аристократическую красоту и ощущая при этом новый прилив желания. Ее губы сжались, она прикрыла глаза. – Когда Книга будет в наших руках, тогда я тебе и скажу, какая. Не раньше. – Неплохой ответ, – заметил без промедления Элрик, понимая, что сейчас он больше ничего не сможет узнать. – Он мне нравится. И тут, почти не осознавая, что делает, Элрик своими гибкими белыми руками обнял ее плечи и прижал свои бесцветные губы к ее алым. Элрик и Шаарилла направлялись на запад, в сторону Безмолвных земель через цветущие долины Шазаара, к берегам которого двумя днями ранее пристал их корабль. На границе между Шазааром и Безмолвными землями лежала необитаемая полоса – даже поселений землепашцев там не было. Несмотря на плодородие и богатство, эта земля была ничьей. Обитатели Шазаара воздерживались от переноса своей границы за эту полосу, поскольку жители Безмолвных земель редко отваживались заходить за Туманные топи, естественную границу между двумя странами, и жители Шазаара питали чуть ли не суеверный страх перед своими таинственными соседями. Путешествие до этого момента проходило без препятствий и происшествий, хотя и не было лишено зловещих предзнаменований – несколько человек, которые ничего не могли знать о цели путешествия Элрика и Шаариллы, предупреждали их о приближении опасности. Элрик задумался, видя в этих предупреждениях знаки неумолимой судьбы, но решил не обращать на них внимания и ничего не сообщать Шаарилле, которую вроде бы вполне удовлетворяло молчание Элрика. Днем они разговаривали мало, сохраняя силы для страстных любовных игр по ночам. Тишину ясного зимнего дня нарушали только стук лошадиных копыт по мягкому дерну да приглушенное поскрипывание и позвякивание доспехов и меча Элрика. Так эта пара неуклонно приближалась к опасным, предательским землям Туманных топей.Темной ночью добрались они до границ Безмолвных земель, где начиналось болото, сделали привал, поставили свой шелковый шатер на склоне горы, с которой открывался вид на безлюдную, окутанную туманом равнину. На горизонте в зловещую тучу собирались черные подушки облаков. За ними пряталась луна, иногда пронзая их толщу и посылая бледный, неуверенный луч на сверкающую болотную гладь или ее неровную границу. Один раз лунный луч, отразившись от серебра, высветил темный силуэт Элрика, но вид живого существа на мрачном склоне горы словно испугал луну, и она снова скрылась за облачным щитом, оставив погруженного в глубокое раздумье Элрика в темноте, к которой стремилась его душа. В дальних горах прогремел гром, похожий на смех богов. Элрик вздрогнул, плотнее завернулся в свой черный плащ и устремил взгляд на затянутую туманом долину. Вскоре к нему подошла Шаарилла и встала с ним рядом, кутаясь в плотный шерстяной плащ – защиту от влажной измороси, пропитавшей воздух. – Безмолвные земли – пробормотала она. – Неужели это правда, Элрик – все, что о них рассказывают? Ты слышал об этом в Мелнибонэ? Элрик нахмурился, недовольный, что она прервала ход его мыслей. Он резко повернулся к ней, несколько мгновений изучал своими малинового цвета глазами, а потом сказал уверенным голосом: – Здешних обитателей страшатся, и они не принадлежат к роду человеческому. Это я знаю точно. Лишь немногие отваживались отправляться сюда. И насколько мне известно, никто из смельчаков не вернулся. Даже в те дни, когда Мелнибонэ было всемогущей империей, этот народ принадлежал к числу тех немногих, над которыми не властвовали – и не желали властвовать – мои предки. Обитатели Безмолвных земель считаются вымирающим народом, гораздо более злобным, чем были мои предки, которые владычествовали над землей задолго до того, как нынешнее человечество обрело силу. Они редко выходят за пределы своих земель, ограниченных болотами и горами. Шаарилла, выслушав это, весело рассмеялась. – Значит, ты говоришь, они не принадлежат к роду человеческому? А как тогда быть с моим народом, который находится с ними в родстве? Как быть со мной? – Для меня ты – человек, – беззаботно сказал Элрик, заглядывая ей в глаза. Она улыбнулась. – Это, конечно, не комплимент, – сказала она, – но так уж и быть, я буду его считать комплиментом, пока твой неповоротливый язык не найдет чего-нибудь получше. Спали в эту ночь они беспокойно, и, как и предупреждал Элрик, он мучительно кричал во сне, преследуемый кошмаром, и называл имя, при звуках которого глаза Шаариллы наполнялись болью и ревностью. Элрик спал, широко распахнув глаза, словно бы глядя на ту, чье имя называл; произносил он и другие слова на каком-то свистящем языке, при звуках которого Шаарилла в ужасе затыкала уши. На следующее утро, когда они, собираясь продолжить путь, складывали желтый шатер из шелка, Шаарилла избегала встречаться с Элриком взглядом. Но позднее, поскольку он не проявлял желания вступать в разговор, она слегка дрожащим Голосом спросила его: – А что ты хочешь от Книги Мертвых Богов, Элрик? Что, по-твоему, ты сможешь в ней найти? Ей необходимо было спросить об этом, но вопрос дался ей нелегко. Элрик пожал плечами, отметая ее любопытство, но она повторила свои слова медленнее и с гораздо большей настойчивостью. – Ну хорошо, – уступил он. – Но ответить на это несколькими словами нелегко. Если тебе угодно, я желаю узнать одно из двух. – И что же это, Элрик? Высокий альбинос уронил скрученный шатер на траву и вздохнул. Его пальцы нервно постукивали по рукояти рунного меча. – Существует абсолютное божество или нет? Вот что мне необходимо знать, Шаарилла, для того чтобы моя жизнь обрела хоть какую-нибудь цель. – Теперь нашими жизнями управляют Владыки Закона и Хаоса. Неужели есть еще какое-то существо главнее их? – Шаарилла прикоснулась к плечу Элрика. – Зачем тебе нужно это знать? – спросила она. – Я иногда тщетно ищу утешения у милосердного бога, Шаарилла. Мой разум по ночам покидает мое тело и в черной пустоте ищет что-то – что угодно, – что возьмет меня к себе, согреет, защитит, скажет мне, что в этом невообразимом хаосе вселенной есть порядок, что он неизменен, что эта точность хода планет не просто краткая яркая искра здравомыслия в бесконечном мире зла. Элрик вздохнул. В его спокойном голосе слышались нотки безнадежности. – Не получив подтверждения того, что существует порядок, я могу утешаться только признанием анархии. Таким образом, я могу упиваться хаосом и знать, не испытывая при этом страха, что мы обречены с момента рождения, что наше краткое существование лишено смысла и проклято изначально. И тогда я могу принять тот факт, что о нас не забыли, Потому что никто о нас толком и не помнил. Я взвесил все «за» и «против», Шаарилла, и пришел к выводу, что в мире, невзирая на все законы, которые вроде бы управляют нашими поступками, нашим колдовством, нашей логикой, властвует Хаос. Только хаос вижу я в мире. Если Книга, которую мы ищем, убедит меня в противном, то я с радостью ей поверю. А до того времени я буду доверять только себе и своему мечу. Шаарилла посмотрела на Элрика странным взглядом. – А может быть, эти твои взгляды возникли под влиянием последних событий в твоей жизни? Ты опасаешься последствий совершенных тобой убийства и предательства? Может быть, тебе просто удобнее верить в наказания, которые редко бывают справедливыми? Элрик повернулся к ней, малиновые глаза альбиноса гневно вспыхнули, но, когда он заговорил, гнев оставил его, и он уставился в землю, пряча взгляд от Шаариллы. – Может быть, – неуверенно сказал он. – Я не знаю. Вот это-то и есть единственная настоящая истина, Шаарилла. Я не знаю. Шаарилла кивнула. Лицо женщины осветилось странным сочувствием, но Элрик не видел ее взгляда, потому что глаза альбиноса были полны слез, которые текли по худому белому лицу и на мгновение лишили Элрика сил и воли. – Я одержимый, – простонал он. – А без этого проклятого меча я вообще бы перестал быть человеком.
Глава вторая Белбейн, туманный великан
Они сели на своих резвых черных коней и, пришпорив их, с какой-то яростной лихостью понеслись вниз по склону к болотам. Их плащи полоскались позади них высоко в воздухе, как знамена на ветру. У обоих всадников были строгие, суровые лица – ни Шаарилла, ни Элрик не хотели признавать, что их донимает мучительная неуверенность. Всадники не успели вовремя остановить лошадей, и их копыта начали увязать в болотистой почве. Элрик с проклятиями изо всех сил натянул поводья, пытаясь вытащить своего коня назад, на твердую землю. Шаарилла тоже боролась со своим испуганным жеребцом, направляя его на безопасный дерн. – И как же мы пересечем это болото? – спросил Элрик. – Была карта… – неуверенно начала Шаарилла. – И где же она теперь? – Она пропала… Я ее потеряла. Но я постаралась ее запомнить. Я думаю, что мне удастся провести нас через болото. – Как же ты ее потеряла и почему не сказала об этом Раньше? – рассерженно спросил Элрик. – Извини, Элрик, но весь день перед тем, как я нашла тебя, словно кто-то стер из моей памяти. Я прожила этот день, сама не зная о том, что живу… а когда очнулась, карты не было. Элрик нахмурился. – Я уверен – против нас действует какая-то сила, – пробормотал он. – Вот только что это за сила – ума не приложу. – Повысив голос, он сказал Шаарилле: – Будем надеяться, что теперь твоя память не откажет тебе. Эти топи пользуются дурной репутацией, но в любом случае нас здесь подстерегают только природные опасности. – Он стиснул пальцы на рукояти меча. – Езжай вперед, Шаарилла, но держись рядом. Показывай дорогу. Она молча кивнула, повернула коня на север и галопом понеслась вдоль кромки болота, пока не доскакала до места, над которым нависал огромный, заостренный кверху утес. Отсюда в окутанное туманом болото вела поросшая травой тропинка фута четыре в ширину. Видимость из-за липучего тумана была плохая, но дорожка казалась вполне надежной. Шаарилла неторопливой рысью направила своего жеребца по тропинке, Элрик последовал за ней. Кони неуверенно двигались через клубящийся тяжелый туман, отливавший белизной, и всадникам приходилось крепко держать поводья. Туман окутывал болото тишиной, а от покрытой водянистой пленкой и поблескивающей топи исходил отвратительный запах гниения. Здесь не было видно ни одного животного, в небе не слышалось птичьих криков. Повсюду висела навязчивая, пропитанная страхом тишина, вселявшая тревогу и в коней, и во всадников. Сдерживая растущую панику, Элрик и Шаарилла продолжали путь; они углублялись в неестественные Туманные топи, их глаза подозрительно вглядывались в эту плотную завесу, и даже ноздри подрагивали, ощущая в вонючей трясине запах опасности. Прошло несколько часов, солнце давно миновало зенит, когда жеребец Шаариллы встал на дыбы и тревожно заржал. Шаарилла, вглядывавшаяся в туман, крикнула Элрику, подзывая его, ее тонкие черты исказил страх. Он дал шпоры своему брыкающемуся коню и подъехал к Шаарилле. В липкой белизне тумана что-то медленно и зловеще двигалось. Правая рука Элрика метнулась влево, к рукояти Буревестника. Клинок взвизгнул, вылетая из ножен, черный огонь сверкнул по всей его длине, и неземная сила полилась по руке в тело Элрика. Странный нечестивый свет мелькнул в малиновых глазах альбиноса, а рот его исказила жуткая ухмылка – он подстегнул коня, направляя его все глубже в ползучий туман. – Ариох, Повелитель Семи Бездн, будь со мной! – прокричал Элрик, различая впереди какую-то движущуюся фигуру. Она была белой, как и туман, и в то же время казалась его темнее. Фигура нависала над Элриком, имея в высоту футов десять и почти столько же в поперечнике. Но Элрик видел лишь одни очертания: ни лица, ни конечностей – только силуэт и движения, резкие и зловещие. Однако Ариох, его бог-покровитель, сделал вид, что не слышит зова Элрика. Элрик чувствовал, как бьется мощное сердце его коня, которого всадник посылал вперед своей железной волей. Шаарилла кричала что-то за спиной Элрика, но он не мог разобрать слов. Элрик рубанул белую фигуру, но его меч встретил только туман и сердито заворчал. Обезумевший от страха конь не желал идти дальше, и Элрик был вынужден спешиться. – Держи жеребца, – крикнул Элрик Шаарилле и быстро зашагал в направлении вставшего у него на пути силуэта неизвестно чего. Теперь он смог различить кое-какие особенности этой фигуры. Высоко в теле болотного существа располагались два глаза цвета разбавленного желтоватого вина, хотя головы как таковой у него вроде бы не было. Раскрытая, усеянная клыками пасть располагалась прямо под его глазами. Элрик не различил у него ни носа, ни ушей. Из верхней части тела этого существа свисали четыре отростка, а нижняя часть скользила по земле явно без помощи каких-либо конечностей. Глаза Элрика, разглядывавшего монстра, пронзила боль. Смотреть на него без отвращения было невозможно, а от его аморфного тела исходил запах смерти и разложения. Подавляя страх, альбинос осторожно продвигался вперед; меч он выставил перед собой, чтобы отразить любую атаку, которую могла предпринять эта тварь. Элрик узнал ее по описанию, прочитанному им в одной из старинных рукописей. То был Туманный великан, Возможно, единственный из всех Туманных великанов – Белбейн. Даже самые мудрые маги не знали в точности, сколько существует этих монстров – один или несколько. Это был вурдалак, живущий в топях и питающийся душами и кровью людей и животных. Однако болота, в которых оказались Элрик и Шаарилла, лежали далеко на восток от известных охотничьих угодий Белбейна. Теперь Элрик уже не удивлялся, почему в этой части болота почти нет никакой живности. Сумерки сгущались. Буревестник подрагивал в руке Элрика, призывавшего древних богов-демонов своего народа. Мерзкий вурдалак явно узнавал эти имена. Он даже подался назад при их звуках. Элрик заставил себя двигаться в направлении этой твари. Теперь он увидел, что вурдалак вовсе не был белесым, однако цвета его Элрик не мог узнать. В нем был какой-то намек на оранжевый оттенок с примесью тошнотворного зеленоватого, но цвета эти Элрик не воспринимал глазами – он просто чувствовал эти потусторонние нечистые оттенки. И тогда Элрик ринулся на тварь, выкрикивая имена, которые уже ничего не говорили его сознанию. – Балаан-Марзим! Аэсма! Аластор! Саэбос! Верделет! Низилфкм! Хаборим! Хаборим из Разрушающего Огня! Разум Элрика разрывался на части. Часть его хотела пуститься наутек, спрятаться, но никак не могла влиять на ту силу, которая тащила его навстречу этому ужасу. Его меч колол и рубил аморфную массу, но с таким же успехом можно было сражаться с водой – наделенной разумом, пульсирующей водой. Однако Буревестник производил некоторый эффект. Вурдалак содрогался, словно от невыносимой боли. Элрик почувствовал, как что-то поднимает его в воздух, и в этот момент зрение отказало ему. Он не видел ничего и ничего не мог сделать, кроме как рубить и колоть мечом ту тварь, которая держала его. Он рубил мечом вслепую, и пот ручьями струился по его телу. Боль, которая даже не была похожа на физическую, – Более глубокая, ужасающая боль наполняла все существо Элрика, а он, крича в агонии, непрерывно бил по податливой плоти, сжимавшей его и медленно подносившей к разверстой своей пасти. Элрик выкручивался, сопротивлялся, пытаясь вырваться из отвратительной хватки этой твари, которая держала его мощными лапами, держала чуть ли не похотливо, подтаскивая к себе все ближе и ближе, как грубоватый любовник – слабую девушку. Даже могучая сила, свойственная Рунному мечу, не могла одолеть эту тварь, хотя ее хватка и стала немного слабее. Однако она продолжала тащить Элрика к своей щелкающей зубами, слюнявой пасти. Элрик снова принялся выкрикивать имена, а Буревестник танцевал и пел свою злобную песню в его правой руке. Элрик изо всех сил пытался освободиться, он молился богам, умолял их, давал обеты, но по-прежнему дюйм за дюймом приближался к ухмыляющейся пасти. В мрачном отчаянии он продолжал сражаться, вновь и вновь взывая к Ариоху. И вдруг к его разуму прикоснулся чей-то другой – ироничный, всемогущий, злобный, – и Элрик понял, что Ариох наконец-то отозвался. Туманный великан внезапно ослабел – поначалу это было едва заметно. Элрик воспользовался этим преимуществом, и сознание того, что Вурдалак теряет свою мощь, придало альбиносу новые силы. Он вслепую бил и бил мечом, а мучительная боль пронизывала все клеточки его тела. И вдруг он почувствовал, что падает. Казалось, падение продолжается несколько часов – он летел медленно, невесомо и наконец приземлился на поверхность, которая просела под ним. Он начал тонуть. Откуда-то издалека раздался далекий голос, зовущий его, и голос этот находился вне времени и пространства. Он не хотел слышать этот голос, Элрика устраивало то место, куда он попал, – холодная, приятная материя неторопливо затягивала его в себя. Потом каким-то шестым чувством он понял, что это голос Шаариллы, что она зовет его, и он заставил себя разобрать слова. – Элрик – трясина! Ты попал в трясину. Не двигайся! Он улыбнулся про себя. Зачем ему двигаться? Он погружался все глубже – медленно и спокойно – в приятную, успокаивающую топь… Было ли когда-либо прежде что-то подобное этому? Другая трясина? Усилием воли он заставил себя вернуться к действительности и, осознав происходящее, не без труда открыл глаза. Над ним был туман. С одной стороны от него виднелась лужа непонятного цвета, наполнявшая воздух зловонными испарениями. С другой стороны он различил отчаянно жестикулирующую человеческую фигуру. За человеческой фигурой он смутно разглядел очертания двух коней. Это была Шаарилла. Под ним… Под ним была трясина. Вязкая зловонная жижа затягивала его в себя, а он лежал с распростертыми руками, уже наполовину погрузившийся в ее глубину. Правой рукой он продолжал держать Буревестник. Если бы он повернул голову, то увидел бы свой меч. Он Осторожно попытался поднять верхнюю часть тела над засасывающей его трясиной, но почувствовал только, что его ноги ушли еще глубже. Выпрямившись, он закричал: – Шаарилла! Быстро – кинь мне веревку! – У нас нет веревки, Элрик! – Она срывала с себя одежду и скручивала ее в жгуты. Элрик продолжал погружаться – ноги его не находили опоры. Шаарилла спешно связывала между собой части одежды. Она неумелой рукой кинула эту самодельную веревку Элрику, но не добросила. Суетясь в спешке, она бросила веревку еще раз. На этот раз Элрик ухватил ее свободной левой рукой. Девушка начала тащить за свой конец самодельной веревки. Элрик почувствовал, как его чуть-чуть приподняло, но это движение тут же прекратилось. – Ничего не получится, Элрик! У меня не хватает сил. Проклиная ее, Элрик прокричал: – Привяжи ее к коню! Она подбежала к одной из лошадей и завязала жгут узлом на луке седла. Потом она повела коня за узду, и тот медленно пошел, таща за собой Элрика. Постепенно Элрик выбрался из трясины. Продолжая сжимать Буревестник в правой руке, он лежал на нетвердой почве тропинки. Тяжело дыша, он попытался встать, но ноги почти не слушались его. Он поднялся, но тут же снова упал. Шаарилла встала рядом с ним на колени. – Ты не ранен? Элрик, преодолевая слабость, улыбнулся: – Не думаю. – Это было ужасно. Я плохо видела, что происходит… Что это было? Ты словно исчез куда-то, а потом… потом ты выкрикивал это имя! – Шаариллу трясло, лицо ее было бледным и напряженным. – Какое имя? – с искренним недоумением спросил Элрик. – Какое имя я выкрикивал? Она покачала головой. – Это неважно… каким бы ни было это имя, оно тебя спасло. Вскоре после этого ты снова появился и рухнул в трясину. Сила Буревестника продолжала переливаться в альбиноса, который уже чувствовал, что в состоянии встать. Поднявшись на ноги, он неуверенной походкой направился к своему коню. – Я уверен, что Туманный великан обычно не охотится в этих местах. Его сюда направили. Кто или что – не знаю, но нам нужно поскорее добраться до более твердой почвы. Шаарилла спросила: – Двигаясь в какую сторону – назад или вперед? Элрик нахмурился. – Конечно вперед. Что это ты? Сглотнув, Шаарилла потрясла головой. – Тогда поспешим, – сказала она. Они сели на коней и, почти не думая об опасности, скакали, пока болото, покрытое одеялом тумана, не осталось позади. Теперь, когда Элрик понял, что какая-то сила пытается ставить препоны на их пути, они стали спешить – отдыхали мало и гнали своих сильных лошадей, пока те чуть не падали с ног от усталости. На пятый день они оказались в пустынной скалистой местности, где моросил дождь. Твердая земля под копытами лошадей была скользкой, а потому они ехали медленно, приникая к промокшим гривам, кутаясь в плащи, которые почти не спасали от назойливого дождя. Они ехали некоторое время в молчании, а потом услышали впереди жутковатый, похожий на лай хохот и стук копыт. Элрик указал на скалу справа от них. – Укроемся там, – сказал он. – Что-то движется нам навстречу. Возможно, новые враги. Если повезет, они проедут мимо. Шаарилла молча повиновалась ему, и они вдвоем, стоя под скалой, слушали, как приближается к ним этот отвратительный лай. – Один всадник… и несколько каких-то тварей, – сказал Элрик, прислушиваясь. – Твари либо сопровождают, либо преследуют его. Потом они увидели их, несущихся под дождем. Человек отчаянно пришпоривал такую же испуганную, как он, лошадь, а за ним, сокращая расстояние, мчалась стая зверей, которых Элрик и Шаарилла поначалу приняли за собак. Но это оказались не собаки, а полупсы-полуптицы с худыми косматыми телами и собачьими ногами, заканчивающимися птичьими когтями. Вместо собачьих морд у них были изогнутые птичьи клювы. – Это охотничьи собаки Дхарзи, – выдохнула Шаарилла. – Я думала, что их давно уже нет на свете, как и их хозяев! – Я тоже так думал, – сказал Элрик. – Что им здесь надо? Между Дхарзи и обитателями этих земель никогда не было никаких контактов. – Что-то привело их сюда, – прошептала Шаарилла. – Эти проклятые собаки несомненно учуют нас. Элрик потянулся к рунному мечу. – Тогда мы ничего не потеряем, если попытаемся помочь их возможной добыче, – сказал он и пришпорил коня. – Жди здесь, Шаарилла. В этот момент дьявольская стая преследователей и их жертва как раз проносились мимо скалы, под которой прятались Элрик и Шаарилла, в направлении узкого ущелья. Элрик стегнул коня и устремился следом. – Эй! – крикнул он обезумевшему от страха всаднику. – Развернись и встань – я тебе помогу! С высоко поднятым рунным мечом Элрик поскакал на щелкающих клювами воющих собак, и копыто его коня ударило одну из них с такой силой, что хребет этой нездешней твари переломился. Оставалось еще пять или шесть необычных собак. Всадник развернул коня и извлек из своих ножен длинный изогнутый меч. Это был маленький человек с широким уродливым ртом. Он с облегчением ухмыльнулся. – Эта встреча – мой счастливый случай, добрый господин. Большего сказать он не успел – две собаки набросились на него, и он был вынужден сосредоточиться на защите от смертоносных когтей и щелкающих клювов. Три другие собаки принялись за Элрика. Одна из этих злобных тварей высоко подпрыгнула, нацелив свой клюв на его горло. Он ощутил мерзкое дыхание на своем лице и не медля нанес Буревестником удар, который рассек собаку на две части. Элрика и его коня окропила грязная кровь, от запаха которой две оставшиеся собаки стали еще яростнее нападать на него. Но, вкусив этой крови, танцующий рунный меч запел свою торжествующую песню, и Элрик почувствовал, как Буревестник повел за собой его руку и нанес удар еще одной мерзкой твари. Острие меча вонзилось прямо в грудь собаке, попытавшейся прыгнуть на альбиноса. Собака завизжала в мучительной агонии и попыталась клювом схватить клинок. Но когда клюв прикоснулся к сверкающему металлу меча, в ноздри Элрику ударило жуткое зловоние, похожее на запах гари, и тварь взвыла. Занимаясь последней оставшейся собакой, Элрик краем глаза увидел обуглившееся собачье тело. Его конь встал на дыбы и обрушился на оставшуюся в живых псину своими передними копытами. Собака увернулась и набросилась на Элрика слева – с той стороны, откуда он не ждал нападения. Альбиносу пришлось развернуться в седле, и тогда он сумел нанести удар по собачьему черепу, который раскололся, забрызгав влажную землю кровью и мозгами. Правда, собака еще была жива и попыталась было ухватить Элрика своим клювом, но сил у нее уже не осталось, и мелнибониец, не обращая внимания на эту тщетную попытку, пришел на помощь маленькому человеку. Тот уже расправился с одной из собак, но вторая доставляла ему немало трудностей. Собака ухватила его меч своим клювом почти у самой рукояти. Собачьи когти были близко от горла человека, который пытался стряхнуть эту тварь со своего меча. Элрик ринулся вперед, держа рунный меч как копье, нацеливая его на болтающуюся в воздухе собаку, которая пыталась вцепиться когтями в ускользающую от нее добычу. Буревестник вонзился в нижнюю часть туловища собаки и рванулся вверх, разрезая эту тварь надвое до самой ее глотки. Собака выпустила из клюва меч и, агонизируя, упала на землю. Конь Элрика ударил ее копытами. Тяжело дыша, альбинос всунул меч в ножны и настороженно посмотрел на человека, которого спас. Он избегал контактов, в которых не было необходимости, и не хотел чувствовать себя неловко под градом благодарностей, которыми должен был разразиться спасенный. Он не обманулся – уродливый широкий рот сложился в веселую ухмылку, и человек поклонился в седле, возвращая свой изогнутый меч в ножны. – Благодарю тебя, мой добрый господин, – оживленно сказал он. – Без твоей помощи схватка могла бы продолжаться дольше. Ты лишил меня неплохого развлечения, но руководствовался лучшими побуждениями. Меня зовут Мунглам. – Элрик из Мелнибонэ, – ответил альбинос, но спасенный никак не прореагировал на это имя. Это было странно, потому что имя Элрика пользовалось дурной славой в большей части мира. История его предательства и убийства кузины Симорил передавалась из уст в уста и по-всякому приукрашивалась в тавернах Молодых королевств. Хотя он и ненавидел эту реакцию, но привык к тому, что, назвав свое имя, наблюдал смятение на лицах людей. Впрочем, Элрика узнавали по одной его бледной коже. Заинтригованный неведением Мунглама, Элрик испытал странный интерес к самоуверенному маленькому всаднику. Элрик внимательно разглядывал его, пытаясь понять, откуда тот родом. На Мунгламе не было доспехов, его одежда из синей ткани повыцвела, испачкалась в дорожной грязи и изрядно поизносилась. На широком ремне висели меч, кинжал и кошелек из шерстяной ткани. Кожа высоких, до колен, сапог потрескалась. Сбруя его коня тоже была далеко не новой, но хорошего качества. Сам всадник был не более пяти футов ростом, с непропорционально длинными относительно остального тела ногами. У него был короткий вздернутый нос под серо-зелеными глазами, большими и по виду невинными. Пряди ярко-рыжих волос падали ему на лоб и свободно ложились на плечи. Он удобно сидел в седле, все еще продолжая ухмыляться, но теперь взгляд его был устремлен за спину Элрика – на приближавшуюся к ним Шаариллу. Мунглам вежливо поклонился, когда девушка остановила коня. Элрик холодно сказал: – Госпожа Шаарилла – господин Мунглам из… – Из Элвера, – сообщил Мунглам. – Торговой столицы Востока, лучшего города мира. Элрику было знакомо это название. – Значит, ты из Элвера, господин Мунглам. Я слышал об этом месте. Совсем молодой город. Всего несколько веков. Далеко же ты ушел от дома. – Воистину так. Без знания языка, на котором говорят в этих краях, путешествие было бы куда как сложнее, но, к счастью, раб, который сподвиг меня на это путешествие своими рассказами, досконально научил меня языку этих мест. – Но зачем ты отправился в эти края… разве ты не знаешь легенд? – недоверчиво спросила Шаарилла. – Легенды-то и привели меня сюда, и я уже начал было сомневаться в них, но тут на меня набросились эти противные щенки. Понятия не имею, с чего это они на меня ополчились, потому что я не дал им ни малейшего повода для такой антипатии. Вот уж воистину варварская страна. Элрик испытывал неловкое чувство. Пустая болтовня такого рода явно была по вкусу Мунгламу, но никак не склонному к созерцательности Элрику. И тем не менее Элрик чувствовал, что ему все больше и больше нравится этот человек. Мунглам предложил продолжить путь вместе. Шаарилла была против, о чем известила Элрика остерегающим взглядом, но Элрик решил не обращать внимания на ее предостережение. – Отлично, друг Мунглам, ведь трое сильнее, чем двое. Мы будем рады твоей компании. Мы направляемся к тем горам. – Настроение Элрика тоже переменилось в лучшую сторону. – И что вы там ищете? – спросил Мунглам. – Это тайна, – ответил Элрик, и его новообретенный спутник, проявив благоразумную сдержанность, не стал переспрашивать.Глава третья Неестественный океан
Они продолжили путь. Дождь тем временем усилился, он плескался и пел среди скал, небо над их головами цветом напоминало потускневшую сталь, ветер заунывно завывал, исполняя свою погребальную мелодию. Три маленькие фигурки быстро продвигались в направлении черного горного хребта, вздыбившегося над миром, как о чем-то задумавшийся бог. И может быть, именно бог смеялся время от времени по мере их приближения к горным подножиям. Или, возможно, это ветер свистел среди таинственных каньонов и пропастей, среди нагромождений базальтовых и гранитных скал, поднимавшихся к одиноким пикам, вокруг которых формировались грозовые тучи, пускавшие вниз молнии, похожие на гигантские пальцы, что обшаривают землю в поисках пищи. Над кряжами гремел гром, и Шаарилла наконец решилась поделиться своими сомнениями с Элриком. Она их высказала, когда увидела вдалеке эти горы. – Элрик, давай вернемся. Прошу тебя. Забудь об этой Книге – против нас ополчилось слишком много сил. Не отворачивайся от предзнаменований, Элрик, иначе мы обречены! Но Элрик хранил мрачное молчание – он уже давно почувствовал, что Шаарилла больше не горит энтузиазмом продолжать поиски, которые сама и затеяла. – Элрик, прошу тебя. Мы никогда не найдем Книгу. Элрик, давай повернем назад. Она ехала рядом с ним, хватая его за рукав. Элрик наконец сбросил ее руку и сказал: – Мой интерес теперь слишком велик, и не в моих силах остановиться. Ты можешь либо по-прежнему показывать дорогу, либо сообщить мне то, что знаешь, и остаться здесь. Раньше ты желала обратиться к мудрости Книги, а теперь маленькие трудности испугали тебя. Что ты хотела узнать, Шаарилла? Не ответив на его вопрос, она сказала: – А что хотел узнать ты, Элрик? Ты говорил, что ищешь покоя. Ну так вот, я тебя предупреждаю, покоя в тех мрачных горах ты не найдешь, если только мы вообще до них доберемся. – Ты не была откровенна со мной, Шаарилла, – холодно сказал Элрик, продолжая смотреть вперед на черные пики. – Тебе известно, что за силы пытаются нас остановить. Она пожала плечами. – Это не имеет значения… я знаю слишком мало. Мой отец высказал мне несколько туманных предупреждений перед смертью, только и всего. – И что же он сказал? – Он сказал, что тот, кто сторожит Книгу, пойдет на все, чтобы не позволить человечеству использовать ее мудрость. – Что еще? – Больше ничего. Но этого достаточно, и теперь я понимаю, что предупреждение моего отца не было пустым звуком. Именно этот страж и убил отца. Он или кто-то из его слуг. Я не хочу повторить его судьбу, что бы ни сулила мне Книга. Я думала, ты достаточно силен и способен мне помочь, но Теперь я в этом сомневаюсь. – Пока что мне удавалось тебя защитить, – просто сказал Элрик. – А теперь скажи мне, что ты хочешь узнать из Книги. – Мне стыдно говорить об этом. – Элрик не стал настаивать, но она сказала сама, перейдя на шепот: – Я ищу свои крылья. – Крылья? Ты хочешь сказать, что рассчитываешь найти там заклинание, которое поможет тебе отрастить крылья? – иронически улыбнулся Элрик. – И ради этого ты ищешь самое великое хранилище мудрости на земле? – Если бы тебя считали уродом в твоей собственной стране, то и тебе не казалось бы это мелочью, – вызывающе крикнула она. Элрик повернулся к ней, его малиновые глаза светились странным чувством. Он приложил руку к своей мертвенно-бледной щеке и криво улыбнулся. – Я когда-то чувствовал то же самое, – тихо сказал он. Больше он ничего не добавил, и пристыженная Шаарилла снова поехала следом за ним. Они скакали молча, но вот Мунглам, который вежливо ехал впереди, наклонил голову и внезапно натянул поводья. Элрик подъехал к нему. – В чем дело, Мунглам? – Я слышу лошадей, – сказал маленький человечек. – А еще знакомые голоса, при звуках которых мне становится тревожно. Снова эти дьявольские собаки, но теперь в сопровождении всадников. Элрик теперь тоже услышал эти звуки и предупреждающе крикнул Шаарилле: – Возможно, ты была права! У нас снова неприятности. – Что будем делать? – спросил, нахмурившись, Мунглам. – Поскачем в гору, – ответил Элрик, – может, еще удастся опередить их. Но бежать уже было поздно. Скоро на горизонте показалась черная свора, и по-птичьему резкий лай стал приближаться. Элрик оглянулся на преследователей. Опускалась ночь, и видимость ухудшалась с каждым мгновением, но Элрику поКазалось, что он видит всадников, скачущих за сворой. На них были темные плащи, в руках – длинные пики. Лиц всадников Элрик не различил – они были не видны под капюшонами, закрывавшими их головы. Теперь Элрик и его спутники гнали лошадей вверх по крутому склону, пытаясь найти убежище среди скал. – Мы остановимся здесь, – сказал Элрик, – и попытаемся отбиться. На открытом пространстве у нас нет шансов. Мунглам утвердительно кивнул, соглашаясь с разумностью слов Элрика. Они остановили своих взмыленных лошадей и приготовились к схватке с воющей стаей и ее хозяевами в черных плащах. Скоро первые из дьявольских собак уже карабкались вверх по склону, с их клювов капала слюна, а их когти царапали камни. Элрик и Мунглам встали между двумя камнями и, преградив путь, встретили первую собачью атаку, быстро расправившись с тремя тварями. Место убитых заняли другие, а за ними, когда сумерки сгустились еще больше, показались первые всадники. – Ариох! – выругался Элрик, внезапно узнав всадников. – Это же властелины Дхарзи. Они мертвы вот уже десять веков. Мы сражаемся с мертвецами, Мунглам, и с довольно-таки осязаемыми призраками их собак. Если я не вспомню какой-нибудь колдовской способ разделаться с ними, мы обречены! Мертвые всадники, казалось, пока не имели ни малейшего желания принимать участие в нападении. Они ждали. Их мертвые глаза загорались потусторонним светом, когда очередная партия дьявольских собак набрасывалась на Элрика и его спутника, которые защищались, выставив перед собой заслон из сверкающей, звенящей стали. Элрик напрягал память, пытаясь вспомнить заклинание, с помощью которого можно Было бы отделаться от этих живых мертвецов. Потом он вспомнил и, надеясь, что силы, к которым ему приходится обращаться, помогут им, начал распевать:Они добрались до гор на следующий день, и Шаарилла, волнуясь, повела их заученным ею маршрутом между скал. Она больше не просила Элрика повернуть назад – Шаарилла была готова принять ту судьбу, что ее ожидает. Элрик горел одержимостью, его наполняло нетерпение – ведь он был уверен, что непременно найдет окончательную истину существования в Книге Мертвых Богов. Мунглам был настроен скептически, хотя и на веселый лад, а Шаарилла была поглощена предзнаменованиями. Продолжал моросить дождь, а над ними рычал и грохотал гром. Когда неугомонный дождь стал набирать силу, они оказались наконец перед черным зияющим входом в огромную пещеру. – Дальше я не смогу вас вести, – устало сказала Шаарилла. – Книга находится где-то в этой пещере. Элрик и Мунглам неуверенно переглянулись, никто из них не был уверен относительно дальнейших действий. Цель их казалась теперь такой легкодостижимой – вход в пещеру был свободен, и никто его вроде бы не охранял, – и это расходилось с тем, с чем они сталкивались до сих пор. – Невозможно, чтобы опасности, которые преследовали нас, возникали сами по себе, без чьего-либо влияния, – сказал Элрик. – И тем не менее мы у цели, а нашему входу никто не препятствует. Ты уверена, что это та самая пещера, Шаарилла? Девушка указала на скалу над входом. На ней был виден странный символ – Элрик сразу же его узнал. – Знак Хаоса! – воскликнул он. – Я должен был давно догадаться. – И что он означает, Элрик? – спросил Мунглам. – Это знак непрекращающегося распада и столпотворения, – сказал ему Элрик. – Мы находимся на территории, подвластной Повелителям Энтропии или кому-то из их слуг. Вот, оказывается, кто наши враги! Это может означать только одно: Книга имеет чрезвычайную важность для порядка вещей в этом мире, а возможно, и во всех мириадах миров мультивселенной. Поэтому-то Ариох с такой неохотой и пришел мне на помощь – ведь он тоже один из Владык Хаоса! Мунглам недоуменно смотрел на Элрика. – Что ты хочешь этим сказать, Элрик? – Разве ты не знаешь, что миром управляют две силы, ведущие между собой бесконечную борьбу? – ответил Элрик. – Закон и Хаос. Сторонники Хаоса утверждают, что в том мире, где они властвуют, возможно все. Противники Хаоса – те, кто стал союзником силам Закона – утверждают, что без Закона ничто материальное невозможно. Некоторые стоят в стороне, веря, что правильное положение вещей – это состояние равновесия между двумя силами. Но мы не можем занять такую позицию. Мы вовлечены в спор между ними. Книга, несомненно, имеет ценность для обеих сторон, и я могу предположить, что слуги Энтропии обеспокоены – они боятся той силы, что мы можем высвободить, заполучив Книгу. Закон и Хаос редко вмешиваются в ход событий непосредственно, поэтому-то мы и не полностью ощущали их присутствие. Теперь я, возможно, найду наконец ответ на тот вопрос, который не дает мне покоя: есть ли некая высшая сила, которая правит противостоящими друг другу Законом и Хаосом. Элрик шагнул в пещеру, вглядываясь во мрак; двое других неуверенно последовали за ним. – Эта пещера уходит далеко в глубь горы. Мы можем только идти и идти, пока не упремся в стену, – сказал Элрик. – Будем надеяться, что нам не придется спускаться вниз, чтобы добраться до этой стены, – иронически сказал Мунглам, приглашая Элрика возглавить шествие. Они, спотыкаясь, продвигались вперед, а в пещере становилось все темнее и темнее. Их голоса отдавались от стен и оглушали их, а пол пещеры начал резко уходить вниз. – Это не пещера, – прошептал Элрик. – Это туннель, только вот не могу понять, куда он ведет.
Несколько часов шли они в полной темноте, цепляясь друг за друга, неуверенно отыскивая опору для ног и по-прежнему чувствуя, что пол неуклонно уходит вниз. Они утратили чувство времени, и Элрику стало казаться, что все это происходит с ними во сне. События приняли такой непредсказуемый оборот инастолько вышли из-под его контроля, что он уже просто не мог думать о происходящем в рамках обыденности. Туннель был длинен, широк, воздух в нем стоял холодный. Все здесь вызывало страх, и единственной реальностью представлялся только твердый пол под их ногами. Элрику начало казаться, что, возможно, движется не он, что движется пол, а он, Элрик, остается неподвижным. Его спутники цеплялись за него, но он не ощущал их присутствия. Он чувствовал себя потерянным, и мозг его онемел. Иногда его покачивало, и у него возникало впечатление, что он находится на краю пропасти. Иногда он падал, и его измученное тело ударялось о жесткий камень, а он таким образом находил опровержение своим ощущениям – пропасти, в которую он опасался свалиться, рядом с ним не было. Он по-прежнему заставлял свои ноги шагать, хотя и вовсе не был уверен в том, что на самом деле перемещается в пространстве. И время здесь ничего не значило – оно стало бессмысленным, ни с чем не соотнесенным понятием. Наконец впереди забрезжило слабое голубоватое мерцание, и тогда он понял, что все это время они все же не стояли на одном месте. Он бросился бегом вниз по склону, но, поняв, что передвигается слишком быстро, замедлил шаг. Он ощутил запах присутствия чего-то потустороннего в прохладном воздухе пещеры-туннеля, и страх, управлять которым он был не в силах, волной разлился по его жилам. Другие, хотя они и не произнесли ни слова, несомненно, испытывали то же самое – Элрик чувствовал это. Они Медленно двигались вниз, приближаясь к бледно-голубому мерцанию под ними. Потом туннель внезапно кончился, и их испуганным взорам открылось неземное видение. Над ними сам воздух, казалось, светился тем странным голубоватым оттенком, который и привлек их внимание некоторое время назад. Они стояли на выступающей каменной плите, и, хотя вокруг по-прежнему царила темнота, голубоватое мерцание освещало под ними участок сверкающего серебром берега. Берег омывало плещущееся темное море, которое беспокойно двигалось, словно некий жидкий великан в тревожном сне. На серебряном берегу здесь и там виднелись неясные очертания остатков кораблекрушений – остовы судов необычных конструкций, среди которых не было двух похожих. Море уходило в бесконечную мглу, не имевшую горизонта, – сплошная чернота. У них за спиной находился голый утес, вершина которого тоже терялась в темноте. И здесь царил холод, настоящий холод, лютый и пронзительный. И хотя внизу плескалось море, сырости в воздухе не ощущалось, как не ощущалось и запаха соли. Вид был мрачный и внушающий трепет, и, если не считать моря, кроме них, здесь все было абсолютно бездвижно, кроме них, ничто не производило никаких звуков, потому что море накатывалось на берег с ужасающей бесшумностью. – И что теперь, Элрик? – спросил Мунглам с дрожью в голосе. Элрик недоуменно покачал головой. Они долго стояли так, пока альбинос – вид его белых рук и лица в этом неземном свете наводил ужас – не сказал: – Поскольку возвращаться не имеет смысла, мы попытаемся пересечь море. Голос его звучал глухо, и казалось, будто он не осознает значения своих слов. Ступеньки, вырубленные в скале, вели вниз к берегу, и Элрик начал спускаться по ним. Остальные, оглядываясь вокруг – глаза их светились какой-то жуткой покорностью, – последовали за Элриком.
Глава четвертая О расставаниях и выгодах
Звук их шагов нарушал тишину; они спустились на серебряный берег, кристаллическая галька которого хрустела под их ногами. Малиновые глаза Элрика заметили какой-то предмет, лежащий на берегу. Он улыбнулся, затем помотал головой, словно пытаясь освободиться от чего-то навязчивого. Дрожа от возбуждения, он указал на лодку, и остальные увидели, что она, в отличие от других судов и суденышек, невредима. Лодка была выкрашена в желтый и красный цвета и выглядела вульгарно веселой в общей атмосфере тревоги. Приблизившись, они увидели, что лодка сделана из дерева неизвестной им породы. Мунглам провел короткими пальцами по борту. – Жесткое, как железо, – выдохнул он. – Неудивительно, что она не сгнила, как остальные. – Он заглянул внутрь и вздрогнул. – Что ж, владелец не будет возражать, если мы ее заберем, – сухо добавил он. Элрик и Шаарилла поняли, что он имеет в виду, когда увидели неестественно скрюченный скелет, лежащий на днище лодки. Элрик вышвырнул эти бренные останки из лодки на береговую гальку. Скелет с грохотом покатился по сверкающим камням, разваливаясь на части и оставляя за собой след из костей. Череп лег у самой кромки воды, словно глядя безглазым взором на волнующуюся морскую пучину. Элрик и Мунглам потащили лодку к морю, а Шаарилла, подойдя к воде, села на корточки и погрузила руки в воду. Она тут же резко вскочила, стряхивая с рук влагу. – Насколько я понимаю, это не вода, – сказала она. Они услышали ее слова, но ничего не ответили. – Нам нужен парус, – пробормотал Элрик. Над водой гулял холодный ветерок. – Сгодится плащ. – Он снял с себя плаш и привязал его к мачте лодки. – Двоим из нас придется держать его с одной и с другой стороны, – сказал он. – Таким образом мы хоть немного сможем контролировать направление движения. Парус самодельный, но лучшего нам все равно не придумать. Они оттолкнулись от берега, стараясь не замочить ноги в море. Парус поймал ветерок, и лодка понеслась по воде резвее, чем это показалось Элрику поначалу. Суденышко рвалось вперед, словно подчиняясь собственному желанию, а Элрик и Мунглам до боли в мышцах удерживали края паруса. Скоро они потеряли из виду серебряный берег, и теперь все, что они могли видеть, – это светло-голубое мерцание наверху, которое почти не рассеивало мрак. Именно тогда они и услышали хлопанье крыльев в вышине и подняли головы. На них молча спускались три здоровенных обезьяноподобных существа на громадных крыльях. Шаарилла узнала их и в ужасе выдохнула: – Клакары! Мунглам, пожав плечами, спешно извлек свой меч. – Мне это название ничего не говорит… Кто они такие? Однако ответа он не получил, потому что первая крылатая обезьяна спланировала вниз, разевая пасть и что-то бормоча, с ее длинных клыков капала слюна. Мунглам отпустил конец паруса и попытался ударить тварь мечом, но та увернулась, сделав мощный взмах крыльями и снова устремившись ввысь. Элрик, вытащив из ножен Буревестник, удивился: клинок молчал, знакомой звонкой песни не было слышно. Меч дрожал в его руке, и вместо притока энергии, ощущавшегося им обычно в таких случаях, он чувствовал лишь легкое пощипывание. Он было запаниковал, потому что без меча мог быстро утратить все жизненные силы. Усилием воли подавляя в себе страх, он принялся отмахиваться мечом от планирующей на него обезьяны. Обезьяна ухватилась за клинок и опрокинула Элрика, но при этом закричала от боли, потому что меч пронзил ее узловатую лапу и отсек пальцы, которые, кровоточа и еще шевелясь, упали в лодку. Элрик, ухватившись за борт лодки, поднялся на ноги. Пронзительно крича, крылатая обезьяна снова бросилась на него, но на этот раз с большей осторожностью. Элрик собрал все силы и, взяв меч двумя руками, нанес удар, которым отсек одно из кожаных крыльев, после чего искалеченная тварь свалилась в лодку. Прикинув, где находится сердце этой бестии, Элрик вонзил ей меч ниже грудной кости. Обезьяна затихла. Мунглам яростно отбивался сразу от двух крылатых обезьян, которые нападали на него с двух сторон. Он стоял на одном колене, наудачу нанося удары. Он вспорол череп одной из тварей, но та, хотя и преодолевая боль, продолжала наступать на него. Элрик вслепую взмахнул Буревестником и нанес раненой бестии удар в горло, выставив меч острием вперед. Обезьяна ухватилась когтистой рукой за сталь клинка и свалилась за борт. Ее тело некоторое время продержалось на поверхности, но потом начало медленно погружаться. Элрик из последних сил цеплялся за рукоятку меча, далеко перевешиваясь за борт. Невероятным образом меч тонул вместе с мертвой обезьяной. Элрик, который успел хорошо изучить свойства Буревестника, был поражен происходящим – теперь меч шел на дно, как делал бы это любой обычный меч. Он дернул за рукоять и все-таки извлек клинок из тела мертвой крылатой обезьяны. Элрик быстро терял силы. Происходившее было невероятно. Какие потусторонние законы управляли этим подземным миром? Никакого разумного объяснения не приходило в голову, и сейчас главной заботой Элрика было восстановление утраченных сил. Но без помощи рунного меча это было невозможно. Кривой меч Мунглама расчленил последнюю обезьяну, и теперь маленький человечек деловито перебрасывал мертвое тело за борт. Он повернулся к Элрику с торжествующей улыбкой на губах. – Неплохая драчка, – сказал он. Элрик покачал головой. – Мы должны как можно скорее пересечь это море, – ответил он. – Иначе нам конец. Я теряю силы. – Как? Почему? – Не знаю… Может быть, силы Энтропии здесь могущественнее, чем я думал. Поспешим, времени на размышления у нас нет. В глазах Мунглама поселилась тревога. Он мог только подчиняться Элрику. Элрик дрожал от слабости, из последних сил удерживая рвущийся из рук парус. Шаарилла придвинулась, чтобы помочь ему, ее руки касались его, глубоко посаженные глаза женщины смотрели с сочувствием. – Что это были за твари? – выдохнул Мунглам, его губы разошлись, обнажив белые зубы, дышал он тяжело. – Клакары, – ответила Шаарилла. – Это примитивные предки моего народа, доисторические существа. А мой народ считается старейшим на этой планете. – Кто бы ни пытался нас остановить в этих твоих поисках, я бы им посоветовал придумать какой-нибудь оригинальный способ, – ухмыльнулся Мунглам. – Старые методы тут не годятся. Однако его спутники даже не улыбнулись, потому что Элрик едва не терял сознание, а женщина была озабочена только его состоянием. Мунглам, глядя вперед, пожал плечами. Когда спустя какое-то время он заговорил снова, голос его зазвучал возбужденно. – Впереди земля! Это и в самом деле была земля, и они быстро к ней приближались. Слишком быстро. Элрик выпрямился и с трудом проговорил: – Отпустите парус! Мунглам подчинился. Лодка продолжала нестись вперед и наконец ударилась о такой же серебристый берег. Нос лодки пропахал темный шрам в сверкающей гальке. Лодка резко остановилась, накренившись на один бок, отчего все трое вывалились за борт. Шаарилла и Мунглам поднялись и поволокли безвольное тело альбиноса вверх по берегу. Они тащили Элрика, пока кристаллическая галька не сменилась плотным, мягким мхом и их шаги не стали беззвучными. Здесь они положили альбиноса и остановились, обеспокоенно глядя на него и не зная, что делать дальше. Элрик попытался подняться, но не смог. – Дайте мне время, – прошептал он. – Я не умру, но зрение отказывает мне. Я могу только надеяться, что на твердой земле к мечу вернется сила. Из последних сил он вытащил Буревестник из ножен и облегченно улыбнулся – рунный меч тихонько запел, Постепенно его песня начала звучать громче, а по всей длине клинка пробежала черная молния. Элрик почувствовал приток сил, энергия возвращалась к нему. Но несмотря на это, в его малиновых глазах застыло мучительное страдание. – Без этого Черного Меча я ничто, – простонал он. – Но что он делает со мной? Неужели я навечно связан с ним? Другие не ответили ему, но их тронули чувства, которые им были непонятны, чувства, представлявшие собой смесь страха, ненависти, сожаления и связанные с чем-то еще… Наконец Элрик, дрожа, поднялся и молча повел их по поросшему мхом склону горы к более естественному свету, мерцавшему наверху. Они видели, что источником этого света является широкая расселина, уходящая далеко вверх. В этом свете они вскоре смогли различить нечто темное неправильной формы, возвышавшееся в тени над щелью. Приблизившись, они увидели, что это замок из черного камня – нагромождение камней, поросшее темно-зеленым ползучим лишайником, который цеплялся за древние стены с чуть ли не сознательной настойчивостью. Казалось, что башни этого замка построены совершенно хаотическим образом и занимают огромное пространство. Окон нигде не было видно, а единственным отверстием, которое они увидели, был вход, перекрытый массивной металлической решеткой, отливавшей красноватым светом, но не излучавшей тепла. Над этими воротами золотистым цветом горел знак Повелителей Энтропии, представлявший собой восемь стрел, разлетающихся во все стороны из центра. Этот знак словно бы висел в воздухе, не касаясь черного, поросшего лишайником камня. – Я думаю, наш поиск здесь и заканчивается, – мрачно сказал Элрик. – Либо здесь, либо нигде. – Прежде чем я пойду дальше, Элрик, я должен знать, что ты ищешь, – пробормотал Мунглам. – Я думаю, что заслужил это право. – Одну книгу, – небрежно сказал Элрик. – Книгу Мертвых Богов. Она находится в стенах этого замка – я в этом уверен. Мы достигли цели нашего путешествия. Мунглам пожал плечами. – Я мог бы и не спрашивать, – улыбнулся он. – Твой ответ мало что мне говорит. Я надеюсь, что мне будет позволено получить хотя бы малую долю того сокровища, которое являет собой сия Книга. Элрик усмехнулся, хотя и чувствовал всем своим существом холодок страха. Он не ответил на пожелание Мунглама. Вместо этого Элрик сказал: – Но сначала нам надо войти внутрь. Ворота словно услышали его, металлическая решетка сверкнула бледно-зеленым светом, потом мерцание снова стало красным, и решетка в конце концов исчезла. Вход был открыт, и ничто не мешало им войти внутрь. – Не нравится мне это, – проворчал Мунглам. – Слишком уж просто. Нас ожидает ловушка. Неужели мы так легко отдадимся на милость того, кто обитает в стенах этого замка. – Ачто нам еще остается? – спокойно проговорил Элрик. – Вернуться или идти вперед, минуя этот замок. Не надо искушать того, кто сторожит Книгу! – Шаарилла цеплялась за правую руку альбиноса, ее лицо исказил страх, в глазах застыла мольба. – Забудь о Книге, Элрик! – Забыть сейчас? – невесело рассмеялся Элрик. – Пройдя столько испытаний? Нет, Шаарилла, это невозможно, когда истина так близко. Лучше уж умереть, чем не попытаться добыть мудрость из Книги, когда она в двух шагах. Шаарилла разжала пальцы, ее плечи безнадежно опустились. – Мы не можем сражаться со слугами Энтропии… – Возможно, нам и не придется. – Элрик сам не верил в свои слова, но губы его сжались в жесткую линию; его переполняли чувства – темные, напряженные и страшные. Мунглам бросил взгляд на Шаариллу. – Шаарилла права, – убежденно сказал он. – В этих стенах ты не найдешь ничего, кроме разочарования, а возможно, и смерти. Давай лучше поднимемся еще выше по тем ступеням и попытаемся выбраться на поверхность. Он указал на корявые ступеньки, которые вели к отверстию, зияющему в своде пещеры. Элрик покачал головой. – Нет. Если хочешь – иди один. Мунглам скорчил обеспокоенную гримасу. – Ты упрям, друг Элрик. Ну что ж, будь что будет. Я иду с тобой. Но лично я всегда предпочитал компромисс. Элрик медленно направился к темному входу мрачного огромного замка. В широком темном дворе их ждала высокая фигура, завернутая в алый огонь. Элрик, не останавливаясь, прошел через ворота. Мунглам и Шаарилла с опаской последовали за ним. Порывистый хохот вырвался изо рта великана, и алый огонь затрепетал вокруг него. Он был гол и безоружен, но исходящая от него сила чуть не отбросила троих спутников назад. Кожа у великана была чешуйчатой, дымчато-алого цвета. Он легко переминался с одной округлой ноги на другую, а на его массивном теле играли мощные мускулы. Череп у него был удлиненный, срезанный к затылку со лба, а его глаза напоминали заплаты из голубой стали без зрачков. Все тело великана сотрясалось от дикой, злобной радости. – Приветствую тебя, Элрик Мелнибонийский. Я Поздравляю тебя с удивительным упорством! – Кто ты? – прорычал Элрик, положив руку на меч. – Меня зовут Орунлу-Хранитель, а это – цитадель Повелителей Энтропии. – Великан цинично ухмыльнулся. – Не надо так нервно гладить твой хиленький клинок. Ты должен знать, что теперь я ничем не могу тебе повредить. Я получил Возможность переместиться в твое царство только после того, как дал такой обет. Голос Элрика выдал его растущее возбуждение. – Так значит, ты не можешь нас остановить? – Я не смею… поскольку мои тайные усилия не увенчались успехом. Однако должен признать, что твоя неразумная попытка несколько встревожила меня. Книга важна для нас. Но что она может значить для тебя? Я охраняю ее триста веков и ни разу не проявил любопытства – не попытался узнать, почему мои хозяева придают ей такое значение, почему они остановили ее полет на солнце и запрятали на этой скучнейшей земле, населенной глупыми существами, называемыми людьми, к тому же имеющими столь короткую жизнь. – Я ищу в ней Истину, – осторожно сказал Элрик. – Нет иной Истины, кроме Вечной борьбы, – убежденно сказал великан, излучающий алое пламя. – Что властвует над силами Закона и Хаоса? – спросил Элрик. – Что управляет вашими судьбами так же, как управляет моей? – На этот вопрос я не знаю ответа. Есть только Равновесие. – Тогда, может быть, Книга ответит нам, – сказал Элрик. – Пропусти нас и скажи, где она лежит. Великан отступил назад, иронически улыбаясь: – Она лежит в маленькой комнате центральной башни. Я поклялся никогда не заходить внутрь, но провести туда вас я могу. Идите, если хотите, свой долг я исполнил. Элрик, Мунглам и Шаарилла направились ко входу в замок, но, перед тем как им войти, великан предостерегающе заговорил за их спинами: – Мне говорили, что знание, содержащееся в Книге, Может нарушить равновесие в пользу сил Закона. Это меня беспокоит, но, выходит, есть и еще одна вероятность, которая беспокоит меня еще больше. – Какая? – спросил Элрик. – Это знание может оказать такое сокрушительное влияние на мультивселенную, что в результате наступит полная энтропия. Мои хозяева не желают этого, потому что в конечном счете это может привести к разрушению всей материи. Мы существуем только для того, чтобы сражаться, а не побеждать, для того, чтобы поддерживать вечную борьбу. – Мне все равно, – сказал Элрик. – Мне нечего терять, Орунлу-Хранитель. – Тогда иди, – сказал великан и зашагал через двор в темноту. Внутри башни ступеньки ведущей вверх винтовой лестницы были освещены бледным светом. Элрик начал молча подниматься, движимый собственной целью, предначертанной самой судьбой. Поколебавшись, Мунглам и Шаарилла последовали за ним, на их лицах было выражение вынужденного смирения. Все выше и выше поднимались ступени, неимоверно извиваясь на пути к их цели, и наконец трое оказались перед комнатой, наполненной ослепляющим светом, многоцветными колеблющимся, не проникавшим наружу, но целиком остававшимся в комнате, которая вмещала его. Зажмурившись и прикрывая красные глаза ладонью, Элрик вошел внутрь и сузившимися зрачками увидел источник света, лежавший на небольшой каменной подставке в центре комнаты. Шаарилла и Мунглам, тоже ослепленные, последовали за Элриком в комнату и в трепете остановились перед увиденным. Книга Мертвых Богов была огромна, ее обложка, инкрустированная неземными драгоценными камнями, и излучала этот ярчайший свет. Она сияла, она пульсировала светом и переливалась великолепными цветами. – Наконец-то! – выдохнул Элрик. – Наконец-то Истина откроется мне! На нетвердых ногах, словно пьяный, он сделал несколько шагов и протянул свои белые руки к тому, что искал с такой отчаянной безнадежностью. Его руки коснулись вибрирующей светом обложки Книги, дрожащие пальцы открыли ее. – Сейчас я узнаю, – с восторгом сказал он. Обложка с резким стуком упала на пол, драгоценные камни разлетелись по выстланному плитами полу. Под судорожно скрючившимися пальцами Элрика была только горка желтоватого праха. – Нет! – Его крик был исполнен боли и недоумения. – Нет! – Слезы потекли по его лицу, искаженному гримасой отчаяния. Руки Элрика погрузились в желтоватый прах. Со стоном, потрясшим все его существо, он упал на колени, уткнувшись лицом в распавшийся пергамент Книги. Время уничтожило Книгу, к которой никто не прикасался триста веков и о которой, возможно, просто забыли. Даже мудрые и всемогущие боги, создавшие ее, погибли, а теперь за ними в небытие последовало и их знание.Они стояли на склоне высокой горы, глядя на зеленые долины внизу. Светило солнце, небо было голубым и безоблачным. За ними находилась зияющая дыра, которая вела в цитадель Повелителей Энтропии. Элрик печальными глазами смотрел на мир, голова его упала на грудь под грузом усталости и темного отчаяния. Он не произнес ни слова с того времени, как спутники вытащили его, рыдающего, из комнаты, где лежала Книга. Теперь он поднял бледное лицо и заговорил голосом, исполненным самоиронии и горечи; это был голос одинокого человека, похожий на зов голодных морских птиц, кружащих в холодных небесах над мрачными берегами. – Теперь, – сказал он, – я буду жить, даже не зная для чего, не зная, имеет ли моя жизнь какую-нибудь цель или нет. А ведь, возможно, Книга сказала бы мне об этом. Но, скорее всего, я бы все равно не поверил прочитанному. Я вечный скептик, я вечно задаю себе вопрос: сам ли я совершаю те действия, что совершаю? Я никогда не знаю, ведет ли меня какое-то высшее существо или нет. Я завидую тем, кто знает. Теперь мне остается только продолжить поиски и надеяться – возможно, напрасно, – что, прежде чем истечет отведенный мне срок, истина откроется мне. Шаарилла взяла его безвольную руку в свои. В глазах ее стояли слезы. – Элрик, позволь мне утешить тебя. Альбинос горько усмехнулся. – Лучше бы нам никогда не встречаться, Шаарилла из Танцующего Тумана. На какое-то время ты дала мне надежду – я уже было решил, что обрел внутренний покой. Но теперь из-за тебя я впал в еще большее отчаяние, чем прежде. В этом мире нет спасения – только злосчастная судьба. Прощай. Он вырвал из ее рук свою и направился вниз по склону горы. Мунглам бросил взгляд на Шаариллу, а потом – на Элрика. Он вытащил что-то из кошелька и вложил в руку девушки. – Удачи тебе – сказал он и бросился следом за Элриком. Не останавливаясь, Элрик повернул голову, услышав приближение Мунглама, и, преодолевая отчаяние, сказал: – В чем дело, друг Мунглам? Почему ты пошел за мной? – Я уже довольно давно иду за тобой, господин Элрик, и не вижу причин останавливаться, – усмехнулся маленький человечек. – И потом, в отличие от тебя, я материалист. Нам ведь нужно будет есть, разве нет? Элрик нахмурился, чувствуя, как потеплело у него на душе. – Что ты имеешь в виду, Мунглам? Мунглам усмехнулся. – Я извлекаю пользу из любой ситуации, – ответил он и, вытащив свой кошелек, извлек что-то оттуда и протянул на раскрытой ладони Элрику. Сверкая и переливаясь множеством цветов, у него на ладони лежал один из драгоценных камней, украшавших обложку Книги. – У меня в кошельке есть еще, – сказал Мунглам. – И каждый стоит целое состояние. – Он взял Элрика под руку. – Идем, Элрик. Какие бы новые земли мы ни посетили, мы сможем обменять эти безделушки на вино и приятную компанию. У них за спиной на склоне горы стояла Шаарилла; глазами, полными отчаяния, смотрела она им вслед, пока они не исчезли из виду. Драгоценный камень, врученный ей Мунгламом, выпал из ее пальцев и, ярко сверкая своими гранями, подпрыгнул несколько раз, а потом исчез в вересковых зарослях. Потом она повернулась, и черный зев пещеры поглотил ее.
Майкл Муркок Поющая цитадель
Е. Дж. посвящается
Глава первая Корабль под черными парусами
Бирюзовое море было спокойно в золотистом цвете раннего вечера, и двое людей у леера стояли молча, вглядываясь в туманный северный горизонт. Один из них, высокий и худой, был закутан в тяжелый черный плащ. Капюшон его плаща был откинут назад, открывая длинные, молочного цвета волосы. Другой был рыжеволосым коротышкой. – Она была красивой женщиной и любила тебя, – сказал наконец коротышка. – Почему ты вдруг оставил ее? – Она была красивой женщиной, – ответил высокий, – но она бы заплатила за любовь ко мне высокую цену. Пусть уж лучше вернется в свои земли и останется там. Я уже убил одну женщину, которую любил, Мунглам. Не хочу убивать еще одну. Мунглам пожал плечами. – Я иногда спрашиваю себя, Элрик: а может, эта твоя мрачная судьба – плод твоего воображения, следствие больной совести? – Возможно, – безучастно ответил Элрик. – Но мне не хочется проверять эту теорию. Давай больше не будем к этому возвращаться. Море пенилось и бурлило под веслами, разрывающими его поверхность. Корабль быстро двигался в направлении порта Дхакос, столицы Джаркора, одного из самых сильных Молодых королевств. Менее чем за два года до этого король Джаркора Дхармит погиб во время злосчастного нападения на Имррир, и Элрик знал, что народ Джаркора в этой смерти винит его, Элрика, хотя все было совсем иначе. Его мало волновало, винят его или нет, потому что он по-прежнему презирал большую часть человечества. – Через час будет темно, а ночью нет смысла плыть, – сказал Мунглам. – Пожалуй, я пойду спать. Элрик хотел было ответить, но тут раздался отчаянный крик из «вороньего гнезда»: – Парус слева! Впередсмотрящий, похоже, уснул, потому что теперь надвигающийся на них корабль был виден даже с палубы. Элрик отошел в сторону – мимо них по палубе стремглав пронесся капитан, темнолицый таркешит. – Что это за корабль, капитан? – крикнул Мунглам. – Пантангская трирема, боевой корабль. Они идут на таран. – Капитан побежал дальше, командуя рулевому заложить руль вправо. Элрик и Мунглам пересекли палубу, чтобы получше разглядеть трирему. Это был корабль под черным парусом, выкрашенный в черное с обильной позолотой. На каждое весло триремы приходилось по три гребца против двух на их корабле. Еще они увидели, как разрезает воду нос триремы, заканчивающийся огромным медным тараном. У триремы были треугольные паруса, и ветер ей сопутствовал. Гребцы, обливаясь потом, в панике пытались выполнить команду рулевого. Весла нестройно поднимались и опускались, и Мунглам с подобием улыбки на губах повернулся к Элрику: – Ничего у них не получится. Лучше тебе приготовить свой меч, мой друг. Пан-Танг был островом чародеев, которые пытались соперничать с былой славой Мелнибонэ. Их флоты были из лучших в Молодых королевствах, и они пиратствовали повсюду. Теократом Пан-Танга, вождем ее жреческой аристократии был Джагрин Лерн, который, по слухам, заключил договор с силами Хаоса и собирался покорить весь мир. Элрик считал пантанщев выскочками, которые никогда не смогут сравняться в славе с его предками, но даже он вынужден был признать, что эта трирема выглядит внушительно и таркешитская галера неминуемо станет ее легкой добычей. Огромная трирема надвигалась на них с хорошей скоростью, и капитан и рулевой погрузились в молчание, поняв, что таранного удара им не избежать. Раздался звук трескающегося дерева – таран ударил по корме, и ниже ватерлинии у галеры образовалась пробоина. Элрик стоял неподвижно, глядя, как с триремы на палубу галеры полетели абордажные крючья. Таркешиты без особого энтузиазма бросились на корму, готовясь дать бой пиратам. Они понимали, что не смогут противостоять хорошо обученной и вооруженной команде пантанщев. Мунглам взволнованно крикнул: – Элрик, мы должны им помочь! Элрик неохотно кивнул. Ему было тошно при мысли, что нужно снова извлечь меч из ножен. В последнее время ему стало казаться, что сила меча возросла. Одетые в алое воины прыгали на палубу галеры. Первая волна, вооруженная палашами и боевыми топорами, набросилась на таркешитских моряков и стала теснить их. Элрик прикоснулся к рукояти Буревестника, и меч тут же издал свой прежний тревожный стон, словно предвкушая схватку, а по всей длине клинка прошла странная черная молния. Меч запульсировал в руке Элрика, как живое существо, и Альбинос бросился на помощь таркешитским морякам. Половина защитников уже была повержена, а остальные отступали. Элрик и Мунглам следом за ним выдвинулись вперед. Выражение на лицах воинов в алых доспехах изменилось – вместо мрачного торжества оно стало испуганным, когда огромный Черный Меч Элрика, разрубив доспехи одного из воинов, рассек его от плеча до нижнего ребра. Они явно узнали Элрика и его меч, потому что о том и о другом ходили легенды. Хотя Мунглам и был искусным бойцом, на него они даже не обратили внимания, поняв, что могут остаться в живых, только обратив все свои силы против Элрика. Меч выпивал души вражеских воинов, а Элрика обуяла жажда крови, свойственная его предкам. Альбинос и меч стали единым существом, но при этом меч подчинил Элрика себе. Воины падали направо и налево, они издавали крики не столько боли, сколько ужаса, понимая, что забирает у них меч. Четверо воинов набросились на Элрика, размахивая топорами. Он отсек голову одному, пронзил живот другому, отрубил руку третьему и вонзил острие в сердце последнего. Таркешиты приободрились, наступая следом за Элриком и Мунгламом, они очистили от нападавших палубу тонущей галеры. Взвыв волком, Элрик ухватился за канат – часть такелажа черно-золотой триремы – и перепрыгнул на палубу вражеского корабля. – За мной! – закричал Элрик. – Это наш единственный шанс. Галера обречена! Кормовая и носовая палубы триремы были приподняты. На носу стоял капитан в великолепных ало-голубых одеяниях, его лицо при таком неожиданном повороте событий исказил ужас. Он рассчитывал без особых усилий завладеть неплохой добычей, а теперь, похоже, добычей становился он сам. Элрик продвигался на нос триремы, а Буревестник пел свою заунывную песню, в которой торжество мешалось с восторгом. Оставшиеся воины больше не бросались на него – они сосредоточились на Мунгламе, возглавлявшем команду таркешитов. Путь Элрика к капитану был свободен. Капитан, принадлежавший к теократии Пан-Танга, судя по всему, был крепким орешком. Элрик, приближаясь к Капитану, увидел, что от доспехов противника исходит какое-то особое сияние – знак того, что они заколдованы. Внешность у капитана была типично Пантангская – коренастый, с густой бородой и злобными глазами над мощным крючковатым носом. Губы у него были красные и толстые, и их перекосило подобие улыбки, когда он, сжимая в одной руке меч, а в другой – боевой топор, приготовился встретить Элрика, взбегавшего по трапу наверх. Элрик перехватил Буревестник двумя руками и сделал выпад, направляя меч в живот капитану, однако тот отошел в сторону и отразил удар своим мечом, а другой рукой нанес удар, целясь топором в незащищенную голову Элрика. Альбиносу пришлось резко отклониться, он споткнулся и упал на палубу, и тут же сделал переворот, избегая удара меча, вонзившегося в палубу в том месте, где только что находилось его плечо. Буревестник словно бы сам отразил следующий удар топора, а потом резким движением отсек топорище от рукояти. Капитан выругался и, отбросив бесполезную рукоять, обеими руками поднял свой палаш. И снова Буревестник опередил собственную реакцию Элрика – клинок направился прямо в сердце врага. На мгновение заговоренный доспех остановил меч, но тут Буревестник издал душераздирающий вопль, задрожал, словно набираясь сил, и снова попытался вонзиться в доспех. На этот раз магическая броня раскололась, как скорлупа ореха, и грудь капитана, руки которого оставались поднятыми в готовности нанести удар, оказалась незащищенной. Глаза капитана расширились. Он отпрянул назад, забыв о своем палаше, не в силах оторвать взгляда от смертоносного рунного меча, который нанес ему удар ниже грудной кости. Лицо капитана исказила гримаса, он закричал и уронил свой палаш, ухватившись руками за клинок, который пил его душу. – Чардрос, помилуй и спаси… Нет!.. Он умер, понимая, что и душа его не спасется от рунного меча в руках альбиноса с волчьим лицом. Элрик вытащил Буревестник из мертвого тела, чувствуя прилив сил – меч передавал ему похищенную энергию. Элрик предпочитал не думать о том, что чем чаще он пользуется мечом, тем в большую зависимость от него попадает. На триреме в живых остались только рабы-гребцы. Пиратский корабль сильно накренился, потому что все еще был связан с тонущей галерой вонзившимся в нее тараном и абордажными крючьями. – Руби канаты и задний ход – быстро! – закричал Элрик. Моряки, поняв, что происходит, кинулись выполнять команду. Гребцы дали задний ход, и таран вышел из пробоины – раздался стон ломающегося дерева. Канаты абордажных крючьев были перерублены, и обреченная галера отчалила от триремы. Элрик пересчитал оставшихся в живых. На ногах оставалась половина команды, а их капитан погиб в самом начале схватки. Элрик обратился к рабам: – Если хотите получить свободу, гребите что есть сил на Дхакос. Солнце уже заходило за горизонт, но Элрик, приняв командование кораблем, решил плыть и ночью, ориентируясь по звездам. Мунглам недоуменно спросил: – Зачем ты предлагаешь им свободу? Мы могли бы продать их в Дхакосе и таким образом получить вознаграждение за сегодняшние труды! Элрик пожал плечами. – Я предлагаю им свободу, потому что так решил, Мунглам. Рыжеволосый отвернулся и отправился руководить очисткой палубы – мертвые тела нужно было сбросить за борт. Он решил, что никогда не сможет понять альбиноса. Ну что ж, подумал он, может, это и к лучшему. Из-за произошедших событий приход Элрика в Дхакос не остался незамеченным, и надежда на то, что он проникнет в город неузнанным, растаяла. Предоставив Мунгламу вести переговоры о продаже триремы и дележке денег между членами команды – о себе Мунглам тоже не забыл, – Элрик накинул на голову капюшон и, протиснувшись сквозь собравшуюся толпу, направился в знакомую ему гостиницу у западных ворот города.Глава вторая Послание белому волку
Тем же вечером, но позднее, когда Мунглам улегся спать, Элрик спустился в таверну внизу и расположился там за кубком вина. Даже самые завзятые ночные гуляки предпочли поискать другое место, когда увидели, кто оказался в таверне. Элрик сидел один в помещении, которое освещалось чадящим тростниковым факелом над входной дверью. Внезапно дверь открылась, и в проеме появился богато одетый молодой человек. Он заглянул внутрь. – Я ищу Белого Волка, – сказал вошедший, напряженно всматриваясь в фигуру мелнибонийца. Из-за темноты он плохо видел, с кем говорит. – В этих краях меня иногда называют таким именем, – спокойно сказал Элрик. – Ты ищешь Элрика из Мелнибонэ? – Да. У меня к нему послание. – Молодой человек вошел в помещение, кутаясь в плащ. В таверне было холодно, хотя Элрик и не замечал этого. – Меня зовут граф Йолан, я заместитель командира городской стражи, – высокомерно сказал молодой человек, подходя к столу, за которым сидел Элрик, и откровенно разглядывая его. – Ты храбр, если не таясь являешься сюда. Неужели ты думаешь, у народа Джаркора такая короткая память и они могут забыть, что именно ты заманил их короля в ловушку не далее как два года назад? Элрик отхлебнул вина и сказал, не отрывая кубка от губ: – Это только слова, граф Йолан. В чем твое послание? Уверенность оставила Йолана. Он слабо возразил: – Может быть, для тебя это одни слова, но что касается меня, то я в этом не сомневаюсь. Разве король Дхармит не был бы здесь сегодня, если бы ты не бежал с поля боя – того боя, который подорвал мощь морских владык и твоего собственного народа? Разве ты не воспользовался колдовством, чтобы спастись самому, вместо того чтобы помочь людям, которые считали тебя своим товарищем? Элрик вздохнул. – Я знаю, ты пришел сюда не для того, чтобы куражиться передо мной. Дхармит погиб на борту своего флагманского корабля во время начала атаки на Имррир в лабиринте, а не в последовавшем затем сражении. – Ты насмехаешься над моими вопросами, а потом предлагаешь в ответ неубедительную ложь, чтобы прикрыть собственный трусливый поступок, – горько ответил Йолан. – Моя бы воля, я прямо здесь угостил бы тебя твоим дьявольским мечом. Я знаю, как все было. Элрик медленно поднялся. – Твои колкости утомили меня. Когда ты созреешь, чтобы передать мне свое послание, оставь его у хозяина гостиницы. Он обошел столик и направился к лестнице, но остановился, когда Йолан ухватил его за рукав. Смертельно бледное лицо повернулось к графу. Алые глаза альбиноса опасно сверкнули. – Я не привык к такой фамильярности, молодой человек. Йолан убрал руку. – Прости меня. Я забылся. Не следовало мне давать волю эмоциям. Я пришел по деликатному делу – принес послание королевы Йишаны. Она ищет твоей помощи. – Я в такой же мере не склонен помогать другим, в какой не привык объяснять свои поступки, – нетерпеливо сказал Элрик. – В прошлом моя помощь не всегда приносила благо тем, кто за ней обращался. В этом убедился и Дхармит, единокровный брат твоей королевы. Йолан с мрачным видом сказал: – Ты повторяешь те самые слова, которыми я предостерегал королеву. И тем не менее она желает встретиться с тобой лично… сегодня. – Он нахмурился и отвел взгляд в сторону. – Должен сообщить, что я могу арестовать тебя, если ты откажешься. – Попробуй. – Элрик снова двинулся к ступеням. – Скажи Йишане, что эту ночь я проведу здесь, а утром тронусь в путь. Она может посетить меня здесь, если ей так уж нужно. – Он стал подниматься по лестнице, оставив Йолана с открытым ртом в пустой таверне.Телеб К’аарна нахмурился. Невзирая на всю свою искушенность в черной магии, в любви он был полным профаном, и Йишана, возлежавшая на своем меховом ложе, знала об этом. Ей доставляло удовольствие иметь в своей власти человека, который мог уничтожить ее одним-единственным заклинанием, если бы не его слабинка в вопросах любви. Хотя Телеб К’аарна занимал высокое положение в иерархии Пан-Танга, она прекрасно понимала, что для нее чародей не представляет никакой опасности. Напротив, интуиция говорила ей, что этот человек, который любит повелевать другими, сам жаждет повиноваться. И она не без удовольствия удовлетворяла эту его потребность. Телеб К’аарна продолжал хмуриться, глядя на нее. – Как же тебе поможет этот никчемный заклинатель, Если этого не могу сделать я? – пробормотал он, присаживаясь на ложе и поглаживая ее украшенную драгоценностями ногу. Йишана была уже немолодой женщиной и к тому же далеко не красавицей. Однако ее высокая, пухлая фигура, густые черные волосы и все ее чувственное лицо обладали какой-то гипнотической притягательностью. Не многие мужчины, которых она выбирала для своего услаждения, могли противиться ее чарам. Среди ее качеств не было ни добродушия, ни справедливости, ни мудрости или самопожертвования. Историки не сопроводят ее имя никаким благородным эпитетом. И тем не менее в ней была такая самодостаточность, нечто, отрицающее обычные стандарты, по которым можно судить о человеке, что все знавшие королеву восхищались ею, и подданные любили ее, любили так, как любят капризного ребенка, но при этом искренне и преданно. Теперь она тихонько подсмеивалась над своим любовником-чародеем. – Возможно, ты прав, Телеб К’аарна, но Элрик – это легенда. Это человек, о котором мир больше всего говорит и которого меньше всего знает. Сейчас у меня есть шанс узнать то, о чем другие могут только судачить, – его истинный характер. Телеб К’аарна сделал раздраженный жест. Он провел пятерней по своим длинным черным волосам, встал и подошел к столику, на котором стояли вино и фрукты. Он налил вина им обоим. – Если ты хочешь снова заставить меня ревновать, то тебе это, конечно же, удалось. Я знаю, что твое честолюбие не знает границ. Предки Элрика наполовину были демонами – его народ не принадлежит к роду человеческому, и судить их по нашим меркам нельзя. Мы обучаемся колдовству годами напряженного труда и самоограничений, а для Элрика и ему подобных колдовство – составная часть их природы. Ты за всю жизнь не узнаешь его тайн. Симорил, его возлюбленная кузина, умерла от его меча, а она была его нареченной невестой! – Меня трогает твоя забота. – Она лениво приняла кубок из его рук. – Но я все же продолжу осуществление моего плана. Ведь в конечном счете тебе так и не удалось выяснить природу этой цитадели! – Есть некоторые тонкости, в которые я еще не проник. – Так может, интуиция Элрика поможет найти ответ там, где твоих сил не хватает? – Йишана улыбнулась. Потом встала и выглянула в окно. Над шпилями Дхакоса в чистом небе висела полная луна. – Йолан задерживается. Если бы все прошло так, как я задумала, то он уже должен был бы привести Элрика. – Ты совершила ошибку, послав Йолана. Не нужно Было посылать такого близкого друга Дхармита. Он вполне мог бросить Элрику вызов и убить его! Она опять не смогла скрыть смеха. – Ты выдаешь желаемое за действительное. Ревность затмила твой разум. Я послала Йолана потому, что знала – он будет груб с альбиносом, что, возможно, ослабит его обычное безразличие и возбудит любопытство. Йолан был послан как наживка, которая доставит нам Элрика. – Так может, Элрик почувствовал это? – Я не такой уж мудрец, моя любовь, но мне кажется, мое чутье редко меня подводит. Скоро мы это узнаем. Немного позднее раздался осторожный стук в дверь, и Появилась горничная. – Моя королева, вернулся граф Йолан. – Один? – На лице Телеба К’аарны появилась улыбка. Скоро она исчезла – когда Йишана вышла из комнаты и оделась, чтобы идти на улицу. – Как ты глупа! – прорычал Телеб К’аарна в закрывшуюся за ней дверь и швырнул на пол кубок. Он уже потерпел неудачу в этом деле с цитаделью, а если Элрик вытеснит его, то он, Телеб К’аарна, может потерять все. Он погрузился в размышления – глубокие и мучительные.
Глава третья Созревание возмездия
Хотя Элрик и говорил, что не испытывает мук совести, его страдающие глаза опровергали это утверждение. Он сидел у окна, пил крепкое вино и предавался мыслям о прошлом. Со дня ограбления Имррира онскитался по свету, ища хоть какой-нибудь смысл в своей жизни, что-то, что оправдывало бы его существование. Ему не удалось найти ответа в Книге Мертвых Богов. Он не смог полюбить Шаариллу, бескрылую женщину из Мииррна. Он не смог забыть Симорил, которая все еще являлась ему в ночных кошмарах. Были и воспоминания о других снах – о судьбе, думать о которой он не отваживался. Он считал, что не ищет ничего, кроме покоя. Но ему Было отказано даже в покое смерти. В таком настроении он и пребывал, пока его воспоминания не были прерваны тихим стуком в дверь. Выражение его лица тут же стало жестким. Во взгляде малиновых глаз появилась настороженность, плечи распрямились, и теперь от него исходила ледяная уверенность. Он поставил кружку на стол и безразлично сказал: – Кто там – входи! В комнату вошла женщина, закутанная в темно-красный плащ. Узнать, кто это, в темноте было невозможно. Она закрыла за собой дверь и застыла, не говоря ни слова. Когда же наконец она заговорила, голос ее звучал не очень уверенно, хотя в нем слышалась и ирония. – Ты сидишь в темноте, господин Элрик, а я думала, что ты спишь. – Сон, госпожа, – это то занятие, которое более всего досаждает мне. Но я могу зажечь светильник, если темнота не привлекает тебя. Элрик подошел к столу и снял крышку с небольшого сосуда, в котором оказался древесный уголь. Он взял тонкий длинный трут и, опустив один его конец в сосуд, легонько подул. Скоро уголь засветился, пламя перекинулось на трут, и Элрик поднес его к тростниковому факелу, висевшему на стене над столом. Факел загорелся, по маленькой комнате заплясали тени. Женщина отбросила назад капюшон, и Элрик в свете факела увидел черные волосы, обрамлявшие ее лицо с резкими, бросающимися в глаза чертами. Она являла собой полный контраст со стройным, красивым альбиносом, который с высоты своего роста безразлично поглядывал на нее. Она не была привычна к столь безразличным взглядам, и новизна ощущений пришлась ей по вкусу. – Ты послал за мной, Элрик, и, как видишь, я пришла. – Она шутливо поклонилась. – Королева Йишана. – Он слегка поклонился в ответ. Теперь, стоя против него, она ощущала его силу – силу, которая притягивала к себе даже еще действеннее, чем ее собственная. Но он пока ничем не дал ей понять, что его влечет к ней. Она подумала, что ситуация, которая, по ее расчетам, могла стать интересной, может, по иронии судьбы, разочаровать ее. Но даже это забавляло ее. Элрика же против его воли заинтриговала эта женщина. Его приглушенные эмоции словно почувствовали, что Йишана сумеет их обострить. Это возбудило и встревожило его одновременно. Он немного расслабился и пожал плечами. – Я слышал о тебе, королева Йишана, в землях, далеких от Джаркора. Присядь, если хочешь. – Он указал ей на скамью, сам же уселся на край кровати. – Ты вежливее, чем об этом можно было судить по тому приглашению, что я получила от тебя. – Она улыбнулась и села, скрестив ноги и сложив перед собой руки. – Это означает, что ты выслушаешь предложение, с которым я пришла? Элрик улыбнулся ей в ответ. Он редко когда так улыбался – мрачной улыбкой, но без обычной горечи. – Пожалуй. Ты необычная женщина, королева Йишана. Я бы мог даже заподозрить, что в тебе течет мелнибонийская кровь, если бы не знал, кто ты на самом деле. – Не все твои «выскочки» из Молодых королевств так просты, как ты об этом думаешь, мой господин. – Возможно. – Теперь, разговаривая с тобой лицом к лицу, я не могу поверить во всю твою темную легенду… правда, с другой стороны, – она наклонила голову и откровенно посмотрела на него, – легенда вроде бы говорит о менее утонченном человеке, чем я вижу перед собой. – Таковы все легенды. – Ах, какую силу мы могли бы представлять, объединившись, ты и я… – полушепотом сказала она. – Предположения такого рода раздражают меня, королева Йишана. С какой целью ты пришла ко мне? – Прекрасно. Я ведь даже не надеялась, что ты выслушаешь меня. – Я выслушаю… но ничего другого не жди. – Что ж, слушай. Я думаю, даже ты по достоинству оценишь эту историю. Элрик слушал, и Йишане уже стало казаться, что ее история увлекла его…Несколькими месяцами ранее, рассказала Йишана Элрику, среди земледельцев из джаркорской провинции Гхарав пошли разговоры о каких-то таинственных всадниках, которые увозят из деревень молодых мужчин и женщин. Подозревая, что это дело рук разбойников, Йишана послала туда отряд своих Белых Леопардов – лучших джаркорских воинов, – чтобы они положили конец бесчинствам в провинции. Ни один из Белых Леопардов не вернулся. Был послан второй отряд – он не нашел никаких следов первого, но в долине неподалеку от города Токора наткнулся на странную цитадель. Описания этой цитадели были довольно путаными. Подозревая, что Белые Леопарды предприняли атаку на цитадель, но потерпели поражение, командир второго отряда проявил осторожность. Он оставил нескольких человек наблюдать за цитаделью и докладывать обо всем, что там происходит, а сам сразу же вернулся в Дхакос. Об одном можно было сказать со всей определенностью – несколькими месяцами ранее цитадели в долине не было. Йишана и Телеб К’аарна привели в долину крупный отряд. Оставленные наблюдатели исчезли, а Телеб К’аарна, увидев цитадель, туг же предупредил Йишану, что атаковать ее нельзя. – Вид был изумительный, господин Элрик, – продолжала Йишана. – Цитадель излучала все цвета радуги, которые постоянно изменялись, преображались. Все сооружение имело какой-то нереальный вид. То оно приобретало резкие очертания, то вдруг его контуры становились смутными, словно готовясь исчезнуть. Телеб К’аарна сказал, что цитадель эта имеет колдовскую природу, и это утверждение не вызывало у нас сомнений. Это что-то из царства Хаоса, сказал он и, вероятно, был абсолютно прав. – Она встала и вытянула руки. – Мы в наших краях не привыкли к таким крупномасштабным проявлениям колдовства. А Телеб К’аарна с колдовством знаком достаточно хорошо – он родом из города Кричащих Статуй, что на Пан-Танге, где такие вещи встречаются часто, – но Даже его это поразило. – И вы отправились обратно, – нетерпеливо подсказал ей Элрик. – Мы собирались. Мы с Телебом Каарной даже уже повернули назад во главе нашей армии, но тут раздалась музыка… Это была прекрасная, чудная, неземная, мучительная музыка, и Телеб К’аарна закричал, чтобы я как можно скорее ехала прочь. Я же медлила – музыка привлекала меня, но он хлестнул по крупу моей лошади, и мы поскакали со скоростью полета дракона. Тем, кто был рядом с нами, тоже удалось бежать, но мы увидели, как остальные повернули и, влекомые музыкой, поехали к цитадели. Две сотни воинов вернулись к ней… и исчезли. – И что же ты сделала? – спросил Элрик у Йишаны, которая пересекла комнату и села рядом с ним. Он подвинулся, чтобы освободить ей место. – Телеб К’аарна попытался выяснить природу цитадели – ее назначение, кто ею управляет. Но пока его гадания не сообщили ему ничего нового: царство Хаоса послало эту цитадель в царство Земли и теперь постепенно расширяет сферу своего влияния. Все большее число молодых мужчин и женщин похищается слугами Хаоса. – И кто же эти слуги? Йишана пересела поближе к Элрику, и на этот раз он не отодвинулся. – Никто из тех, кто пытался их остановить, не добился успеха… в живых остались лишь немногие. – И чего же ты хочешь от меня? – Помощи. – Она заглянула ему в глаза и прикоснулась к нему рукой. – Ты обладаешь знанием как Хаоса, так и Закона – старым знанием, инстинктивным знанием, если прав Телеб К’аарна. Да и богами твоими являются Владыки Хаоса. – Именно так, Йишана, а поскольку наши боги-покровители принадлежат Хаосу, то не в моих интересах бороться с кем-нибудь из них. И теперь он сам придвинулся к ней и улыбнулся, заглянув в ее глаза. Внезапно она оказалась в его объятиях. – Может быть, ты окажешься достаточно сильной, – загадочно сказал он, перед тем как их губы встретились. – А что касается остального, то мы можем поговорить об этом позднее. В сочной зелени темного зеркала Телеб К’аарна частично видел то, что происходило в комнате Элрика, но единственное, что он мог сделать, – это сердито наморщить лоб в полном бессилии. Он дергал себя за бороду, а вызвавшая его негодование сцена в десятый раз пропадала в глубине зеркала. Никакие его заклинания не могли ее вернуть. Он сидел на своем стуле из змеиных черепов и строил планы возмездия. Его возмездие должно созреть постепенно, ведь если Элрик окажется полезным в деле с цитаделью, то пока уничтожать его не имеет смысла…
Глава четвертая В пользу владык Хаоса
На следующее утро три всадника отбыли в направлении города Токора. Элрик и Йишана ехали бок о бок, но третий всадник, Телеб К’аарна, держался чуть поодаль и хмурил лоб. Если Элрика хоть сколько-то и смущала эта демонстрация со стороны человека, которого он вытеснил из сердца Йишаны, то он никак не показывал этого. Элрик, который против своей воли нашел Йишану более чем привлекательной, согласился по меньшей мере осмотреть цитадель и высказать свое мнение о том, что она собой представляет и как с ней можно бороться. Перед отъездом он обменялся несколькими словами с Мунгламом. Они ехали по прекрасным зеленым джаркорским полям, позолоченным жарким солнцем. До Токоры было два дня езды, и Элрик решил провести их с удовольствием. Чувствуя себя очень неплохо, он скакал рядом с Йишаной, смеялся с ней, радуясь ее радостям. Но в самой глубине его сердца – глубже, чем обычно, – с их приближением к таинственной цитадели зрела тревога. Он время от времени отмечал, что Телеб К’аарна смотрит с явным удовлетворением на то, на что должен бы смотреть с неудовольствием. Иногда Элрик кричал ему: – Эй, старый чародей, неужели ты не чувствуешь, насколько красоты природы лучше, чем интриги двора? У тебя вытянулось лицо, Телеб К’аарна, дыши полной грудью и радуйся вместе с нами! На что Телеб К’аарна хмурился и бормотал что-то себе под нос, а Йишана смеялась над ним и весело поглядывала на Элрика. Так они добрались до Токоры и обнаружили, что на месте города осталось только пожарище, от которого исходило зловоние, как от огромной мусорной кучи. Элрик втянул носом воздух. – Это работа Хаоса. Ты был прав, Телеб К’аарна. Какой бы пламень ни уничтожил этот город, это был не естественный пожар. Тот, кто сделал это, обретает все большую силу. Как тебе известно, между Владыками Закона и Хаоса обычно существует равновесие, причем никто из них не вмешивается непосредственно в дела нашего мира. Очевидно, что сейчас этот баланс нарушен, как это иногда случается, в пользу Владык Беспорядка, что позволило им проникнуть в наше царство. Обычно земной чародей на короткое время может получить помощь от Хаоса или Закона, но очень редко какая-либо из сторон закрепляется на Земле так сильно, как наш друг из цитадели. Но еще тревожнее другое: после завоевания таких прочных позиций их можно усиливать, а потому Владыки Хаоса, постепенно наращивая силы, смогут со временем подчинить себе всю Землю. – Ужасная возможность, – пробормотал чародей, которого такая перспектива и в самом деле напугала. Даже если он иногда и обращался за помощью к Хаосу, ни один человек не был заинтересован оказаться под властью Хаоса. Элрик снова запрыгнул в седло. – Давайте-ка поскорее в долину, – сказал он. – Ты уверен, что это благоразумно, после того что мы здесь увидели? – В голосе Телеба К’аарны слышалась тревога. Элрик рассмеялся. – Что? И это я слышу от чародея из Пан-Танга – острова, чьи маги заявляют, что знают колдовство не хуже моих предков, Сияющих императоров? Нет-нет! И потом, я сегодня не склонен к осторожности! – Я тоже, – воскликнула Йишана, обхватив ногами бока своего жеребца. – Едем, господа… к цитадели Хаоса. Ко второй половине дня они перевалили через горный хребет, окружавший долину, и их взорам предстала таинственная цитадель. Йишана описала ее хоть и точно, но не идеально. Элрик до боли в глазах вглядывался в это сооружение, и ему казалось, что оно простирается за пределы царства Земли в другой мир, а может быть, и в несколько миров сразу. Цитадель сверкала и сияла всеми известными земными цветами. Но Элрик узнал среди них и несколько неземных, принадлежащих иным плоскостям. Даже общие очертания цитадели виделись смутно. И напротив, окружающая долина представляла собой море темного пепла, который иногда, казалось, начинал вихриться, волноваться, посылать вверх фонтанчики праха, словно основные элементы природы тревожились и приходили в движение в присутствии потусторонней твердыни. – Итак? – Телеб К’аарна пытался успокоить своего занервничавшего коня, который пятился от цитадели. – Ты видел что-либо подобное в этом мире прежде? Элрик отрицательно покачал головой. – В этом мире – нет. Но такое я уже видел. Во время моего окончательного посвящения в мелнибонийские искусства мой отец взял меня с собой в астральной форме в царство Хаоса, где мой покровитель Ариох, Повелитель Семи Бездн, дал мне аудиенцию. Телеба К’аарну пробрала дрожь. – Так ты бывал в измерении Хаоса? Значит, это цитадель Ариоха? Элрик презрительно рассмеялся. – Это? Нет, это лачуга в сравнении с дворцами Владык Хаоса. Йишана нетерпеливо вмешалась в разговор: – Тогда кто же здесь обитает? – Насколько мне помнится, когда я в юности проходил сквозь царство Хаоса, в цитадели обитал не один из Владык Хаоса, а скорее их слуга. – Элрик нахмурился. – Даже не слуга… – Ты говоришь загадками. – Телеб К’аарна повернул коня и начал спускаться по склону в сторону от цитадели. – Знаю я вас, мелнибонийцев! Вы и голодая, предпочтете парадокс пище! Элрик и Йишана последовали за ним на некотором расстоянии, потом Элрик остановился и указал назад. – Тот, кто там обитает, довольно-таки парадоксальный тип. Он что-то вроде Шута при дворе Хаоса. Владыки Хаоса уважают его, может, даже немного побаиваются, хотя он всего лишь их ублажает. Он развлекает их космическими загадками, шуточными представлениями, якобы объясняющими природу Космической Руки, которая поддерживает равновесие между Хаосом и Законом, он жонглирует понятиями, как погремушками, высмеивает то, что дорого Хаосу, воспринимает всерьез то, над чем они издеваются… – Элрик замолчал и пожал плечами. – Так мне, по крайней мере, рассказывали. – И что же ему здесь надо? – А что ему надо в любом другом месте? Я могу высказать предположение относительно мотивов Хаоса и, возможно, попаду в точку. Но даже Владыки Высших Миров не могут понять мотивов Шута Бало. Говорят, что ему единственному позволено перемещаться между царствами Хаоса и Закона, хотя я никогда прежде не слышал, чтобы он посещал и плоскость Земли. Не слышал я и о том, чтобы он производил разрушения, подобные тем, что мы видели. Для меня это загадка, и ему, несомненно, польстит, если он узнает об этом. – Тогда есть только один способ узнать о цели его посещения, – с едва заметной улыбкой сказал Телеб К’аарна. – Если бы кое-кто вошел в цитадель… – Брось, чародей, – насмешливо сказал Элрик. – Я не очень ценю свою жизнь, но есть вещи, дорогие для меня. Моя душа, например! Телеб К’аарна продолжил спуск по склону, но Элрик не двинулся с места, и Йишана осталась с ним. – Мне кажется, тебя это взволновало в большей степени, чем оно того заслуживает, – сказала она. – Но происходящее и в самом деле тревожно. Из случившегося напрашивается вывод, что если мы обследуем цитадель, то будем вовлечены в спор между Бало и его хозяевами, а может быть, даже и с Владыками Закона. А это легко может привести к нашей гибели, поскольку задействованные силы гораздо опаснее и мощнее, чем все, с чем мы сталкиваемся на Земле. – Но мы ведь не можем безучастно смотреть, как этот Бало превращает наши города в руины, забирает наших близких, угрожает сам в скором времени властвовать в Джаркоре! Элрик вздохнул, но не ответил. – Ты не знаешь такого колдовства, чтобы можно было отправить Бало назад в Хаос, откуда он и пришел, и заделать брешь, которую он проделал в нашем царстве? – спросила Йишана у Элрика. – Даже мелнибонийцы не могут сравниться в силе с Владыками Высших Миров, а мои предки были чародеями посильнее, чем я. Лучшие мои союзники не служат ни Хаосу, ни Закону. Это элементали – Повелители Огня, Земли, Воздуха и Воды, существа, родственные животным и растениям. Они хорошие союзники в сражении против земных сил, но против таких врагов, как Бало, они практически бессильны. Хотя Если подумать… По крайней мере, если я брошу вызов Бало, это не обязательно разгневает моих покровителей. Во всяком случае, я так полагаю… Склоны гор, как и поля внизу, были покрыты сочной зеленой травой, и солнце с чистых, безоблачных небес взирало на бесконечный травяной простор, простирающийся до самого горизонта. Над ними кружилась крупная хищная птица. Телеб К’аарна, повернувшийся в седле и кричавший им что-то слабым голосом – слов они так или иначе не слышали, – являл собой жалкое зрелище. Все это, казалось, расстроило Йишану. Ее плечи поникли, и она, не глядя на Элрика, начала понукать коня, направляясь к чародею из Пан-Танга. Элрик последовал за ней, осознавая собственные колебания, но не очень переживая по этому поводу. Что ему, если даже… И тут раздалась музыка. Поначалу слабая, она постепенно стала наполняться каким-то влекущим мучительным благозвучием, пробуждавшим ностальгические воспоминания, предлагавшим покой и придававшим жизни четкую осмысленность. Если эту музыку производили какие-то инструменты, то они были созданы не на Земле. Эта музыка породила в нем желание повернуться и отправиться на поиски ее источника, но он воспротивился этому порыву. Йишане же было труднее противиться зову этой музыки. Она развернула коня, лицо ее засветилось, губы задрожали, в глазах появились слезы. Элрик в своих скитаниях по неземным царствам уже слышал подобную музыку раньше – в ней звучали отголоски многих симфоний прежнего Мелнибонэ, и она не влекла его так, как манила Йишану. Он сразу же понял, что королеве грозит опасность. Йишана пришпорила коня и поскакала к цитадели. Элрик успел ухватить ее уздечку, но Йишана ударила по его руке хлыстом, и Элрик, выругавшись от неожиданной боли, отпустил ее коня. Она галопом проскакала мимо в направлении горного кряжа и через мгновение исчезла за ним. – Йишана! – в отчаянии крикнул он, но его голос перекрыла музыка. Он оглянулся, надеясь, что Телеб К’аарна поможет ему, но чародей, нахлестывая коня, быстро скакал прочь. Услышав звуки музыки, он тотчас принял правильное решение. Элрик пустился следом за Йишаной, криком пытаясь остановить ее. Его конь достиг вершины кряжа, и он увидел, что Йишана, приникнув к шее своего жеребца и подстегивая его хлыстом, скачет в направлении сверкающей цитадели. – Йишана! Ты погубишь себя! Она уже добралась до внешней границы цитадели, и копыта ее коня, казалось, высекли цветовые волны из нарушенной Хаосом земли, окружающей это место. Хотя и понимая, что ему уже ее не остановить, Элрик продолжал гнать коня следом за ней – может быть, все-таки ему удастся догнать ее, прежде чем она войдет в саму цитадель. Но, оказавшись в этом круговороте всех цветов радуги, он увидел, словно в волшебном кристалле, как десяток Йишан входит в цитадель через десяток ворот. Странным образом отраженный свет создавал эту иллюзию, и сказать, какая из этого десятка настоящая Йишана, было невозможно. Когда Йишана исчезла из виду, музыка прекратилась, и Элрику показалось, что он слышит слабый шелест смеха. К этому времени его конь начал волноваться и почти совсем перестал слушаться хозяина, и Элрик понял, что больше доверяться коню нельзя. Он спешился – его ноги погрузились в лучащийся туман – и отпустил коня. Тот с испуганным ржанием поскакал прочь. Рука Элрика легла на рукоять меча, но извлечь его из ножен он не спешил. Оказавшись вне ножен, меч начнет требовать душ и не захочет возвращаться обратно, пока не получит своего. Но меч был его единственным оружием. Элрик убрал руку, и клинок сердито завибрировал у него на боку. «Не спеши, Буревестник. Внутри могут оказаться силы, с которыми не справиться даже тебе». Он, почти не встречая сопротивления, начал продвигаться по световым водоворотам. Его частично ослепили эти вибрирующие вокруг него цвета, которые иногда сверкали темно-синим, серебристым и красным оттенками, а иногда – золотистым, светло-зеленым и янтарным. Еще он испытывал обескураживающее чувство, порожденное отсутствием каких-либо ориентиров – расстояние, глубина, ширина теряли здесь всякий смысл. Такое он испытывал только в астральной форме – странное чувство пребывания вне времени и пространства, свойственное только Высшим Мирам. Он перемещался, словно вплавь, в том направлении, в котором, как ему казалось, исчезла Йишана, потому что он потерял из виду ворота и все их зеркальные отражения. Он понял, что если не хочет плавать здесь, пока не умрет с голоду, то должен извлечь из ножен Буревестник, потому что рунный меч может сопротивляться воздействию Хаоса. На этот раз, взявшись за рукоять меча, он почувствовал, словно какой-то заряд жизненных сил ринулся в его тело. Элрик извлек меч из ножен. По огромному мечу, испещренному странными древними рунами, пробежали черные молнии, они встречались с мерцающими цветами Хаоса и поглощали их. И тогда Элрик издал древний боевой клич своего народа и ринулся в цитадель, нанося удары по смутным образам, возникающим по обеим сторонам. Ворота были впереди, и Теперь Элрик в этом не сомневался, потому что его меч сообщал ему, где он имеет дело с отражениями, а где – нет. Вход, когда Элрик приблизился к нему, оказался открыт. Он помедлил мгновение, его губы двигались – он пытался вспомнить заклинания, которые могут понадобиться ему позднее. Ариох, Владыка Хаоса, демон и бог-покровитель его предков, являл собой нерадивую и капризную силу – на него Элрик не мог полагаться, если только… По коридору, начинающемуся от входа, неторопливыми грациозными прыжками надвигалось на Элрика золотистого цвета животное с горящими красными глазами. Хотя глаза и горели ярко, но по виду были слепы, а огромная собачья пасть животного была закрыта. Однако направление движения животного могло привести его только к Элрику, и, приблизившись к нему, оно внезапно разинуло пасть, обнажив кораллового цвета клыки. Животное остановилось, не производя ни звука, его слепые глаза застыли на альбиносе. А потом оно прыгнуло. Элрик сделал шаг назад, выставив меч. Животное повергло его на землю своей массой. Элрик почувствовал, как звериное тело накрыло его. Оно было холодным, очень холодным, и животное не предпринимало никаких попыток растерзать его, Элрика, оно просто лежало на нем, и холод все глубже проникал в тело альбиноса. Элрика начало трясти от холода, и он попытался стряхнуть с себя ледяное тело. Буревестник стонал и приборматывал в его руке, а потом вонзился в туловище зверя, и тогда жуткая ледяная сила начала наполнять альбиноса. Напитавшись жизненной энергией зверя, Элрик попытался подняться. Зверь продолжал прижимать его к земле, хотя теперь издавал тонкий, едва слышимый звук. Элрик понял, что даже небольшая рана, нанесенная Буревестником, доставляет зверю немалую боль. Элрик отчаянным движением нанес новый удар. Снова зверь издал тонкий писк, и снова Элрик испытал прилив ледяной энергии и попытался подняться. На этот раз ему удалось скинуть с себя зверя, который отполз к входу. Элрик вскочил на ноги, высоко поднял Буревестник и со всей силой опустил его на череп золотистого животного. Череп треснул, как ледяная глыба. Элрик побежал вперед по проходу, и в его уши сразу же хлынули крики и визги, которые многократно усиливались, отражаясь от стен. Возникало впечатление, будто голос, которого не было у холодного зверя снаружи, теперь заходился в смертельной агонии. Пол коридора поднимался, и вскоре Элрик уже бежал по восходящему спиральному пандусу. Бросив взгляд вниз, Элрик ужаснулся – он смотрел в бесконечную бездну таинственных и опасных цветовых оттенков, которые плавали в воздухе и обладали такой притягательной силой, что Элрик был не в силах оторвать от них глаз. Он даже почувствовал, как его тело подалось к краю пандуса, собираясь нырнуть вниз, но он сильнее ухватился за рукоять меча и заставил себя продолжить восхождение. Он взглянул вверх – там было то же, что и внизу. Только пандус обладал неким постоянством, и теперь он казался тонким срезом драгоценного камня, в котором Элрику была видна бездна и ее отражение. Преобладали здесь зеленые, синие и желтые тона, но были видны и следы красного, черного и оранжевого, а также многих других цветов, не принадлежащих к земному спектру. Элрик знал, что находится в одной из областей Высших Миров, и догадался – скоро пандус приведет его к новым опасностям. Опасности не заставили себя ждать, когда он добрался до конца пандуса и шагнул на мостик, изготовленный из такого же материала; этот мостик вел над вибрирующей бездной к арке, от которой исходил устойчивый голубоватый свет. Элрик осторожно пересек мост и с такой же осторожностью вошел под арку. Здесь все было пронизано голубоватым светом, даже сам Элрик приобрел голубоватую окраску. Он пошел вперед, и по мере его продвижения свет становился все насыщеннее. Буревестник тихо забормотал. Элрик, предупрежденный то ли мечом, то ли каким-то шестым чувством, резко повернулся направо. Там появилась еще одна арка, которая излучала красный свет – такой же насыщенный, как и синий. Там, где встречались эти два света, образовывалось пурпурное сияние фантастической красоты. Элрик смотрел на эту световую игру, испытывая такое же гипнотическое притяжение, какое он чувствовал, находясь на пандусе. Но опять его разум оказался сильнее, и он заставил себя войти под красную арку. И сразу же слева от него появилась новая арка, излучавшая зеленый свет, который сливался с красным. Еще одна арка слева посылала желтые лучи. А следующая – еще дальше – излучала розовато-лиловый свет. Элрику стало казаться, что он оказался в ловушке из этих взаимно пересекающихся лучей. Он ударил по ним Буревестником, и черное сияние на мгновение уменьшило силу лучей, но лишь на мгновение. Элрик продолжил движение. Теперь за смешением цветов возникла какая-то фигура, и Элрику показалось, что это фигура человека. По форме это был человек, но не по размерам. Когда фигура приблизилась, она оказалась вовсе не гигантской – высотой она была ниже Элрика. Тем не менее она производила впечатление чего-то огромного, словно и в самом деле имела гигантские пропорции, а Элрик увеличился до нее в размерах. Она тяжелой поступью прошла сквозь Элрика. Произошло это не потому, что фигура была воздушна, – напротив, это Элрик превратился в призрака. Казалось, что тело этого существа имеет огромную плотность. Существо повернулось, вытянуло вперед огромные руки, на его лице появилась насмешливая гримаса. Элрик нанес по нему удар Буревестником и удивился – рунный меч обрушился на существо, но оно словно и не заметило удара. Но когда существо попыталось схватить Элрика, его руки нащупали только пустоту. Элрик сделал шаг назад и вздохнул с облегчением. Потом он с ужасом увидел, что свет проникает сквозь него. Он не ошибся – он и в самом деле превратился в призрака. Существо снова потянулось к нему, снова схватило его, но опять в его руках оказалась лишь пустота. Элрик, понимая, что эта тварь не представляет для него физической опасности, но чувствуя, что находится на грани непоправимого безумия, повернулся и побежал. Внезапно он оказался в зале, стены которого были образованы теми же неустойчивыми, колеблющимися цветами, что и все остальное сооружение. Но в центре зала, держа в руке какие-то крохотные фигурки, которые, казалось, бегают по его ладони, сидело небольшого роста существо – оно подняло взгляд на Элрика и весело ухмыльнулось. – Добро пожаловать, Элрик из Мелнибонэ. Как поживает последний правитель моего любимого земного народа? Сидящий был одет в светящийся шутовской костюм. На голове корона в виде шутовского колпака – пародия на короны, какие носят сильные мира сего. Лицо угловатое, рот широкий. – Приветствую тебя, господин Бало. – Элрик шутливо поклонился. – Странное гостеприимство ты предлагаешь. – Ах вот оно что, тебе, значит, не понравилось? Людям угодить гораздо труднее, чем богам, ты так не считаешь, а? – Удовольствия людей редко бывают такими изощренными. Где королева Йишана? – Позволь уж мне предаваться моим удовольствиям, смертный. Она здесь, я думаю. – Бало пощекотал пальцем одну из крохотных фигурок у себя на ладони. Элрик подошел поближе – и в самом деле увидел Йишану и многих из пропавших воинов. Бало посмотрел на Элрика и подмигнул ему: – Их гораздо легче держать в руках, когда они такого размера. – Несомненно, хотя я сомневаюсь – они такие маленькие или это мы такие большие. – Ты проницателен, смертный. Может быть, ты знаешь и как это произошло? – Этот твой зверь у входа, твои бездны, множество цветов, арки – все это каким-то образом искажает… но что искажает? – Массу, принц Элрик. Но тебе эта теория не по уму. Даже повелители Мелнибонэ, самые богоподобные и умные из смертных, научились с помощью ритуалов, заклинаний и чар всего лишь управлять элементалями. Но они никогда не понимали, чем управляют, – вот в этом и заключается преимущество Владык Высших Миров, в чем бы ни состояли различия. – Но я дожил до сего дня без потребности в чарах. Я дожил до сего дня, дисциплинируя разум! – Конечно, это немало, но ты забываешь о главном преимуществе – об этом самом мече, причиняющем столько беспокойства. Ты пользуешься им для решения ничтожных проблем, но никак не можешь понять – это все равно что использовать огромную боевую галеру для ловли кильки. Этот меч имеет силу в любых мирах, король Элрик! – Возможно. Меня это не интересует. Зачем ты здесь, господин Бало? Бало хохотнул – смех у него был низкий, музыкальный. – Ай-ай, я впал в немилость. Я поссорился со своими хозяевами, которым не понравилась моя шутка об их мелочности и эгоизме, об их судьбе и гордыне. Они считают дурным вкусом все, что говорит об их неминуемом забвении, король Элрик. Моя шутка показалась им свидетельством дурного вкуса. Я бежал из Высших Миров на Землю, где Владыки Закона и Хаоса появляются редко, если только кто-то не вызовет их. Тебе, как и любому мелнибонийцу, понравятся мои намерения. Я собираюсь утвердить на Земле собственное царство – царство Парадокса. Немного от Закона, немного от Хаоса – царство противоположностей, редких вещиц и шуток. – Мне кажется, мы и без того живем в таком мире, о котором ты говоришь, господин Бало, и тебе незачем трудиться создавать его! – Серьезная ирония, король Элрик, для такого высокомерного мелнибонийца. – Может быть. Меня утомили ситуации, подобные этой. Ты отпустишь Йишану и меня? – Но мы с тобой гиганты – я придал тебе статус и внешность бога. Мы с тобой можем стать партнерами в затеянном мной предприятии. – К сожалению, господин Бало, мне не нравится твой юмор, и я не гожусь для такой высокой роли. К тому же, – Элрик внезапно ухмыльнулся, – мне кажется, что Владыки Высших Миров не забудут твоих амбиций, поскольку они входят в противоречие с их собственными намерениями. Бало рассмеялся, но ничего не сказал. Элрик тоже улыбнулся, но то была всего лишь попытка скрыть смятение. – И что же ты будешь делать, если я откажусь? – Да нет, Элрик, ты не откажешься! Мне в голову приходит множество милых шуточек, которые я мог бы сыграть с тобой… – Неужели? А как же Черный Меч? – Ахда… – Бало, ты в своей радости и одержимости не все продумал. Тебе стоило бы попытаться уничтожить меня прежде, чем я пришел сюда. Теперь глаза Элрика пылали; он поднял меч с криком: – Ариох! Господин! Я зову тебя, Владыка Хаоса! Бало вздрогнул. – Прекрати это, король Элрик! – Ариох, здесь есть душа, которой ты можешь завладеть. – Тихо, я сказал! – Ариох! Услышь меня! – Голос Элрика звучал все громче и неистовее. Бало уронил крохотные игрушки и, торопливо поднявшись, бросился на Элрика. – Твоих заклинаний не слышат, – рассмеялся он, протягивая руки к альбиносу. Но Буревестник застонал и завибрировал в руке Элрика, и Бало отпрянул назад. На его лице появилось мрачное выражение. – Ариох, Повелитель Семи Бездн, твой слуга зовет тебя! Стены из пламени задрожали и начали исчезать. Глаза Бало расширились, зрачки забегали из одной стороны в другую. – О, Владыка Ариох, приди и забери блудную душу Бало! – Ты не смеешь! – Бало бросился через комнату к тому месту, где пламя исчезло полностью, открыв зияющий за ним мрак. – Как это ни печально для тебя, маленький шут, но он смеет… – Голос был прекрасен, но звучал издевательски. Из темноты появилась высокая фигура, уже не бесформенное бормочущее существо, каким в последнее время являлся Ариох в царство Земли. И в то же время необыкновенная красота вновь прибывшего, исполненная сострадания, разбавленного гордыней, жестокостью и печалью, говорила о том, что он не принадлежит к роду человеческому. На нем был камзол из пульсирующего красного материала, штаны в обтяжку, постоянно меняющие свой оттенок, длинный золотой меч на боку. Его глаза были большими и чуть раскосыми, длинные волосы – такими же золотыми, как меч, губы были полными, а подбородок, как и уши, заострен. – Ариох! – Бало попятился, увидев Владыку Хаоса. – Это была твоя ошибка, Бало, – сказал Элрик за спиной шута. – Разве ты не знал, что только короли Мелнибонэ могут вызывать Ариоха в измерение Земли? Такова испокон веков была их привилегия. – И они ею сильно злоупотребляли, – сказал Ариох, насмешливо глядя на униженного Бало. – Однако эта твоя услуга компенсирует прежние злоупотребления. Мне вовсе не понравилась история с Туманным великаном… Даже Элрик испытывал трепет, ощущая присутствие этой неимоверной силы во всем облике Владыки Хаоса. А еще он испытал облегчение, потому что вовсе не был уверен, что Ариох откликнется на его зов. Ариох протянул к Бало руку и поднял шута за воротник – тот повис в воздухе, дергая руками и ногами, его лицо исказила гримаса ужаса. Ариох ухватил Бало за голову и сдавил ее. Элрик с удивлением увидел, что голова стала сминаться. Ариох теперь принялся за ноги Бало – он мял и сгибал Бало своими гибкими нечеловеческими руками, пока тот не превратился в маленький твердый шарик. И тогда Ариох забросил этот шарик себе в рот и проглотил. – Я его не съел, Элрик, – сказал он, улыбаясь едва заметной улыбкой. – Это всего лишь простейший способ перенести его назад в тот мир, откуда он сбежал. Он перешел грань дозволенного и должен быть наказан. А это, – он очертил рукой цитадель, – чистое недоразумение и противоречит планам Хаоса относительно Земли. Планам, включающим тебя. Планам, согласно которым ты, наш слуга, обретешь могущество. Элрик поклонился хозяину. – Для меня это большая честь, владыка Ариох, хотя я и не ищу никаких благосклонностей. Серебряный голос Ариоха частично утратил красоту, а Лицо его на мгновение омрачилось. – Ты, как и твои предки, обязан служить Хаосу, Элрик. Ты будешь служить Хаосу. Подходит время, когда Закон и Хаос будут сражаться за измерение Земли, и Хаос победит. Земля будет включена в наше царство, а ты присоединишься к иерархии Хаоса, станешь, как и мы, бессмертным! – Бессмертие мало для меня значит, мой повелитель. – Ах, Элрик, неужели народ Мелнибонэ выродился до уровня тех полуобезьян, которые теперь покоряют землю своими смешными «цивилизациями»? Неужели ты ничем не Лучше, чем эти выскочки из Молодых королевств? Подумай о том, что мы тебе предлагаем! – Я подумаю, мой господин, когда придет время, о котором ты говоришь, – сказал Элрик, все еще не поднимая головы. – И тебе воистину придется подумать. – Ариох воздел руки. – Ну а теперь я доставлю этого шута туда, где он и должен быть, и улажу смуту, которую он затеял, чтобы до наших противников раньше времени не дошли ненужные слухи. Голос Ариоха нарастал, словно миллион медных колоколов, и Элрик, вложив свой меч в ножны, прижал ладони к ушам, чтобы смягчить боль. Потом Элрику показалось, что его тело распадается на части, растет и растягивается, и наконец оно стало как дым, плывущий в воздухе. Затем этот дым стал довольно быстро собираться в более плотное образование и уменьшаться в размерах. Вокруг Элрик видел крутящиеся полосы цвета, вспышки и неописуемые шумы. Потом наступила безмерная чернота, и Элрик закрыл Глаза, чтобы не видеть образов, которые словно бы отражались в этой черноте. Открыв глаза, Элрик увидел себя в долине. Поющая цитадель исчезла. Рядом с ним стояли только Йишана и несколько удивленных воинов. Йишана подбежала к нему. – Элрик, это ты спас нас? – Эта заслуга может быть приписана мне лишь частично, – сказал он. – Здесь не все мои люди, – сказала она, разглядывая воинов. – Где остальные? И где жители деревень, похищенные ранее? – Если вкусы Бало не отличаются от вкусов его хозяев, то боюсь, что теперь они имеют честь быть частицей полубога. Владыки Хаоса, конечно, не плотоядны – они принадлежат к Высшим Мирам. Но в людях есть кое-что, доставляющее им удовольствие… Йишана вздрогнула, словно от холода. – Он был громаден… Я не могла поверить, что цитадель может вместить такого гиганта. – Эта цитадель была не просто жилищем. Она меняла свои размеры, форму и еще то, что я не в силах описать. Владыка Хаоса Ариох перенес и цитадель, и Бало туда, где им и надлежит находиться. – Ариох? Но ведь это один из Великой Шестерки! Как он попал на Землю? – Благодаря его старому договору с моими предками. Вызывая его, они позволяли ему проводить короткое время в нашем мире, а он расплачивался с ними своей благосклонностью. – Идем, Элрик. – Она взяла его за руку. – Мне хочется поскорей покинуть эту долину. Элрик потратил немало сил, вызывая Ариоха, к тому же он сильно ослабел от всего пережитого в цитадели. Он с трудом передвигал ноги, и вскоре Йишане пришлось поддерживать его. Они двигались медленно, ошеломленные воины следовали за ними в направлении ближайшей деревни, где можно было отдохнуть и получить лошадей, чтобы добраться до Дхакоса.Глава пятая Воспоминания рептилии
Они с трудом доплелись до развалин Токоры, когда Внезапно Йишана указала на небо. – Что это? Нечто огромных размеров приближалось к ним, размахивая крыльями. Оно было похоже на бабочку, но с такими колоссальными крыльями, что они затмевали солнце. – Может быть, это какое-то существо, оставленное здесь Бало? – Вряд ли, – ответил он. – Это скорее какая-то тварь, созданная земным чародеем. – Телеб К’аарна! – Он превзошел самое себя, – сухо сказал Элрик. – Я и не думал, что у него такие способности. – Это его месть нам, Элрик! – Похоже. Но я ослабел, Йишана, а Буревестнику нужны души, чтобы пополнить мои силы. – Он смерил оценивающим взглядом идущих следом воинов, которые, раскрыв рты, смотрели на приближающееся существо. Теперь было видно, что у него человеческое тело, поросшее перьями, раскрашенными на манер павлиньих. Существо спускалось, и его крылья со свистом рассекали воздух; крылья имели размах в пятьдесят футов, и рядом с ними семифутовое тело казалось телом карлика. Из головы летающего существа росли два завивающихся рога, а на концах пальцев были видны длинные когти. – Мы обречены, Элрик! – воскликнула Йишана. Она увидела, что воины разбегаются, и кричала им вслед, призывая вернуться. Элрик стоял, пассивно опустив руки, зная, что ему не победить эту летающую тварь. – Лучше беги вместе с ними, Йишана, – пробормотал он. – Я думаю, оно удовольствуется мной. – Нет! Он не услышал ее слов и шагнул навстречу существу, которое приземлилось и заскользило по земле в его направлении. Он извлек из ножен молчащий Буревестник, который тяжелым грузом оттягивал его руку. Он ощутил малый приток сил – далеко не достаточный. Единственную надежду он возлагал на хороший удар, нацеленный в жизненно важные органы этой твари, – это позволило бы ему получить ее энергию. Летучая тварь визгливо вскрикнула, и ее странная, безумная физиономия исказилась при его приближении. Элрик понял, что имеет дело не с настоящим обитателем потустороннего мира, а с человеком, ставшим жертвой колдовства Телеба К’аарна. А это означало, что оно, по меньшей мере, смертно и могло полагаться только на физическую силу. Будь Элрик не в таком жалком состоянии, справиться с этой тварью для него не составило бы труда, но теперь… Крылья били по воздуху, когтистые пальцы нацелились на Элрика. Он взял Буревестник в обе руки и нацелился им в шею летучей твари. Крылья быстро сложились, чтобы защитить шею, и Буревестник увяз в странном студенистом веществе. Коготь вцепился в руку Элрика, разорвав ее до кости. Он закричал от боли и вырвал меч из хватких крыльев. Альбинос постарался не потерять равновесия, готовясь к следующему удару, но монстр ухватил его раненую руку и начал подтаскивать его к себе, к своей опущенной голове, к торчащим из нее вьющимся рогам. Элрик сопротивлялся, ударяя по рукам злобной твари, а страх смерти придал ему новые силы. Потом он услышал крик у себя за спиной и краем глаза увидел фигуру, бежавшую к нему с двумя мечами в руках. Эти мечи обрушились на когти летучей твари, и та с воплями боли обратилась против спасителя Элрика. Оказалось, что это Мунглам. Элрик упал на спину, наблюдая, как его маленький рыжеволосый друг сражается с монстром. Однако он понимал, что без помощи Мунглам долго не продержится. Элрик напрягал память в поисках подходящего заклинания – однако он был слишком слаб и даже если бы смог припомнить что-нибудь, то вызвать потустороннюю подмогу у него все равно не хватило бы сил. И тут его осенило. Йишана! Она не настолько устала, как он. Но удастся ли ей сделать это? Он повернулся. Воздух вокруг стонал под ударами крыльев. Мунгламу едва удавалось сдерживать напор монстра, два его меча яростномелькали. – Йишана! – хриплым голосом крикнул альбинос. Она подошла к нему и положила свою руку на его руку. – Мы могли бы убежать, Элрик… спрятаться от этой твари. – Нет. Я должен помочь Мунгламу. Послушай меня… Ты понимаешь, что мы находимся в отчаянном положении? Помни об этом, повторяя за мной руну. Может быть, вместе у нас получится. Ведь в этих краях много ящериц, правда? – Да, много. – Тогда именно это ты и должна говорить… И запомни, что если у тебя не получится, то все мы погибнем от рук твоего слуги Телеба К’аарны. В полумирах, где обитали повелители всех созданий, отличных от человека, зашевелилось, услышав свое имя, некое существо. Звали это существо Хааашаастаак, и было оно чешуйчатым и холодным, оно не обладало интеллектом, свойственным богам и человеку, а было наделено лишь восприятием, которое служило ему ничуть не хуже, если не лучше. В этом измерении оно было братом таким существам, как Миирклар, повелитель кошек, Руфдрак, владыка собак, Нуруах, повелитель скота, и многим, многим другим. Это был Хааашаастаак, повелитель ящериц. На самом деле он не воспринимал слова в их истинном смысле, он лишь слышал ритмы, которые о многом говорили ему, хотя он и не знал почему. Ритмы повторялись снова и снова, но казались слишком слабыми, чтобы он уделил им внимание. Он шевелился, зевал, но не предпринимал ничего…Хааашаастаак вздрогнул, любопытство проснулось в нем. Ритмы если не становились сильнее, то звучали настойчивее. Он решил отправиться в это место, где обитали те, за кем он присматривал. Он знал, что если ответит на этот ритм, то должен будет подчиниться его источнику. Он, конечно, не осознавал, что такой образ действий был внедрен в него в далекие века, во времена творения Земли, когда Владыки Закона и Хаоса, которые были тогда обитателями одного царства и знали друг друга по именам, наблюдали за образованием всего и вся и закладывали в них логику поведения, подчиненную Голосу Космического Равновесия, голосу, который с тех времен больше ни разу не зазвучал. Хааашаастаак неторопливо перенес себя на Землю. Элрик и Йишана еще продолжали распевать охрипшими голосами руну, когда неожиданно появился Хааашаастаак. Он напоминал огромную игуану, глаза у него были многоцветные, как многогранные бриллианты, чешуя – из золота, серебра и других драгоценных металлов. Вокруг него был виден неясный ореол, словно бы он прихватил с собой часть атмосферы, в которой пребывал. Йишана изумленно открыла рот, а Элрик глубоко вздохнул. Ребенком он изучал языки всех существ, и теперь ему предстояло вспомнить язык повелителей ящериц Хааашаастаака. Отчаянная ситуация обострила его память, и слова внезапно вспыхнули в его мозгу. – Хааашаастаак, – закричал он, указывая на бабочкообразное существо, – мокик анкких! Повелитель ящериц обратил глаза-бриллианты на крылатое существо и внезапно выстрелил в него огромным языком, который обхватил монстра. Монстр задрожал от страха, когда владыка ящериц начал подтаскивать его к своей громадной пасти, принялся колотить руками и ногами при виде этого разверстого отверстия. Хааашаастаак сделал несколько глотков, и творение Телеба К’аарны исчезло в чреве ящерицы. Потом он неуверенно повернул голову и через несколько мгновений исчез. Боль пульсировала в разодранной руке Элрика, к которому, облегченно улыбаясь, направлялся Мунглам. – Я следовал за вами на некотором расстоянии, как ты и просил, – сказал он. – Ведь ты подозревал Телеба К’аарну в измене. Но потом я увидел Телеба К’аарну и незаметно пошел за ним в пещеру вон в тех горах. – Он сделал движение рукой. – Но когда покойный, – Мунглам нервно рассмеялся, – появился из той пещеры, я решил, что лучше будет последовать за ним, потому что мне подумалось, он отправится туда, где пребываете вы. – Я рад, что ты оказался столь проницателен, – сказал Элрик. – На самом деле это твоя заслуга, – ответил Мунглам. – Потому что если бы ты не предвидел измены Телеба К’аарны, то я бы не оказался здесь в нужный момент. Мунглам внезапно опустился на траву, упал на спину, усмехнулся и потерял сознание. Элрик и сам был в полуобморочном состоянии. – Думаю, что пока нам можно не опасаться происков твоего чародея, Йишана, – сказал он. – Отдохнем здесь и придем в себя. Может, к тому времени твои трусливые воины вернутся, и мы пошлем их в деревню за лошадьми. Они вытянулись на траве, обняв друг друга, и уснули. Элрик очень удивился, проснувшись в мягкой кровати. Он открыл глаза и увидел Йишану и Мунглама – они улыбались, глядя на него. – И давно я здесь? – Больше двух дней. Когда прибыли лошади, ты не проснулся, а потому воины соорудили носилки и несли тебя до Дхакоса. Ты в моем дворце. Элрик осторожно шевельнул онемевшей, забинтованной рукой. – А мои вещи все еще в гостинице? – Возможно, если их еще не украли. А что? – У меня там в сумке травы, которые быстро залечат эту рану, а также придадут сил. – Пойду посмотрю, там ли твои вещи, – сказал Мунглам и вышел из комнаты. Йишана погладила молочного цвета волосы Элрика. – Я должна за многое тебя поблагодарить, Волк, – сказала она. – Ты спас мое королевство, а может, и все Молодые королевства. В моих глазах ты искупил смерть моего брата. – Благодарю тебя, госпожа, – насмешливо сказал Элрик. – Ты всегда остаешься мелнибонийцем, – рассмеялась она. – Всегда. – Странная, однако, смесь. Сострадательность и жестокость, ирония и преданность по отношению к этому твоему маленькому другу, Мунгламу. Я очень хочу узнать тебя поближе, мой господин. – Я не уверен, что у тебя будет такая возможность. Она посмотрела на него внимательным взглядом. – Почему? – Твое определение моего характера было неполным, Королева Йишана. Тебе следовало бы добавить: «безразличие к миру и вместе с этим мстительность». Я исполнен желания отомстить твоему жалкому чародеишке. – Но он того не стоит – ты же сам об этом говорил. – Я, как ты это заметила, мелнибониец! Моя высокомерная кровь взывает к мести – этот выскочка должен получить свое! – Забудь о Телебе К’аарне. Я напущу на него своих Белых Леопардов. Даже его колдовство бессильно против таких дикарей. – Забыть о нем? Ну уж нет! – Элрик, Элрик, я дам тебе мое королевство, провозглашу тебя правителем Джаркора, если ты позволишь мне стать твоей супругой. Здоровой рукой он погладил ее запястье. – Твой взгляд на ситуацию нереалистичен, королева. Сделав так, ты вызовешь восстание в королевстве. Для твоего народа я по-прежнему предатель из Имррира. – Уже нет. Теперь ты – спаситель Джаркора. – Это почему? Они не знали о грозившей им опасности, а потому не будут испытывать ко мне благодарности. Так что лучше всего мне свести счеты с твоим волшебником и продолжить путь. Город уже, наверное, полнится слухами о том, что ты положила к себе в постель убийцу своего брата. Твоя популярность в народе, наверное, упала низко как никогда, госпожа. – Мне это безразлично. – Тебе это перестанет быть безразлично, когда знать поднимет народ против тебя и твои же люди распнут тебя голой на центральной площади города. – Тебе знакомы наши обычаи. – Мы, мелнибонийцы, народ просвещенный, моя королева. – И сведущий во всех искусствах. – Во всех. И опять он почувствовал, как бешено заструилась по жилам его кровь, когда она поднялась и закрыла дверь на засов. В этот момент ему не нужны были его травы, за которыми отправился Мунглам. Когда он осторожно, стараясь не шуметь, вышел в ту ночь из комнаты, оказалось, что Мунглам терпеливо ждет его в коридоре. Мунглам, подмигнув, протянул ему сумку с травами. Но Элрик пребывал в мрачном настроении. Он вытащил пучки трав и выбрал те, что ему требовались. Мунглум скривился, наблюдая, как Элрик жует и глотает эти травы. Вдвоем они украдкой вышли из дворца. Вооруженный Буревестником, Элрик ехал на коне чуть позади Мунглама, который направлялся к горам за Дхакосом. – Насколько я знаю пантангских чародеев, – пробормотал Элрик, – Телеб К’аарна сейчас должен пребывать в Большем изнеможении, чем был я. Если повезет, то мы найдем его спящим. – На этот случай я буду ждать у входа в пещеру, – сказал Мунглам, которому уже приходилось быть свидетелем мстительности Элрика, и картина медленной смерти Телеба К’аарны вовсе не доставила бы ему удовольствия. Они доскакали быстрым галопом до гор, и Мунглам показал Элрику вход в пещеру. Спешившись, альбинос неслышной поступью вошел в пещеру, держа наготове меч. Мунглам нервно ждал первых визгов Телеба К’аарны, но ничего такого не услышал. Он ждал – рассвет известил о своем наступлении первыми лучами солнца, и тогда из пещеры появился Элрик с перекошенным от гнева лицом. Он со свирепым видом ухватил поводья коня и запрыгнул в седло. – Ты удовлетворен? – осторожно спросил Мунглам. – Удовлетворен? Нет! Этот пес исчез! – Исчез?.. Но… – Он оказался хитрее, чем я думал. Тут несколько пещер, и я искал его во всех. В самой дальней я обнаружил следы колдовских рун на стенах и на полу. Он перенес себя куда-то, и я не смог понять куда, хотя и расшифровал большинство рун! Может быть, он отправился в Пан-Танг. – А это значит, что наши поиски оказались тщетными. Давай вернемся в Дакхос и попользуемся еще немного гостеприимством Йишаны. – Нет! Мы отправимся в Пан-Танг. – Но, Элрик, собратья Телеба К’аарны по колдовскому искусству там весьма сильны. А теократ Джагрин Лерн не допускает в страну посторонних! – Это не имеет значения. Я должен закончить дела с Телебом К’аарной. – Но ведь ты не уверен, что он там. – Это не имеет значения! И Элрик, дав шпоры коню, поскакал, как безумный или спасающийся от страшной опасности, – а может быть, он и был безумен и действительно бежал от опасности, или то и другое одновременно. Мунглам не последовал за ним сразу же, он некоторое время смотрел вслед своему другу. Обычно не склонный к размышлениям, он спрашивал себя, не повлияла ли Йишана на альбиноса сильнее, чем ему того хотелось бы. Он не думал, что стремление отомстить Телебу К’аарне является основной причиной нежелания Элрика вернуться в Дхакос. Потом он пожал плечами и, вонзив шпоры в бока жеребца, поскакал следом за Элриком. Рассвет разгорался все ярче, а Мунглам спрашивал себя – продолжат ли они путь на Пан-Танг, когда Дхакос останется далеко позади. Но в голове Элрика не было никаких мыслей, им руководили только эмоции – эмоции, которые он не хотел анализировать. Его белые волосы вились за ним, его смертельно бледное красивое лицо было напряжено, тонкие руки крепко держали поводья. И только странные малиновые глаза отражали страдания и внутренние противоречия, не дававшие ему покоя. В Дхакосе в тот вечер другие глаза были полны страдания, но продолжалось это недолго. Йишана была прагматичной королевой.
Майкл Муркок Спящая волшебница
Уважаемый читатель!
В конце 1950-х – начале 1960-х годов я чуть ли не каждый день встречался в Найтсбридже с Барри Бейли и Дж Г. Баллардом, мы тогда составили заговор с целью сбросить с трона современную английскую литературу. У нас было немало общего – непримиримое отношение к существующему литературному языку и литературным практикам, любопытство к научным и техническим достижениям, интерес к разным формам современного искусства и тот факт, что мы издали по нескольку рассказов в журналах Э. Дж. Карнелла «Нью уордлз», «Сайенс фэнтези энд сайенс фикшн эдвенчерз». Ни у кого из нас еще не было напечатанной книги. Ставки у Карнелла начинались с двух гиней за тысячу слов и поднимались до двух фунтов десяти шиллингов, когда ты, как, например, Баллард или Олдис, достигал, по мнению Карнелла, стабильно высокого уровня. Я никогда не получал больше двух гиней, но у меня получались вещи слов этак тысяч на пятнадцать – главная публикация номера в его журналах всегда имела примерно такой объем. В результате мое имя на обложках стало появляться с самого начала моей карьеры, и я мог зарабатывать за день около тридцати гиней, чего более чем хватало на месячную оплату квартиры. Мы все тогда были работающими литераторами. Баллард редактировал «Кемистри энд индастри», а мы с Бейли писали тексты для комиксов и редакционные статьи по истории или по вопросам науки для журналов вроде «Лук энд лёрн». Мы писали художественную прозу для Карнелла потому, что нам это нравилось, и потому, что он не давал нам застревать на месте. Карнелл всегда был готов попробовать что-нибудь новенькое. В тот период я писал истории про Элрика, включая и «Буревестник», подспорьем мне была моя склонность к готике, мой интерес к Юнгу и символистам, а также поддержка друзей. В известном смысле я эти истории для них и писал, пытаясь на свой неумелый манер создать такую же атмосферу воодушевления, какую находил в апокалиптических сторонах творчества Блейка, Байрона и супругов Шелли, в видениях безумного Джона Мартина[4] и других художников, чьи работы я мог видеть в галерее Тейт в Лондоне. А еще мне нравилась музыка Малера и Рихарда Штрауса. Мы втроем, регулярно встречаясь в Найтсбридже, не сомневались в литературном потенциале НФ. Мы делились своими мыслями с Уильямом Берроузом и другими, разделявшими наши взгляды. Но нравившаяся мне НФ представляла собой НФ, которую Олдис называл «широкоэкранное барокко» и которая печаталась в страшненьких журнальчиках, куда не заглядывали более респектабельные поклонники жанра, так как считали это ниже своего достоинства. Моими любимцами были Чарлз Харнесс, Ли Брэкетт и Альфред Бестер. У меня до сих пор сохранились несколько дешевых журналов, привлекавших меня в те времена. Назывались они «Статлинг сториз», «Триллинг уандер сториз», «Фэнтестик эдвенчерз» и «Плэнет сториз». Они стояли на полках рядом с журналами «Уэст», «Экшн сториз» и «Эймезинг детектив». Все обложки имели что-то общее. Одним из самых любимых моих вестернов был «Сеньорита с пистолетом Иуды». В журнале «Спайси эдвенчерз сториз» можно было найти «Гашиш из Хошпура», а в «Уэйрд тэйлз» – «Поцелуй черного бога». Такие творения, как «Королева марсианских катакомб», «Королева драконов с Юпитера» и «Распутница с Аргоса», писались лучшими писателями, которые плевать хотели на респектабельность и которых не очень-то ждали в журнале «Эстаудинг» (с его заумным мессианством) или «Мэгэзин оф фэнтези и сайенс фикшн» (где не было картинок). Еще одним из писателей, печатавшихся в этих дешевых изданиях, был Рэй Брэдбери, которого обожал Баллард. Регулярно появлялись там Филип К. Дик и Теодор Старджон (вещи не всегда выходили под своими родными именами – так, «Храм» Джона Уиндема, опубликованный в журнале «Тэн стори фэнтези мэгэзин», вышел под названием «Тиран и рабыня на планете Венера»). Я был большим почитателем «Уэйрд тэйлз» и покупал почти все номера с рассказами Роберта Говарда вроде «Часа Дракона» или «Королевы Черного побережья». Продавались они в уличных киосках на Портобелло-роуд, в Пимлико, Уайтчепле и на Каледониан-роуд. Здесь же мне попались «Полет во вчера» (впоследствии эта книга стала называться «Парадоксальные люди»), «Роза» и другие вещи Чарлза Харнесса, «Молот Вулкана» Филипа К. Дика, «Эскалибур и атом» Теодора Старджона и, в журнале «Фэнтестик новелз», – «Корабль Иштар» Абрахама Меррита. Вместе с «Тигр! Тигр!» Альфреда Бестера это, пожалуй, главное НФ-произведение, повлиявшее на меня. Многие считают Меррита выдающимся в своем роде писателем. Он писал главным образом для дешевых изданий в период между двумя мировыми войнами. «Лунная заводь», «Лик в бездне», «Обитатели миража», «Гори, ведьма, гори!», «Семь шагов к Сатане», «Металлический монстр» и «Женщина-лиса» – все эти его сочинения оказали на меня огромное воздействие, и я уверен, что их влияние легко обнаруживается в фэнтезийных историях, которые я писал в то время. По какой-то причине я не очень хорошо относился к Толкину и прочим почтенным фантастам более благородного воспитания. За исключением Чарлза Уильямса, мне их манера казалась избыточной, подозрительно напоминающей «Детский час» на Би-би-си, ктомуже их книги изобиловали самыми невероятными допущениями. К. С. Льюис в моем восприятии почему-то до сих пор ассоциируется с попытками моего дядюшки Мака превратить меня в послушного мальчика, а его протертая кашка всегда вызывала у меня глубокую неприязнь. В отличие от всего этого, Рикмэл Кромптон и дешевые журналы тех лет предлагали подрывную альтернативу. Я считаю, что Меррит остается великим преемником Генри Райдера Хаггарда, и «Корабль Иштар» занимает место рядом с романами «Она» и «Копи царя Соломона». Эдгар Райе Берроуз, пользовавшийся большей популярностью, чем его современник Меррит, доминировал в дешевых американских журналах в течение многих лет. Герои вроде Тарзана, царя обезьян, Джона Картера с Марса, Карсона с Венеры и Дэвида Иннеса из Пеллюсидара оказали огромное влияние на мое мальчишеское воображение. Будучи школьником, я даже издавал журнал под названием «Берроузания», в котором отражалась моя страсть к Берроузу и ряду других писателей. О том, что они многим обязаны Берроузу, говорили и Ли Брэкетт, и Рэй Брэдбери. Одно из самых сильных воспоминаний детства: я просыпаюсь и обнаруживаю, что передо мной красноватый, пустынный ландшафт, дно мертвого, высохшего марсианского моря – воспоминание не менее мощное, чем память о собачьих боях и бомбежках времен войны. Впервые рассказы К. Л. Мур «Джарел из Джойри» и «Нортвест Смит» я прочел в старых выпусках журналов «Уэйрд тэйлз» и «Эйвон фэнтези ридер», издававшихся Дональдом А. Уолгеймом. Мур ткала самые богатые ковры, и чувственность в ее рассказах оказала мощное воздействие на мальчишку, который уже и без того впадал в экстаз от головокружительной атмосферы «Желтой книги», «Савойи» и французских романтиков. Возможно, потому, что мое школьное образование было не таким формальным, как у большинства моих сверстников, я мог наслаждаться всеми этими книгами сразу, нисколько не ощущая при этом, что одна написана искуснее, чем другая. Я читал Доусона и Гарланда, открывал для себя работы Бердслея с таким же удовольствием, с каким погружался в «Шамбло» Кэтрин Мур, «Черных слуг ночи» Лейбера или «Череполицего и других» Говарда. Я помню, что, читая загадочного «Короля в желтом» Р. У. Чемберса или «Пьеро на мгновение» Доусона, восторгался не меньше, чем при чтении потрепанного номера «Черной маски» с «Одним часом» Дэшила Хэммета или «Юнион Джека» с «Проблемой доказательств» Энтони Скина (в которой фигурировали Зенит и Альбинос). Для меня по сей день остается тайной, почему эти произведения считаются литературой второго сорта и чуть ли не приравниваются к чтиву для домохозяек – впрочем, многие издатели именно такого рода чтиву отдают предпочтение или, по меньшей мере, полагают его более достойным читательского внимания. Карьеристский литературный империализм эпохи Блумсбери внес свой немалый вклад в нынешнюю прискорбную поляризацию. Баллард, Бейли и я превыше всего верили в необходимость высоких устремлений. Нам не очень-то нравились советы литературных колонов, которые переехали в гетто НФ приблизительно одновременно с переездом в Камден-Таун; они предлагали нам низвести наши амбиции до того печального уровня, который они сочли подходящим для себя. Мы в те дни, по крайней мере, были настроены апокалиптически и непримиримо. Мы были романтиками в те времена, когда считалось не модным быть кем-либо иным, кроме как литературным деятелем, которого так красочно описал А. Алварес: обычно в старом дождевике, в сером спортивном костюме, постоянно нагибающийся, чтобы отстегнуть велосипедные прищепки, сочиняющий напоказ стихи, которые невозможно отличить одно от другого и чей герой – мерзкий педофил Ларкин. У нас не было времени на такую литературу, как не было и на ту, которую Баллард определил как «бисквитно-шоколадная» школа английской НФ в «джемпере». Эта школа предлагала те же на удивление уютные кошмары и отражала то же самое тяготение к упрощенному миру, который населен исключительно не достигшими половой зрелости юнцами. Мне хочется думать, что я постепенно взрослел в те ранние годы. Проблемы нравственности и смысла жизни, не дающие покоя Элрику, были в такой же степени и моими проблемами, и я, как и владыка руин, был излишне склонен к самодраматизации. Возможно, именно по этой причине он занимает такое важное место в моей жизни. Элрик решал многие волнующие его вопросы одновременно со мной. Он был создан в изумительный период головокружительных взлетов, когда выходили «Утонувший мир» и «Пограничный берег» Балларда, а Бейли начинал работу, которая впоследствии стала известна как «Рыцари пределов» и «Душа робота». Я полагаю, что жизненная энергия того времени частично питала и «Буревестника». В известной степени я написал эту вещь для Балларда и Бейли, а также для Джима Которна, который иногда зарисовывал эпизоды, перед тем как я их описывал, и разработал дизайн нового издания книги. Когда-то я переписал «Буревестника» для первого книжного издания, и Колин Гринланд указал мне, что, возвращая книгу к ее первоначальному объему, я опустил одну сцену. В настоящем издании эта сцена в той или иной степени восстановлена, кроме того, я внес некоторые другие мелкие изменения. Но, как и в ранней прозе, я предпочитаю оставить в первозданном, непричесанном виде эпизоды, отражающие те буйные, непредсказуемые эмоции, которые я привносил в свои сочинения, когда мир был много моложе и если повесть не писалась за одни сутки, то ее не стоило и писать… Ваш Майкл Муркок.Спящая волшебница
Посвящается Кену Балмеру, который, будучи редактором журнала «Меч и магия», попросил меня написать для него эту книгу как одну из глав многочастевого романа. Журнал, который должен был стать партнером «Видений завтрашнего дня», так никогда и не вышел в свет, поскольку спонсор лишил финансовой поддержки и тот и другой
Часть первая Мучения последнего императора
…И после этого Элрик и в самом деле покинул Джаркор, отправившись в погоню за неким колдуном, который, по словам Элрика, причинил ему некоторое неудобство…Хроника Черного Меча
Глава первая Бледный владыка на берегу, залитом лунным светом
Холодная, закутанная в тучи луна бросала слабые лучи на мрачное море, освещая корабль, стоящий на якоре у необитаемого берега. С корабля спускали лодку. Она раскачивалась на канатах. Двое в длинных плащах смотрели, как моряки спускают на воду небольшое суденышко, сами же тем временем пытались успокоить лошадей, которые били копытами по неустойчивой палубе, храпели и сверкали глазами. Более низкорослый путешественник изо всех сил цеплялся за уздечку, сдерживая коня, и ругался: – Ну зачем мы это делаем? Почему мы не могли сойти на берег в Трепесазе? Или, по крайней мере, в какой-нибудь рыболовной гавани, где есть гостиница, пусть и самая захудалая… – Потому что, друг Мунглам, я хочу появиться в Лормире незаметно. Если Телеб К’аарна узнает о моем появлении – а он непременно узнал бы, высадись мы в Трепесазе, – он снова исчезнет, и нам придется заново начинать погоню. Тебе бы это понравилось? Мунглам пожал плечами. – Мне все же не избавиться от ощущения, что твоя погоня за этим колдуном – это всего лишь подмена настоящей деятельности. Ты ищешь его, потому что не хочешь искать свою истинную судьбу… Элрик, озаренный луной, повернул лицо цвета кости к Мунгламу и смерил его взглядом малиновых переменчивых глаз. – Ну и что с того? Если не хочешь, можешь не сопровождать меня… И снова Мунглам пожал плечами. – Да, я знаю. Возможно, я не ухожу от тебя по той же причине, по которой ты преследуешь этого колдуна из Пан-Танга. – Он ухмыльнулся. – Так что, может, оставим этот спор, господин Элрик? – Споры ничего не дают, – согласился Элрик. Он потрепал коня по морде, когда появились моряки, облаченные в живописные таркешские шелка; моряки принялись спускать лошадей в лодку, уже стоящую на воде. Лошади упирались, тихонько ржали в мешках, надетых им на головы, но их в конце концов спустили в лодку, и они принялись колотить копытами по днищу, словно намереваясь пробить его. После этого в раскачивающуюся лодку по канатам спустились Элрик и Мунглам с заплечными мешками за спиной. Моряки оттолкнулись веслами от борта корабля и начали грести к берегу. Стояла поздняя осень, и воздух был холоден. Мунглам взглянул на мрачные скалы впереди, и его пробрала дрожь. – Скоро зима, и я бы предпочел пристроиться в какой-нибудь теплой таверне, чем бродить по миру. Когда мы закончим дела с этим колдуном, как ты смотришь на то, чтобы направиться в Джадмар или в какой-нибудь другой вилмирский город – может, более теплый климат приведет нас в другое расположение духа? Но Элрик не ответил. Его странные глаза уставились в темноту; казалось, он вглядывается в глубины собственной души и ему очень не нравится то, что предстает перед ним. Мунглам вздохнул и сложил губы трубочкой, затем поплотнее закутался в плащ и потер руки, чтобы согреть их. Он уже привык к тому, что его друг может внезапно погружаться в молчание, но привычка ничуть не улучшила его отношения к этим приступам. Где-то на берегу вскрикнула ночная птица, взвизгнуло какое-то мелкое животное. Моряки ворчали, налегая на весла. Из-за туч выглянула луна, осветившая суровое белое лицо Элрика, его малиновые глаза засветились, как угли ада. На берегу яснее стали видны голые утесы. Моряки подняли весла, когда днище лодки зашуршало о прибрежную гальку. Лошади, почуяв берег, захрапели и снова стали бить копытами. Элрик и Мунглам принялись успокаивать их. Два моряка выпрыгнули в холодную воду и подтащили лодку повыше. Другой моряк потрепал коня Элрика по шее и, не глядя альбиносу в глаза, проговорил: – Капитан сказал, что ты заплатишь мне, господин, когда мы доберемся до лормирского берега. Элрик хмыкнул и сунул руку под плащ. Он вытащил драгоценный камень, ярко засверкавший в темноте ночи. Моряк удивленно открыл рот и протянул руку, чтобы взять камень. – Кровь Ксиомбарг! Никогда не видел такого чистого камня! Элрик повел коня по мелководью, Мунглам спешно последовал за ним, ругаясь вполголоса и покачивая головой. Посмеиваясь между собой, моряки принялись грести в обратную сторону. Элрик и Мунглам сели на коней, и Мунглам, глядя на исчезающую в темноте лодку, сказал: – Этот камень стоит в сто раз больше, чем наш проезд! – Ну и что? – Элрик сунул ногу поглубже в стремя и направил коня к утесу, который был не так крут, как другие. Он на мгновение приподнялся в стременах, чтобы поправить плаш и поудобнее устроиться в седле. – Кажется, тут тропинка. Хотя она и заросла. – Должен сказать, – горько проговорил Мунглам, – что если бы забота о нашем пропитании лежала на тебе, то мы бы голодали. Если бы я не предпринял меры по сохранению кое-каких средств от продажи триремы, которую мы захватили и продали в Дхакосе, мы бы теперь были нищими. – Согласен, – беззаботно сказал Элрик и пришпорил коня, направляя его на тропинку, которая вела на вершину утеса. Мунглам раздраженно покачал головой, но последовал за альбиносом.Светало. Они то поднимались по склонам холмов, то спускались в долины – таков был типичный ландшафт самого северного лормирского полуострова. – Поскольку Телеб К’аарна живет за счет богатых покровителей, – объяснил другу Элрик, – он почти наверняка отправится в столицу, в Йосаз, где правит король Монтан. Он попытается устроиться при каком-нибудь аристократе, а может, даже при самом короле. – И когда же мы увидим столицу? – спросил Мунглам, поглядывая на тучи. – До столицы несколько дней пути, мой друг. Мунглам вздохнул. Небеса грозили снегопадом, а шатер в его седельном мешке был из тонкого шелка, пригодного для более теплых краев на востоке и западе. Он поблагодарил своих богов за то, что на нем под доспехами была теплая куртка с подкладкой, а перед тем, как спуститься с корабля в лодку, он под яркие штаны красного шелка, которые носил сверху, надел шерстяные. Его коническая шапка из меха, железа и кожи имела наушники, которые он теперь опустил и завязал под подбородком, а тяжелый плащ из оленьей кожи плотно облегал плечи. Элрикже словно не замечал холода. Его собственный плаш развевался за ним на ветру. На нем были штаны из темно-синего шелка, рубашка черного шелка с высоким воротником, стальной нагрудник, покрытый, как и его шлем, черным блестящим лаком и изящно украшенный серебром. К седлу были привязаны две сумки, на которых крепились лук и колчан со стрелами. На боку у всадника раскачивался огромный рунный меч Буревестник – источник силы его и его несчастий, а справа висел длинный кинжал, подаренный ему Йишаной – королевой Джаркора. У Мунглама были такие же лук и колчан. На каждом боку у него висело по мечу – один был короткий и прямой, другой – длинный и искривленный на манер тех, что делали на его родине, в Элвере. Оба клинка были в ножнах из великолепно выделанной илмиорской кожи, прошитой алыми и золотыми нитями. Те, кто их не знал, могли бы подумать, что видят пару наемников, которым повезло больше, чем большинству их коллег по ремеслу. Кони неутомимо несли их по местности. Это были высокие шазаарские жеребцы, славившиеся в Молодых королевствах своей выносливостью и сообразительностью. Они были рады возможности двигаться после нескольких недель заточения в трюме таркешского корабля. Время от времени Элрику и Мунгламу попадались небольшие деревеньки – несколько приземистых домишек из камня с соломенными крышами, но путники избегали их. Лормир был одним из старейших Молодых королевств, и прежде история мира создавалась главным образом в Лормире. Даже мелнибонийцы знали о деяниях древнего лормирского героя – Обека из Маладора, что в провинции Клант; по легенде, этот герой освободил новые земли от Хаоса, который царил за Краем Мира. Но былая мощь Лормира давно уже закатилась, хотя его народ и оставался одним из самых сильных на юго-западе, – и он превратился в страну, которая была сколь живописной, столь и культурной. Элрик и Мунглам проезжали мимо земледельческих хозяйств, ухоженных полей, виноградников и фруктовых садов – деревьев с золотыми листьями, окруженных поросшими мхом стенами. Прекрасная и тихая земля, так не похожая на оставшиеся позади беспокойные, бурлящие севеРозападные страны – Джаркор, Таркеш и Дхариджор. Мунглам поглядывал вокруг; они замедлили ход, пустив коней неторопливой рысью. – Телеб К’аарна может принести много горя этим землям, Элрик. Они напоминают мне мирные холмы и долины моей родины – Элвера. Элрик кивнул. – Беспокойные годы Лормира кончились, когда лормирцы сбросили иго Мелнибонэ и провозгласили себя свободным народом. Мне нравится этот мирный ландшафт. Он успокаивает меня. Вот еще одна причина, по которой мы поскорее должны найти колдуна – пока он не начал творить здесь пакости. Мунглам тихонько улыбнулся. – Поостерегись, дружище. Ты опять поддаешься тем самым чувствам, которые так презираешь… Элрик выпрямился в седле. – Ладно, давай поторопимся, чтобы побыстрей добраться до Йосаза. – Чем скорее мы доберемся до какого-нибудь города, с порядочной таверной и теплым камельком, тем лучше. – Мунглам поплотнее закутался в плащ. – Тогда молись о том, чтобы душа этого колдуна поскорее попала в ад, господин Мунглам, потому что тогда и я с удовольствием сяду перед огоньком и просижу так всю зиму, если тебе того хочется. Элрик резко перевел коня в галоп. Над мирными холмами начал смыкаться вечер.
Глава вторая Белое лицо смотрит сквозь снег
Лормир был известен огромными реками. Именно благодаря рекам эта земля стала богатой и продолжала оставаться сильной. Спустя три дня пути, когда с неба посыпался легкий снежок, Элрик и Мунглам, спустившись с гор, увидели перед собой пенящуюся воду реки Схлан – притока Зафра-Трепека, который нес свои воды за Йосазом в направлении моря у Трепесаза. Ни один корабль не заходил в Схлан так высоко, потому что здесь на каждой миле были пороги и водопады, но Элрик собирался послать Мунглама в древний город Стагасаз, стоявший у места впадения Схлана в Зафра-Трепек, чтобы купить там небольшую лодку, на которой они могли бы подняться по Зафра-Трепеку до Йосаза, где, как был уверен Элрик, скрывался Телеб К’аарна. Они гнали коней по берегу Схлана, надеясь до темноты успеть добраться до городских окраин. Они скакали мимо рыбацких деревушек и домов местной знати, время от времени их окликал мирный рыбак, закидывавший невод в тихие глубины реки, но они не останавливались. Рыбаки здесь все как один были краснолицы, носили огромные пушистые усы и одевались в разукрашенные льняные блузы и кожаные сапоги чуть ли не до паха. Эти люди в прежние времена были в любой момент готовы оставить рыболовные сети, взять в руки мечи и алебарды, сесть на коней и отправиться на защиту своей земли. – Может быть, позаимствовать лодку у кого-нибудь из рыбаков? – предложил Мунглам. Но Элрик отрицательно покачал головой. – Местные рыбаки известны своими длинными языками. Слух о нашем прибытии вполне может опередить нас, и Телеб К’аарна, таким образом, будет предупрежден. – Мне кажется, ты осторожен сверх всякой меры… – Он слишком часто уходил от меня. Они увидели новые пороги. В сумерках перед ними предстали огромные черные камни, через которые перекатывалась ревущая вода, посылая высоко вверх холодные брызги. Здесь не было ни домов, ни деревень, а тропинка вдоль берега сузилась, и Элрику с Мунгламом пришлось замедлить коней и двигаться осторожно, чтобы не свалиться в воду. Мунглам, перекрывая шум воды, закричал: – Мы сегодня дотемна не успеем добраться до Стагасаза! Элрик кивнул. – Минуем пороги и сделаем привал. Вон там. Снег продолжал падать, и ветер дул им в лицо, что еще сильнее затрудняло их продвижение по узкой тропинке, которая петляла теперь высоко над рекой. Но наконец непогода стала стихать, тропинка стала пошире, а вода спокойнее, и путники с облегчением оглянулись – они были на ровном месте, где вполне можно было устроить привал. Первым их увидел Мунглам. Дрожащей рукой он указал в небо на севере. – Элрик, что ты об этом думаешь? Элрик взглянул на низкое небо, смахивая с лица снежинки. Поначалу в его взгляде отразилось недоумение. Брови Элрика сошлись к переносице, глаза прищурились. Какие-то черные тени на небе. Крылатые тени. На таком расстоянии догадаться об их истинном размере было невозможно, но летели они вовсе не так, как летают птицы. Элрик вспомнил о других летающих существах – о тех, которых он видел в последний раз, когда морские владыки сожгли Имррир и мелнибонийцы отомстили налетчикам. Месть тогда имела две формы. Первая – в виде золотых боевых барок, которые подстерегли пиратов, когда те покидали грезящий город. Вторая – в виде огромных драконов Сияющей империи. Те существа, которых он видел сейчас, чем-то напоминали драконов. Неужели мелнибонийцы нашли способ разбудить драконов до окончания времени, требовавшегося им для того, чтобы восстановить силы? Неужели они выпустили драконов и отправили их на поиски Элрика, который выступил против своих, предал свой собственный получеловеческий род, чтобы отомстить кузену Йиркуну, захватившему власть в Мелнибонэ и занявшему Рубиновый трон Имррира? Лицо Элрика сделалось жестким, мрачным. Его малиновые глаза сверкали, как отполированные рубины. Его левая рука легла на эфес огромного черного меча – рунного меча Буревестника. Элрик с трудом сдерживал нахлынувший на него ужас. Летящие формы изменились. Они уже не напоминали драконов, а стали похожи на многоцветных лебедей, чьи сверкающие перья улавливали и отражали остатки дневного света. Они приближались. У Мунглама вырвался испуганный вздох. – Они такие огромные! – Доставай свой меч, дружище Мунглам. Доставай и молись тем богам, которые властвуют в Элвере. Эти существа вызваны к жизни колдовством, и послал их сюда, несомненно, Телеб К’аарна, чтобы уничтожить нас. Мое уважение к этому колдуну растет. – Кто они такие, Элрик? – Это существа Хаоса. В Мелнибонэ их называли унаями. Они могут менять свой вид. Подчинить их себе, заставить принять нужный облик может только колдун огромной умственной дисциплины, обладающий к тому же необыкновенной силой. Некоторые из моих предков умели это делать, но я никак не думал, что на это способен какой-то колдунишка из Пан-Танга. – И ты не знаешь никакого колдовства против них? – Что-то ни одно не приходит в голову. Прогнать их смог бы только кто-нибудь из Владык Хаоса, например мой покровитель Ариох. Мунглама пробрала дрожь. – Тогда вызывай Ариоха. Прошу тебя, не медли! Элрик смерил Мунглама легким ироническим взглядом. – Наверное, эти существа наполняют тебя немалым страхом, если ты готов вынести даже присутствие самого Ариоха, друг Мунглам. Мунглам вытащил свой длинный кривой меч. – Возможно, мы им вовсе и не нужны, – сказал он. – Но лучше уж все равно подготовиться. Элрик улыбнулся. – Пожалуй. И тогда Мунглам извлек свой прямой меч и обмотал поводья коня вокруг руки. С небес до них донесся пронзительный гогот. Лошади били копытами в землю. Гогот становился все громче. Существа открыли свои клювы и стали перекликаться, и сделалось совершенно очевидно, что никакие это не гигантские лебеди, потому что у них были извивающиеся языки, а из их клювов торчали длинные острые клыки. Они слегка изменили направление и теперь летели прямо на путников. Элрик откинул голову и, вытащив свой огромный меч, поднял его к небесам. Меч пульсировал и стонал, и от него исходило черное свечение, отбрасывая тени на бледное лицо владельца. Шазаарский конь заржал и встал на дыбы, лицо Элрика исказила мука, а с его губ стали срываться слова: – Ариох! Ариох! Ариох! Повелитель Семи Бездн, Владыка Хаоса, помоги мне! Помоги мне скорей, Ариох! Конь Мунглама пятился в страхе, и маленькому человечку лишь с трудом удавалось удерживать его. Он так побледнел, что лицо его цветом не уступало лицу Элрика. – Ариох! Химеры начали сужать над ними круги. – Ариох! Кровь и души, если ты мне поможешь! И тогда в нескольких ярдах от него заклубился появившийся из ниоткуда черный туман. Туман словно бы кипел, и в нем проявлялись какие-то странные, вызывающие отвращение очертания. – Ариох! Туман стал еще гуще. – Ариох! Я прошу тебя – помоги мне! Конь бил копытом воздух, храпел и ржал, ноздри его клубились, глаза сверкали. Но Элрик, чьи губы так растянулись на зубах, что он стал похож на бешеного волка, крепко держался в седле; темный туман тем временем задрожал, и в верхней его части всплыло странное неземное лицо. Это было лицо изумительной красоты, лицо абсолютного зла. Мунглам отвернулся, не в силах смотреть на него. Из прекрасного рта раздался приятный, с присвистом голос. Туман неторопливо клубился, свет его изменялся на крапчатый алый, перемежающийся изумрудно-зеленым. – Приветствую тебя, Элрик, – сказало лицо. – Приветствую тебя, самый возлюбленный из моих детей. – Помоги мне, Ариох! – Ах, – сказало лицо тоном, исполненным искреннего сочувствия. – Ах, это невозможно… – Ты должен мне помочь! Химеры замедлили свой спуск, увидев странный туман. – Это невозможно, милейший из моих рабов. В царстве Хаоса есть дела и поважнее. Дела наиважнейшие, как я уже говорил. Я предлагаю тебе только мое благословение. – Ариох, я прошу тебя! – Не забывай о своей клятве Хаосу и о том, что, несмотря ни на что, ты должен оставаться преданным нам. Прощай, Элрик. И темный туман исчез. Химеры спустились ниже. Элрик испустил мучительный стон, а меч запел в его руке, задрожал, и его сияние чуть померкло. Мунглам сплюнул. – Чего уж и говорить, могущественный покровитель, но ужасно непостоянный. Он выпрыгнул из седла, когда существо, десяток раз изменившее свою форму по мере приближения к нему, выпустило огромные когти, лязгая ими в воздухе. Конь без всадника снова встал на дыбы, направляя удары своих копыт на исчадие Хаоса. Клыкастая пасть щелкнула в воздухе. Кровь хлынула из того места, где только что была лошадиная голова, лошадиное тело еще раз лягнуло воздух и рухнуло, оросив жадную землю своей кровью. Держа остатки головы в том, что несколько мгновений назад было покрытой чешуей пастью, затем стало клювом, потом снова пастью, но теперь похожей на акулью, унай взмыл в воздух. Мунглам взял себя в руки. Его глаза не видели ничего, кроме неминуемой гибели. Элрик тоже соскочил со своего коня и шлепнул его ладонью по крупу, отчего тот поскакал прочь по направлению к реке. За ним последовала другая химера. На этот раз летучая тварь впилась в тело коня когтями, появившимися вдруг в ее лапах. Конь попытался освободиться, его позвоночник чуть не сломался в этом тщетном сопротивлении. Химера со своей добычей взмыла в облака. Снегопад усилился, но Элрик и Мунглам не замечали его – они стояли рядом в ожидании нападения следующего уная. Мунглам тихо сказал: – Может, ты знаешь какое другое заклинание, друг Элрик? Альбинос покачал головой. – Ничего, что могло бы помочь нам в этой ситуации. Унаи всегда служили мелнибонийцам. Они никогда нам не угрожали. Поэтому нам и не нужны были заклинанияпротив них. Я пытаюсь придумать… Химера гоготнула и завыла в воздухе над их головами. Потом от стаи отделилась еще одна тварь и спикировала на землю. – Они нападают по одному, – сказал Элрик каким-то отстраненным тоном, словно разглядывая насекомое в бутылке. – Они никогда не нападают стаей. Я не знаю почему. Унай сел на землю и теперь принял форму слона с огромной головой крокодила. – Не очень приятное сочетание, – сказал Элрик. Земля сотрясалась под ногами надвигающейся на них твари. Они ждали ее приближения плечом к плечу. Тварь была почти перед ними… В последнее мгновение они разделились: Элрик бросился в одну сторону, Мунглам – в другую. Химера проскочила между ними, и Элрик вонзил ей в бок свой меч. Меч запел чуть ли не сладострастно, глубоко погрузившись в плоть твари, которая мгновенно изменилась – стала драконом, роняющим огненный яд со своих клыков. Но тварь получила жестокую рану, из которой хлестала кровь. Химера взвыла и снова изменила свою форму, словно подыскивая такую, в которой рана исчезла бы. Черная кровь еще сильнее хлестала из ее бока, как будто усилия, потраченные на изменения, увеличили рану. Тварь упала на колени, блеск исчез с ее перьев, ушел с ее чешуи, выветрился с ее кожи. Она дернула ногами и замерла – тяжелое, черное, свиноподобное существо, уродливее которого ни Элрику, ни Мунгламу не доводилось видеть. Мунглам проворчал: – Нетрудно понять, почему у такой твари возникает желание изменять облик… Он поднял голову. На них спускалась еще одна тварь. Эта была похожа на крылатого кита с кривыми клыками и хвостом, напоминающим огромный штопор. Приземлившись, химера изменила свою форму. Теперь она стала похожа на человека. Перед путниками оказалась огромная – в два раза выше Элрика – красивая фигура; она была обнаженной, идеально сложенной, но смотрела пустым взглядом, и изо рта у нее капала слюна, как у ребенка-дегенерата. Химера резво побежала на них, протягивая к ним руки, – так дитя тянется к игрушке. На этот раз Элрик и Мунглам ударили вместе – по рукам твари. Острый меч Мунглама глубоко вошел в костяшки пальцев, а меч Элрика отсек запястье, и тут унай снова изменил свою форму, превратившись сначала в осьминога, затем в огромного тигра, а потом в смесь обоих и наконец стал камнем с разверстой трещиной, в которой виднелись белые щелкающие зубы. Путники в недоумении ждали продолжения атаки. У основания камня они увидели струйку крови. Это навело Элрика на одну мысль. С неожиданным криком он подпрыгнул, подняв меч над головой, а потом обрушил его на вершину камня – тот раскололся на две части. Черный меч испустил какое-то подобие смеха, когда раздвоенный камень, сверкнув, превратился в свиноподобное существо, разрубленное на две половины; его внутренности и кровь расползались по земле. Затем из-за пелены снега появился еще один унай – тело его сверкало оранжевым цветом, а видом своим он напоминал крылатую змею, завившуюся тысячью колец. Элрик ударил по кольцам, но те двигались слишком быстро. Другие химеры наблюдали все это время, как Элрик и Мунглам разделывались с двумя их товарищами, и смогли воочию убедиться, насколько те хорошо владеют искусством боя. Кольчатая химера обвила тело Элрика, руки которого тут же оказались прижатыми к бокам. Он почувствовал, как тело его отрывается от земли, и в этот момент следующая химера, принявшая такую же форму, бросилась на Мунглама, намереваясь применить против него ту же тактику. Элрик приготовился умереть, как умер до этого его конь. Он только молился о легкой смерти, а не мучительной – от рук Телеба К’аарны, который грозил предать Элрика медленной смерти. Чешуйчатые крылья мощно рассекали воздух. Морда летающей твари приблизилась к голове Элрика. Он испытал приступ отчаяния, поняв, что его и Мунглама быстро несут на север над бесконечной степью Лормира. Не было сомнений – в конце этого путешествия их ждет Телеб К’аарна.Глава третья Бескрайнее небо наполняется перьями
Опустилась ночь, а химеры, не зная устали, продолжали свой полет; их тела чернели в белизне падающего снега. Никаких признаков усталости колец не чувствовалось, хотя Элрик и пытался раздвинуть их. Он крепко держал свой меч и напрягал разум в поисках какого-нибудь средства, которое позволило бы победить этих монстров. Если бы только нашлось какое-нибудь заклинание… Он старался не думать о Телебе К’аарне, о том, что он сделает с ним, если только унаев на них действительно напустил колдун. Колдовские способности Элрика были связаны главным образом с его умением управлять различными элементалями воздуха, огня, земли, воды и эфира, а также разными представителями земной флоры и фауны. Он решил, что единственная его надежда – на Филит, повелительницу птиц, которая обитала в мире, расположенном за пределами измерений Земли, однако Элрик никак не мог вспомнить нужное заклинание. Но даже если бы он и вспомнил его, он сначала должен был определенным образом настроить свой ум, вспомнить правильные ритмы, точные слова и интонации, и только после этого можно было обращаться за помощью к Филит, потому что вызвать ее было столь же трудно, как и переменчивого Ариоха, – и уж гораздо труднее, чем любого другого элементаля. Сквозь падающий снег он смутно различил голос кричавшего что-то Мунглама. – Что ты хочешь, Мунглам? – крикнул Элрик в ответ. – Я только… хотел узнать… жив ли ты еще, друг мой Элрик? – Да… Едва… Лицо у него свело от холода, доспехи обледенели. Тело его мучительно болело под давлением колец химеры и от лютого мороза, царившего на такой высоте. Они летели все дальше и дальше сквозь северную ночь, и Элрик пытался расслабиться, погрузиться в транс и найти в своей памяти древнее знание предков. На рассвете тучи рассеялись, и красные солнечные лучи проникли в белизну снега, растеклись, как кровь по булату. Внизу, насколько хватало глаз, простиралась степь – огромное, от горизонта до горизонта покрытое снегом пространство, а вверху небеса были как синеватая корка льда, в которой красной полыньей сверкало солнце. Неутомимые химеры продолжали полет. Элрик пытался вывести себя из полузабытья, в котором пребывал его мозг, и молился своим ненадежным богам, чтобы те помогли ему вспомнить нужное заклинание. Его губы смерзлись. Он облизнул их, ощущая вкус льда на языке. Он разомкнул губы, и в рот ему хлынула струя горьковатого воздуха. Он закашлялся, поднял голову. Его малиновые глаза засверкали. Он заставил свои губы произносить странные звуки, выкрикивать насыщенные гласными слова высокого наречия древнего Мелнибонэ – речи, малопригодной для человеческого языка. – Филит, – пробормотал он и принялся распевать заклинание. Он пел, а меч становился теплее в его руке, посылая в тело заряды энергии, и необычное заклинание громко звучало в холодном небе:Глава четвертая Одинокий старый замок
Прошел день, прошла ночь. Потом наступил вечер второго дня, а двое все продолжали свой путь – они давно потеряли направление, и единственное, что им оставалось, это идти и идти. Опустилась ночь, теперь они уже двигались ползком. Говорить они не могли. Холод пробирал их до костей. Холод и истощение почти лишили их сознания, а потому когда они упали в снег, то даже не отдавали себе отчета в том, что перестали двигаться. Они уже не чувствовали различий между жизнью и смертью, между существованием и прекращением существования. И когда взошло солнце и чуть согрело их плоть, они шевельнулись и подняли головы – возможно, для того, чтобы в последний раз окинуть взглядом тот мир, который покидали. И увидели замок. Замок стоял посреди степи, судя по всему, с глубокой древности. Лишайник и мох, которыми поросли старые потрескавшиеся камни, были покрыты снегом. Казалось, он стоит здесь целую вечность, но ни Элрик, ни Мунглам никогда не слышали о том, чтобы замки строились посреди степи. Трудно было представить, как мог существовать такой замок в земле, которая когда-то называлась Краем Мира. Мунглам поднялся первым. По глубокому снегу, спотыкаясь, добрался он до того места, где лежал Элрик. Ток больной крови по телу Элрика почти прекратился. Он застонал, когда Мунглам поднял его на ноги, и попытался что-то сказать, но губы его смерзлись. Цепляясь друг за друга, иногда шагая, иногда ползком стали они двигаться в сторону замка. Вход был открыт. Они ввалились внутрь, и тепло, хлынувшее на них, вернуло их к жизни; теперь им хватило сил, чтобы встать и пройти по узкому коридору в большой зал. Зал был пуст. Они не увидели здесь никакой мебели, лишь огромный, выложенный гранитом очаг в дальнем конце зала. Они прошли туда по выстланному плитками из лазурита полу. – Значит, замок обитаем. Голос Мунглама прозвучал резко и хрипло. Он озирался, оглядывая базальтовые стены. Потом, насколько хватило сил, возвысил голос: – Приветствую того, кому принадлежит этот зал. Мы – Мунглам из Элвера и Элрик из Мелнибонэ, и мы просим тебя о гостеприимстве, потому что заблудились в твоей стране. Колени Элрика подломились, и он рухнул на пол. Мунглам бросился к нему, слыша свой голос, эхом отдающийся под сводами зала. Вокруг царила тишина, если не считать потрескивания поленьев в очаге. Мунглам подтащил альбиноса к огню и уложил его рядом с очагом. – Погрей тут свои кости, друг Элрик, а я поищу тех, кто здесь живет. Он пересек зал и поднялся по каменным ступенькам, которые вели на второй этаж. Здесь, как и внизу, не было никакой мебели или украшений. Он прошел через множество комнат, но все они были пусты. Мунглам почувствовал беспокойство – ему казалось, что за этим кроется что-то потустороннее. Уж не принадлежит ли этот замок Телебу К’аарне? Но кто-то здесь все же обитал. Кто-то ведь развел огонь в очаге, кто-то отпер ворота, чтобы они с Элриком могли войти. И обитатели не могли покинуть замок обычным способом, потому что в этом случае они оставили бы следы на снегу. Мунглам помедлил, потом повернулся и начал медленно спускаться. Вернувшись в зал, он увидел, что альбинос уже пришел в себя и сидит, опираясь спиной о стену вблизи очага. – Ну, что ты нашел?..спросил Элрик хриплым голосом. Мунглам пожал плечами. – Ничего. Ни слуг, ни хозяина. Если они отправились на охоту, то вылетели отсюда на каких-то летающих зверях, потому что мы не видели следов на снегу у замка. Должен признаться, я немного нервничаю. – Он слабо улыбнулся. – Да, и еще я слегка голоден. Пойду поищу кладовку. Если возникнет какая-нибудь опасность, то лучше ее встретить не на пустой желудок. С одной стороны от очага находилась дверь. Он толкнул ее, и она открылась в короткий коридор, в конце которого виднелась другая дверь. Он пошел по коридору, держа меч в руке, приблизился ко второй двери и открыл ее. Там тоже было помещение, такое же пустое, как и все предыдущие им виденные. За этим помещением он увидел кухню замка. Он прошел по кухне, отметив про себя, что там находится кухонная утварь – отполированная и чистая, но не используемая. Наконец он оказался у кладовой. Здесь он обнаружил большую часть оленьей туши на крюке, а на полке за нею стояли меха и кувшины с вином. Под этой полкой были хлебы и пироги, а еще ниже – специи. Первым делом Мунглам поднялся на цыпочки и взял кувшин с вином. Вытащив пробку, он понюхал содержимое. В жизни он не чувствовал более восхитительного запаха. Он попробовал вино и тут же забыл о своей боли и усталости. Но о том, что Элрик ждет его в зале, он помнил. Отрезав своим коротким мечом часть туши, он сунул ее под мышку. Потом выбрал несколько приправ и положил их в сумку на поясе. Под другую руку он сунул хлеб, прихватил и кувшин с вином. Он вернулся в зал, положил на пол свою добычу и помог Элрику отхлебнуть из кувшина. Странное вино почти мгновенно произвело свое действие, и Элрик благодарно улыбнулся Мунгламу. – Ты… хороший друг… Чем я заслужил… Мунглам отвернулся, смущенно хмыкнув. Он собирался приготовить мясо на огне. Он никогда толком не понимал своей дружбы с альбиносом. Она всегда представляла собой необычную смесь уважения и привязанности, тонкий баланс, который оба они тщательно поддерживали даже в ситуациях, подобных нынешней. Элрик после того, как его любовь к Симорил привела к ее гибели и разрушению города, который он любил, неизменно воздерживался от проявления теплых чувств к тем, к кому испытывал симпатию. Он убежал от Шаариллы из Танцующего Тумана, которая беззаветно любила его. Он убежал от Йишаны, королевы Джаркора, предлагавшей ему свое королевство, невзирая на ненависть к нему ее подданных. Он избегал любых компаний, кроме Мунглама, а Мунглам тоже быстро утомлялся любым обществом, кроме малиновоглазого владыки Имррира. Мунглам был готов умереть за Элрика и знал, что Элрик презрит любую опасность, чтобы спасти своего друга. Но может быть, в этих отношениях было что-то нездоровое? Может быть, лучше им было разойтись в разные стороны? Эта мысль была ему невыносима. Ему казалось, что они – часть одного существа, различные проявления характера одного человека. Он не понимал, откуда у него возникли такие чувства, и догадывался, что если Элрик когда и задавался этим вопросом, то тоже вряд ли смог найти ответ на него. Он размышлял обо всем этом, поджаривая мясо на огне с помощью своего длинного меча. Элрик тем временем отхлебнул еще вина и начал заметно отогреваться. На его коже все еще блестели отмороженные места, но оба они избежали серьезных повреждений. В молчании съели они мясо, окидывая взглядами зал, размышляя о том, почему отсутствует хозяин, однако усталость их все еще была так велика, что вопрос этот мало их беспокоил. Потом они, подбросив поленьев в очаг, уснули, а проснувшись утром, почти полностью оправились от пережитого испытания в снегу. Они позавтракали холодным мясом, пирогами и вином. Мунглам нашел кастрюлю, и в ней они подогрели воду, чтобы побриться и помыться, а у Элрика в сумке нашелся бальзам, которым они смазали отмороженные места. – Я посмотрел конюшни, – сказал Мунглам, бреясь бритвой, которую достал из своей сумки. – Но лошадей там нет. Однако есть признаки того, что какие-то животные находились там совсем недавно. – Существует только один способ путешествовать по снегу, – сказал Элрик. – Где-то в замке должны быть лыжи. Такие вещи непременно есть в доме, который расположен в местах, где не менее полугода лежит снег. На лыжах мы сможем скорее добраться до Йосаза. Не помешали бы нам карта и компас. Мунглам согласился. – Я поищу наверху. – Он кончил бриться, отер бритву и вернул ее в свою сумку. Альбинос поднялся. – Я пойду с тобой. Они прошли по пустым комнатам, но ничего в них не обнаружили. – Никаких вещей, – нахмурился Элрик. – И в то же время я чувствую, что замок обитаем. Это не просто ощущение, тому есть и свидетельства. Они обыскали еще два этажа – в комнатах не было даже пыли. – Пожалуй, придется идти пешком, – сказал Мунглам, отчаявшись что-либо отыскать. – Разве что найдем какие-нибудь деревяшки, из которых можно будет изготовить что-нибудь вроде лыж. Что-то подобное я, кажется, видел в конюшне. Они добрались до узкой винтовой лестницы, которая вела в самую высокую башню замка. – Посмотрим, что там, и если ничего, то будем считать, что наши поиски были напрасны, – сказал Элрик. Поднявшись по лестнице, они обнаружили наверху полуоткрытую дверь. Элрик толкнул ее и остановился в неуверенности. – В чем дело? – спросил Мунглам, который находился ниже него. – В комнате есть мебель, – тихо ответил Элрик. Мунглам поднялся еще на две ступеньки и заглянул внутрь через плечо Элрика. Он в изумлении открыл рот. – К тому же она обитаема! Комната была великолепна. Через хрустальные окна в нее проникал бледный свет, который сверкал и переливался на многоцветных шелковых занавесях, на богатых коврах и гобеленах таких ярких тонов, что казалось, они изготовлены всего мгновение назад. В центре комнаты стояла кровать, укрытая горностаевым мехом и с балдахином из белого шелка. На кровати лежала молодая женщина. Ее черные волосы отливали глянцевым блеском. Платье ее было ярко-алого цвета. Кожа рук и ног имела цвет розоватой слоновой кости, губы ее прекрасного лица оставались чуть приоткрыты – она дышала. Женщина спала. Элрик сделал два шага в направлении спящей женщины и вдруг остановился. Его пробрала дрожь. Он отвернулся. – В чем дело, друг Элрик? Мелнибониец шевельнул белыми губами, но не смог произнести ни слова. Что-то вроде стона вырвалось из его груди. – Элрик… Мунглам прикоснулся к альбиносу. Элрик стряхнул с себя его руку. Альбинос снова повернулся к кровати, словно заставляя себя смотреть на что-то ужасное. Он дышал глубоко, плечи его распрямились, левая рука легла на эфес клинка. – Мунглам… Он заставлял себя говорить. Мунглам посмотрел на женщину на кровати, посмотрел на Элрика. Может быть, Элрик узнал ее? – Мунглам, это колдовской сон… – Откуда ты знаешь? – Он… похож на тот сон, в который мой кузин Йиркун погрузил Симорил… – Боги! Ты думаешь… – Я ничего не думаю. – Но это не… – Это не Симорил. Я знаю. Я… она похожа на нее… очень похожа. Но одновременно и не похожа… Только я никак не ждал… Элрик опустил голову. Голос его зазвучал тихо. – Идем отсюда, – сказал он. – Но, наверное, она – хозяйка замка. Если бы мы разбудили ее, она смогла бы… – Таким, как мы, ее не разбудить. Я тебе уже сказал, Мунглам… – Элрик глубоко вздохнул, – ее погрузили в колдовской сон. При всем моем знании колдовства я не мог разбудить Симорил. Если у тебя нет строго определенных чар, если ты не знаешь точно, какое заклинание использовалось, то тут ничем помочь нельзя. Быстрее, Мунглам, уйдем отсюда. В голосе Элрика послышались интонации, которые заставили Мунглама вздрогнуть. – Но… – Тогда уйду я! Элрик чуть ли не бегом выскочил из комнаты. Мунглам услышал дробь его шагов, эхом отдававшуюся вдоль длинной лестницы. Он подошел к спящей женщине и взглянул на ее красивое лицо. Затем прикоснулся к ее коже – она была неестественно холодна. Поведя плечами, он уже направился к двери, но тут заметил, что на стене за кроватью висит несколько древних щитов и оружие. «Странно, что красавица пожелала украсить свою спальню такими трофеями», – удивился Мунглам. Под оружием стоял резной деревянный столик. На нем что-то лежало. Он снова вернулся в комнату. Сердце учащенно забилось, когда на столике он увидел карту. На карте были обозначены замок и река Зафра-Трепек. Карта была прижата к столу компасом в серебряной оправе на длинной серебряной цепочке. Мунглам одной рукой схватил карту, другой – компас и бросился из комнаты. – Элрик! Элрик! Он бегом спустился по лестнице, кинулся в зал – Элрика там не было. Дверь зала была открыта. Он последовал за альбиносом из таинственного замка на снег. – Элрик! Элрик повернулся – на лице гримаса боли, в глазах страдание. Мунглам показал ему карту и компас. – Это наше спасение, Элрик! Альбинос уставился на снег. – Да. Спасение.Глава пятая Сон обреченного владыки
Два дня спустя они добрались до верховьев реки Зафра-Трепек и торгового города Алорасаза с его башнями, изящной резьбой по дереву и красивыми деревянными домами. В Алорасаз приходили охотники на пушного зверя, золотоискатели, купцы из Йосаза, лежащего ниже по течению, а то и из Трепесаза, расположенного на побережье. Это был веселый, шумный город, улицы которого освещались и обогревались раскаленными жаровнями, установленными на каждом углу. Присматривали за жаровнями специальные граждане, в чью обязанность входило поддерживать в жаровнях огонь, чтобы те всегда давали свет и тепло; эти люди в плотных шерстяных одеяниях и приветствовали Элрика и Мунглама, когда те вошли в город. Хотя Мунглам и позаботился о том, чтобы взять в путь вино и мясо, они чувствовали себя усталыми после долгого пути по степи. Они прошли сквозь шумную толпу, мимо смеющихся краснощеких женщин и коренастых, одетых в меха мужчин, чье дыхание клубилось в воздухе, смешиваясь с дымом жаровен. Мужчины вовсю прихлебывали из тыквенных бутылей с пивом и мехов с вином, ведя переговоры с купцами, прибывшими из более цивилизованных мест и потому имевшими не столь живописно-буколический вид. Элрик, искавший новостей, знал, что за ними нужно отправиться в таверну. Он дождался Мунглама, который вернулся, разузнав, где находятся лучшие в Алорасазе гостиницы. Вскоре они оказались в шумной таверне, заставленной большими деревянными столами и скамьями, на которых восседали купцы и лавочники – все они весело торговались, щупали меха, нахваливая их качество или посмеиваясь над их низкопробностью, в зависимости от того, покупали они или продавали. Мунглам оставил Элрика у дверей, а сам пошел поговорить с хозяином – толстенным человеком с лоснящимся пунцовым лицом. Элрик увидел, как хозяин наклонился, выслушивая Мунглама. Потом он кивнул, поднял руку и крикнул альбиносу, чтобы тот шел за ним и Мунгламом. Элрик протиснулся между скамьями, и тут его чуть не сбил с ног жестикулирующий торговец, который весело и многословно извинился и предложил купить Элрику вина. – Все в порядке, – тихо сказал мелнибониец. Человек поднялся. – Прошу прощения, мой господин, это моя вина… – Голос его замер, когда он разглядел лицо альбиноса. Он пробормотал что-то и снова сел, сделав какое-то замечание своему товарищу. Элрик последовал за Мунгламом вверх по неустойчивой деревянной лестнице в отдельную комнату – других, по словам хозяина, у него не было. – Такие комнаты дороги в сезон зимней ярмарки, – извиняющимся тоном сказал хозяин. На лице Мунглама появилась гримаса, когда Элрик протянул хозяину еще один драгоценный рубин, стоивший целое состояние. Хозяин внимательно рассмотрел камень, а потом рассмеялся: – Эта гостиница сгниет прежде, чем закончится ваш кредит, мой господин. Благодарю тебя. Должно быть, торговля идет хорошо в этом году. Я прикажу, чтобы вам сюда прислали выпивку и еду. – Лучшее, что есть, хозяин, – сказал Мунглам, желая получить максимум возможного. – О да, жаль, что получше ничего нет. Элрик сел на одну из кроватей и снял плащ и пояс с мечом. Он продрог до костей. – Дал бы ты мне часть нашего богатства, – сказал Мунглам, снимая с себя обувь у огня. – Нужда в деньгах у нас может возникнуть прежде, чем закончатся наши поиски. Но Элрик словно не услышал его. Поев иузнав ухозяина гостиницы, что послезавтра на Йосаз уходит корабль, Элрик и Мунглам отправились спать. В эту ночь Элрик видел тревожные сны. Призраки с большей настойчивостью, чем обычно, проникали в темные коридоры его разума. Он слышал крик Симорил, чью душу выпивал Черный Меч. Он видел горящий Имррир, видел, как рушатся его прекрасные башни. Он видел своего хохочущего кузена Йиркуна, сидящего на Рубиновом троне. Видел он и многое другое, что никак не могло принадлежать его прошлому… Элрик, который никогда не годился на роль правителя жестокого народа Мелнибонэ, отправился скитаться по землям людей, но узнал лишь то, что ему и среди них нет места. А Йиркун тем временем захватил королевство, пытался принудить Симорил стать его женой, а когда та отказалась, погрузил ее в колдовской сон, из которого только сам и мог вывести. Элрику снилось, что он нашел Нанорион, таинственный драгоценный камень, который может пробудить даже мертвого. Ему снилось, что Симорил все еще жива, что она только спит, а он помещает Нанорион ей на лоб, и она просыпается, целует его, и они вместе покидают Имррир, плывут в небесах на Огнеклыке, огромном мелнибонийском боевом драконе, несутся прочь, к мирному замку в снегу. Он вздрогнул и проснулся. Стояла глухая ночь. Даже шум в таверне внизу прекратился. Он открыл глаза и увидел, что Мунглам спит на кровати рядом. Он попытался снова уснуть, но у него ничего не получилось. Он был уверен, что в комнате есть кто-то еще. Он протянул руку и нащупал Буревестник, приготовившись защищаться, если кто-то попытается напасть на него. Может быть, это были воры, узнавшие у хозяина гостиницы о щедрости Элрика. Он услышал, как кто-то движется по комнате, и снова открыл глаза. Она стояла рядом, ее черные волосы ниспадали на плечи, алое платье облегало тело. Ее губы искривились в иронической улыбке, а глаза внимательно разглядывали его. Это была та самая женщина, которую он видел в замке. Спящая женщина. Неужели она была частью его сна? – Прости, что я вторгаюсь в твой сон и нарушаю твое уединение, господин. Но у меня срочное дело и совсем нет времени. Элрик видел, что Мунглам продолжает спать, словно ему что-то подмешали в вино. Альбинос сел на кровати. Буревестник издал стон и умолк. – Кажется, ты знаешь меня, госпожа, но я не… – Меня зовут Мишелла. – Императрица Рассвета? Она снова улыбнулась. – Некоторые называют меня именно так. А другие зовут меня Темной дамой Канелуна. – Та, которую любил Обек? Тогда ты очень хорошо сохранилась, госпожа Мишелла. – Это не моя заслуга. Возможно, я бессмертна. Не знаю. Мне известно одно: время – это обман… – Почему ты пришла ко мне? – Я не могу оставаться с тобой долго. Я пришла к тебе за помощью. – За какой? – Мне кажется, у нас общий враг. – Телеб К’аарна? – Именно. – Это он зачаровал тебя и погрузил в этот сон? – Да. – Он послал против меня своих унаев. Именно так я… Она подняла руку. – Это я послала химер, чтобы они нашли тебя и доставили ко мне. Они не собирались причинить тебе вреда. Но больше я ничего не могла сделать, потому что колдовство Телеба К’аарны уже начало действовать. Я сражаюсь с этим колдовством, но оно сильно, и просыпаться мне удается лишь на очень короткие промежутки времени. Сейчас один из таких промежутков. Телеб К’аарна соединил свои усилия с принцем Умбдой, предводителем келмаинского воинства. Они собираются покорить Лормир, а затем и весь южный континент! – Кто такой этот Умбда? Я ничего не знаю ни о нем, ни о келмаинском воинстве. Может быть, это какой-то аристократ из Йосаза, который… – Принц Умбда служит Хаосу. Он пришел из земель, лежащих за Краем Мира, и его келмаины хотя и выглядят как люди, но они не люди. Теперь колдовство Телеба К’аарны подкрепляется тем, что стоит за Умбдой, – силой Хаоса. Я защищаю Лормир и служу Закону. Я знаю, что и ты служишь Хаосу, но я надеюсь, что твоя ненависть к Телебу К’аарне сильнее твоей верности Хаосу. – Хаос в последнее время не служит мне, госпожа, так что я забуду об этой верности. Я отомщу Телебу К’аарне, и если мы сможем быть полезны друг другу в этом деле, так тому и быть. – Отлично. Она тяжело вздохнула, и глаза ее сверкнули. Когда она заговорила снова, ей далось это с трудом: – Колдовство снова одолевает меня. У меня есть скакун для тебя у северных ворот города. Он доставит тебя на остров в Кипящем море. На этом острове есть дворец, который называется Ашанелун. Именно там я и обитала в последнее время, пока не почувствовала, что Лормиру грозит опасность… Она прижала руку ко лбу и пошатнулась. – …Но Телеб К’аарна полагал, что я вернусь туда, и потому поставил стражника у ворот дворца. Этого стражника нужно уничтожить. Когда ты убьешь его, ты должен будешь… Элрик поднялся, чтобы помочь ей, но она махнула рукой – не надо. – …пробраться к восточной башне. В нижней комнате башни есть сундук. В сундуке лежит большая сумка из материи, прошитой золотом. Ты должен будешь взять ее и… принести назад в Канелун, потому что Умбда и его келмаинское воинство двигаются к замку. Телеб К’аарна с их помощью уничтожит замок, а вместе с замком и меня. А с помощью той сумки я смогу уничтожить их. Только молись, чтобы я смогла проснуться, иначе Юг обречен, и даже ты ничего не сможешь противопоставить той силе, которая будет покорна Телебу К’аарне. – А как быть с Мунгламом? – Элрик скользнул взглядом по своему спящему другу. – Он может сопровождать меня? – Лучше не надо. И потом, на нем поверхностное заклятие. И пробуждать его сейчас нет времени… – Она снова тяжело вздохнула и прижала руки к вискам. – Нет времени… Элрик вскочил с кровати и стал натягивать на себя штаны. Он набросил плащ, висевший на стуле, пристегнул к поясу рунный меч, потом шагнул вперед, чтобы поддержать ее, но Мишелла отрицательно взмахнула рукой. – Нет… Пожалуйста, иди… И она исчезла. Элрик, еще толком не проснувшийся, распахнул дверь и ринулся вниз по лестнице, а потом в ночь – к северным воротам Алорасаза. Он миновал ворота и сразу оказался в глубоком снегу. Он посмотрел в одну сторону, в другую. Холод накатил на него неожиданной волной. Скоро он уже шел по колено в снегу. Оглядываясь, он шел и шел, пока вдруг не остановился. Он удивленно открыл рот, увидев скакуна, о котором говорила ему Мишелла. «Что это – очередная химера?» Он осторожно приблизился к необычному существу.Глава шестая Птица из драгоценностей говорит
Это была птица, но птица не из плоти и крови. Это была птица из серебра, из золота, из меди. Крылья ее стали бить по воздуху, когда Элрик приблизился, она нетерпеливо принялась перебирать своими огромными когтистыми лапами, вращая холодными изумрудными глазами, изучавшими приближавшегося к ней человека. На спине у нее было резное ониксовое седло, оправленное золотом и медью, и седло это было пусто – оно ждало Элрика. – Ну что ж, – сказал сам себе Элрик, – я ввязался в это дело, не задавая никаких вопросов. Точно так же могу его и закончить. И он подошел к птице, забрался по ее боку и с некоторой осторожностью опустился в седло. Золотые с серебром крылья рассекли воздух, при этом раздался звук, словно ударили в сотню цимбал. Три взмаха – и металлическая птица вместе со своим всадником поднялась высоко в ночное небо над Алорасазом. Птица повернула свою яркую голову на медной шее и приоткрыла кривой клюв из стали, украшенной драгоценными камнями. – Мой господин, мне приказано доставить тебя в Ашанелун. Элрик взмахнул бледнокожей рукой. – Как скажешь. Я в твоей власти и во власти твоей хозяйки. Тут его откинуло назад в седле, потому что птица сильнее ударила крыльями, набирая скорость, и они понеслись сквозь холодную ночь над заснеженной долиной, над горами, над реками, пока не показался берег. И тогда Элрик увидел на западе море, которое называлось Кипящим. Птица из золота и серебра резко пошла вниз сквозь черную как смоль ночь, и Элрик почувствовал, как влажное тепло обдало его лицо и руки, и услышал характерный звук кипения. Он понял, что они летят над странным морем, заходить куда не отваживались корабли и которое, как говорили, подогревается вулканами, лежащими глубоко под водной поверхностью. Они летели в облаке пара. Жара была почти невыносимой. Вскоре Элрик различил впереди землю – небольшой скалистый остров, на котором стояло одинокое здание с красивыми башнями и куполами. – Дворец Ашанелун, – сказала птица из золота и серебра. – Я сяду на стене, хозяин, но я опасаюсь того, с кем ты должен встретиться, прежде чем наша миссия закончится. Так что я подожду тебя в другом месте. А потом, если ты останешься живым, я вернусь и отнесу тебя обратно в Канелун. Если же ты погибнешь, то я вернусь и расскажу хозяйке о твоем поражении. Птица, громко хлопая крыльями, повисла над зубчатой стеной, Элрик же сожалел о том, что ему не удастся застать врасплох того, кого так сильно боялась птица. Он перебросил одну ногу через седло, помедлил, выжидая удобный момент, а потом спрыгнул на плоскую крышу. Птица поспешно взмыла в черное небо. Элрик остался один. Вокруг царила тишина, только где-то вдали горячие волны накатывали на берег. Он обнаружил восточную башню и начал пробираться к ее двери. Может быть, подумал он, ему удастся завершить свою миссию, так и не встретившись со стражем дворца. Но тут он услышал чудовищный рев у себя за спиной и повернулся. Он понял, что сейчас ему предстоит встреча с этим самым стражем. Он увидел перед собой существо с очерченными красным глазами, полными ненасытной злости. – Значит, ты и есть раб Телеба К’аарны, – сказал Элрик. Он потянулся к Буревестнику, и меч словно бы сам прыгнул в его руку. – Я должен тебя убить или ты уйдешь подобру-поздорову? Существо снова заревело, но не двинулось с места. Тогда альбинос сказал: – Я Элрик из Мелнибонэ, последний в роду великих королей-чародеев. Этот клинок не просто убьет тебя, мой друг демон. Он выпьет твою душу и накормит меня ею. Может быть, я тебе известен под другим именем? Меня еще называют Похититель Душ. Существо ударило своим зубчатым хвостом, и его бычьи ноздри раздулись. Рогатая голова на короткой шее наклонилась, и в темноте блеснули длинные зубы. Оно вытянуло чешуйчатые лапы и стало надвигаться на Владыку Руин. Элрик взял меч двумя руками и расставил пошире ноги на плитах. Он приготовился отразить атаку монстра. Ему в лицо ударило зловонное дыхание. Зверь заревел опять и бросился вперед. Буревестник завыл, осветив обоих черным сиянием. Руны, вырезанные на металле, сверкнули алчным светом, когда это исчадие ада замахнулось на Элрика своей когтистой лапой, разодрав на нем рубашку и обнажив грудь. Меч опустился на атакующего монстра. Демон зарычал, когда меч ударил по чешуе на его плече, но не отступил. Он отпрянул в сторону и снова набросился на Элрика. Альбинос отступил, но при этом на его руке появилась рваная рана от локтя до запястья. Буревестник ударил во второй раз – прямо по морде монстра, который взвизгнул, но его лапа опять добралась до тела Элрика, на этот раз слегка вспоров кожу у него на груди. Из раны потекла кровь. Элрик упал на спину,потеряв равновесие на камнях. Он чуть было не свалился вниз, но успел подняться и изготовиться к защите. Перед ним снова мелькнули когти, но Буревестник отбил их. Элрик начал задыхаться, пот тек по его лицу, в нем зрело отчаяние, но постепенно это отчаяние обретало иное качество, и тогда глаза его засверкали, с губ сорвался дикий крик. – Ты еще не понял, что я – Элрик?!воскликнул он. – Элрик! Но монстр продолжал атаковать. – Я Элрик! Я больше демон, чем человек! Прочь, ты, уродливая тварь! Существо снова заревело и опять набросилось на Элрика, но на этот раз он не отступил. Его лицо горело страшным гневом, он перехватил меч и сунул его острием вперед в разверстую пасть чудовища. Он погрузил Черный Меч в вонючую глотку, вонзая его глубоко в тело чудовища. Этим ударом он в конечном счете распорол пасть, шею, грудь и пах монстра, жизненная сила которого потекла в Элрика по лезвию меча. Когти снова мелькнули перед Элриком, но тварь явно слабела. И туг Элрик, почувствовав мощный прилив энергии, издал крик черного торжества. Он извлек меч и принялся наносить им удары по телу монстра, чувствуя, как все больше и больше сил притекает в него. Демон застонал и растянулся на плитках. Дело было сделано. А белолицый демон стоял над поверженной тварью, над этим исчадием ада, и малиновые глаза Элрика сверкали, а его открытые бледные губы исторгали дикий смех. Он воздел кверху руки с рунным мечом, сверкавшим черным, страшным сиянием, и меч завыл, исполняя бессловесную, торжественную песню, посвященную Владыкам Хаоса. Внезапно наступила тишина. И тогда Элрик склонил голову и зарыдал. Некоторое время спустя Элрик открыл дверь восточной башни и, нащупывая путь в кромешной темноте, добрался до нижней комнаты. На двери была щеколда, на которой висел замок, но Буревестник разбил эти запоры, и последний повелитель Мелнибонэ вошел в освещенную комнату, в которой стоял металлический сундук. Мечом альбинос разрубил металлические скрепы и откинул крышку. В сундуке было немало диковин, а среди них сумка из прошитой золотыми нитями ткани. Он взял только сумку и, засунув ее себе за пояс, устремился прочь из этой комнаты – назад на зубчатую стену, где птица из золота и серебра поклевывала то, что оставалось от слуги Телеба К’аарны. Птица подняла на Элрика глаза, в которых альбинос увидел чуть ли не шутливое выражение. – Ну что ж, хозяин, мы должны поспешить в Канелун. – Да. Элрик почувствовал тошноту. Он мрачно оглядел мертвую тушу и подумал, что жизненная сила, похищенная им у монстра, похоже, была нечистой. Не впитал ли он в себя и злобу демона? Он собрался было взобраться в ониксовое седло, но тут увидел какое-то мерцание среди черных и желтых внутренностей монстра, разбросанных на камнях. Это было сердце демона – неправильной формы камень темно-синего, алого и зеленого цветов. Оно продолжало биться, хотя его владелец был уже мертв. Элрик остановился и поднял его. Оно было влажным и таким горячим, что он чуть не обжег себе руку. Элрик сунул его в сумку, а потом забрался в седло на птице. Птица снова понесла его над Кипящим морем, а на его мертвенно-бледном лице отражались десятки странных чувств. Его молочного цвета волосы развевались у него за спиной, он не чувствовал ран на груди и руке. Он думал о другом. Некоторые его мысли лежали в прошлом, другие были направлены в будущее. Дважды он горько рассмеялся, и из его глаз пролились слезы, когда он произнес: – Какое же мучение эта жизнь!Глава седьмая Смех черного колдуна
В Канелуне они оказались с рассветом, и Элрик издалека увидел многочисленную армию, чернеющую на снегу. Он понял, что это, видимо, келмаинское воинство, ведомое Телебом К’аарной и принцем Умбдой, направляется к одинокому замку. Птица из золота и серебра приземлилась в снегу перед входом в замок и, как только Элрик спрыгнул из седла, взмыла в воздух и исчезла. На этот раз большие ворота замка Канелун были закрыты, и Элрик, запахнув свой прорванный плащ на обнаженной груди, замолотил кулаками в ворота. С его сухих губ сорвалось имя: – Мишелла! Мишелла! Никакого ответа. – Мишелла, я вернулся с тем, что тебе нужно! Он опасался, что она снова погрузилась в свой колдовской сон. Он посмотрел на юг и увидел, что черная волна еще больше приблизилась к замку. – Мишелла! Потом он услышал звук отодвигаемой щеколды, ворота застонали и открылись, и Элрик увидел перед собой Мунглама – тот стоял с напряженным лицом, и глаза его были полны чем-то, чему Элрик не мог подобрать название. – Мунглам! Как ты здесь оказался? – Не знаю, Элрик. – Мунглам отошел в сторону, пропуская внутрь Элрика. Он вернул щеколду на место. – Я лежал прошлой ночью в своей кровати, когда появилась женщина – та самая, что мы видели здесь спящей. Она сказала, что я должен следовать за ней. И я каким-то образом последовал. Только я не знаю как, Элрик. Понятия не имею. – И где сейчас эта женщина? – Там, где мы ее впервые и увидели. Она спит, и я не могу ее разбудить. Элрик тяжело вздохнул и вкратце рассказал Мунгламу то, что ему стало известно о Мишелле и воинстве, которое наступало на ее замок Канелун. – А ты знаешь, что находится в этой сумке? – спросил Мунглам. Элрик отрицательно покачал головой и, открыв сумку, заглянул внутрь. – Кажется, там нет ничего, кроме какого-то розоватого порошка. Но это, видимо, связано с каким-то сильным колдовством, если Мишелла считает, что с помощью этого можно победить келмаинское воинство. Мунглам нахмурился. – Но Мишелла сама должна произвести это колдовское действо, если только она знает, что это за порошок. – Да. – А в сон ее погрузил Телеб К’аарна. – Да. – Но теперь слишком поздно, потому что Умбда – уж не знаю, кто он такой, – приближается к замку. – Да. – Рука Элрика дрожала, когда он доставал из-за пояса сердце демона, которое он взял, перед тем как оставить дворец Ашанелун. – Если только это не тот камень, что я думаю. – Что думаешь? – Я знаю одну легенду. У некоторых демонов эти камни вместо сердец. – Он поднес камень к свету, и его грани замерцали синим, алым и зеленым. – Я его прежде никогда не видел, но мне кажется, это именно то, что я искал когда-то для Симорил, когда пытался вывести ее из сна, наведенного на нее Йиркуном. Я тогда искал, но так и не нашел Нанорион – камень, обладающий волшебной силой пробуждать даже мертвых или тех, кто спит мертвым сном. – И это и есть Нанорион? Он разбудит Мишеллу? – Если ее что и разбудит, так только это. Я взял его из тела демона Телеба К’аарны. К тому же этот камень должен повысить эффективность колдовства. Идем. Элрик направился через зал, а потом вверх по лестнице в комнату Мишеллы, где она лежала, как и прежде, на кровати под балдахином, перед стеной, увешанной щитами и оружием. – Теперь я понимаю, почему у нее такие украшения в спальне, – сказал Мунглам. – Согласно легенде, это оружие тех, кто любил Мишеллу и сражался за ее дело. Элрик кивнул и сказал, словно бы про себя: – Да, Императрица Рассвета всегда была врагом Мелнибонэ. Он осторожно взял пульсирующий камень и, вытянув руку, положил его на лоб женщины. Прошло несколько мгновений, и Мунглам сказал: – Похоже, камень на нее не действует. Она даже не шелохнулась. – Есть одна руна, но я не могу ее вспомнить… – Элрик прижал пальцы к вискам. – Не могу ее вспомнить… Мунглам подошел к окну. – Мы можем спросить у Телеба К’аарны, – иронически сказал он. – Он будет здесь с минуты на минуту. И тут Мунглам увидел, что в глазах Элрика снова появились слезы. Альбинос отвернулся в надежде, что друг не заметит их. Мунглам откашлялся. – Я тут вспомнил… надо кое-что сделать внизу. Если понадоблюсь – позови. Он вышел из комнаты и закрыл дверь, а Элрик остался один с женщиной, которая все больше и больше казалась ему жутким призраком из самых страшных его ночных кошмаров. Он попытался взять себя в руки и направить ход мыслей в нужное ему русло, чтобы вспомнить эти важнейшие руны на высоком наречии древнего Мелнибонэ. – Боги, – прошептал он, – помогите мне! Но он знал, что сейчас Владыки Хаоса не придут ему на помощь – наоборот, постараются помешать: ведь Мишелла была одной из главных слуг Закона на Земле и всячески старалась изгнать Хаос из мира. Он упал на колени рядом с ее кроватью. А потом он вспомнил. Опустив голову, он протянул правую руку и коснулся пульсирующего камня, затем протянул левую руку и положил ее на пупок Мишеллы. И запел на древнем языке, который звучал еще до того, как нога человека ощутила под собой землю…– Элрик! Мунглам ворвался в комнату, и Элрик очнулся от транса. – Элрик! Нас атакуют! Головные всадники уже в замке… – Что? – Они ворвались в замок, их около дюжины. Я их отогнал и преградил им путь в эту башню, но они уже ломают дверь. Их, видимо, послали, чтобы уничтожить Мишеллу, если им это удастся. Они удивились, увидев здесь меня. Элрик поднялся и внимательно посмотрел на Мишеллу. Он закончил руну и почти успел повторить ее, когда появился Мунглам. Мишелла так и не шелохнулась. – Телеб К’аарна колдовал на расстоянии, – сказал Мунглам. – Так он подавлял сопротивление Мишеллы. Но он не брал в расчет нас. Они с Элриком поспешили из комнаты вниз по лестнице туда, где под напором вооруженных людей прогибалась и трескалась дверь. – Отойди в сторону, Мунглам. Элрик вытащил застонавший меч, поднял его над головой и ударил им по двери. Дверь раскололась, а вместе с ней и два странной формы черепа. Остальные атакующие отпрянули назад, издав крики изумления и ужаса при виде белолицего воина с огромным мечом, который выпил души двух убитых, распевая свою странную, замысловатую песню. Под напором Элрика они бросились вниз по лестнице в зал, где сгрудились, изготовившись защищаться от демона с его мечом, выкованным в аду. А Элрик смеялся. И от этого смеха их охватывал ужас. И оружие дрожало в их руках. – Значит, вы и есть могущественные келмаины, – с издевкой сказал Элрик. – Неудивительно, что вам нужно колдовство в помощь, ведь вы так трусливы. Неужели вы там, за Краем Мира, не слышали об Элрике Братоубийце? Но келмаины явно не понимали его речей, что само по себе было необычно, поскольку говорил он на общем языке, известном всем людям. У келмаинов были золотистая кожа и почти квадратные глазницы. Их лица были словно вырублены из камня – всюду прямые углы, ровные поверхности, а их доспехи имели не закругленную форму, а угловатую. Элрик оскалился в усмешке, и келмаины сбились еще плотнее. И тогда Элрик рассмеялся жутким смехом, и Мунглам отошел в сторону, чтобы не видеть того, что должно произойти. Рунный меч рассекал воздух. Головы и конечности падали на пол. Хлестала из ран кровь. Выпивались души. По выражению на мертвых лицах келмаинов было ясно, что перед тем, как жизнь покинула их, они узнали правду о своей ужасающей судьбе. А Буревестник пил и пил, потому что Буревестника постоянно мучила жажда. И Элрик чувствовал, что его больные вены наполняются энергией, какой он не чувствовал, даже когда убивал демона Телеба К’аарны. Зал дрожал от безумного хохота Элрика, который, перешагнув через мертвые тела, вышел в открытые ворота, где в ожидании остановилось бесчисленное воинство. И прокричал он имя: – Телеб К’аарна! Телеб К’аарна! Следом за ним выбежал Мунглам, призывавший Элрика остановиться, но Элрик не слышал его. Элрик шел по снегу, оставляя за собой алый след. Келмаины под холодным солнцем наступали на замок, называвшийся Канелун, а им навстречу шел Элрик. Во главе воинства ехал на лошади одетый в просторные одежды темнолицый колдун из Пан-Танга. Рядом с ним скакал полководец келмаинского воинства, принц Умбда, весь закованный в доспехи, со странными перьями, торчащими из шлема, и с торжествующей улыбкой на необычном угловатом лице. За ними воины тащили ни на что не похожие орудия войны, которые, несмотря на всю свою экзотичность, производили впечатление огромной силы, способной победить все, что мог выставить Лормир. Когда появилась эта одинокая фигура, направившаяся от стен замка Канелун навстречу воинству, Телеб К’аарна поднял руку и остановил войско. Он натянул поводья своего коня и рассмеялся: – Да ведь это же мелнибонийский шакал, клянусь всеми богами Хаоса. Наконец-то он признал своего хозяина и идет отдаться мне на милость. Элрик подошел ближе, а Телеб К’аарна продолжал смеяться. – Элрик, упади передо мной на колени! Элрик не замедлил шага, он словно бы не слышал слов пантангианца. В глазах принца Умбды появилось тревожное выражение, он сказал что-то на неизвестном Элрику языке, и Телеб К’аарна, хмыкнув, ответил ему на том же языке. А альбинос продолжал свое движение по снегу навстречу огромному воинству. – Заклинаю Чардросом, Элрик! Остановись! – воскликнул Телеб К’аарна. Его конь под ним нервно забил копытом. – Если ты пришел торговаться со мной, то ты просто глупец. Канелун и его хозяйка должны погибнуть, а потом нам будет принадлежать весь Лормир, и в том, что он будет нашим, нет никаких сомнений! И тогда Элрик и в самом деле остановился и вперил горящий взгляд в колдуна. На его бледных губах гуляла ледяная улыбка. Телеб К’аарна попытался было ответить на взгляд Элрика, но не смог. Когда он заговорил снова, в голосе его слышалась дрожь: – Ты не в силах победить все келмаинское воинство! – Даже не собираюсь. Твоя жизнь – вот все, что мне нужно. Лицо колдуна перекосилось. – Ты ее не получишь! Эй, воины Келмаина, возьмите его! Он отступил и спрятался за рядами воинов, повторив свой приказ на их языке. Из ворот замка появилась еще одна фигура и ринулась на помощь Элрику. Это был Мунглам из Элвера. В каждой руке он держал по мечу. Элрик чуть повернул голову. – Элрик! Мы умрем вместе! – Оставайся там, Мунглам! Мунглам заколебался. – Оставайся там, если я тебе дорог! Мунглам неохотно вернулся в замок. Келмаинские всадники ринулись вперед, подняв свои широкие мечи. Элрик тут же оказался в кольце воинов. Воины надеялись, что альбинос, поняв безвыходность своего положения, положит меч и сдастся. Но Элрик улыбнулся. Буревестник начал свою песню. Элрик взял меч в две руки, согнул руки в локтях, а потом неожиданно выставил клинок перед собой. Он начал вращаться, как танцор-таркешит – круг за кругом. Казалось, что меч раскручивает его все быстрее и быстрее, дробя, калеча и обезглавливая келмаинских всадников. Они подались назад, оставив своих мертвых товарищей, которые грудой лежали вокруг альбиноса, но тут принц Умбда, переговорив о чем-то с Телебом К’аарной, приказал своим воинам продолжить наступление на Элрика. Элрик снова взмахнул своим мечом, но на сей раз от него пало меньше воинов Келмаина. Одно тело в доспехах падало на другое, кровь перемешивалась с кровью, кони волокли тела по снегу, а Элрик оставался стоять, но что-то начало происходить с ним. И тут его неистовствующий разум начал понимать, что по какой-то причине меч насытился. Энергия по-прежнему пульсировала в его металле, но он больше ничего не передавал своему хозяину. А энергия, похищенная прежде, стала истощаться. – Будь ты проклят, Буревестник! Дай мне твою силу! На него обрушилось множество мечей, а он дрался, отражал и наносил удары. – Дай мне силу! Он все еще был сильнее, чем обычно, и гораздо сильнее любого обыкновенного смертного, но часть его бешеного неистовства покинула его, и он испытывал что-то вроде недоумения, когда новые келмаинцы набросились на него. Он начал пробуждаться от кровавого сна. Он потряс головой и набрал полную грудь воздуха. Спина его болела. – Дай мне их силу, Черный Меч! Он бил по ногам, рукам, туловищам, лицам, он был с головы до ног залит кровью нападающих. Но теперь мертвые досаждали ему больше живых, потому что их тела были повсюду, и он несколько раз чуть было не потерял равновесия, споткнувшись о трупы. – Что мешает тебе, рунный меч? Ты отказываешься мне помогать? Ты не хочешь сражаться с ними, потому что они, как и ты, принадлежат Хаосу? Нет, дело было наверняка не в этом. Просто мечу больше не требовалось энергии, а потому он и не передавал ее Элрику. Он сражался еще час, и наконец его рука, держащая меч, стала ослабевать, и один из всадников, обезумевший от страха, ударил его по голове. Шлем уберег Элрика, но удар оглушил его и отбросил на скопище мертвых тел. Он попытался подняться, но получил еще один удар и потерял сознание.
Глава восьмая Вопль великого воинства
– Это даже больше, чем я рассчитывал, – удовлетворенно пробормотал Телеб К’аарна. – Мы взяли его живым! Элрик открыл глаза и с ненавистью посмотрел на колдуна, который поглаживал свою черную бородку клинышком и явно был доволен собой. Элрик едва помнил события, в результате которых он оказался здесь, во власти колдуна. Он помнил море крови, помнил смех и смерть, но очень неотчетливо, словно все это происходило с ним во сне. – Ну что ж, предатель, твоя глупость была невероятна. Мне даже казалось, что за тобой стоит целая армия. Но нет сомнений, ты просто потерял разум от страха. Но я не собираюсь предаваться размышлениям о причинах моих побед. Я могу много чего выторговать у обитателей других измерений за твою душу. Но твое тело я оставлю при себе – чтобы показать королеве Йишане, что я сделал с ее любовником, прежде чем он умер… Элрик издал короткий смешок и оглянулся, не обращая внимания на слова Телеба К’аарны. Келмаины ожидали приказаний. Они еще не заняли Канелуна. Солнце стояло низко над горизонтом. Элрик увидел груду мертвых тел за собой. Он увидел ненависть и страх в глазах золотокожих воинов и улыбнулся. – Я не люблю Йишану, – сухо сказал он, словно не замечая Телеба К’аарну. – Эти мысли навеяло тебе твое ревнивое сердце. Я оставил Йишану, чтобы найти тебя. Элриком из Мелнибонэ никогда не движет любовь, колдун. Им движет только ненависть. – Я тебе не верю, – хихикнул Телеб К’аарна. – Когда передо мной и моими товарищами падет весь Юг, тогда я предложу Йишане стать королевой всего Запада и всего Юга. Объединив наши силы, мы будем владычествовать над всем миром! – Вы, пантангианцы, всегда были ненадежным племенем, всегда планировали захваты ради захватов, всегда пытались нарушить равновесие, существовавшее в Молодых королевствах. – Придет день, – ухмыльнулся Телеб К’аарна, – и Пан-Танг станет империей, перед которой померкнет даже Сияющая империя. Но я делаю это вовсе не ради славы Пан-Танга… – Ради Йишаны? Клянусь богами, колдун, я счастлив, что меня ведет по жизни ненависть, а не любовь, потому что вред, который я приношу миру, никак не может сравниться с вредом, который приносят те, кто руководствуется любовью… – Я брошу Юг к ногам Йишаны, и пусть она делает с ним что захочет. – Я устал от этого. И что же ты намерен со мной делать? – Сначала я искалечу твое тело. Я буду калечить его изощренно, чтобы боль нарастала постепенно, приводя тебя в нужное мне расположение духа. Потом я спрошу у Владык Высших Миров – кто из них готов заплатить больше за твою душу. – А что насчет Канелуна? – С Канелуном разберутся келмаины. Чтобы перерезать горло Мишеллы во сне, нужен всего один нож. – Она защищена. Выражение лица Телеба Каарны помрачнело, но ненадолго. Он снова рассмеялся: – Да, но ворота скоро будут сломаны и твой маленький рыжеволосый друг погибнет так же, как и Мишелла. Он перебирал пальцами намасленные колечки бороды. – Сейчас я по просьбе принца Умбды даю келмаинам небольшую передышку перед штурмом замка. Но до наступления ночи Канелун будет полыхать огнем. Элрик оглянулся на замок за примятым снегом. Его руны явно не смогли пересилить чары Телеба К’аарны. – Я бы… – начал было он, но остановился. На зубчатой стене он увидел мелькание золота и серебра, и какая-то еще не сформировавшаяся мысль проникла в его голову и заставила замолчать. – Что? – резко спросил его Телеб К’аарна. – Ничего. Просто я подумал – где мой меч. Колдун пожал плечами. – Там, где тебе его не достать. Мы его оставили там, где ты его уронил. Нам этот адский клинок ни к чему. А теперь и тебе не будет от него пользы… Элрик спрашивал себя: что произойдет, если он напрямую обратится к мечу? Сам он добраться до меча не мог, потому что Телеб К’аарна связал его прочными шелковыми веревками, но если Элрик позовет меч… Элрик поднялся на ноги. – Ты хочешь попытаться бежать, Белый Волк? – Телеб К’аарна нервно следил за ним. Элрик снова улыбнулся. – Мне хотелось получше видеть, как падет Канелун. Только и всего. Колдун вытащил кривой нож. Элрика качнуло. Полузакрыв глаза, он начал вполголоса произносить одно имя. Телеб К’аарна прыгнул вперед, он обхватил рукой Элрика за шею и приставил нож к его горлу. – Замолчи, шакал! Но Элрик знал, что у него нет другого способа спастись, и, хотя план его возник от отчаяния, он пробормотал это слово еще раз, молясь о том, чтобы стремление Телеба К’аарны предать его медленной мучительной смерти остановило руку колдуна. Телеб К’аарна выругался, пытаясь зажать рукой рот Элрика. – Первое, что я сделаю, это вырежу твой проклятый язык. Элрик укусил колдуна за палец и сплюнул, почувствовав его кровь на губах. Телеб К’аарна закричал от боли. – Клянусь Чардросом, если бы я не хотел лицезреть, как ты будешь медленно умирать на протяжении многих месяцев, то я бы… И тут раздался какой-то звук – издали его келмаины. Это был стон удивления, исходивший из всех разверстых ртов. Телеб К’аарна повернулся, и из его сжатых зубов вырвалось шипение. В сумерках возникли очертания чего-то черного. Это был меч, Буревестник. Его вызвал Элрик. Он крикнул что было силы: – Буревестник! Буревестник! Ко мне! Телеб К’аарна отшвырнул Элрика, чтобы тот оказался на пути меча, а сам ринулся в безопасное пространство за рядами келмаинов. – Буревестник! Черный меч парил в воздухе над Элриком. И туг келмаины издали еще один крик. Со стены замка Канелун поднялась какая-то тень. Телеб К’аарна истерически закричал: – Принц Умбда! Готовь своих воинов к атаке! Я чувствую, что нам грозит опасность! Умбда не понял слов колдуна, и тому пришлось перевести их. – Нельзя позволить мечу добраться до него! – кричал колдун. Он прокричал то же самое на языке келмаинов, и несколько воинов бросились вперед, намереваясь схватить меч, прежде чем тот доберется до своего хозяина альбиноса. Но меч нанес стремительный удар, и келмаины упали мертвыми, после чего никто не осмеливался подойти к нему. Буревестник медленно приближался к Элрику. – Слушай меня, Элрик, – крикнул Телеб К’аарна, – если тебе удастся уйти от меня сегодня, я клянусь, что все равно непременно найду тебя. – А если ты уйдешь от меня, – крикнул в ответ Элрик, – то я тебя обязательно найду, Телеб К’аарна. Можешь в этом не сомневаться. Тень, поднявшаяся со стены замка Канелун, была покрыта серебряными и золотыми перьями. Она взлетела высоко над воинством и несколько мгновений парила там, прежде чем направиться к одному из краев этой орды. Элрик видел тень неотчетливо, но он знал, что это такое. Потому-то он и призвал к себе меч, решив, что Мунглам оседлал гигантскую птицу и попытается спасти своего друга. – Не позволяйте ей приземлиться! Она прилетела, чтобы спасти альбиноса! – завопил Телеб К’аарна. Но келмаины не поняли его. Они под руководством принца Умбды готовились к нападению на замок. Телеб К’аарна повторил свой приказ на их языке, но уже было ясно, что они испытывают к нему недоверие и не видят необходимости беспокоиться из-за какого-то одного человека и странной металлической птицы. Это не могло остановить их военные приготовления. Как не мог этого сделать и сам колдун. – Буревестник, – прошептал Элрик после того, как меч осторожно разрезал путы и устроился у него в руке. Элрик был свободен, но келмаины, хотя и не придавали ему такого значения, как Телеб К’аарна, явно не собирались его отпустить теперь, когда меч был в его руке, а не двигался сам по себе. Принц Умбда прокричал что-то. Огромная толпа воинов тут же ринулась на Элрика, но мелнибониец даже не попытался атаковать. Он решил лишь обороняться до тех пор, пока Мунглам не спустится на птице и не придет ему на выручку. Но птица была от него далеко. Она словно бы облетала воинство, равнодушная к бедственному положению Элрика. Неужели он обманулся? Он отражал десятки ударов, заставляя келмаинов громоздиться друг на друга и таким образом препятствовать собственным действиям. Он почти потерял из виду птицу из серебра и золота. И Телеб К’аарна – где он сейчас? Элрик попытался найти колдуна, но тот скрылся где-то в глубине воинства келмаинов. Элрик убил золотокожего воина, распоров ему горло острием своего меча. Он почувствовал новый приток сил. Он убил еще одного келмаина, сделав движение рукой вбок и разрубив ему плечо. Но его сопротивление было бессмысленно, если только Мунглам не спустится к нему на птице из золота и серебра. Птица словно бы изменила направление своего движения и полетела в сторону Канелуна. Может быть, она просто ждала указаний от своей спящей хозяйки? Или отказывалась подчиняться приказам Мунглама? Элрик отступил по скользкому, пропитанному кровью снегу, и груда тел оказалась у него за спиной. Он продолжал сражаться, но надежды его таяли. Птица пролетела мимо где-то далеко справа от него. Элрик с горечью подумал, что он совершенно неверно истолковал взлет птицы со стены замка и, выбрав неудачное время для принятия решения, лишь приблизил свою гибель, а может быть, и смерть Мишеллы и Мунглама. Канелун был обречен. Мишелла была обречена, Лормир и, возможно, все Молодые королевства были обречены. И он, Элрик, тоже был обречен. Именно в этот момент какая-то тень упала на сражающихся, и келмаины закричали и отпрянули назад, когда сильный шум прорезал воздух. Элрик с облегчением поднял глаза – он слышал хлопанье металлических крыльев птицы. Он ожидал увидеть в седле Мунглама, но перед ним оказалось напряженное лицо самой Мишеллы, ее волосы развевались вокруг головы, спутанные порывами ветра, который подняли металлические крылья. – Скорее, Элрик, пока они не опомнились! Элрик сунул рунный меч в ножны и запрыгнул в седло, устроившись за Темной дамой Канелуна. Они сразу же поднялись в воздух, а вокруг них засвистели стрелы, отскакивавшие от металлических крыльев птицы. – Еще один круг, и мы вернемся в замок, – сказала она. – Твоя руна и Нанорион победили колдовство Телеба К’аарны, но на это ушло больше времени, чем всем нам хотелось бы. Ты видишь, принц Умбда уже отдает приказ своим людям садиться на коней и атаковать замок Канелун. А в Канелуне теперь только один защитник – Мунглам. – К чему эти облеты воинства Умбды? – Увидишь. По крайней мере, я надеюсь, что ты это увидишь. Она запела. Это была странная, тревожная песня на языке, чем-то похожем на высокое наречие Мелнибонэ, но в то же время другом – Элрик смог разобрать лишь несколько слов, потому что интонации речи были необычными, ни на что не похожими. Они облетели лагерь. Элрик увидел, что келмаины строятся в боевой порядок. Несомненно, Умбда и Телеб К’аарна решили атаковать самым эффективным способом. Огромная птица вернулась в замок, села на зубчатую стену, и Элрик с Мишеллой выпрыгнули из седла. Взволнованный Мунглам подбежал к ним. Они подошли к краю стены посмотреть, что делают келмаины. И они увидели, что келмаины наступают. – Что ты сделала… – начал было Элрик, но Мишелла подняла руку. – Может быть, ничего. Может быть, из этого колдовства ничего не выйдет. – А что ты?.. – Я разбрасывала содержимое той сумки, что ты принес. Я разбрасывала его над этой армией. Смотри… – А если ничего не получится… – пробормотал было Мунглам. Он замолчал, вглядываясь в сумерки. – Что это там такое? Голос Мишеллы хотя и прозвучал удовлетворенно, но в нем послышалось какое-то отвращение. – Это Петля Плоти. Что-то вырастало из снега. Что-то розоватое, дрожащее. Что-то огромное. Огромная масса поднялась со всех сторон воинства, отчего их кони встали на дыбы и заржали. Келмаины издали жуткий вопль. То, что возникало из снега, было похоже на плоть. Оно скоро достигло такой высоты, что воинство келмаинов скрылось из виду. Слышались какие-то звуки – это они пытались привести в действие боевые машины, с помощью которых хотели прорубиться сквозь это вещество. Слышались крики. Но ни один всадник не смог прорваться за Петлю Плоти. Потом она стала смыкаться над келмаинами, и Элрик услышал звук, не похожий ни на что. Это был голос. Голос сотен тысяч человек, объятых невыносимым ужасом и умирающих одинаковой смертью. Это был стон отчаяния, безнадежности, страха. Но это был стон такой силы, что стены замка Канелун содрогнулись. – Это не смерть для воина, – пробормотал Мунглам, отвернувшись. – Но у нас не было другого оружия, – сказала Мишелла. – Я владела этим средством много лет, но никогда прежде у меня не возникало потребности в нем. – Из всех только Телеб К’аарна заслужил такую смерть, – сказал Элрик. Опустилась ночь, и Петля Плоти сомкнулась над воинством Келмаина, уничтожив всех, кроме нескольких лошадей, которые оказались за пределами этого круга смерти. Раздавлен был и принц Умбда, который говорил на языке, неизвестном в Молодых королевствах, который говорил на языке, неизвестном древним, который пришел из-за Края Мира завоевывать новые земли. Петля Плоти раздавила Телеба К’аарну, который ради любви распутной королевы пытался покорить мир, призвав себе на помощь Хаос. Она раздавила всех воинов этого получеловеческого народа – келмаинов. Она раздавила всех, не оставив никого, кто мог бы рассказать наблюдавшим со стены замка, кто такие келмаины и откуда они родом. Она поглотила их всех, а потом, сверкнув, распалась, снова превратившись в прах. Не осталось ни малой частицы плоти – человеческой или лошадиной. Однако снег был покрыт разбросанными повсюду, насколько хватало глаз, одеждой, оружием, доспехами, осадными машинами, конской сбруей, монетами, ременными пряжками. Мишелла кивнула. – Это была Петля Плоти, – сказала она. – Я благодарю тебя, Элрик, за то, что ты доставил мне ее. Я благодарю тебя и за то, что ты нашел камень, который вывел меня из сна. Я благодарю тебя за спасение Лормира. – Да – сказал Элрик. – Благодари меня. – В нем чувствовалась усталость. Он отвернулся, по его телу пробежала дрожь. Снова пошел снег. – Не надо меня благодарить, госпожа Мишелла. То, что я сделал, я сделал для удовлетворения собственных темных порывов, чтобы удовлетворить свою жажду мести. Я уничтожил Телеба К’аарну. Мне безразличен Лормир, Молодые королевства или любое из тех дел, что важны для тебя… Мунглам увидел, что Мишелла поглядывает на Элрика скептически, а на ее губах гуляет улыбка. Элрик вошел в замок и начал спускаться по лестнице в зал. – Постой, – сказала Мишелла. – Этот замок волшебный. Он отражает желания всех, кто входит в него… если этого хочу я. Элрик потер глаза. – Тогда у нас, несомненно, нет никаких желаний. Сейчас, когда Телеб К’аарна уничтожен, мои желания удовлетворены. Теперь я покину это место, госпожа. – У тебя нет никаких желаний? – спросила она. Он посмотрел ей прямо в глаза и нахмурился. – Сожаление порождает слабость. Сожаление напоминает болезнь, которая поражает внутренние органы и в конце концов уничтожает… – И у тебя нет никаких желаний? Он помедлил. – Я тебя понимаю. Должен признать, что твоя внешность… – Он пожал плечами. – Но ведь ты?.. Она распростерла руки. – Не задавай слишком много вопросов обо мне. – Она сделала еще одно движение. – Ну, ты видишь? Этот замок становится тем, что ты желаешь более всего. А в нем – то, что ты желаешь более всего! Элрик оглянулся, глаза его расширились, и он зарыдал. Он в ужасе упал на колени. Он устремил на нее умоляющий взор. – Нет, Мишелла! Нет! Я не хочу этого. Она поспешно сделала еще одно движение. Мунглам помог другу подняться на ноги. – Что это было? Что ты видел? Элрик выпрямился и положил руку на меч. Тихим горьким голосом сказал он Мишелле: – Госпожа, я мог бы убить тебя за это, если бы не понимал, что ты поступаешь так из лучших побуждений. Он несколько мгновений стоял, опустив взгляд в землю, а потом продолжил: – Знай же! Элрик не может получить того, чего он желает больше всего. То, чего он желает, не существует. То, чего он желает, умерло. Все, что есть у Элрика, это скорбь, вина, злоба, ненависть. Это все, чего он заслуживает, и все, чего он когда-либо будет желать. Она закрыла лицо руками и убежала в свою комнату – туда, где он впервые увидел ее. Элрик последовал за ней. Мунглам хотел было пойти следом, но вдруг остановился и остался там, где стоял. Он видел, как они вошли в комнату, видел, как закрылась за ними дверь. Он вернулся на стену и уставился с нее в темноту. Он увидел крылья из золота с серебром – они мелькали в лунном свете, становясь все меньше и меньше, пока наконец полностью не исчезли из виду. Он вздохнул. Было холодно. Он вернулся в замок и, пристроившись спиной к колонне, приготовился спать. Но немного спустя он услышал смех, доносящийся до него из самой высокой башни. И, услышав этот смех, он бросился бежать по коридорам, через большой зал, где погас очаг, выбежал в дверь и в ночь. Он бросился к конюшням, где чувствовал себя в большей безопасности. Но в ту ночь он не смог уснуть, потому что далекий смех преследовал его. И смех этот продолжался до самого утра.Часть вторая Ловушка для альбиноса
…Но лишь в Надсокоре, городе нищих, нашел Элрик старого друга и узнал кое-что о старом враге…Хроника Черного Меча
Глава первая Двор нищих
Надсокор, город нищих, пользовался дурной славой во всех Молодых королевствах. Надсокор лежал на берегах буйной реки Варкалк недалеко от королевства Орг, где рос ужасный Троосский лес, страшное зловоние которого распространялось на многие мили вокруг. Редкие путники заглядывали в Надсокор. Из этого малопривлекательного места отправлялись по миру его обитатели: где можно – нищенствовали, где можно – воровали, а по возвращении в Надсокор половину прибылей отдавали своему королю, который за это обещал им защиту. Их король властвовал много лет. Звали его Юриш Семипалый, потому что у него было четыре пальца на правой руке и три – на левой. Вены проступали на его когда-то красивом лице, которое ныне обрамляли грязные, населенные паразитами волосы. Его нездоровое лицо к тому же избороздили тысячи морщин, оставленных годами и пороками. Эта развалина взирала на окружающих пронзительными бледными глазами. Символом власти Юриша был топор, который назывался Мясник. Топор этот всегда был под рукой у короля. Грубоватая поверхность королевского трона, вырезанного из черного дуба, была украшена кусочками необработанного золота, костями и полудрагоценными камнями. Под троном размещалась сокровищница Юриша – сундук, заглядывать в который не разрешалось никому. Большую часть дня Юриш бездельничал на троне в мрачном, зловонном зале, где восседали его придворные – шайка негодяев, отличавшихся такими мерзкими внешностью и нравом, что нигде в другом месте их просто не приняли бы. Обогревался и освещался зал постоянно горевшими жаровнями, в которых сжигался мусор, издававший такую вонь, что она заглушала естественное зловоние придворных. И вот к королю Юришу явился посетитель. Он стоял перед тронным возвышением и время от времени подносил свой сильно надушенный платок к красным толстым губам. Его обычно темное лицо отливало серым, а в глазах, когда он переводил взгляд с грязного нищего на кучи мусора перед жаровнями, появлялось какое-то загнанное, мучительное выражение. Одетый в мешковатые парчовые одежды, какие носили жители Пан-Танга, этот посетитель отличался черными глазами, огромным крючковатым носом, иссиня-черными колечками волос и вьющейся бородкой. Подойдя к трону Юриша, он, не отнимая платка ото рта, поклонился. Выражение на лице короля Юриша, как и всегда, являло собой смесь алчности, слабости и коварства; он рассматривал незнакомца, о прибытии которого только что объявил один из его придворных. Юриш, вспомнив это имя, подумал, что знает причину, которая привела сюда пантангианца. – А мне сообщали, что ты мертв, Телеб К’аарна, убит где-то на Краю Мира. – Юриш ухмыльнулся, обнажив черные пеньки – гниющие остатки своих зубов. Телеб К’аарна отнял платок от губ и заговорил; поначалу его голос звучал приглушенно, но постепенно – по мере того как он вспоминал зло, причиненное ему за последнее время, – набирал силу. – Мое колдовство не так уж слабо, а потому я смог вырваться из кольца. Я ушел под землю, когда Петля Плоти Мишеллы сомкнулась вокруг келмаинского воинства. Отвратительная ухмылка Юриша стала еще шире. – Значит, ты забрался в нору? Глаза колдуна яростно сверкнули. – Я не собираюсь обсуждать свои колдовские способности с… Он внезапно замолчал и глубоко вздохнул, о чем тут же пожалел. Он огляделся – эти жалкие придворные, живущие в грязи и мерзости, позволяют себе смеяться над ним. Нищие Надсокора знали силу бедности и болезни, которых так боятся те, кто к ним непривычен. Таким образом, уже одно их убожество защищало их от врагов. Внезапно короля Юриша охватил приступ мерзкого кашля, который вполне мог оказаться смехом. – И здесь ты тоже оказался благодаря своему колдовству? – Его тело сотрясалось, но его налитые кровью глаза продолжали внимательно разглядывать колдуна. – Чтобы попасть сюда, мне пришлось пересечь море и весь Вилмир, – сказал Телеб К’аарна. – Я пришел сюда, потому что мне известно, что есть кое-кто, кого ты ненавидишь, как ни одного другого… – Мы все ненавидим других – всех, кто не нищие, – напомнил ему Юриш. Король рассмеялся, и этот смех снова перешел в горловой, конвульсивный кашель. – Но больше всех ты ненавидишь Элрика из Мелнибонэ. – Да. Это верно. Прежде чем приобрести славу братоубийцы и предателя Имррира, он прибыл в Надсокор, чтобы обмануть нас. Он прикинулся прокаженным, который, нищенствуя, пробирается из Восточных Земель в Карлаак. Он неприличным образом обманул меня и украл кое-что из моей сокровищницы. А моя сокровищница священна, я никому не позволяю даже посмотреть на нее! – Я слышал, он украл у тебя свиток, – сказал Телеб К’аарна, – с записью заклинания; этот свиток принадлежал его кузену Йиркуну. Йиркун хотел избавиться от Элрика и уверил его, что это заклинание позволит вывести Симорил из ее волшебного сна… – Да. Йиркун дал этот свиток одному из наших граждан, когда тот отправился попрошайничать к воротам Имррира. Потом он сказал об этом Элрику. Элрик явился сюда, выдавая себя за прокаженного. С помощью колдовства он получил доступ к моей сокровищнице – моей священной сокровищнице – и выкрал у меня свиток… Телеб К’аарна посмотрел на короля нищих. – Кое-кто сказал бы, что это не вина Элрика, что во всем был виноват Йиркун. Он обманул вас обоих. Ведь это заклинание так и не помогло разбудить Симорил? – Нет. Но в Надсокоре существует закон. – Юриш поднял свой огромный топор Мясник и продемонстрировал его зазубренное ржавое лезвие. Невзирая на свой невзрачный вид, топор был устрашающим оружием. – И этот закон говорит, что любой, кто посмотрит на священную сокровищницу короля Юриша, должен умереть, и умереть страшной смертью – от рук Пылающего бога. – И никто из твоих странствующих подданных так пока и не смог отомстить ему? – Я должен лично привести в исполнение этот приговор. А Элрик должен прийти в Надсокор, потому что только здесь сможет он узнать свою судьбу. Телеб К’аарна сказал: – Я не испытываю ни малейшей любви к Элрику. Юриш снова издал звук, который можно было принять как за смех, так и за мучительный кашель. – Да, я слышал, он гонял тебя по всем Молодым королевствам, и, какое бы сильное колдовство ты ни использовал против него, каждый раз он выходил победителем. Телеб К’аарна нахмурился. – Помилосердствуй, король Юриш. Мне просто не везло, но я по-прежнему остаюсь величайшим колдуном Пан-Танга. – Но ты тратишь без толку свои силы и слишком многого просишь от Владык Хаоса. Когда-нибудь они устанут помогать тебе и найдут кого-нибудь другого, кто станет делать их работу. – Король Юриш сомкнул жирные губы, и черные пеньки зубов исчезли за ними. Он немигающим взором бледных глаз изучал Телеба К’аарну. В зале возникло движение – нищие придворные придвинулись ближе: скрип костыля, стук посоха, шарканье вывихнутой ноги. Телебу К’аарне показалось, что ему угрожает даже вонючий дым жаровен, неохотно плывущий к крыше. Король Юриш положил одну руку на Мясника, другой взялся за подбородок. Сломанные ногти гладили небритую щетину. Где-то за спиной Телеба К’аарны нищенка издала неприличный звук и хихикнула. Колдун чуть ли не демонстративно приложил платок к носу и рту. Он был готов отразить нападение, если таковое последует. – Но, как я вижу, ты еще сохранил силы, – неожиданно сказал Юриш, снимая возникшее напряжение, – иначе бы тебя здесь не было. – Мои силы растут. – Возможно, ненадолго. – Мои силы… – Я так думаю, что ты пришел с планом, как уничтожить Элрика, – небрежно продолжил Юриш. Нищие расслабились. Теперьтолько один Телеб Каарна демонстрировал некоторые признаки беспокойства. Пронзительные, налитые кровью глаза Юриша иронически смотрели на Телеба К’аарну. – И ты ищешь нашей помощи, потому что знаешь – мы ненавидим этого белолицего разрушителя Мелнибонэ. Телеб К’аарна кивнул. – Хочешь узнать детали моего плана? Юриш пожал плечами. – Почему бы и нет? По крайней мере, это может быть занимательно. Телеб Каарна с несчастным видом оглянулся на мерзкую хихикающую толпу. Он пожалел, что не знает заклинания, с помощью которого можно было бы рассеять зловоние. Он глубоко вдохнул воздух через платок и заговорил…Глава вторая Украденное кольцо
В другом углу таверны молодой франт делал вид, что заказывает еще один мех с вином, тогда как на самом деле он осторожно поглядывал туда, где сидит Элрик. Потом щеголь наклонился к своим соседям – купцам и молодым аристократам, представителям нескольких народов, – и продолжил шепотком свои россказни. Альбинос знал, что предметом его болтовни был он, Элрик. Обычно такое поведение не вызывало у него ничего, кроме пренебрежения, но сегодня он испытывал усталость и с нетерпением ждал возвращения Мунглама. Он с трудом подавил в себе желание приказать молодому франту замолчать. Элрик уже начал сожалеть о своем решении посетить Старый Гролмар. Этот богатый город был излюбленным местом встречи для всех не лишенных воображения обитателей Молодых королевств. Сюда съезжались землепроходцы, искатели приключений, наемники, ремесленники, купцы, художники и поэты, поскольку при правлении герцога Авана Астрана этот вилмирский город-государство заметно изменился. Герцог Аван побывал во всех частях света и привез в Старый Гролмар огромные богатства и знания. Пышность и интеллектуальная жизнь Старого Гролмара привлекали в него новые богатства и новых интеллектуалов, а потому город благоденствовал. Но там, где богатства и интеллектуалы, там процветают и слухи, потому что если кто и склонен распускать слухи больше, чем купцы и моряки, так это поэты и художники. И вполне естественно, много слухов ходило о гонимом роком альбиносе Элрике, который уже стал героем нескольких баллад, сочиненных поэтами, не лишенными таланта. Элрик позволил уговорить себя отправиться в этот город, так как Мунглам сказал, что это лучшее место, где можно найти деньги. Беспечность Элрика в финансовых делах довела их – и уже не в первый раз – чуть ли не до нищенства, а им требовались свежие лошади и провизия. Элрик предпочел бы обогнуть Старый Гролмар и двинуться в Танелорн, куда они решили отправиться, но Мунглам убедил его, что им нужны лошади получше, а также требуется пополнить запас провизии и снаряжения для долгого пути по долинам Вилмира и Илмиоры до границы Вздыхающей пустыни – туда, где расположен таинственный Танелорн. И Элрик в конце концов согласился, хотя после встречи с Мишеллой и присутствия при гибели келмаинского воинства в Петле Плоти он чувствовал усталость и искал покоя, который мог найти в Танелорне. Хуже всего было то, что таверна хорошо освещалась, а еду здесь, на вкус Элрика, подавали слишком уж хорошую. Он бы предпочел что-нибудь похуже, где цены были бы пониже, а посетители не лезли бы со своими вопросами и поменьше сплетничали. Но Мунглам решил, что их последние средства лучше потратить на хорошую гостиницу – мало ли какие там могут представиться возможности… Элрик денежными вопросами не занимался, оставив их Мунгламу, который, без всяких сомнений, намеревался раздобыть нужные им средства воровством или мошенничеством, но альбиноса это не волновало. Он вздыхал и терпел взгляды, которые украдкой бросали на него другие посетители, и старался не слушать, что там говорит молодой щеголь. Он попивал вино и ковырял мясо с тарелки – Мунглам, прежде чем уйти, заказал ему какую-то холодную дичь. Он поднял высокий воротник своего черного плаща, но от этого его мертвенно-бледное лицо и молочного цвета волосы стали только заметнее. Он оглянулся – в таверне происходил круговорот шелков, мехов, накидок, хозяева которых переходили от столика к столику. Он всем сердцем жаждал поскорее отправиться в Танелорн, где люди говорят мало, потому что много пережили. – …Убил мать и отца… а еще, говорят, любовника матери… – А еще говорят, он не прочь переспать с мертвым телом… – …А потому Владыки Высших Миров прокляли его, наградив лицом трупа… – Инцест, ты говоришь? Один человек, которому довелось плавать с ним, сказал мне… – …А его мать занималась любовью с самим Ариохом, вот и родилось… – Да, видок у него мрачноватый. Он не из тех, кто улыбнется хорошей шутке… Смех. Элрик заставил себя расслабиться и еще раз приложился к кубку с вином. Однако разговоры не прекращались. – А еще говорят, что он самозванец. Говорят, что настоящий Элрик погиб в Имррире… – Настоящий владыка Мелнибонэ не стал бы одеваться так по-нищенски. Он бы… Новый взрыв смеха. Элрик встал и откинул плащ, чтобы во всей красе был виден меч, висящий у него на боку. Большинство людей в Старом Гролмаре знали о рунном мече Буревестнике и его страшной силе. Элрик подошел к столу, за которым сидел молодой франт. – Господа, я предлагаю вам развлечение получше! Вы можете заняться кое-чем поинтереснее, потому что перед вами тот, в чьих силах представить вам доказательства того, о чем вы говорите. Ну, например, как насчет его склонности к особого рода вампиризму? Я не слышал, чтобы вы коснулись этого вопроса в ваших разговорах. Молодой франт откашлялся и нервно пошевелил плечом. – Так что же? – Элрик напустил на лицо невинное выражение. – Могу я вам помочь? Шепоток в таверне смолк, все делали вид, что поглощены едой и питьем. Элрик улыбнулся улыбкой, от которой у них задрожали руки. – Мне бы только хотелось узнать, господа, чему же вы хотите быть свидетелями? И тогда я продемонстрирую вам, что я и в самом деле тот, кого вы называете Элриком Братоубийцей. Купцы и аристократы подоткнули свои богатые одеяния и, избегая встречаться с Элриком взглядом, поднялись. Молодой франт опрометью бросился к выходу – вся его храбрость оказалась показной. Теперь хохотал уже Элрик, он стоял в дверях, загораживая выход и положив ладонь на рукоять Буревестника. – Не хотите ли быть моими гостями, господа? Представьте, как бы вы потом рассказывали друзьям о нашей встрече… – О боги, какая невоспитанность, – едва слышно промолвил молодой франт и задрожал от страха. – Мой господин, мы не хотели тебя ничем обидеть, – хрипловато сказал толстый шазаарец, торговец скотом. – Мы говорили о другом человеке, – сказал молодой аристократ, у которого почти не было подбородка, зато росли пышные усы. Он улыбнулся натужной, просительной улыбкой. – Мы говорили, что восхищаемся тобой… – пробормотал вилмирский рыцарь, чьи глаза перекосило от ужаса, а лицо стало белее Элрикова. Купец в темной таркешской парче облизнул красные губы и попытался вести себя с большим достоинством, чем его друзья. – Мой господин, Старый Гролмар – цивилизованный город. Здесь уважаемые господа не устраивают скандалов и потасовок… – Они предпочитают сплетничать, как базарные торговки, – сказал Элрик. – Да, – сказал молодой человек с пышными усами. – То есть нет… Франт поправил на себе плащ и уставился в пол. Элрик отошел в сторону. Таркешский купец неуверенно сделал шаг вперед, а потом ринулся в темноту улицы. Его компаньоны, спотыкаясь, последовали за ним. Элрик услышал их торопливые шаги по камням мостовой и рассмеялся. При звуках его смеха шаги стали еще торопливее, и скоро вся компания уже была у пристани, где посверкивала вода. Потом они свернули за угол и исчезли из виду. Элрик улыбнулся и поднял глаза на небо и звезды – линия горизонта в Старом Гролмаре была весьма причудливой. В этот момент с другой стороны улицы послышались приближающиеся шаги. Элрик повернулся и увидел новых людей, оказавшихся в полосе света из окна какого-то заведения неподалеку. Это был Мунглам, возвращавшийся в компании двух женщин, щеголявших одеждой, которая мало что на них закрывала, и обильной косметикой. Без всяких сомнений, это были вилмирские шлюхи с другого конца города. Мунглам обнимал обеих за талии и неразборчиво напевал какую-то непристойную балладу. Компания постоянно останавливалась, чтобы одна из смеющихся девиц могла промочить горло вином. У обеих шлюх в свободных руках были большие глиняные фляжки, и они не отставали от Мунглама, который все время прикладывался к фляжке, зажатой в его руке. Подойдя на нетвердых ногах поближе, Мунглам узнал Элрика и, подмигнув ему, сказал: – Ну, владыка Мелнибонэ, как видишь, я тебя не забыл. Одна из этих красоток – для тебя. Элрик отвесил нарочито низкий поклон. – Ты так добр ко мне. Но я думал, ты отправился раздобыть нам золота. Разве не для этого мы прибыли в Старый Гролмар? – Да! – Мунглам поцеловал девиц в щеки. Они прыснули со смеху. – Точно! Это и есть золото, а то, может, и почище. Я спас этих молодых дам из рук жестокого хозяина на другом конце города. Я обещал продать их доброму хозяину, и они мне благодарны. – Ты украл этих рабынь? – Можно и так сказать… Я украл их. Ну да, я их украл. Я украл их моим клинком и освободил от жизни, полной унижений. Я совершил благородный поступок. Их несчастья закончились! Они могут смотреть вперед без… – Их несчастья закончились, в отличие от наших, которые начнутся, когда их хозяин обнаружит преступление и сообщит властям. Как ты нашел этих дам? – Это они меня нашли. Я предложил свой меч одному старому купцу, приехавшему в этот город из других земель. Я должен был сопровождать его по опасным районам Старого Гролмара в обмен на увесистый кошелек с золотом – я полагаю, более увесистый, чем он собирался мне вручить. Пока он там развратничал себе наверху, я пропустил стаканчик-другой внизу в зале. Я понравился двум этим красоткам, и они рассказали мне, как они несчастны. Для меня этого было достаточно. Я их спас. – Хитрый план, – иронически сказал Элрик. – Это не мой план – их. У них, помимо всего остального, есть еще и мозги. – Я помогу тебе отвести их к хозяину, прежде чем за нас возьмутся власти. – Но Элрик! – Но сначала… Элрик подхватил своего друга, забросил его себе на плечо и пошел вместе с ним к пристани в конце улицы. Крепко ухватив Мунглама за воротник, он резко опустил его в зловонную воду. Потом он вытащил его и поставил на ноги. Мунглама трясло. Он грустно поглядывал на Элрика. – Я часто подхватываю простуды, ты же знаешь. – И часто берешься за исполнение планов, навеянных выпивкой! Нас здесь не очень-то любят, Мунглам. Властям нужен самый маленький предлог, и они напустятся на нас. В лучшем случае мы покинем город, не закончив нашего дела. А в худшем нас обезоружат, посадят в тюрьму, а может быть, и убьют. Они направились назад, туда, где все еще стояли две девицы. Вдруг одна из них бросилась вперед, упала на колени перед Элриком, прижалась губами к его ноге. – Хозяин, у меня для тебя послание… Элрик нагнулся, чтобы поднять ее на ноги. Она вскрикнула. Ее накрашенные глаза расширились. Он посмотрел на нее в изумлении, а потом, проследив направление ее взгляда, повернулся и увидел нескольких головорезов, которые, тайком выйдя из-за угла, неслись на него и на Мунглама. Элрику показалось, что за головорезами мелькнула фигура молодого щеголя, которого он прогнал из таверны. Щеголь жаждал мести. В темноте блеснули кинжалы. На их владельцах были капюшоны, какие носят наемные убийцы. Их было не меньше дюжины. Видимо, молодой щеголь был очень богат, поскольку нанять убийцу в Старом Гролмаре стоило недешево. Мунглам уже обнажил оба своих меча и схватился с вожаком. Элрик оттолкнул испуганную девушку за свою спину и ухватился за рукоять Буревестника. Огромный рунный меч, словно по собственной воле, выскочил из ножен, его клинок сверкнул черным сиянием, раздалась странная боевая песня меча. Он услышал, как один из убийц крикнул: «Элрик!» – и понял, что щеголь не сообщил убийцам, с кем им придется иметь дело. Он отразил удар тонкого меча и нанес изощренный встречный удар – по запястью нападавшего. Запястье вместе с мечом отлетело в сторону, а нападавший с криком попятился назад. Последовали новые удары, холодные глаза разглядывали Элрика из-под черных капюшонов. Буревестник пел свою странную песню – крик то ли скорби, то ли победы. Лицо Элрика выражало упоение боем; он рубил мечом направо и налево, а его малиновые глаза сверкали на мертвенно-бледном лице. Крики, проклятия, вопли женщин и стоны раненых, скрежет металла о металл, шлепанье подошв по мостовой, звуки вонзающейся в плоть стали, хруст кости, перерубаемой клинком. В пылу схватки Элрик, разя врагов мечом, который он держал двумя руками, потерял из виду Мунглама и теперь только молился о том, чтобы его друг остался в живых. Время от времени ему попадалась на глаза одна из девиц, и он спрашивал себя, почему она не убежит куда-нибудь в безопасное место. Тела нескольких наемных убийц уже лежали на камнях мостовой, а оставшиеся начали отступать под напором Элрика. Они знали силу его меча и что он делает с теми, кто попадается на его пути. Они видели лица своих товарищей в те мгновения, когда адский меч выпивал их души. С каждым убитым Элрик становился сильнее, а черное сияние меча, казалось, становилось все яростнее. Альбинос расхохотался. Его смех разнесся над крышами Старого Гролмара, и те, кто лежал в постелях, закрыли руками уши – им почудилось, что их мучает какой-то ночной кошмар. – Ко мне, друзья, мой меч еще не насытился! Один из наемных убийц пытался защититься от удара снизу, но Элрик сделал выпад Черным Мечом сверху. Защищающийся поднял свой меч, чтобы закрыть голову, но Элрик нанес сокрушительный удар, который пробил сталь, рассек капюшон, голову, шею, раскроил нагрудник. Убийца был рассечен на две части, и меч какое-то время задержался в теле мертвеца, допивая остатки этой темной души. И тут остальные бросились наутек. Элрик глубоко вздохнул, избегая смотреть на того, кто был убит его мечом последним. Он вложил меч в ножны и повернулся, ища взглядом Мунглама. В этот момент он и получил удар по шее. Он ощутил, как тошнота подступает к горлу, и попытался стряхнуть с себя это ощущение. Затем он почувствовал укол в запястье и в тумане увидел фигуру, которую принял за Мунглама. Но это была другая фигура – похоже, женская. Она тащила его за левую руку. Куда она влекла его? Колени его подогнулись, и он стал падать на камни. Он попытался крикнуть, но голос отказал ему. Женщина продолжала тянуть его за руку, словно хотела утащить его в безопасное место. Но он не мог последовать за ней. Он упал на плечо, потом оказался на спине, небо качнулось в его глазах… …А потом над безумными шпилями Старого Гролмара забрезжил рассвет, и Элрик понял, что с того времени, как он сражался с наемными убийцами, прошло несколько часов. Появилось лицо Мунглама. Оно было полно сочувствия. – Мунглам? – Благодарение добрым богам Элвера! Я думал, этот отравленный клинок убил тебя. Элрик быстро приходил в себя. Он сел. – На меня напали сзади. Как это?.. У Мунглама был смущенный вид. – Боюсь, что эти девицы оказались не совсем теми, за кого себя выдавали. Элрик вспомнил женщину, которая тащила его за левую руку, и вытянул пальцы. – Мунглам! У меня с пальца исчезло кольцо Королей! Акториос похищен! Кольцо Королей на протяжении многих веков носили предки Элрика. Оно было символом их власти, источником большей части их сверхъестественной силы. Лицо Мунглама опечалилось. – Я думал, что это я украл девиц. А ворами оказались они. Они собирались обокрасть нас. Старый трюк. – Это еще не все, Мунглам. Ничего другого они не украли – только кольцо Королей. У меня в кошельке осталось еще немного золота. – Он позвенел своей поясной сумкой и поднялся на ноги. Мунглам указал пальцем на дальнюю стену улицы. Там лежала одна из девиц, ее платье было все перепачкано грязью и кровью. – Она попалась под руку одному из убийц, пока мы сражались. Она умирала всю ночь и при этом произносила твое имя. Но я ведь не говорил ей, как тебя зовут. Поэтому боюсь, что ты прав. Их послали, чтобы они украли у тебя это кольцо. Они меня провели. Элрик быстро пошел туда, где лежала девица. Он легонько прикоснулся к ее щеке. Она открыла веки и уставилась на него стекленеющим взором. Ее губы произнесли его имя. – Почему ты хотела обокрасть меня? Кто твой хозяин? – Юриш… – сказала она голосом, тихим, как шорох ветра в траве. – Укради кольцо… принеси его в Надсокор… Мунглам стоял по другую сторону умирающей. Он нашел одну из фляжек с вином и нагнулся, чтобы дать ей глотнуть. Она попыталась отхлебнуть вина, но не смогла. Оно побежало по ее маленькому подбородку, по тонкой шее, к ране на ее груди. – Ты – одна из надсокорских нищенок? – спросил Мунглам. Она слабо кивнула. – Юриш всегда был моим врагом – сказал Элрик. – Как-то раз я возвратил себе кой-какую собственность, которая попала в его руки, и он мне этого так никогда и не простил. Может быть, он хотел получить Акториос в возмещение? – Он перевел взгляд на девушку. – Твоя подружка – она что, вернулась в Надсокор? И снова девушка вроде бы кивнула. А потом осмысленное выражение исчезло из ее глаз, веки закрылись, дыхание затихло. Элрик выпрямился. Он хмурился, потирая палец, на котором прежде было кольцо Королей. – Пусть остается у них, – с надеждой в голосе сказал Мунглам. – Он удовольствуется этим. Элрик отрицательно покачал головой. Мунглам откашлялся. – Через неделю из Джадмара уходит караван. Его ведет Ракхир из Танелорна. Они пока закупают провизию. Если мы сядем на корабль, то скоро окажемся в Джадмаре, где сможем присоединиться к Ракхиру и отправиться в Танелорн в хорошей компании. Тебе, наверное, известно, что жители Танелорна редко совершают такие путешествия. Нам повезло, потому что… – Нет, – тихим голосом сказал Элрик. – Пока мы должны забыть о Танелорне. Кольцо Королей – это моя связь с предками. Больше того, оно помогает моему колдовству и не раз уже спасало наши жизни. Мы едем в Надсокор. Я должен попытаться догнать эту девицу, прежде чем она доберется до города нищих. Если это не удастся, я должен войти в город и вернуть себе кольцо. Мунглам вздрогнул. – Это было бы глупее любого моего плана, Элрик. Юриш убьет нас. – И все же я должен отправиться в Надсокор. Мунглам наклонился и начал снимать с мертвого тела девушки драгоценности. – Нам понадобится много денег, если мы хотим приобрести более или менее приличных лошадей для нашего путешествия, – объяснил он.Глава третья Ледяные упыри
На фоне алого заката Надсокор с этого расстояния казался скорее неухоженным кладбищем, чем городом. Башни покосились, дома полуразрушены, стены пробиты. Элрик и Мунглам добрались до вершины горы на своих быстрых шазаарских конях, за которых им пришлось отдать все, что у них было, – и увидели Надсокор. Хуже того – они учуяли его. От этого убогого города исходило жуткое зловоние, и оба путника, заткнув себе рты и носы, повернули коней и спустились назад в долину. – Мы передохнем здесь немного – до полуночи, – сказал Элрик. – А потом войдем в Надсокор. – Элрик, я не уверен, что смогу выдержать эту вонь. В какие бы одежды мы ни нарядились, наше отвращение выдаст нас. Элрик улыбнулся и полез в свою сумку. Он вытащил две маленькие таблетки и протянул одну Мунгламу. Тот подозрительно посмотрел на таблетку. – Это что такое? – Одно средство. Я уже принимал такое прежде, когда посещал Надсокор. Эта таблетка полностью убивает у тебя обоняние. К несчастью, вкус пищи ты тоже не сможешь ощущать… Мунглам рассмеялся: – Я не собирался вкушать никаких деликатесов в городе нищих! – Он проглотил таблетку. То же самое сделал и Элрик. Мунглам почти сразу же почувствовал, как вонь, исходящая от города, уменьшилась. Позднее, жуя черствый хлеб – последние остатки своей провизии, Мунглам сказал: – Я ничего не чувствую. Твое средство действует. Элрик кивнул. Он хмурился, поглядывая на вершину горы в направлении города. Приближалась ночь. Мунглам вытащил свои мечи и начал затачивать их маленьким камнем, который возил с собой специально для этой цели. Занимаясь мечами, он поглядывал на лицо Элрика, стараясь проникнуть в его мысли. Наконец альбинос заговорил: – Нам, конечно же, придется оставить лошадей здесь, потому что большинство нищих предпочитают передвигаться пешком. – Они гордятся своей извращенностью, – пробормотал Мунглам. – Да. И нам понадобится то тряпье, что мы взяли с собой. – Наши мечи будут бросаться в глаза. – Нет, не будут, если мы наденем сверху эти балахоны. Нам при этом придется ходить гусиным шажком, но для нищих это неудивительно. Мунглам неохотно вытащил из седельных мешков тряпье. И вот грязная парочка (один хромой горбун, другой – коротышка с иссохшей рукой) направилась к пробоине в стене, а затем поплелась по мусору, которого в Надсокоре было по колено. За несколько сотен лет до этого Надсокор был покинут народом, который спасался от поветрия – особо страшной разновидности оспы, поразившей большинство их соотечественников. Вскоре после этого в городе поселились первые нищие. Они палец о палец не ударили, чтобы сохранить городские оборонительные сооружения, но грязь, которая окружала город, стала не менее действенной обороной, чем любая стена. Никто не обратил внимания на две фигуры, перебравшиеся через кучи мусора и ступившие на темные, полные смердящих нечистот улицы города нищих. Огромные крысы поднимались на задние лапы и наблюдали за путниками, направившимися к тому, что прежде было зданием сената Надсокора, а теперь – дворцом Юриша. Костлявые собаки, у которых из пастей свисали вонючие объедки, осторожно прятались в тень. Однажды им попалась колонна слепых – они шли друг за дружкой, положив правую руку на плечо идущего впереди. Слепые шли сквозь ночь, пересекали ту самую улицу, на которой находились Мунглам и Элрик. Из полуразвалившихся зданий доносилось погогатывание и хихиканье – это калека бражничал с убогим, а слабоумный и уродливый совокуплялся со старой каргой. Когда переодетая пара приблизилась к тому, что прежде было центральной площадью Надсокора, из-за одной из разбитых дверей раздался крик, и оттуда появилась девушка, едва вышедшая из детского возраста. За ней выскочил чудовищно толстый нищий, который с удивительной скоростью передвигался на своих костылях. Его багровые культи, заканчивающиеся у коленей, совершали движения как при беге. Мунглам напрягся, но Элрик удержал его, и жирный калека догнал свою жертву, отбросил в сторону костыли, которые загрохотали на разбитой мостовой, и набросился на девочку. Мунглам попытался освободиться, но крепко державший его Элрик прошептал: – Пускай. В Надсокоре не выносят тех, кто не болен, не искалечен и душевно здоров. В глазах Мунглама, смотревшего на своего друга, стояли слезы. – Твой цинизм так же отвратителен, как и их поступки! – Не сомневаюсь. Но мы здесь с одной целью – вернуть мое кольцо Королей. Мы здесь будем заниматься только этим и ничем другим. – Какое значение имеет твое кольцо, когда?.. Но Элрик пошел дальше в направлении центральной площади, и Мунглам, немного поколебавшись, последовал за ним. Они оказались на площади в противоположном конце от дворца Юриша. Некоторые колонны дворца упали, но лишь на этом здании, единственном во всем городе, были видны следы каких-то работ – его пытались ремонтировать и украшать. На арке центрального входа была намалевана сцена под названием «Искусство попрошайничества и вымогательства». К деревянной двери были приколочены образцы монет всех Молодых королевств, а над ними – возможно, не без иронии – были прибиты в виде перекрещенных мечей костыли, указывающие на то, что оружие нищего – это способность ужасать и вызывать отвращение у тех, кто удачливее или богаче его. Элрик смотрел сквозь сумерки на это здание, на его лице было сосредоточенное выражение, он что-то прикидывал. – Стражников здесь нет, – сказал он Мунгламу. – Зачем они нужны? Что тут охранять? – Когда я был в Надсокоре в прошлый раз, стражники тут были. Юриш хранит свою сокровищницу как зеницу ока. Он опасается не столько чужаков, сколько своих собственных презренных подданных. – Может, он перестал их опасаться? Элрик улыбнулся. – Такой тип, как король Юриш, боится всего. Нам нужно быть поосмотрительнее, когда мы войдем в зал. Держи свои мечи наготове и доставай их, если только почувствуешь, что мы оказались в ловушке. – Но Юриш вряд ли подозревает, что мы знаем, откуда эта девушка. – Да, то, что мы все же узнали об этом, – чистая случайность, однако мы не должны сбрасывать со счетов хитрость Юриша. – Он бы не захотел такого гостя, как ты, – с Черным Мечом на боку. – Возможно… Они начали пересекать площадь, на которой было очень темно и очень тихо. Откуда-то издалека изредка доносился крик, смех или неприличный звук. Они дошли до дверей и остановились под скрещенными костылями. Элрик нащупал под своим балахоном эфес Буревестника, а левой рукой толкнул дверь. Они скрипнула и чуть-чуть приоткрылась. Они оглянулись – не слышал ли кто скрипа, но на площади все оставалось по-прежнему. Они надавили на дверь еще. Дверь снова скрипнула. Теперь они смогли протиснуться сквозь образовавшуюся щель. Они оказались в зале Юриша. Жаровни с мусором испускали слабый свет. К стропилам устремлялся желтоватый дым. Они увидели неясные очертания тронного возвышения, в глубине которого расположился огромный аляповатый трон Юриша. Казалось, что в зале никого нет, но Элрик не снимал руки с эфеса Черного Меча. Услышав какой-то звук, он остановился, но это по полу пробежала огромная трусливая крыса. Снова наступила тишина. Элрик осторожно продвигался вперед по осклизлому полу, Мунглам держался позади него. По мере приближения к трону возбуждение Элрика нарастало. Может быть, Юриш слишком уж уверился в своей силе и утратил бдительность. Элрик откроет сундук под троном, возьмет свое кольцо, и они покинут город, а с рассветом уже будут далеко, поскачут по равнине и присоединятся к каравану Ракхира Красного Лучника, собирающегося в Танелорн. Элрик слегка расслабился, но шел по-прежнему осторожно. Мунглам помедлил, наклонил голову, словно прислушиваясь. Элрик повернулся. – Ты что-то услышал? – Может, и ничего. А может, это одна из тех огромных крыс, что мы видели раньше. Просто… Серебристоголубоватое сияние вспыхнуло за странным троном, и Элрик левой рукой прикрыл глаза от слепящего света, а правой попытался вытащить из-под балахона свой меч. Мунглам закричал и бросился к двери, а Элрик, даже повернувшись к свету спиной, ничего не видел. Буревестник стонал в ножнах, словно впав в приступ ярости. Элрик пытался вытащить его, но чувствовал, как слабеют его мышцы. За его спиной раздался смех, и Элрик сразу же узнал его. Потом засмеялся еще один человек – горловым смехом вперемешку с кашлем. Зрение вернулось к Элрику, но его держали липкие руки, и он, увидев тех, кто его схватил, содрогнулся. Это были темные существа, обитатели ада, упыри, вызванные колдовством. Их мертвые лица ухмылялись, но их мертвые глаза оставались мертвыми. Элрик чувствовал, что силы и энергия уходят из его тела, словно упыри высасывали его жизненные соки. Это ощущение было почти что реальным – его жизненная сила перетекала в них. Он снова рассмеялся. Он поднял глаза на трон и увидел за ним высокую мрачную фигуру Телеба К’аарны, который должен был умереть у замка Канелун несколько месяцев назад. Телеб К’аарна ухмыльнулся в свою кудрявую бороду, глядя на Элрика, пытающегося вырваться из рук упырей. Из-за другой стороны трона появилась грязная фигура Юриша Семипалого, на левой своей руке он, как ребенка, нес Мясника. Элрик настолько ослабел, что едва держал голову, но продолжал улыбаться собственной глупости. Он был прав, когда подозревал ловушку, но ошибся, совершенно не подготовившись к ней. А что с Мунгламом? Неужели Мунглам бросил его? Его маленького друга нигде не было видно. Юриш с важным видом обошел трон и опустил на него свое мерзкое тело. Мясника он держал у себя на руках. Его бледные глаза-бусинки внимательно изучали Элрика. Телеб К’аарна остался стоять сбоку от трона, но в его глазах, словно похоронные огни Имррира, сияло торжество. – Добро пожаловать назад в Надсокор, – прошипел Юриш, скребя себя между ног. – Я так понимаю, что ты вернулся принести свои извинения. Элрика трясло – его кости леденели от холода. Буревестник шевелился у него на боку, но помочь ему был не в силах – сначала Элрик должен был своей рукой извлечь его из ножен. Альбинос понял, что умирает. – Я пришел вернуть себе то, что мне принадлежит, – сказал он, пересиливая дрожь. – Мое кольцо. – Ах да! Кольцо Королей. Значит, это было твое кольцо? Моя девушка что-то об этом говорила. – Ты послал ее, чтобы она украла у меня это кольцо! Юриш ухмыльнулся: – Не буду отрицать. Но я никак не ждал, что Белый Волк Имррира так легко попадется в мою ловушку. – Он ни за что не попался бы, если бы тебе не помогал этот самодеятельный колдунишка. Телеб К’аарна нахмурился, но потом его лицо прояснилось. – Неужели мои упыри доставляют тебе неудобство? Последнее тепло покидало Элрика. Стоять он не мог – висел в руках мертвых тварей. Вероятно, Телеб К’аарна давно вынашивал этот план, потому что вызвать этих исчадий ада на землю можно было только с помощью множества заклинаний и заключения договора со стражей Лимба. – Ну что ж, значит, я умру, – пробормотал Элрик, – Кажется, меня это не очень волнует… Юриш изобразил на своем гниющем лице нечто похожее на высокомерие. – Нет, Элрик из Мелнибонэ, ты умрешь не сразу. Приговор тебе еще не вынесен! Нужно соблюсти формальности. Клянусь моим мудрым Мясником, я должен осудить тебя за твои преступления против Надсокора и против священной сокровищницы короля Юриша. Элрик едва слышал его, потому что ноги под ним подогнулись, а упыри лишь тверже ухватились за него. Он как в тумане увидел толпу оборванцев, наводнивших зал. Они явно ждали этого момента. Неужели Мунглам погиб от их рук, когда попытался бежать из зала? – Приподнимите ему голову! – сказал Телеб К’аарна своим мертвым слугам. – Пусть он видит, как Юриш, король всех нищих, выносит свой приговор! Элрик почувствовал ледяную руку у себя под подбородком, ему подняли голову, чтобы он мог затуманенными глазами видеть, как Юриш встал, взял в свою четырехпалую руку Мясника и поднял его к затянутому дымом потолку. – Элрик из Мелнибонэ, ты приговариваешься за многие преступления против нижайшего из низких, то есть меня, короля Юриша Надсокорского. К тому же ты нанес оскорбление другу короля Юриша, этому самому наимерзейшему из негодяев Телебу К’аарне… Услышав это, Телеб К’аарна сложил губы трубочкой, но вмешиваться не стал. – …к тому же ты во второй раз явился в город нищих, намереваясь повторить свое преступление. Символом моего достоинства и власти, этим великим топором по имени Мясник, я приговариваю тебя к наказанию Пылающим богом! Со всех сторон зала послышались редкие хлопки придворных. Элрик вспомнил надсокорскую легенду. Когда исконных жителей города поразила болезнь, они обратились за помощью к Хаосу, умоляя его очистить город от поветрия, если понадобится, то и огнем. Хаос сыграл шутку с этим народом – послал Пылающего бога, который сжег все, что у них оставалось. Тогда жители обратились за помощью к Закону, и Владыка Закона Донбласс заточил Пылающего бога в городе. Оставшиеся в живых жители больше не захотели иметь никаких дел с Владыками Высших Миров – они просто ушли из города. Но неужели Пылающий бог все еще находился в Надсокоре? Элрик словно бы издалека слышал голос Юриша: – Отведите его в лабиринт и отдайте Пылающему богу. Тут заговорил Телеб К’аарна, но Элрик уже не слышал его слов, хотя ответ Юриша и донесся до него: – Его меч? Как он поможет ему против одного из Владык Хаоса? И потом, если извлечь меч из ножен, то кто знает, что может случиться. Судя по его тону, Телебу К’аарне это явно не понравилось, но он все же согласился с Юришем. В голосе Телеба К’аарны послышались властные нотки: – Силы Лимба, отпустите его! Вы в вознаграждение получили его жизненные силы! А теперь исчезните! Элрик упал в грязь на плиты пола, но сил у него не осталось, и нищие, собравшись в кружок, подняли его. Глаза его закрылись, чувства оставили его. Его понесли из зала, и он издалека услышал голоса пантангианского колдуна и короля нищих, торжествующих победу.Глава четвертая Наказание Пылающим богом
– Клянусь испражнениями Нарджхана, он холоден как лед! Элрик услышал скрипучий голос одного из нищих, что несли его. Он все еще был слаб, но часть тепла этих людей передалась ему, и лед в его костях стал не таким убийственным. – Вот и вход! Элрик заставил себя открыть глаза. Несли его головой вниз, но все же он мог, хотя и плохо, видеть то, что впереди. Иногда там что-то мелькало. Впечатление было такое, словно светящуюся шкуру какого-то неземного животного натянули поперек туннеля. Он отпрянул назад, когда нищие раскачали его тело и швырнули в направлении мерцающей шкуры. Он ударился об нее. Она оказалась липкой. Она вцепилась в него, и он почувствовал, как эта шкура затягивает его. Он попытался сопротивляться, но все еще был слишком слаб. Он был уверен, что его убивают. Но прошло несколько томительных минут, его затянуло внутрь, и он, хватая ртом воздух, упал на каменный пол темного как ночь туннеля. Наверное, это лабиринт, о котором говорил Юриш, подумал Элрик. Дрожа, он попытался подняться, опираясь на ножны меча. У него ушло на это некоторое время, но наконец он встал и прислонился к кривой стене. Он был удивлен. Камни показались ему горячими. Может быть, это ему только кажется, потому что его тело закоченело от холода, и камни туннеля на самом деле имеют обычную температуру. Даже эти размышления, казалось, лишали его сил. Какова бы ни была природа этого тепла, Элрик радовался ему. Он еще сильнее прижался спиной к стене туннеля. По мере того как тепло медленно перетекало в его тело, он стал испытывать какое-то чувство, близкое к восторгу. Он набрал в грудь побольше воздуха. Силы медленно возвращались к нему. – О боги, – пробормотал он, – даже снега лормирской степи были теплее. Он еще раз вдохнул поглубже и закашлялся. И тут он понял, что действие таблетки, которую он проглотил, перед тем как войти в город, заканчивается. Он отер рот тыльной стороной руки и сплюнул, ощутив зловоние Надсокора. На нетвердых ногах он поплелся к входу в туннель. Та мерцающая шкура была на своем месте. Он прижал к ней руку, она подалась, но не пропустила его. Он надавил на нее всем своим весом, она подалась еще больше, но проникнуть через нее было невозможно. Она напоминала очень прочную перепонку, но состоящую не из плоти, а из какого-то другого материала. Может, Владыки Закона этим материалом запечатали выход из туннеля, чтобы наружу не смог выйти их враг – Владыка Хаоса? Единственным источником света в туннеле была эта мембрана. – Клянусь Ариохом, я отомщу королю нищих, – пробормотал Элрик. Он сбросил с себя драный балахон и взялся за рукоять Буревестника. Клинок замурлыкал, как мурлычет кот. Элрик извлек меч из ножен, и тот запел тихую, довольную песню. Элрик почувствовал, как сила от меча через руку вливается в его тело. Буревестник давал Элрику силу, но Элрик знал, что Буревестник скоро потребует воздаяния, захочет вкусить крови и душ и таким образом пополнить свою энергию. Он нанес огромной силы удар по мерцающей шкуре. – Я разрушу эту препону и выпушу Пылающего бога на Надсокор! Бей во всю мочь, Буревестник! Пусть пламя поглотит всю грязь, накопившуюся в этом городе! Но Буревестник только взвыл, ударив по мембране, – пробить ее он не мог. Элрику пришлось напрячь все свои силы, чтобы вытащить меч из этого вязкого материала. Он отошел, тяжело дыша. – Эта преграда возводилась, чтобы противостоять самому Хаосу, – пробормотал Элрик. – Мой меч бессилен против нее. А потому если я не могу вернуться назад, то должен идти вперед. Он развернулся и, держа Буревестник в руке, пошел по туннелю. Он сделал один поворот, потом другой, потом третий и теперь двигался в полной темноте – свет мембраны не достигал сюда. Он сунул было руку в сумку, где у него хранились кремень и трут, но нищие срезали ее, пока несли его сюда. Он решил вернуться, но понял, что заблудился и не может найти мембрану, загораживавшую выход. «К мембране мне не вернуться, но, кажется, никакого бога тут нет. Может, отсюда существует какой-нибудь другой выход. А если он перекрыт деревянной дверью, то Буревестник проложит мне путь к свободе». И он пошел дальше в лабиринт, делая сотни поворотов в темноте. Наконец он снова остановился. Он обратил внимание на то, что в туннеле становится все жарче. Вместо жуткого холода, который он испытал перед этим, Элрик чувствовал удушающую жару. С него начал течь пот. Он сбросил с себя верхние тряпки и остался в собственной рубахе и штанах. Его начала мучить жажда. Еще один поворот, и впереди он увидел свет. «Ну что ж, Буревестник, может быть, мы снова свободны!» Он побежал к источнику света. Однако оказалось, что это не дневной свет. И не мерцающая перегородка была впереди. Это был огонь, может быть, свет факелов. В этом свете он неплохо видел стены туннеля. В отличие от домов в Надсокоре, на этих стенах не было слизи – чистый серый камень, освещенный красным сиянием. Источник света находился за следующим поворотом. Но жар стал еще сильнее, и кожу Элрика стянуло от сухости. – АГА! Мощный голос внезапно наполнил туннель, как только Элрик завернул за угол и увидел пламя, мерцающее не далее чем в тридцати ярдах от него. – АГА! НАКОНЕЦ! Голос исходил из пламени. И Элрик понял, что нашел Пылающего бога. – Я не ссорился с тобой, Владыка Хаоса! – выкрикнул он. – Я тоже служу Хаосу. – Но я должен есть, – послышался голос, – ЧЕКАЛАХ ДОЛЖЕН ЕСТЬ! – Я плохая еда для такого, как ты, – попытался воззвать к логике Элрик; он положил обе руки на эфес Буревестника и сделал шаг назад. – Это точно, нищий, еда ты плохая, но ты единственная еда – другой они не прислали! – Я не нищий! – Нищий ты или нет, Чекалах проглотит тебя! Пламя затрепетало и начало приобретать какую-то форму – человеческую, но состоящую исключительно из огня. Дрожащие огненные руки потянулись к Элрику. И Элрик развернулся. И Элрик побежал. И Чекалах, Пылающий бог, понесся за ним со скоростью пламени. Элрик почувствовал боль в плече, в нос ему ударил запах горящей ткани. Он увеличил скорость, не имея ни малейшего представления о том, куда бежит. Но Пылающий бог продолжал преследовать его. – Стой, смертный! Это бесполезно! Тебе не удастся уйти от Чекалаха, Владыки Хаоса! С юмором висельника Элрик прокричал в ответ: – Я не буду ничьей жареной закуской! – Ноги у него начали подкашиваться. – Даже бога! Ответ Чекалаха прозвучал, как порыв пламени в дымоходной трубе: – Не смей мне противиться, смертный. Быть съеденным богом – большая честь! Жара и усталость брали свое – Элрик был на последнем издыхании. Когда он только увидел Пылающего бога, у него в голове стал созревать план. Поэтому-то он и бросился бежать, надеясь додумать на бегу. Но теперь, когда Чекалах почти догнал его, Элрик вынужден был повернуться. – Что-то ты слабоват для всемогущего Владыки Хаоса, – сказал он, переводя дыхание и поднимая меч. – Долгое пребывание здесь ослабило меня, – ответил Чекалах. – Иначе я бы сразу же схватил тебя! Но я тебя все равно схвачу! И непременно проглочу. Буревестник простонал, выказывая свое недовольство ослабленным богом Хаоса, и нанес удар по пылающей голове, распоров при этом правую щеку бога. В этом месте пламя стало бледнее, и что-то заструилось по черному клинку через руку Элрика прямо в его сердце. Он задрожал, испытывая одновременно ужас и радость, когда часть жизненной силы Пылающего бога проникла в него. Огненные глаза уставились на Черный Меч, а потом – на Элрика. Огненные брови нахмурились, Чекалах остановился. – Да, верно, ты не обычный нищий! – Я – Элрик из Мелнибонэ, я владею Черным Мечом. Мой повелитель – Владыка Ариох, он сильнее тебя, Владыка Чекалах. Огненная наружность бога приняла несколько обиженное выражение. – Да, есть много тех, кто будет сильнее меня, Элрик из Мелнибонэ. Элрик отер пот с лица. Он вдохнул в грудь горячий воздух. – Почему же тогда… почему бы нам не объединить наши усилия? Вместе мы сокрушим мембрану и отомстим тем, кто составил заговор, чтобы натравить нас друг на друга. Чекалах покачал головой, и с нее упали маленькие язычки пламени. – Эта дверь откроется, только когда я буду мертв. Так было постановлено, когда Владыка Закона Донблас заточил меня сюда. Даже если бы мы смогли снести ту мембрану, это привело бы к моей смерти. Поэтому, сильнейший из смертных, я должен сразиться с тобой и съесть тебя. И Элрик снова пустился бежать во всю мочь в поисках мембраны, зная, что, кроме света Пылающего бога в лабиринте, он может увидеть только свет мембраны. Даже если он и победит бога, он все равно останется пленником лабиринта. И тут он увидел его. Он вернулся к тому месту, где попал в лабиринт через мембрану. – В мою тюрьму можно попасть через этот вход, но выйти из нее здесь невозможно! – крикнул Чекалах. – Знаю! – Элрик взял Буревестник в обе руки иповернулся лицом к огненному существу. Размахивая мечом и отражая любые попытки Пылающего бога схватить его, Элрик чувствовал, как растет в нем симпатия к этому существу. Он пришел в ответ на призыв смертных, а за свои труды был заключен в эту тюрьму. Одежда на Элрике начала тлеть, и, хотя при каждом ударе по Чекалаху Буревестник пополнял запас энергии Элрика, жара становилась невыносимой для него. Он уже не потел. Кожа его высохла и вот-вот была готова треснуть. Белые руки покрылись пузырями. Скоро он не сможет держать меч… – Ариох, – выдохнул Элрик. – Хотя это существо – также Владыка Хаоса, помоги мне победить его. Но Ариох не отозвался. Элрик уже знал от своего демона-покровителя, что на Земле и над ней планируются вещи куда как более важные и у Ариоха нет времени даже для своего фаворита среди смертных. Но Элрик, размахивая мечом, все еще по привычке шептал имя Ариоха. Ему удалось попасть сначала по пылающим рукам, а потом по пылающему плечу – в Элрика влилась новая порция энергии бога. Элрику начало казаться, что даже Буревестник страдает от жары; боль в обожженных руках альбиноса была так велика, что затмевала все остальные страдания. Он отступил к мерцающей мембране и спиной почувствовал ее похожую на плоть структуру. Концы его длинных волос начали дымиться, а обугленных пятен на его одежде становилось все больше. Но Чекалах – он, кажется, тоже терял силы? Пламя его было уже не таким ярким, и на его огненном лице стало появляться выражение смирения. Элрик опирался на свою боль как на единственный источник силы, и эта боль заставила его поднять меч повыше и сильнейшим ударом обрушить Буревестник на голову бога. И сразу же, как только удар достиг цели, огонь стал стихать, и Элрик ощутил огромный поток энергии, хлынувшей в его тело. Поток отбросил его назад, альбинос выронил меч, чувствуя, что тело не выдерживает такого чудовищного напора энергии. Он со стоном покатился по полу, вздымая покрытые пузырями руки к своду туннеля, словно умоляя какое-то высшее существо прекратить то, что происходит с ним, с Элриком. В его глазах не было слез, казалось, даже сама его кровь словно начала выкипать из тела. – Ариох! Спаси меня! – Он кричал, и тело его сотрясалось. – Ариох! Избавь меня от этого! Энергия бога переполняла его, но смертная оболочка не могла вместить такую силу. – А-а-а-а! Освободи меня! И вдруг прекрасное, полное спокойствия лицо склонилось над ним. Он увидел высокого человека – гораздо выше его – и понял, что это лицо не смертного, а бога. – Все кончилось, – сказал чистый, мягкий голос. И хотя это существо не шелохнулось, Элрику показалось, будто нежные руки ласкают его; боль его стала стихать, а голос продолжал говорить: – Много столетий назад я, Владыка Донблас, Вершитель Справедливости, пришел в Надсокор освободить его от власти Хаоса. Но я пришел слишком поздно. Зло приносило еще большее зло, как это и свойственно злу, а я не мог особо вмешиваться в дела смертных, потому что мы, принадлежащие Закону, поклялись позволить человечеству самому определять свою судьбу, если только это возможно. Но Космическое Равновесие раскачивается, как маятник часов со сломанной пружиной, и на земле действуют страшные силы. Ты, Элрик, – слуга Хаоса, но ты не раз служил и Закону. Говорят, что судьба человечества зависит от тебя, и, возможно, эти слова справедливы. Поэтому я помогу тебе, хотя и нарушаю свою клятву, делая это… Элрик закрыл глаза и впервые за долгое время почувствовал покой в душе. Боль прошла, но он по-прежнему был полон огромной энергии. Когда он снова открыл глаза, красивое лицо исчезло, как и мерцающая мембрана, перекрывавшая вход. Рядом с ним лежал Буревестник, и Элрик, вскочив на ноги, поднял его и вложил в ножны. Он увидел, что ожоги сошли с его рук, а одежда его снова была целехонька. Может быть, ему приснилось все это? Или большая часть этого? Он потряс головой. Он был свободен. Он был силен. С ним был его меч. Теперь он вернется в зал короля Юриша и отомстит правителю Надсокора и Телебу К’аарне. Он услышал чьи-то шаги и отступил в тень. Из отверстия в своде в туннель проник свет, и Элрик понял, что поверхность здесь близко. Появилась фигура, которую он сразу же узнал. – Мунглам! Его маленький друг с облегчением улыбнулся и вложил мечи в ножны. – Я пришел сюда помочь тебе, если удастся, но я вижу, тебе не нужна моя помощь! – Здесь уже не нужна. Пылающего бога больше нет. Я тебе расскажу об этом потом. А что случилось с тобой? – Поняв, что мы оказались в ловушке, я бросился к двери – я подумал, что будет лучше, если один из нас останется на свободе, к тому же я знал, что нужен им ты, а не я. Но тут я увидел, что дверь открывается, и понял: они все это время ждали нас, – Мунглам повел носом и отряхнул тряпье, которое все еще было на нем. – Так я оказался в самом низу одной из мусорных куч, каких немало во дворце Юриша. Я нырнул в нее и оставался там, слушая, что происходит. Как только мне удалось выбраться оттуда, я нашел этот туннель, собираясь помочь тебе, чем только можно. – А где Юриш и Телеб К’аарна? – Кажется, они никак не могут договориться между собой, какую плату следует дать Телебу К’аарне. Юриш не очень-то приветствовал его план заманить тебя сюда, поскольку опасался твоей силы… – И не без оснований! Что еще? – Вроде бы Юришу стало известно то, что известно нам, – об этом караване на Танелорн. Юриш знает что-то о Танелорне, хотя и немного, мне кажется. Он питает необъяснимую ненависть к этому месту, может быть, потому, что Танелорн – полная противоположность Надсокору. – Они собираются напасть на караван Ракхира? – Да… И Телеб К’аарна намерен призвать каких-то существ из ада, чтобы обеспечить успех этого нападения. Ракхир, насколько мне известно, не владеет колдовством. – Когда-то он служил Хаосу, но теперь это в прошлом. Те, кто живет в Танелорне, не могут иметь покровителей в Высших Мирах. – Я это понял из их разговора. – И когда они намерены совершить это нападение? – Они уже в пути – отправились почти сразу же, как разделались с тобой. Юриш просто сгорал от нетерпения. – Что-то это не похоже на нищих – они никогда не нападают на караваны в открытую. – У них не всегда есть такой мощный союзник, как коварный колдун. – Это верно. – Элрик нахмурился. – Мои собственные колдовские возможности ограничены без кольца Королей. По этому кольцу во мне признают истинного представителя королевского рода Мелнибонэ – рода, который заключил немало сделок с элементалями. Сначала я должен вернуть мое кольцо, и тогда мы сразу же отправимся на помощь Ракхиру. Мунглам опустил глаза. – Они что-то говорили об охране сокровищницы Юриши в его отсутствие. В зале может находиться стража. Элрик улыбнулся. – Теперь мы готовы, и теперь во мне сила Пылающего бога. Мы, пожалуй, сможем справиться с целой армией. Лицо Мунглама прояснилось. – Тогда я проведу тебя назад в зал. Идем. По этому туннелю мы выйдем к дверям, которые находятся в зале рядом с троном. Они побежали по туннелю и вскоре оказались у дверей, о которых говорил Мунглам. Элрик, не останавливаясь, вытащил меч и распахнул дверь. Он остановился, только войдя в зал. Дневной свет слегка рассеивал мрак зала, в котором снова никого не было. Их тут не встречали нищие, вооруженные мечами. Но на троне Юриша сидело жирное чешуйчатое существо желто-зелено-черного цвета. С его ухмыляющегося рыла капала коричневатая желчь. Существо это в издевательском приветствии подняло одну из множества своих лап. – Приветствую, – прошипело существо. – И поберегитесь, потому что я охраняю сокровища Юриша. – Это обитатель Ада, – сказал Элрик. – Демон, вызванный Телебом К’аарной. Я так думаю, что он неплохо поднаторел в колдовстве, если может повелевать таким числом нечистых слуг. – Он нахмурился и взвесил в руке Буревестник, но меч, как это ни странно, вовсе не выказывал жажды битвы. – Я тебя предупреждаю, – прошипел демон. – Меня не убить мечом, даже этим мечом. Таков мой охранный договор… – Это кто такой? – прошептал Мунглам, подозрительно поглядывая на демона. – Он принадлежит к тому роду демонов, которым пользуются все, наделенные колдовской силой. Он демон-стражник. Они не нападают, если не нападают на них. Они практически неуязвимы для обычного оружия смертных, а этот конкретный демон неуязвим для мечей – обычных или волшебных. Если мы попытаемся убить его нашими мечами, он нанесет ответный удар всеми силами Ада. И мы тогда вряд ли выживем. – Но ведь ты победил бога! Что такое демон рядом с богом? – Я победил ослабевшего бога, – напомнил ему Элрик. – А это сильный демон, поскольку он представляет всех демонов, которые придут ему на помощь, чтобы обеспечить соблюдение его договора. – И мы никак не сможем его одолеть? – Если мы хотим помочь Ракхиру, то не стоит и пробовать. Мы должны поскорее добраться до наших лошадей и попытаться предупредить караван. А позднее мы, вероятно, сможем вернуться и придумать какое-нибудь заклинание против этого демона. – Элрик, поклонившись, издевательски ответил на приветствие демона: – Прощай, мерзейший. Пусть твой хозяин никогда не вернется к тебе и ты вечно будешь обречен сидеть в этом грязном зале. У демона от злости потекли слюни. – Мой хозяин – Телеб К’аарна, один из самых сильных колдунов среди твоего вида. – Не моего. – Элрик покачал головой. – Я скоро убью его, и ты останешься сидеть здесь, пока я не найду способа покончить и с тобой. Демон не без раздражения сложил многочисленные лапы и закрыл глаза. Элрик и Мунглам по заваленному грязью полу направились к двери. С трудом подавляя тошноту, добрались они до ступенек, ведущих на площадь. Таблетки, что были у Элрика, пропали вместе с его сумкой, и сейчас у них не было защиты от зловония. Мунглам, выходя, сплюнул на ступеньки и, окинув площадь взглядом, вытащил два меча и скрестил их перед собой. – Элрик! На них неслись около дюжины нищих с дубинками, топорами и ножами в руках. Элрик рассмеялся: – Вот тебе лакомый кусочек, Буревестник! Он вытащил свой меч и принялся вращать у себя над головой этим воющим клинком, неумолимо наступая на нищих. Почти сразу же двое из них бросились наутек, но остальные продолжали стремительно наступать. Элрик снизил плоскость вращения меча, который снес голову одного из нищих и глубоко вонзился в плечо другого – еще до того, как начала хлестать первая кровь. Мунглам с двумя своими тонкими мечами вступил в схватку сразу с двумя нищими. Элрик нанес удар еще одному, и тот закричал и заплясал на месте, цепляясь руками за клинок, который безжалостно выпивал его жизнь и душу. Теперь Буревестник пел ироническую песню, и три оставшихся в живых нищих бросили оружие и пустились бежать прочь через площадь. Мунглам поразил двух противников одновременно прямо в сердце, а Элрик прикончил остальных, которые кричали и молили о пощаде. Элрик вложил Буревестник в ножны и бросил взгляд на алые куски плоти – результат его трудов. Он отер губы, как это делает гурман, отведавший какого-нибудь деликатеса, отчего Мунглама пробрала дрожь. Элрик хлопнул друга по плечу. – Давай скорее – на помощь Ракхиру! Мунглам, следуя за альбиносом, думал, что Элрик в лабиринте взял нечто большее, чем жизнь Пылающего бога. Он был сегодня бездушен, как и все Владыки Хаоса. В этот день Элрик был истинным воином древнего Мелнибонэ.Глава пятая Они не женщины
Нищие были слишком заняты – они торжествовали свою победу над альбиносом и готовились к нападению на караван, направляющийся в Танелорн, а потому даже не подумали поискать коней, на которых Элрик и Мунглам прибыли в Надсокор. Элрик и Мунглам нашли коней там, где и оставили их предыдущим вечером. Превосходные шазаарские жеребцы пощипывали траву так, словно прождали своих хозяев всего несколько минут. Путники сели в седла и скоро уже гнали коней во весь опор на северо-северо-восток к тому месту, где, по их расчетам, они должны были пересечься с караваном. Вскоре после полудня они увидели его – растянувшуюся по долине колонну телег и лошадей, навесы из ярких роскошных шелков, богатую конскую упряжь. Со всех сторон караван был окружен убогой разнородной армией нищих надсокорского короля Юриша. Элрик и Мунглам, достигнув вершины холма, остановили лошадей, чтобы получше разобраться в происходящем. Телеба К’аарну и Юриша Элрик увидел не сразу – они оказались на противоположном холме. Судя по тому, как колдун воздевал к голубым небесам руки, он призывал помощь, которую обещал королю Юришу. Внизу мелькнуло что-то красное, и Элрик догадался, что это алое одеяние Красного Лучника. Приглядевшись, он узнал еще несколько фигур – светловолосого гиганта Брута из Лашмара, чей конь под ним казался карликом, Каркана, который тоже был родом из Пан-Танга, но сменил одежду на клетчатый плащ и меховую шапку, какие носят варвары в южной Илмиоре. Сам Ракхир был воином-жрецом родом из земель, лежащих за Плачущей пустошью. Все эти люди отреклись от своих богов ради мирной жизни в Танелорне, куда, как считалось, не могли попасть даже самые сильные Владыки Высших Миров, – в вечном Танелорне, который уже простоял бессчетное число циклов и должен был пережить даже Землю. Ничего не зная о планах Телеба К’аарны, Ракхир не очень обеспокоился, увидев армию нищих, вооруженных так же плохо, как и те вояки, с которыми Элрик и Мунглам сразились в Надсокоре. – Мы должны пробиться через их армию к Ракхиру, – сказал Мунглам. Элрик кивнул, но не двинулся с места. Он наблюдал за холмом вдалеке, где Телеб К’аарна продолжал заклинания. Элрик надеялся разгадать, кого призывает себе на помощь колдун. Мгновение спустя Элрик вскрикнул и галопом пустил коня вниз по склону холма. Мунглам, удивившись такому его поступку не меньше нищих, припустил за другом в самую гущу оборванцев, прорубаясь сквозь них длинным мечом. Буревестник испускал черное сияние, оставляя за собой кровавую тропу, на которую падали расчлененные тела, внутренности и мертвые, исполненные ужаса глаза. Конь Мунглама был забрызган кровью до самой холки, он храпел и артачился, не желая следовать за белокожим демоном с воющим черным клинком, однако Мунглам, опасаясь, как бы вокруг него не сомкнулись ряды нищих, погонял коня. Наконец они прорвались и теперь уже оба скакали в направлении каравана, где кто-то выкрикивал имя Элрика. Это был Ракхир Красный Лучник, одетый в красное с головы до пят, он держал в руке красный костяной лук, а за спиной у него висел красный колчан стрел с красным оперением. На его голове была алая ермолка, украшенная единственным алым пером. У него было худое – кожа да кости – лицо человека, закаленного всеми непогодами. Он рука об руку сражался с Элриком до падения Имррира, и вместе они нашли Черные Мечи. Ракхир отправился на поиски Танелорна и в конце концов нашел его. С тех пор Элрик не видел Ракхира. Он отметил завидное душевное спокойствие в глазах лучника. Когда-то Ракхир был воином-жрецом и служил Хаосу, теперь же он не служил никому, кроме мирного Танелорна. – Элрик! Неужели ты пришел помочь нам отправить Юриша и его нищих туда, откуда они явились? – Ракхир смеялся, он явно был рад видеть старого друга. – С тобой еще и Мунглам? Где же вы познакомились? Я не видел тебя с тех самых пор, как оставил Восточные земли. Мунглам ухмыльнулся. – Много чего случилось с тех пор, Ракхир. Ракхир потер свой орлиный нос. – Да, я слышал. Элрик быстро спешился. – Сейчас не время для воспоминаний, Ракхир. Тебе грозит гораздо большая опасность, чем ты думаешь. – Что? Да какая опасность может грозить от этой надсокорской швали? Ты посмотри, как они вооружены. – С ними один колдун – Телеб К’аарна из Пан-Танга. Видишь – вон он на том холме. Ракхир нахмурился. – Колдун? У меня от них почти нет защиты. Он сильный колдун? – Один из самых сильных в Пан-Танге. – А пантангианские колдуны почти равны своим искусством вашим, мелнибонийским. – Боюсь, что в настоящий момент он даже сильнее меня, ведь мое кольцо с Акториосом украл Юриш. Ракхир недоуменно посмотрел на Элрика, отметив про себя, что за время, прошедшее с того дня, когда они расстались, лицо альбиноса заметно изменилось. – Ну что ж, – сказал он, – будем защищаться как умеем… – Если ты распряжешь всех лошадей, что тащат телеги, и посадишь на них своих людей, то мы, возможно, успеем уйти до того, как Телеб К’аарна вызовет себе потустороннюю подмогу. – Элрик кивнул подъехавшему к ним улыбающемуся гиганту – Бруту из Лашмара. Брут, перед тем как обесчестить себя, был героем Лашмара. Ракхир покачал головой. – Танелорну необходима провизия, которую мы везем. – Смотрите, – тихо сказал Мунглам. На холме, где только что стоял Телеб К’аарна, появилось дымящееся красное облако, словно вода, разбавленная кровью. – Ему удалось, – пробормотал Ракхир. – Брут, пусть все садятся на коней. У нас нет времени готовиться к обороне, но по крайней мере у нас будет то преимущество, что мы встретим врага верхом. Брут громоподобным голосом отдал приказ танелорнцам. Они начали выпрягать лошадей из телег и готовить оружие. Красное облако наверху начало растекаться, в нем стали возникать какие-то фигуры. Элрик попытался разглядеть их, но на таком расстоянии это было невозможно. Он снова запрыгнул в седло, а всадники Танелорна стали тем временем строиться в группы, которые, когда последует нападение, должны были прорваться сквозь ряды пеших нищих, быстро нанести удар и вернуться назад. Ракхир махнул Элрику и присоединился к одной из этих групп. Элрик и Мунглам оказались во главе дюжины воинов, вооруженных топорами, пиками и копьями. И тут над повисшей в воздухе тишиной раздался голос Юриша: – Вперед, мои нищие! Они обречены! Ряды оборванцев по краям долины пришли в движение. Ракхир поднял меч, давая знак своим воинам. И тогда первая группа всадников отделилась от каравана и направилась на наступающих нищих. Ракхир вложил в ножны меч и взялся за лук. Прямо из седла он начал посылать стрелу за стрелой в ряды нищих. Отовсюду стали раздаваться крики – это воины перешли в атаку на врага, со всех сторон вклиниваясь в массу нищих. Элрик увидел клетчатый плащ Каркана среди драного тряпья, грязных тел, дубинок и ножей. Он увидел светлоголового Брута, возвышающегося над морем человеческих нечистот. И тогда Мунглам сказал: – Такие существа не подходят для того, чтобы драться с воинами Танелорна. Элрик твердой рукой указал на холм: – Может, этот новый противник понравится им больше. Мунглам от удивления открыл рот. – Это женщины! Элрик извлек из ножен Буревестника. – Это не женщины. Это эленоины. Они родом из восьмой плоскости и не принадлежат к роду человеческому. Ты сейчас увидишь. – Ты их знаешь? – Мои предки когда-то сражались против них. Их ушей достиг странный пронзительный вопль. Он доносился со склона холма, на котором снова появилась фигура Телеба К’аарны. Издавали его фигуры, которых Мунглам принял за женщин. Наготу этих женщин прикрывали только рыжие волосы, доходящие им чуть ли не до колен. Они неслись по склону к окруженному каравану, вращая у себя над головами мечами, длина которых, по всей видимости, превышала пять футов. – Телеб К’аарна хитер, – пробормотал Элрик. – Воины Танелорна хорошенько подумают, прежде чем ударить женщину. А пока они будут размышлять, эленоины разрубят их в клочья. Ракхиру доводилось видеть эленоинов раньше, и он тоже узнал их. – Не обманитесь, воины! – крикнул он. – Эти существа – демоны! – Он бросил взгляд на Элрика, на его лице была написана готовность встретить судьбу. Он знал силу эленоинов. Он пришпорил коня, направив его в сторону альбиноса. – Что мы можем предпринять, Элрик? Элрик вздохнул. – Что могут смертные против эленоинов? – И ты не знаешь никакого заклинания? – Будь при мне кольцо Королей, я, наверное, смог бы призвать грахлуков. Они с древних времен враждуют с эленоинами. А Телеб К’аарна уже открыл проход из восьмой плоскости. – Аты не можешь попытаться призвать грахлуков? – спросил Ракхир. – Пока я буду пытаться их вызвать, мой меч будет оставаться не у дел. Мне думается, что сегодня больше пользы от Буревестника, чем от заклинаний. Ракхир, содрогнувшись, повернул коня и поскакал прочь, чтобы приказать своим людям перестроить ряды. Он теперь знал, что все они погибнут. Тем временем нищие откатились назад – эленоины испугали их не меньше, чем танелорнцев. Продолжая издавать пронзительный вой, эленоины опустили мечи и рассыпались по склону холма, у каждого на лице гуляла улыбка. – Как они могут?..И тут Мунглам увидел их глаза – огромные оранжевые звериные глаза. – О боги! – И тут он увидел их зубы – длинные, заостренные зубы сверкали металлическим блеском. Всадники Танелорна неровной линией отступили к телегам. На всех лицах, кроме Элрикова, были ужас, отчаяние, безнадежность. На лице Элрика застыло выражение мрачного гнева. Меч его лежал на луке седла, а его малиновые глаза пылали, разглядывая этих женщин-демонов – эленоинов. Их песня стала еще громче – от нее боль вонзалась в уши, наизнанку выворачивались желудки. Эленоины подняли тонкие руки и снова начали раскручивать над головами свои длинные мечи. Они смотрели на танелорнцев своими звериными, бездушными глазами – злобными, немигающими. И тогда Каркан из Пан-Танга, заломив набок меховую шапку, издал сдавленный крик и погнал на них своего тяжелого коня. Он тоже размахивал мечом, а его клетчатый плащ развевался за ним на ветру. – Назад, демоны! Назад, исчадия ада! – А-а-а! – издали вопль счастливого предвкушения эленоины. – И-и-и! – запели они. И Каркан внезапно оказался среди дюжины тонких смертоносных мечей, и через мгновение он и его конь были разрублены на мелкие части, кровавыми комьями легшие под ноги эленоинов. Смех женоподобных тварей заполнил долину, когда некоторые из них нагнулись и принялись запихивать в свои клыкастые рты куски плоти. Стон ужаса и ненависти прошел по рядам танелорнцев, и новые воины с истерическими криками страха и отвращения стали бросаться на размахивающих своими острыми мечами эленоинов, которые от этого приходили в еще большее веселье. Буревестник начал приборматывать, видимо, услышав звук сражения, но Элрик не шевельнулся – он во все глаза смотрел на то, что происходит перед ним. Он знал, эленоины убьют всех, как они только что убили Каркана. Мунглам застонал: – Элрик, наверное, все же есть какое-то колдовство против них! – Есть! Но я не могу вызвать грахлуков! – Грудь Элрика тяжело поднималась и опускалась, ум его пребывал в смятении. – Я не могу, Мунглам! – Ради Танелорна! Ты должен попробовать! И тогда Элрик ринулся вперед. Буревестник завыл в его руке, а Элрик скакал на эленоинов, выкрикивая имя Ариоха, как это делали его предки со времен основания Имррира. – Ариох! Ариох! Кровь и души для моего повелителя Ариоха! Он отразил удар одного эленоина и заглянул в глаза этой твари в тот момент, когда его тело сотряслось от удара. И он сам нанес удар, в свою очередь отраженный демоном, который не был женщиной. Рыжие волосы обвились вокруг его шеи. Он нанес удар по голому телу, и бестия отскочила в сторону. Еще один замах длинного, тонкого меча, и Элрик отпрянул назад, избегая удара. Это движение выбило его из седла, но он, упав, туг же вскочил на ноги, отражая новую атаку. Элрик ухватил Буревестник двумя руками, шагнул вперед и вонзил клинок в гладкий живот. Эленоин завизжал в гневе, и из раны хлынули зеленые нечистоты. Эленоин упал, все еще сверля Элрика глазами, все еще хрипя, все еще оставаясь живым. Элрик нанес удар по шее твари, и голова эленоина покатилась, волосы хлестнули по ногам альбиноса. Элрик наклонился, подобрал голову и побежал вверх по холму – туда, где собрались нищие, наблюдавшие за уничтожением воинов Танелорна. При его приближении толпа нищих распалась, они бросились врассыпную, но одного он успел ударить мечом по спине. Тот упал, попытался ползти, но вывернутые колени не держали его, и он рухнул на испачканную кровью траву. Элрик поднял несчастного, закинул его себе на плечо и побежал вниз по склону к каравану. Воины Танелорна сражались славно, но половина их уже погибла от рук эленоинов. Это было невероятно, но несколько тел эленоинов тоже лежали на траве. Элрик увидел Мунглама, сражавшегося двумя мечами. Он увидел Ракхира – тот все еще был в седле, отдавал приказы своим воинам. Он увидел Брута из Лашмара в самой гуще сражения. Но он продолжал бежать, пока не остановился перед одной из телег, где бросил две свои кровавые ноши на землю. Своим мечом он рассек дергающееся тело нищего и, приподняв голову эленоина за волосы, обмакнул ее в человеческую кровь. После этого он выпрямился, повернулся на запад и встал, держа Буревестник в одной руке, окровавленную голову – в другой. Он поднял повыше меч и голову и заговорил на высоком наречии Мелнибонэ. Обращенные на запад и пропитанные в крови врага волосы эленоина должны были вызвать врагов эленоинов – грахлуков. Он вспомнил слова, что читал когда-то в древнем фолианте, принадлежавшем его отцу. И зазвучали слова заклинания:Глава шестая Демон, который не прочь пошутить
По покрытым мусором улицам Надсокора пробирались воины Танелорна. Возглавляли шествие Элрик, Мунглам и Ракхир, но в их поведении не было торжества победителей. Всадники не смотрели ни направо, ни налево, а нищие более не являли собой угрозу и не отваживались нападать – они жались в тень. Снадобье, которое нашлось у Ракхира, помогло Элрику частично восстановить силы, и он уже больше не падал на шею своего коня, а сидел прямо. Они пересекли площадь и оказались перед дворцом короля нищих. Элрик, не останавливаясь, направил своего коня на ступени и внутрь – в мрачный зал. – Телеб К’аарна! – закричал Элрик. Его голос эхом разнесся по залу, но Телеб К’аарна не ответил. Жаровни с мусором дымили на сквозняке из открытой двери и едва освещали тронное возвышение в конце зала. – Телеб К’аарна! Но на коленях там стоял не Телеб К’аарна. Это была жалкая фигура в тряпье, распростертая перед троном. Фигура рыдала, умоляла, хныкала, обращаясь к чему-то, восседающему на троне. Элрик проехал еще немного по залу верхом, и ему стало видно то, что занимало трон. На огромном стуле черного дуба развалился тот самый демон, которого они уже видели. Руки демона были сложены, глаза закрыты, а сам он не без некоторой театральности не обращал внимания на мольбы существа, стоящего на коленях у его ног. Спутники Элрика, тоже на конях, уже были в зале; все вместе они подъехали к тронному возвышению и остановились. Фигура, стоящая на коленях, повернула голову – это оказался Юриш. Челюсть у него отвисла, когда он увидел Элрика. Юриш протянул свою четырехпалую руку к топору, лежащему поблизости. Элрик вздохнул. – Не бойся меня, Юриш. Я устал от кровопролития. Мне не нужна твоя жизнь. Демон открыл глаза. – Принц Элрик, ты вернулся, – сказал демон. Тон его изменился, хотя сказать, в чем заключалось это изменение, было затруднительно. – Да. Где твой хозяин? – Боюсь, что он оставил Надсокор навсегда. – И оставил тебя навечно сидеть здесь. Демон наклонил голову. Юриш прикоснулся грязной рукой к ноге Элрика. – Элрик, помоги мне! Я должен получить мою сокровищницу! Она для меня все! Уничтожь этого демона, и я верну тебе кольцо Королей. Элрик улыбнулся. – Как ты щедр, король Юриш. По грязному, мерзкому лицу Юриша потекли слезы. – Пожалуйста, Элрик, умоляю тебя… – Я собираюсь уничтожить этого демона. Юриш нервно оглянулся. – И что еще? – Это решать танелорнцам – ты собирался их ограбить и стал причиной того, что многие их товарищи были убиты самым мерзким способом. – Это не я, это Телеб К’аарна! – АгдеТелебК’аарна? – Когда ты выпустил тех обезьян на эленоинов, он бросился бежать. Он направился к реке Варкалк – к Троосу. Элрик, не поворачиваясь, сказал: – Ракхир, ты опробуешь свои стрелы? Послышалось пение спущенной тетивы, и стрела, вонзившись демону в грудь, завибрировала. Демон с интересом посмотрел на стрелу, а потом глубоко вздохнул. Вместе с его вдохом стрела втянулась в него и исчезла. – А-а-а! – Юриш ринулся к своему топору. – Из этого ничего не выйдет! Вторая стрела вылетела из алого лука Ракхира и тоже в конечном счете оказалась втянутой в демона, как и третья. Юриш что-то неразборчиво тараторил, размахивая своим топором. Элрик предупредил его: – Его не берут мечи, король Юриш! Демон загремел своей чешуей. – А разве у него меч? Юриш помедлил. Слюна сочилась у него по подбородку, его красные глаза вращались в глазницах. – Демон – исчезни! Верни мне мою сокровищницу! Она моя! Демон иронически поглядывал на него. Издав вопль ужаса и муки, Юриш бросился на демона, яростно взмахнув Мясником. Лезвие топора опустилось на голову этого исчадия ада, послышался звук как при ударе молнии о металл, и топор разлетелся на куски. Юриш стоял, глядя на демона и трясясь от страха. Демон небрежно протянул свои четыре руки и схватил его. Челюсти его открылись больше, чем это казалось возможным, туловище демона внезапно увеличилось в два раза относительно своего первоначального размера. Он поднес брыкающегося короля нищих к своей пасти, и туг же от короля остались лишь ноги, болтающиеся в воздухе. Потом демон мощно глотнул, и от короля Юриша Надсокорского не осталось ничего. Элрик пожал плечами. – Твоя защита довольно действенная. Демон улыбнулся. – Да, милый Элрик. Теперь этот голос показался альбиносу очень знакомым. Элрик пристально посмотрел на демона. – Ты не просто демон… – Надеюсь на это, мой любимейший из смертных. Конь Элрика встал на дыбы, когда форма демона стала изменяться. Послышалось какое-то жужжание, черный дым заклубился над троном, и вот уже на нем оказалась другая фигура, сидевшая скрестив ноги. По форме фигура напоминала человека, но была куда прекраснее любого смертного. Перед Элриком сидело существо невыносимой и величественной красоты – неземной красоты. – Ариох! – Элрик склонил голову перед Владыкой Хаоса. – Да, Элрик. Пока тебя не было, я занял место демона. – Но ты отказывался мне помогать… – Я тебе говорил, что дела поважнее требуют моего участия. Скоро Хаос вступит в схватку с Законом, и такие, как Донблас, будут навечно отправлены в ад. – Ты знал, что Донблас говорил со мной в лабиринте Пылающего бога? – Как не знать. Поэтому-то я и выделил время, чтобы посетить твое измерение. Я не могу позволить, чтобы тебе покровительствовал Донблас Вершитель Справедливости и его скучнейшие сподвижники. Я почувствовал себя оскорбленным. И я продемонстрировал тебе, что я сильнее Закона. – Ариох устремил взгляд за Элрика – на Ракхира, Брута, Мунглама и остальных, которые прикрывали глаза руками, защищаясь от его красоты. – Может быть, вы, танелорнские глупцы, понимаете теперь, что лучше служить Хаосу, чем Закону! Ракхир мрачно сказал: – Я не служу ни Хаосу, ни Закону. – В один прекрасный день ты узнаешь, предатель, что нейтралитет опаснее, чем заключение союзов. – В голосе слышались чуть ли не злобные нотки. – Ты не в силах мне повредить, – сказал Ракхир. – И если Элрик отправится с нами в Танелорн, то и он тоже сможет избавиться от твоего злого влияния! – Элрик – мелнибониец. Народ Мелнибонэ всегда служил Хаосу, за что они и получали неплохое вознаграждение. Иначе как еще можно было бы освободить этот трон от демона Телеба К’аарны? – Может быть, в Танелорне Элрику не понадобилось бы его кольцо Королей, – ровным голосом ответил Ракхир. Послышался звук, напоминающий шум водопада, раздался удар грома, и Ариох стал увеличиваться в размерах. Но при этом его тело стало терять плотность, и скоро в зале ничего не осталось, кроме зловония, исходящего от мусорных куч и жаровен. Элрик спешился и подбежал к трону. Он вытащил из-под него сундук убитого короля Юриша и ударом Буревестника раскрыл его. Меч забормотал, словно отказываясь выполнять низкую работу. Драгоценные камни, золото, другие сокровища летели в грязь – Элрик искал свое кольцо. Наконец он нашел его, поднял, торжествуя, и надел на палец. К своему коню он вернулся более легким шагом. Мунглам тем временем спешился и выискивал на полу самые ценные камни, складывая их в сумку. Он подмигнул Ракхиру, который улыбнулся ему в ответ. – А теперь, – сказал Элрик, – я отправляюсь в Троос – искать там Телеба К’аарну. За мной все еще остается дож ему. – Пусть он сгниет в зловонном Троосском лесу, – сказал Мунглам. Ракхир положил руку на плечо Элрика. – Если Телеб К’аарна так тебя ненавидит, то он непременно снова сам найдет тебя. Зачем тратить время на его поиски? Элрик едва заметно улыбнулся старому другу. – Очень логичный аргумент, Ракхир. Ты прав – я устал. За то короткое время, что прошло после моего появления в Надсокоре, мой меч пронзал как богов, так и демонов. – Идем с нами. Отдохнешь в Танелорне – в мирном Танелорне, куда без разрешения не могут прийти даже сильнейшие из Владык Высших Миров. Элрик посмотрел на кольцо на своем пальце. – Но я поклялся, что Телеб К’аарна умрет… – У тебя еще будет время сдержать клятву. Элрик провел рукой по своим молочного цвета волосам, и его друзьям показалось, что в малиновых глазах сверкнули слезы. – Да, – сказал он. – Да. Время будет… И они выехали из Надсокора, оставив нищих копаться в грязи и зловонии и сожалеть о том, что они связались с колдовством и Элриком из Мелнибонэ. Они ехали в вечный Танелорн. Танелорн, который приглашал и готов был принимать у себя всех скитальцев с больной душой. Всех, кроме одного. Гонимый роком, исполненный чувства вины, печали, отчаяния, Элрик из Мелнибонэ молился о том, чтобы на сей раз Танелорн принял и его…Часть третья Три героя с единой целью
Элрику, единственному из всех воплощений Вечного воителя, было суждено без труда найти Танелорн. И из всех этих воплощений он единственный решил покинуть этот город бесчисленных инкарнаций…Хроника Черного Меча
Глава первая Вечный Танелорн
Танелорн за время своего бесконечного существования приобретал самые разные формы, и все эти формы, кроме одной, были прекрасны. Сейчас он был прекрасен – мягкий солнечный свет играл на его пастельного цвета башнях, стройных колоннах и изящных куполах. На его шпилях развевались знамена, но не боевые стяги, потому что воины, нашедшие Танелорн и оставшиеся здесь, покончили с битвами. Этот город был всегда. Никто не знал, когда построили Танелорн, но некоторым было известно, что этот город существовал до начала времен, а потому его называли – вечный Танелорн. Этот город играл важную роль в борьбе многих героев и многих богов, а поскольку существовал он вне времени, Владыки Хаоса ненавидели его и не раз пытались уничтожить. К югу от города простирались холмистые долины Илмиоры – земли, в которой, как было известно, торжествовала справедливость, а к северу лежала Вздыхающая пустыня, бесконечная пустошь, над которой постоянно свистел ветер. Если Илмиора символизировала собой Закон, то Вздыхающая пустыня, безусловно, являла нечто близкое к полному торжеству окончательного Хаоса. Жители Танелорна не служили ни Хаосу, ни Закону, они решили не участвовать в космической борьбе, непрерывно продолжавшейся между Владыками Высших Миров. В Танелорне не было ни руководителей, ни руководимых, граждане Танелорна жили в согласии друг с другом, хотя многие, перед тем как обосноваться здесь, были великими воинами. Одним из самых почитаемых граждан Танелорна, к которому часто приходили за советом другие, был Ракхир. Это сейчас он вел аскетический образ жизни, а раньше был непримиримым воином-жрецом из Фума, где его прозвали Красным Лучником, потому что он был искуснейшим стрелком и одевался в красное. Его мастерство и одеяния остались такими, как были прежде, но с тех пор, как он поселился в Танелорне, желание сражаться оставило его. Вблизи низкой западной стены города посреди лужайки, поросшей дикими цветами, стоял двухэтажный дом. Он был сложен из розового и желтого мрамора и, в отличие от большинства домов Танелорна, имел высокую, заостренную крышу. Это был дом Ракхира, и сейчас Ракхир сидел перед ним на простой деревянной скамье и смотрел, как его гость мерит лужайку шагами. Гостем был его старый друг – гонимый роком альбинос, владыка Мелнибонэ. На Элрике была простая белая рубашка и штаны из плотного черного шелка. Лентой того же черного шелка была повязана и грива его молочно-белых волос, откинутых за спину. Малиновые глаза альбиноса были опущены, и, шагая взад-вперед по лужайке, он ни разу не поднял взгляд на Ракхира. Ракхир не желал вторгаться в воспоминания Элрика, но ему тяжело было смотреть на друга, когда тот пребывал в таком состоянии. Он надеялся, что альбинос найдет покой в Танелорне, забудет здесь о призраках и сомнениях, которые не дают ему покоя, но, казалось, даже Танелорн не может принести Элрику успокоения. Наконец Ракхир прервал молчание: – Ты уже месяц как в Танелорне, мой друг, но прошлое никак не отпускает тебя. Элрик поднял взор, на его губах мелькнула едва заметная улыбка. – Да, не отпускает. Прости меня, Ракхир. Я плохой гость. – Что занимает твои мысли? – Ничего конкретного. Мне кажется, что я среди всего этого покоя никак не могу забыться. Только насилие помогает мне рассеять мое мрачное настроение. Я не рожден для жизни в Танелорне, Ракхир. – Но насилие – или, возможно, его последствия – в свою очередь порождает мрачное настроение. Разве нет? – Верно. С этим мне и приходится постоянно жить. С этим я живусо дня уничтожения Имррира, а может быть, жил и раньше. – Такие мысли, видимо, известны всем людям, – сказал Ракхир. – В той или иной мере. – Да… размышления о том, какова цель твоего существования и каков смысл этой цели, если тебе все же удалось ее обнаружить. – В Танелорне эти вопросы кажутся мне бессмысленными, – сказал ему Ракхир. – Я надеялся, что и тебе удастся выбросить их из головы. Так ты собираешься остаться в Танелорне? – У меня нет никаких других планов. Я все еще хочу отомстить Телебу К’аарне, но я понятия не имею, где он находится. Но вы с Мунгламом утверждаете, что он сам рано или поздно непременно отыщет меня. Я помню, что ты, когда только нашел Танелорн, предлагал мне приехать сюда с Симорил и забыть Мелнибонэ. Жаль, что я не послушался тебя тогда, потому что теперь я жил бы в мире и мертвое лицо Симорил не преследовало бы меня по ночам. – Ты говорил об этой волшебнице, которая похожа на Симорил… – Мишелла? Та, которую называют Императрицей Рассвета? Впервые я увидел ее, когда она спала, а когда мы расстались, то спал уже я. Мы служили друг другу, чтобы достичь общей цели. Больше я не увижу ее никогда. – Но если она… – Больше я не увижу ее никогда, Ракхир. – Как скажешь. И снова друзья погрузились в молчание, и в воздухе были слышны только птичьи песни и плеск фонтанов, а Элрик снова принялся мерить шагами лужайку. Некоторое время спустя он неожиданно развернулся и прошел в дом. Ракхир проводил его встревоженным взглядом. Когда Элрик вышел, на нем был широкий пояс, к которому крепились ножны с рунным мечом Буревестником. На плечах альбиноса был плащ белого шелка, на ногах – высокие сапоги. – Я возьму коня, – сказал он, – и поеду во Вздыхающую пустыню. Буду скакать до полного изнеможения. Может быть, все, что мне надо, – это усталость, которая не дает думать. – Будь осторожен в пустыне, мой друг, – предупредил его Ракхир. – Это зловещая и предательская земля. – Я буду осторожен. – Возьми большую золотистую кобылу. Она привычна к пустыне, а об ее выносливости ходят легенды. – Спасибо. Увидимся утром, если я не вернусь раньше. – Счастливо, Элрик. Надеюсь, такое лечение поможет тебе, и твое дурное настроение пройдет. Тревожное выражение не сходило с лица Ракхира, когда он смотрел, как его друг идет в ближайшую конюшню и плащ развевается за ним на ветру, как внезапно опустившийся морской туман. Потом он услышал стук копыт лошади по камням мостовой. Ракхир поднялся, чтобы посмотреть, как альбинос понукает золотистую кобылу, переводя ее в галоп и направляя к северной стене, за которой простиралась не знающая границ желтизна Вздыхающей пустыни. Из дома вышел Мунглам с большим яблоком в руке и свитком под мышкой. – Куда отправился Элрик? – Он ищет мира в пустыне. Мунглам нахмурился и задумчиво надкусил яблоко. – Где он только не искал мира, но я боюсь, что он и в пустыне не найдет его. Ракхир согласно кивнул. – Но я предчувствую, он найдет там кое-что другое, потому что Элрик не всегда руководствуется своими желаниями – иногда эти желания возникают в нем под воздействием сил, которые направляются роком. – Ты думаешь, так случилось и в этот раз? – Вполне возможно.Глава вторая Возвращение волшебницы
Ветер гнал по пустыне песок, отчего дюны становились похожи на волны почти окаменевшего моря. То здесь, то там из песка, словно убийственные клыки, торчали скалы – остатки гор, выветренных за многие века. Слышались скорбные вздохи, словно песок помнил те времена, когда он был скалой, камнем в фундаменте дома, костью человека или животного, и теперь тосковал по прежнему своему состоянию и вздыхал, вспоминая о своей смерти. Элрик натянул капюшон на голову, чтобы защититься от нещадно палящего солнца, висевшего в серо-синем небе. «Когда-нибудь и я познаю этот покой смерти, – подумал он. – Возможно, тогда и я пожалею о прошлом». Он пустил золотистую кобылу в неторопливую рысь и отпил глоток воды из одной из своих фляжек. Его со всех сторон окружала пустыня, казавшаяся бесконечной. Здесь ничего не росло. Здесь не обитало ни одного животного. В небе не было ни одной птицы. Элрика непонятно почему пробрала дрожь. Им вдруг овладело предчувствие – альбинос увидел себя в будущем, когда он, как и сейчас, будет один, но в мире еще более бесплодном, чем этот, и даже коня не будет у него для компании. Он стряхнул с себя эту мысль, но она так поразила его, что на какое-то время он добился желаемого – прекратил размышлять о своей судьбе и жизни. Ветер стих, и вздохи пустыни стали едва слышны – перешли в шепот. Элрик, ошеломленный, нащупал рукоять своего оружия – Буревестника, Черного Меча, – потому что с ним связывал свое предчувствие, только не мог объяснить почему. И ему показалось, что в шелесте ветра слышится какая-то ироническая нотка. Или этот звук исходил от самого меча? Он наклонил голову, прислушиваясь, но шум этот стал еще менее различимым, словно поняв, что его пытаются распознать. Золотистая кобыла стала подниматься по пологому склону дюны. Она споткнулась, когда нога ее увязла в рыхлом песке. Элрик направил ее туда, где песок был потверже. Добравшись до вершины дюны, он натянул поводья. Дюны простирались далеко в бесконечность, и только кое-где этот пейзаж нарушался торчащими из песка остриями скал. Ему пришло в голову, что он должен гнать кобылу все дальше и дальше, чтобы возвращение в Танелорн стало невозможным, чтобы и кобыла и он погибли от усталости и их поглотил бы песок. Он откинул на спину капюшон и отер пот со лба. «А почему бы и нет?» – спросил он себя. Жизнь была невыносима. Так почему бы не попробовать смерть? Но может быть, смерть не примет его? Может быть, он обречен жить? Иногда так ему и казалось. Потом он подумал о кобыле. Было бы несправедливо приносить ее в жертву возникшему у него желанию. Он неторопливо спешился. Ветер стал сильнее, и вздохи сделались громче. Песок обтекал обутые в сапоги ноги Элрика. Горячий ветер трепал его широкий белый плащ. Кобыла нервно заржала. Элрик посмотрел на северо-восток, в направлении Края Мира. Он тронулся с места и пошел. Кобыла вопросительно заржала ему вслед, когда он не позвал ее за собой, но он никак не прореагировал на это, и скоро она осталась далеко позади. Он даже не побеспокоился о том, чтобы взять с собою воду. Он откинул капюшон, предоставив солнцу со всей яростью опалять его голову. Шел он ровно, целеустремленно, так, словно за ним двигалась целая армия. Может быть, он и в самом деле чувствовал за собой армию – армию мертвецов, всех тех друзей и врагов, которых он убил в безуспешных поисках смысла бытия. Но все же один из его врагов оставался жив. Враг даже еще более коварный, чем Телеб К’аарна: этим врагом была темная часть его души, та сторона его природы, символом которой был разумный меч, висевший у него на боку. Когда он, Элрик, умрет, этот враг умрет вместе с ним. Сила, приводящая в движение зло, исчезнет из этого мира. Несколько часов шел Элрик из Мелнибонэ по Вздыхающей пустыне, и наконец, как он и надеялся, ощущение собственного «я» начало покидать его. Ему уже стало казаться, что он – одно целое и с этим ветром, и с этим песком, что он соединился с этим миром, который отвергал его и отвергался им. Наступил вечер, но он не заметил, как зашло солнце. Опустилась ночь, но он продолжал идти, не чувствуя холода. Он уже начал слабеть. Он наслаждался слабостью так же, как раньше наслаждался силой, которую обретал посредством Черного Меча. Около полуночи, когда на небе светила бледная луна, ноги у Элрика подогнулись, он упал на песок и остался бездвижен, и вскоре остатки чувств покинули его. – Принц Элрик? Голос был низкий, полный жизни, чуть ли не насмешливый. Это был голос женщины, и Элрик узнал его. Он не шелохнулся. – Элрик из Мелнибонэ. Он почувствовал прикосновение чьей-то руки. Она пыталась поднять его. Он не хотел, чтобы его тащили, и поднялся сам, не без труда приняв сидячее положение. Он попытался заговорить, но поначалу язык не слушался его – иссохший рот был набит песком. Она стояла перед ним, а за ней занимался рассвет, игравший в длинных черных волосах, обрамлявших ее прекрасное лицо. Она была одета в свободное платье голубого, зеленого и золотистого цветов, на лице сияла улыбка. Выплюнув песок изо рта, он тряхнул головой и наконец сумел произнести: – Если я и умер, то призраки и иллюзии продолжают преследовать меня. – Я такая же иллюзия, как и все остальное в этом мире. Ты не умер. – Значит, ты забрела очень далеко от замка Канелун, госпожа. Ты пришла с другой стороны мира, пройдя от одного края до другого. – Я искала тебя, Элрик. – Тогда ты нарушила свое слово, Мишелла, потому что, когда мы расставались, ты сказала, что никогда не увидишь меня, что наши судьбы больше никак не связаны. – Тогда я думала, что Телеб К’аарна мертв, что наш общий враг погиб в Петле Плоти. – Волшебница широко распростерла руки, словно призывая своим жестом солнце, которое в этот миг и появилось вдруг на горизонте. – Зачем ты зашел так глубоко в пустыню? – Я искал смерти. – Ты же знаешь, что тебе не суждено вот так умереть. – Мне об этом говорили, но я не знаю этого наверняка, госпожа Мишелла. И тем не менее, – он с трудом встал на ноги, его слегка покачивало, – я начинаю верить, что так оно и есть. Она подошла к нему, достала кубок из-под своего платья. Он был до краев полон прохладной серебристой жидкостью. – Выпей, – сказала она. Он не протянул руки к кубку. – Я не рад видеть тебя, Мишелла. – Почему? Потому что боишься полюбить меня? – Если тебе льстит так думать – пусть так оно и будет. – Мне это не льстит. Я знаю, что напоминаю тебе Симорил, что я совершила ошибку, позволив Канелуну стать таким, каким хотелось тебе… Только потом я поняла, что в таком виде он вызывает у тебя еще и ужас. Он опустил голову. – Замолчи! – Прости меня. Приношу свои извинения. Нам вместе удалось ненадолго прогнать желание и ужас, ведь так? Он поднял глаза – она внимательно заглянула в них. – Ведь так? – Да, так. – Он глубоко вздохнул и протянул руку к кубку. – Это питье подавит мою волю и заставит действовать в твоих интересах? – Ни одно питье не способно на это. Просто оно вернет тебя к жизни, только и всего. Он отхлебнул жидкости, и сразу же жажда перестала мучить его, в голове прояснилось. Он осушил кубок и почувствовал приток сил во всем теле. – Ты все еще хочешь умереть? – спросила она, принимая у него кубок и пряча у себя под одеждой. – Если смерть принесет мне покой. – Не принесет… Если ты умрешь сейчас. Это мне известно наверняка. – Как ты нашла меня здесь? – О, у меня есть много способов, некоторые из них связаны с колдовством. Но сюда меня принесла моя птица. – Она вытянула правую руку, показывая куда-то ему за спину. Он повернулся и увидел птицу из серебра, золота и меди, на которой летал когда-то и сам, выполняя поручение Мишеллы. Огромные металлические крылья были сложены, но ее умные изумрудные глаза смотрели на хозяйку в ожидании приказаний. – Так ты пришла, чтобы вернуть меня в Танелорн? Она отрицательно покачала головой. – Пока еще нет. Я пришла тебе сказать, где можно найти нашего общего врага Телеба К’аарну. Он улыбнулся. – Колдун снова угрожает тебе? – Не напрямую. Элрик стряхнул песок с плаща. – Я хорошо знаю тебя, Мишелла. Ты бы не стала вмешиваться в мою судьбу, если бы она каким-то образом опять не переплелась с твоей. Видимо, так оно и есть, потому что мне кажется, что я боюсь полюбить женщину. Но ты используешь любовь – мужчины, которым ты даешь свою любовь, одновременно служат твоей цели. – Не стану это отрицать. Я люблю только героев… и только тех героев, которые трудятся ради того, чтобы в этом измерении нашей Земли воцарилась власть Закона… – Мне все равно, кто победит – Закон или Хаос. Даже моя ненависть к Телебу К’аарне стала ослабевать, а ведь то была личная ненависть, никак не связанная с каким-либо делом. – А что, если я тебе скажу, что Телеб К’аарна снова угрожает народу Танелорна? – Это невозможно. Танелорн вечен. – Танелорн – да, но не его жители. Я это знаю. Не раз несчастья обрушивались на головы тех, кто обитает в Танелорне. И Владыки Хаоса ненавидят Танелорн, хотя и не могут напасть на него напрямую. Но они готовы помочь любому смертному, который решит, что в его силах уничтожить тех, кого Хаос считает предателями. Элрик нахмурился. Он знал, какую ненависть питают Владыки Хаоса к Танелорну. Он слышал, что они не раз пользовались смертными, чтобы напасть на этот город. – И ты говоришь, что Телеб К’аарна собирается уничтожить жителей Танелорна? С помощью Хаоса? – Да. Ты помешал его планам, связанным с Надсокором и караваном Ракхира, и теперь он распространил свою ненависть на всех обитателей Танелорна. Он нашел в Троосе какие-то древние рукописи, сохранившиеся со времен Обреченного народа. – Как это может быть? Они существовали на целый цикл раньше Мелнибонэ?! – Да, это так. Но и сам Троос сохранился со времен Обреченного народа, который сделал много великих открытий и нашел способ сохранить свою мудрость… – Ну хорошо. Может быть, Телеб К’аарна и нашел эти рукописи. И что же он в них прочел? – Из них он узнал, как вызвать нарушения в барьере, который отделяет одно измерение Земли от другого. Эти знания других измерений остаются для нас тайной, даже твои предки только догадывались о разнообразии форм существования в том, что древние называли «мультивселенной». И мне известно лишь немногим больше, чем тебе. Владыки Высших Миров могут иногда свободно перемещаться между этими временными и пространственными слоями, но смертным это недоступно… по крайней мере, не в этом цикле бытия. – И что же сделал Телеб К’аарна? Чтобы вызвать нарушения, о которых ты говоришь, нужна огромная сила. Он такой не владеет. – Это верно. Но у него есть могущественные союзники среди Владык Хаоса. С ним объединились Повелители Энтропии. Они готовы объединиться с любым, кто пожелает стать средством уничтожения обитателей Танелорна. В Троосском лесу он нашел не только рукописи. Он нашел там захороненные устройства, созданные Обреченным народом, – те самые, которые в конечном счете и привели к их уничтожению. Эти устройства, конечно же, ничего не говорили ему, но потом Владыки Хаоса научили его пользоваться ими, применяя сами силы творения в качестве их движителя. – И он привел эти устройства в действие? Где? – Он принес нужное ему устройство сюда, потому что ему для работы необходимо такое место, где, как он думает, его не обнаружат такие, как я. – Так он во Вздыхающей пустыне? – Да. Если бы ты и дальше скакал на своей кобыле, то уже обнаружил бы его. Или он обнаружил бы тебя. Я думаю, именно это и позвало тебя в пустыню – стремление найти его. – У меня не было никаких стремлений, кроме стремления умереть! – Элрик с трудом сдерживал гнев. Она снова улыбнулась. – Ну, как тебе будет угодно. – Ты хочешь сказать, что судьба настолько управляет мной, что я даже не могу умереть по своему желанию? – Задай этот вопрос себе. Отчаяние и недоумение омрачили чело Элрика. – Значит, судьба руководит мной? Но с какой целью? – Ты должен сам узнать это. – Ты хочешь, чтобы я пошел против Хаоса? Но Хаос мне помогает, и я дал клятву Ариоху. – Но ты смертен, а Ариох в последнее время не спешит помогать тебе, возможно, потому, что знает будущее. – А что тебе известно о будущем? – Немного… но и об этом немногом я не могу тебе сказать. Смертный может сам выбирать, кому ему служить. – Я уже выбрал. Я выбрал Хаос. – Но твоя меланхолия во многом объясняется тем, что ты разрываешься между двумя крайностями. – И это тоже верно. – И потом, борясь с Телебом К’аарной, ты будешь сражаться не ради Закона. Ты просто будешь сражаться с одним из тех, кому помогает Хаос, а ведь представители Хаоса нередко борются друг с другом. Разве не так? – Так. К тому же хорошо известно, что я ненавижу Телеба К’аарну и намерен уничтожить его, кому бы он ни служил – Закону или Хаосу. – А потому ты не вызовешь неудовольствия тех, кому ты остаешься предан, хотя помогать тебе они, вероятно, и не пожелают. – Расскажи мне побольше о планах Телеба К’аарны. – Ты должен все увидеть сам. Вот твоя лошадь. – Она снова сделала указующий жест рукой, и Элрик увидел, как из-за гребня дюны появилась золотистая кобыла. – Двигайся на северо-восток, как и раньше, но только будь осторожнее, чтобы Телеб К’аарна не догадался о твоем присутствии и не заманил тебя в ловушку. – А что, если я просто вернусь в Танелорн? Или снова попытаюсь умереть? – Ты этого не сделаешь, Элрик. Ты предан своим друзьям и в глубине души желаешь служить тому, что представляю здесь я. И ты ненавидишь Телеба К’аарну. Не думаю, что ты еще раз захочешь умереть. Он нахмурился. – Опять меня нагружают обязанностями, которых я не хотел, и подкрепляют это логикой, расходящейся с моими желаниями. Опять я попадаюсь в капкан эмоций, а ведь нас в Мелнибонэ с детства учат презирать чувства. Хорошо, Мишелла, я поеду туда. Я сделаю то, что ты хочешь. – Будь осторожен, Элрик. Телеб К’аарна владеет силой, о которой тебе ничего не известно. Тебе будет трудно противостоять ей. Она посмотрела на него пытливым взглядом, и он внезапно сделал шаг вперед и, обняв ее, поцеловал. Слезы полились по его лицу, перемешиваясь с ее слезами. Потом он смотрел, как она уселась в свое ониксовое седло и выкрикнула слова команды. Металлические крылья звонко ударили по воздуху, изумрудные глаза повернулись, усаженный драгоценными камнями клюв приоткрылся. – Прощай, Элрик, – сказала птица. Но Мишелла не сказала ничего. И не оглянулась. Скоро металлическая птица стала песчинкой света в синем небе, и Элрик повернул кобылу на северо-восток.Глава третья Барьер уничтожен
Элрик остановил кобылу под прикрытием утеса. Он обнаружил лагерь Телеба К’аарны. Под защитой нависающей скалы был установлен большой шатер желтого шелка. Эта скала была частью каменистого образования, естественным амфитеатром разлегшегося среди дюн пустыни. Рядом с шатром стояли две лошади и телега, но над всем этим возвышалось металлическое сооружение, находившееся в центре площадки. Это сооружение было помещено в огромную емкость из чистого стекла. Емкость имела почти шарообразную конфигурацию с узким отверстием наверху. Само сооружение имело странную асимметричную форму и состояло из множества искривленных и угловых поверхностей, в которых видны были мириады частично сформированных лиц, фигур животных и очертаний зданий, неясных конструкций, которые появлялись и исчезали под взглядом Элрика. Это изделие явилось плодом воображения, еще более изощренного, чем воображение предков альбиноса. Амальгамированные металлы и другие вещества были слиты здесь воедино, что противоречило всякой логике. Творение Хаоса, дававшее ключ к объяснению того, как Обреченный народ пришел к самоуничтожению. И это сооружение жило. В его глубинах что-то пульсировало – словно слабо билось сердце умирающей птички. Элрик видел немало непотребств в своей жизни, и лишь немногие трогали его, но это сооружение, хотя на первый взгляд и казавшееся гораздо безвреднее всего предыдущего, почему-то вызвало у него острый приступ неприязни. Невзирая на одолевавшее его отвращение, он остался стоять где стоял, очарованный этой машиной. Вдруг клапан желтого шатра отошел в сторону, и появился Телеб К’аарна. Колдун из Пан-Танга стал бледнее и похудел по сравнению с тем, каким он был, когда Элрик видел его в последний раз – перед самым сражением между нищими Надсокора и воинами Танелорна. Но какая-то нездоровая энергия разрумянила его щеки и горела в темных глазах, придавая нервную резвость его движениям. Телеб К’аарна направился к стеклянной емкости. Когда колдун подошел поближе, Элрик услышал, как он бормочет себе под нос: – Уже скоро, уже скоро, уже скоро. Еще чуть-чуть, и Элрик умрет, а вместе с ним и все его союзники. Этот альбинос проклянет день, когда он разбудил во мне ненависть и превратил меня из ученого в того, кем я стал сегодня. А когда он умрет, королева Йишана поймет свою ошибку и вернется ко мне. Как может она предпочитать этого белолицего выродка человеку моих великих талантов? Как?! Элрик почти забыл, что Телеб К’аарна одержим страстью к джаркорской королеве Йишане, женщине, которая покорила колдуна сильнее любого заклинания. Именно ревность Телеба К’аарны к Элрику и превратила этого сравнительно тихого собирателя знаний темных искусств в мстительного колдуна, готового на самые страшные преступления. Он смотрел, как Телеб К’аарна пальцем начал выводить сложный рисунок на прозрачной поверхности стекла. С каждой законченной руной пульсация в машине усиливалась. Странной окраски свет начал возникать в разных секциях, возрождая их к жизни. Из горловины емкости донесся звук сильного удара, и ноздрей Элрика начало достигать зловоние. Сердцевина света стала ярче и крупнее, машина словно изменяла свою форму, иногда явно переходя в жидкость и обтекая стенки емкости изнутри. Золотистая кобыла фыркнула и начала беспокойно перебирать ногами. Элрик потрепал ее по шее, чтобы успокоить. Телеб К’аарна сейчас был всего лишь силуэтом на фоне быстро меняющегося света внутри стекла. Он продолжал бормотать что-то себе под нос, но его слова тонули в пульсациях, которые эхом разносились среди окружающих скал. Правая рука Телеба К’аарны продолжала рисовать новые невидимые знаки на стеклянной поверхности. Небо, казалось, начало темнеть, хотя до заката было еще далеко. Элрик поднял глаза. Над его головой небеса были по-прежнему сини, золотое солнце сияло, но воздух вокруг потемнел, словно какая-то туча опустилась на то место, где стоял Элрик. Телеб К’аарна на нетвердых ногах сделал несколько шагов назад, лицо его было залито странным светом, исходящим из емкости, глаза его стали огромными и безумными. – Приди! – закричал он. – Приди! Преграды сломаны! И тогда Элрик увидел тень за стеклянной емкостью. Размеры этой тени намного превосходили размеры огромной машины. Что-то заревело. Оно было чешуйчатым. Оно громыхало. Оно поднимало громадную голову непонятной формы. Оно напомнило Элрику дракона из его пещер, но было крупнее, и на его исполинской спине виднелись два ряда острых костных наростов. Оно открывало пасть, в которой виднелись многочисленные ряды зубов. Земля сотряслась, когда эта тварь вышла из-за стеклянной емкости. Она остановилась, глядя на крохотную фигурку колдуна глупыми и злобными глазами. Потом из-за емкости появилась еще одна такая же тварь – огромные рептилии из другой земной эпохи. А следом появились те, кто управлял ими. Кобыла Элрика заржала, поднялась на дыбы, отчаянно попыталась вырваться и убежать, но Элрику удалось успокоить ее. Он смотрел на фигуры, возложившие свои руки на послушные головы монстров. Эти фигуры имели еще более устрашающий вид, чем сами рептилии, потому что, хотя и передвигались на двух ногах и имели своеобразные руки, они тоже были рептилиями. Они чем-то напоминали драконов, а размером во много раз превосходили человека. В руках у них были странного вида предметы – наверняка какое-нибудь оружие. Эти предметы были закреплены в их руках с помощью спиралей из золотистого металла. Черно-зеленые головы драконообразных рептилий были укрыты капюшоном из кожи, и с их затененных лиц яростно взирали красные глаза. Телеб К’аарна рассмеялся. – Я сделал это. Я уничтожил барьер между измерениями. И благодаря Владыкам Хаоса нашел союзников, которых не сможет уничтожить колдовство Элрика, поскольку они не подчиняются колдовским правилам этого мира! Они неуязвимы, они неуничтожимы и подчиняются только мне, Телебу К’аарне! Рептилии вместе со своими погонщиками издавали шумные фырканья и крики. – Теперь мы двинемся на Танелорн! – закричал Телеб К’аарна. – А с такой силой я смогу вернуться в Джаркор, и переменчивая Йишана снова станет моей! Элрик в этот момент даже почувствовал некоторую симпатию к Телебу К’аарне. Одним своим колдовством без помощи Владык Хаоса он не смог бы добиться этого. Он отдал себя им, стал одним из их инструментов, и все из-за безумной любви к стареющей королеве Джаркора. Элрик знал, что бессилен против этих монстров и их погонщиков. Он должен поторопиться в Танелорн и предупредить своих друзей, чтобы они покинули город в надежде, что он, Элрик, все же найдет средство вернуть этих жутких пришельцев в их исконное измерение. Но тут его кобыла внезапно громко заржала и встала на дыбы, обезумев от вида, звуков и запахов того, что было перед ней. Это ржание прозвучало в полной тишине. Вставшая на дыбы лошадь обнаружила их присутствие, и Телеб К’аарна повернул свои безумные глаза в направлении Элрика. Элрик знал, что ему не уйти от этих монстров. Он знал, что их оружие легко может уничтожить его на расстоянии. Он извлек черный Буревестник из ножен, и освободившийся меч закричал. Элрик вонзил шпоры в бока лошади и направил ее прямо к стеклянному резервуару, пока Телеб К’аарна не пришел в себя и не успел отдать приказ своим новым союзникам. Его единственная надежда состояла в том, что он сможет уничтожить сооружение или, по крайней мере, какую-либо его важную часть, после чего монстры вернутся в свое измерение. Высоко занеся меч, он проскакал мимо Телеба К’аарны и нанес мощнейший удар по стеклу, защищавшему машину. Черный меч соприкоснулся со стеклом и погрузился в него. Элрика по инерции выкинуло из седла, и он тоже прошел сквозь стекло, даже не разбив его. Перед ним мелькнули жуткие плоскости и кривые машины, изобретенной Обреченным народом. Его тело ударилось о поверхность этого сооружения. Ему показалось, что все его тело распадается…Придя в себя, он увидел, что лежит на свежей траве, что здесь нет ни пустыни, ни Телеба К’аарны, ни пульсирующей машины, ни жутких бестий, ни их устрашающих погонщиков – только листва, трепещущая на ветру, и голос. – Буря – она прошла. А ты? Тебя зовут Элрик из Мелнибонэ? Поднявшись, альбинос обернулся. Перед ним стоял высокий человек. На нем был конический серебряный шлем и кольчуга до колен, тоже из серебра. Частично кольчугу прикрывал плащ с длинными рукавами. На боку у человека висел длинный меч в ножнах. На ногах у него были штаны из мягкой кожи и сапоги из замши. Но внимание Элрика в первую очередь привлекли черты лица этого человека (он скорее походил на мелнибонийца, чем на представителя человеческого племени) и то, что на левой руке у него была шестипалая кольчужная перчатка, украшенная темными драгоценными камнями. На правом глазу у него была повязка, тоже украшенная драгоценными камнями – такими же, как на перчатке. Другой глаз был большой, миндалевидный с желтым зрачком и алым глазным яблоком. – Да, я – Элрик из Мелнибонэ, – подтвердил альбинос. – Значит, я тебя должен благодарить за спасение от монстров, вызванных Телебом К’аарной? Высокий человек отрицательно покачал головой. – Да, вызвал тебя я, но я не знаю никакого Телеба К’аарну. Мне было сказано, что у меня есть единственная возможность получить твою помощь и что вызвать тебя я должен в определенном месте и в определенное время. Меня зовут Корум Джаелен Ирсеи – Принц в Алой Мантии. У меня чрезвычайно важная миссия. Элрик нахмурился. Это имя показалось ему знакомым, но он никак не мог вспомнить, где он его слышал. На память ему пришел старый, полузабытый сон. – Этот лес, в котором я сейчас нахожусь, – где он? – спросил Элрик, вкладывая меч в ножны. – Это не твой мир и не твоя эпоха. Я вызвал тебя, чтобы ты помог мне в борьбе против Владык Хаоса. Я уже способствовал уничтожению двух Повелителей Мечей – Ариоха и Ксиомбарг, но остался третий, самый сильный… – Ты уничтожил Ариоха и Ксиомбарг – двух самых могущественных Владык Хаоса? Но не прошло и месяца, как я говорил с Ариохом. Он мой покровитель. Он… – Существует множество плоскостей мироздания, – терпеливо сказал ему Корум. – В некоторых измерениях Владыки Хаоса сильны, в некоторых – слабы. В некоторых, насколько мне доводилось слышать, их нет вообще. Ты должен принять это как данность: Ариох и Ксиомбарг были изгнаны отсюда столь действенно, что в этом мире они больше не существуют. Сейчас нам угрожает только третий из Повелителей Мечей, могущественнейший из всех, – король Мабелод. Элрик нахмурился. – В моем мире Мабелод не сильнее Ариоха и Ксиомбарг. То, что ты говоришь, меняет все мои представления… – Я постараюсь объяснить то, что смогу, – сказал принц Корум. – По какой-то причине судьбе было угодно сделать из меня героя, который должен изгнать Хаос из Пятнадцати Плоскостей Земли. Сейчас я ищу город, который называется Танелорн, где рассчитываю найти помощь. Но мой проводник заточен в замке, расположенном неподалеку, и, прежде чем продолжать путь, я должен спасти его. Мне объяснили, как я могу вызвать подмогу для спасения моего проводника, и я воспользовался заклинанием, чтобы призвать тебя. Я должен сказать тебе: если ты поможешь мне, то тем самым поможешь и себе, если я добьюсь успеха, то и ты получишь нечто, что облегчит твою задачу… – Кто тебе это сказал? – Один мудрый человек. Элрик сел на ствол упавшего дерева, опустив голову на руки. – Ты вызвал меня в самый неподходящий момент, – сказал он. – Хочется верить, что ты говоришь мне правду, принц Корум. – Он вдруг поднял глаза. – Удивительно, что ты вообще говоришь… или, точнее, что я тебя понимаю. Как такое возможно? – Мне сказали, что мы сможем общаться свободно, потому что мы «части одного целого». Не проси у меня никаких дальнейших объяснений, принц Элрик, потому что больше я ничего не знаю. Элрик пожал плечами. – Что ж, это может быть иллюзией. Может быть, я убил себя или меня переварила эта машина Телеба Каарны. Но, очевидно, у меня нет иного выбора – только согласиться с тобой и надеяться на то, что и я получу помощь. Принц Корум покинул поляну, но скоро вернулся с двумя лошадьми – черной и белой. Он подал Элрику вожжи черной. Элрик запрыгнул в седло. – Ты говорил о Танелорне. Так вот, именно ради Танелорна я и проник в этот твой иллюзорный мир. На лице принца Корума появилось пытливое выражение. – Ты знаешь, где находится Танелорн? – В моем мире – знаю. Но откуда ему взяться в этом мире? – Танелорн есть во всех плоскостях, хотя и имеет повсюду разные обличья. Есть один Танелорн, и он вечен во множестве своих форм. Они скакали по узкой тропинке, идущей через тихий лес. Элрик принял то, что сказал ему Корум. Его пребывание здесь было чем-то сродни сновидению, и он решил, что должен смотреть на все происходящие здесь события, как он смотрит на события, происходящие во сне. – Куда мы направляемся? – небрежно спросил он. – В замок? Корум отрицательно покачал головой. – Сначала нам нужен третий – Герой со Множеством Имен. – И его ты тоже призовешь с помощью колдовства? – Мне сказали, что это не нужно. Мне сказали, что он встретит нас. Он будет призван из своей эпохи, чтобы мы могли стать Троими, которые Одно. – И что значат эти слова? Что такое Трое, которые Одно? – Я знаю немногим больше тебя, друг Элрик. Могу только сказать, что для победы над тем, кто держит в плену моего проводника, нужны все мы – все трое. – Понятно, – с чувством пробормотал Элрик. – Но этого будет мало, чтобы спасти мой Танелорн от рептилий Телеба К’аарны. Они, должно быть, уже сейчас направляются к городу.
Глава четвертая Исчезающая башня
Дорога расширилась и вышла из леса, петляя среди вересковых кустов высокой болотистой местности. Далеко на западе видны были утесы, а за ними – темно-синие воды океана. В широком небе кружили несколько птиц. Мир этот казался необыкновенно мирным, и Элрику даже не верилось, что на него нападают силы Хаоса. Корум объяснил ему, что его кольчужная перчатка и не перчатка вовсе, а кисть руки древнего бога, сращенная с его собственной рукой. Точно так же и его глаз – это глаз бога, и он может видеть ужасный потусторонний мир, из которого Корум, в случае необходимости, мог бы призвать помощь. – В сравнении с тем, что ты мне говоришь, все сложное колдовство и космология моего мира становятся детскими играми. – То, о чем я тебе говорю, кажется сложным, потому что оно необычно, – сказал Корум. – Твой мир наверняка показался бы мне непонятным, если бы я неожиданно попал в него. И потом, – рассмеялся он, – эта плоскость тоже не мой мир, хотя она и похожа на него больше, чем многие другие. У нас есть кое-что общее, Элрик. Мы с тобой оба обречены играть какую-то роль в неутихающей борьбе Владык Высших Миров, но мы никогда не поймем, для чего ведется эта борьба и почему она бесконечна. Мы сражаемся, наши умы и души агонизируют, но мы никогда не можем быть уверены в том, что наши страдания стоят того. – Ты прав, – с чувством сказал Элрик. – У нас с тобой много общего, Корум. У меня и у тебя. Корум хотел было ответить, но тут увидел что-то впереди на дороге. Это был конный воин. Он сидел абсолютно без движения, словно ждал их. – Может быть, это и есть тот третий, о котором говорил Болорхиаг. Они осторожно поехали дальше. Человек, к которому они приблизились, задумчиво смотрел на них. Он был такого же роста, как они, но крупнее. Кожа у него была иссиня-черная, а голову и плечи закрывала шкура оскалившегося медведя. Его доспехи также были черны, не имели никаких знаков, говорящих об их хозяине, а на боку у него висел меч с черной рукоятью в черных ножнах. Сидел он на крепком чалом жеребце, а сзади к седлу был приторочен круглый тяжелый щит. Когда Элрик и Корум приблизились, красивые негроидные черты приняли удивленное выражение, и человек с ужасом в голосе вскричал: – Я вас знаю! Я знаю вас обоих! Элрик тоже чувствовал, что он узнал этого человека, точно так же он заметил какие-то знакомые черты в Коруме. – Друг, как ты оказался здесь, в болотах Балвина? – спросил его Корум. Человек оглянулся, словно в недоумении. – Болота Балвина? Это болота Балвина? Я здесь всего несколько мгновений. А перед этим я был… я был… Ах, память снова подводит меня. – Он приложил свою большую руку ко лбу. – Имя… другое имя. Не помню! Элрик! Корум! Но я… я знаю… – Откуда тебе известны наши имена? – спросил его Элрик. Альбиноса охватил страх. Он знал, что не должен задавать эти вопросы, что не должен знать ответы на них. – Потому что… как же ты не понимаешь? Я – Элрик, я – Корум, о, какое это мучение… Или по крайней мере я уже был или еще буду Элриком или Корумом… – А как зовут тебя, мой господин? – снова спросил Корум. – У меня тысяча имен. Я был тысячью героев. Я… я – Джон Дейкер… Эрекозе… Урлик и многие, многие другие… Воспоминания, сновидения, существования. – Внезапно он посмотрел на них полными печали глазами. – Неужели вы не понимаете? Неужели я единственный обречен понимать? Я – тот, кого прозвали Вечный воитель… я – герой, который существовал вечно… и я – Элрик из Мелнибонэ, принц Корум Джаелен Ирсеи, я – это и ты. Мы трое – одно существо и к тому же мириад других существ. Мы трое – одно, мы обречены вечно сражаться и никогда не знать ради чего. Ах, моя голова! Какая боль! Кто же так мучает меня? Кто? У Элрика пересохло в горле. – Ты говоришь, что ты – иная инкарнация меня! – Если ты это так называешь! Это вы оба – мои инкарнации. – Так вот, значит, что имел в виду Болорхиаг, когда говорил о Троих, которые Одно, – сказал Корум. – Мы – инкарнации одного человека, но мы утроили наши силы, потому что пришли из разных эпох. Только эта сила может победить Войлодиона Гхагнасдиака из Исчезающей башни. – Ты говоришь о том замке, в котором заточен твой проводник? – спросил Элрик, бросая сочувственный взгляд на стонущего чернокожего. – Да. Исчезающая башня перемещается из одного измерения в другое, из одного века в другой. На одном месте она остается лишь несколько мгновений. Но поскольку мы три разные инкарнации одного героя, то мы, вероятно, сможем прибегнуть к какому-нибудь колдовству, которое позволит нам догнать башню и атаковать ее. И тогда, если мы освободим моего проводника, мы сможем продолжить наш путь в Танелорн… – Танелорн? – Чернокожий посмотрел на Корума, и в его глазах внезапно засветилась надежда. – Я тоже ищу Танелорн. Только там смогу я обрести избавление от моей ужасной судьбы – знать все предыдущие инкарнации и переходить без всякой системы из одного существования в другое! Танелорн! Я должен найти этот город! – И я тоже должен найти Танелорн, – сказал ему Элрик, – потому что в моем мире его жители подвергаются страшной опасности. – Значит, у нас не только одна личность, но и одна цель, – сказал Корум. – Поэтому мы будем сражаться вместе. Сначала мы должны освободить моего проводника, а потом отправимся в Танелорн. – Я охотно помогу вам, – сказал черный гигант. – И какже нам называть тебя – тебя, который есть мы сами? – спросил Корум. – Называйте меня Эрекозе… хотя мне приходит на ум другое имя. Но именно будучи Эрекозе я ближе всего подошел к забвению и познал счастье любви. – Тогда тебе можно позавидовать, Эрекозе, – многозначительно сказал Элрик. – Ведь ты так близко подошел к забвению… – Ты не имеешь представления о том, что я должен забыть, – сказал ему черный гигант. Он поднял поводья. – Ну что ж, Корум, веди нас к Исчезающей башне. – Нас туда выведет эта дорога. Сейчас мы, кажется, двигаемся по направлению к Темной долине. Разум Элрика едва мог переварить смысл того, что он услышал. Из этих слов вытекало, что вселенная – или мультивселенная, как называла ее Мишелла – разделена на бесконечные слои существования, что время является фактически бессмысленным представлением, за исключением случая, когда речь идет о жизни одного человека или об одном коротком историческом периоде. Что есть уровни существования, на которых Космическое Равновесие вообще неизвестно – по крайней мере, это следовало из слов Корума, – и что есть другие измерения, где Владыки Высших Миров имеют гораздо больше власти, чем в его собственном мире. У него возникло искушение забыть о Телебе К’аарне, Мишелле, Танелорне и всех остальных и посвятить себя исследованию всех этих бесконечных миров. Но он тут же понял, что это невозможно, потому что если Эрекозе говорил правду, то он, Элрик, – или то, что было им, – уже существует на всех этих планах. Та сила, которую он называл судьбой, впустила его в этот мир для исполнения определенной миссии. А миссия эта, затрагивающая судьбы тысячи измерений, наверняка очень важна, если она свела вместе три разные инкарнации. Он с любопытством посмотрел на черного гиганта, едущего слева, на изувеченного человека с бриллиантовыми рукой и глазом справа от него. Неужели эти двое – он сам? Теперь он представил себе, что чувствует часть того отчаяния, которое испытывает Эрекозе: помнить все эти другие инкарнации, все эти ошибки, все эти бессмысленные конфликты и никогда не знать их цели, если только у них была какая-то цель. – Темная долина, – сказал Корум, показывая вниз по склону холма. Дорога резко убегала вниз и исчезала в сумерках, пройдя между двумя скалами. Это место казалось каким-то особенно мрачным. – Мне сказали, что когда-то здесь была деревня, – сообщил им Корум. – Не очень привлекательное местечко, правда, братья? – Я видел и похуже, – пробормотал Эрекозе. – Ну что ж, давайте покончим е. – Он пришпорил своего чалого жеребца и, обгоняя других, галопом понесся вниз по склону. Остальные последовали за ним; скоро они проскакали между двумя скалами, и дорога впереди стала почти не видна – потерялась в сумерках. И тогда Элрик разглядел руины, прилепившиеся к скалам по обе стороны дороги. Руины эти имели странный вид и явно не были следствием военных действий. И не время превратило эти сооружения в развалины, которые представляли собой нечто искореженное, расплавленное, словно Хаос, проходя по долине, прикоснулся к ним. Корум, внимательно изучив руины, хлестнул коня. – Вон она, – сказал он. – Яма. Здесь мы и должны ждать. Элрик посмотрел на яму. Она была неровная и глубокая, а земля в ней, казалось, была недавно перевернута, словно эту яму вырыли недавно. – И чего мы должны здесь ждать, друг Корум? – Башню, – сказал принц Корум. – Я так думаю, что, попадая в эту плоскость, она появляется именно здесь. – И когда же она появится? – Время неизвестно. Мы должны ждать. А потом, как только мы ее увидим, мы попытаемся проникнуть в нее, прежде чем она снова исчезнет, переместившись в соседнее измерение. Эрекозе с невозмутимым лицом спешился и сел на землю, прислонившись спиной к камню, который когда-то был частью дома. – Кажется, ты, Эрекозе, терпеливее меня, – сказал Элрик. – Я научился терпению, потому что живу с начала времен и буду жить до конца времен. Элрик спрыгнул со своего черного коня и ослабил подпругу. Корум тем временем ходил по кромке ямы. – А кто тебе сказал, что башня появится здесь? – спросил его Элрик. – Колдун, который, так же как и я, несомненно, служит Закону, поскольку я – смертный, обреченный сражаться с Хаосом. – Как и я, – сказал Эрекозе, – Вечный воитель. – Как и я, – сказал Элрик из Мелнибонэ, – хотя я и поклялся служить ему. Элрик посмотрел на двух своих спутников и в этот момент и в самом деле почувствовал, что эти двое вполне могут быть его инкарнациями. Их жизни, их борьба, их личности до некоторой степени были очень похожи. – А зачем ты ищешь Танелорн, Эрекозе? – спросил он. – Мне сказали, что там я могу найти покой и мудрость, средство вернуться в мир элдренов, где живет женщина, которую я люблю. Так как Танелорн существует во всех измерениях и во все времена, то человеку, который живет там, легчеперемещаться между мирами и найти тот, который ему нужен. А что влечет тебя в Танелорн, принц Элрик? – Я знаю Танелорн и уверен, что ты поступаешь правильно, пытаясь его найти. Моя миссия, кажется, состоит в защите этого города в моей плоскости. Но, может быть, уже сейчас моих друзей там уничтожает то, что было вызвано против них. Я молюсь, чтобы Корум оказался прав и в Исчезающей башне я нашел средство, с помощью которого смогу победить монстров Телеба К’аарны и их хозяев. Корум поднес свою бриллиантовую руку к бриллиантовому глазу. – Я ищу Танелорн, потому что этот город, как мне говорили, может помочь в моей борьбе против Хаоса. – Но Танелорн не сражается ни с Законом, ни с Хаосом, поэтому-то он и существует вечно, – сказал Элрик. – Я знаю. Как и Эрекозе, я ищу не мечей, а мудрости. Пришла ночь, а вместе с ней на Темную долину опустился еще больший мрак. Пока остальные наблюдали за ямой, Элрик попытался уснуть, но слишком велика была его тревога за Танелорн. Попытается ли Мишелла защитить город? Погибнут ли Ракхир и Мунглам? Что он сможет найти в Исчезающей башне? Поможет ли ему то, что он там найдет? Он слушал приглушенный разговор двух его других «я» – они обсуждали, как возникла Темная долина. – Я слышал, что когда-то Хаос напал на этот город, который в те времена располагался в тихой долине, – говорил Корум Эрекозе. – Тогда эта башня принадлежала одному рыцарю, который дал убежище тому, кого ненавидел Хаос. И тогда против Темной долины были высланы огромные силы – самые разные существа пришли и уничтожили горные стены, окружающие долину, но рыцарь обратился за помощью к Закону, который помог ему перенести башню в другое измерение. И тогда Хаос постановил, что башня должна перемещаться вечно и никогда не оставаться в одном измерении дольше чем на несколько мгновений. В конце концов рыцарь и беглец сошли с ума и убили друг друга. Потом эту башню нашел Войлодион Гхагнасдиак и поселился в ней. Он слишком поздно осознал свою ошибку, когда переместился из своего мира в другой, враждебный ему. Он с тех пор боится покидать башню, но очень страдает от одиночества. Он взял в привычку брать в плен всех, кто к нему попадает; он вынуждает их составлять ему компанию в Исчезающей башне и держит их до тех пор, пока они не наскучат ему. А тех, кто ему наскучил, он убивает. – И он в скором времени может убить твоего проводника? А что за существо этот Войлодион Гхагнасдиак? – Он злобное создание, наделенное огромной разрушительной силой. Это все, что мне известно. – Вот почему боги сочли необходимым созвать три воплощения меня для атаки на Исчезающую башню, – сказал Эрекозе. – Для них это, вероятно, важно. – Это важно для меня, – сказал Корум, – потому что этот проводник к тому же и мой друг, и если мне не удастся в ближайшее время найти Танелорн, то само существование Пятнадцати измерений будет поставлено под угрозу. Элрик услышал горький смех Эрекозе. – Ну почему я… мы… всегда сталкиваемся с какими-то космическими задачами, а не с маленькими, домашними? Почему мы навечно связаны с судьбой вселенной? Корум ответил, когда Элрика уже стал одолевать сон: – Может быть, домашние проблемы еще хуже. Кто знает?Глава пятая Джери-а-Конел
– Она здесь! Скорей, Элрик! Элрик вскочил на ноги. Светало. Ночью он уже отстоял свою стражу. Он извлек Черный Меч из ножен, не без удивления отметив, что Эрекозе уже держит в руке свой, который как две капли воды похож на меч Элрика. Перед ними была Исчезающая башня. Корум уже бежал к ней. Башня на самом деле представляла собой небольшой замок серого плотного камня, но на его зубчатых стенах играли огни, а его очертания в некоторых частях стены были довольно расплывчатыми. Элрик бежал бок о бок с Эрекозе. – Он держит двери открытыми, чтобы заманить к себе «гостей», – на бегу проговорил черный гигант. – Я думаю, это наше единственное преимущество. Башня начала мерцать. – Скорее! – снова прокричал Корум и ринулся в черноту дверного проема. – Скорее! Они вбежали в небольшую прихожую, освещенную огромной масляной лампой, свисавшей на цепях с потолка. Дверь за ними неожиданно закрылась. Элрик взглянул на Эрекозе – на его черном лице застыло напряженное выражение, потом – на Корума. Все они держали мечи наготове. В помещении царила полная тишина. Не произнося ни слова, Корум указал в разрез окна. Вид за окном изменился. Теперь там плескалось синее море. – Джери! – позвал Корум. – Джери-а-Конел! Послышался слабый звук. Может быть, это был ответ, а может, этот звук издала крыса где-то в стенах замка. – Джери! – снова воскликнул Корум. – Войлодион Гхагнасдиак? Ты еще здесь? Хочешь попробовать остановить меня? – Я здесь. Что тебе нужно от меня? – Голос доносился из соседней комнаты. Три героя, которые были одним героем, осторожно пошли вперед. В комнате мелькнуло что-то вроде молнии, и в ее призрачном свете Элрик увидел Войлодиона Гхагнасдиака. Это был карлик, закутанный с головы до ног в многоцветные шелка, меха и парчу. В руке он держал крохотный меч. Голова его была слишком велика для его тела, но это была красивая голова с густыми, сросшимися над переносицей бровями. Он улыбнулся. – Наконец-то кто-то новый скрасит мою тоску. Но положите ваши мечи, господа, прошу вас. Ведь вы мои гости. – Я знаю, какая судьба ждет твоих гостей, – сказал Корум. – Послушай, Войлодион Гхагнасдиак, мы пришли освободить Джери-а-Конела, которого ты удерживаешь пленником. Отдай нам его, и мы не причиним тебе вреда. На красивом лице карлика при этих словах появилась веселая ухмылка. – Однако ведь я силен. Победить меня вам не по силам. Смотрите. Он взмахнул своим мечом, и в комнате снова сверкнула молния. Элрик приподнял меч, чтобы отразить ее, но она прошла мимо. Он сердито сделал шаг к карлику. – Послушай, Войлодион Гхагнасдиак, меня зовут Элрик из Мелнибонэ и силы мне не занимать. Я владею Черным Мечом, и он жаждет выпить твою душу, если ты не выпустишь друга принца Корума. Карлик снова рассмеялся. – Мечи? Какая в них может быть сила? – У нас необычные мечи, – сказал Эрекозе. – И мы перенесены сюда силами, которых тебе не понять. Мы извлечены из своих эпох силой самих богов и доставлены сюда для того, чтобы потребовать от тебя освобождения Джери-а-Конела. – Вас ввели в заблуждение, – сказал Войлодион Гхагнасдиак, – или вы пытаетесь ввести в заблуждение меня. Этот Джери, должен согласиться, неглупый парень, но зачем он мог понадобиться богам? Элрик поднял Буревестник. Черный Меч застонал, предвкушая кровопролитие. И тут карлик извлек откуда-то маленький желтый шарик и швырнул его в Элрика. Шарик ударил Элрика по лбу и отскочил назад. Буревестник выпал из его руки. Голова у Элрика закружилась. Он попытался поднять меч, потянулся к нему, но силы покинули его. Он попытался было обратиться за помощью к Ариоху, но потом вспомнил, что Ариох изгнан из этого мира. Тут он не мог призвать себе на помощь могущественных союзников – у него не было здесь ничего, кроме меча, но Элрик не мог его поднять. Эрекозе отскочил назад и подтолкнул Черный Меч в направлении Элрика. Как только рука альбиноса взялась за эфес, силы стали возвращаться к нему, но это были обычные для смертного силы. Элрик поднялся на ноги. Корум остался стоять где стоял. Карлик продолжал смеяться. В его руке появился новый шарик. Он снова швырнул его в Элрика, но Элрик на сей раз успел отразить его своим мечом. Шарик запрыгал по комнате и взорвался у дальней стены. Из огня возникло что-то черное. – Уничтожать сферы опасно, – невозмутимо сказал Войлодион Гхагнасдиак, – потому как то, что заключено в них, уничтожит тебя. Чернота, появившаяся из шара, стала расти. Пламя погасло. – Я свободен, – раздался голос. – Да, – весело произнес Войлодион Гхагнасдиак, – Свободен убить этих глупцов, которые отвергают мое гостеприимство. – Свободен быть убитым, – ответил Элрик, смотревший, как эта чернота приобретает очертания. Поначалу казалось, что она состоит из развевающихся волос, которые постепенно сжались и образовали существо с мощным телом гориллы, но со шкурой плотной и покрытой бородавками, как у носорога. За его спиной виднелись очертания огромных черных крыльев, а на плечах сидела рычащая тигриная голова. В волосатых руках это существо держало длинное оружие, напоминающее косу. Тигриная голова зарычала, и коса совершила резкое движение – Элрику едва удалось уклониться от него. Эрекозе и Корум ринулись на помощь Элрику. Элрик услышал крик Корума: – Мой глаз – он не видит в потустороннем мире. Я не могу вызвать помощь! В этом измерении колдовские возможности Корума тоже были ограниченны. И тут Войлодион Гхагнасдиак бросил желтый шарик в черного гиганта и другой – в бледного человека с бриллиантовой рукой. Обоим им с трудом удалось отразить эти снаряды, которые тут же взорвались. Немедленно из них возникла чернота, материализовавшаяся в еще двух крылатых монстров с тигриными головами, и союзники Элрика были вынуждены перейти к самозащите. Увернувшись от еще одного удара косой, Элрик попытался вспомнить какую-нибудь руну, которая могла бы вызвать ему подмогу, но ни одна из тех, что сработала бы в этом измерении, не приходила ему в голову. Он нанес удар человеку-тигру, но его удар был отражен косой. Его противник был наделен огромной силой и проворством. Захлопали черные крылья, и рычащая тварь поднялась к потолку. Несколько мгновений она парила в воздухе, а потом ринулась на Элрика, вращая косой. Ее клыкастая пасть издала пронзительный вопль, ее желтые глаза сверкали. Элрик был близок к панике. Буревестник не снабжал его энергией, на которую он рассчитывал. Сила меча в этом мире уменьшилась. Ему едва удалось избежать нового удара косой, при этом он воткнул меч в незащищенную ногу твари. Но кровь не хлынула. Тигрочеловек, казалось, не заметил раны. Он снова взмыл к потолку. Элрик увидел, что его товарищи находятся в таком же бедственном положении. На лице Корума было такое выражение, будто он рассчитывал на легкую победу, а теперь не сомневался в гибели. Войлодион Гхагнасдиак тем временем продолжал весело хихикать и расшвыривать по комнате новые шарики. Со взрывом каждого появлялся новый крылатый монстр с тигриной головой. Комната была полна ими. Элрик, Эрекозе и Корум, оглушенные биением гигантских крыльев и пронзительными воплями ненависти, отошли к дальней стене – монстры наступали на них. – Боюсь, что на вашу погибель призвал я вас двоих! – прокричал Корум, переводя дыхание. – Я и понятия не имел, что наши силы здесь будут так ограниченны. Башня перемещается так быстро, что даже обычные законы колдовства в этих стенах не действуют. – Но, похоже, они прекрасно действуют для карлика! – выкрикнул Элрик, отражая мечом удар одной косы и сразу же – другой. – Если бы мне удалось прикончить хотя бы одного… Он вплотную прижимался спиной к земле. Коса царапнула по его щеке, из ранки потекла кровь, другая порвала его плащ, третья рассекла предплечье. Тигриные физиономии ухмылялись, смыкаясь вокруг него. Элрик нанес удар по голове ближайшего монстра, ему удалось отсечь ему ухо, и тот завопил от боли. Буревестник застонал в ответ и ткнулся в горло твари. Однако меч почти не вошел в плоть – от этого удара тигрочеловек лишь слегка покачнулся. Но в этот момент Элрик выбил косу из рук монстра и направил оружие против его хозяина – нанес удар по груди тигрочеловека. Тот вскрикнул, из раны хлынула кровь. – Я был прав, – закричал другим Элрик. – Их можно победить только их оружием! – Он перешел в наступление, держа в одной руке Буревестник, а в другой – косу. Тигролюди стали отступать, а потом взмыли под потолок. Элрик бросился к Войлодиону Гхагнасдиаку. Карлик издал вопль ужаса и выскочил в дверь, которая была слишком мала для Элрика. В этот момент тигролюди снова опустились, хлопая крыльями. На этот раз двое товарищей Элрика попытались раздобыть оружие своих противников. Наступая на монстра, напавшего на него, Элрик изловчился нанести удар сзади по тигрочеловеку, атакующему Корума. Монстр упал с отсеченной головой. Корум сунул в ножны свой длинный меч, подобрал косу и почти сразу же убил третьего тигрочеловека. Упавшую косу он отбросил в направлении Эрекозе. В зловонном воздухе летали черные перья. Плитка на полу стала скользкой от крови. Три героя, прорубившись через монстров, вернулись в меньшую комнату, недавно оставленную ими. Однако тигролюди продолжали наступать, хотя сейчас им проходилось проникать через дверь, а защищать этот вход было легче. Элрик оглянулся и увидел у себя за спиной узкое окно башни. Пейзаж за ним постоянно менялся – Исчезающая башня продолжала свое хаотическое движение в измерениях бытия. Трое воинов стали уставать, у всех у них были легкие раны, и они потеряли какое-то количество крови. Битва продолжалась – коса сходилась с косой, громко хлопали крылья, рычащие морды извергали на них слюну и произносили слова, которые почти невозможно было разобрать. Элрик быстро терял силы – его выкованный в аду меч не пополнял его тело энергией. Дважды он чуть было не упал, но другие поддержали его. Неужели ему суждено умереть в чужом мире и друзья никогда не узнают о том, как он погиб? Но тут он вспомнил, что его друзья в опасности, что на них надвигаются рептилии, которых Телеб К’аарна наслал на Танелорн, и они тоже скоро будут мертвы. Эта мысль придала ему сил, и он вонзил косу в живот очередного монстра. Через пустое пространство, образовавшееся в рядах наступающих, он увидел небольшую дверь в другой стене комнаты. В дверях стоял Войлодион Гхагнасдиак, швырявший новые желтые сферы. На место убитых тигролюдей приходили новые. Но тут Элрик услышал, как Войлодион Гхагнасдиак издал крик, потом что-то упало на лицо карлика. Это было черно-белое животное с маленькими черными крыльями, молотившими воздух. Что это было – какое-то порождение тех монстров, с которыми они сражались? Элрик не мог разобрать этого. Но Войлодиона Гхагнасдиака это существо явно вогнало в ужас, карлик пытался стащить его со своего лица. За спиной карлика появилась еще одна фигура. С умного лица, обрамленного длинными черными волосами, смотрели проницательные глаза. Одета эта фигура была так же пышно, как и карлик, но оружия при ней не было. Она что-то кричала Элрику, и он напрягался, пытаясь разобрать слова, хотя в этот момент на него наступал другой тигрочеловек. Наконец новоприбывшего увидел и Корум. – Джери! – крикнул он. – Это тот, кого мы пришли спасти? – спросил Элрик. – Да. Элрик решил было пробиться к Джери, но тот замахал руками и закричал: – Нет-нет, оставайтесь там! Элрик нахмурился, хотел было спросить почему, но тут на него напали два новых тигромонстра, и ему пришлось отступить, размахивая косой. – Возьмитесь за руки! – крикнул Джери-а-Конел, – Корум в центре, а вы двое вытащите ваши мечи! Элрик задыхался. Он прикончил еще одного монстра и почувствовал, как боль пронзила его ногу. Из голени хлынула кровь. Войлодион Гхагнасдиак все еще боролся с существом, вцепившимся в его лицо. – Скорее! – крикнул Джери-а-Конел, – Это ваш единственный шанс! И мой тоже! Элрик взглянул на Корума. – Он мудр, друзья, – сказал Корум. – Он знает многое, что неведомо нам. Я встану в центре. Эрекозе взял мускулистой рукой руку Корума, Элрик сделал то же самое, встав с другой стороны. Эрекозе левой рукой вытащил меч, а Элрик правой извлек Буревестник. И тут что-то начало происходить. Ощущение силы вернулось, затем возникло чувство физического благополучия. Элрик посмотрел на товарищей и рассмеялся. Впечатление было такое, будто, соединив силы, они стали в четыре раза сильнее, словно они стали одной сущностью. Какое-то особое чувство торжества переполнило Элрика, и он понял, что Эрекозе говорил правду: они трое – три воплощения одного существа. – Покончим же с ними, – закричал он и увидел, что они прокричали те же слова. Смеясь, соединенная тройка шагнула в комнату, и два меча теперь разили с первого удара – убивали быстро и пополняли запасы энергии их владельцев. Крылатые тигролюди обезумели, они, хлопая крыльями, носились по комнате, а Трое, которые Одно, преследовали их. Все трое были в крови – как в своей собственной, так и врагов, все трое смеялись, неуязвимые, действуя как одно существо. По мере их продвижения сама комната стала сотрясаться. Они услышали вопль Войлодиона Гхагнасдиака: – Башня! Башня! Это уничтожит башню! Зарубив последнего монстра, Элрик поднял голову. Башня и в самом деле бешено раскачивалась из стороны в сторону, как корабль в бурю. Джери-а-Конел метнулся мимо карлика и вошел в комнату смерти. Вид, открывшийся ему, вызвал у него приступ тошноты, но он взял себя в руки. – Это правда. Колдовство, которое мы сотворили сегодня, должно привести к такому результату. Мурлыка, ко мне! Существо, сидевшее на лице карлика, взмыло в воздух и приземлилось на плече Джери. Элрик увидел, что это маленький черно-белый кот, совершенно обыкновенный, если не считать крыльев, которые в этот момент он складывал у себя за спиной. Войлодион Гхагнасдиак сидел, сгорбившись, в дверях, и слезы текли у него из глаз. Это были кровавые слезы. Элрик, разорвав связь с Корумом, бросился в соседнюю комнату. Он выглянул в узкое окно, но не увидел ничего, кроме безумного круговращения розовато-лиловых и пурпурных облаков. – Мы в Лимбе! – вырвалось у него. В комнате воцарилась тишина. Башня по-прежнему раскачивалась. Огни погасли, потому что по башне гулял какой-то странный ветер и свет поступал только снаружи, где продолжал клубиться туман. Джери-а-Конел подошел к Элрику, стоящему у окна, и нахмурился. – Откуда ты знал, что нам нужно делать? – спросил его Элрик. – Я знал, потому что знаю тебя, Элрик из Мелнибонэ, как я знаю Эрекозе, потому что я путешествую по разным эпохам и разным мирам. Поэтому меня иногда называют спутником воителей. Я должен найти свой меч и сумку… и еще шляпу. Все это наверняка в подвале Войлодиона вместе с другими его трофеями. – А башня? Если она погибнет, разве мы не погибнем вместе с ней? – Это возможно. Идем, друг Элрик, поможешь мне искать мою шляпу. – Ты в такое время собираешься искать шляпу? – Да. – Джери-а-Конел вернулся в большую комнату, поглаживая черно-белого кота. Войлодион Гхагнасдиак был все еще там, он продолжал плакать. – Принц Корум, Эрекозе, пойдемте со мной. Корум и черный гигант присоединились к Элрику. Они протиснулись в узкий проход, по которому с трудом продвигались вперед, пока он не расширился, и они увидели перед собой лестницу, ведущую вниз. Башня снова стала сотрясаться. Джери зажег факел и вытащил его из держателя на стене. Он начал спускаться, три героя следовали за ним. С крыши вывалился кусок кладки и рухнул на ступени перед самым носом у Элрика. – Я бы поискал какой-нибудь способ выбраться из башни, – сказал он Джери-а-Конелу. – Если она сейчас рухнет, то мы будем погребены под обломками. – Доверься мне, принц Элрик, – Кроме этого, Джери ничего не сказал. Но поскольку Джери уже продемонстрировал свои немалые знания, Элрик позволил этому франту и дальше вести их в чрево башни. Наконец они оказались в помещении круглой формы, в стене которого была огромная металлическая дверь. – Подвал Войлодиона Гхагнасдиака, – сказал им Джери. – Здесь вы найдете все, что ищете. А я надеюсь найти здесь свою шляпу. Эта шляпа была сделана специально для меня, и, кроме нее, к моей одежде ничего не подходит… – А как мы откроем такую дверь? – спросил Эрекозе. – Она ведь наверняка из стали. – Он поднял черный клинок, который так и не выпускал из левой руки. – Если вы снова возьметесь за руки, друзья, – сказал Джери, выказывая полушутливое почтение к героям, – то я вам покажу, как можно открыть эту дверь. И снова Элрик, Корум и Эрекозе схватились за руки. И опять их тела налились сверхъестественной силой, и они рассмеялись друг другу, зная, что они – часть одного и того же существа. Голос Джери слабо донесся до ушей Элрика. – Принц Корум, если ты ударишь ногой по двери… Они подошли к двери. Та их часть, которая была Корумом, ударила ногой по двери, и дверь ввалилась внутрь, словно была сделана из тонкого картона. На этот раз Элрику гораздо меньше хотелось разрывать соединение, делавшее их одним существом. Однако он все же разъединился с Корумом и Эрекозе, когда Джери, шагнув в подвал, усмехнулся чему-то про себя. Башня накренилась. Все трое ввалились следом за Джери в подвал Войлодиона Гхагнасдиака. Элрик больно ударился об огромный золотой стул вроде тех, что используются в слоновьих седлах. Он оглянулся. В подвале было полно ценных вещей, одежды, обуви, оружия. Тошнота подступила к горлу, когда он подумал о том, что все это принадлежало людям, которых Войлодион Гхагнасдиак называл своими гостями. Из-под кипы мехов Джери вытащил какой-то сверток. – Взгляни, принц Элрик. Тебе это понадобится в Танелорне. – Это была связка длинных палочек, обернутых в тонкие металлические листы. Элрик взял тяжелую связку. – Что это? – Это бронзовые знамена и кварцевые стрелы. Полезное оружие против людей-рептилий Пио и их скакунов. – Ты знаешь об этих рептилиях? Ты и Телеба К’аарну знаешь? – Пантангианского колдуна? Знаю. Элрик чуть ли не с подозрением посмотрел на Джери-а-Конела. – Откуда тебе все это известно? – Я тебе уже сказал. Я прожил много жизней как друг героев. Развяжи эту связку, когда вернешься в Танелорн. Кварцевыми стрелами пользуйся как копьями. А чтобы использовать бронзовые знамена, просто разверни их. Вот она! – Джери протянул руку и из-за мешка с драгоценностями вытащил довольно пыльную шляпу. Он стряхнул пыль и надел шляпу на голову. – Ух ты! – Он снова наклонился, поднял кубок и предложил его принцу Коруму. – Держи, в хозяйстве пригодится. Из другого угла Джери извлек небольшой мешок и закинул его на плечо. Потом, словно спохватившись, порылся в сундуке с драгоценностями и вытащил сверкающее кольцо из какого-то необыкновенного металла и с неизвестным камнем. – Это твое вознаграждение, Эрекозе, за то, что помог освободить меня из заточения. Эрекозе улыбнулся. – У меня такое чувство, что никакая помощь тебе была не нужна, молодой человек. – Ты ошибаешься, друг Эрекозе. Я думаю, что никогда еще не подвергался такой опасности. Он оглядел подвал и едва сохранил равновесие, когда пол угрожающе накренился. Элрик сказал: – Нам нужно выбираться отсюда. – Именно. – Джери-а-Конел опрометью метнулся к дальнему углу подвала. – Последнее. Войлодион Гхагнасдиак в своей гордыне показывал мне свои сокровища, но он не знал ценности многих из них. – Что ты имеешь в виду? – спросил Принц в Алой Мантии. – Он убил путешественника, у которого было с собой вот это. Путешественник был прав, считая, что у него есть средство, с помощью которого можно предотвратить исчезновение башни, только он не успел им воспользоваться – Войлодион Гхагнасдиак убил его. – Джери поднял небольшой жезл цвета блеклой охры. – Вот он. Рунный Посох. Он был у Хоукмуна, когда я вместе с ним отправился в Темную империю… Увидев недоумение на лицах троих, Джери-а-Конел, спутник воителей, извинился: – Прошу прощения. Я иногда забываю, что не все мы помним другие жизни… – Что такое Рунный Посох? – спросил Корум. – Я помню одно описание, но я плохо умею объяснять… – Я это уже успел заметить, – с улыбкой сказал Элрик. – Это предмет, который может существовать только в условиях определенных пространственных и временных законов. Чтобы продолжать существование, он должен создавать вокруг себя поле, в котором он и может сохраняться. Это поле должно согласовываться с этими законами – кстати, теми же, что наиболее благоприятны для нашего выживания. Упал еще один кусок кладки. – Башня разрушается! – проворчал Эрекозе. Джери погладил жезл цвета блеклой охры. – Прошу вас, подойдите ко мне поближе, друзья. Три героя встали вокруг него. В этот момент обрушилась крыша. Но она не упала на них, потому что они неожиданно оказались на твердой земле и на чистом воздухе. Но вокруг них царила чернота. – Не выходите за пределы этой области, – предупредил их Джери, – иначе вы будете обречены. Пусть Рунный Посох найдет то, что ищем мы. Они увидели, как земля изменила окраску, воздух стал теплее, потом холоднее. Они словно бы перемещались по мультивселенной из измерения в измерение, но видели не больше нескольких футов земли у себя под ногами. Вдруг они ощутили горячий песок пустыни, и Джери закричал: – Сейчас! Все вместе они ринулись в окружающую черноту и тут же оказались на солнечном свету под небом цвета кованого металла. – Пустыня, – пробормотал Эрекозе. – Бескрайняя пустыня… Джери улыбнулся. – Ты ее узнаешь, друг Элрик? – Это Вздыхающая пустыня? – Прислушайся. И Элрик услышал знакомый звук ветра, который скорбно обходил свои пустынные владения. Немного в стороне он увидел Рунный Посох – там, где они его оставили. Потом он исчез. – Вы все пойдете со мной защищать Танелорн? – спросил он у Джери. Джери отрицательно покачал головой. – Нет. Мы поступим иначе. Мы должны отыскать машину, которую с помощью Владык Хаоса привел в действие Телеб К’аарна. Где она? Элрик попытался сориентироваться. Он неуверенно показал направление. – Мне кажется, там. – Тогда пойдем туда. – Но я должен попытаться помочь Танелорну. – Ты должен уничтожить эту машину, после того как мы ею воспользуемся, друг Элрик. Иначе Телеб К’аарна или кто-нибудь другой, подобный ему, попытается употребить ее в своих целях. – Но Танелорн… – Я думаю, что Телеб К’аарна и его рептилии еще не добрались до города. – Не добрались? Но ведь прошло столько времени! – Меньше дня. Элрик потер лицо. Неохотно он сказал: – Ну, хорошо, я отведу вас к этой машине. – Но если Танелорн так близко, зачем искать его где-то в другом месте? – сказал Корум Джери. – Это не тот Танелорн, что мы ищем, – ответил ему Джери. – Меня он устроит, – сказал Эрекозе. – Я останусь с Элриком. А потом, может быть… Гримаса страха исказила Джери лицо. Он с печалью в голосе сказал: – Мой друг… уничтожение уже угрожает большой части времени и пространства. Извечные барьеры могут скоро пасть… ткань мультивселенной может разрушиться. Ты не понимаешь. То, что произошло в Исчезающей башне, может произойти только раз или два на протяжении вечности, но даже и тогда оно опасно для всех участников событий. Ты должен делать то, что говорю я. Я обещаю тебе, что у тебя будет неплохой шанс найти Танелорн и в том месте, куда я тебя отведу. Твои возможности связаны с будущим Элрика. Эрекозе опустил голову. – Хорошо. – Идем, – нетерпеливо сказал Элрик, направляясь на северо-восток. – Сколько бы ты ни говорил о времени, у меня его осталось совсем немного.Глава шестая Крик Белого Владыки под солнцем
Машина в стеклянном резервуаре оставалась там, где Элрик видел ее в последний раз, перед тем как попытался ее разбить и оказался в мире Корума. Казалось, что Джери прекрасно знает, как обращаться с этой машиной, и скоро ее сердце начало сильно биться. Он подозвал двух других поближе и сказал им, чтобы они встали спиной к кристаллу. Потом он протянул что-то Элрику. Это был флакон. – Когда нас здесь не будет, – сказал он, – кинь это в емкость, потом садись на своего коня, которого я вижу вон там, и гони во всю прыть в Танелорн. Строго следуй этим инструкциям, и ты послужишь всем нам. Элрик взял флакон. – Хорошо. – И передай мой привет моему брату Мунгламу, – сказал Джери, присоединяясь к двум другим. – Что? Ты знаешь его? – Прощай, Элрик! Мы непременно встретимся, и еще не раз, хотя, возможно, и не узнаем друг друга. Пульсации машины в резервуаре стали громче, земля затряслась, странная темнота окутала емкость, и тут три фигуры исчезли. Элрик подбросил склянку вверх, чтобы она попала в горловину, и побежал к своей золотистой кобыле. Он вскочил в седло, держа под мышкой связку, которую ему вручил Джери, и во весь опор поскакал к Танелорну. За его спиной пульсации неожиданно прекратились, и повисла напряженная тишина. Потом Элрик услышал что-то вроде вздоха гиганта, и пустыню заполнил ослепляющий синий свет. Он оглянулся. Исчез не только стеклянный резервуар с машиной – исчезли даже скалы, которые были вокруг. Наконец он догнал их – они были уже у самых стен Танелорна. На стенах Элрик увидел воинов. Огромные рептилии несли на своих спинах не менее отвратительных погонщиков, их ноги оставляли глубокие следы в песке. Впереди на гнедом жеребце скакал Телеб К’аарна, и поперек его седла лежало что-то, укрытое куском материи. Потом над головой Элрика появилась какая-то тень, и он посмотрел вверх. Это была металлическая птица, но Мишеллы он на ней не увидел. Птица кружила над неуклюже двигающимися рептилиями, чьи погонщики поднимали свое странное оружие и пускали в нее шипящие огненные стрелы, но птица, избегая их, поднималась все выше и выше. Что здесь делала птица и куда девалась Мишелла? Из металлического горла снова и снова вырывался характерный крик, и Элрик понял, что он напоминает, – так кричит птичья самка, когда ее дети находятся в опасности. Элрик впился глазами в тюк, лежащий на седле Телеба К’аарны, и тут его осенило. Да ведь это же Мишелла! Она, несомненно, решила, что Элрик погиб, и попыталась противостоять Телебу К’аарне, но, конечно же, потерпела поражение. Гнев закипел в альбиносе. Вся его ненависть к колдуну загорелась в нем с новой силой, и рука его ухватилась за эфес меча. Но потом он снова взглянул на уязвимые стены Танелорна, на своих храбрых товарищей наверху, и понял, что первым делом обязан помочь им. Но как ему попасть на стену – ведь Телеб К’аарна увидит его и уничтожит, прежде чем он успеет доставить бронзовые знамена своим друзьям. Он приготовился дать шпоры своей кобыле и прорваться к городу, надеясь, что ему повезет. Над его головой снова мелькнула тень, и он увидел, что металлическая птица опустилась совсем низко, а в ее изумрудных глазах застыла боль. Он услышал ее голос: – Принц Элрик, мы должны спасти ее. Птица села на песок. Элрик покачал головой и сказал: – Сначала я должен спасти Танелорн. – Я помогу тебе, – сказала птица из золота, серебра и меди. – Забирайся в мое седло. Элрик бросил взгляд на монстров вдалеке. Их внимание было целиком поглощено городом, который они намеревались уничтожить. Он соскочил с лошади и тут же запрыгнул в ониксовое седло на спине птицы. Взмах крыльев – и птица, взмыв в воздух, направилась к Танелорну. Когда они приблизились к городу, вокруг них зашипели огненные стрелы, но птица, умело маневрируя, смогла их избежать. Они стали спускаться к благородному городу, и вскоре птица села на стену. – Элрик! – По стене к Элрику бежал Мунглам. – Нам сказали, что ты мертв! – Кто сказал? – Мишелла и Телеб К’аарна, когда он требовал, чтобы мы сдались. – Они только так думали, – сказал Элрик, разделяя палки, на которые были намотаны тонкие бронзовые листы. – Берите эти штуки. Мне сказали, что они способны защитить от рептилий Пио. Разверните их вдоль стены. Привет, Ракхир. – Он протянул одно из знамен изумленному лучнику. – Ты не останешься, чтобы сражаться с нами? – спросил Ракхир. Элрик посмотрел на двенадцать тонких стрел у себя в руке. Каждая была вырезана из многоцветного кварца с таким искусством, что даже оперение казалось настоящим. – Нет, – сказал он. – Я должен спасти Мишеллу из рук Телеба К’аарны. И потом, лучше я воспользуюсь этими стрелами с воздуха. – Мишелла обезумела, когда узнала, что ты умер, – сказал ему Ракхир. – Она попыталась использовать разные заклинания против Телеба К’аарны, но он сумел противостоять им. И тогда она бросилась на него прямо из седла этой птицы – бросилась, вооруженная одним только ножом. Но он оказался сильнее и теперь грозится покончить с ней, если мы не позволим убить себя без всякого сопротивления. Я уверен, что он так или иначе убьет Мишеллу. Я не представляю, что делать… – Надеюсь, я представляю, – сказал Элрик, погладив металлическую шею птицы. – Полетели, мой друг. И помни, Ракхир, – знамена должны быть развернуты вдоль стен, как только я наберу достаточную высоту. Красный лучник кивнул, хотя выражение у него на лице было при этом недоуменным. А Элрик снова поднялся в воздух, сжимая в левой руке кварцевые стрелы. Он услыхал смех Телеба К’аарны внизу. Он увидел, как чудовищные рептилии неумолимо надвигаются на город. Внезапно ворота в городской стене открылись, и из них появилась группа всадников. Они, судя по всему, решили пожертвовать собой, чтобы попытаться спасти Танелорн, а Ракхир не успел им сообщить о появлении Элрика. Всадники, размахивая мечами и копьями, галопом поскакали на чудовищных рептилий Пио. Их крики достигали ушей Элрика высоко в небесах. Монстры зарычали и разинули огромные пасти, их погонщики подняли свои хитроумные орудия и нацелили на защитников Танелорна. Из раструбов вырвалось пламя, всадники пронзительно закричали, и огонь поглотил их. Элрик, объятый ужасом, направил металлическую птицу вниз. И тут Телеб К’аарна увидел его и дал шпоры своему коню. Его глаза расширились от гнева и страха. – Ты мертв! Ты мертв! Огромные крылья били воздух – птица повисла над головой Телеба К’аарны. – Я жив, Телеб К’аарна, и я пришел, чтобы наконец-то уничтожить тебя! Отдай мне Мишеллу! На лице колдуна появилось коварное выражение. – Нет! Уничтожь меня – и она тоже погибнет. Создания Пио, обрушьтесь всей силой на Танелорн! Сметите его с лица земли и покажите этому глупцу, на что мы способны! Каждый из погонщиков рептилий направил свое странное орудие на Танелорн, на стене которого ждали Ракхир, Мунглам и остальные защитники города. – Нет! – закричал Элрик. – Ты не посмеешь… На стене что-то засверкало. Защитники разворачивали бронзовые знамена, и каждое, развернувшись, начинало испускать чистое золотое сияние, и наконец образовалась огромная стена света, протянувшаяся вдоль всей черты города. Из-за этого света были не видны ни знамена, ни люди, их державшие. Исчадия Пио нацелили свои орудия и выпустили огненные струи, но световая стена тут же отразила их. Лицо Телеба К’аарны от гнева стало багровым. – Это что такое? Ни одно земное колдовство не может выстоять против мощи Пио! Элрик улыбнулся безумной улыбкой. – Это не наше колдовство – оно из другого мира, и оно может противостоять Пио! А теперь, Телеб К’аарна, отпусти Мишеллу! – Нет. Если Танелорн и защищен, то ты – нет. Создания Пио, уничтожьте его! Когда Элрик увидел, что огненные орудия нацеливаются на него, он метнул первую из кварцевых стрел. Она полетела прямо в лицо погонщику первой рептилии. Из горла погонщика вырвался высокий визг, он поднял свои перепончатые лапы к стреле, вонзившейся ему в глаз. Тварь, на которой сидел погонщик, поднялась на дыбы – стало понятно, что она почти перестала повиноваться наезднику. Она отвернулась от ослепляющего света, от Танелорна и, сотрясая землю, поскакала в пустыню, а мертвый наездник свалился с ее спины. Огненная струя прошла рядом с Элриком, и он был вынужден поднять птицу повыше. Он метнул еще одну стрелу и увидел, как она поразила погонщика прямо в сердце. И эта рептилия тоже, потеряв наездника, последовала в пустыню за предыдущей. Но оставалось еще десять всадников, и все они обратили свое оружие против Элрика. Однако вести прицельный огонь им было затруднительно, поскольку монстры под ними стали проявлять беспокойство, они явно желали последовать в пустыню за двумя первыми рептилиями. Элрик предоставил металлической птице самой маневрировать между лучами огня, затем метнул еще одну стрелу, а за ней еще. Его волосы и одежда были опалены, и он вспомнил, как на этой же птице летел над Кипящим морем. Часть нижнего оперения на правом крыле птицы расплавилась, и ее полет стал неустойчивым. Но она продолжала то набирать высоту, то пикировать, а Элрик продолжал метать кварцевые стрелы в ряды созданий Пио. Наконец остались только две твари, которые предпочли обратиться в бегство, потому что там, где прежде стоял Телеб К’аарна, возникло облако неприятного синего дыма. Элрик метнул две оставшиеся стрелы в рептилий Пио и поразил погонщиков в спины. Теперь на песке остались только мертвые тела. Синий дым рассеялся, и Элрик увидел лошадь Телеба К’аарны. И он увидел еще одно тело. Это было тело Мишеллы, Императрицы Рассвета. У нее было перерезано горло. Телеб К’аарна исчез, явно прибегнув к колдовству. Опечаленный Элрик спустился на металлической птице. Сияние на стенах Танелорна погасло. Элрик спрыгнул на землю и увидел, что из изумрудных глаз птицы текут темные слезы. Он встал на колени подле Мишеллы. Обычный смертный не смог бы этого сделать, но она открыла губы и заговорила, хотя кровь текла из ее рта, а слова, что она произносила, было трудно разобрать. – Элрик… – Ты выживешь? – спросил ее Элрик. – У тебя остались силы, чтобы… – Я не выживу. Я убита. Я мертва уже сейчас. Но тебя немного утешит, если я тебе скажу, что Телеб К’аарна вызвал недовольство великих Владык Хаоса. Они больше никогда не будут помогать ему, как помогали в этот раз. В их глазах он показал свою несостоятельность. – Куда он исчез? Я отправлюсь за ним в погоню. В следующий раз я его прикончу, клянусь! – Я тоже так думаю. Но я не знаю, куда он направился. Элрик, я мертва, и дело моей жизни под угрозой. Я много веков сражалась с Хаосом, но сейчас, думаю, Хаос будет наращивать свои силы. Скоро произойдет великое сражение между Владыками Закона и Владыками Энтропии. Нити судьбы перепутались между собой… сама структура мультивселенной, кажется, созрела для изменений. Ты сыграешь в этом свою роль… свою роль… Прощай, Элрик! – Мишелла! – Она умерла? – раздался печальный голос металлической птицы. – Да. – Элрик с трудом выдавил из себя это слово. – Тогда я должна отнести ее назад в Канелун. Элрик осторожно поднял окровавленное тело Мишеллы, поддерживая рукой голову, почти отделенную от тела. Он положил мертвую волшебницу на ониксовое седло. Птица сказала: – Больше мы не увидим друг друга, принц Элрик, потому что моя смерть последует вскоре за смертью моей хозяйки Мишеллы. Элрик опустил голову. Птица расправила свои сияющие крылья, раздались звуки, напоминающие удары цимбал, и птица поднялась в воздух. Элрик смотрел, как это прекрасное существо сделало круг по небу, потом повернулось и полетело на юг к Краю Мира. Элрик спрятал лицо в ладони, но слез у него не было. Неужели судьбой всех женщин, которых он имел несчастье полюбить, становится смерть? Осталась бы Мишелла жить, если бы позволила ему умереть, как он того хотел? В нем не было гнева, только отчаяние бессилия. Он почувствовал чью-то руку на своем плече и повернулся. У него за спиной стоял Мунглам, а рядом с ним – Ракхир. Они выехали за стены Танелорна, чтобы найти Элрика. – Знамена исчезли, – сказал ему Ракхир. – И стрелы тоже. Остались только тела этих существ. Мы их закопаем. Ты вернешься с нами в Танелорн? – Танелорн не принесет мне покоя, Ракхир. – Пожалуй, ты прав. Но у меня дома есть снадобье, которое притупит некоторые из твоих воспоминаний, поможет тебе забыть часть того, что ты пережил за последнее время. – Я буду тебе благодарен за него, хотя и сомневаюсь… – Оно подействует. Я тебе обещаю. Кто-нибудь другой, отведав его, забыл бы все, но ты можешь надеяться лишь на то, чтобы забыть хотя бы немногое. Элрик вспомнил о Коруме, Эрекозе и Джери-а-Конелле, об их общей судьбе и подумал, что даже если и умрет, то родится в новой инкарнации, чтобы снова сражаться и страдать. Вечность борьбы и боли. Если бы он смог забыть это знание, то и этого было бы достаточно. У него возникло желание как можно скорее оставить Танелорн, уехать как можно дальше от него и посвятить себя каким-нибудь мелочным человеческим заботам. – Я так устал от богов и их борьбы, – пробормотал он, садясь на золотистую кобылу. Мунглам устремил взгляд в бесконечную пустыню. – Интересно, устанут ли когда-нибудь боги от своей борьбы? – сказал он. – Если это произойдет, то вот будет счастливый день для человека. Возможно, все наши сражения, все наши страдания и неурядицы – всего лишь способ избавления от скуки Владык Высших Миров. Может быть, именно поэтому они создали нас несовершенными. Они направились в сторону Танелорна, а ветер печально застонал в песках пустыни. Песок уже начал засыпать тела тех, кто хотел развязать войну против вечности и неизбежно открыл для себя иную вечность, которая зовется смертью. Некоторое время Элрик скакал бок о бок с остальными. С его губ готово было сорваться имя, но так и осталось непроизнесенным. И вдруг он, вытащив из ножен рунный меч, пустил кобылу галопом к Танелорну. Меч затянул свою песню, а Элрик угрожающе размахивал им, обращаясь к безразличным небесам. Кобыла встала на дыбы, колотя копытами воздух, а Элрик кричал и кричал голосом, полным отчаяния и гнева: – Будьте вы прокляты! Прокляты! Прокляты! Но те, кто его слышал, – а возможно, среди них были и боги, к которым он обращался, – знали, что на самом-то деле проклят именно он, Элрик из Мелнибонэ.Майкл Муркок Похититель Душ
Недолго Роза оставалась с Элриком в Танелорне, наконец пришло время прощания. Вскоре после ее ухода Элрик и Мунглам решили, что пора снова отправиться в странствия.
Глава первая
Как-то вечером в городе Бакшаан, который роскошью своей затмевал все другие города северо-востока, в таверне свысокими башнями, Элрик, властелин дымящихся руин Мелнибонэ, улыбаясь, как акула, вел полушутливую беседу с четырьмя влиятельными торговцами, которых собирался через денек-другой ограбить. Мунглам Чужеземец, друг Элрика, поглядывал на высокого альбиноса и с восхищением, и с тревогой: Элрик редко шутил, и уж если он позволял себе это с представителями славного купеческого цеха, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Мунглам гордился дружбой с Элриком и спрашивал себя, к чему может привести эта встреча. Ведь Элрик, как всегда, не посвятил Мунглама в свои планы. – Нам нужны твои способности воина и чародея, владыка Элрик, и мы, конечно же, неплохо заплатим тебе. – Костлявый Пилармо, эксцентричный и пышно разодетый, говорил от имени всех четверых. – И как же вы собираетесь оплатить мои услуги? – вежливо спросил Элрик, не переставая улыбаться. Спутники Пилармо подняли брови, и даже сам он не скрывал удивления. Он помахал рукой в прокуренном воздухе таверны, где, кроме них шестерых, никого не было. – Золотом… драгоценными камнями, – ответил Пилармо. – То есть – цепями, – сказал Элрик. – Но нам, свободным путешественникам, не нужны цепи такого рода. Мунглам подался вперед из тени, где сидел. По его лицу было видно, что он совсем не одобряет заявление Элрика. Пилармо и другие купцы тоже были разочарованы. – А что же ты хочешь от нас получить? – Я еще подумаю об этом, – улыбнулся Элрик. – Для таких разговоров время пока не наступило. Что потребуется от меня? Пилармо кашлянул и переглянулся со своими спутниками. Те кивнули. Пилармо понизил голос и заговорил, произнося каждое слово медленно и раздельно: – Тебе известно, что соперничество между торговцами в этом городе очень сильно, владыка Элрик. Многие купцы соперничают друг с другом, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Бакшаан – богатый город, и его население процветает. – Это всем известно, – сказал Элрик. Он тайком уподоблял богатых жителей Бакшаана овцам, а себя – волку, который собирается наведаться в отару. Из-за этих-то мыслей и светились весельем его алые глаза. Мунглам хорошо знал, каким жестоким и циничным может быть юмор Элрика. – В городе есть один купец, которому принадлежит больше складов и лавок, чем другим, – продолжал Пилармо. – Его караваны всегда велики и всегда хорошо охраняются, а потому он привозит в Бакшаан больше товаров, чем другие, и может продавать их по низким ценам. По сути он – вор, он разорит нас всех своими нечестными приемами. – Пилармо выглядел искренне уязвленным. – Ты говоришь о Никорне из Илмара? – спросил из-за спины Элрика Мунглам. Пилармо молча кивнул. Элрик нахмурился: – Этот человек сам водит свои караваны – он бросает вызов опасностям пустыни, леса и гор. Он сам всего добился в жизни. – Дело вовсе не в этом, – отрезал толстый Тормиел. Он был весь в кольцах и пудре, а его жирное тело сотрясалось при каждом слове. – Конечно. – Сладкоголосый Келос утешительно похлопал товарища по руке. – Мы все восхищаемся его смелостью. Купцы покивали. Молчаливый Дейнстаф, последний из четверки, кашлянул и покачал косматой головой. Он положил дряблые пальцы на усыпанный драгоценностями эфес дорогого, практически бесполезного кинжала и распрямил плечи. – Но, – продолжал Келос, взглянув на Дейнстафа, – Никорн ничем не рискует, продавая товары дешево. Он разоряет нас низкими ценами. – Никорн у нас как заноза в теле, – без всякой нужды уточнил Пилармо. – И вы, господа, хотите, чтобы мы с моим другом вытащили эту занозу? – сказал Элрик. – Коротко говоря, да. Пилармо обильно потел. Казалось, улыбка альбиноса вызывает у него нешуточную тревогу. Об Элрике, о его великих и ужасных подвигах ходило множество удивительных легенд. Они искали помощи Элрика только потому, что положение было отчаянным. Им нужен был кто-то, одинаково искушенный как в колдовской науке, так и во владении мечом. Появление Элрика в Бакшаане сулило спасение. – Мы хотим уничтожить могущество Никорна, – продолжил Пилармо. – А если это означает и уничтожение самого Никорна, что ж… – Он пожал плечами и улыбнулся едва заметной улыбкой, не спуская глаз с лица Элрика. – Нанять в Бакшаане обычного убийцу не так уж трудно, – заметил Элрик. – Это верно, – согласился Пилармо. – Но Никорн пользуется услугами чародея. И у него есть собственная армия. Чародей защищает и самого купца, и его дворец силами магии. А стража, набранная из жителей пустыни, обеспечивает безопасность обычными методами на тот случай, если магия окажется бессильной. Наемные убийцы уже пытались устранить Никорна, но, к несчастью, им не повезло. Элрик рассмеялся. – Прискорбно, друзья мои. Но ведь наемные убийцы – отбросы нашего мира. Что уж их жалеть. Возможно, их души услаждают какого-нибудь демона, который иначе преследовал бы более порядочных людей. Купцы натужно рассмеялись, да и Мунглам на своем месте, в тени, ухмыльнулся, услышав такое. Элрик налил всем вина. Это вино находилось под запретом в Бакшаане. Тому, кто выпьет его в достаточно большом количестве, грозило сумасшествие. Однако Элрик выпил уже немало, а на нем это никак не сказывалось. Воин-чародей поднес к губам очередную чашу с золотистым напитком, осушил ее – и удовлетворенно вздохнул, когда вино попало в желудок. Другие отхлебнули лишь чуть-чуть. Купцы уже сожалели, что поспешили обратиться к альбиносу: в них росла уверенность, что легенды не просто говорили правду – они еще и преуменьшали возможности этого человека со странными глазами, которого они намеревались использовать. Элрик плеснул себе еще желтого вина. Его руки чуть подрагивали, а сухой язык быстро облизнул губы. Дыхание его участилось, когда он пригубил чашу и напиток полился в горло. Выпитого им с избытком хватило бы, чтобы превратить любого другого в слюнявого идиота. На Элрика же вино почти не действовало. Это вино предназначалось для тех, кто хотел видеть сны о нереальных мирах. Элрик же пил его для того, чтобы не видеть никаких снов – хотя бы одну ночь. Он спросил: – И кто же этот могущественный чародей, господин Пилармо? – Его зовут Телеб К’аарна, – нервно ответил Пилармо. Глаза Элрика сузились. – Чародей с Пан-Танга? – Да, он с этого острова. Элрик поставил на стол чашу, поднялся, трогая пальцами черную сталь рунного меча по имени Буревестник, и твердо сказал: – Я помогу вам, господа. Он принял решение не грабить этих купцов. В голове у него созревал новый, куда более важный план. «Вот, значит, где ты устроил себе нору, Телеб К’аарна. В Бакшаане, да?» – медленно произнес он про себя.Телеб К’аарна хихикнул. Для столь могущественного чародея подобные звуки были просто неприличны. Смешок этот никак не отвечал и его мрачной наружности – черной бороде, высокой фигуре, алому одеянию. Не к лицу такое поведение было и человеку его острого ума. Телеб К’аарна снова хихикнул и перевел мечтательный взгляд на лежащую рядом женщину. Он нашептывал ей на ухо пошлые слова, а она снисходительно улыбалась, поглаживая его длинные черные волосы – так она гладила бы собаку. – Телеб К’аарна, ты настоящий глупец, несмотря на всю свою ученость, – пробормотала она. Ее полуприкрытые глаза разглядывали ярко-зеленые и оранжевые гобелены за его спиной, украшавшие стену спальни. Она предавалась ленивым мыслям о том, что глупо не пользоваться выгодами, которые она получает, когда мужчины попадают под ее чары. – Йишана, ты стерва, – глуповато выдохнул Телеб К’аарна. – Вся ученость мира – ничто рядом с любовью. Я тебя люблю. Говорил он просто, искренне, совсем не понимая женщину, которая лежала рядом с ним. Он углублялся в самые черные глубины ада, но возвращался оттуда в здравом уме, знал тайны, от которых мозг обычного человека превратился бы в студень. Но в некоторых областях он оставался столь же неискушен, сколь и самый юный из его учеников. Искусство любви было одной из этих областей. – Я люблю тебя, – повторил он, спрашивая себя, почему она игнорирует его слова. Йишана, королева Джаркора, оттолкнула от себя чародея и резко поднялась, скинув с дивана прекрасные ноги. Она была красавицей с волосами столь же черными, как и ее душа. Хотя юность ее уже прошла, было в ней что-то такое, что одновременно привлекало и отталкивало мужчин. Она красиво несла на себе многоцветные шелка, и они изящно колыхались, когда она легко шла к зарешеченному окну комнаты. Подойдя, она уставилась в неспокойную темень ночи. Чародей смотрел на нее, недоуменно прищурив глаза. Он был разочарован ее неожиданным порывом. – Что случилось? Королева продолжала смотреть в ночь. Огромное черное облако, похожее на хищного монстра, быстро неслось по разорванному ветром небу. Ночь гневалась на Бакшаан, была полна зловещих предзнаменований. Телеб К’аарна повторил свой вопрос, но снова не получил ответа. Он рассерженно поднялся, подошел к окну и встал рядом с ней. – Уйдем сейчас, Йишана, пока еще не поздно. Если Элрик узнает, что мы в Бакшаане, нам обоим будет худо. Она не ответила. Но грудь ее поднялась под тонкой тканью, а губы сжались. Чародей, схватив ее за руку, прорычал: – Забудь ты об этом наемнике-предателе. У тебя есть я. И я для тебя могу сделать гораздо больше, чем любой размахивающий мечом безумец из погибшей древней империи. Неприятно рассмеявшись, Йишана повернулась к любовнику. – Ты глуп, Телеб К’аарна. А как мужчина ты не идешь ни в какое сравнение с Элриком. Три года я страдаю, после того как он покинул меня, ушел в ночь, преследуя тебя, и оставил меня тосковать по нему. Но я до сих пор помню его неистовые поцелуи, его безумные ласки. Боги! Жаль, что ему нет равных. С тех пор как он ушел, я так и не смогла найти никого подобного, хотя многие пытались, многие, гораздо лучшие чем ты. А потом ты вернулся – и чарами разогнал или перебил их всех. – Она издевательски ухмыльнулась. – Ты слишком много времени провел среди пыльных фолиантов – любовник из тебя никакой. Мышцы лицо у чародея напряглись под загорелой кожей, он осклабился. – Тогда почему же ты не прогонишь меня? Я могу приготовить снадобье, выпив которое ты станешь моей рабой. И тебе это известно! – Но ты этого никогда не сделаешь, а потому это ты – мой раб, могучий волшебник. Когда Элрик угрожал вытеснить тебя из моего сердца, ты вызвал демона, и Элрику пришлось сражаться с ним. Он победил, ты это прекрасно помнишь, но в своей гордости не принял никаких компромиссов. Ты бежал, а он отправился за тобой и оставил меня. Вот что ты сделал! Ты влюблен, Телеб К’аарна! – Она рассмеялась ему в лицо. – И твоя любовь не позволяет тебе использовать против меня твое искусство. Ты его используешь только против моих бывших любовников. Я мирюсь с тобой, потому что иногда ты бываешь полезен. Но если вернется Элрик… Телеб К’аарна отвернулся, в раздражении пощипывая бороду. Йишана сказала: – Да, я ненавижу Элрика – отчасти. Но это все же лучше, чем отчасти любить тебя! Чародей проворчал: – Почему же тогда ты приехала ко мне в Бакшаан? Почему оставила сына своего брата регентом на троне и явилась сюда? Я послал тебе письмо – и ты явилась… Если бы ты меня не любила, то не сделала бы этого. Йишана снова рассмеялась. – Мне стало известно, что по северо-востоку странствует белолицый чародей с малиновыми глазами и поющим рунным мечом. Вот почему я здесь, Телеб К’аарна. Лицо Телеба К’аарны исказилось от гнева. Он наклонился и схватил женщину за плечо когтистой рукой. – Ты что, забыла – этот самый белолицый чародей был причиной смерти твоего брата! – выкрикнул он. – Ты ложишься в постель с человеком, который убил и свою, и твою родню. А когда Владыки драконов нанесли ответный удар, он бросил флот, который привел на разорение своей земли. Твой брат Дхармиг был на одном из этих кораблей, а ныне его обугленное тело гниет на океанском дне. Йишана устало покачала головой. – Ты всегда напоминаешь мне об этом, надеясь пристыдить меня. Да, я принимала того, кто фактически был убийцей моего брата… Но на совести Элрика преступления и пострашнее, а я все равно люблю его, несмотря на это – а может, именно за это. Твои слова напрасны, Телеб К’аарна. А сейчас оставь меня, я хочу спать одна. Когти чародея все еще вонзались в кожу Йишаны. Наконец он ослабил хватку. – Извини, – сказал он срывающимся голосом. – Позволь мне остаться. – Ступай, – тихим голосом сказала она. И Телеб К’аарна, чародей из Пан-Танга, ушел, терзаемый мыслью о собственной слабости. Элрик из Мелнибонэ находился в Бакшаане, и Элрик несколько раз в разных обстоятельствах клялся отомстить Телебу К’аарне – в Лормире, Надсокоре, Танелорне, а еще в Джаркоре. И в сердце своем чернобородый чародей знал, кто одержит победу в любой их схватке.
Глава вторая
Четверо купцов ушли, кутаясь в черные плащи: пусть уж лучше никто не знает о разговоре с Элриком. А Элрик остался размышлять над чашей желтого вина. Он знал, что для захвата замка Никорна ему понадобится особая, мощная поддержка. Взять штурмом этот замок практически невозможно, к тому же он находится под колдовской защитой Телеба К’аарны, а значит, Элрику не обойтись без самой сильной магии. Он знал, что в колдовском искусстве ничуть не уступает Телебу К’аарне, но если он все силы потратит на нейтрализацию чародея, то не сможет пробиться через ряды стражников – воинов пустыни, чьими услугами пользовался купец. Ему нужна была помощь. Он знал, что в лесах к югу от Бакшаана можно найти людей, которые могут ему помочь. Но вот захотят ли? Он решил обсудить ситуацию с Мунгламом. – Я слышал, что отряд моих соотечественников недавно пришел сюда с юга, из Вилмира, где они ограбили несколько городов, – сообщил Элрик другу. – После великого имррирского сражения мелнибонийцы с Драконьего острова рассеялись по всему миру, стали наемниками и разбойниками. А ведь причиной падения Имррира был я, и им это известно. Но если я предложу им богатую добычу, они, возможно, помогут мне. Мунглам сухо усмехнулся. – Я бы на это не рассчитывал, Элрик, – сказал он. – То, что ты совершил, вряд ли может быть забыто, уж прости мне мою откровенность. Твои соотечественники, жители разоренного города, старейшего и величайшего из городов мира, стали скитальцами против воли. Когда Имррир Прекрасный пал, думаю, среди имррирцев было немало таких, кто призывал все несчастья на твою голову. Элрик издал короткий смешок. – Возможно, – согласился он. – Но это мои соплеменники, и я знаю их. Мы, мелнибонийцы, древняя и мудрая раса. Мы редко позволяем эмоциям брать верх над разумом, если это идет во вред нашему благосостоянию. Мунглам поднял брови в иронической ухмылке, и Элрик правильно понял, что тот имеет в виду. – Я некоторое время был исключением, – сказал он. – Но ныне Симорил и мой кузен спят в развалинах Имррира мертвым сном, и мои собственные страдания мстят мне за то зло, что я принес соплеменникам. Думаю, они понимают это. Мунглам вздохнул: – Надеюсь, ты прав, Элрик. И кто же стоит во главе этого отряда? – Мой старый друг, – ответил Элрик. – Он был Владыкой драконов и возглавил атаку на пиратский флот, разоривший Имррир. Его зовут Дивим Твар, прежде он был Повелителем Драконьих пещер. – А что теперь с этими тварями? Где они? – Снова спят в пещерах. Их нельзя будить часто – им нужны многие годы, чтобы восстановить силы и запас яда. Если бы не это, Владыки драконов давно правили бы миром. – Тебе повезло, что дела обстоят именно так, а не иначе, – прокомментировал Мунглам. Элрик медленно проговорил: – Кто знает? Если их поведу я, возможно, они еще станут хозяевами мира. Во всяком случае, мы могли бы создать новую империю в этом мире, как это сделали наши предки. Мунглам ничего не ответил. Он подумал, что завоевать Молодые королевства было бы нелегко. Мелнибонийцы были древними, жестокими и мудрыми, но приходящая со временем болезнь мягкости подточила даже их жестокость. Им не хватало жизненных сил того варварского народа, каким были их предки, строители Имррира и других давно забытых городов. На смену жизненным силам пришла снисходительность-снисходительность, свойственная старости, свойственная тем, у кого дни славы остались в прошлом… – Утром мы поговорим с Дивимом Тваром, – сказал Элрик. – И я надеюсь, то, что он сделал с пиратским флотом, а еще моя больная совесть, которая заставляет меня страдать, послужат тому, чтобы он разумно воспринял мое предложение. – Я, пожалуй, посплю, – сказал Мунглам. – Нужно выспаться. К тому же девчонка, что меня ждет, уже проявляет нетерпение. Элрик пожал плечами. – Как хочешь. Я, пожалуй, выпью еще вина, а спать пойду попозже.Черные тучи, что собрались над Бакшааном прошлой ночью, к утру не рассеялись. Над ними встало солнце, но горожане его не увидели. Оно взошло, никого об этом не извещая, а Элрик с Мунгламом уже ехали узкими улицами под моросящим дождем, направляясь к Южным воротам и лесу за ними. Элрик вместо обычного одеяния надел простую куртку из крашенной в зеленый цвет кожи, на которой был герб королевского рода Мелнибонэ: алый дракон, стоящий на задних лапах на золотом поле. На его пальце было Кольцо Королей, украшенное Акториосом – драгоценным камнем в серебре, испещренном рунами. Это кольцо на протяжении многих веков носили могущественные предки Элрика. На плечах у него был короткий плащ, а синего цвета лосины уходили в высокие черные ездовые сапоги. На боку у Элрика висел Буревестник. Между ним и мечом существовала неразрывная связь. Без меча ему не хватало жизненной силы и он терял остроту зрения. Меч, в свою очередь, без Элрика не получал ни души, ни крови, которые были необходимы для его существования. Они жили бок о бок, меч и человек, и никто не мог сказать, кто из них хозяин. Мунглам, которому плохая погода досаждала больше, чем его другу, кутался в плащ с высоким воротником и время от времени клял капризы стихий. До опушки леса они добрались приблизительно через час. Пока по Бакшаану ходили только слухи о нашествии имррирских разбойников. Раз или два в одной из третьеразрядных таверн у южной стены видели какого-нибудь высокого чужеземца; это появление не оставалось незамеченным, но бакшаанцы чувствовали себя в безопасности в богатстве и силе, а потому убежденно говорили, что Бакшаан может противостоять нападениям куда более яростным, чем те, в результате которых пали более слабые вилмирские города. Элрик понятия не имел, почему его соотечественники прошли такой путь на север до самого Бакшаана. Возможно, они собирались здесь только отдохнуть и на местных базарах превратить награбленное в припасы. Дым от нескольких костров подсказал Элрику и Мунгламу, где расположились мелнибонийцы. Переведя коней на шаг, они направили их в ту сторону. Мокрые ветки хлестали по лицам, а ноздри щекотали запахи леса, освобожденные жизнетворным дождем. С чувством облегчения увидел Элрик часового, который, неожиданно появившись из кустов, преградил им путь. Имррирец был облачен в меха и сталь. Из-под забрала тонко сработанного шлема на Элрика смотрели настороженные глаза. Забрало ухудшало обзор, к тому же по шлему текли капли дождя, а потому он не сразу узнал Элрика. – Стойте! Что вам здесь надо? Элрик нетерпеливо сказал: – Пропусти нас. Я Элрик – твой повелитель, твой император. Часовой испуганно открыл рот и опустил копье с длинным широким наконечником. Он откинул забрало и посмотрел на стоящего перед ним. Все смешанные чувства, одолевавшие часового – недоумение, почтение, ненависть, – легко читались на его лице. Он холодно поклонился. – Тебе здесь не место, мой господин. Ты отказался от своего народа и предал его четыре года назад, и хотя я и признаю кровь королей, которая течет в твоих жилах, я не могу подчиняться тебе и оказывать тебе знаки уважения, которых ты был бы вправе ожидать в другой ситуации. – Конечно, – гордо сказал Элрик, осаживая коня. – Однако пусть твой командир – мой друг детства Дивим Твар – судит, как ему поступить со мной. Отведи меня к нему поскорее, и помни, что мой спутник не причинил вам никакого вреда, а потому относись к нему со всем уважением – как к другу императора Мелнибонэ. Часовой снова поклонился и взял уздечку коня Элрика. Он повел двоих приезжих по тропинке на большую поляну, на которой стояли шатры имррирцев. В центре огромного круга, образованного шатрами, горели костры, на которых готовилась еда, а вокруг них сидели мелнибонийские воины – люди с тонкими чертами лица – и тихо разговаривали. Даже в свете сумеречного дня ткань шатров казалась веселой и яркой. Тона были типично мелнибонийскими – сочный зеленый, лазурный, охра, золото, темно-синий. Цвета эти плавно перетекали друг в друга, смешиваясь между собой. Элрик почувствовал ностальгию по многоцветным башням Имррира Прекрасного, которые он так давно не видел. Когда два спутника и сопровождающий приблизились, удивленные взгляды сидевших обратились к ним, и звук разговоров сменился каким-то бормотанием. – Оставайся здесь, – сказал часовой Элрику. – Я сообщу о тебе Дивиму Твару. Элрик кивнул и твердо уселся в седле, чувствуя на себе взгляды собравшихся воинов. Никто не подошел к нему, а некоторые из тех, кого Элрик прежде знал лично, не скрывали смущения. Они не смотрели на него, а отводили глаза, подбрасывали ветки в костер или вдруг обнаруживали, что их сверкающее оружие нуждается в полировке. Некоторые что-то сердито ворчали, но они оставались в явном меньшинстве. Большинство воинов были откровенно потрясены, но вместе с тем и недоумевали. Что понадобилось в лагере этому человеку, их королю, предавшему их? Наверху самого большого, золотого с алым, шатра было установлено знамя с изображением спящего дракона, синего на белом фоне. Это был шатер Дивима Твара, и из него вышел Владыка драконов, на ходу пристегивая меч; его умные глаза смотрели настороженно и недоуменно. Дивим Твар, чья мать, принцесса, приходилась кузиной матери Элрика, был чуть старше альбиноса и обладал чертами лица типичного мелнибонийского аристократа. У него были высокие точеные скулы, чуть раскосые глаза, узкий череп, еще более сужающийся к челюсти. Как и у Элрика, у него были тонкие, почти без мочек, уши, заостренные книзу. Пальцы рук (левая сейчас покоилась на рукояти меча) были длинные и белые, как и все его тело, хотя и не такие мертвенно-бледные, как у альбиноса. Подойдя к сидящему в седле императору Мелнибонэ, он уже успел взять себя в руки. В пяти футах от Элрика он неторопливо поклонился, наклонив голову и скрыв лицо. Когда он поднял голову, его глаза встретили взгляд Элрика и остались неподвижными. – Дивим Твар, Повелитель Драконьих пещер, приветствует Элрика, властителя Мелнибонэ, толкователя тайных искусств. – Владыка драконов с мрачным видом произнес освященное столетиями ритуальное приветствие. Голос Элрика звучал не так уверенно: – Элрик, властитель Мелнибонэ, приветствует своего вер-ного подданного и согласен дать аудиенцию Дивиму Твару. По древним мелнибонийским правилам король не должен просить аудиенции у одного из подданных, и Владыка драконов знал это. Он ответил: – Окажи мне честь, повелитель, и позволь мне проводить тебя в мой шатер. Элрик спешился и пошел следом за Дивимом Тваром. Мунглам тоже спешился и хотел было идти за Элриком, но тот сделал ему знак рукой – оставайся. Два имррирских аристократа вошли в шатер. Внутри горела маленькая масляная лампа, помогая тусклому дневному свету. Обстановка в шатре была простая: жесткая солдатская койка, стол, несколько резных деревянных стульев. Дивим Твар поклонился и показал на один из стульев. Элрик сел. Несколько мгновений они молчали. Ни один не позволил себе проявить эмоции. Они просто сидели и смотрели друг на друга. Наконец Элрик сказал: – Ты считаешь меня предателем, вором, убийцей соплеменников и родни. Так, Владыка драконов? Дивим Твар кивнул. – Если мой господин позволит, то я соглашусь с ним. – В прошлые времена мы, оставаясь наедине друг с другом, забывали о формальностях, – сказал Элрик. – Давай забудем ритуалы и традиции – Мелнибонэ погибло, его сыновья разбрелись по свету. Мы встречаемся, как прежде – равными. Только теперь мы и в самом деле равны. Совершенно равны. Рубиновый трон лежит среди руин Имррира, и ни один император уже не сядет на него. Дивим Твар вздохнул: – Это так, Элрик… Но зачем ты здесь? Мы хотели забыть тебя. Даже когда желание мести было еще свежо, мы не делали попыток отыскать тебя. Ты пришел, чтобы посмеяться над нами? – Ты знаешь, я бы никогда не сделал этого, Дивим Твар. Я мало сплю, а если все же засыпаю, то мне хочется как можно скорее проснуться. Ты ведь знаешь – то, что я сделал, меня вынудил сделать Йиркун, во второй раз захвативший трон, когда я назначил его регентом, и второй раз наславший на свою сестру волшебный сон. У меня не было иного способа заставить его исправить содеянное им зло и снять чары с Симорил, как только помочь пиратам. Меня вела месть, но убил Симорил не я, а мой меч – Буревестник. – Это мне известно. – Дивим Твар снова вздохнул и потер лицо рукой, на пальцах которой сверкали драгоценные камни. – Но это никак не объясняет, почему ты здесь. Между тобой и твоими соплеменниками не должно быть никаких дел. Мы не доверяем тебе, Элрик. Если бы мы позволили тебе вести нас, то ты пошел бы проклятым путем и погубил бы нас. У нас с тобой нет общего будущего. – Согласен. Но мне нужна ваша помощь. Всего один раз. А потом наши пути снова разойдутся. – Нам следовало бы убить тебя, Элрик. Но что стало бы большим преступлением – наша неспособность восстановить справедливость и покончить с предателем или убийство собственного императора? Ты добавил к моим немалым проблемам еще одну. Стоит ли мне пытаться разрешить ее? – Я всего лишь сыграл свою роль в истории, – серьезно сказал Элрик. – Если бы не я, это же рано или поздно сделало бы само время. Я просто приблизил эти события, спровоцировал их, когда и ты, и наш народ сохраняли еще достаточно гибкости, чтобы принять новый образ жизни. Дивим Твар иронически улыбнулся. – Это только твоя точка зрения, хотя и в ней есть правда. Но как сказать об этом людям, которые из-за тебя потеряли дом и родных? Скажи об этом воинам, у которых на руках остались искалеченные друзья, братья, отцы, скажи об этом мужьям, чьи жены, дочери и сестры – эти гордые мелнибонийки – были обесчещены варварами. – Да. – Элрик опустил глаза. Когда он заговорил снова, голос его звучал спокойно. – Я не могу возместить то, что они потеряли, как бы я ни старался. Я часто тоскую по Имрриру, по его женщинам, по его винам и развлечениям. Но я могу предложить неплохую добычу – самый богатый дворец в Бакшаане. Забудь старые обиды и помоги мне в этот раз. – Тебе нужны богатства Бакшаана, Элрик? Тебя никогда не интересовали драгоценности! Зачем тебе это нужно? Элрик провел руками по своим белым волосам. В его красных глазах блеснула тревога. – Это месть. Снова месть, Дивим Твар. У меня должок одному чародею из Пан-Танга – Телебу К’аарне. Возможно, ты слышал о нем – это довольно сильный колдун, хотя и принадлежит к относительно молодому народу. – Что ж, в таком случае мы поможем тебе, Элрик, – мрачно сказал Дивим Твар. – Ты не единственный мелнибониец, который хочет отдать долг Телебу К’аарне. Год назад один из наших людей погиб страшной и отвратительной смертью из-за этой стервы, королевы Йишаны из Джаркора. Его убил Телеб Каарна, потому что Йишана, искавшая замену тебе, приняла его в свои объятия. Мы можем объединить наши усилия, чтобы отомстить за эту кровь, король Элрик. И эта цель будет подобающим извинением для тех, кто хотел бы пустить кровь тебе. Элрик не испытывал радости. Он вдруг почувствовал, что это счастливое совпадение будет иметь мрачные и непредсказуемые последствия. И все же он улыбнулся.
Глава третья
В дымящейся бездне где-то за границами времени и пространства зашевелилось некое существо. Вокруг него двигались тени. Это были тени человеческих душ, и эти тени, двигавшиеся сквозь сияющую тьму, были хозяевами зашевелившегося существа. Оно позволяло теням командовать им, пока они платили за это оговоренную цену. На языке людей у этого существа было имя. Его звали Кваолнаргн, и оно отзывалось на это имя. И вот оно зашевелилось. Оно услышало свое имя, проникшее сквозь барьеры, которые обычно препятствовали прохождению звука. Когда это имя было названо, в непроницаемых барьерах образовался временный проход. Существо снова зашевелилось, когда во второй раз услышало имя. Существо не знало ни зачем его зовут, ни куда. Оно лишь смутно осознавало сам зов. Когда путь был открыт, оно могло питаться. Оно не ело плоть и не пило кровь. Оно питалось умами и душами взрослых мужчин и женщин. Время от времени оно позволяло себе закуску – лакомые частички невинной жизненной силы, – которую высасывало из детей. Оно не интересовалось животными, потому что те не обладали сознанием. Существо это, несмотря на всю его глупость, было ценителем и гурманом. И вот оно услышало имя в третий раз. Оно шевельнулось и потекло. Приближалось время, когда оно снова могло покормиться… Телеб К'аарна содрогался от ужаса. Он считал себя мирным человеком. И не его вина в том, что беспредельная любовь к Йишане превратила его в безумца. Не его вина, что в его власти были несколько сильных злобных демонов, которые в благодарность за рабов и пленников, что скармливал им Телеб К'аарна, защищали дворец купца Никорна. Он искренне верил, что все это не его вина. Обстоятельства сделали его таким. Он проклинал день, когда встретил Йишану, он хотел бы больше никогда не возвращаться к ней после того прискорбного эпизода у стен Танелорна. Ужас пробирал его, когда он, стоя в центре магической фигуры, вызывал Кваолнаргна. Врожденный дар предвидения позволил ему заглянуть в ближайшее будущее, и он знал, что Элрик готовится к сражению с ним. И теперь Телеб К'аарна использовал все возможности, чтобы вызвать помощь. Нужно послать Кваолнаргна, чтобы он убил Элрика до того, как тот доберется до замка. Телеб К’аарна был рад, что сохранил прядь белых волос – это и позволило ему в прошлом выслать другого, ныне уже мертвого демона против Элрика. Кваолнаргн знал, что приближается к хозяину. Он неторопливо продвигался вперед, ощущая боль по мере вхождения в чуждый ему мир. Кваолнаргн знал, что хозяин где-то рядом, но по какой-то причине остается недостижимым. Что-то упало перед Кваолнаргном, он принюхался и понял, что должен делать. Это была часть его нового блюда. Кваолнаргн благодарно поплыл прочь, намереваясь найти свою жертву, прежде чем боль, неизбежное следствие длительного нахождения в чужом измерении, станет слишком сильной.Элрик ехал во главе отряда соотечественников. Справа от него скакал Дивим Твар, Владыка драконов, слева – Мунглам из Элвера. Следом ехали две сотни воинов, а за ними – повозки с награбленным, военные машины и рабы. Над отрядом развевались гордые знамена, всадники были вооружены имррирскими копьями с характерными удлиненными наконечниками. Воины были облачены в стальные доспехи с длинными наколенниками, в шлемы, наплечники. Нагрудники были отполированы и сверкали, когда распахивались одетые поверх них меховые куртки. Поверх курток воины носили яркие плащи из имррирской ткани, переливавшейся в свете дня. Сразу за Элриком ехали стрелки, вооруженные луками огромной силы, управляться с которыми умели только мелнибонийцы. Тетива на луках пока была ненатянута, а за спинами у них висели колчаны, заполненные стрелами с черным оперением. Далее, наклонив сверкающие копья, чтобы не задевать ими низкие ветви деревьев, следовали копейщики. За ними следовала основная ударная сила – имррирские воины; каждый был вооружен мечом и еще одним колющим оружием – слишком коротким, чтобы называться мечом, и слишком длинным, чтобы называться кинжалом. Отряд двигался в обход Бакшаана, потому что дворец Никорна лежал на севере города. Они ехали молча. Им нечего было сказать. Элрик, их король, вел свой народ в бой впервые за пять лет. Буревестник, Черный Меч, слегка вибрировал под рукой Элрика, предвкушая битву. Мунглам нервничал, побаиваясь грядущей битвы, которая, как он понимал, будет включать черное колдовство. Он испытывал неприязнь к колдовскому искусству и к существам, которых оно порождало, – элверец считал, что мужчины должны сражаться, не прибегая к помощи сверхъестественных сил. В таком нервном напряжении отряд ехал дальше и дальше. Буревестник задрожал на боку у Элрика. Металл издал слабый стон – это было предупреждение. Элрик поднял руку, и отряд остановился. – Что-то движется нам навстречу, и справиться с этим могу только я, – сказал он воинам. – Я поеду вперед. Элрик дал шпоры коню, переведя его в осторожный галоп. Он внимательно смотрел вперед. Голос Буревестника стал громче, резче, наконец меч издал приглушенный вопль. Лошадь дрожала, нервы Элрика тоже были на взводе. Он не ожидал нападения так скоро и молился, чтобы зло, притаившееся в лесу, поджидало не его. – Ариох, будь со мной, – выдохнул он. – Помоги мне сейчас, и я посвящу тебе дюжину воинов. Помоги мне, Ариох. Ужасное зловоние ударило в ноздри Элрику. Он закашлялся и закрыл рот руками, пытаясь глазами отыскать источник запаха. Конь его заржал. Элрик выпрыгнул из седла и хлопнул коня по крупу, отправляя его назад. Теперь он держал Буревестник в руке и медленно двигался вперед; черный металл вибрировал от рукояти до острия. Прежде чем увидеть это глазами, он почувствовал его шестым чувством, которым обладали его предки. Он узнал его форму. Он сам был одним из его хозяев. Но сейчас Кваолнаргн не подчинялся ему, поскольку не Элрик стоял в центре магической фигуры, и единственной защитой ему были его меч и его разум. Ему была известна сила Кваолнаргна, при мысли о которой его пробирала дрожь. Как он сможет в одиночку одолеть такую силу? – Ариох! Ариох! Помоги мне! – Это был крик отчаяния – высокий, надрывный. – Ариох! Времени, чтобы сотворить заклинание, у него не было. Кваолнаргн был уже прямо перед ним – огромное зеленое существо, похожее на рептилию. Он передвигался по тропе громадными прыжками, подвывая от боли, которую испытывал на чужой ему земле. Сейчас он возвышался над Элриком, который оказался в его тени, когда чудовище было еще в десяти футах от него. Элрик быстро выдохнул и крикнул еще раз: – Ариох! Кровь и души, если ты поможешь мне теперь! Похожий на рептилию демон прыгнул. Элрик отскочил в сторону, но его все же зацепила когтистая лапа, и он от удара отлетел в кусты. Кваолнаргн неуклюже повернулся и открыл свою голодную нечистую пасть. Элрик увидел беззубую полость, из которой исходило зловоние. – Ариох! В своей неистребимой алчности существо не узнало имени столь сильного бога-демона. Да и невозможно было испугать Кваолнаргна – с ним следовало сражаться. Когда он во второй раз приблизился к Элрику, тучи изрыгнули дождь, который хлестал теперь по деревьям. Полуослепленный струями, бьющими ему в лицо, Элрик встал за деревом, держа рунный меч наготове. Кваолнаргн не обладал зрением в обычном понимании этого слова. Он не мог видеть ни Элрика, ни лес. Он не чувствовал дождя. Он лишь мог чуять людские души – то, чем он питался. Демон протопал мимо него, и Элрик, высоко подпрыгнув, двумя руками вонзил меч по рукоять в мягкую подрагивающую спину чудовища. Плоть – или то, что образовывало тело демона, – тошнотворно хлюпнула. Элрик налегал на эфес, и меч рассекал спину адской твари вдоль позвоночника, только вот позвоночника-то у нее и не было. Кваолнаргн взвыл от боли. Голос у него был тонкий и пронзительный. Он нанес ответный удар. Элрик почувствовал вдруг, как онемел его мозг, а потом голова наполнилась болью, которая никак не могла быть естественной. Он даже закричать не мог. Глаза его расширились от ужаса, когда он понял, что с ним происходит. Из него вытягивали душу. Он это знал. Он не чувствовал физической слабости, он только осознавал, что смотрит вовне… Но даже это сознание начало увядать в нем. В нем увядало все, даже боль, даже эта жуткая, рожденная самим адом боль. – Ариох! – прохрипел Элрик. И вдруг он почувствовал прилив энергии. Он зачерпнул ее не в себе, даже не в Буревестнике – он сам не знал где. Наконец что-то помогало ему, давало ему силу – достаточно силы, чтобы сделать то, что он должен был сделать. Он извлек меч из спины демона. Он стоял рядом с Кваолнаргном. Нет, над ним. Он плавал в чем-то, но не в земном воздухе. Он просто плыл над демоном. Он определил место в черепе демона – единственное, как он чувствовал, куда Буревестник может нанести смертельный удар. Медленно и осторожно опустил он Буревестник и вонзил его в череп Кваолнаргна. Отвратительная тварь завизжала, рухнула наземь – и исчезла. Элрик лежал, распростершись, на лесной траве. Все его тело дрожало от боли. Он медленно поднялся. В нем почти не осталось энергии. Казалось, жизненные силы ушли и из Буревестника, но Элрик знал, что меч восстановит свою энергию и поможет восстановиться ему. Потом он почувствовал, как тело стало обретать силы. Он был удивлен. Что происходит? Чувства его начали притупляться. Ему казалось, что он смотрит в длинный черный туннель, ведущий в никуда. Все было словно в тумане. Он чувствовал движение. Он двигался. Как и в каком направлении – этого он не знал. В течение нескольких секунд Элрик двигался, ощущая только это неземное перемещение и то, что он сжимает Буревестник, свою жизнь, в правой руке. Потом он почувствовал под собой твердый камень и открыл глаза – неужели, спрашивал он себя, зрение вернулось? Он поднял взор и увидел над собой злорадно ухмыляющееся лицо. – Телеб Каарна, – хрипло прошептал он. – Как ты это сделал? Чародей наклонился, протянул руку в рукавице и взял Буревестник – хватка Элрика совсем ослабла. – Я следил за твоей доблестной битвой с помощью моего посланника, господин Элрик. Когда мне стало очевидно, что тебе удалось вызвать подмогу, я быстро сотворил новое заклинание – и вот ты здесь. Теперь твой меч и твоя сила стали моими. Я знаю, что без меча ты ничто. Ты целиком в моей власти, Элрик из Мелнибонэ. Элрик с трудом вдохнул воздух. Все его тело испытывало мучительную боль. Он попытался улыбнуться, но не смог. Не в его привычках было улыбаться, терпя поражение. – Отдай мне меч. Телеб К’аарна самодовольно ухмыльнулся. – Так что ты скажешь насчет мести теперь, Элрик? – Отдай мне меч! – Элрик попытался подняться, но не мог – он был слишком слаб. Видел он все как в тумане, а потом злорадное лицо волшебника исчезло вообще. – А что ты можешь предложить взамен? – спросил Телеб К’аарна. – Ты болен, Элрик. А больные не торгуются. Они просят. Элрик задрожал от бессильного гнева. Он сжал губы. Он не собирался ни просить, ни торговаться. – Пожалуй, для начала я его спрячу, – улыбаясь, сказал Телеб К’аарна. Он поднял Буревестник, который теперь был в ножнах, и повернулся к находившемуся за ним шкафу. Он извлек из кармана ключ, открыл им дверцу, положил рунный меч внутрь, а потом тщательно запер дверь. – А теперь я, пожалуй, покажу нашего мужественного героя его бывшей любовнице… сестре человека, которого он предал четыре года назад. Элрик ничего не сказал. – После этого, – продолжил Телеб К’аарна, – моему нанимателю Никорну будет показан наемный убийца, который решил, будто сможет сделать то, что не смогли другие. – Он улыбнулся. – Какой прекрасный день. – Телеб К’аарна издал смешок. – Какой прекрасный день! Такой насыщенный! Такой радостный! Телеб К’аарна снова засмеялся и позвонил в колокольчик. Дверь за спиной Элрика открылась, и вошли два высоких воина. Они посмотрели на Элрика, а потом на Телеба К’аарну. Оба явно были удивлены. – Никаких вопросов, – отрезал Телеб К’аарна. – Отнесите этот мусор в покои королевы Йишаны. Элрик кипел. Двое подняли его, поддерживая с двух сторон. Эти люди были темнокожими, бородатыми, их глаза были глубоко посажены под мохнатыми бровями. На них были тяжелые металлические шапки на шерстяной подкладке, какие носят их соплеменники, а доспехи были не металлическими, а деревянными, обтянутыми кожей. Они волокли обессиленное тело Элрика по длинному коридору, потом один из них резко постучал в дверь. Элрик узнал голос Йишаны, ответивший на стук. Следом за воинами, тащившими Элрика, шел хихикающий возбужденный чародей. – Подарочек тебе, Йишана, – сказал он. Воины вошли в комнату. Элрик не видел Йишану, но он услышал ее удивленный возглас. – На диван, – приказал чародей. Элрика положили на мягкий диван. Он лежал в полном изнеможении, глядя на яркую непристойную фреску на потолке. Йишана склонилась над ним. Элрик почувствовал запах ее эротических духов. Охрипшим голосом он сказал: – Небывалое воссоединение, королева. В глазах Йишаны на мгновение появилась искра сочувствия, которое сменилось жестким выражением. Она цинично рассмеялась. – Значит, мой герой наконец-то вернулся ко мне. Но я бы предпочла, чтобы он вернулся по собственному желанию, а так его притащили, как щенка за шкирку. Волчьи зубы вырваны, и некому теперь ублажать меня по ночам. Она отвернулась. На ее покрытом косметикой лице появилось выражения отвращения. – Убери его, Телеб К’аарна. Ты доказал то, что хотел. Чародей кивнул. – А теперь, – сказал он, – мы посетим Никорна. Я думаю, он уже ждет нас.
Глава четвертая
Никорн из Илмара был немолод. Ему давно перевалило за пятьдесят, однако выглядел он моложе. У него было худое лицо крестьянина – кожа, натянутая на кости. Проницательным жестким взглядом он смерил Элрика, которого издевательски бросили на стул. – Значит, ты и есть Элрик из Мелнибонэ, Волк Рычащего моря, предатель, грабитель и женоубийца. А сейчас ты не сможешь убить и ребенка. Должен сказать, мне не доставляет удовольствия видеть человека в таком положении, в особенности такого активного человека, как ты. Правда ли то, что говорит волшебник? Тебя послали мои враги, чтобы убить меня? Элрик опасался за судьбу своих людей. Что они предпримут? Будут ждать или пойдут дальше? Если они попытаются взять дворецштурмом, то они обречены. Как и он. – Это правда? – настаивал Никорн. – Нет, – прошептал Элрик. – У меня старые счеты с Телебом К’аарной. Ты тут ни при чем. – Меня не интересуют твои старые счеты, мой друг, – недобрым голосом сказал Никорн. – Меня интересует сохранение моей жизни. Кто тебя послал? – Телеб К’аарна лжет, если говорит, что меня кто-то послал, – солгал Элрик. – Мне важно было только расплатиться по старым счетам. – Мне об этом сообщил не только чародей, – сказал Никорн. – У меня много шпионов в городе, и два из них независимо друг от друга сообщили мне о заговоре местных купцов, которые наняли тебя, заказав мое убийство. Элрик слабо улыбнулся. – Да, – согласился он. – Это правда. Но я не собирался делать то, о чем они просили. Никорн на это сказал: – Я бы мог поверить тебе, Элрик из Мелнибонэ. Но пока я не знаю, что с тобой делать. Я бы никого не передал на милость Телеба Каарны. Ты готов поклясться, что не будешь покушаться на мою жизнь? – Ты предлагаешь мне сделку, господин Никорн? – слабым голосом спросил Элрик. – Да. – Тогда что же я получу в обмен на свое слово? – Жизнь и свободу, господин Элрик. – А мой меч? Никорн с сожалением пожал плечами. – Извини, но меча ты не получишь. – Тогда возьми мою жизнь, – упавшим голосом сказал Элрик. – Не противься. Мое предложение не такое уж плохое. Жизнь и свобода в обмен на обещание не покушаться на меня. Элрик глубоко вздохнул. – Хорошо. Никорн отошел в сторону. Телеб К’аарна, стоявший в тени, притронулся к руке купца. – Ты собираешься его освободить? – Да. Он больше не представляет угрозы ни для меня, ни для тебя. Элрик чувствовал, что Никорн дружески расположен к нему. Он тоже испытывал нечто похожее по отношению к Никорну. Перед ним был смелый и умный человек. Но – боролся с наступающим безумием Элрик – как нанести ответный удар, не имея Буревестника? Две сотни имррирских воинов прятались в лесу. На смену дню пришла ночь. Они смотрели и удивлялись. Что произошло с Элриком? Где он теперь – в замке, как то предполагал Дивим Твар? Владыка драконов, как и все, в ком текла королевская мелнибонийская кровь, знал толк в искусстве прорицания. Он совершил небольшое колдовство, которое показало ему, что Элрик, судя по всему, находится в стенах замка. Вступать в схватку с Телебом К’аарной без Элрика было бы чистым безумием. К тому же дворец Никорна представлял собой настоящую крепость, мрачную и суровую. Он был окружен глубоким рвом с застоявшейся темной водой. Он царил высоко над окружающим его лесом, не столько построенный на скале, сколько встроенный в нее. Он стоял, коренастый и мощный, занимая большую площадь, и был окружен естественными преградами. Скала местами была обветрена, а по стенам внизу сочилась, напитывая темный мох, вязкая жижа. Словом, судя по внешнему виду, сооружение было не из приятных и почти наверняка неприступное. Без помощи магии две сотни воинов взять его не могли. Многие из мелнибонийцев начали проявлять нетерпение. Некоторые даже говорили, что Элрик предал их еще раз. Но Дивим Твар и Мунглам не верили в это. Они видели следы схватки в лесу и слышали ее звуки. Они ждали, надеясь, что Элрик подаст им какой-нибудь знак из замка. Они следили за огромными главными воротами замка – и их терпение в конце концов было вознаграждено. Громадные деревянные с металлом цепные ворота открылись, и, ведомый двумя воинами пустыни, появился белолицый человек в потрепанных мелнибонийских одеяниях. Воины поддерживали его, потом подтолкнули вперед, и он на нетвердых ногах с трудом преодолел несколько ярдов скользкого каменистого моста, перекинутого через ров. Потом он упал. И мучительно медленно пополз вперед. Мунглам застонал: – Что они с ним сделали? Я должен ему помочь! Однако Дивим Твар удержал его: – Нет, нельзя выдавать наше присутствие. Пусть он доберется до леса, и тогда мы ему поможем. Даже те, кто проклинал Элрика, теперь испытывали сочувствие к альбиносу, который то ползком, то нетвердой походкой продвигался к ним. До тех, кто находился внизу, доносился тонкий смех с зубчатой стены замка. Они даже смогли разобрать несколько слов. – Ну, что скажешь теперь, волк? – издевался голос. – Что скажешь? Мунглам сжимал кулаки и дрожал от гнева. Ему было невыносимо видеть, как насмехаются над его гордым другом, вдруг утратившим свою силу. – Что с ним случилось? Что они с ним сделали? – Терпение, – сказал Дивим Твар. – Скоро мы все узнаем. Они с трудом дождались, когда Элрик на коленях доползет до леса. Мунглам выскочил вперед помочь своему другу. Он обнял альбиноса за плечи, но тот зарычал и сбросил его руку. Он весь горел от сжигавшей его ненависти, которая была тем страшнее, что оставалась бессильной. Элрик ничего не мог сделать для уничтожения того, что ненавидел. Дивим Твар взволнованно сказал: – Элрик, расскажи, что случилось. Если хочешь, чтобы мы тебе помогли, мы должны знать, что произошло. Элрик, тяжело дыша, согласно кивнул. Немного успокоившись, он слабым голосом принялся пересказывать происшедшее. – А это значит, – простонал Мунглам, – что наши планы перечеркнуты, а ты навсегда потерял свою силу. Элрик отрицательно покачал головой. – Должен быть какой-то способ, – выдохнул он. – Должен. – Какой? Если у тебя есть план, поделись со мной, Элрик. Элрик сглотнул и прошептал: – Хорошо, я тебе скажу, Мунглам. Только слушай внимательно, у меня не хватит сил повторить.Мунглам ничего не имел против ночей, но только если они были освещены уличными фонарями. Он не любил ночей, когда оказывался далеко от городских огней, и ему не нравилась ночь, опустившаяся на замок Никорна, однако он надеялся на лучшее и действовал согласно плану. Если Элрик не ошибся в своих выводах, то сражение еще можно было выиграть – и захватить дворец Никорна. Но это было опасно для Мунглама, который не любил лезть на рожон. Он с отвращением смотрел на стоячую воду рва, думая, что их дружба теперь подвергается самому серьезному испытанию. Смирившись с неизбежным, он погрузился в воду и поплыл. Мох, которым поросли стены, был скользким, но он все же сумел добраться по нему до стеблей плюща, который давал более надежную опору. Мунглам медленно поднимался по стене. Он надеялся, что Элрик прав и Телебу К’аарне нужно некоторое время отдохнуть, прежде чем он сможет совершить новое колдовство. Поэтому-то Элрик и торопил его. Мунглам продолжал свое восхождение и наконец добрался до маленького незарешеченного окна. Человек нормального телосложения не смог бы пролезть внутрь, но небольшие габариты Мунглама в этом случае оказались весьма полезными. Он, дрожа от холода, пробрался в помещение, потом оказался на узкой каменной лестнице, по которой можно было как подняться выше, так и спуститься вниз. Мунглам нахмурился, подумал немного – и направился вверх. Элрик лишь в самых общих чертах объяснил ему, как добраться до нужного места. Ожидая худшего, он на цыпочках шел по каменным ступеням. Он приближался к покоям Йишаны, королевы Джаркора.
Через час Мунглам вернулся. Его трясло от холода, с него лилась вода, но при нем был Буревестник. Он нес рунный меч с осторожностью, опасаясь таящегося в нем зла. Меч снова жил черной пульсирующей жизнью. – Слава богам, я оказался прав, – слабым голосом пробормотал Элрик. Он лежал, окруженный двумя или тремя имррирцами, включая и Дивима Твара, который сочувственно смотрел на альбиноса. – Я молился, чтобы мое предположение оказалось справедливым, и Телеб К’аарна отдыхает после трудов, связанных с моей персоной… Он шевельнулся, и Дивим Твар помог ему сесть. Элрик протянул длинную белую руку к мечу – как наркоман к своему жуткому снадобью. – Ты передал ей мое послание? – спросил он, благодарно взявшись за рукоять. – Да, – ответил трясущийся Мунглам. – И она согласилась. Ты оказался прав в своих предположениях. Телеб К’аарна настолько устал, что ей не составило труда уговорить его отдать ей ключ. А Никорн нервничал, опасаясь, как бы атака на замок не было предпринята, пока Телеб К’аарна не в силах этому противодействовать. Йишана сама отперла тот шкаф и отдала мне меч. – Иногда и от женщин бывает какая-то польза, – сухо сказал Дивим Твар. – Хотя обычно в таких делах от них одни помехи. – Было очевидно, что Дивима Твара заботят не только насущные проблемы предстоящего штурма замка, но никто не спросил, что его беспокоит. Это казалось чем-то личным. – Согласен, Владыка драконов, – чуть ли не весело ответил Элрик. Больное тело альбиноса быстро наполнялось энергией, наделившей его нездешней силой. – Настал час мести. Но помните, мы не должны причинить никакого вреда Никорну. Я дал ему слово. – Он твердо взялся правой рукой за эфес Буревестника. – А теперь пусть заговорят мечи. Я думаю, мне удастся призвать на помощь союзников, которые дадут работу чародею, пока мы будем штурмовать замок. Чтобы вызвать моих воздушных друзей, магическая фигура мне не потребуется. Мунглам облизнул губы. – Значит, опять колдовство. Говоря откровенно, Элрик, вся эта земля уже пропитана магией и населена подданными Ада. Элрик прошептал на ухо своему другу: – Это не подданные Ада, а честные элементали, которые во многих смыслах не уступают по силе демонам. Оставь свои страхи, Мунглам. Еще немного простого колдовства – и у Телеба К’аарны навсегда исчезнет желание мстить мне. Альбинос нахмурился, вспоминая пакты, заключенные в древности его предками. Он глубоко вздохнул и закрыл свои исполненные болью алые глаза, а потом принялся раскачивать меч в руке. Он начал напевать низким голосом, похожим на завывания ветра. Грудь его быстро вздымалась, и некоторым из молодых воинов, тем, кто не был посвящен в древние традиции Мелнибонэ, стало не по себе. Голос Элрика был обращен не к человеческим существам, его слова адресовались невидимому и неосязаемому – сверхъестественному. В древнем напеве стали слышны слова-руны…
Глава пятая
В постели из шелков и горностаевого меха зашевелился и проснулся Телеб К’аарна. У него было смутное предчувствие какой-то беды, и он вспомнил, что в усталости своей отдал Йишане то, чего отдавать не следовало. Он никак не мог вспомнить, что это было, и теперь ему казалось, что он в опасности. Близость этой опасности не давала сосредоточиться на мысли о том, где и в чем он ошибся. Он поспешно поднялся, натянул через голову одежду и, поправляя ее на ходу, направился к необычному зеркалу на одной из стен его комнаты – это зеркало ничего не отражало. С затуманенным взором и дрожащими руками он приступил к приготовлениям. Из глиняного кувшина, стоявшего на полке у окна, он отсыпал какого-то вещества, в котором можно было узнать сухую кровь, перемешанную с затвердевшим синим ядом черной змеи, обитавшей в далеком Дореле, что на самом Краю Мира. Он пробормотал над этим порошком заклинание, потом пересыпал его с помощью совочка в тигель и, наконец, швырнул порошок в зеркало, прикрыв одной рукой глаза. Раздался резкий неприятный треск, потом появился и тут же пропал яркий зеленый свет. Зеркало засветилось в самой глубине, амальгама словно бы заколебалась, стала мигать, сверкать, а потом в зеркале вдруг появилось изображение. Телеб К’аарна знал, что открывшееся ему теперь произошло совсем недавно. А увидел он Элрика, который призывал помощь Ветров-гигантов. Темные черты Телеба Каарны свело гримасой страха, руки затряслись от ужаса. Бормоча что-то невнятное, он бросился к окну и, опершись руками на скамью, уставился в темень ночи. Он знал, чего ему нужно опасаться. За окном бушевала страшная буря, а объектом нападения ласшааров был именно он – Телеб К’аарна. Он должен нанести ответный удар, иначе Ветры-гиганты вырвут его душу и бросят ее духам воздуха – и ветры будут вечно носить ее по свету. Его вопли, потерянные и одинокие, будут разноситься в холодных ущельях, подобные причитаниям плакальщиков. Его душа будет обречена скитаться с четырьмя ветрами по их прихоти и никогда не знать покоя. Телеб К’аарна испытывал нечто вроде уважения, правда, основанного на страхе, к тому, кто мог повелевать ветрами. Редкому чародею подчинялись элементали ветра, а это была лишь одна из многих способностей, доставшихся Элрику в наследство от предков. Телеб К’аарна понимал, что противостоит ему – десять тысяч лет и сотни поколений чародеев, которые набирались знаний у земли и небес, а сейчас эта мудрость досталась альбиносу, которого он, Телеб К’аарна, пытается уничтожить. И тут Телеб К’аарна в полной мере пожалел о содеянном. Но было слишком поздно. Чародей, в отличие от Элрика, никак не мог влиять на Ветров-гигантов. Единственная его надежда была в том, чтобы стравить одних элементалей с другими. Он должен вызвать элементалей огня. И побыстрее. Чтобы сдержать неистовую бурю, понадобится все умение Телеба К’аарны договариваться с огненными элементалями. А наступающий ураган вот-вот должен сотрясти воздух и землю. Даже Дц вздрогнет от громоподобного гнева Ветров-гигантов. Телеб К’аарна быстро навел порядок в своих мыслях и стал дрожащими руками совершать странные пассы в воздухе, обещая нечестивый союз любым могущественным элементалям огня, которые согласятся помочь ему в его положении. Он был готов на вечную смерть ради еще нескольких лет жизни. С приходом Ветров-гигантов ударил гром и начался дождь. Время от времени сверкали молнии, но они гасли, не долетая до земли. Элрик, Мунглам и воины Имррира ощущали эти движения в воздухе, но только Элрик, обладавший особым зрением, мог хотя бы частично видеть то, что происходит на самом деле. Другим глазам гиганты-ласшаары были не видны. Те военные машины, которые сейчас собирались имррирцами из имевшихся у них составных частей, были детскими игрушками рядом с мощью Ветров-гигантов. Но именно от этих машин зависела победа, поскольку ласшаары должны были сражаться со сверхъестественными, а не с природными силами. Боевые тараны и осадные лестницы быстро принимали свои очертания под руками работавших с фантастической скоростью воинов. Ветер усиливался, гром грохотал все сильнее. Приближался час штурма. Луну закрыли огромные черные тучи, и люди работали в свете факелов. Неожиданность в этой ситуации давала не очень много. Они были готовы за два часа до рассвета. Наконец воины тронулись к замку Никорна. Во главе отряда скакали Элрик, Дивим Твар и Мунглам. Элрик вдруг издал ужасный вопль, и гром ответил ему раскатом. Огромная стрела молнии рассекла небо в направлении дворца, который затрясся и задрожал, когда над замком неожиданно появился шар розовато-оранжевого огня и поглотил молнию. Схватка между огнем и воздухом началась. Вся местность сотрясалась от злобных воплей и стонов, оглушавших имррирцев. Они чувствовали, что атмосфера вокруг них просто пропитана враждебностью. Над большей частью замка висело зловещее сияние. Оно становилось все слабее, и это оглушало несчастного чародея, бормотавшего что-то невнятное. Он знал: как только Владыки Пламени уступят Ветрам-гигантам, его судьба будет решена. Элрик невесело улыбнулся, наблюдая за этой битвой. Теперь он знал, что в измерениях сверхъестественного ему больше нечего бояться. Но еще оставался замок, и для штурма стен у него не было потусторонних помощников. Искусство владения оружием было единственным, что имррирцы могли противопоставить свирепым воинам пустыни, стоявшим сейчас на зубчатых стенах и готовым уничтожить воинов, что собирались штурмовать замок. Взмыли вверх штандарты с драконами, золотистая ткань засветилась призрачным сиянием. Сыны Имррира, рассредоточившись, двинулись на приступ. Взметнулись вверх и осадные лестницы – командиры отдали приказ начать штурм. Лица защитников казались белыми пятнами на фоне темного камня. Они кричали что-то визгливыми голосами, но разобрать слова было невозможно. Два тарана, сооруженных накануне, были выдвинуты в авангард наступающего отряда. Идти по узкому переходу было довольно опасно, но другого пути через ров не было. Каждый огромный таран со стальным острием на конце тащили двадцать воинов. Они перешли на бег, когда сверху полетели стрелы. Укрывшись щитами, которые отразили большинство стрел, воины добрались до перехода и стремглав перебежали по нему. Первый таран оказался у ворот. Элрику, который наблюдал за происходящим у ворот, казалось, что ничто не может противостоять мощи такого тарана. Однако ворота дрогнули, но выдержали первый удар. Воины, как вампиры, изголодавшиеся по крови, издавали жуткие вопли, по-крабьи отскакивая в стороны, чтобы не мешать бревну, раскачиваемому их товарищами. Ворота дрогнули еще раз, на сей раз они как будто подались, но все равно выдержали. Дивим Твар криками подбадривал тех, кто поднимался на стены по лестницам. То были храбрые, если не сказать – отчаянные воины, потому что почти никто из ступивших на лестницу первыми не добирался до вершины. Но даже если это удавалось, им приходилось нелегко в одиночестве против множества защитников, пока снизу не подоспеют товарищи. Расплавленный свинец с шипением проливался из огромных котлов, установленных на поворотных механизмах так, чтобы котлы легко было опорожнять и наполнять снова. Многие отважные имррирцы срывались вниз и гибли от жидкого раскаленного металла, не успев долететь до острых скал внизу. Из кожаных мешков, привязанных к вращающимся барабанам, на них сыпались огромные камни, костоломным дождем проходя по рядам осаждающих. Но полсотни имррирцев, издавая боевые кличи, продолжали наступление на стены, пока их товарищи, подняв щиты для отражения стрел, разбивали ворота замка. Элрик и два его спутника ничем не могли помочь ни штурмующим стены, ни разбивающим ворота. Все трое были рукопашными бойцами – но сейчас бой вели лучники, которые из заднего ряда посылали свои стрелы в защитников на стенах. Ворота начали поддаваться. В них появились трещины, которые с каждым ударом становились все шире. И вдруг, когда этого никто не ожидал, ворота рухнули с вывернутых петель на землю. Нападающие издали торжествующий вопль и, бросив таран, ринулись через разбитые ворота, размахивая, словно косами, топорами и мечами, – и головы врагов посыпались на землю, как сжатые колосья. – Замок наш! – прокричал Мунглам и бросился вперед к разбитым воротам. – Замок пал! – Не спеши кричать о победе, – сказал Дивим Твар, но проговорил он это со смехом, уже на бегу – вместе с другими он спешил к воротам. – Ну, что ты теперь скажешь о своей судьбе? – крикнул Элрик другу детства, но тут же замолчал, потому что лицо Дивима Твара омрачилось, губы сжались, на лице появилось мрачное выражение. Некоторое время оба они на бегу ощущали возникшее между ними напряжение, потом Дивим Твар рассмеялся и попытался свести все к шутке. – Где-то она есть, Элрик, где-то есть, но давай не будем думать о таких вещах, потому что если моя судьба висит надо мной, я ведь все равно не смогу остановить ее падение, когда настанет мой час. – Он хлопнул Элрика по плечу, чувствуя, как смущен альбинос, которому такие эмоции обычно были не свойственны. Наконец они миновали ворота и оказались во внутреннем дворе замка, где сражение перешло в островки единоборства – воины бились один на один, пока кто-то из них не падал мертвым. Буревестник первым из мечей тройки вкусил крови, отправив в ад душу воина пустыни. Мелькая в воздухе, совершая резкие удары, он пел злобную песню – злобную и торжествующую. Темнолицые воины пустыни славились мужеством и искусством владения мечом. Своими кривыми клинками они сеяли смерть в рядах имррирцев – пока что защитники крепости числом превосходили нападающих. Где-то наверху вдохновленные мелнибонийцы захватили плацдарм на стене и сошлись в схватке с людьми Никорна, которые теперь отступали, некоторые из них были уже сброшены со стены вниз. Один из таких защитников с криком рухнул чуть ли не на голову Элрику. Альбинос, получив толчок в спину, рухнул на вымощенный булыжником и залитый кровью дворик. Раненый воин пустыни быстро оценил свои шансы и бросился на врага с торжествующим криком и искаженным гримасой лицом. Его кривой меч уже готов был отсечь Элрику голову, но тут его шлем раскололся надвое, а из головы фонтаном хлынула кровь. Дивим Твар извлек из черепа мертвого воина трофейный топор и улыбнулся поднимающемуся с земли Элрику. – Мы оба увидим победу! – прокричал он, перекрикивая бушующие стихии и звон оружия. – А моя судьба… она минует меня, пока… Он вдруг замолчал, на его точеном скуластом лице появилось недоуменное выражение, а у Элрика внутри все оборвалось, когда он увидел, как из бока Дивима Твара появилось острие меча. За спиной Владыки драконов стоял воин пустыни; злобно ухмыляясь, он извлекал из тела Дивима Твара меч. Элрик с проклятиями ринулся вперед. Воин попытался защищаться, одновременно отступая от взбешенного альбиноса. Буревестник опустился вниз с жуткой песней смерти, он разрубил сталь чужого меча, вонзился в плечо воина и рассек его тело надвое. Элрик повернулся к Дивиму Твару, который продолжал стоять, но был бледен и едва держался на ногах. Из раны текла кровь, просачиваясь сквозь одежду. – Ты тяжело ранен? – взволнованно спросил Элрик. – Ты можешь говорить? – Кажется, его меч прошел у меня между ребрами – ничто жизненно важное не задето. – Дивим Твар набрал в легкие воздуха и попытался улыбнуться. – Я наверняка бы знал, если бы это было серьезно. Сказав эти слова, он упал, а когда Элрик перевернул его, то глядел уже в мертвое лицо. Больше никогда Повелитель Драконьих пещер не сможет проведать своих подопечных. Элрик стоял над телом мертвого родича, и его одолевали боль и скорбь. По моей вине погиб еще один прекрасный мелнибониец, подумал он. Но кроме этой мысли, он не мог позволить себе никаких других слабостей. Он должен был защищаться от мелькающих мечей двух воинов, наступавших на него. Сквозь разбитые ворота в замок бросились лучники, закончившие свою работу снаружи, и их стрелы принялись разить врагов. Элрик громко закричал: – Мой родич Дивим Твар убит. Его заколол в спину воин пустыни – отомстите за него. Отомстите за Владыку драконов Имррира! Из глоток мелнибонийцев вырвался крик скорби, и они стали сражаться еще яростнее. Элрик окликнул вооруженных боевыми топорами воинов, которые, покончив с врагом наверху, спустились вниз. – Следуйте за мной. Мы отомстим за кровь, которую взял Телеб К’аарна! Альбинос хорошо себе представлял расположение покоев замка. Откуда-то раздался голос Мунглама: – Один миг, Элрик, и я присоединюсь к тебе! Воин пустыни, стоявший спиной к Элрику, упал, и из-за него возникла фигура ухмыляющегося Мунглама. Его меч от эфеса до острия был залит кровью. Элрик побежал к маленькой двери в главной башне замка. Указывая на нее, он сказал своим воинам: – Поработайте-ка своими топорами, ребята. Да побыстрее! Воины с мрачным видом начали рубить плотное дерево. Элрик нетерпеливо смотрел, как отлетают в стороны щепки.Сражение было проиграно. Телеб К’аарна в отчаянии рыдал. Какатал, Владыка Огня, и его подданные мало что могли противопоставить Ветрам-гигантам, чья сила, казалось, все больше и больше росла. Чародей грыз ногти и дрожал от страха в своей комнате, а внизу продолжалась схватка, воины проливали кровь и умирали. Телеб К’аарна сосредоточился теперь на одном: на полном уничтожении сил ласшааров. Но он уже знал: так или иначе, ему суждено погибнуть.
Топоры врубались в дерево двери все глубже и глубже. Наконец дверь пала. – Дело сделано, мой господин, – сказал один из воинов Элрику, указывая на дыру, пробитую ими в двери. Элрик просунул внутрь руку и нащупал засов. Щеколда подалась, а потом упала вниз на каменные плитки. Элрик плечом толкнул дверь. Над ними в небе появились две огромные фшуры, напоминающие человеческие. Одна из них была золотой и сверкала, как солнце. Казалось, она орудует огромным огненным мечом. Другая фигура была темно-синего с серебром цвета, она извивалась, и очертания ее были расплывчаты. В руке она держала мерцающее копье меняющегося цвета. Майша и Какатал сошлись межцу собой. От исхода их схватки зависела судьбы Телеба К’аарны. – Быстрее! – крикнул Элрик. – Наверх. Они бросились вверх по лестнице, которая вела в комнату Телеба К’аарны. Они были вынуждены остановиться, оказавшись перед черной дверью, окованной алым железом. В двери не было ни скважины, ни замка, и тем не менее она преграждала им путь. Элрик приказал воинам работать топорами. Все шестеро одновременно ударили по металлу. Они в один голос вскрикнули – и исчезли. После них не осталось даже дыма, ничто не говорило, что мгновение назад они были здесь. Мунглам отпрянул назад, его глаза расширились от ужаса. Он отступал от Элрика, который был полон решимости оставаться у двери. Буревестник подрагивал в его руке. – Уходи отсюда, Элрик. Мы имеем дело с колдовством страшной силы. Пусть лучше твои воздушные друзья прикончат чародея! Элрик чуть ли не истерически закричал: – С магией лучше всего бороться магией! Он изо всех сил обрушил меч на черную дверь. Буревестник вонзился в нее, издал вопль, похожий на победный клич, и заворчал, словно истосковавшийся по душам демон. Последовала ослепляющая вспышка, Элрика оглушил жуткий рев, альбиносу показалось, что он стал невесомым. Дверь рухнула внутрь. – Буревестник редко подводил меня, Мунглам! – воскликнул Элрик, ринувшись внутрь. – За мной, мы у покоев Телеба К’аарны… Он вдруг замер, глядя на нечто, расположенное на полу и нечленораздельно лепечущее. Прежде это нечто было человеком. Оно было Телебом К’аарной. Теперь от него осталась жалкая безвольная плоть, сидящая в центре магической фигуры и глупо хихикающая. Внезапно в его глазах засветилась какая-то разумная мысль. – Слишком поздно мстить, Элрик, – сказала эта студенистая плоть. – Я победил, ты видишь… я присвоил твою месть. Элрик с мрачным лицом, не говоря ни слова, сделал шаг вперед, поднял Буревестник и опустил взвывший рунный меч на череп колдуна. На несколько мгновений он задержал его там. – Пей досыта, адский клинок, – прошептал он. – Мы с тобой это заслужили – ты и я. Над ними неожиданно повисла тишина.
Глава шестая
– Это неправда! Ты лжешь! – закричал испуганный человек. – Мы в этом не виноваты. – Пилармо повернулся к группе городских старейшин. За пышно одетым купцом были три его товарища – те, кто встречался с Элриком и Мунгламом в таверне. Один из обвинителей указал толстым пальцем на север, где стоял дворец Никорна. – Никорн был врагом всех других торговцев Бакшаана. С этим я согласен. Но вот шайка каких-то кровожадных разбойников нападает на замок, заручившись помощью демонов. А ведет их Элрик из Мелнибонэ! Ты знаешь, что ты в этом виноват: слухи об этом ходят по всему городу. Ты использовал Элрика – и вот что случилось! – Но мы понятия не имели, что он зайдет так далеко, чтобы убить Никорна! – Жирный Тормиел заламывал руки, на лице его было скорбное выражение и испуг. – Вы напрасно вините нас. Мы только… – Это мы напрасно вас виним?!Фаратт, говоривший от лица горожан, был толстогуб и краснолиц. Он рассерженно махал руками. – Когда Элрик и его шакалы покончат с Никорном, они придут в город. Идиот! Именно это и было нужно колдуну-альбиносу. Он посмеялся над тобой – ты дал ему хороший повод. С вооруженными людьми мы можем бороться, но не с грязным колдовством! – Что нам делать? Что нам делать? Бакшаан завтра разграбят! – Тормиел повернулся к Пилармо. – Это была твоя идея – ты придумал этот план! Пилармо, заикаясь, предложил: – Мы можем заплатить ему выкуп… подкупить его… дать им столько денег, чтобы они остались довольны. – И кто же даст им эти деньги? – спросил Фаратт. Спор продолжился.Элрик с отвращением разглядывал мертвое тело Телеба К’аарны. Наконец он отвернулся и посмотрел на бледного Мунглама, который хриплым голосом сказал: – Пойдем отсюда, Элрик. Йишана, как и обещала, ждет тебя в Бакшаане. Ты должен выполнить условия сделки, которую я заключил от твоего имени. Элрик устало кивнул. – Да, судя по всему, имррирцы взяли замок. Мы отдадим его им на разграбление, а сами исчезнем, пока еще можно. Ты мне позволишь побыть здесь немного одному? Меч не берет эту душу. Мунглам благодарно вздохнул. – Я встречусь с тобой во дворе через четверть часа. Я хочу получить свою часть добычи. Каблуки Мунглама застучали по лестнице, а Элрик остался над телом врага. Он поднял руки, с его меча, который он все еще держал в правой руке, капала кровь. – Дивим Твар! – воскликнул он. – Ты и твои соплеменники отомщены. Пусть тот демон, что удерживает душу Дивима Твара, отпустит ее теперь и вместо нее возьмет душу Телеба К’аарны. В комнате появилось что-то невидимое и неосязаемое, но тем не менее ощутимое; оно помедлило над телом Телеба К’аарны. Элрик смотрел в окно, и ему показалось, что он слышит биение драконьих крыльев, что он ощущает кисловатый запах драконов, видит их крылатые контуры на фоне занимающейся зари – драконы уносили своего владыку. На лице Элрика появилось подобие улыбки. – Боги Мелнибонэ защищают тебя, где бы ты ни был, – тихо сказал он и, отвернувшись от мертвого тела, вышел из комнаты. На лестнице он встретил Никорна из Илмара. Лицо купца было исполнено гнева. Его трясло от ярости. В руке он держал большой меч. – Вот я и нашел тебя, волк, – сказал он. – Я подарил тебе жизнь – и вот твоя благодарность! Элрик устало ответил: – Это судьба. Но я поклялся не брать твою жизнь, и поверь мне, не взял бы, даже если бы не дал слова. Никорн стоял в двух шагах от дверей. – Тогда я возьму твою. Я вызываю тебя! Он вышел во двор, чуть не упал, споткнувшись о тело мертвого имррирца, но сохранил равновесие и, сжигаемый бешенством, приготовился сражаться с Элриком. Наконец во дворе появился Элрик, его рунный меч оставался в ножнах. – Нет! – Защищайся, волк! Правая рука альбиноса автоматически потянулась к эфесу меча, но он не извлек его из ножен. Никорн с проклятиями нанес удар, целясь в белое лицо, и Элрик едва успел увернуться. Он сделал шаг назад и все же вытащил Буревестник, хотя и сделал это неохотно. Он стоял, замерев, настороженно ожидая следующего выпада Никорна. Элрик намеревался только разоружить бакшаанца. Он не хотел ни убивать, ни калечить этого храброго человека, который пощадил его, когда Элрик целиком был в его власти. Никорн нанес еще один сильный удар, но альбинос отразил его. Буревестник слабо застонал, дрожа и пульсируя. Зазвенел металл, и началась нешуточная схватка – бешенство Никорна сменилось расчетливой, холодной яростью. Элрик был вынужден защищаться со всем своим мастерством. Хотя Никорн был старше альбиноса и предавался такому мирному занятию, как торговля, мечом он владел в совершенстве. У него была фантастическая реакция, и временами Элрик защищался не только потому, что таков был его выбор. Но что-то происходило с рунным мечом. Он выкручивался из руки Элрика, вынуждая его перейти в контрнаступление. Никорн отступил, в глазах его загорелось что-то вроде страха, когда он осознал всю мощь Элрикова адского клинка. Купец сражался с мрачным видом, Элрик же не сражался вообще. Он был во власти завывающего меча, который нанес удар, разбивший гарду на мече Никорна. Буревестник внезапно рванулся в руке Элрика. Никорн вскрикнул. Рунный меч вырвался из ладони Элрика и по собственной воле нанес удар в сердце противника. – Нет! – крикнул Элрик, пытаясь остановить меч, но было поздно. Буревестник вонзился в сердце Никорна и издал торжествующий вопль. – Нет! Элрик схватился за рукоять и попытался вытащить меч из тела Никорна. Купец, перед которым открылась бездна ада, закричал в агонии. Он уже давно должен был умереть. Но он продолжал жить. – Он забирает меня – эта треклятая тварь забирает меня! – Никорн жутко захрипел, ухватившись за клинок руками. – Останови его, Элрик, я тебя умоляю – останови! Пожалуйста! Элрик снова попытался вытащить меч из тела Никорна, но у него ничего не получилось. Меч крепко держался в плоти, в ткани мышц и переплетениях органов. Он жадно стонал, впитывая в себя все то, что было Никорном из Илмара. Он высасывал силы из умирающего человека, и голос его звучал тихо и до отвращения чувственно. Элрик все еще пытался вытащить меч из тела. Но это было невозможно. – Будь ты проклят, – простонал Элрик. – Этот человек был мне почти другом. Я дал слово не убивать его! Но Буревестник, хотя и был существом разумным, не слышал своего хозяина. Никорн вскрикнул еще раз – крик умирающего, переходящий в низкий, потерянный стон. А потом его тело умерло. Тело Никорна умерло, а душа присоединилась к многочисленным душам друзей, родичей и врагов альбиноса, которые, погибнув от рунного меча, стали частью того, что питало Элрика из Мелнибонэ. Элрик зарыдал. – Почему на мне лежит это проклятие? Почему? Он упал на землю, в кровь и грязь. Немного позже Мунглам наткнулся на своего друга – тот лежал ничком во дворе замка. Он взял Элрика за плечи и перевернул его. Мунглама пробрала дрожь, когда он увидел лицо альбиноса, искаженное мучительной судорогой. – Что случилось? Элрик приподнялся на локте и указал на тело Никорна, лежащее в нескольких футах от него. – Еще один. Будь проклят этот меч! Мунглам не без смущения сказал: – Но иначе он сам убил бы тебя. Не думай об этом. Многие нарушали свои обещания, но делали это не по своей вине. Идем, мой друг. Йишана ждет нас в таверне «Алая голубка». Элрик с трудом поднялся на ноги и побрел к разбитым воротам замка, где их ждали кони. Когда они скакали к Бакшаану, не догадываясь о том, что беспокоило жителей города, Элрик в сердцах ударил по Буревестнику, висевшему, как обычно, у него на боку. Взгляд альбиноса был жесткий и мрачный, направленный словно бы внутрь, в глубины души. – Опасайся этого дьявольского меча, Мунглам. Он убивает врагов, но особенно он любит кровь друзей и родичей. Мунглам кивнул, давая знать, что понимает, и отвернулся, так ничего и не ответив. Элрик хотел было сказать что-то еще, но передумал. Ему нужно было выговориться. Нужно… Только вот сказать было нечего.
Пилармо хмурил брови. Он со скорбным лицом смотрел, как рабы выволакивают на улицу его сундуки с сокровищами, воздвигая из них подобие пирамиды перед его великолепным домом. Три товарища Пилармо в других частях города пребывали в подобном же прискорбном состоянии. Их сокровища тоже вытаскивали на улицу. Жители Бакшаана назвали тех, кто должен платить выкуп. Вдруг на улице появился какой-то оборванец. Он показывал рукой на север и кричал: – Альбинос и его спутник – они у Северных ворот! Жители, стоявшие рядом с домом Пилармо, обменялись взглядами. Фаратт проглотил слюну и сказал: – Элрик решил поторговаться с нами. Быстрее, отрывайте сундуки и распорядитесь, чтобы стража пропустила его. Один из жителей стремительно бросился исполнять приказание. Фаратт и те, кто ему помогал, выворачивали сундуки Пилармо, чтобы предъявить выкуп альбиносу, который вместе с Мунгламом уже ехал по улице города. Лицо его было бесстрастным. Он был человеком искушенным, а потому скрыл свое недоумение. – Что это? – спросил Элрик, бросив взгляд на Пилармо. Фаратт с раболепной интонацией произнес: – Сокровища. Это твое, господин Элрик. Твое и твоих людей. Будет и еще. Только не надо больше никакого колдовства. И твоим людям нет нужды разорять город. Ты найдешь здесь сказочные сокровища, их стоимость огромна. Возьми их и оставь город с миром. Хорошо? Мунглам с трудом подавил улыбку. Элрик холодно ответил: – Хорошо. Я принимаю сокровища. Доставьте все это моим людям в замке Никорна, иначе вы и ваши друзья завтра будете гореть на медленном огне. Фаратт внезапно закашлялся и задрожал. – Как скажешь, господин Элрик. Все будет доставлено в лучшем виде. Элрик и Мунглам направили своих коней к таверне «Алая голубка». Когда они отъехали на достаточное расстояние и их нельзя было услышать, Мунглам сказал: – Насколько я понимаю, господин Пилармо и его друзья выплачивают нам выкуп, о котором мы и не просили. Элрик пребывал в состоянии, в котором ему было не до шуток, но он усмехнулся. – Ну да. Я с самого начала собирался ограбить их, но это сделали их сограждане. По пути назад мы возьмем нашу долю. Они добрались до таверны, в которой их ждала Йишана, одетая по-походному. Она явно нервничала. Увидев Элрика, она удовлетворенно вздохнула и нежно улыбнулась. – Значит, Телеб К’аарна мертв, – сказала она. – И теперь мы можем возобновить наши прерванные отношения, Элрик. Альбинос кивнул. – Такова была моя часть договора. А ты свою выполнила, когда помогла Мунгламу получить мой меч. – Элрик говорил бесстрастным тоном. Она обняла его, но он отстранился. – Потом, – пробормотал он. – Но этого обещания я не нарушу, Йишана. Он помог недоумевающей женщине сесть в седло, и они двинулись назад, к дому Пилармо. Она спросила: – А что с Никорном? Он в безопасности? Мне нравился этот человек. – Он умер, – сказал Элрик, и голос его сорвался. – Почему? – спросила она. – Потому что, как и все купцы, слишком любил торговаться, – ответил Элрик. Наступила неестественная тишина. Трое подгоняли своих коней к Северным воротам города, и Элрик не остановился, когда остановились двое других, чтобы взять долю из сокровищ Пилармо. Он продолжал скакать, глядя вперед невидящим взглядом, и остальным пришлось дать шпоры своим коням, чтобы догнать его. Им это удалось только в двух милях от стен города. В садах богатых бакшаанцев не было ни ветерка. Не остужал ветер и вспотевшие лица бедняков. Солнце горело в небесах, круглое и красное, и лишь тень, похожая на дракона, на мгновение заслонила его и затем исчезла.
Майкл Муркок Короли во тьме (В соавторстве с Джеймсом Которном)
Во тьме – три короля:Гутеран из Орга, я —И тот, кого хранит земляВ могиле под Холмом.Песня Вееркада (Перевод Р. Адрианова)
Глава первая
Элрик, владыка погибшей и разграбленной империи Мелнибонэ, мчался, словно волк, вырвавшийся из западни, и безумная радость переполняла его. Он скакал из Надсокора, а за ним по пятам гналась ненависть – потому что в нем опознали старого врага, прежде чем он успел вызнать секрет, ради которого и явился в город нищих. И теперь горожане преследовали его и смешного маленького человечка, который скакал подле Элрика, давясь от смеха. Это был Мунглам Чужеземец из Элвера, что лежит на Неизвестном Востоке. Пламя факелов пожирало бархат ночи – кричащие во все горло оборванцы погоняли своих тощих кляч, пытаясь догнать этих двоих. Хотя преследователи были голодны, как шакалы, и одеты в лохмотья, их было много, и их длинные ножи и костяные луки сверкали в свете факелов. Они представляли серьезную опасность в драке, но для погони были слишком малочисленны, а потому Элрик и Мунглам предпочли покинуть город без дальнейших разбирательств. Они неслись навстречу восходящей полной луне, которая прорезала тьму болезненно-бледными лучами, освещая для них беспокойные воды реки Варкалк и показывая путь к спасению от рассвирепевшей толпы оборванцев. Они подумали было о том, чтобы дать бой этой шайке: ведь, кроме реки, другой дороги к спасению у них не было. Но оба прекрасно знали, что сделают с ними нищие,попади они к ним в руки. А что будет, если они решат отдаться на милость реки, было неизвестно. Кони доскакали до крутого обрыва и, встав на дыбы, забили передними ногами по воздуху. Выругавшись, беглецы пришпорили коней, погоняя их к берегу. Наконец кони, фыркая и разбрызгивая воду, вошли в реку, которая, бурля на порогах, несла беснующиеся волны к облюбованному адскими силами Троосскому лесу, лежащему в пределах Орга – страны некромантии и разложения, страны древнего зла. Элрик отфыркивался от речной воды, но все же поперхнулся и закашлялся. – Я думаю, они не будут преследовать нас до Трооса, – крикнул он спутнику. Мунглам ничего не ответил. Он только зло ухмыльнулся, показав белые зубы, а в его глазах мелькнул неприкрытый страх. Лошади уверенно плыли по течению, а за ними разочарованно визжала толпа оборванцев – надежда утолить жажду крови не оправдалась. Некоторые из них смеялись и выкрикивали вслед беглецам ругательства. – Пусть лес закончит наше дело! Элрик безумно захохотал в ответ. Лошади плыли по темной прямой ленте реки, раздавшейся вширь, но все равно глубокой – плыли к ожидающему их утру, холодному и колкому от наполняющих воздух ледяных иголок. По обоим берегам здесь и там высились островерхие утесы, между которыми резво бежала река. На черных и коричневых скалах то и дело виднелись участки зеленого мха, а в долине, словно что-то скрывая, шевелилась трава. Некоторое время в предрассветных сумерках на берегу мелькали оборванцы, но в конце концов и они, поняв, что добыча ушла из рук, замерзшие, вернулись в Надсокор. Когда преследователи рассеялись, Элрик и Мунглам направили коней к берегу и поднялись повыше, где скалы и трава сменялись тощим леском, стоявшим по обе стороны реки и отбрасывавшим на землю печальные тени. Шуршали листья в кронах, словно живущие собственной жизнью и наделенные разумом. То был лес зловещих цветов, неожиданно распускавшихся кровавыми болезненными бутонами. Лес изогнутых, извилистых гладких стволов, черных и лоснящихся; лес остроконечных листьев мрачно-пурпурного и блестяще-зеленого цветов. Место здесь было явно нездоровое, о чем свидетельствовал даже запах гниющей листвы, который сразу же ударил в чувствительные ноздри Элрика и Мунглама. Мунглам сморщил нос и повел головой, указывая в том направлении, откуда они пришли. – Может, вернемся? – спросил он. – Мы можем обойти Троос, срезав угол вблизи границы Орга. И через день-другой будем в Бакшаане. Что скажешь, Элрик? Элрик нахмурился. – Не сомневаюсь – в Бакшаане нам будут рады. Мы там встретим такой же теплый прием, как и в Надсокоре. Они еще не забыли те разрушения, что мы туда принесли. Помнят и выкуп, взятый нами с их торговцев. Нет, мне взбрело в голову немного исследовать этот лес. Я слыхал всякие россказни об Орге и его странном лесе, и мне хочется узнать о них правду. Мой клинок и мое колдовство защитят нас, если в этом будет необходимость. Мунглам вздохнул. – Элрик, давай хоть раз не будем напрашиваться на неприятности. Элрик холодно улыбнулся. Его алые глаза сейчас особенно ярко сверкали на мертвенно-бледной коже лица. – Неприятности? От этих краев нечего ждать, кроме смерти. – Я пока не тороплюсь умирать, – сказал Мунглам. – С другой стороны, таверны Бакшаана… или Джадмара, если уж ты так хочешь… Но Элрик уже направил коня вперед, в глубь леса. Мунглам вздохнул и направился следом. Скоро темные соцветия скрыли от них небо, и без того затянутое тучами. Они могли видеть не больше чем на несколько шагов. Остальной лес казался бескрайним и непроходимым. Оба это не столько видели, сколько чувствовали – сам лес терялся в угрожающем мраке. Мунглам узнал этот лес по описанию, которое слышал от путников, которые до безумия напивались в темных тавернах Надсокора, чтобы поскорее забыть о пережитом. – Сомнений быть не может – это Троосский лес, – сказал Мунглам. – Рассказывают, что Обреченный народ выпустил на землю огромные силы, которые и вызвали здесь такие ужасные изменения у всего живого. Этот лес – последнее, что создали Обреченные, и последнее, что осталось от них. – Каждому ребенку случается ненавидеть своих родителей, – загадочно произнес Элрик. – Я думаю, таких детей нужно побаиваться, – ответил Мунглам. – Некоторые говорят, что, когда Обреченные были на вершине могущества, никакие боги были им не страшны. – Действительно, смелые ребята, – ответил Элрик с едва заметной улыбкой. – Они заслуживают уважения. Теперь страх и боги вернулись, и это, по меньшей мере, успокаивает. Мунглам некоторое время размышлял над этими словами, но так ничего и не сказал. Ему становилось все больше не по себе. Лес был наполнен зловещим шуршанием и шелестом, хотя, насколько они могли судить, здесь не было ни одного живого существа. Очень нервировало явное отсутствие птиц, грызунов или хотя бы насекомых. Они не испытывали особых симпатий ко всей этой живности, но предпочли бы их компанию в этом странном лесу. Мунглам начал дрожащим голосом напевать, надеясь, что песня поможет поддержать их дух и рассеет мрачные мысли, навеваемые этим лесом.Глава вторая
О маленьком королевстве Орг было известно немного. И среди этого немногого – что в пределах Орга находится Троосский лес, который, по представлениям других народов, как нельзя лучше отвечает характеру Орга, чьи жители в большинстве своем неприятны на вид, а их тела изуродованы от рождения или как-либо искалечены. Согласно легенде, они были потомками Обреченного народа. Говорили еще, что их правители внешне ничем не отличаются от обычных людей, однако ум их изуродован еще сильнее, чем конечности их подданных. Здешние обитатели были немногочисленны и разбросаны по стране. А правил ими король – из своей крепости, тоже носившей название Орг. Именно к этой крепости и направлялись Элрик и его спутники, которым альбинос по пути изложил план по их защите от жителей Орга. В лесу он нашел лист, который при использовании его в заклинаниях (заклинания эти были безвредны: духи, которых вызывал чародей, не представляли для него угрозы) наделял заклинателя и всех, кому тот давал снадобье, приготовленное из этого листа, временной неуязвимостью. Это колдовство изменяло свойства кожи, отчего та могла противостоять удару любого клинка. Элрик, пребывавший в редком для него разговорчивом настроении, рассказал, каким образом сочетание снадобья и заклинания позволяет добиться желаемого эффекта, но его архаизмы и эзотерические термины ничего не говорили его собеседникам. Они остановились в часе езды от того места, где Мунглам предполагал найти крепость, чтобы Элрик мог приготовить снадобье и совершить заклинание. Он быстро развел небольшой костер и, используя ступку и пестик, какими пользуются алхимики, измельчил лист, добавив к нему немного воды. Когда вода начала закипать на огне, он начертал на земле какие-то необычные руны. Некоторые из них имели такую причудливую форму, что, казалось, они исчезают, уходя в другое измерение, а потом снова появляются, выходя из него.В нескольких милях к юго-востоку от Трооса слепой запел во сне печальную песню и проснулся от ее звуков…
С наступлением сумерек они добрались до крепости Орг, возвышавшейся над окружающей местностью. Их окрикнули гортанные голоса со стены, которая окружала древнее обиталище королей Орга. Из пор мощных камней выделялась влага, их подтачивал лишайник, разъедал мох. К единственному проходу для конных путников можно было добраться только по узкой тропе, почти на фут утопающей в зловонной черной жиже. – Какие у вас дела в королевском дворе Гутерана Могущественного? Они не видели того, кто задал этот вопрос. – Мы ищем гостеприимства и аудиенции у твоего повелителя, – весело откликнулся Мунглам, успешно скрывая волнение. Между зубцами стены с трудом протиснулось перекошенное лицо. – Входите, путники, я приветствую вас, – совсем не приветливо произнес его обладатель. Тяжелая деревянная дверь поднялась и пропустила их внутрь. Кони, медленно ступая по грязи, вошли во двор крепости. Наверху, в сером небе, устремляясь к горизонту, наперегонки мчались черные облака, словно стремились поскорее выбраться из страшных пределов Орга и мерзкого Троосского леса. Двор был покрыт, хотя и не таким слоем, той же грязью, с которой они столкнулись на подступах к крепости, и был полон тяжелых, неподвижных теней. Справа от Элрика поднимались к арочному входу ступени. Камень и здесь частично порос тем же нездоровым лишайником, который они видели на наружных стенах и в Троосском лесу. Под арку, ведя по лишайнику белой рукой в кольцах, вышел высокий, плотный человек. Он встал на верхней ступени, поглядывая на посетителей из-под тяжелых век. В отличие от других, он был красив. У него была крупная голова почти с такими же белыми, как у Элрика, волосами, но, в отличие от волос альбиноса, грязноватыми и спутанными. Он был одет в тяжелую куртку из стеганой рельефной кожи, в желтую юбочку, доходившую до колен, а на поясе у него висел широкий обнаженный кинжал. Ему было между сорока и пятью-десятью, а его точеное, хотя и не пышущее здоровьем лицо было испещрено морщинами и оспинами. Он молча смотрел на них, не приглашая подняться. Вместо этого он дал знак одному из стражников на стене, и тот опустил тяжелую дверь за их спиной. Она упала со стуком, отрезав путь к отступлению. – Мужчин убить, женщину оставить, – басом сказал высокий. Элрику доводилось слышать мертвецов, которые говорили такими же голосами. Как это и было обусловлено, Элрик и Мунглам встали по обе стороны от Заринии и, сложив руки на груди, замерли в таком положении. Хромающие существа в недоумении и не без опаски приблизились к ним, их длинные штаны волочились по грязи, их руки были спрятаны в длинных бесформенных рукавах грязных одеяний. Они взмахнули своими клинками. Элрик почувствовал слабый удар по руке – не более. То же самое испытал и Мунглам. Стражники отступили, на их звериных лицах были написаны смятение и недоумение. Глаза высокого человека расширились. Он поднес унизанный кольцами палец ко рту и принялся грызть ноготь. – Наше оружие ничего не может с ними поделать, король! Они неуязвимы, они лишены крови. Кто они такие? Элрик театрально рассмеялся: – Мы не обычные люди, человечек, можешь не сомневаться. Мы посланники богов и пришли к твоему королю с поручением от наших великих хозяев. Вы можете не волноваться, мы с вами не сделаем ничего плохого, если только вы не будете нам угрожать. Отойдите в сторону и окажите нам гостеприимство. Элрик видел, что король Гутеран озадачен, но услышанное нимало не обмануло его. Элрик молча выругался – он-то думал, что разумом эти аборигены не превосходят тех своих соотечественников, с которыми он сталкивался прежде. Король, был он безумен или нет, оказался гораздо умнее других, обмануть его будет нелегко. Элрик направился вверх по ступеням к Гутерану. – Приветствую тебя, король Гутеран. Боги наконец вернулись в Орг и хотят, чтобы ты узнал об этом. – Орг уже целую вечность не почитает никаких богов, – мрачно сказал Гутеран, поворачиваясь, чтобы вернуться в крепость. – С какой стати мы будем принимать их сейчас? – Ты богохульствуешь, король. – А ты дерзишь. Почему я должен верить, будто тебя послали боги? – Он шел впереди по залам с низкими потолками. – Ты же видел, что оружие твоих подданных бессильно против нас. – Верно. Хорошо, я приму пока это обстоятельство в качестве доказательства. Я полагаю, я должен устроить застолье в вашу… честь. Сейчас я распоряжусь. Добро пожаловать, посланники богов. – Речи его явно не были любезными, но по их тону ничего определить было нельзя, так как голос звучал без всяких модуляций. Элрик скинул с плеч тяжелый дорожный плащ и весело сказал: – Мы сообщим нашим хозяевам о твоей доброте. Королевский двор представлял собой соединение множества мрачных залов и фальшивого смеха. И хотя Элрик задал Гутерану немало вопросов, король ни на один не ответил или же отвечал фразами, начисто лишенными смысла. Им не предоставили покоев, где они могли отдохнуть. Вместо этого им пришлось несколько часов простоять в главном зале крепости, и Гутеран, если он не отдавал распоряжения в связи с предстоящим пиром, все это время просидел, развалясь на своем троне, грызя ногти и не обращая на всех троих никакого внимания. – Приятное гостеприимство, – прошептал Мунглам. – Элрик, сколько еще продлится действие снадобья? – Зариния стояла бок о бок с Элриком. Он обнял ее за плечи. – Не знаю. Недолго. Но снадобье уже сделало свое дело. Вряд ли они попытаются напасть на нас еще раз. Однако нам нужно быть наготове и не допустить других покушений на нашу жизнь – не столь откровенных. В неотапливаемом главном зале было холодно и неуютно. Потолки здесь были выше, чем в других помещениях, а по периметру зал был окружен галереей, располагавшейся выше уровня пола. В зале было несколько открытых очагов, выходящих прямо на пол, но огонь в них не горел. С голых стен капала влага. Всюду были видны сырые плохо обработанные камни, мрачные и выветренные. На полу, заваленном костями и остатками гниющей еды, не было даже соломы или тростника. – Вряд ли они гордятся таким домом, – сказал Мунглам, оглядываясь с отвращением. Он окинул взглядом Гутерана, который словно забыл об их присутствии. Шаркая, в зал вошел слуга и шепнул на ухо королю несколько слов. Тот кивнул, поднялся и вышел из главного зала. Вскоре появились люди, тащившие столы и скамьи, и начали расставлять их в зале. Начало пира приближалось. В воздухе запахло угрозой.
Три гостя сидели по правую руку от короля, который поигрывал украшенной бриллиантами королевской цепью, а его сын и несколько белолицых женщин королевского рода молча сидели по левую руку от короля. Принц Гурд, угрюмого вида молодой человек, который, казалось, был в обиде на отца, неохотно клевал поданную им неаппетитную пищу. Он пил много вина, безвкусного, но довольно крепкого, жгучего, и это, казалось, оживляло обстановку за столом. – И чего же хотят боги от нас, бедного народа Орга? – спросил Гурд, глядя на Заринию в упор, с интересом, более чем дружеским. Элрик ответил: – Они ничего не требуют от вас, кроме признания. А за это они будут иногда помогать вам. – И это все? – рассмеялся Гурд. – Это больше, чем могут предложить те, что под Холмом, правда, отец? Гутеран медленно повернул к сыну свою большую голову. – Да, – пробормотал он, и в этом слове послышалось что-то вроде предостережения. Мунглам спросил: – Холм? Это что такое? Ответа он не получил. Вместо ответа со стороны входа в главный зал послышался высокий смех. Там стоял высокий худой человек, глядя перед собой неподвижным взглядом. своими чертами, хотя он и был сильно изможден, человек очень напоминал Гутерана. Он принес какой-то струнный инструмент и теперь перебирал струны, отчего инструмент стонал и завывал с меланхолической настойчивостью. Гурд свирепо сказал: – Смотри-ка, отец. Это же слепой Вееркад, менестрель. Твой брат. Он нам будет петь? – Петь? – Он будет петь свои песни, отец? Губы Гутерана задрожали и скривились, и после минутного размышления он сказал: – Пусть развлечет наших гостей героической балладой, если хочет, но… – Но некоторые песни ему петь запрещено… – На лице Гурда мелькнула злорадная ухмылка. Казалось, он намеренно мучает отца каким-то непонятным Элрику способом. Гурд крикнул слепому: – Давай, дядя Вееркад, пой! – Здесь присутствуют чужие, – глухим голосом, перекрикивая звук музыки, сказал Вееркад. – Чужаки в Орге. Гурд хихикнул и отхлебнул еще вина. Гутеран нахмурился и, продолжая трястись, вгрызся в свои ногти. Элрик крикнул: – Мы с удовольствием послушаем твою песню, менестрель. – Что же, в таком случае, путники, я спою вам «Три короля во тьме». Узнайте ужасную историю короля Орга. – Нет! – закричал Гутеран, вскакивая со своего места, но Вееркад уже начал петь:
Глава третья
Он почувствовал холодную сталь цепей на своих руках. На его лицо падали капли дождя, обжигая кожу, расцарапанную ногтями Гурда. Он огляделся. Он был прикован к двум каменным столбам, явно установленным на могильном холме гигантского размера. Стояла ночь, и в небесах над ним висела бледная луна. Он кинул взгляд вниз на группу людей, среди которых увидел Гурда и Гутерана. Они издевательски ухмылялись. – Прощай,посланник. Ты хорошо послужишь нам и умиротворишь Тех, кто под Холмом! – крикнул Гурд. После этого все заспешили назад к крепости, силуэт которой виднелся невдалеке. Где он? Что случилось с Заринией? С Мунгламом? Почему его приковали здесь – он вспомнил и осознал: на Холме! Он содрогнулся, беспомощный в прочных цепях, удерживающих его. В отчаянии он попытался выдернуть цепи из камня, но они не поддавались. Он хотел было сосредоточиться, придумать какой-нибудь план, но мысли его путались – ему мешали тяжелые цепи и беспокойство за судьбу Заринии и Мунглама. Он услышал оглушающие звуки какого-то мельтешения внизу и увидел, как что-то белое и жуткое рванулось из мрака. Он бешено забился в грохочущем железе, сковывавшем его. В главном зале крепости шумное празднество переходило в исступленную оргию. Гутеран и Гурд были абсолютно пьяны и, радуясь своей победе, безумно смеялись. Рядом с залом Вееркад прислушивался к происходящему и кипел от ненависти. Больше всего ненавидел он своего брата – человека, который низложил и ослепил его, чтобы не дать ему изучать колдовство, с помощью которого Вееркад собирался поднять короля из-под Холма. – Наконец-то время пришло, – прошептал он сам себе и остановил проходящего слугу. – Скажи мне, куда поместили девушку. – Она в покоях Гутерана, господин. Вееркад отпустил слугу и начал пробираться по мрачным коридорам, вверх по кривым ступенькам. Наконец он оказался перед комнатой, которую искал. Здесь он вытащил ключ – один из многих, изготовленных им тайно от Гутерана, – и отпер дверь. Зариния видела, как в комнату входит слепой, но сделать ничего не могла. Во рту у нее был кляп, руки и ноги связаны, да и сама она еще не пришла в себя после удара, нанесенного ей Гурдом. О судьбе Элрика ей сообщили, но Мунгламу удалось ускользнуть от врагов, и теперь стражники искали его в зловонных коридорах Орга. – Я пришел, чтобы отнести тебя к твоему спутнику, госпожа, – улыбнулся слепой Вееркад. Со всей силой, которую придавало ему безумие, он тряхнул ее, поднял и направился с ней к двери. Он прекрасно знал все переходы Орга, потому что родился и вырос здесь. Но рядом с покоями Гутерана прятались еще двое. Один из них – Гурд, принц Орга, который не желал мириться с тем, что его отец забрал девушку себе: Гурд сам хотел завладеть ею. Он видел, как Вееркад уносит девушку, и стоял, молча взирая на происходящее. Другим был Мунглам, который наблюдал из темного угла, где он спрятался от стражников. Гурд неслышно поспешил за Вееркадом, а за ним последовал Мунглам. Вееркад вышел из крепости через маленькую дверь в стене и потащил свою живую ношу к громаде погребального холма.У подножия огромного могильного кургана роились мертвенно-бледные вурдалаки, почуявшие присутствие Элрика, которого народ Орга принес им в жертву. Теперь Элрик понял. Этих существ Орг страшился больше богов. Это были живые мертвецы, предки тех, кто теперь властвовал в главном зале. Может быть, они-то и были Обреченным народом. В чем состоял их рок? Не знать покоя? Оставаться бессмертными? Превратиться в безмозглых вурдалаков? Элрика передернуло от ужаса. И отчаяние вернуло ему память. Он издал мучительный вопль, обращенный к нависшим над ним небесам и дрожащей земле. – Ариох! Разбей эти камни, спаси своего слугу! Ариох! Господин, помоги мне! Этого было мало. Вурдалаки собрались толпой и начали подниматься вверх по кургану к беспомощному альбиносу. – Ариох! Эти твари предадут твою память! Помоги мне уничтожить их! Земля задрожала, и небеса опустились еще ниже, спрятав луну, но белолицые, бескровные вурдалаки уже были совсем рядом. Но тут над головой Элрика появился огненный шар, от которого, казалось, содрогнулись небеса вокруг. Потом с оглушительным раскатом ударили две молнии – они раздробили камни и освободили Элрика. Он вскочил на ноги, зная, что Ариох потребует от него вознаграждения. И тут первые вурдалаки бросились на него. Он не отступил, а в гневе и отчаянии ринулся в самую их гущу, нанося удары обрывками цепей. Вурдалаки стали отступать, бормоча что-то в страхе и злости, они бросились вниз по холму и внутрь его. Элрик не видел, что под ним в могильном кургане зияет открытый вход, черный на фоне черноты. Тяжело дыша, он нащупал сумку, оставшуюся на его поясе. Из нее он извлек кусочек тонкой золотой проволоки и начал им, как отмычкой, отпирать замки на цепях.
Вееркад тихо посмеивался, а Зариния, слыша эти звуки, чуть не сходила с ума от страха. Он продолжал нашептывать ей на ухо: – Но мертвый оживет в миг, когда живой умрет. Едва прольется наша кровь, раздастся поступь мертвых вновь. Мы с тобой воскресим его, и эта месть проклятием падет на моего брата. Твоя кровь, моя дорогая, освободит его. – Он понял, что вурдалаки ушли, и решил, что они остались довольны преподнесенным им даром. – Твой любовник был для меня полезен. – Он рассмеялся, входя в могильный курган. От запаха смерти девушка почти потеряла сознание. Слепой тащил ее в самое чрево Холма. Гурд, протрезвевший после прогулки по холодному воздуху, пришел в ужас, когда увидел, куда направляется Вееркад. Могильный курган, Холм Королей, был самым страшным местом в Орге. Гурд помедлил перед черным зевом холма и бросился прочь. Но тут он увидел надвинувшуюся на него фигуру Элрика – огромную и окровавленную, она спускалась с холма, отрезая ему путь к отступлению. С воплем бросился он в зияющее отверстие входа. Элрик не заметил принца, и вопль из темноты встревожил его. Он пытался увидеть его источник, но тот уже исчез. Элрик бегом бросился по крутому спуску ко входу в курган. Из темноты метнулась еще одна фигура. – Элрик! Слава звездам и всем земным богам – ты жив! – Слава Ариоху, Мунглам. Где Зариния? – Там – сумасшедший менестрель потащил ее с собой, а Гурд – за ними. Они все безумны, эти короли и принцы. Я не вижу в их действиях ни капли здравого смысла. – Мне кажется, что менестрель замыслил сделать с Заринией что-то жуткое. Быстрее! Мы должны его догнать. – О звезды, этот запах смерти! Я никогда не дышал таким воздухом, даже во время великого сражения в Эшмирской долине, когда армии Элвера сошлись с армиями Калега Вогуна, узурпатора Тангенши, и долину усеяли полмиллиона мертвых тел. – Если ты слаб желудком… – Я хотел бы, чтобы у меня его вообще не было. Идем… Они бросились в проход, ориентируясь на безумный смех Вееркада впереди и более близкие звуки шагов Гурда, потерявшего от страха разум, – теперь он находился между двух врагов, но больше всего боялся третьего. Гурд плелся в темноте, рыдая от охватившего его ужаса.
В фосфоресцирующем сиянии Главной гробницы в окружении мумифицированных тел своих предков Вееркад напевал песнь обряда воскрешения перед огромным гробом короля из-под Холма, который ростом не уступал высоченному Вееркаду. Вееркад не думал о собственной безопасности – все его мысли занимала месть брату Гутерану. Он держал длинный кинжал над связанной Заринией, которая в ужасе лежала на земле перед гробом. Кровь Заринии должна была стать кульминацией обряда, а после… А после силы Дца будут в буквальном смысле выпущены на свободу. По крайней мере, именно это входило в планы Вееркада. Он закончил свою песню и поднял нож в тот самый момент, когда в усыпальницу с криком вбежал Гурд, держа в руке меч. Вееркад повернулся, его слепое лицо исказила гримаса гнева. Гурд, не останавливаясь, с остервенением по самую рукоять вонзил меч в тело Вееркада – окровавленное острие вышло между лопаток менестреля, который в смертельной агонии со стоном сомкнул свои руки на горле принца, сомкнул так, что разорвать его хватку было невозможно. В этих двоих еще теплилось какое-то подобие жизни, они совершали свой жуткий танец смерти – стояли в призрачном мерцании посреди усыпальницы, вцепившись друг в друга и раскачиваясь. Гроб короля из-под Холма начал едва заметно подрагивать. Элрик и Мунглам в это время вбежали в усыпальницу, где их взорам предстали двое на пороге смерти. Элрик бросился туда, где лежала Зариния. Она, к счастью, была без сознания и не видела происходящего. Элрик приподнял ее – и она пришла в себя. Элрик бросил взгляд на содрогающийся гроб. – Быстрее, Мунглам. Этот слепой глупец пробудил мертвеца. Поспешим, мой друг, пока воины Ада не взялись за нас. Мунглам вздрогнул и пустился за Элриком, который бежал туда, где можно было вдохнуть свежий воздух ночи. – Что теперь, Элрик? – Нам придется рискнуть и вернуться в крепость. Там наши кони и все наше добро. Кони нам нужны, чтобы поскорее убраться отсюда, ибо – если только чутье не подводит меня – скоро здесь начнется страшная бойня. – Не думаю, что мы столкнемся с серьезным сопротивлением. Когда я уходил, все они были пьяны. Поэтому-то мне и удалось ускользнуть. Если они продолжили возлияния с прежним усердием, то сейчас они вообще не в состоянии двигаться. – Тогда поспешим. Они оставили Холм позади и бегом пустились к крепости.
Глава четвертая
Мунглам был прав. Все, кто находился в главном зале, забылись пьяным сном. В очагах теперь горел огонь, отчего по стенам прыгали тени. Элрик тихо сказал: – Мунглам, ступай с Заринией в конюшню и приготовь наших лошадей. А я тем временем завершу наши счеты с Гутераном. – Он махнул рукой. – Видишь, они свалили все, что им удалось награбить, на стол, радуясь тому, что полагают победой. Буревестник лежал поверх порванных сумок и седельных мешков, полных того, что принадлежало дяде Заринии и ее кузенам, а также Элрику и Мунгламу. Зариния пришла в себя, но мысли ее пока путались. Вместе с Мунгламом она отправилась на поиски конюшни. Элрик тем временем пробирался к столу, перешагивая через распростертые на полу тела пьяных обитателей крепости, огибая стоящие тут же жаровни. Наконец он, возблагодарив богов, взял в руки рунный меч. После этого он перепрыгнул через стол и уже хотел было схватить Гутерана, на котором все еще висел знак королевской власти – цепь, украшенная сказочными бриллиантами, но в это время большие двери зала распахнулись и в помещение с воем ворвался поток ледяного воздуха, отчего пламя факелов заметалось. Элрик, забыв о Гутеране, повернулся к дверям. Глаза его расширились. В дверном проеме стоял король из-под Холма. Давно умерший монарх был поднят из гроба Вееркадом, чья кровь завершила обряд воскрешения. Он стоял в сгнивших одеяниях, на его лишенных плоти костях висела высохшая черная кожа. Сердце его не билось, потому что у него не было сердца. Дышать он не мог, потому что его легкие были сожраны тварями, которые кормятся внутренностями мертвецов. Но он каким-то ужасным образом продолжал жить… Король из-под Холма. Он был последним великим правителем Обреченного народа, который в своей ярости уничтожил половину мира и создал Троосский лес. За мертвым королем толпились орды вурдалаков, похороненных вместе с ним в легендарном прошлом. И бойня началась! Какая давно лелеемая месть находила здесь выход – об этом Элрик мог только догадываться, но каковы бы ни были ее причины, опасность ему грозила серьезная. Элрик обнажил свой меч, когда пробудившийся сонм мертвецов вымещал свой гнев на живых. Зал наполнился воплями, криками ужаса несчастных оргианцев. Оцепенев от ужаса, Элрик застыл возле трона. Гутеран проснулся и увидел короля из-под Холма и толпу его слуг. Он чуть ли не с облегчением вскрикнул: – Наконец-то я смогу отдохнуть! С этими словами он умер, освободив Элрика от неприятной необходимости мести. В памяти Элрика звучала мрачная песня Вееркада. Три короля во тьме – Гутеран, Вееркад и король из-под Холма. Теперь в живых остался только последний, да и тот был мертв вот уже тысячу лет. Холодные мертвые глаза короля обшаривали зал. Наконец он увидел Гутерана, осевшего на своем троне. Древняя цепь королевского достоинства все еще была на его шее. Элрик сорвал ее с мертвого тела и бросился прочь, стараясь не столкнуться с наступающим королем из-под Холма. Он прижался спиной к колонне, а повсюду вокруг были торжествующие вурдалаки. Мертвый король приблизился, а потом с каким-то сиплым стоном, вырвавшимся из глубин его сгнившего тела, набросился на Элрика, которому пришлось отчаянно отбиваться от когтей короля, обладавшего огромной силой. Элрик снова и снова вонзал свой меч в тело, которое не чувствовало боли. Даже рунный меч был бессилен против этого ужаса, у которого не было ни души, ни крови. Элрик яростно отбивался от короля из-под Холма, но гнилые ногти вонзались в его тело, а зубы клацали у его горла. Вдобавок в зале витало парализующее зловоние смерти, усиливающееся, по мере того как все больше вурдалаков наполняли его своими ужасающими телами, услаждая свои чрева плотью живых и мертвых. Потом Элрик услышал голос Мунглама и увидел его на галерее, окружавшей зал. В руках у него был огромный кувшин с маслом. – Замани его поближе к огню, Элрик. Может быть, получится его уничтожить. Скорее, приятель, или тебе конец! Собрав остатки сил, мелнибониец ринулся к очагу. Король-гигант последовал за ним. Вокруг них вурдалаки пожирали то, что оставалось от их жертв, среди которых были и еще живые. Их вопли висели в воздухе, перекрывая звуки кровавого пиршества. Король из-под Холма стоял теперь спиной к очагу, все еще пытаясь разделаться с Элриком. И тут Мунглам швырнул кувшин. Кувшин ударился о камни жаровни, и пылающее масло окатило короля. Тот пошатнулся. И тогда Элрик, соединив всю свою силу с силой меча, бросился на короля и толкнул его. И король полетел в пламя. И пламя поглотило его. Жуткий вопль вырвался из груди гибнущего гиганта. Пламя лизало стены главного зала, и скоро все помещение было охвачено огнем, бушевавшим, словно в аду. В огне носились вурдалаки, все еще продолжая свое пиршество и не ведая о том, что им грозит уничтожение. Путь к двери был закрыт. Элрик оглянулся и увидел, что у него есть только одна возможность бежать. Сунув Буревестник в ножны, он разбежался и подпрыгнул. В прыжке он ухватился за перила галереи, а в это время огонь уже вовсю бушевал там, где только что стоял альбинос. Мунглам свесился вниз, протянул руку и помог Элрику перебраться через перила. – Я разочарован, Элрик, – ухмыльнулся он. – Ты забыл захватить сокровища. Элрик показал ему то, что держал в левой руке – цепь королевского достоинства с фантастическими бриллиантами. – Хоть какое-то вознаграждение за наши труды, – улыбнулся он, рассматривая сверкающее сокровище. – Клянусь Ариохом, я ничего не похищал. В Орге не осталось королей, чтобы ее надеть! Поспешим к Заринии. Мне не терпится убраться отсюда. Они побежали по галерее, камни которой уже начали проваливаться в главный зал. Наконец они сели на лошадей и поскакали прочь от дворца. Оглянувшись, Элрик увидел, как появились трещины в стенах, услышал рев пламени, пожиравшего все, что было Оргом. Они уничтожили гнездо властителей, останки трех королей, настоящее и прошлое. Ничего не останется от Орга, кроме пустого могильного кургана и двух мертвых тел, схватившихся в отчаянной борьбе там, где в Главной усыпальнице столетиями лежали их предки. Они уничтожили эту последнюю связь с прошлыми веками и очистили мир от древнего зла. Остался только страшный Троосский лес, знаменующий собой приход и гибель Обреченного народа. И Троосский лес был предостережением. Усталые, они с облегчением смотрели на очертания Трооса вдалеке, за горящим погребальным костром. Но Элрик, хоть и был счастлив, что опасность миновала, снова погрузился в раздумье. – Почему ты нахмурился, любимый? – спросила Зариния. – Думаю, ты сказала правду. Помнишь, ты говорила, что я слишком уж полагаюсь на рунный меч? – Да. И я сказала, что не хочу спорить с тобой. – Договорились. Но у меня такое чувство, что отчасти ты была права. В погребальном кургане и на нем я был без Буревестника. Но я дрался и победил, потому что волновался за тебя. – Голос его звучал спокойно. – Может быть, со временем я смогу поддерживать свои силы с помощью трав, которые нашел в Троосе, и навсегда расстаться с этим мечом. Мунглам, услышав эти слова, рассмеялся: – Элрик, я не думал, что доживу до такого дня. Ты помышляешь о том, чтобы отказаться от своего отвратительного меча?! Не знаю, сделаешь ли ты это когда-нибудь, но и одна мысль весьма благотворна. – Ты прав, мой друг. – Он чуть наклонился в седле и обнял Заринию за плечи. То, что он сделал, было довольно опасно: они скакали во весь опор, но он притянул ее к себе и поцеловал, не обращая внимания на скорость, с какой они неслись. – Новое начало! – прокричал он, перекрывая вой ветра. – Новое начало, моя любовь!Они, смеясь, скакали по Плачущей пустоши к Карлааку. Они спешили навстречу новым знакомствам, богатству и славе, спешили устроить самую необычную свадьбу, какую когда-либо видели в северных краях.
Майкл Муркок Гирлянда забытых снов / The Caravan of Forgotten Dreams [= Приносящие огонь, Приносящие пламя, Поджигатели / The Flamebringer]
Коршуны с окровавленными клювами парили на холодном ветру, сопровождая орду всадников, которая неудержимо двигалась по Плачущей Пустоши. Орда пересекла две пустыни и три горных хребта, стремясь попасть в эти края: голод гнал их все дальше и дальше. Их подстегивали сказки о благодатных северных землях и подбадривал неулыбчивый тонкогубый вожак, который с важным видом ехал впереди, держа в одной руке десятифутовое копье, украшенное кровавыми трофеями прежних грабительских набегов. Всадники ехали медленно: они устали и не ведали, что приближаются к цели. А тем временем далеко позади орды из Элвера — шумной столицы восточного мира — выехал коренастый всадник. Путь его ле The Caravan of Forgotten Dreamsжал по долине, некогда плодородной и прекрасной, а теперь мертвой и пустой. Обугленные стволы деревьев впивались в небо, как пальцы мертвого великана, и лошадь, храпя и фыркая, мчалась среди них, увязая копытами в земле цвета золы. А всадник неистово погонял перепуганное животное, стремясь как можно скорее преодолеть больную пустыню, которая не так давно была добрым Эшмиром, золотым садом востока. Несчастье постигло Эшмир, а саранча погубила его красоту. Несчастье, что обрушилось на некогда процветавшую страну, имело имя — Терарн Гаштек, вожак Орды Всадников, узколицый безумный кровопийца, сжигавший все на своем пути, по прозвищу Поджигатель. Всадник, без устали гнавший коня, носил имя Мунглум из Элвера. Был он воином и поэтом и теперь скакал в Карлаак у Плачущей Пустоши — последний оплот западной цивилизации, о которой в восточных землях почти никто не знал. В Карлааке Мунглум хотел отыскать Элрика из Мелнибонэ — колдуна-альбиноса, императора погибшего Имррира, который теперь постоянно жил в прекрасном городе своей жены. Он хотел предупредить друга о чудовищной опасности и попросить о помощи. Низкорослый и самоуверенный, с большим улыбчивым ртом и густыми рыжими волосами, Мунглум казался человеком, которого никакие превратности судьбы не могут выбить из колеи, но теперь на губах его не было улыбки. Слившись воедино со скакуном, он летел к Карлааку — ради Эшмира, прекрасного Эшмира, родины его славных предков. Больше всего он боялся опоздать. Туда же направлялся и Терарн Гаштек. И уже достиг Плачущей Пустоши. Орда перемещалась медленно: ее задерживали телеги. Сначала обоз с продовольствием оставили далеко позади, но, поголодав пару дней, передумали. Однако на скрипучих телегах везли не только еду: на одной из них лежал связанный пленник, проклинавший Терарна Гаштека и его косоглазых воинов. Впрочем, не только кожаные ремни, из-за которых он и изрыгал проклятья, мешали Дриниджу Бара освободиться. Он был волшебником, и любые, даже самые крепкие, путы вряд ли могли удержать его против воли, но постыдная слабость к вину и женщинам сослужила ему дурную службу. Когда орда ворвалась в городок, где находился волшебник, он пребывал в столь плачевном состоянии, что и сам не заметил, как оказался в руках Терарна Гаштека, завладевшего его душой. Душа Дриниджа Бара скрывалась в теле черного котенка (обычаи чародеев востока предписывали для безопасности помещать свою душу в тело какого-либо животного). Терарн Гаштек поймал его и постоянно держал при себе. Вот так могущественный Дринидж Бара стал рабом вожака Орды Всадников и вынужден был ему повиноваться, а иначе тот грозил убить котенка и отправить душу волшебника в черную бездну.* * *
На бледном лице Элрика из Мелнибонэ виднелись едва заметные следы усталости, но мечтательная улыбка уже тронула его губы: прогуливаясь по висячим садам Карлаака, он с радостью и волнением смотрел на юную черноволосую красавицу. — Элрик, — улыбнулась Зарозиния, — ты нашел свое счастье? Он кивнул; — Да. Приносящий Бурю покрывается пылью в оружейной твоего отца. Снадобье, которое я делаю из растений Трооса, придает мне силу и ясное зрение, и его нужно принимать лишь изредка. Я могу позабыть о скитаниях и битвах, боях и походах. Я доволен тем, что живу здесь, с тобой, и изучаю книги в библиотеке Карлаака. Чего еще мне желать? Ты подарила мне радость. — Ты так часто хвалишь меня, что я возгоржусь. Он рассмеялся: — Это лучше, чем мучиться от сомнений. Не беспокойся, Зарозиния, у меня теперь нет причин пускаться в новые приключения. Не хватает Мунглума, но уроженцу востока неуютно на сумеречном западе. Он тосковал по родине и потому решил съездить туда. — Я рада твоему умиротворению, Элрик. Знаешь, мой отец не хотел, чтобы ты жил здесь, опасаясь зла, которое прежде сопровождало тебя, но сейчас он понял, что зло исчезло без следа. Вдруг с улицы донесся голос мужчины, и кто-то принялся колотить в ворота. — Пустите меня, проклятье, я должен поговорить с вашим хозяином! Прибежал слуга: — Лорд Элрик, прибыл человек с вестями. Он утверждает, что дружил с вами. — Как его зовут? — Мунглум. Так он себя назвал. — Мунглум! Недолго же он гостил в Элвере. Впусти его! В глазах Зарозинии мелькнул страх, и она схватила мужа за руку: — Элрик, я чувствую: он привез дурные вести и ты скоро покинешь меня! — Не бойся, милая. Никакая весть не разлучит нас. Он поспешил из сада во двор дома. Мунглум стремительно въехал в ворота и соскочил с коня. — Мунглум, друг мой! К чему эта спешка? Я, конечно, всегда рад видеть тебя, но ты так стремительно ворвался… Что случилось? Покрытое дорожной пылью лицо Мунглума было угрюмым. — Поджигатель идет сюда. С ним волшебник, — проговорил он. — Надо поскорее предупредить горожан! — Поджигатель? Это имя ничего не говорит мне. Ты не бредишь? — Да, верно. У меня бред! От ненависти. Он разрушил мою родину, уничтожил всю семью, друзей и теперь мечтает завоевать запад. Два года назад он был самым обычным разбойником в пустыне, но затем собрал целую орду варваров и стал грабить города по всем восточным землям. Только Элвер пока не подвергся нападению, потому что город слишком велик, чтобы даже этот негодяй смог взять его приступом. Но две тысячи миль плодородной земли он превратил в дымящуюся пустыню. Он собирается покорить весь мир, а сейчас идет на запад, и с ним — пятьсот тысяч воинов! — Ты упомянул о волшебстве. Неужели варвары владеют этим сложным искусством? — Варвары — нет. Но он взял в рабство одного из самых великих волшебников — Дриниджа Бара. Его схватили в Фуме, в таверне, когда он лежал пьяный между двумя бабами. Когда-то давно этот пьяница переселил свою душу в тело кота, чтобы никто не смог украсть ее во сне. Но Терарн Гаштек, Поджигатель, прознав об этой уловке, поймал кота, связал ему лапы и завязал платком морду. Теперь беспутная душа Дриниджа Бара принадлежит Поджигателю, а волшебник стал рабом варвара. Если он перестанет повиноваться, кота прикончат железным мечом, а душу чародея обрекут на вечные муки. — Хм, какое-то незнакомое волшебство, — сказал Элрик. — Очень смахивает на суеверие. — Пусть так. Но Дринидж Бара думает иначе и беспрекословно подчиняется Терарну Гаштеку. Несколько гордых городов уже разрушены с помощью его магии. — Как далеко от нас этот Поджигатель? — Не больше трех дней пути. Я ехал длинной дорогой, стараясь не попадаться на глаза его воинам. — Значит, надо готовиться к осаде. — Нет, Элрик, надо бежать! — Бежать? Я должен убедить жителей Карлаака покинуть свои дома и оставить этот прекрасный город на потеху свирепой орде? — Если они не послушаются тебя, пусть поможет им небо. Но ты можешь спастись. Ты и твоя жена. Никто не может противостоять такому врагу. — Я тоже неплохо владею магией. — Вряд ли магия в силах оттеснить полмиллиона человек, которым тоже помогает волшебство. — Да. — Элрик помрачнел. — И Карлаак — это торговый город, а не крепость. Мунглум, старина, ты убедил меня. Я выступлю на Совете города и постараюсь, в свою очередь, убедить их. — Только поторопись, Элрик. Карлаак не продержится и полдня под натиском кровавых псов Терарна Гаштека.* * *
— До чего же упрямы эти горожане, — говорил Элрик, когда они вдвоем с Мунглумом сидели в его кабинете поздно вечером. — Они не хотят понять, как велика опасность, отказываются бежать, а я не могу покинуть их. Они встретили меня добром и сделали гражданином Карлаака. — Значит, мы должны остаться здесь и умереть? — Возможно. Похоже, выбора нет. Хотя у меня появилась одна идея. Ты сказал, что тот волшебник стал пленником Терарна Гаштека. Что бы он сделал, если бы получил обратно свою душу? — О! Он с радостью отомстил бы своему обидчику. Но Поджигатель не настолько глуп, чтобы допустить это. Нет, беспутный чародей нам не помощник. — А если мы сумеем помочь ему? — Как? Это невозможно. — В самом деле? — Элрик иронично вскинул бровь. — Ну ладно. А этот варвар что-нибудь слышал обо мне? Как я выгляжу, чем занимаюсь? — Нет, насколько я знаю. — Сможет он узнать тебя? — Каким образом? — Тогда я предлагаю присоединиться к нему. — Присоединиться к нему?! Элрик, ты сошел с ума! — У каждого человека есть слабое место, и, только отыскав его, мы сумеем победить Поджигателя. А для этого нужно сначала приблизиться к нему. Мы выедем на заре, времени терять нельзя. Мунглум обреченно кивнул: — Остается надеяться на удачу. Прежде она сопутствовала нам, но теперь… Боюсь, она ушла вместе с твоими прежними привычками. — Найдем ее снова. — Ты возьмешь с собой Приносящего Бурю? — Но ты ведь не любишь его! Да и я надеялся больше никогда не прибегать к его помощи. Он — смертельный друг. — К сожалению, без него сейчас не обойтись. — Мунглум, казалось, удивился собственной уверенности. — Да, ты прав. Я возьму его. — Элрик нахмурился, сжимая кулаки. — И это означает, что я нарушил слово, данное Зарозинии. — А как иначе ты собираешься защищать ее от вонючих кочевников?* * *
Держа в руке смоляной факел, Элрик открыл дверь оружейной и вошел. Шагая по узкому коридору, вдоль которого было развешано затупившееся старинное оружие, он почувствовал слабость. Сердце его тяжело забилось, когда он коснулся еще одной двери и, скинув закрывавший ее брус, ступил в небольшую комнату, где хранились королевские регалии давно умерших властителей Карлаака и Приносящий Бурю. Элрик глубоко вздохнул и потянулся к мечу — черный клинок протяжно застонал, словно приветствуя хозяина. Сдавленное рыдание слетело с губ альбиноса, он схватился за рукоять, и все его тело сотряслось в нечестивом экстазе. Элрик поспешно сунул меч в ножны и почти бегом выскочил из оружейной на свежий воздух.* * *
Элрик и Мунглум, одетые как обычные наемники, сели на снаряженных коней и попрощались с членами Совета Карлаака. Зарозиния поцеловала бледную руку Элрика. — Я понимаю, что это необходимо, — сказала она, с трудом сдерживая слезы. — Но будь осторожен, любовь моя. — Я постараюсь. Помолись, чтобы удача не отвернулась от нас. — Белые Боги да пребудут с вами. — Нет. Молись силам тьмы, потому что в этом деле я могу надеяться только на их помощь. И не забудь слова моего устного послания, передай их гонцу как можно точнее. Пусть он немедленно отправляется в путь, на юго-восток, к Дувиму Слорму. — Я ничего не забуду, — ответила она. — Меня тревожит, не увлекут ли тебя вновь черные пути. — Беспокойся о ближайшем будущем. О своей судьбе я подумаю сам. Позже. — Тогда прощай, милорд, и будь удачлив. — Прощай, Зарозиния. Моя любовь даст мне больше силы, чем этот кровавый меч. Он пришпорил коня, и воины выехали в ворота, направляясь к Плачущей Пустоши.* * *
Затерянные в бескрайних просторах укутанного мягким дерном плато, которое назвали Плачущей Пустошью, потому что его всегда поливал дождь, двое всадников гнали усталых коней. Промокший до костей воин пустыни увидел их и понял, что эти люди приближаются к нему. Он долго разглядывал их сквозь пелену дождя, а затем, развернув крепкого пони, погнал назад, к лагерю. Через несколько минут он приблизился к небольшому отряду воинов облаченных, как и он сам, в меха и железные шлемы с кистями. Их вооружение составляли кривые мечи и короткие костяные луки. Колчаны, полные длинных стрел с черным оперением из крыльев коршунов, висели у них за плечами. Дозорный обменялся несколькими словами с товарищами, и вскоре они устремились навстречу чужакам. — Далеко еще до лагеря Терарна Гаштека, Мунглум? — устало спросил альбинос: они ехали безостановочно целый день. — Уже близко, Элрик. Мы должны быть… Смотри! — Мунглум показал вперед. Десять всадников быстро приближались к ним. — Это варвары из пустыни — люди Поджигателя. Готовься к бою. Они не станут терять время на переговоры. Приносящий Бурю вылетел из ножен. Он словно помогал руке Элрика и, казалось, стал почти невесомым. Мунглум выхватил оба своих меча и зажал короткий в той же руке, что и поводья. Воины Орды выстроились полукругом и, приближаясь к противникам, разразились дикими боевыми кличами. Элрик резко осадил коня и ткнул ближайшего варвара в горло острием меча. В воздухе запахло серой, и воин испустил дух, успев осознать свою ужасную судьбу: Приносящий Бурю явно проголодался и теперь пил души и кровь с нескрываемым удовольствием. Элрик ударил следующего — отсек варвару руку с мечом и разнес его украшенный гербом шлем вместе с черепом. Дождь и пот струились по белому напряженному лицу альбиноса, заливая темно-красные горящие глаза. Он стряхнул воду, едва не выпав из седла, но успел отбить летящий в него кривой меч, затем одним движением запястья обезоружил воина и вонзил меч прямо ему в сердце. Умирающий завыл, словно волк на луну, долго и протяжно, и Приносящий Бурю поглотил его душу. Лицо Элрика исказилось от отвращения, но он продолжал биться, и его нечеловеческая сила все увеличивалась. Мунглум старался держаться подальше от меча альбиноса, зная, что тот с удовольствием уносит жизни друзей Элрика. Вскоре в живых остался только один варвар. Альбинос обезоружил его, отчаянно удерживая жадный меч, который стремился полоснуть пленника по горлу. Примирившись с тем, что неизбежно погибнет, воин сказал что-то на гортанном языке, который Элрику частично удалось понять. Покопавшись в памяти, он понял, что варвар использовал один из древних языков, которые не мог не знать любой волшебник. Чуть подумав, Элрик спросил пленника на том же языке: — Ты воин Терарна Гаштека? Поджигателя? — Да. А ты, наверное, белолицее зло из легенды. Я прошу убить меня чистым оружием, а не этим кошмарным мечом. — Я не хочу тебя убивать. Мы едем, чтобы присоединиться к Терарну Гаштеку. Отведи нас к нему. Человек поспешно кивнул и забрался на лошадь. — Кто ты такой, что говоришь на Высоком Языке нашего народа? — Меня зовут Элрик из Мелнибонэ. Ты слышал это имя? Воин покачал головой: — Нет. Как странно… На Высоком Языке не говорили целые десятилетия, только шаманы знают его. Но ведь ты не шаман. По твоей одежде ты скорее воин. — Мы оба наемники. Но хватит разговоров. Я объясню остальное твоему хозяину. Оставив обильное угощение шакалам, они последовали за дрожавшим воином к лагерю Поджигателя. Довольно скоро горизонт заволокло низким дымом от многих костров, и они увидели вдали стоянку огромной армии. Она растянулась на великом плато больше чем на милю. Варвары поставили кожаные палатки на круглых основаниях, и теперь их привал походил на большое поселение дикарей. В его середине стояло большое сооружение, украшенное пестрыми шелковыми лентами и парчой. Мунглум сказал на языке западных стран: — Скорее всего, это жилище Терарна Гаштека. Смотрите, он накрыл полуобработанные шкуры множеством восточных боевых знамен. Лицо маленького воина стало еще более угрюмым, когда он заметил порванный штандарт Эшмира, знамя Окара и испачканные в крови вымпелы Шанхая. Пленник провел незваных гостей через ряды сидевших на корточках варваров. Увлеченные своими разговорами, они не обратили на чужаков ни малейшего внимания. Перед входом в палатку Терарна Гаштека, вбитое в землю, торчало острием вверх огромное боевое копье, украшенное множеством чудовищных трофеев — черепами и костями восточных принцев и королей. Элрик поморщился: — Нельзя допустить, чтобы такой человек ступил на землю Молодых Королевств, где только начала возрождаться цивилизация. — Молодые государства всегда неподатливы, — заметил Мунглум. — Правда, когда они дряхлеют и плохо держатся на собственных ногах, их охотно терзают такие, как Терарн Гаштек. — Пока я жив, он не разрушит Карлаак и не дойдет до Бакшаана. — Интересно, как бы его приветствовали в Надсокоре? Город Нищих заслуживает, чтобы его посетил Поджигатель. Если Карлаак падет, Элрик, только море может остановить его, и то вряд ли. — С помощью Дувима Слорма мы уничтожим его. Будем надеяться, что гонец из Карлаака быстро найдет моего родственника. — Если он опоздает, нам придется туго. Бороться против полумиллиона воинов непросто, друг мой. Варвар прокричал: — О, властелин, могущественный Хозяин Огня! Я привел людей, которые хотят говорить с тобой. — Пусть войдут, — невнятно отозвался недовольный голос. Они вошли в дурно пахнувшую палатку, которую освещал костер, окруженный кольцом камней. Изможденный человек, небрежно одетый в пестрые одежды, лежал, развалившись, на деревянной скамье с тяжелым золотым кубком в руке. В палатке было несколько женщин, одна из них как раз наливала своему господину вина. Терарн Гаштек выпрямился, оттолкнув женщину так, что она упала, и посмотрел на вошедших. Хозяин Огня удивительно походил на обтянутый кожей череп вроде тех, что украшали копье: щеки провалились, а узкие косые глаза настороженно смотрели из-под густых бровей. — Кто такие? — Господин, я не знаю, но они убили десять наших людей и едва не прикончили меня. — Ты не меньше заслуживаешь смерти, если позволил себя обезоружить. Иди вон. И найди быстро новый меч, или я прикажу шаману использовать твои потроха для гадания. Воин тут же выскочил наружу. Терарн Гаштек снова развалился на скамье. — Итак, вы убили десять моих степных воинов и пришли сюда, чтобы похвастаться? Я правильно понимаю? — Мы просто защищались, а вовсе не искали ссоры. — Элрик старался говорить на этом грубом языке как можно лучше. : — Нечего сказать, хорошая защита. Мы считаем, что каждый из нас способен противостоять троим живущим в домах. Ты, несомненно, с запада, хотя твой молчаливый друг смахивает на элверита. Вы идете с востока или с запада? — С запада, — ответил Элрик. — Мы свободные воины. Мы нанимаемся со своими мечами к тем, кто платит или обещает хорошую добычу. — И что, все западные воины такие же искусные, как вы? — Терарн Гаштек вдруг подумал, что, возможно, недооценил людей, которых собирался завоевать, и не сумел скрыть беспокойства. — Мы чуточку лучше, чем большинство, — солгал Мунглум, — но совсем немного. — А как насчет волшебства? Применяют там настоящую магию? — Нет, — покачал головой Элрик. — Это искусство для большинства утрачено. Тонкие губы варвара скривились в зловещей улыбке, выражавшей одновременно облегчение и радость. Кивнув сам себе, он сунул руку в складки широких шелковых одежд, вынул небольшого черного с белым котенка со связанными лапками и принялся его гладить. Тот всячески извивался, стараясь освободиться, и злобно шипел на своего мучителя. — Тогда мы можем не беспокоиться, — заявил Поджигатель. — А теперь скажите, зачем вы явились сюда? Я мог бы приказать замучить вас до смерти за то, что вы лишили жизни десять лучших моих всадников. — Мы подумали, что, присоединившись к твоему войску, неплохо заработаем, — уверенно проговорил Элрик. — Мы знаем, где находятся богатейшие города и слабо укрепленные селения. Возьмешь нас на службу? — Мне нужны такие люди, как вы, это верно. Я охотно возьму вас, но не стану доверять, пока вы не докажете свою преданность. Теперь найдите себе пристанище, а вечером приходите ко мне на пир. Я покажу вам частицу того могущества, которым обладаю. Эта сила сметет сопротивление запада и превратит его в бескрайнюю пустыню. — Благодарю, — ответил Элрик. — До вечера. Они вышли из жилища Поджигателя и направились сквозь беспорядочное скопище палаток, костров, телег и животных. Еды здесь, похоже, не хватало, но вино водилось в изобилии, и голодные варвары жадно лакали его, чтобы хоть немного заглушить голод. Элрик и Мунглум остановили какого-то воина и передали ему приказ Терарна Гаштека. Тот кивнул и мрачно повел их к палатке. — Вот сюда. Здесь жили трое из тех, кого вы убили. Теперь она ваша по праву победителей, так же как оружие и добыча внутри нее. — Хорошее начало, — улыбнулся Элрик с притворной радостью. В палатке, еще более грязной, чем у Терарна Гаштека, они обсудили свои дела. — Я чувствую себя препогано, — печально проговорил Мунглум, — среди этих косоглазых варваров. И как вспомню, что они сделали с Эшмиром, так у меня начинают чесаться руки! Я поубивал бы их всех до единого. И что теперь? — Пока ничего. Подождем до вечера. — Элрик вздохнул. — Наша задача кажется невыполнимой: я никогда не видел такой огромной орды. — Они непобедимы уже сами по себе, — продолжил Мунглум. — Даже без разрушающего крепостные стены волшебства Дриниджа Бара. И никакая нация в одиночку не сможет противостоять им, а бесконечная грызня всех этих самолюбивых западных королей помешает им объединиться вовремя. Возникла угроза самой цивилизации. Будем молиться о какой-то вдохновляющей идее. Твои темные боги, Элрик, по крайней мере, разумны, и мы должны надеяться, что эти дикари вызвали у них такое же негодование, как и у нас. — Они играют в странные игры с людьми-пешками, — тихо ответил альбинос, — и кто знает, что они задумали на этот раз?* * *
Закопченная палатка Терарна Гаштека теперь освещалась еще и тростниковыми факелами, а ужин, состоявший в основном из вина, уже на-чался- Элрик и Мунглум немного опоздали. — Привет, друзья мои! — заорал Поджигатель, размахивая кубком. — Здесь все мои сотники. Подходите и присоединяйтесь к ним! Элрик никогда не видел такой злобной своры варваров. Уже порядочно пьяные, дурно пахнувшие, безвкусно одетые в разнообразные, явно похищенные тряпки, они вызывали чувство гадливости. Новым гостям уступили место на одной из скамей и предложили вина, которое они лишь пригубили. — Приведите сюда раба! — крикнул Терарн Гаштек. — Приведите Дриниджа Бара, нашего ручного волшебника. Перед ним на столе лежали связанный кот и большой железный клинок. Вскоре воины, пьяно ухмыляясь, приволокли сухощавого человека со скорбным лицом и заставили его встать на колени перед повелителем варваров. Несчастный молча повиновался, но глаза его метали молнии. Не отрываясь, он смотрел на Терарна Гаштека и котенка. Затем, заметив нож, побледнел и потупился. — Чего ты от меня хочешь? — мрачно спросил он. — Как ты обращаешься к своему хозяину, чародей? Впрочем, не имеет значения. Нам надо развлечь гостей. Они обещали провести нас к жирным торговым городам. Покажи несколько трюков. — Я не фигляр. Неужели один из величайших волшебников мира станет заниматься подобной ерундой? — Я не прошу. Я приказываю. Повесели нас. Что тебе нужно для этого? Несколько рабов, кровь девственниц, еще что-нибудь? Только скажи… — Приманки мне не нужны. Я ведь не полоумный шаман. И вдруг волшебник увидел Элрика. Альбинос почувствовал, как мощный разум этого человека осторожно касается его сознания, значит, узнал в нем чародея. Не выдаст ли его Дринидж Бара? Элрик напрягся, и, откинувшись в тень, сложил определенным образом пальцы, подавая знак, по которому волшебники на западе узнают друг друга. Поймет ли его восточный маг? Он понял. Мгновение Дринидж Бара колебался, глядя на своего повелителя. Затем отвернулся и начал делать пассы, бормоча что-то под нос. Присутствующие ахнули, увидев над головами облако золотого дыма, которое, постепенно сгустившись, приняло очертания гигантского всадника с лицом Терарна Гаштека. Повелитель вар-варов подался вперед, всматриваясь в изображение. — Что это? Под копытами лошади появилась разворачивающаяся карта, которая показывала земли и моря. — Западные земли, — пояснил Дринидж Бара. — Это пророчество. — А это что? Призрачная лошадь начала топтать карту. Карта разорвалась на тысячи дымящихся частей и разлетелась в разные стороны. Затем исчезло и изображение. всадника, так же распавшись на части. — Таким образом могущественный Хозяин Огня поступит с процветающими нациями запада! — воскликнул Дринидж Бара. Варвары радостно завопили, но Элрик только слегка улыбнулся: восточный волшебник явно дразнил Терарна Гаштека и его людей. Тем временем дым превратился в золотой шар, который вспыхнул и исчез. Терарн Гаштек расхохотался: — Славный трюк, чародей. И предсказание верное. Ты неплохо поработал. Отправляйся обратно в свою конуру! И Дриниджа Бара потащили к выходу. Оглянувшись, он посмотрел на Элрика — теперь альбинос знал, где искать раба-чародея.* * *
Поздно вечером, когда варвары напились до потери сознания, Элрик и Мунглум выскользнули изжилища Поджигателя и направились туда, где держали Дриниджа Бара. Без особого труда они нашли крошечную грязную палатку, возле входа которой торчал один из узкоглазых воинов. Мунглум вынул мех с вином и, изображая пьяного, нетвердым шагом двинулся к нему. Элрик оставался на месте. — Чего тебе надо, иноземец? — прорычал стражник. — Ничего, друг мой. Мы пытаемся вернуться в нашу собственную палатку, только и всего. Ты не знаешь, где она? — Как я могу это знать? — В самом деле, откуда ты можешь знать? Хочешь вина? Неплохое — из собственных запасов Терарна Гаштека. Воин протянул руку: — Давай. Мунглум убрал мех в сторону: — Нет, я передумал. Пожалуй, оно крепковато для тебя. Жаль переводить добро на того, кто не сможет его оценить. — Вот как? — Варвар угрожающе двинулся к Мунглуму. — Тебе придется изменить свое мнение! И думаю, твоя кровь улучшит его вкус, мой маленький друг. Мунглум попятился. Воин последовал за ним. Тем временем Элрик тихо подбежал к палатке и нырнул в нее. Дринидж Бара со связанными запястьями лежал на куче невыделанных шкур. Он мрачно посмотрел на альбиноса: — Ну а ты чего хочешь? — Всего-навсего помочь тебе, Дринидж Бара. — Помочь мне? Но почему? Разве мы друзья? Чего ты добиваешься? — Мы оба занимаемся магией. Разве этого мало? — уклончиво ответил Элрик. — Я сразу понял, что ты маг. Правда, я не верю в дружелюбие волшебников. В моей стране между ними другие отношения. — Хорошо. Я скажу правду, нам нужна твоя помощь, чтобы остановить кровавое наступление варваров. У нас общий враг. Если мы вернем тебе душу, ты поможешь нам? — Конечно. Все это время я придумываю, как отомщу за себя. Но, ради меня, будьте осторожны. Если Поджигатель заподозрит, что вы помогаете мне, он убьет кота и всех нас заодно. — Мы постараемся принести кота. Это все, что тебе нужно? — Да. Мы должны обменяться кровью, я и кот, и тогда душа вернется в мое тело. — Очень хорошо. Я попытаюсь… — Элрик повернулся, услышав голоса снаружи. — Что там такое? — Это, наверное, Терарн Гаштек. Он приходит каждую ночь, чтобы поиздеваться надо мной, — испуганно ответил волшебник. — Где стражник? — Грубый голос варвара раздался ближе, и он вошел в маленькую палатку. — Что это?.. Он увидел Элрика, стоявшего над волшебником, и в его глазах появились удивление и настороженность. — Что ты делаешь здесь? И что случилось с моим стражником? — Стражник? — Изображая пьяное недоумение, альбинос затряс головой и замахал руками. — Я. не видел никакого стражника. Я шел в свою палатку, услышал лай шавки и решил заглянуть. А тут волшебник… Почему-то связанный и грязный… Терарн Гаштек нахмурился: — Еще раз забредешь не туда, и увидишь, как выглядит твое собственное сердце. А теперь уходи. Мы выступим утром. Элрик, пошатываясь и спотыкаясь, вышел из палатки.* * *
Одинокий всадник в одежде официального посланца Карлаака гнал коня на юг. Миновав вершину холма, он увидел раскинувшуюся на равнине деревню и, пришпорив коня, буквально влетел в нее. На улице было довольно пустынно: в грязи возились дети, да какой-то старик тащил мешок с мукой. Посланец догнал прохожего и закричал: — Скажи мне быстро, ты знаешь Дувима Слорма и его имррирских наемников? Они проходили здесь? — Да. Неделю назад. Они направлялись к Ригнариому у границы Джадмара — хотели наняться на службу в Вилмире. — Они ехали на конях или шли пешком? — Были и те и другие. — Благодарю тебя, дедушка! — воскликнул посланец и помчался к Ригнариому. Всадник из Карлаака скакал всю ночь по совсем новой дороге. Видимо, огромная сила проложила ее, и он молился, чтобы этой силой были Дувим Слорм и его имррирские воины. А Карлаак, прекрасный Город Нефритовых Башен, утопая в сладко благоухающих садах, ждал вестей, добрых или худых, которые могли достичь стен славного города еще не так скоро. Жители полагались и на Элрика, и на посланца. Если удача улыбнется только одному из них, мучения будут дольше, а гибель — страшнее. Спасение западных цивилизаций зависело от успеха обоих. И только обоих.* * *
Беспорядочный шум сотен проснувшихся людей прогнал тишину плаксивого утра, и резкий голос ненасытного завоевателя Терарна Гаштека призвал воинов поторопиться. Рабы разобрали жилище Поджигателя и уложили на повозку. Вожак Орды Всадников собственноручно выдернул из мягкой земли длинное боевое копье и повернул коня на запад. Его сотники и Элрик с Мунглумом поспешили за ним. По дороге приятели обсуждали на не знакомом варварам языке, как быть дальше. Поджигатель не сомневался, что они ведут Орду к богатой и легкой добыче. Всадники с раскосыми глазами скакали широким фронтом, и потому обойти селения стороной было невозможно. К тому же бесчестно было бы жертвовать другим городом, чтобы Карлаак смог прожить еще несколько дней… Немного погодя двое запыхавшихся всадников подскакали к Терарну Гаштеку: — Впереди город, повелитель! Небольшой, и его легко захватить! — Наконец-то! Опробуем наши мечи и посмотрим, как поддается клинку плоть западников. А затем отыщем на более крупную дичь! — Он повернулся к альбиносу: — Ты знаешь этот город? — Где он находится? — хрипло спросил Элрик. — В дюжине миль отсюда на юго-запад, — ответил всадник. Несмотря на то что теперь этот город был обречен, Элрик вздохнул с облегчением: они говорили о Горджхане. — Знаю, — кивнул он.* * *
Седельник Кавим, отвозивший на дальнюю ферму новую конскую сбрую, обратил внимание на всадников вдали только потому, что его заинтересовали странные вспышки света: солнечные лучи отражались от металлических шлемов. Неизвестные воины приближались со стороны Плачущей Пустоши, и было их так много, что Кавим сразу понял: надвигается большая опасность. Развернув коня, он, подгоняемый страхом, поскакал обратно в Горджхан. Плотная засохшая грязь на улицах города дрожала под копытами коня Кавима, и его громкий крик легко проникал сквозь закрытые ставни. — Грабители идут! Берегитесь грабителей! За четверть часа хозяева города собрались на совет, чтобы обсудить, что делать: бежать или сражаться. Старики советовали спасаться бегством всем, кто способен на это, молодые предлагали остаться и принять бой. Некоторые говорили, что их бедный городок вряд ли привлечет грабителей. Пока жители Горджхана спорили, первые отряды варваров уже подошли к городской стене. Когда стало ясно, что на разговоры времени уже не осталось и беда стоит на пороге, горожане бросились на стены, вооружаясь на ходу всем, что попадало под руку. — Не будем тратить время на осаду! Приведите волшебника! — заорал Терарн Гаштек воинам, месившим грязь возле Горджхана. Привели Дриниджа Бара. Поджигатель вынул из складок одежды черного котенка и поднес к его горлу железный нож. — Давай, волшебник, разрушь эти стены! Чародей нахмурился и поискал глазами Элрика, но альбинос пригнулся в седле и отъехал за спины воинов. Тогда Дринидж Бара начал действовать. Он достал из пояса пригоршню порошка и рассеял его по ветру. Тут же заструился легкий дым, затем из него возник мерцающий огненный шар, и вскоре в этом пламени появилось страшное лицо, не похожее на человеческое. — Разрушитель Даг-Гадден, — заговорил Дринидж Бара, — ты поклялся соблюдать наш старый договор. Будешь ли ты подчиняться мне? — Я должен, значит, буду. Приказывай! — Уничтожь стены этого города. Пусть его люди станут словно улитка без раковины или краб, лишенный панциря! — Я с радостью повинуюсь, ибо разрушение — моя суть. Пылающее, как пламя, лицо померкло, раздался жуткий крик, и красный сияющий купол взметнулся ввысь, закрыв небо. На мгновение повисла предгрозовая тишина, а затем демон ринулся вниз, и, едва купол опустился на город, стены Горджхана застонали, рассыпались и исчезли. Элрик ужаснулся: если Даг-Гадден придет в Карлаак, старинную крепость постигнет такая же участь. Торжествующие варвары бросились в беззащитный город. Хотя Элрик и Мунглум постарались не участвовать в этой бойне, они ничем не могли помочь несчастным горожанам. Бессмысленная кровавая резня настолько ошеломила приятелей, что они скрылись в небольшом, еще не разграбленном доме. На них уставились четыре пары перепуганных глаз: трое съежившихся от страха ребятишек прижимались к девочке постарше. Вцепившись в старую косу, она приготовилась защищать малышей. — Не трать нашего времени, девочка, — сказал ей Элрик, — мы не хотим причинять вам зла. В этом доме есть чердак? Она кивнула. — Тогда бегите туда. И быстро. Элрик и Мунглум, будучи не в силах смотреть на чудовищное избиение, обосновались в доме. Но вопли жертв, хохот опьяневших от крови дикарей и тяжелый запах истерзанной плоти проникали даже сюда. Неожиданно дверь распахнулась, и перепачканный в крови варвар втащил за волосы женщину. На ее измученном лице застыла гримаса ужаса и боли, и она не пыталась сопротивляться. — Найди другое гнездо, коршун, а это наше, — прорычал Элрик. — Здесь хватит места и для меня, и для этой шлюхи, — огрызнулся варвар. И тут наконец бесконечное напряжение этого дня нашло выход. Правая рука альбиноса метнулась к левому бедру, длинные пальцы обхватили черную рукоять Приносящего Бурю, и клинок сам выскочил из ножен. Глаза Элрика полыхнули, как угли, он шагнул вперед и обрушил меч на голову узкоглазого воина. Затем, хоть это было уже совсем не нужно, просто чтобы излить накопившуюся ярость, он повторил удар и разрубил варвара пополам. Женщина осталась лежать на полу, она была в сознании, но не шевелилась. Элрик взял ее на руки и осторожно передал Мунглуму. — Подними ее наверх к остальным, — сказал он отрывисто. Тем временем варвары начали поджигать дома: избиение жителей они закончили и теперь занялись грабежом. Элрик вышел на улицу. Горджхан не относился к богатым городам, грабители не получили обильной добычи, и тогда они, разочарованные и обозленные, кинулись уничтожать все, что попадалось на пути: вещи, здания, людей… Сжимая в руке подрагивавший от нетерпения Черный Меч, Элрик смотрел на горящий город, и его лицо напоминало трагическую маску, вылепленную из теней и отблесков пламени, длинные языки которого лизали туманное небо. Где-то неподалеку варвары ссорились из-за какой-то мелочи, время от времени раздавался женский визг, перекрывавший другие звуки, а потом вновь звенел металл и ревели грубые голоса. Неожиданно отрывистая речь варваров послышалась совсем близко. К грубым и чуть хрипловатым голосам воинов примешивался звук другого, высокого, голоса: кто-то, поскуливая и всхлипывая, о чем-то просил завоевателей. Из дымной завесы появился небольшой отряд во главе с самим Терарном Гаштеком. Поджигатель нес что-то окровавленное. Присмотревшись, Элрик понял, что это отрубленная кисть человеческой руки. Два дюжих сотника волокли следом избитого и окровавленного голого старика. Терарн Гаштек замер, увидев альбиноса, а затем, красуясь перед ним, закричал: — Эй, западник, сейчас ты увидишь, какими дарами умиротворяли наших богов! Клянусь, это получше, чем жратва и кислое молоко, которыми их пичкала эта свинья. Скоро он у нас попляшет! Люблю все доводить до конца! Подвывания исчезли из голоса старика, а его лихорадочно блестевшие глаза впились в лицо Элрика. Он заговорил, точнее, завизжал на таких высоких нотах, что альбинос вздрогнул, словно от удара. Вместе с тем неописуемый голос показался ему даже притягательным. — Вы, собаки, можете лаять сколько угодно! — словно выплюнул он. — Но Мирадх и Т'ааргано отомстят за разрушение своего храма и убийство жреца. Вы принесли сюда огонь, и он пожрет вас! А ты, — он ткнул окровавленным обрубком в Элрика, — ты изменник! Ты предавал не раз и не два, это написано на твоем лице. Хотя теперь… Ты… — У старика перехватило дыхание. Элрик провел языком по пересохшим губам. — Я тот, кто я есть, — ответил он. — А ты всего лишь старик, который скоро умрет. И твои бессильные боги не способны повредить нам. Они не защитили тебя теперь, не вспомнят и потом. Прими свою судьбу и не заставляй других слушать старческие бредни. На лице жреца отразились бесконечное страдание и боль, словно он один терпел муки за весь покинутый богами истребленный народ. — Набери воздуха, чтобы вскрикнуть погромче, — приказал Поджигатель полуживому старику. — Убийство жреца грозит несчастьем! — воскликнул Элрик. — Ты, похоже, слабоват на живот, друг мой. В качестве жертвы нашим богам он принесет нам удачу, не бойся. Альбинос отвернулся. Входя в дом, он услышал дикий крик и неприятный смех, последовавший за ним. Позже, когда все еще горевшие дома разгоняли тьму ночи, Элрик и Мунглум, изображая пьяных, отправились на край лагеря. Они тащили на плечах большие мешки и волокли с собой женщин — точно так выглядели почти все воины Поджигателя, шатавшиеся среди развалин, а юный возраст спутницы малорослого воина вызывал только завистливые взгляды. Примерно там, где прежде находилась городская стена, Мунглум оставил мешки и женщин под защитой Элрика и отправился назад, но вскоре появился снова — с тремя лошадьми. Приятели подсадили в седла молчаливых женщин, затем вынули из мешков дремавших детей, тоже устроили на конских спинах, и женщины поскакали прочь. — А теперь, — сквозь зубы процедил Элрик, — мы должны выполнить задуманное независимо от того, нашел посланец Дувима Слорма или нет. Я не перенесу еще одну такую бойню.* * *
Терарн Гаштек напился до полного бесчувствия и заснул, растянувшись на полу, в верхней комнате одного из уцелевших домов. Элрик и Мунглум тихо подползли к нему. Пока альбинос наблюдал, чтобы Поджигатель не проснулся, Мунглум, встав на колени, осторожно ощупывал одежду варвара. Наконец он победно улыбнулся и вытащил извивавшегося котенка. Вместо зверька он засунул в карман набитую кроли- чью шкурку, которую специально приготовил заранее. Прижав к себе животное, юркий воин ловко вскочил на ноги и кивнул Элрику. Стараясь двигаться совершенно бесшумно, они покинули дом. — Чародей лежит там, в большой повозке, — сказал альбинос другу. — Поспешим, главная опасность позади. — Когда кот и Дринидж Бара обменяются кровью и душа волшебника вернется в его тело, что произойдет, Элрик? — спросил Мунглум. — Объединив наши магические силы, мы могли бы повернуть варваров назад, но… — Он замолк: орава узкоглазых воинов преградила им дорогу. — Это западник и его маленький друг, — рассмеялся один из них. — Куда это вы идете, а? Элрик мгновенно понял, чего они добиваются: реки пролитой сегодня крови не утолили жажду насилия, и варвары явно искали ссоры. — Так, никуда, — ответил он. Пьяные вояки обступили их со всех сторон. — Мы много слышали о твоем прямом клинке, чужеземец, — с усмешкой сказал задира, — и я хочу знать, может ли он противостоять настоящему оружию. — Он выхватил из-за пояса кривой меч. — Что ты на это скажешь? — Я бы посоветовал найти другое развлечение, — холодно ответил Элрик. — Да ты прямо мудрец! Но лучше бы тебе согласиться. — Немедленно пропустите нас! — рявкнул Мунглум. В глазах варваров вспыхнули злые огоньки. — Как ты говоришь с завоевателями мира? — возмутился один из них. Мунглум отступил назад и выхватил меч, дерзка в левой руке гневно шипящего кота. — Они меня уговорили. — Элрик подмигнул приятелю и вынул рунный меч из ножен. Приносящий Бурю запел мягкую насмешливую песню. Варвары, услышав ее, отступили на шаг. — Ну как, ничего? — Альбинос встал на изготовку. Задира, казалось, начал сомневаться, но затем, взяв себя в руки, закричал: — Чистое железо может противостоять любому волшебству! — И бросился вперед. Элрик, радуясь возможности отомстить за уничтоженный город, преградил ему дорогу, быстрым ударом отбросил кривой меч и разрубил задиру пополам чуть выше бедер. Варвар мгновенно умер. Мунглум бился еще с двумя. Одного он убил, но, уворачиваясь от второго, подставил под удар левое плечо и, взвыв от боли, выронил сердитого котенка. Элрик шагнул вперед и одним движением зарубил противника Мунглума — Приносящий Бурю восторженно взвыл. Остальные варвары поторопились смыться. — Серьезная рана? — Бескровное лицо альбиноса казалось встревоженным, но Мунглум, не отвечая, бросился на колени, вглядываясь во мглу. — Элрик, быстро, ты видишь кота? Я уронил его во время схватки. Если мы потеряли зверька, наши дни сочтены. Они торопливо принялись обшаривать близлежащие развалины, но тщетно: невероятно проворный котенок как сквозь землю провалился. Чуть позже они услышали гневные крики, доносившиеся из дома, который занял Терарн Гаштек. — Он обнаружил пропажу! — воскликнул Мунглум. — Что же теперь делать? — Не знаю. Надо искать. Будем надеяться, что он не заподозрил нас. Они снова начали копаться в обгорелых досках и ворошить угли, но по-прежнему все было напрасно. Когда приятели решили передохнуть, к ним подошли несколько варваров, и один из них сказал: — Наш повелитель желает говорить с вами. — О чем? — Он скажет сам. Идем. Им ничего не оставалось, как в окружении узкоглазых воинов пойти на встречу с разъяренным Терарном Гаштеком. Поджигатель метался по комнате, сжимая набитую кроличью шкурку в похожей на клешню руке, и лицо его кривилось от ярости. — У меня украли власть над волшебником! — проревел он. — Что вы об этом знаете? — Я не понимаю, — ответил Элрик. — Кот исчез! Вместо него я нашел эту дрянь. Ты говорил недавно с Дриниджем Бара, я сам видел и считаю, что ты к этому причастен. — Это твое право, но мы ничего не знаем, — ответил Мунглум. Терарн Гаштек прорычал: — Лагерь сейчас в беспорядке, мои люди никому не подчиняются, и понадобится день, чтобы восстановить дисциплину. Но когда они протрезвеют, я допрошу каждого. Если вы сказали правду, я отпущу вас, а пока у вас есть возможность вволю поговорить с волшебником. — Он сверкнул глазами. — Отнимите у них оружие, свяжите, выведите отсюда и бросьте в повозку Дриниджа Бара. Сопротивление могло только приблизить печальный конец, поэтому приятели безропотно дали себя связать и запихнуть в грязную телегу с кожаным навесом. Когда варвары ушли, Элрик прошептал: — Надо бежать и найти этого паршивого кота. Вот об этом я и в самом деле хотел бы побеседовать с Дриниджем Бара. Ты ведь можешь помочь? Из темноты раздался голос раба-чародея: — Нет, собрат, я не стану помогать вам. Это слишком опасно. — Но Терарн Гаштек теперь не страшен тебе. — А если он снова поймает кота? Как тогда? Элрик ничего не ответил: он пытался поудобнее устроиться на жестком и неровном ложе из грубо обработанных досок. В конце концов, убедившись, что, пока связан, он может только елозить на одном и том же месте, альбинос решил вернуться к прерванному разговору, но тут кожаный полог отъехал в сторону, и в повозку бросили еще одного пленника. Во вновь наступившей темноте Элрик поинтересовался у вновь прибывшего на языке варваров: — Кто ты? — Я не понимаю, — ответил человек на хорошо знакомом западном наречии. — О, так ты с запада? — Элрик легко перешел на другой язык. — Да. Я официальный посланец из Карлаака. Я возвращался в город, когда меня поймали эти вонючие шакалы. — Что? Ты тот человек, которого мы послали к Дувиму Слорму, моему родственнику? Я Элрик из Мелнибонэ. — Милорд, выходит, все мы пленники? О, боги! Тогда Карлаак погиб. — Ты встретился с Дувимом Слормом? — Да, я догнал его отряд. К счастью, они оказались ближе к Карлааку, чем мы думали. — И что он ответил на мою просьбу? — Он пообещал помочь и сказал, что ему потребуется время только на дорогу до Острова Драконов, но это он проделает с помощью волшебства. Так что еще не все потеряно. — Ты славно потрудился, друг мой, — с грустной улыбкой проговорил Элрик. — К сожалению, если мы не выполним свою часть задуманного, твоя работа пойдет насмарку. Надо как-то вернуть душу Дриниджа Бара, и тогда Поджигатель лишится магической защиты… — Не закончив фразу, альбинос погрузился в размышления. Потянулись минуты напряженной тишины. — Кажется, я придумал. В давние времена мой род правителей Мелнибонэ состоял в кровном родстве с существом, которое называло себя Мееркларом. Оно могло бы нам помочь. — Альбинос вновь завозился в повозке. — Благодаря богам я нашел в Троосе замечательные листья, и у меня снова появилась сила. А теперь я должен вызвать свой меч. Закрыв глаза, он заставил разум и тело полностью расслабиться, а затем сосредоточиться на единственной вещи в мире — Черном Мече. За многие годы человек и меч почти слились в единое целое, но теперь эта удивительная привязанность никак не давала о себе знать. Тогда Элрик закричал: — Приносящий Бурю! Приносящий Бурю, объединись со своим братом! Иди ко мне, славный рунный меч, выкованный темными силами ревнивый убийца! Твой хозяин нуждается в тебе… Снаружи словно взвыл ветер. Послышались крики ужаса и терзающий душу свист. Затем в кожаном пологе повозки образовалась дыра, и на фоне звездного неба в отверстии показался меч, который, дрожа, повис в воздухе прямо над головой альбиноса. Элрик рванулся вверх, заранее чувствуя отвращение к тому, что собирался проделать, и убеждая себя, что цель этого поступка благородна. — Дай мне силу, Приносящий Бурю, — простонал он, хватаясь связанными руками за рукоять. — Дай мне твою силу, и будем надеяться, что это в последний раз. Меч согнулся, и могучий поток силы, высосанной демоническим вампиром из сотен людей — неистовых воинов, хитроумных чародеев, мудрых женщин, — устремился в тело альбиноса. Теперь Элрик обладал особой мощью. Застонав от напряжения, он обуздал бешеный поток энергии и восстановил прежние отношения с рунным мечом: и то и другое угрожали захватить белолицего чародея полностью и подчинить его себе. Теперь можно было начинать. Он разорвал связывавшие его кожаные ремни и поднялся. Варвары уже бежали к повозке. Элрик быстро освободил остальных пленников и, не обращая ни на кого внимания, произнес имя. Он заговорил на незнакомом, чужом языке, который не мог помнить. Это был язык, которому учили волшебников-императоров Мелнибонэ, предков Элрика, еще до создания Имррира, Города Грез, больше десяти тысяч лет назад. — Меерклар, Повелитель Котов, я Элрик из Мелнибонэ, последний из рода императоров, связанных с тобой кровными узами, прошу о помощи. Ты слышишь меня, Повелитель Котов?* * *
Далеко от Земли, в чудесном мире, не отягощенном физическими законами пространства и времени, человекоподобное существо, наслаждаясь глубоким теплом синевы и янтаря, потянулось и зевнуло, показав тонкие острые зубки. Оно лениво прижало голову к покрытому мехом плечу и прислушалось. До его чуткого слуха донесся голос, не принадлежавший, впрочем, кому-либо из его нежно любимого мохнатого народа, но оно узнало язык. Существо улыбнулось, вспоминая о давно забытой дружбе. Оно подумало о старинном человеческом роде, с представителями которого в отличие от прочих людей, вызывавших только презрение, его объединяло истинное родство душ: их характеризовали жестокость и искушенность в житейских делах, любовь к роскоши и удовольствиям — это были мелнибонэйцы. Меерклар, Повелитель Котов, Защитник Кошачьего Рода, грациозно потянулся к источнику голоса. — Чем я могу помочь тебе? — промурлыкал он. — Меерклар, мы ищем одного из сынов кошачьего племени. Он где-то поблизости. — Да, я чувствую его. Зачем он вам? — Видишь ли, он счастливый обладатель двух душ, одна из которых ему не принадлежит. — Это так. Его имя Фиаршерн из великой семьи Трречовв. Я вызову его. Он подойдет ко мне. Варвары остановились в нерешительности, боясь приблизиться к повозке, где происходило нечто невероятное. Поджигатель, брызгая слюной, в ярости орал на них: — Нас пятьсот тысяч, а их несколько человек. Хватайте этих ублюдков и тащите сюда! Варвары осторожно двинулись вперед. Фиаршерн, черно-белый котенок, услышав голос, инстинктивно понял, что глупо было бы не подчиниться, и быстро побежал на зов. — Смотрите! Кот! Вот он! Ловите его! Два воина Терарна Гаштека бросились выполнять приказание, но юркий зверек ускользнул от них и прыгнул в повозку. — Отдай человеку его душу, Фиаршерн, — тихо сказал Меерклар. Кот слабо мяукнул в знак согласия, подошел к беспутному рабу-чародею и вонзил острые зубки в его вену. Через мгновение Дринидж Бара дико расхохотался: — Моя душа снова во мне. О Повелитель Котов, позволь мне достойно отблагодарить тебя. — Не стоит, — насмешливо ответил Меерклар. — И кроме того, я полагаю, твоя душа уже кому-то заложена. Всего доброго, Элрик из Мелнибонэ. Мне было приятно ответить на твой призыв, хотя с огромным сожалением я вижу, что ты отказался от древних путей своих отцов. Тем не менее ради старой привязанности я не отказываю тебе в своем расположении. Прощай, я возвращаюсь в более теплое и уютное место, чем это. Повелитель Котов исчез. Он вернулся в свой бирюзовый и янтарный ласковый мир, где возобновил прерванный сон. — Идем, собрат! — ликуя, закричал Дринидж Бара. — Пришла пора отомстить. Он и Элрик выпрыгнули из повозки. Мунглум и воин из Карлаака, оставшиеся без оружия, не особенно спешили за ними. Люди Поджигателя окружили повозку. В руках варвары держали приготовленные к стрельбе луки с длинными стрелами, некоторые вытащили кривые мечи, пытаясь, видимо, разогнать собственный страх. — Скорее стреляйте в них! — закричал Поджигатель. — Стреляйте, пока они не позвали демонов! Дождь стрел обрушился на повозку и людей возле нее. Дринидж Бара улыбнулся, произнес несколько слов и, казалось бы, беззаботно развел руками. Стрелы остановились в полете, повернули назад, и каждая точно попала в горло того, кто ее выпустил. Терарн Гаштек ахнул и, расталкивая своих людей, кинулся подальше от чародея. Отбежав на безопасное расстояние, Поджигатель приказал воинам вновь напасть на четверку. Варвары, понимая, что если они побегут, то погибнут, сомкнули ряды и подобно лавине двинулись на противника. Начиналось утро. Затянутое облаками небо немного посветлело, и Мунглум, посмотрев наверх, вдруг радостно завопил: — Элрик! Смотри, Элрик! — Только пять. — Альбинос, казалось, не разделял восторга друга. — Только пять. Но, возможно, этого будет достаточно. Элрик бился с десятком врагов одновременно. Его сверхчеловеческой мощи хватило бы и на всю орду, но вряд ли с таким напряжением мог бы справиться обессиленный рунный меч, который сейчас не отличался от обыкновенного клинка. Правда, со временем все изменилось: поток энергии ослабел, и невероятная сила потекла обратно из тела альбиноса в Приносящего Бурю. И снова рунный меч взвыл и жадно рванулся к глоткам и сердцам узкоглазых варваров. У Дриниджа Бара не было меча, но волшебник, используя совсем иное, более изощренное, оружие, в нем и не нуждался. Те, кто рискнул преградить ему дорогу, полегли вокруг в виде лишенных костей кусков мяса и жил. Два чародея и два воина весьма успешно пробивали себе путь сквозь полубезумную толпу варваров, которые тщетно пытались уничтожить этих вселявших ужас людей. К сожалению, в сумятице невозможно было о чем-либо договориться, поэтому Мунглум и гонец из Карлаака, вооружившись кривыми мечами убитых врагов, просто прикрывали своих могущественных соратников с тыла. Постепенно они достигли внешней границы лагеря. Отсюда было прекрасно видно, что, пока часть варваров выполняла безумный приказ Поджигателя и пыталась уничтожить отважную четверку, остальные устремились на запад, к беззащитному Карлааку. С гневом и болью смотрел им вслед Элрик и вдруг заметил Терарна Гаштека с луком в руках. Он понял намерения Поджигателя и закричал, предупреждая Дриниджа Бара, который стоял спиной к варвару, выкрикивая какое-то заклинание. Волшебник обернулся и замолк на полуслове. Мгновение спустя губы чародея вновь зашевелились, но тут стрела ударила ему в глаз. — Нет! — вскричал он и умер. Увидев, как погиб его союзник, Элрик тяжело вздохнул и посмотрел на небо — там парили огромные летающие существа. Дувим Слорм, родственник Элрика, сын недавно погибшего Дувима Твара, нынешний Повелитель Драконов, привел легендарных чудовищ Имррира на помощь альбиносу. Правда, большинство из этих гигантских созданий было погружено в глубокий сон, и им предстояло спать еще целое столетие. Только пятерых юных дракончиков удалось разбудить и поднять в воздух. Крылатые чудовища уже довольно давно кружили над лагерем варваров, но до этого Дувим Слорм ничего не мог сделать, опасаясь причинить вред Элрику и его друзьям. Терарн Гаштек тоже смотрел на драконов. Его грандиозный замысел завоевать весь мир рухнул, и он, вдруг осознав это, бросился на Элрика, размахивая мечом. — Ты, белолицее дерьмо! — вопил он. — Это все из-за тебя, и ты заплатишь мне! Элрик рассмеялся, одним движением выбил клинок из руки разъяренного варвара и показал ему на небо: — Вот кого можно назвать Поджигателями, причем у них на это больше права, чем у тебя! С этими словами он вонзил рунный меч в грудь Терарна Гаштека — варвар глухо застонал. — Меня называли Разрушителем, Элрик из Мелнибонэ, — выдохнул он, — но мой путь был чище твоего. Будь же ты и все, что тебе дорого, проклято навеки! Кровь хлынула изо рта Поджигателя, и он умер. Элрик вновь рассмеялся, но уже печальней и тише. — Твои проклятия сбылись задолго до того, как ты их произнес, друг мой! А теперь, я думаю, они бессильны. — Альбинос на мгновение замолк, затем добавил: — Клянусь Ариохом, я надеюсь, что прав. Похоже, мой злой рок лишь ненадолго позабыл обо мне, а я-то думал, что избавился от него навсегда…* * *
А Великая Орда, не зная о гибели своего повелителя, уже выступила в поход. Те, кто уцелел в схватке с чародеями, оседлали коней, собрали обоз и тронулись вслед за основными силами — на запад. Варварское войско двигалось удивительно быстро и согласованно, и ужас охватил Элрика при мысли, что эти узкоглазые насильники и убийцы сделают с незащищенным Карлааком. Над головой альбиноса хлопали огромные — длиной в тридцать футов — кожистые крылья, и знакомый запах гигантских летающих рептилий, преследовавший его с той поры, когда он вел грабительский флот на свой родной город, окутывал Элрика. Затем он услышал удивительные звуки Рога Драконов и, присмотревшись, увидел, что на спине первого чудовища с длинным, похожим на копье шестом, который использовался вместо хлыста, сидел сам Дувим Слорм. Дракон начал стремительно опускаться по спирали, и с грацией, удивительной для его размеров, приземлился примерно в сорока футах от белолицего человека и тут же сложил перепончатые крылья вдоль тела. Повелитель Драконов снял с правой руки теплую защитную перчатку и помахал Элрику. — Привет, император Элрик, похоже, мы едва не опоздали. — Времени достаточно, друг мой, — улыбнулся альбинос. — Ты похож на своего отца, Дувима Твара, и мне это очень приятно. Я боялся, что ты можешь не откликнуться на мою просьбу. — Старые счеты смыты кровью, пролитой в битве при Бакшаане, когда мой отец, Дувим Твар, погиб, помогая тебе осаждать крепость Никорна. Жаль только, что лишь молодые животные были готовы пробудиться. Ты помнишь, остальным пришлось повоевать всего несколько лет назад. Да ты это знаешь не хуже меня. — Да уж, я вряд ли вообще смогу позабыть тот день, — просто ответил Элрик. — Могу я попросить еще об одной милости у Дувима Слорма? — Какой? — Позволь мне занять твое место на спине первого дракона. Я обучался этому искусству, и у меня есть веская причина возглавить атаку против варваров: совсем недавно мы стали свидетелями бессмысленной бойни, и я хотел бы отплатить кровавым степным собакам той же монетой. Дувим Слорм кивнул и соскочил с дракона. Чудовище беспокойно завозилось и повернуло назад хищную морду с открытой пастью, в которой торчали зубы толщиной с человеческую руку, длинные, как меч. Раздвоенный язык беспокойно задергался, а огромные холодные глаза не мигая смотрели на Элрика. Альбинос запел на старом мелнибонэйском языке и, взяв шест и Рог Дракона у Дувима Слорма, осторожно забрался в высокое седло у основания мощной шеи. Обутые в сапоги ноги он поместил в серебряные стремена. — А теперь лети, братец-дракон, — пел Элрик, — все выше и выше, и готовь свой яд. Он почувствовал движение воздуха — это заработали огромные крылья, затем великолепная рептилия оторвалась от земли и понеслась вверх, к серому, покрытому тучами небу. Остальные четыре дракона, беззаботно парившие на небольшой высоте, последовали за первым, и когда они уже приготовились нырнуть в облака, Элрик начал извлекать из Рога особые звуки, указывая могучим тварям и их погонщикам направление. Затем он вынул из ножен меч. Несколько столетий назад предки Элрика на своих драконах завоевали весь западный мир. В те далекие дни в Пещерах Драконов не было свободного места, теперь же осталась лишь горстка легендарных созданий, и только самые молодые поспали достаточно долго, чтобы их можно было разбудить.* * *
Гигантские рептилии поднялись высоко в зимнее небо. Длинные белые волосы альбиноса и покрытый пятнами черный плащ развевались на ветру, а сам он пел радостную Песню Повелителей Драконов, подгоняя своих подопечных:Майкл Муркок «Повелитель бурь»
ГОРОД МЕЧТЫ
ПРОЛОГ
Это рассказ об Эльрике, которого тогда еще не называли убийцей женщин. Это рассказ о последних днях империи Мельнибонэ. Это рассказ о соперничестве Эльрика со своим двоюродным братом, Йирканом, и о любви Эльрика к своей двоюродной сестре, Каймориль: соперничестве и любви, из-за которых впоследствии Имрирр Прекрасный, Город Мечты, был уничтожен корсарами из Молодых Королевств. Это рассказ о двух рунных мечах: Повелителе Бурь и Властительнице Мрака, и о том, как они были обнаружены, и о том, какую роль они сыграли в судьбе Эльрика, — судьбе, от которой зависело будущее всей Земли. Это рассказ об Эльрике, которому подчинялись все, начиная от Повелителей Драконов и заканчивая простыми людьми расы, правившей миром на протяжении десяти тысяч лет. Это рассказ о трагедии империи Мельнибонэ. Это рассказ о высоких чувствах и низменном тщеславии. Это рассказ о волшебстве и предательстве, о мучениях и горькой любви, о наслаждениях и сладкой мести, об идеалах и о ненависти. Это рассказ об Эльрике из Мельнибонэ. Многое из того, что вы здесь прочтете, сам Эльрик вспоминает лишь в кошмарных снах.Хроника «Повелителя Бурь»
КНИГА ПЕРВАЯ
В островном государстве Мельнибонэ до сих пор соблюдаются старые обычаи, хотя за последние пятьсот лет империя потеряла, былое могущество и сейчас поддерживает прежний уровень жизни за счет торговли с Молодыми Королевствами. Имрирр Прекрасный, Город Мечты, стал торговой столицей мира. Быть может, следует позабыть о старых обычаях, начать новую жизнь, и таким образом попытаться избежать своей судьбы? Тот, кто претендует на престол Эльрика, считает, что необходимо следовать заветам предков. Он говорит, что Эльрик, отказываясь от древних ритуалов, обрекает Мельнибонэ на погибель. Так начинается трагедия, которая спустя долгие годы закончится уничтожением мира.Глава первая
У него была мертвенно-бледная кожа, молочно-белые волосы, спускавшиеся ниже плеч, красивый продолговатый череп, красные глаза. Он сидел на троне, вырезанном из цельного рубина. Взгляд у него был озабоченным; изредка он подносил изящную руку к украшавшей его голову короне в виде дракона, расправляющего крылья; на его пальце блестел перстень с редким акторийским камнем, который, казалось, изменял не только цвет, но и форму, словно ему было так же тесно в своей золотой тюрьме, как молодому альбиносу на Рубиновом Троне. Он смотрел на хрустальную лестницу, ведущую от трона в зал, где развлекались придворные, танцуя с такой легкостью и изяществом, словно они были бестелесными духами. Он сидел и думал о тайнах бытия и тем самым резко отличался от своих подданных, которые, как правило, старались вообще ни о чем не думать. Впрочем, их нельзя было в этом винить: они были мельнибонийцами с Острова Драконов, который правил миром в течение десяти тысяч лет и только за последние пять веков потерял свое былое могущество. Мудрые и жестокие мельнибонийцы чтили только обычаи своих предков — философия их не интересовала. Молодому человеку, четыреста двадцать восьмому потомку первого колдуна-императора Мельнибонэ, поведение придворных казалось не только высокомерным, но и глупым. Не вызывало сомнений, что не пройдет и одного-двух столетий, как Остров Драконов будет завоеван быстро развивающимися государствами, которые мельнибонийцы свысока называли «Молодыми Королевствами». Корсары уже сделали несколько неудачных попыток захватить Имрирр Прекрасный, Город Мечты, столицу Мельнибонэ. Но даже самые близкие друзья альбиноса отказывались обсуждать с ним возможность падения Империи. Они были недовольны, когда он заводил разговор на эту тему, и не только не верили ему, но и обижались, считая, что он зло шутит над ними. Итак, император скучал в одиночестве. Он скорбел, что его отец, Садрик Восемьдесят Шестой не зачал других детей, один из которых смог бы по праву занять Рубиновый Трон, Садрик умер год назад, восторженно приветствовав того, кто явился за его душой. Восемьдесят Шестой император Мельнибонэ не знал другой женщины, кроме своей жены, которая умерла, подарив жизнь болезненному отпрыску. Со страстьюмельнибонийца (которую не ведали появившиеся на Земле люди) Садрик продолжал любить императрицу и после ее смерти. Он не мог найти удовлетворения ни в чьем обществе и ненавидел своего сына, явившегося причиной ее гибели. С помощью волшебных заклинаний, магических рун, редких целебных трав вырос мальчик, слабый от природы, и если бы не знания могущественных колдунов-императоров Мельнибонэ, он давно уже превратился бы в полуслепого калеку, который вряд ли смог бы поднести ложку ко рту без посторонней помощи. Молодой император, страдающий неизлечимым недугом, нашел утешение в книгах. Прежде чем ему исполнилось пятнадцать, он прочитал все книги, — некоторые по несколько раз, — в библиотеке своего отца. Начав обучение под руководством Садрика, он стал со временем более сильным магом, чем многие его великие предки. Знания альбиноса были огромны. Если б он только захотел, ему ничего не стоило бы восстановить былое могущество Мельнибонэ и вновь править миром, оставаясь неуязвимым для своих врагов. Но книги заставили его задуматься над вопросами бытия. Какие цели можно преследовать, используя свою силу? Существуют ли причины, по которым этой силой нельзя распоряжаться? Стоит ли вообще, если ты обладаешь могуществом, употреблять его для достижения каких бы то ни было целей? Что такое Добро и Зло? Книги заставили его задуматься о тайнах бытия, и он до сих пор многого не понимал. Для одних своих подданных альбинос был загадкой, для других — предателем, потому что он думал и действовал совсем не так, как, по их представлениям, полагалось действовать истинному мельнибонийцу, тем более императору. Его двоюродный брат Йиркан неоднократно высказывал сомнения по поводу права альбиноса управлять великим мельнибонийским народом. «Этот книжный червь обречет нас всех на погибель», — сказал он однажды вечером Дайвиму Твару, Хранителю Драконьих Пещер. Дайвим Твар, один из немногих друзей императора, тут же передал ему слова Йиркана, но молодой человек не обратил на них особого внимания, расценив поведение принца, как мальчишескую выходку, в то время как любой из предков альбиноса подверг бы дерзнувшего высказаться подобным образом медленной и утонченной публичной казни. Положение императора усложнялось еще и тем, что Йиркан, не скрывавший своего стремления занять Рубиновый Трон, был братом Каймориль, которую альбинос считал самым близким своим другом и которая в один прекрасный день должна была стать его женой и императрицей. На мозаичном полу зала Йиркан, разодетый в богатые шелка, сверкая драгоценными камнями в перстнях, танцевал с сотней женщин, каждая из которых, по слухам, была когда-то его любовницей. Красивое лицо принца, обрамленное черными волосами, — завитыми и напомаженными, — поражало высокомерием. Танцуя, он задевал придворных своим тяжелым плащом, отороченным мехом, и при этом презрительно улыбался. Те, кому не нравилась его надменность, молчали, ибо Йиркан считался могущественным колдуном. Но большинство благородных мельнибонийцев восхищалось поведением принца и сожалели, что император на него непохож. Император об этом знал. Он был бы рад доставить удовольствие придворным, которые чествовали его своими танцами, но не мог заставить себя принять участие в утомительной церемонии, называя ее в глубине души «ритуальным позированием». Пожалуй, в этом отношении он вел себя высокомернее Йиркана, с радостью предававшегося любому веселью. Музыка с галерей звучала все громче; рабы, подвергшиеся специальной хирургической операции, после которой каждый из них мог петь одну только ноту, удвоили свои усилия. Даже император был тронут мрачной гармонией песни, которую не смог бы спеть ни один человеческий голос. Почему страдания и боль одних дают другим возможность наслаждаться? — подумал Эльрик. — Быть может, наслаждения не бывает без боли? Или в страдании — секрет любого великого искусства? Император Эльрик закрыл глаза, намереваясь поразмышлять, но в это время придворные в зале зашумели. Двустворчатые двери распахнулись настежь, кавалеры оставили своих дам, перестали танцевать, отступили на шаг, склонили головы в низких поклонах. В зал вошли солдаты в светло-голубой форме, в высоких причудливых шлемах, с длинными копьями, украшенными разноцветными лентами. Девушка в голубом платье шла впереди; руки ее украшали браслеты с бриллиантами и сапфирами, в черных, как смоль, волосах, горели нити изумрудов. На лице ее совсем не было косметики, чем она резко отличалась от остальных придворных дам. Эльрик улыбнулся. Согласно традиции, Каймориль всегда и всюду сопровождала почетная стража. Император медленно встал, глядя, как девушка поднимается по хрустальным ступенькам к Рубиновому Трону. — Каймориль. Я думал, ты не почтишь нас сегодня своим присутствием. Она улыбнулась. — Сир, мне захотелось немного поболтать. Эльрик с признательностью посмотрел на нее. Девушка понимала, что он будет скучать на балу, и решила развлечь его, зная, что он обрадуется встрече с нею. — Присаживайся, милая Каймориль, — сказал альбинос, вновь занимая трон, который он с радостью уступил бы девушке, устроившейся, согласно этикету, на верхней ступеньке хрустальной лестницы. Каймориль лукаво и нежно посмотрела Эльрику в глаза, заговорила тихим, мелодичным голосом. Солдаты спустились в зал, смешались с императорскими стражниками. — Ты не хочешь завтра прогуляться по острову, милорд? — Мне надо заняться кое-какими делами… — Эльрик обрадовался ее предложению. Прошло уже несколько недель с тех пор, как они вместе выезжали из города в сопровождении стражи, державшейся на почтительном расстоянии. — Разве они не терпят отлагательств? Он пожал плечами. — В Мельнибонэ не бывает неотложных дел. После десяти тысяч лет любую проблему можно считать незначительной. — Он ухмыльнулся, словно нерадивый ученик, собравшийся прогулять уроки. — Ты меня уговорила. Встретимся завтра на рассвете, пока все спят. — Подышим чистым, свежим воздухом. Нас ждет теплый день: солнышко пригреет, как летом, на небе не будет ни облачка. Эльрик рассмеялся. — Я смотрю, ты тоже занялась колдовством! Каймориль потупилась, провела тоненьким пальчиком по хрустальной ступеньке. — У меня ведь тоже есть друзья, пусть не самые могущественные среди духов стихий. Альбинос наклонился, провел рукой по ее пышным волосам. — Йиркан знает? Принц Йиркан запретил своей сестре изучать волшебство. И он сам, и его друзья занимались черной магией, вызывая на Землю страшных, сверхъестественных существ. Йиркан знал, насколько опасно иметь с ними дело, и невольно считал, что любое волшебство чревато ужасными последствиями. К тому же он ненавидел всех, кто обладал той же волшебной силой, которая была у него, и в первую очередь — колдуна-императора Мельнибонэ. — Будем надеяться, что хорошая погода не помешает завтра никому из моих подданных, — сказал Эльрик. Каймориль удивленно на него посмотрела. Она была мельнибонийкой от кончиков ногтей до корней волос, и ей даже в голову не пришло, что ее колдовство может кому-нибудь повредить. Покачав головой, она дотронулась до руки альбиноса. — Почему непричинение зла должно лежать в основе каждого твоего поступка? — спросила она. — Прости, я тебя не понимаю. — Я сам себя не понимаю. На практике подобный подход к делу бессмыслен. Но если помнишь, многие мои предки предсказывали, что как духовная, так и физическая природа Земли скоро изменится. Возможно, я предчувствую перемены, когда в голову мне приходят мысли, несвойственные мельнибонийцу. Музыка плыла по залу, то затихая, то усиливаясь. Придворные продолжали танцевать, искоса наблюдая за Эльриком и Каймориль, разговаривающими на верхней площадке хрустальной лестницы. Придворные судачили между собой. Придворные гадали. Когда Эльрик объявит Каймориль будущей Императрицей? Вернется ли Эльрик к исполнению отмененного Садриком древнего ритуала, по которому в жертву богам Хаоса приносились двенадцать женихов и двенадцать невест для того, чтобы обеспечить счастливый брак императора? Не вызывало сомнений, что именно отказ Садрика следовать традициям принес ему несчастье, погубив его жену и подарив болезненного отпрыска, который — о ужас! — может умереть, так и не зачав очередного наследника престола. Эльрик просто обязан восстановить древний обычай! Даже Эльрик должен испытывать страх при мысли о том, что его может постигнуть судьба отца. Другие придворные им возражали. Эльрик не почитает старинных обычаев. Он никогда не будет им следовать. Эльрик рискует не только собственной жизнью, но и безопасностью Мельнибонэ. Эльрику безразличны идеалы, которым следовали его великие предки. Те, кто так говорил, были в приятельских отношениях с принцем Йирканом, который продолжал танцевать, делая вид, что не замечает, как Эльрик разговаривает с Каймориль; как Эльрик, позабыв о своем достоинстве, сидит на краешке трона; как Эльрик не обращает внимания на своих придворных, собравшихся специально, чтобы развлечь его, и предается пустой болтовне с женщиной. Внезапно принц Йиркан остановился, не закончив пируэта, поднял голову, уставился на императора. Стоявший в другом конце зала Дайвим Твар заметил нарочито-вызывающую позу принца и нахмурился, Рука Хранителя Драконьих Пещер невольно потянулась к рукояти меча, нащупала пустоту: в танцевальном зале оружие разрешалось носить только стражникам. Дайвим Твар напрягся, настороженно глядя на Йиркана, медленно поднимающегося по хрустальной лестнице. Не одна пара глаз следила за двоюродным братом императора; многие придворные перестали танцевать, хотя рабы пели все громче и громче. Эльрик бросил взгляд в зал, увидел Йиркана, стоявшего на предпоследней ступеньке лестницы. Принц поклонился настолько вежливо, что поклон его можно было назвать оскорбительным. — Припадаю к стопам моего императора, — сказал он.Глава вторая
— Наслаждаешься ли ты танцами, брат? — спокойно спросил Эльрик, прекрасно понимая, что Йиркан решил застать его врасплох и, если возможно, унизить. — Нравится ли тебе музыка? Йиркан опустил глаза, позволил себе чуть заметно улыбнуться. — Мне все нравится, сир. Быть может, тебе что-нибудь не по душе? Ты сегодня не танцуешь с нами. Эльрик задумчиво потер пальцем переносицу. — Тем не менее, я получаю огромное удовольствие от танцев, брат. Разве нельзя радоваться, глядя, как радуются другие? Казалось, Йиркан был искренне изумлен. Он поднял голову, посмотрел Эльрику в глаза немигающим взглядом. Альбинос отвернулся, небрежно махнул рукой в сторону галерей. — А может, это боль других доставляет мне наслаждение. Не бойся за меня, брат. Я доволен, очень доволен. Ты можешь продолжать танцевать, не сомневаясь ни на минуту, что твой император в восхищении от бала. Йиркан не собирался уступать. — Но ведь для того, чтобы подданные не разошлись по домам, опечаленные и обеспокоенные тем, что не угодили своему монарху, император должен показать, что он всем доволен. — Должен напомнить тебе, брат, — спокойно сказал Эльрик, — что у императора имеется только одна обязанность — управлять своими подданными. Император ничего и никому не должен. Это подданные в неоплатном долгу у своего императора. Таковы традиции Мельнибонэ. Йиркан никак не ожидал подобного ответа. На какое-то мгновение он растерялся, затем решительно произнес: — Я согласен, сир. Долг императора — править своими подданными. Именно поэтому бал не доставляет многим из них большого удовольствия. — Не понимаю, что ты хочешь этим сказать, брат. Каймориль поднялась на ноги. Она явно была встревожена вызывающей позой и тоном своего брата. — Йиркан. — Каймориль посмотрела на него в упор. Принц сделал вид, что только что ее заметил, кивнул. — Сестра. Я вижу, ты разделяешь с нашим императором нелюбовь к танцам. — Йиркан, — прошептала она, — ты зашел слишком далеко. Император терпелив, но… — Терпелив? А может, безразличен? Может, традиции нашей расы не имеют для него значения? Может, он презирает гордых мельнибонийцев? По хрустальным ступеням лестницы быстро поднимался Дайвим Твар. Хранитель Драконьих Пещер понял, что Йиркан потерял терпение и решил бросить вызов Эльрику. Каймориль побледнела, как полотно, торопливо сказала; — Брат, твоя жизнь… — А я не хочу жить, если дух мельнибонийцев будет сломлен. Поддерживать дух нашей нации — прямая обязанность императора. Вдруг нами станет управлять император, не желающий выполнять свои обязанности? Вдруг император окажется слишком слаб? Вдруг император не будет заботиться о величии Острова Драконов и его обитателей? — Ты задаешь риторические вопросы, брат, — сказал Эльрик ледяным тоном, и его красные глаза мрачно блеснули. — Император, о котором ты говоришь, никогда не занимал и никогда не займет Рубиновый Трон. Дайвим Твар подошел к Йиркану, дотронулся до его плеча. — Принц, если ты дорожишь своей честью и своей жизнью… Эльрик поднял руку. — Ты неправильно понял моего брата, Дайвим Твар. Йиркан развлекает нас философскими рассуждениями. Испугавшись, что мне наскучили музыка и танцы, — в чем он ошибся, — принц решил позабавить меня разговором на отвлеченные темы. Мы довольны тобой, принц Йиркан. Тебе удалось нас позабавить. — Эльрик улыбнулся. Лицо Йиркана вспыхнуло, он прикусил нижнюю губу. — Продолжай, дорогой брат, — дружелюбным тоном произнес Эльрик. — Нам интересно будет услышать, чем закончатся твои рассуждения. Йиркан огляделся по сторонам, словно затравленный зверь, но все его друзья находились в зале. Рядом с ним стояли Дайвим Твар и Каймориль, а от них он не мог ожидать поддержки. Принц прекрасно понимал, что его сторонники слышат каждое произнесенное им слово и что он «потеряет лицо», если промолчит. Эльрик даже посочувствовал Йиркану, который с удовольствием прекратил бы неприятный для себя разговор и удалился бы, с тем чтобы выбрать другое место и время для ссоры с императором. Да и самому альбиносу не хотелось продолжать дурацкую перепалку, которая, что там ни говори, напоминала спор двух маленьких девочек о том, кто из них первой будет играть с рабами. Йиркан решительно произнес: — В таком случае я выскажу предположение, что физически слабый император не обладает достаточной силой, чтобы править своими подданными, как того требует… Эльрик поднял руку, приказывая Йиркану замолчать. — Достаточно, дорогой брат. Вполне достаточно. Ты утомил себя беседой, пытаясь развлечь меня и пожертвовав тем удовольствием, которое ты получаешь от танцев. Я тронут твоим вниманием. Но сейчас и у меня появилось желание немного отдохнуть. — Он сделал знак своему старому слуге Худобе, стоявшему за троном вместе с императорскими стражниками. — Худоба! Мою мантию! — Эльрик поднялся на ноги. — Еще раз благодарю тебя за заботу, брат. — Он посмотрел в зал, повысил голос: — Я вами доволен. А теперь я хочу отдохнуть. Худоба накинул на плечи своего господина мантию из белой лисы. Преданный слуга императора был стар, высок ростом и необычайно худ. Эльрик прошел по лестничной площадке, открыл дверь, ведущую в коридор, в конце которого находились его апартаменты. Йиркан был в бешенстве. Он резко повернулся, словно собираясь обратиться с речью к присутствующим в зале придворным. Некоторые из них открыто улыбались, глядя на него. Руки Йиркана непроизвольно сжались в кулаки, он с ненавистью уставился на Дайвима Твара. Хранитель Драконьих Пещер ответил ему холодным взглядом. И тогда Йиркан откинул голову назад и расхохотался. Завитые, напомаженные волосы рассыпались по его спине. Рабы перестали петь. Йиркан, продолжая смеяться, горделиво запахнулся в свой черный плащ. Каймориль сделала шаг вперед. — Брат, прошу тебя… Он оттолкнул ее плечом, уверенно пошел к Рубиновому Трону. Не оставалось сомнений, что Йиркан собирается сесть на Трон и тем самым совершить самое большое святотатство, известное в Мельнибонэ. Каймориль схватила принца за руку. — Мельнибонийцы хотят видеть Йиркана на Рубиновом Троне! — громко воскликнул он, окидывая свою сестру презрительным взглядом. Каймориль испуганно вскрикнула, в ужасе посмотрела на Дайвима Твара. Хранитель Драконьих Пещер, с трудом сдерживая ярость, сделал знак стражникам, В мгновение ока между Рубиновым Троном и Йирканом возникли два ряда солдат с пиками наперевес. Принц остановился, посмотрел на Дайвима Твара. Глаза его недобро, блеснули. — Моли богов, чтобы ты погиб вместе со своим господином, — свистящим шепотом произнес он. — Почетная стража проводит тебя домой, — спокойно ответил Дайвим Твар. — Сегодня ты блеснул красноречием, принц Йиркан. Йиркан вновь огляделся по сторонам, расслабился, пожал плечами. — Время терпит. Если Эльрик сам не отречется от престола, его придется свергнуть. Каймориль гордо вскинула голову. — Если ты причинишь Эльрику малейший вред, я убью тебя собственными руками, Йиркан! Принц поднял брови, надменно улыбнулся. Казалось, в эту минуту он ненавидит свою сестру так же сильно, как императора. — Твоя преданность этому жалкому созданию определила твою судьбу, Каймориль! Я предпочту, чтобы ты умерла, чем родила от него какого-нибудь недоноска. Я не потерплю, чтобы наша кровь смешалась с его жидкой кровью! Ты посмела мне угрожать? Позаботься лучше, чтобы твоя жизнь не оборвалась преждевременно, сестра! — Он сбежал по хрустальной лестнице, перепрыгивая через ступеньки, решительно пошел к выходу, расталкивая плечами придворных, не слушая похвал поздравляющих его льстецов. Йиркан знал, что проиграл, и был в бешенстве. Он вышел из зала, изо всех сил хлопнув дверью. Дайвим Твар поднял руку. — Продолжайте танцевать и веселиться. Пусть император отдыхает спокойно. Но подданные не хотели больше танцевать. Разбившись на группы, они возбужденно обсуждали события сегодняшнего вечера. Дайвим Твар повернулся к Каймориль. — Эльрик не хочет думать об опасности, принцесса. Тщеславие Йиркана может погубить всех нас. — Включая Йиркана. — Каймориль вздохнула. — Да, включая Йиркана. Но как можно избежать этой опасности, если Эльрик отказывается отдать приказ об аресте твоего брата? — Император считает, что такие, как Йиркан, могут говорить все, что угодно, безнаказанно. Я с трудом его понимаю, но Эльрик как-то сказал мне, что, убив Йиркана, он изменит своим принципам. Дайвим Твар пожал плечами, нахмурился. Он тоже не понимал Эльрика и часто с ужасом ловил себя на мысли о том, что невольно симпатизирует Йиркану. По крайней мере принц не скрывал ни своих взглядов, ни своих намерений. Дайвим Твар слишком хорошо знал Эльрика и не допускал, что альбинос боится Йиркана или не трогает его по недомыслию. Парадокс заключался в том, что Эльрик чувствовал свою силу, мог уничтожить Йиркана в любую минуту, а тот все время испытывал могущество своего двоюродного брата, инстинктивно понимая, что как только император прикажет с ним расправиться, тогда он, Йиркан, победит. Ситуация была сложной, и Дайвиму Твару совсем не хотелось в нее впутываться. Впрочем, он был предан императорской династии Мельнибонэ, а о его преданности Эльрику ходили легенды. Не раз Хранителю Драконьих Пещер приходила в голову мысль отдать приказ тайно умертвить Йиркана, но принц был могущественным колдуном, и такая попытка наверняка не увенчалась бы успехом. — Принцесса Каймориль, — сказал Дайвим Твар, — мне остается надеяться, что твой брат когда-нибудь захлебнется собственной злобой и скончается не сходя с места. — Я тоже на это надеюсь, Повелитель Драконов. Они вместе вышли из зала.Глава третья
Ранняя заря окрасила высокие башни Имрирра, сверкавшие всеми цветами радуги. Розовые, желтые, фиолетовые, зеленые, пурпурные, оранжевые, золотые, голубые, белые башни переливались и сияли в солнечном свете. Двое всадников выехали из Города Мечты, поскакали по зеленому полю к сосновому бору, только что начавшему просыпаться. Докали белки, лисы прятались в норы, пели птицы, цветы раскрывали лепестки, наполняя воздух тончайшими ароматами. Лениво жужжали насекомые. Контраст между городом и природой был так же велик, как противоречия в душе одного из всадников, который соскочил с коня и пошел по лужайке, утопая по колени в высоких голубых цветах. Другой всадник, вернее, всадница, остановила коня, но не спешилась. Наклонившись в высоком мельнибонийском седле, она улыбнулась своему спутнику. — Эльрик? Ты хочешь остановиться так близко от Имрирра? Он улыбнулся ей в ответ. — Ненадолго. Мы с тобой так торопились, что сейчас мне хочется хоть немного привести свои мысли в порядок. — Как ты спал? — Хорошо. Правда, я видел сон, но не помню какой, и с утра у меня слегка болела голова. Впрочем, неудивительно: вчерашний разговор с Йирканом не доставил мне удовольствия. — Как ты думаешь, он собирается использовать против тебя колдовство? Эльрик пожал плечами. — Если это произойдет, я узнаю заранее, Йиркану известно мое могущество. Сомневаюсь, что он осмелится прибегнуть к колдовству. — У него есть все основания считать, что ты не захочешь воспользоваться своей силой. Разве нельзя предположить, что ему надоест испытывать твое терпение, и он нашлет на тебя какое-нибудь чудовище, чтобы проверить, на что ты способен? Эльрик нахмурился. — Не исключено. Но вряд ли он пойдет на это сейчас. — Он не успокоится, пока не уничтожит тебя, Эльрик. — Или пока сам не погибнет. — Альбинос наклонился, сорвал цветок, улыбнулся. — Твой брат не признает компромиссов. Слабые ненавидят слабость. Каймориль соскочила с коня, подошла к Эльрику, взяла из его рук цветок, прикоснулась идеально очерченными губами к раскрывшимся лепесткам. — А сильные ненавидят силу, любимый. Йиркан — мой родной брат, и тем не менее я говорю тебе: используй свою силу против него. — Я не моту его убить. У меня нет на это права. — На лице Эльрика появилось печальное и одновременно задумчивое выражение. — В таком случае отправь его в ссылку. — Разве ссылка и смерть не одно и то же для мельнибонийца? — Если мне не изменяет память, ты когда-то собирался совершить длительное путешествие по Молодым Королевствам. Эльрик с горечью рассмеялся. — Возможно, я не истинный мельнибониец. Йиркан так и говорит, и многие ему вторят. — Он ненавидит тебя за то, что ты погружен в свои мысли. В этом отношении ты похож на своего отца, а его все считали выдающимся императором. — Мысли Садрика не влияли на его поступки. Он управлял государством так, как должен был управлять император. И честно говоря, Йиркан будет править не хуже моего отца. У него тоже имеется возможность вновь сделать Мельнибонэ великой державой. Если бы твой брат сел на трон, он первым делом постарался бы вернуть империи былое могущество, а большинство мельнибонийцев только этого и хотят. Какое право я имею мешать моим подданным? — Ты — император, и имеешь право делать все, что считаешь нужным. Так думают те, кто тебе предан. — Возможно, они преданны не тому, кому надо. А вдруг Йиркан не ошибается, и я предам их, а Остров Драконов обреку на погибель? — Он печально посмотрел на нее. — Быть может, мне следовало умереть при рождении. Тогда императором стал бы Йиркан, Неужели судьба так жестоко ошиблась? — Судьба никогда не ошибается. Все события происходят по велению судьбы, если, конечно, она вообще существует и если то, что происходит с человеком, не является следствием его собственных поступков. Эльрик глубоко вздохнул, усмехнулся. — Тебе тоже не следовало бы со мной общаться, Каймориль. Ты стала кощунствовать и по законам Мельнибонэ можешь понести суровое наказание. Брось меня, пока не поздно. Она рассмеялась. — Твоими устами говорит мой брат. Тебе захотелось проверить, действительно ли я тебя люблю? — Нет, Каймориль, но я советую тебе самой проверить свои чувства. Мне почему-то кажется, что наша любовь будет трагична. Он вскочил в седло. Каймориль последовала его примеру, улыбнулась, покачала головой. — Ты во всем умудряешься видеть только плохое. Почему бы тебе не радоваться тому, что дарит нам жизнь? Не так уж часто она нас балует. — Да. С этим я не спорю. Они услышали позади себя стук копыт, обернулись, увидели на некотором расстоянии от леса двух всадников. Это были стражники, от которых Эльрик и Каймориль ускакали, желая побыть вдвоем. — Скорее! — воскликнул альбинос. — Проедем лес, переберемся через холм, и нас никогда не найдут! Они пришпорили коней и через несколько минут быстрой езды очутились в долине, поросшей кустами нойделя с крупными иссиня-черными ядовитыми ягодами. На Острове Драконов росло много редких и волшебных трав, в частности тех, которым Эльрик был обязан своей жизнью и здоровьем. Эти травы, посаженные предками Эльрика тысячи лет назад, использовались для приготовления волшебных мазей и при чтении заклинаний. Последнее время мельнибонийцы почти не покидали Имрирр, рабы же собирали только те листья, ягоды и коренья, которые их господа принимали, чтобы видеть страшные и удивительные сны. Они мечтали наяву, получая от этого наивысшее наслаждение (недаром Имрирр Прекрасный назывался Городом Мечты). Даже рабы жевали ягоды, приносящие забвение, и никогда не бунтовали. Из всей мельнибонийской знати один Эльрик не пользовался страшным зельем — возможно, потому, что поддерживал свою жизнь с помощью многих других трав. Стражники остались далеко позади. Проехав долину, поросшую кустами нойделя, Эльрик и Каймориль очутились у высоких гранитных скал. Внизу лениво плескалось море, омывая белые песчаные пляжи. Чайки парили высоко в безоблачном небе; их далекие крики странным образом гармонировали с тем душевным покоем, который чувствовали двое влюбленных. По узкой горной тропинке они спустились на берег, стреножили коней, пошли по пляжу рука об руку. Мягкий восточный ветерок развевал молочно-белые волосы Эльрика, черные, как вороново крыло, кудри Каймориль. В большом сухом гроте, где ласково шептало эхо воин, они разделись, легли на мягкий песок. Время, казалось, перестало существовать. Солнце постепенно поднималось над горизонтом, пригревая землю. Прошло несколько часов. Двое влюбленных встали, побежали купаться. Ветер стих.Когда они вышли на берег и начали одеваться, Эльрик заметил на горизонте огромную черную тучу. — Мы промокнем насквозь, прежде чем доберемся до Имрирра, — сказал он. — Идет шторм. — Может, переждем в гроте? — предложила Каймориль, прижимаясь к нему всем телом. — Нет. Мне необходимо вернуться в город, чтобы принять травы. Через час-полтора я начну слабеть. Ты ведь видела, что происходит, когда я теряю силы. Она нежно провела пальцами по его лицу. — Да. Я видела тебя слабым, Эльрик. Пойдем скорее. Когда они вскочили в седла, небо над их головами стало серым; гром гремел совсем близко, сверкали молнии. Море билось, как раненый зверь, Лошади хрипели, ударяли копытами в песок, без понуканий поскакали по направлению к городу. Первые крупные капли дождя застучали по земле. Хлынул ливень. Небо было черным, как смоль, молнии сверкали, не переставая, грохочущий гром напоминал рев гиганта или Повелителя Хаоса, яростно пытающегося проломить барьер между Высшими Измерениями и Землей. Каймориль бросила взгляд на мертвенно-бледное лицо Эльрика, освещенное небесным огнем, и почувствовала, как у нее все похолодело внутри. В эту секунду ей почудилось, что стихия превратила доброго ученого человека, которого она так хорошо знала, в исступленного демона, в чудовище, лишенное человеческих чувств. Его красные глаза горели, молочно-белые волосы слиплись на голове, на губах играла мрачная улыбка.. И внезапно Каймориль с необычайной ясностью поняла, что никогда в жизни больше не будет у них с Эльриком ни минуты покоя. Сегодняшний день был последним счастливым днем в их жизни. По воле богов разразилась эта буря, словно предвещая другие бури, куда более страшные, которые не позволят им быть вместе. Каймориль вновь посмотрела на Эльрика. Альбинос смеялся. Он запрокинул голову, и ливень хлестал его по лицу, а вода стекала по щекам в полуоткрытый рот. Эльрик смеялся, как счастливый ребенок. Каймориль попыталась улыбнуться, быстро отвернулась, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы. Она плакала молча и немного успокоилась, лишь увидев на фоне безоблачного западного горизонта черный силуэт Имрирра.
Глава четвертая
Стражники в желтых доспехах скакали навстречу Эльрику и Каймориль от восточных ворот города. — Наконец-то они нас нашли. — Эльрик усмехнулся. — К счастью, слишком поздно. Каймориль кивнула, попыталась улыбнуться, но не смогла скрыть своего подавленного состояния. Эльрик решил, что девушка расстроена тем, что они так мало побыли вместе, и ни о чем не стал ее расспрашивать. — Эй, стража! — крикнул он. — Ведите нас скорее во дворец, мы насквозь промокли! Лицо капитана стражников, скакавших во весь опор, было озабоченным. — Сир! — вскричал он. — Мы поймали шпионов, отвели их в башню Моншанджик. — Шпионов? — Да, сир. — Лицо капитана было белым, как мел. Капли дождя стекали с его шлема за воротник легкого плаща. Он с трудом справлялся с лошадью, норовившей свернуть на обочину дороги, где почти не было рытвин, заполненных водой. — Сегодня утром они проникли в лабиринт. Судя по пестрой одежде — это варвары с юга. Мы решили дождаться императора и не стали их допрашивать. Эльрик махнул рукой. — Хорошо, капитан. Пойдем посмотрим на храбрых дураков, которые осмелились зайти в морской лабиринт Имрирра Прекрасного!Башня Моншанджик получила свое название в честь колдуна-архитектора, построившего морской лабиринт тысячу лет назад. Гавань Имрирра представляла собой естественную лагуну, отгороженную от моря системой пещер в гигантской скале. После того, как лабиринт был построен, пещеры превратились в крытые каналы, секрет которых знали немногие. Корабли Молодых Королевств, торгующих с Имрирром, должны были стоять у наружной стены лабиринта до прибытия специально обученного лоцмана. Перед тем, как ворота одного из пяти входов в морской лабиринт открывались, капитана корабля и всю его команду отправляли в трюм с завязанными глазами, а рабам, сидящим на веслах, одевали на головы глухие стальные шлемы, полностью закрывавшие лица. Им оставалось только подчиняться командам лоцмана, а если они допускали хоть малейшую ошибку, корабль разбивался о скалы. Мельнибонийцы особо не переживали по этому поводу и тех, кто не утонул, делали своими рабами. Купцы из Молодых Королевств знали, что им грозит, но все равно рисковали, так как свои жалкие товары они могли выменять на богатства, которые им и не снились. Зеленая, цвета морских глубин, башня Моншанджик стояла на самом берегу у огромного каменного мола, уходившего чуть не на середину лагуны. Несмотря на всю свою красоту, она казалась невзрачной по сравнению с кружевными башнями города. В этой башне велись все дела, связанные с торговлей и мореплаванием, а в ее подземельях сидели пленники, нарушившие одно из тысяч правил, необходимых для нормального функционирования гавани. Приказав одному из стражников сопровождать Каймориль во дворец, Эльрик въехал на коне под арку ворот и очутился в огромном дворе, заполненном купцами, матросами и мельнибонийскими чиновниками, которые выдавали разрешение на торговлю. Шум сотен голосов постепенно стих. Не обращая внимания на окружающих его людей, Эльрик, в сопровождении капитана стражи, подскакал ко входу в башню, заехал в широкий холл, из которого можно было попасть в подземелье по длинному тоннелю. Копыта лошадей били по каменному полу; рабы, прислуга, служащие отскакивали в сторону, освобождая всадникам дорогу, низко кланяясь своему императору. Многочисленные факелы, освещавшие тоннель, бросали густые тени на гранитные стены. Было холодно и сыро. А затем, внезапно, всадников обдала волна горячего воздуха, и они очутились в большой пещере, заполненной едким дымом и человеческим страхом. На восьми из многочисленных цепей, свисающих с потолка, раскачивались четверо людей, повешенных за ноги. Они были абсолютно голыми; кровь текла по их телам из нескольких десятков маленьких, но глубоких порезов, сделанных непревзойденным мастером своего дела, стоявшим с ними рядом. Одетый в белые одежды, испачканные кровью, мастер этот напоминал скелет. Он был высок, непомерно худ, с тонкими чертами лица, тонкими губами, тонкими пальчиками, тонкими волосами, щелочками вместо глаз. В руках он держал скальпель, настолько тонкий, что его можно было заметить только тогда, когда на его поверхности играли блики огня, горевшего в яме в углу пещеры. Звали этого мастера «доктор» Шутка, и мастерство его (исполнителя, а не творца, хотя «доктор» мог бы с этим поспорить) заключалось в том, что он умел выведывать чужие тайны. Доктор Шутка был Главным Следователем Мельнибонэ. Услышав сзади шаги, он резко повернулся, держа тонкий скальпель между тонким большим и еще более тонким указательным пальцами. Узнав Эльрика, он поклонился ему в пояс. — Мой император! — Голос у него был тонкий, и говорил он настолько быстро, что, казалось, слова его звучали не в ушах, а прямо в мозгу собеседника. — Доктор. — Эльрик наклонил голову. — Это — те самые южные варвары, которых поймали сегодня утром? — Да, сир. — Доктор Шутка отвесил еще один поясной поклон. — Я надеюсь, ты останешься ими доволен. Эльрик холодно посмотрел на пленников. Он не чувствовал к ним никакой жалости. Они были шпионами, прекрасно понимали, что произойдет, если их поймают. Правда, среди них была одна женщина и один совсем еще мальчик. Позор тем, кто послал их на это дело. Женщина злобно лязгнула зубами, — теми, которые у нее остались, — и прошипела, глядя на альбиноса: — Демон! Эльрик сделал шаг назад. — Они рассказали тебе, доктор, что им надо было в нашем лабиринте? — О, пленники все еще пытаются отделаться от меня полуправдами. Они — прекрасные актеры, тонко чувствуют свои роли. Смею утверждать, им было велено разведать путь через лабиринт. Но подробности они пока что от меня скрывают. Это игра, сир, и каждый из нас соблюдает ее правила. — А когда они все тебе расскажут, доктор? — О, очень скоро, сир. — Я хотел бы знать, следует ли нам ожидать нападения. И чем скорее мы это узнаем, тем больше времени останется у нас на составление планов. Ты согласен со мной, доктор? — Да, сир. — Прекрасно, — раздраженно сказал Эльрик, недовольный тем, что день, так хорошо начавшийся, омрачили непредвиденные события. Он не ожидал, что сразу после прогулки с Каймориль ему придется заняться государственными делами. Доктор Шутка повернулся к своим подопечным, привычным движением схватил одного из мужчин за половой член. Скальпель сверкнул в воздухе, дикий крик сотряс стены пещеры. Доктор Шутка швырнул что-то в огонь. Эльрик уселся на приготовленный для него стул. Ритуал, необходимый для получения нужной информации, не вызывал у альбиноса отвращения. Ему было откровенно скучно. Вопли, стоны, звон цепей, тонкий шепоток доктора Шутки окончательно испортили ему хорошее настроение, которое сохранялось вплоть до того момента, как он вошел в камеру пыток. Но присутствовать при исполнении подобных ритуалов вменялось в обязанность императору, а в данном случае он просто не мог уйти, не узнав, какая опасность грозит государству. Когда все закончится, он поздравит своего Главного Следователя, а затем отдаст распоряжения, необходимые для отражения любой атаки. А потом ему придется совещаться с военачальниками и, возможно, просидеть всю ночь, выслушивая различные предложения и составляя план битвы. Эльрик откровенно зевнул и откинулся на спинку стула, глядя как доктор Шутка орудует тонкими пальчиками, тонким скальпелем, тонкими щипчиками и тонким пинцетом. Вскоре альбинос перестал замечать окружающее; мысли его были заняты теми философскими проблемами, которые он никак не мог решить. Люди назвали бы Эльрика бесчеловечным, и ошиблись бы. Альбинос был мельнибонийцем. Он с детства привык к зрелищам подобного рода. Он не смог бы спасти пленников, даже если б захотел, не нарушив при этом всех до единой традиций Острова Драконов. А в данном случае государству грозила опасность, и он просто использовал самые доступные методы, чтобы отвратить ее. Эльрик привык повелевать теми своими чувствами, которые мешали исполнению его прямых обязанностей. Если б он видел смысл в том, чтобы отпустить на свободу четырех пленников, он освободил бы их, но смысла в этом не было, и пленники первыми изумились бы, поступи он подобным образом. Эльрик смотрел на проблемы морали с практической точки зрения, принимал решения в зависимости от действий других людей. Сейчас он оставался пассивным наблюдателем. Альбинос ничего не хотел менять в государстве, он хотел измениться сам; предпочитал не проявлять инициативу, а наилучшим образом реагировать на поведение тех, кто имел с ним дело. Сейчас ему легко было принять решение. Шпион — это агрессор. От агрессоров необходимо защищаться всеми доступными методами. Методы доктора Шутки были не только самыми доступными, но и самыми действенными. — Сир? Эльрик рассеянно поднял голову. — Они все мне рассказали, сир, — прошептал тонкий голос доктора Шутки с другого конца пещеры. Две пары цепей были пусты; рабы подбирали с пола какие-то ошметки и кидали их в огонь. Два бесформенных куска мяса, висевшие на четырех других цепях, напоминали Эльрику жаркое, тщательно приготовленное его шеф-поваром. Один из кусков мяса слегка дрожал, другой был недвижим. Доктор Шутка тщательно уложил свои тонкие инструменты в тонкий деревянный ящичек, прикрепленный к поясу. Его белые одежды стали красно-коричневыми. — Как выяснилось, в нашем лабиринте уже побывали шпионы, — сообщил доктор Шутка своему господину. — Этих послали для того, чтобы проверить правильность уже имеющегося у корсаров плана каналов. Если они не вернутся, варвары все равно отплывут в точно назначенный срок. — Но ведь тогда они будут знать, что нам обо всем известно? — Не обязательно, сир. Мы распространили слухи среди купцов и матросов из Молодых Королевств, что четырех шпионов убили в лабиринте при попытке к бегству. — Понятно. — Эльрик нахмурился. — В таком случае мы сможем заманить корсаров в ловушку. — Да, сир. — Ты знаешь маршрут, который они избрали? — Да, сир. Эльрик повернулся к одному из стражников. — Немедленно отправь гонца к моим военачальникам. Который час? — Первый после захода солнца, сир. — Прикажи им собраться в тронном зале через два часа. Внимательно выслушав все подробности, которые сообщил ему Главный Следователь, Эльрик устало поднялся на ноги. — Ты, как всегда, действовал безупречно, доктор Шутка. Я тобой доволен. Мастер низко поклонился, согнувшись чуть ли не пополам, и тоненько хихикнул.
Глава пятая
Разодетый в шелка и бархат, в сопровождении двух гигантов-телохранителей, каждый из которых нес в руках знамя с его гербом, принц Йиркан первым вошел в тронный зал. — Мой император! — возбужденно вскричал он, явно гордясь собой. — Ты позволишь мне командовать нашими воинами? Это освободит тебя от лишних забот, позволит заняться более важными делами. Например, философскими изысканиями, которые отнимают все твое время. — Ты очень заботлив, принц Йиркан, — нетерпеливо ответил Эльрик, — но не беспокойся за меня понапрасну. Я буду командовать армией и флотом Мельнибонэ, исполняя долг императора. Глаза Йиркана гневно сверкнули, но в это время ему пришлось посторониться и пропустить вперед Дайвима Твара. Телохранители не сопровождали Хранителя Драконьих Пещер, и одет он был на скорую руку. Под мышкой Дайвим Твар нес свой шлем. — Мой император! С твоего разрешения я доложу тебе о драконах? — Благодарю тебя, Дайвим Твар, но подожди, пока соберутся мои военачальники. Я хочу, чтобы они тоже все слышали. Дайвим Твар поклонился, посмотрел на Йиркана и встал по другую сторону хрустальной лестницы. Постепенно тронный зал заполнялся военачальниками. Каждый из них с глубоким поклоном останавливался у подножья хрустальной лестницы, на верхней площадке которой на Рубиновом Троне сидел Эльрик. Альбинос не успел переодеться после утренней прогулки с Каймориль. Вернувшись во дворец из камеры пыток, он все оставшееся до совещания время посвятил изучению карт лабиринта, — карт, в которых разбирался только царствующий император и которые с помощью магических средств были скрыты от посторонних глаз. Эльрик поднял голову. — Южане собираются ограбить Имрирр Прекрасный и убить всех мельнибонийцев, — сказал он. — Они считают, что им известен путь через морские каналы. Более ста боевых кораблей уже в пути. Завтра, с наступлением темноты, они намереваются войти в лабиринт, ровно в полночь высадиться в гавани и к утру захватить Город Мечты. Как вы думаете, это возможно? — Нет! — в один голос взревели военачальники. — Нет. — Эльрик улыбнулся. — Но как нам получить удовольствие от этой маленькой стычки, которую они решили затеять? Йиркан как всегда высказался первый. — Поплывем к ним навстречу на золотых галерах, полетим на драконах! — вскричал он. — Уничтожим их флот, и раз они так хотят воевать, нападем на их страны, сожжем города! Победив варваров, мы обеспечим себе безопасность! — Драконов не будет, — спокойно произнес Дайвим Твар. — Что? — Йиркан резко повернулся. — Что?! — Драконов не будет, принц Они спят в пещерах и благодаря тебе их невозможно разбудить. — Благодаря мне? — Разве не ты использовал их в конфликте с вильмирийскими пиратами? Я говорил тебе, что драконов необходимо поберечь на тот случай, если они понадобятся нам в серьезном сражении. Но ты меня, непослушался и сжег несколько пиратских суденышек, а сейчас драконы спят. — Я не думал… Эльрик поднял руку. — Не имеет значения. Побережем драконов для худших времен. Южные варвары — ничтожества, их нападение ничем нам не грозит. Пускай себе думают, что мы ничего не знаем; пускай зайдут в лабиринт. Мы перекроем все входы и выходы, окружим корсаров, перебьем их, как мух. Йиркан, нахмурившись, уставился в пол, явно пытаясь найти в плане Эльрика какие-нибудь недостатки. Адмирал флота, Магам Колим, одетый в зеленые, цвета морских глубин, доспехи, вышел вперед, поклонился. — Золотые галеры Имрирра готовы защитить город, сир. Однако чтобы расставить их по местам, нужно время. Сомневаюсь, что нам удастся разместить в лабиринте все наши силы. — Отправь часть барж в бухты побережья, на тот случай, если несколько кораблей вырвутся из нашей западни. — Прекрасный план, сир. — Магам Колим вновь поклонился и сделал шаг назад. Военачальники согласно закивали головами. — Я хочу повторить предложение, сделанное мною императору, — громко сказал Йиркан. — Его особа слишком важна, чтобы рисковать ею в битве, моя же скромная особа — никчемна. Я готов принять на себя командование сухопутными и морскими силами, а император может оставаться во дворце в полной уверенности, что битва будет выиграна, а варвары наказаны. Возможно, императору необходимо дочитать какую-нибудь книгу? Эльрик улыбнулся. — Я вновь благодарю тебя за заботу, принц Йиркан. Но император должен упражнять не только ум, но и тело. Командовать буду я.Когда Эльрик вошел в свои покои, Худоба уже приготовил своему господину доспехи, которые служили верой и правдой многочисленным мельнибонийским императорам. Доспехи эти были заколдованы, ни одно оружие на Земле не могло пробить их, и, если верить слухам, они выдерживали удары легендарных рунных мечей — «Повелителя Бурь» и «Властительницы Мрака», которыми владели самые жестокие императоры Мельнибонэ, пока Повелители Хаоса не забрали мечи, спрятав их в одном из измерений, куда даже боги не всегда могли проникнуть. Лицо Худобы сияло от счастья; он гладил доспехи искривленными пальцами — так ласкают любимую женщину. Глазами, полными слез, он посмотрел на Эльрика, дрожащим голосом произнес: — О, сир! О, мой император! Завтра ты познаешь радость битвы! — Да, Худоба. Будем надеяться, она действительно доставит мне радость. — Я обучил тебя великому военному искусству: фехтованию, стрельбе из лука, метанию копья; ты одинаково хорошо бьешься и конный, и пеший. Ты усвоил все, что я знал, хоть многие и считают тебя физически слабым. За исключением одного человека, ты — лучший воин Мельнибонэ. — Возможно, принц Йиркан владеет оружием лучше меня, — задумчиво произнес Эльрик. — Как ты думаешь? — Я сказал, за исключением одного человека, сир. — И этот человек — Йиркан. Что ж, быть может, когда-нибудь мне и моему двоюродному брату придется проверить, кто из нас двоих сильнее. И хватит об этом. Пойду приму ванну. — Поторопись, сир. Говорят, до подхода корсаров надо многое успеть сделать. — А после ванны я лягу спать. — Эльрик улыбнулся, глядя на своего преданного слугу. — Не беспокойся, Худоба. Не могу же я лично руководить расстановкой галер. Завтра я буду командовать битвой, а для этого мне необходимо как следует отдохнуть. — Если император так считает, значит, так оно и есть. — Ты удивлен моим поведением, Худоба? Тебе, как я вижу, очень хочется, чтобы я поскорее занялся делами военными и кромсал людские тела и души, будто я — сам Ариох. Худоба быстро прикрыл заскорузлой ладонью рот, словно эти слова произнес он, а не его господин. Глаза верного слуги расширились от ужаса. Эльрик рассмеялся. — Тебе кажется, я кощунствую? Не беспокойся, я высказывал куда более смелые мысли, но пока еще меня никто не покарал. Запомни, Худоба, в Мельнибонэ не демоны управляют императорами, а императоры — демонами. — Императору виднее. — Я говорю правду. — Эльрик позвал рабов, вышел из комнаты. Душа его пела в ожидании предстоящей битвы.
Черный нагрудник кирасы, черные наголенники, черные латные рукавицы… Одетый в черные доспехи, он стоял на капитанском мостике. На боку его висел двуручный меч, принадлежавший, по слухам, великому герою по имени Оубек. К золотому ограждению мостика был прислонен круглый щит с изображением дракона, пикирующего на неприятеля. И черный шлем его был в форме дракона с распростертыми крыльями и хвостом, загнутым к спине. В тусклом свете фонаря, висевшего, у основания мачты, видны были чуть раскосые горящие красные глаза, красивые черты мертвенно-бледного лица: прямой нос, высокие скулы, изящно очерченные губы. Эльрик, император Мельнибонэ, всматривался в темноту и думал свои думы. Он стоял на высоком капитанском мостике боевой золотой галеры, напоминающей плавучую крепость с мачтами, парусами, веслами и катапультами. «Сын Света» был флагманской галерой флота. Рядом с Эльриком стоял один из его немногочисленных близких друзей, адмирал Магам Колим. Он знал альбиноса с пеленок, обучал его искусству ведения морского боя, правилам навигации. В глубине души Магам Колим, быть может, и сомневался в способности слишком ученого и углубленного в себя молодого человека управлять государством, но он признавал права Эльрика на престол и выходил из себя, когда слышал изменнические речи Йиркана и ему подобных. Принц Йиркан тоже находился на флагманской галере, но в данный момент на капитанском мостике его не было. «Сын Света» стоял на якоре в одном из ста искусственных гротов, выдолбленных в скале специально для золотых галер. Мачты покачивались у самого потолка грота, весла гребцов, — от двадцати до тридцати весел с каждого борта, — не доходили всего нескольких дюймов до его стен. Золотые галеры, построенные с помощью волшебства в незапамятные времена, практически невозможно было уничтожить; несмотря на внушительные размеры они могли искусно маневрировать и идти быстрее самых быстроходных кораблей Молодых Королевств. Не в первый раз стояли они в потайных гротах и не в последний (но это уже совсем другая история). В эти дни боевые галеры Имрирра редко выходили в открытое море, но раньше они неустанно бороздили океанские просторы, держа в страхе весь мир. В те времена у Мельнибонэ было больше двухсот галер, а сейчас осталось всего сорок, но и сорока галерам ничего не стоило расправиться с сотней пиратских суденышек. Вдыхая сырой воздух, вслушиваясь в плеск волн, Эльрик думал о том, что составил неудачный план битвы. Он не сомневался, что они победят, но сожалел о тех мельнибонийцах и варварах, которые погибнут в бою. Быть может, ему следовало не устраивать корсарам западню, а каким-то образом отпугнуть их. Южные варвары были далеко не первыми, кто польстился на несметные сокровища Имрирра Прекрасного. Южные варвары были далеко не первыми, кто решил, что мельнибонийцы окончательно деградировали и не смогут защитить Город Мечты. Южные варвары будут наказаны в назидание остальным! Империя Мельнибонэ сохранила свою силу! По мнению Йиркана, империя была достаточно могущественна, — если не солдатами, то колдовством, — чтобы вновь завоевать весь мир! — Тихо! — Адмирал Магам Колим наклонился вперед, прислушался. — Не весло ли плеснуло по воде? Эльрик кивнул. — По-моему, да. Плеск весел становился все слышнее. Скрипели деревянные мачты. Южные варвары вошли в лабиринт. «Сын Света» находился ближе других галер к входу и, соответственно, должен был первым начать боевые действия, но только после того, как в лабиринт войдет последний корабль корсаров. Магам Колим быстро подошел к мачте, загасил фонарь, затем спустился с капитанского мостика, чтобы отдать команде последние распоряжения. Незадолго до этого Йиркан вызвал волшебный туман, скрывший золотые галеры от посторонних глаз, но позволявший видеть корабли противника, на палубах которых горели факелы, освещавшие темные воды извилистого канала. В течение нескольких минут мимо грота прошло десять пиратских суденышек. Магам Колим вернулся на капитанский мостик вместе с Йирканом. Голову принца украшал шлем в форме дракона, но не такой великолепный, как у Эльрика — главнокомандующего немногих Повелителей Драконов Мельнибонэ. В предвкушении предстоящей битвы Йиркан кровожадно усмехался. Эльрик не хотел, чтобы принц сражался с ним бок о бок, но не мог отказать ему в законном праве находиться на флагманской галере. Теперь уже мимо грота прошло более полусотни кораблей корсаров. Йиркан нетерпеливо мерил шагами капитанский мостик; доспехи его слегка поскрипывали, рука в латной рукавице судорожно сжимала рукоять меча. — Скоро, — все время повторял он. — Скоро. А затем якорная цепь протяжно застонала, весла разом погрузились в воду, и золотая галера величественно заскользила к последнему из пиратских кораблей, ударив его в борт, расколов на две части. Отчаянные крики матросов, падающих за борт, сотрясали воздух. В мрачном свете пляшущих факелов были видны люди, цеплявшиеся за остатки палубы. На палубу галеры упали пять-шесть копий, но имриррские лучники быстро добили несколько человек, оставшихся в живых. Первые звуки сражения послужили сигналом для других боевых галер. Сохраняя идеальный строй, они неожиданно появились перед изумленными корсарами прямо из каменных стен по обеим сторонам тоннеля. Должно быть, варвары подумали, что на них напали демоны. Эхо, разносившее под темными сводами крики, стоны, звяканье металла о металл, напоминало злобное шипение огромной свирепой змеи. Да и сам флот корсаров был похож на змею, разорванную на десятки кусков безжалостными золотыми зверьми. Но южные варвары не были трусами, и замешательство их длилось недолго. На «Сына Света» напали сразу три пиратских корабля. Зажженные стрелы взвились в воздух, посыпались на деревянные палубы золотой галеры. Кое-где возникли небольшие пожары, несколько мельнибонийских матросов погибли. Эльрик поднял щит над головой; две горящие стрелы отскочили от него, упали вниз. Альбинос сбежал по трапу, встал во главе отряда воинов, приготовившихся дать бой приближающимся корсарам. Катапульты рявкнули; шары голубого огня полетели в темноту, но даже не задели пиратские корабли. Еще один залп… самый последний корабль вспыхнул, как спичка. Абордажные крючья впились в борт другого корабля, и Эльрик в числе первых перепрыгнул на его палубу, кинулся к капитану варваров, одетому в грубые доспехи, с двуручным мечом в руке, громко призывающему матросов расправиться с мельнибонийскими шелудивыми псами. У капитанского мостика на альбиноса напали три корсара, вооруженные саблями и небольшими круглыми щитами. Лица их были искажены от страха: они понимали, что погибнут, но намеревались дорого продать свои жизни. Повесив боевой щит на плечо, Эльрик взял меч двумя руками, набросился на матросов, сбив одного с ног, убив второго ударом в горло. Клинок сабли блеснул перед глазами альбиноса, острие слегка задело его за щеку. Из царапины потекла кровь. Уклонившись от второго удара, Эльрик сделал выпад, пропорол варвару живот. Корсар с удивлением уставился на зияющую рану, словно не веря, что сейчас умрет. Затем глаза его закрылись, и он рухнул на палубу. Человек, которого Эльрик сбил с ног, попытался встать, и альбинос рубанул с плеча, раскроил ему череп. Теперь путь на капитанский мостик был свободен. Эльрик начал подниматься по трапу, прикрывая голову щитом. Ему показалось, что сквозь шум битвы он слышит, как капитан кричит: — Умри, белолицый демон! Умри! Тебе не место на нашей Земле. Слова эти поразили альбиноса до глубины души, на мгновение ему действительно захотелось умереть. Возможно, капитан был прав. Возможно, именно по вине ныне царствующего императора, империя разваливалась, мельнибонийцы вырождались, драконы перестали размножаться. Он отразил удар мечом, подставив щит, попытался подрубить капитану ноги. Варвар быстро отскочил назад, и это дало Эльрику возможность быстро пробежать по последним ступенькам трапа и ступить на мостик. Лицо корсара было почти таким же бледным, как у альбиноса, по лбу его ручьями тек пот, в глазах застыло жалобное и вместе с тем испуганное выражение. — Вам следовало оставить нас в покое, — словно издалека услышал Эльрик собственный голос. — Мы не причинили вам никакого вреда, варвар. Когда мельнибонийцы в последний раз воевали с Молодыми Королевствами? — Вы вредите нам тем, что существуете, Белолицый. Вы — злые колдуны. Ваши обычаи бесчеловечны. Вы смотрите на всех свысока. Вы омерзительны. — Значит, вы решили нас уничтожить потому, что чувствуете к нам отвращение? Или вас прельстило наше богатство? Не обманывай ни себя, ни других, капитан: только алчность привела вас в Мельнибонэ. — По крайней мере, алчность присуща любому человеку, ее можно понять. А вы — нелюди. Хуже того, вы ведете себя так, будто вы боги, а на самом деле вам до них далеко. Ваши дни сочтены. Вас необходимо уничтожить, а город ваш стереть с лица Земли. Эльрик кивнул. — Возможно, ты прав, капитан. — Конечно, я прав. Наши священники проклинают вас, наши мудрецы предсказывают, что вы погибнете. Вас погубят те самые Повелители Хаоса, которым вы служите. — Повелители Хаоса давно уже не интересуются делами Мельнибонэ. Они перестали оказывать нам помощь более тысячи лет назад. — Эльрик внимательно наблюдал за капитаном, прикидывая разделявшее их расстояние. — Возможно, по этой причине мы и лишились былого могущества. А может, мы просто устали от сознания собственной силы. — Пусть будет так, — сказал капитан, вытирая пот со лба. — Как бы то ни было, время ваше истекло; с вами и вашим колдовством пора покончить раз и навсегда… — Он громко застонал, глядя на лезвие меча, пронзившего ему грудь. Встав на одно колено, альбинос вытащил лезвие из раны, молча глядя на внезапно осунувшееся лицо капитана. — Ты поступил нечестно, Белолицый, — прошептал варвар. — Мы только начали разговаривать, а ты прервал беседу на самом интересном месте. Твое искусство выше всяких похвал. Пусть же дьявол заберет твою душу, чтобы мучилась она вечными муками. Прощай. Эльрик посмотрел на труп варвара и, сам не зная почему, изо всех сил ударил его мечом по шее. Голова отделилась от туловища, покатилась по мостику, ударилась о столбик перил ограждения, полетела вниз, в холодные глубокие воды. А затем по трапу вскарабкался ухмыляющийся Йиркан. — Ты свиреп и удачлив в бою, мой император! Варвар был прав! — Прав? — Эльрик, сверкая глазами, уставился на своего двоюродного брата. — Прав?! — Ну, конечно! Твое искусство выше всяких похвал! — и, хохоча во все горло, Йиркан спустился на палубу к мельнибонийцам, которые добивали оставшихся в живых корсаров. Эльрик никогда не давал себе отчета в том, почему раньше он никак не реагировал на злобные выходки Йиркана, но сейчас он вдруг понял, что ненавидит принца лютой ненавистью. В эту минуту император Мельнибонэ с наслаждением убил бы своего брата, который словно заглянул ему в душу, а затем плюнул в нее. Внезапно Эльрик с необычайной остротой ощутил свое ничтожество и горько пожалел, что он — мельнибониец, император, и что Йиркан родился на свет.
Глава шестая
Подобно левиафанам, золотые галеры плыли среди обломков пиратских кораблей. Некоторые из них еще горели, другие — тонули, но большинство давно погрузились в неизмеримые глубины морского канала. Причудливые гигантские тени плясали на сырых каменных стенах, словно отдавая салют душам погибших воинов перед тем, как они опустятся на дно, где, как утверждали, все еще правил один из Повелителей Хаоса, набиравший на затонувшие корабли команды из моряков, погибших в морских сражениях, А может, их ожидала не такая печальная судьба, и им придется служить Страаше, Повелителю духов воды, которые распоряжались водной стихией, но не имели отношения к неизведанным глубинам и дну морей и океанов. Но несколько кораблей вырвались из западни. Каким-то чудом утлые суденышки развернулись, вышли в открытое море. Об этом доложил Эльрику, Магаму Колиму и принцу Йиркану, вновь стоявшим на мостике флагманской галеры, один из капитанов. — Мы должны догнать и уничтожить их! — вскричал Йиркан. Лицо принца лоснилось от пота, щека нервно дергалась, глаза лихорадочно блестели. — Скорее в погоню! Эльрик пожал плечами. Он сильно ослаб, так как не взял с собой трав, которые принимал регулярно. Ему хотелось вернуться в Имрирр и как следует отдохнуть. Он устал от кровопролития, устал от Йиркана, но больше всего он устал от самого себя. Ненависть, которую альбинос чувствовал сейчас к своему двоюродному брату, тоже подтачивала его силы, и он ненавидел себя за свою ненависть, а это было хуже всего. — Нет, — сказал он. — Пускай живут. — Пускай живут? Оставить их действия безнаказанными? О чем ты говоришь, мой император! Это — нарушение наших обычаев. — Йиркан повернулся к Магаму Колиму. — Ведь это — нарушение обычаев, адмирал? Магам Колим пожал плечами. Он тоже устал и хотел вернуться в Имрирр, хотя в глубине души был согласен с Йирканом. Враги Мельнибонэ должны быть наказаны, даже если они осмелятся помыслить о нападении на Город Мечты. Магам Колим сухо ответил: — Я сделаю то, что прикажет мне император. — Пускай живут, — повторил Эльрик и тяжело облокотился о перила ограждения. — Пускай вернутся в свои варварские страны и расскажут всем, как Повелители Драконов уничтожили их жалкий флот. Я думаю, корсары надолго оставят нас в покое. — В Молодых Королевствах слишком много дураков, — ответил Йиркан. — Нас никогда не оставят в покое. Самый лучший способ проучить их — уничтожить всех корсаров до единого. Эльрик глубоко вздохнул, с трудом справляясь с охватившей его слабостью. — Принц Йиркан, ты испытываешь мое терпение. — Мой император, я думаю только о благополучии Мельнибонэ. К тому же я ни от кого не хочу выслушивать, что, по слабости своей, император испугался вступить в бой с пятью пиратскими суденышками. На этот раз Эльрик разозлился до такой степени, что почувствовал прилив сил. — Кто скажет, что император испугался? Быть может, ты, Йиркан? — Следующую фразу он произнес в сердцах, сам не понимая, как она вырвалась у него. — Хорошо, мы догоним корсаров, потопим их корабли. Чем скорее, тем лучше. И хватит об этом. Я устал. Глаза Йиркана загадочно блеснули. Он отвернулся и громким голосом начал отдавать распоряжения матросам. Когда мельнибонийский флот вышел из лабиринта, небо посветлело. Адмирал Магам Колим взял курс на Кипящее Море, за которым лежали страны южных варваров. Корсары никогда не осмелятся пересечь Кипящее Море — это не удавалось ни одному смертному, — они обогнут его с западной стороны. Вернее, им не удастся его обогнуть, потому что их догонят быстроходные боевые галеры Мельнибонэ. Сидевшим на веслах рабам дали выпить настой трав, который утроит их силы на несколько часов, после чего они умрут. Паруса наполнились попутным ветром. Величественные золотые крепости, казалось, скользили по морю; секрет их постройки не знали даже мельнибонийцы, растерявшие часть волшебных знаний своих великих предков. Глядя на галеры, словно пришедшие на Землю из иного мира, легко было представить себе, как должны были ненавидеть мельнибонийцев люди из Молодых Королевств. Скоро корабли южных варваров показались на горизонте. «Сын Света» оторвался от галер флота на почтительное расстояние, и сейчас рабы, потея от страха, готовили катапульты к бою, осторожно черпая ложками воспламеняющуюся жидкость и наливая ее в бронзовые шары. Другие рабы накрыли на стол на капитанском мостике, подали трем Повелителям Драконов вино, пищу на платиновых тарелках. Эльрик настолько ослаб, что не смог проглотить ни кусочка, но с жадностью выпил большой кубок крепкого желтого вина. Глаза его заблестели, он почувствовал прилив сил. Он налил себе второй кубок, выпил вслед за первым. На горизонте появилась небольшая полоска света: разгоралась заря. — Как только взойдет солнце, — сказал альбинос, — начинайте обстреливать корсаров из катапульт. — Пойду, распоряжусь. — Магам Колим вытер губы, положил на тарелку обглоданную кость, встал из-за стола. Эльрик слышал, как он тяжело спускается по трапу. Горькое чувство обиды охватило альбиноса: он подумал о том, что окружен врагами. Когда Йиркан с ним спорил, поведение адмирала было более чем странным. Эльрик вздрогнул, попытался выкинуть глупые мысли из головы. Но усталость, недовольство собой, издевательское отношение к нему Йиркана, которое принц не скрывал, вновь заставили его почувствовать свое одиночество. Даже Каймориль и Дайвим Твар не могли понять причин, побуждающих императора действовать вопреки сложившимся традициям. Возможно, самым лучшим для него выходом будет отказаться от всего, что связывало его с Мельнибонэ, и стать скитальцем, обычным наемником, предлагающим свои услуги тем, кто в них нуждается. Тусклый красный полукруг солнца осветил черную полоску воды на горизонте. Катапульты рявкнули, бронзовые шары со свистом — постепенно затихающим — рассекли воздух. Казалось, дюжина метеоров летела по небу к пяти суденышкам, находившимся на расстоянии всего в несколько сот футов от преследующей их галеры. Два пиратских корабля вспыхнули; три оставшихся успели поменять курс. Бронзовые шары упали в море, загорелись и пошли ко дну, продолжая гореть в воде. Рабы лихорадочно наполняли воспламеняющейся жидкостью следующую партию снарядов; Йиркан кричал на них с капитанского мостика, приказывая поторопиться. А затем корсары изменили тактику. Видимо, они поняли, что спастись от преследования невозможно, и поэтому, разойдясь в разные стороны, пошли на сближение с «Сыном Света», совсем как те корабли, которые напали на флагманскую галеру в лабиринте. Эльрик пришел в восхищение не только от их отваги, но и от искусства, с которым они маневрировали, и от той быстроты, с которой они приняли единственно верное решение, не дававшее им, впрочем, ни одного шанса на спасение. Катапульты вновь рявкнули, два бронзовых шара упали на один из кораблей, мгновенно запылавший ярким факелом. Горящие люди прыгали в воду. Горящие люди стреляли из луков по флагманской галере. Горящие люди падали с мачт. Горящие люди погибали, но горящий корабль продолжал идти вперед: кто-то из матросов намертво закрепил румпель, направив судно прямо на «Сына Света». Горящий корабль ударился в золотой борт; огонь перекинулся на деревянные палубы галеры как раз в том месте, где находились катапульты. Бронзовая бочка с воспламеняющейся жидкостью вспыхнула; матросы и рабы кинулись к ней со всех ног, пытаясь загасить пожар. Эльрик усмехнулся. Наверняка, варвары намеренно подставили свой корабль под огненный снаряд. Они рассчитали верно: в то время как большая часть команды галеры тушила пожар, два других корабля взяли мельнибонийцев на абордаж. — Корсары на борту! — вскричал Эльрик, сожалея, что задумался о своем и вовремя не предупредил имриррцев об опасности. — Варвары атакуют! Йиркан резко повернулся, в мгновение ока оценил обстановку, кинулся вниз по трапу. — Оставайся здесь, мой император! — крикнул он Эльрику через плечо. — Ты слишком ослаб и не сможешь принять участие в битве! Призвав на помощь все свои силы, альбинос пошел вслед за Йирканом, чтобы помочь защитникам галеры. Корсары сражались не для того, чтобы победить: они понимали, что, в конечном итоге, это невозможно. Сражаться их заставляло чувство гордости. Им хотелось захватить хотя бы одну мельнибонийскую галеру, тем более — флагманскую. Таких людей трудно было презирать. Они знали, что скоро к месту морского боя подойдут другие галеры и мечтали только об одном: как можно дороже продать свои жизни. На Эльрика напали сразу два варвара, вооруженные саблями и небольшими круглыми щитами. Он бросился в атаку, но доспехи, казалось, пригнули его к палубе, а щит и меч были такими тяжелыми, что он с трудом их поднял. Два кривых клинка одновременно ударили по его шлему. Эльрик сделал шаг назад, пронзил руку одному корсару, оттолкнул щитом второго. Клинок сабли зазвенел, отскочив от нагрудной пластины, и альбинос едва удержался на ногах. Из-за густого дыма почти ничего не было видно, раскаленный воздух обжигал легкие, отовсюду доносились крики и стоны. В полном отчаянии Эльрик очертил мечом полукруг, почувствовал, как лезвие вошло во что-то мягкое. Один из варваров упал, захлебнувшись собственной кровью; альбинос поскользнулся о его труп, сумел удержать равновесие только опустившись на одно колено, вытянув вторую ногу назад. Торжествуя победу, оставшийся в живых корсар кинулся к нему, наткнулся на острие меча, который Эльрик выставил перед собой. Варвар покачнулся, упал на альбиноса, но тот ничего не почувствовал. Император Мельнибонэ потерял сознание. Болезненная кровь предавала его каждый раз, когда он не принимал лекарств вовремя.Почувствовав на губах привкус соли, он решил, что это — кровь, и открыл глаза. Он ошибся. Волна, прокатившаяся по палубе, привела его в чувство. Он попытался выбраться из-под трупа варвара, но не смог пошевелиться. Затем он услышал знакомый голос и повернул голову. Принц Йиркан стоял на палубе и ухмылялся во весь рот. Он наслаждался беспомощным состоянием Эльрика. Густой черный дым по-прежнему висел в воздухе, но шум битвы затих. — Мы… мы победили, брат? — с трудом выговаривая каждое слово, спросил Эльрик. — Да. Перебили всех варваров до единого. Сейчас возвращаемся в Имрирр. Эльрик облегченно вздохнул. Если в ближайшее время он не примет своих целебных трав, то начнет медленно умирать. Видимо, Йиркан понял, о чем подумал альбинос. Он злобно рассмеялся. — Хорошо, что битва так быстро закончилась. Еще немного, и мы остались бы без нашего императора. — Помоги мне встать, брат. — Эльрик ненавидел себя за то, что обратился к Йиркану с просьбой, но у него не было выхода. Он протянул руку. — У меня хватит сил, чтобы осмотреть галеру. Йиркан сделал шаг вперед, остановился, задумчиво посмотрел на протянутую руку Эльрика, усмехнулся. — Мой император, я вынужден с тобой не согласиться. Ты умрешь, прежде чем мы достигнем Имрирра. — Глупости. Я могу жить без лекарственных трав долгое время, хотя двигаться мне трудно. Я приказываю тебе, Йиркан: помоги мне встать. — Ты не можешь мне приказывать, Эльрик, Видишь ли, теперь император Мельнибонэ — это я! — Остерегись, брат. Я мог бы простить тебе предательство, но мои приближенные не позволят мне этого сделать. Я вынужден буду… Йиркан перешагнул через Эльрика, подошел к перилам ограждения борта. Одна из секций, которая обычно открывалась для спуска трапа, прикреплялась к ограждению четырьмя болтами. Йиркан медленно вывернул болты, ударом ноги скинул секцию в море. Эльрик отчаянно пытался освободиться, но был настолько слаб, что не смог даже пошевелиться. В Йиркана же, казалось, вселился могущественный демон. Словно пушинку поднял он лежавший на альбиносе труп варвара и отшвырнул его в сторону. — Йиркан, — сказал Эльрик, — ты делаешь глупость. — Я никогда не был осмотрительным человеком, брат, и тебе об этом прекрасно известно. — Кончиком сапога Йиркан подтолкнул альбиноса к отверстию в заграждении. Эльрик заскользил по палубе, увидел внизу черное волнующееся море. — Прощай, мой бывший император. Теперь на Рубиновом Троне будет сидеть истинный мельнибониец. И кто знает, может, он сделает Каймориль своей императрицей? Такое уже случалось… А затем Эльрик почувствовал, что летит в пустоту. Он ударился о воду; тяжелые доспехи потянули его вниз. Последние слова Йиркана вновь и вновь звучали у него в ушах, напоминая настойчивый плеск волн по золотым бортам галеры.
КНИГА ВТОРАЯ
Окончательно потеряв уверенность в себе, не зная, что ждет его в будущем, император-альбинос должен теперь воспользоваться своими колдовскими силами, а значит, поступиться принципами, которые определяли всю его жизнь. Но другого выхода у него нет. Он обязан стать властным. Он обязан стать жестоким. Но и это не принесет ему успокоения…Глава первая
Эльрик быстро шел ко дну, отчаянно стараясь задержать дыхание. У него не было сил, чтобы плыть, а тяжелые доспехи не позволяли ему продержаться на поверхности до тех пор, пока его заметит Магам Колим или кто-нибудь из преданных слуг. Рев в его ушах постепенно затихал, превращаясь в еле слышное бормотание, похожее на голоса водных духов, с которыми он подружился еще в юности. Легкие у него тоже перестали болеть; красный туман, застилавший глаза, рассеялся. Ему показалось, что он видит лица Садрика, Каймориль, Йиркана. Глупый Йиркан: хоть принц и кичился своим мельнибонийским происхождением, в нем отсутствовала утонченность, присущая всем мельнибонийцам; нрав его был таким же прямым и грубым, как у тех варваров из Молодых Королевств, которых он презирал… Внезапно Эльрик подумал о том, что должен быть благодарен своему двоюродному брату. Жизнь закончилась. Страх, ненависть, мучения, любовь остались в прошлом, а будущее сулило благостное забвение. Он перестал задерживать дыхание, расслабился, отдал всего себя целиком морю и Повелителю водных стихий Страаше, который когда-то был близким другом императоров Мельнибонэ. И внезапно он вспомнил старое заклинание, с помощью которого его предки вызывали Страашу, и заклинание это с необычайной силой вспыхнуло в его умирающем мозгу.Глава вторая
Странные облака самых причудливых форм неслись по небу, изредка обнажая большое красное солнце. Золотые галеры скользили по морю, а за ними медленно шел «Сын Света», Мертвые рабы лежали рядом с веслами; порванные паруса обвисли; на полуразрушенном капитанском мостике стоял новый император Мельнибонэ, единственный человек во всем флоте, кто пребывал в прекрасном расположении духа. На мачте «Сына Света» теперь развевался флаг с гербом Йиркана: принц не стал долго ждать и объявил Эльрика погибшим в бою, а себя — императором Мельнибонэ. Странное небо Йиркан воспринял, как хорошее предзнаменование: наконец-то Мельнибонэ возвратит себе былое могущество. Отдавая распоряжения громовым голосом, принц сиял от счастья, и Магам Колим, всегда с уважением относившийся к Эльрику, а сейчас вынужденный исполнять приказания Йиркана, серьезно подумывал, не поступить ли ему с Йирканом так же, как Йиркан (в чем адмирал не сомневался) поступил с Эльриком. Дайвим Твар стоял на корме своей галеры, «Богине Теркали», и тоже смотрел на странное небо, но в отличие от Йиркана он счел это дурным предзнаменованием. Дайвим Твар был глубоко опечален гибелью Эльрика и вынашивал планы мести Йиркану, если будет доказано, что принц убил своего брата для того, чтобы беспрепятственно взойти на Рубиновый Трон. На горизонте показался Остров Драконов — темное пятно неправильной формы, — зовущий мельнибонийцев в свою утробу, где их ждали наслаждения, которые можно было получить только в Городе Мечты. Вскоре они оказались у ворот лабиринта, и золотые галеры одну за другой поглотила тьма каналов, — там все еще плавали обломки кораблей и белые вздутые трупы южных варваров. Никто не радовался победе над врагом, ведь мельнибонийцы потеряли в бою своего императора. Теперь на протяжении семи дней и семи ночей в Городе Мечты будет исполняться ритуал под названием «Дикий Танец». Все мельнибонийцы выпьют настой трав, чтобы не спать, ибо каждый, и стар, и млад, должен бодрствовать и оплакивать своего погибшего императора. Обнаженные Повелители Драконов будут бродить по городу, оплодотворяя — согласно традиции — всех молодых женщин, которые встретятся им на пути, чтобы они могли родить как можно больше детей благородной крови. Многих рабов убьют и съедят; одна из башен будет снесена, а на ее месте выстроена другая, и назовут ее именем Эльрика VIII, императора-альбиноса, который погиб в морском бою, защищая Мельнибонэ от южных варваров. Он погиб в морском бою, и тело его исчезло в волнах, а это не предвещало ничего хорошего, потому что теперь Эльрику придется служить Пийрайе, Богу Хаоса, хранителю самых страшных тайн, пребывающему на дне морском в виде спрута с тысячью щупалец; Повелителю флота Хаоса — затонувших кораблей под управлением мертвых матросов. «Просто непостижимо, — думал Дайвим Твар, — что такая печальная судьба постигла одного из гордых императоров Мельнибонэ». Он любил Эльрика, хоть и не всегда одобрял его поведение. Сегодня вечером, решил Дайвим Твар, он отправится в Пещеры и проведет всю ночь со спящими драконами — единственными оставшимися у него близкими существами, — оплакивая альбиноса. А затем Дайвим Твар вспомнил Каймориль, ожидавшую возвращения своего суженого. Золотые галеры вошли в гавань. Наступил вечер. Набережные Имрирра, освещенные факелами, были пустынны; на причале рядом с небольшой каретой стояла группа людей: Каймориль в сопровождении своей охраны пришла встретить Эльрика. Дул холодный ветер. Галеры остановились на почтительном расстоянии от причала, ожидая, пока пришвартуется флагман «Сын Света». Если б не этот древний обычай, Дайвим Твар сошел бы на берег первым, увел бы Каймориль и рассказал бы ей все, что ему было известно о смерти Эльрика. К сожалению, он не имел такой возможности. «Богиня Теркали» едва успела бросить якорь, как с борта «Сына Света» был спущен трап, и торжествующий Йиркан, пыжась от гордости, сошел на причал, триумфально салютуя двумя поднятыми руками своей сестре. Внезапно Каймориль с необычайной ясностью ощутила, что Эльрика нет в живых, и мгновенно заподозрила Йиркана в том, что он причастен к смерти любимого ею человека. Либо Йиркан бросил Эльрика в бою, либо сам убил его, дождавшись подходящего случая. Каймориль хорошо знала своего брата, который особенно гордился собой, когда ему удавалось кого-нибудь предать. Ее полные слез глаза гневно засверкали; откинув голову, она закричала, глядя на странное, грозное небо: — О, горе! Йиркан погубил его! Охранники, как по команде, вздрогнули. Капитан стражи заботливо спросил: — Что ты сказала, принцесса? — Он мертв, и этот… мой брат убил его. Арестуйте принца Йиркана, капитан. Убейте принца Йиркана! Капитан неуверенно положил руку на рукоять меча. Вид у него был несчастный. Молодой воин, давно и безнадежно влюбленный в Каймориль, выхватил меч из ножен, страстно пробормотал: — Я убью его, принцесса, если на то будет твоя воля. Капитан бросил на своего подчиненного предостерегающий взгляд, оставшийся незамеченным. Еще двое воинов выхватили мечи, глядя на приближающегося Йиркана. Принц плотно запахнулся в алую мантию, глаза его горели. — Теперь Йиркан — император! — вскричал он, и шлем в форме дракона качнулся, заблестел в свете факелов. — Нет! — в отчаянии воскликнула Каймориль. — Эльрик, Эльрик, где ты? — На дне морском. Он служит своему новому господину, Повелителю Хаоса, Пийрайе. Его мертвые руки держат штурвал затонувшего корабля. Его мертвые глаза ничего не видят. Его мертвые уши слышат лишь удары хлыста Пийрайи, а егомертвая плоть ничего не чувствует, даже тяжести доспехов, в которых он утонул. — Убийца! Предатель! Капитан, человек практичный, тихо сказал своим воинам: — Вложите мечи в ножны и приветствуйте нового императора. Ему не подчинился лишь стражник, безумно влюбленный в Каймориль. — Но он убил нашего императора! Так сказала принцесса! — Что с того? Теперь Йиркан — император. Преклони перед ним колена, или ты умрешь. Дико вскрикнув, молодой воин бросился на Йиркана, никак не ожидавшего нападения. Принц отпрянул, пытаясь высвободить из-под мантии руки. В мгновение ока капитан стражи выхватил меч из ножен, прыгнул, нанес сильнейший удар. Воин покачнулся, судорожно вздохнул, упал, бездыханный, к ногам Йиркана. Поступок капитана явился подтверждением власти узурпатора. Злобно усмехнувшись, он посмотрел на лежащий перед ним труп. Капитан упал на колени, продолжая держать в руках окровавленный меч. — Мой император! — вскричал он. — Ты доказал свою преданность, капитан. — Я служу Рубиновому Трону. — Ты хорошо ему служишь. Два противоречивых чувства, печаль и ярость, боролись в душе Каймориль, но она была бессильна что-либо изменить. У нее совсем не осталось друзей. Гнусно ухмыляясь, император Йиркан подошел вплотную к своей сестре. Он похотливо погладил ее по щеке, по губам, по шее, затем рука его скользнула вниз, словно невзначай задела девичью грудь. — Сестра, — сказал он, — ты в полной моей власти. Каймориль потеряла сознание. — Отнесите ее в башню, — распорядился Йиркан, — и не спускайте с нее глаз. Даже в самые интимные минуты два человека должны наблюдать за ней, ибо она может замыслить недоброе. Капитан поклонился, сделал знак стражникам. — Слушаюсь, мой император. Все будет исполнено. Йиркан оглянулся, уставился на тело мертвого воина. — Скормите эту падаль ее рабам, чтобы он и после смерти продолжал служить ей. — Он улыбнулся. Капитан тоже улыбнулся, оценив шутку. Он был рад, что наконец-то в Мельнибонэ появился настоящий император. Император, который знал, как должно себя вести; император, который умел наказывать врагов и награждать верных друзей. Капитан с восторгом подумал о тех золотых днях, которые настанут в Мельнибонэ. Золотые галеры вновь распустят паруса и нагонят страх на выскочек из Молодых Королевств. В уме своем капитан считал добычу, которая достанется ему после взятия таких варварских городов, как Лормир, Аргимильяр, Пикрейд, Ильмиора, Джадмар. Быть может, император наградит его за верную службу и сделает когда-нибудь, скажем, наместником Острова Пурпурных Городов. Какие восхитительные пытки придумает он знаменитым корсарам, в частности, графу Смиоргану Лысому, осмелившемуся сделать свой остров таким же, как Мельнибонэ, торговым центром. Глядя на безжизненное тело Каймориль, которую несли стражники, капитан внезапно почувствовал возбуждение. Йиркан, вне всяких сомнений, наградит его за преданность. Несмотря на холодный ветер капитана прошиб пот. Он сам будет охранять принцессу. И ни на секунду не спустит с нее глаз.Маршируя во главе отряда, Йиркан неторопливо приближался к башне Д’Арпутна, откуда мельнибонийские императоры испокон веков управляли своими подданными, восседая на Рубиновом Троне. Йиркан отказался сесть в паланкин, принесенный рабами, и пошел пешком, намереваясь в полной мере насладиться своим триумфом. Он приближался к башне Д'Арпутна, стоявшей в центре города, как к любимой женщине: предвкушая наслаждение, не спеша, зная, что она все равно принадлежит ему и только ему. Император оглянулся. Чуть впереди отряда шли Магам Колим и Дайвим Твар. Люди, высыпавшие на улицы, кланялись Йиркану в пояс. Рабы падали перед ним ниц. Всадники заставляли лошадей преклонять колена. Вкус власти был слаще любого самого экзотического блюда. Йиркан глубоко дышал. Воздух тоже принадлежал ему. Весь Имрирр был его собственностью. Вся империя Мельнибонэ. Скоро весь мир будет у его ног. И он отомстит. О, как он отомстит! Земля содрогнется от ужаса; страх будет править сердцами людей! В экстазе, почти ничего не замечая вокруг, император Йиркан вошел в башню Д’Арпутна. У дверей в тронный зал он остановился, сделал знак слугам, распахнувшим двери настежь. Йиркан переступил через порог, медленно, подолгу задерживая взгляд на каждой детали, обвел зал глазами. Стены, знамена, трофеи, галереи принадлежали ему одному. Тронный зал был пуст, но вскоре здесь зазвучит смех, засверкают богатые наряды, придворные будут развлекаться, согласно древним мельнибонийским традициям. Слишком много времени прошло с тех пор, как в воздухе тронного зала сладко пахло кровью. Йиркан позволил себе перевести взгляд на хрустальную лестницу, ведущую к Рубиновому Трону, ступенька за ступенькой, все выше и выше… Внезапно Дайвим Твар, стоявший позади Йиркана, глухо вскрикнул. Принц невольно посмотрел на трон, и рот его приоткрылся, а глаза, казалось, вылезли из орбит. — Иллюзия! — Дух, — не скрывая своего удовлетворения, сказал Дайвим Твар. — Кощунство! — вскричал император Йиркан, делая несколько шагов вперед на негнущихся ногах, указывая пальцем на закутанную в плащ с капюшоном фигуру, сидевшую на Рубиновом Троне. — Он мой! Мой! Фигура ничего не ответила. — Мой! Изыди! Трон принадлежит Йиркану! Теперь Йиркан император! Кто ты? Зачем ты встал на моем пути? Капюшон откинулся, обнажив мертвенно-бледное лицо в ореоле молочно-белых волос. Красные глаза холодно уставились на невнятно визжащее, спотыкающееся на каждом шагу существо, приближающееся к хрустальной лестнице. — Ты умер, Эльрик! Я знаю, что ты умер! Дух ничего не ответил, но на губах у него зазмеилась ироническая улыбка. — Ты не мог спастись! Ты утонул! Ты не имеешь права возвращаться из мертвых! Твоя душа принадлежит Пийрайе! — В море правит не только Пийрайа, — сказал тот, кто сидел на Рубиновом Троне. — Почему ты убил меня, брат? В полной растерянности, даже не понимая, что выдает себя с головой, Йиркан вскричал, в ужасе глядя на альбиноса: — Потому что управлять Мельнибонэ должен я! Потому что ты был недостаточно силен, недостаточно жесток, недостаточно капризен! — Неплохо я подшутил над тобой, верно, брат? — Изыди! Изыди! Изыди! Я не дам привидению встать на моем пути! Мертвый император не может царствовать в Мельнибонэ! — Посмотрим; — сказал Эльрик, делая знак Дайвиму Твару и его солдатам.
Глава третья
— Теперь я буду управлять государством так, как ты этого хотел, брат, — сказал Эльрик, глядя на солдат, которые схватили узурпатора и разоружили его. Йиркан дышал, как загнанный зверь. Он быстро огляделся по сторонам, словно надеясь найти поддержку у воинов, но они смотрели на него либо равнодушно, либо с презрением. — Ты будешь первым, кто испытает на себе силу моей власти. Надеюсь, ты доволен? — Йиркан задрожал всем телом, опустил голову. Эльрик рассмеялся. — Отвечай мне, брат! — Пусть никогда не познаешь ты минуты покоя! Пусть душа твоя будет мучаться вечными муками, служа Ариоху и рыцарям Хаоса! — Йиркан откинул голову; глаза его бешено вращались, на губах выступила пена. — Ариох! Ариох! Прокляни этого жалкого альбиноса! Уничтожь его, если не хочешь, чтобы империя Мельнибонэ погибла! Эльрик продолжал смеяться. — Ариох не слышит тебя. В наши дни Хаос почти не имеет влияния на Земле. И такому слабому колдуну, как ты, никогда не удастся получить у Повелителей Мечей помощи, которую они оказывали нашим великим предкам. А теперь скажи мне, где Каймориль? Йиркан угрюмо молчал, уставившись в пол. — Она в своей башне, мой император, — произнес Магам Колим. — Капитан ее личной стражи вызвался наблюдать за принцессой, — добавил Дайвим Твар. — Этот холуй собственноручно убил воина, который пытался защитить Каймориль. Боюсь, твоя суженая в опасности, мой император. — Немедленно иди к ней. Возьми с собой отряд воинов. Приведи ко мне Каймориль и капитана. — Как прикажешь поступить с Йирканом, сир? — Он останется здесь до прихода сестры. Дайвим Твар поклонился и покинул зал вместе со своими солдатами. Присутствующие обратили внимание, что шагал он легко, а выражение его лица было не таким хмурым, как тогда, когда он входил в башню Д’Арпутна вслед за Йирканом. Йиркан поднял голову, недоуменно огляделся по сторонам. Какое-то мгновение он выглядел как обиженный ребенок, которого забыли покормить. В его взгляде не было ни злости, ни ненависти, и Эльрику невольно стало жаль своего брата. Усилием воли альбинос подавил в себе это чувство. — Будь счастлив, брат, что в течение нескольких часов ты наслаждался всей полнотой власти, имел возможность по своему усмотрению распоряжаться судьбой каждого мельнибонийца. — Как тебе удалось спастись? — тихим, удивленным голосом спросил Йиркан. — У тебя не было ни времени, ни сил, чтобы прибегнуть к колдовству. Ты едва шевелил руками и ногами, на тебе были тяжелые доспехи, ты не мог не пойти ко дну. Это нечестно, Эльрик. Ты должен был утонуть. Альбинос пожал плечами. — У меня много друзей в море. Они почитают кровь императоров, текущую в моих жилах, и, в отличие от тебя, признают мое право на Рубиновый Трон. Йиркан попытался скрыть свое изумление, но у него ничего не вышло. Невольно он почувствовал уважение к Эльрику, хоть и продолжал ненавидеть его всеми силами своей души. — Друзей? — переспросил он. — Да. — Император-альбинос усмехнулся. — Я… я думал, ты поклялся никогда не пользоваться своей волшебной силой. — Но ведь ты первый говорил, что давать подобные клятвы недостойно императора Мельнибонэ. Вот видишь, Йиркан, тебе все-таки удалось меня победить! Прищурившись, принц уставился на Эльрика, словно пытаясь найти в его словах скрытый смысл. — Ты вернешь на Землю Повелителей Хаоса? — Ни один, даже самый могущественный, волшебник не может вернуть Повелителей Хаоса, как, впрочем, и Повелителей Закона, если они этого не захотят. Ты это знаешь. Ты должен это знать, Йиркан. Разве ты не пытался вызвать Ариоха? И он не явился, верно? Скажи, получил ли ты от него бесценный подарок, о котором мечтал всю жизнь — два черных рунных меча? — Ты и об этом знаешь?! — Теперь знаю. Раньше я только догадывался. Лицо Йиркана исказилось злобой. Он попытался что-то сказать, но из его горла вырвался хриплый звериный рык. В тронный зал вошли Дайвим Твар и Каймориль. Девушка была бледной и осунувшейся, но она улыбалась. — Эльрик! — Каймориль! С тобой все в порядке? Она с отвращением посмотрела на капитана, которого ввели в зал солдаты Дайвима Твара, затем быстро отвела взгляд в сторону, кивнула. — Да. Со мной все в порядке. Капитан дрожал от страха. Он умоляюще посмотрел на Йиркана, словно надеясь, что пленный принц выручит его из беды. Но Йиркан угрюмо смотрел в пол. — Подведите его ближе. — По знаку Эльрика капитана подтащили к подножью хрустальной лестницы. Он громко застонал. — До чего же ты смешон и жалок, — сказал альбинос. — По крайней мере у Йиркана хватило смелости посягнуть на мою жизнь. Тщеславие его не знало границ. Ты же стремился только к одному, стать холуем, и поэтому предал свою госпожу и убил своего солдата. Как тебя зовут? Капитан с трудом сглотнул слюну. Прошептал, еле выговаривая слова: — Вальгарик. Меня зовут Вальгарик. Что я мог сделать? Я служу Рубиновому Трону. — Вот как? Предатель утверждает, что его поступками руководила преданность интересам государства. Я думаю, он лжет. — Я клянусь, сир! Клянусь! — Капитан завыл, как волк, упал на колени. — Убей меня сразу. Не наказывай по-другому! Сначала Эльрик так и собирался поступить, но потом передумал. Вальгарика необходимо было наказать в назидание всем остальным. И поэтому альбинос покачал головой. — Нет, Сегодня ночью ты умрешь в тронном зале, согласно мельнибонийским традициям, в то время как мои подданные будут праздновать мое возвращение и веселиться по поводу того, что теперь настали новые времена. Вальгарик зарыдал, затем вспомнил, что он — мельнибониец, поднялся на ноги. Низко поклонившись, он отступил на шаг. — Я должен решить, как мне связать твою судьбу с тем, кому ты так рьяно служил. Скажи, как ты убил воина, который хотел выполнить приказание твоей госпожи? — Я убил его быстро, сир. Одним ударом. — А что стало с трупом? — Принц Йиркан приказал мне скормить его рабам принцессы Каймориль. — Понимаю. Что ж, брат, сегодня вечером я приглашаю тебя на пир, на котором, надеюсь, капитан Вальгарик развлечет нас всех своей смертью. Йиркан побледнел как полотно. — Что ты задумал? — Небольшие кусочки плоти, которые доктор Шутка будет отрезать от тела капитана Вальгарика послужат тебе трапезой. И, кстати, в каком виде ты желаешь ее вкушать? Мы вовсе не настаиваем, чтобы ты ел сырое мясо. Услышав свой приговор, капитан Вальгарик вскричал от ужаса, безумными глазами посмотрел на Йиркана, как будто принц уже начал поедать его плоть. Йиркан дрожал с головы до ног. — Пир начнется ровно в полночь, — сказал Эльрик. — До тех пор я повелеваю содержать Йиркана под стражей в его собственной башне. Принца и капитана стражи увели, а Дайвим Твар и Каймориль подошли к альбиносу, который откинулся ка спинку Рубинового Трона и смотрел в никуда невидящим взглядом. — Ты поступил жестоко, но мудро, — заметил Дайвим Твар. — Оба они этого заслуживают, — добавила Каймориль. — Да, — пробормотал Эльрик. — Так поступил бы мой отец. Так поступил бы Йиркан, если б мы с ним поменялись местами. Я всего лишь соблюдаю старинные обычаи. И мне не надо теперь притворяться, что я сам себе хозяин. Я останусь здесь, пока не умру, пойманный в ловушку Рубинового Трона, и буду служить государству, как служил ему капитан Вальгарик. — Почему бы тебе не убить предателей сразу? — спросила Каймориль. — Ты знаешь, что я прошу об этом не потому, что Йиркан — мой брат. Я ненавижу его больше кого бы то ни было. Но если ты приведешь свой план в исполнение, ты можешь погубить себя, Эльрик. — Что с того? Пусть я стану бессмысленным исполнителем воли моих предков, марионеткой, которую дергают за ниточки традиций и обрядов десятитысячелетней давности. Если я погублю себя, значит так надо. — Возможно, тебе следует выспаться, прежде чем… — нерешительно произнес Дайвим Твар. — Я чувствую, что мне не придется спать много ночей после того, как мой приговор будет приведен в исполнение. Но твой брат не умрет, Каймориль. Он съест плоть капитана Вальгарика, а потом я отправлю его в ссылку. Его высадят на берег одного из Молодых Королевств, и ему придется жить среди варваров. Мне кажется, это не слишком суровое наказание. — Оно слишком мягкое, — сказала Каймориль. — Я советую тебе убить Йиркана как можно скорее. Прикажи своим солдатам покончить с ним, не давай ему времени опомниться и устроить против тебя новый заговор. — Я не боюсь его заговоров. — Эльрик устало поднялся на ноги. — А сейчас я попросил бы вас обоих удалиться. Мне необходимо подумать. — Я вернусь в башню и приготовлюсь к пиру. — Каймориль притронулась губами к щеке альбиноса. — Помни, что я люблю тебя, Эльрик. — Я прикажу своим людям, чтобы тебя проводили, — сказал Дайвим Твар. — И ты должна назначить нового капитана стражи. Хочешь, я подберу тебе хорошего человека? — Спасибо, Дайвим Твар. Они ушли, а Эльрик вновь сел на Рубиновый Трон, уставился в одну точку. Изредка он дотрагивался до своих молочно-белых волос, и рука его дрожала, а в странных красных глазах отражались тоска и боль. Спустя некоторое время он поднялся на ноги и в сопровождении стражников медленно пошел к своим покоям. Проходя по коридору мимо библиотеки, он остановился. Альбинос инстинктивно искал утешения в знаниях, но в эту минуту ему была ненавистна сама мысль о книгах и рукописях. Это они внушили ему мысль о морали и справедливости; это они довели его до отчаяния только потому, что он решил вести себя, как подобает мельнибонийскому императору. Опустив голову, Эльрик прошел в свои покои, начал ходить из комнаты в комнату. Но и собственные апартаменты вызывали у него сейчас глухое раздражение. Они были обставлены слишком просто, слишком грубо, совсем не во вкусе мельнибонийцев (пожалуй, за исключением его отца), которые любили наслаждаться яркими красками и разнообразными формами предметов. Он завтра же все здесь изменит. Пускай мертвая рука предков руководит теперь всеми его действиями. Он изо всех сил боролся с частью самого себя, требующей проявить милосердие к Вальгарику и Йиркану, и либо убить их сразу, либо отправить обоих в ссылку. Но он не мог изменить принятого решения. Устав от ходьбы, Эльрик присел на кушетку, стоявшую у окна, из которого открывался вид на город. По небу все еще плыли грозные облака и сквозь них, подобно глазу чудовищного зверя, выглядывала желтая луна. Казалось, она глядела на альбиноса иронически, словно радуясь тому, что он одержал победу над своей совестью. Эльрик закрыл лицо руками. Через некоторое время слуги доложили ему, что в тронном зале начали собираться придворные. Эльрика одели в желтые императорские одежды, возложили ему на голову корону. Когда он вышел на верхнюю площадку хрустальной лестницы, мельнибонийцы громко и восторженно закричали — так радостно они ни разу еще его не приветствовали. Коротко кивнув, Эльрик сел на Рубиновый Трон, глядя на стоявшие в зале столы, уставленные яствами. Рабы поставили перед альбиносом небольшой столик и два стула для Дайвима Твара и Каймориль. Но ни Дайвима Твара, ни Каймориль нигде не было видно. И почему до сих пор не привели ни Вальгарика, ни Йиркана? Капитан должен был висеть на цепях в центре зала, а принц Йиркан сидеть с ним рядом. Доктор Шутка уже накалил свои инструменты ка небольшой жаровне и неторопливо перекладывал тонкий скальпель из руки в руку. Рабы разносили горячие блюда, хотя никто не имел права начать трапезу, пока император не приступит к еде. Эльрик подозвал капитана своей стражи. — Разве принцесса Каймориль и Дайвим Твар еще не пришли? — Нет, сир. Каймориль опаздывала редко, а Дайвим Твар — никогда. Эльрик нахмурился. Возможно, им просто не хотелось присутствовать при исполнении неприятного ритуала? — А где пленники? — За ними послали, сир. Внезапно Эльрик услышал странный звук, напоминающий стон. Придворные за столами перестали разговаривать, начали недоуменно оглядываться по сторонам. Звук становился все громче и громче. Двери распахнулись настежь, и на пороге появился Дайвим Твар в изодранных окровавленных одеждах. Тяжело дыша, спотыкаясь на каждом шагу, он побежал вперед, а следом за ним в тронный зал медленно вползло темно-фиолетовое с голубыми прожилками облако тумана, которое и издавало этот протяжный, леденящий душу стон. Эльрик вскочил на ноги, отшвырнул столик, бросился вниз по хрустальной лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Стонущий туман продвигался все дальше и дальше, словно охотился за Дайвимом Тваром. Эльрик подбежал к своему другу, обнял его. — Дайвим Твар! Что это за колдовство? Лицо Хранителя Драконьих Пещер было искажено от страха, зубы его стучали. — Йиркан вызвал волшебное облако, которое помогло ему бежать, — дрожащим от страха голосом произнес он. — Я стал преследовать принца, но туман поглотил меня, и мне едва удалось из него выбраться. — Где Каймориль? — Йиркан похитил ее с помощью капитана Вальгарика и ста верных ему солдат. — Нам надо немедленно их догнать! — Тебе не справиться со стонущим туманом. Смотри! Он приближается! И действительно, фиолетовое облако окутало Эльрика с головы до ног, Он попытался рассеять его, делая пассы руками в воздухе, но туман сгустился. Яркие вспышки света ослепили альбиноса; ему показалось, что сквозь стоны он слышит слова: Эльрик слаб. Эльрик глуп. Эльрик должен умереть! — Замолчи! — вскричал он и бросился вперед, но наткнулся на чье-то тело и упал на колени. Перед его глазами появились лица: страшные, чудовищные — такие не увидишь и в кошмарном сне. — Каймориль! — громко крикнул он. — Каймориль! В ту же секунду он увидел свою суженую, которая презрительно смотрела на него и издевательски смеялась. На лице девушки появились морщины, кожа обвисла… на Эльрика смотрела древняя старуха. Он закрыл глаза, но образ Каймориль не исчез. — Каймориль, — стонал туман. — Каймориль. Силы покинули альбиноса. Он позвал Дайвима Твара, но услышал в ответ лишь эхо собственного голоса. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем стоны ослабли, а туман стал постепенно рассеиваться. Эльрик открыл глаза, попытался встать, но ноги у него подкосились, и он упал, стукнувшись головой о нижнюю ступеньку хрустальной лестницы. Он опять не прислушался к совету Каймориль, которая просила его убить Йиркана, и тем самым подверг девушку смертельной опасности. «Я недостоин жить», — подумал Эльрик и потерял сознание.Глава четвертая
Эльрик очнулся только утром и первым делом послал за Дайвимом Тваром. Повелитель Драконьих Пещер не сообщил ему ничего нового. С помощью волшебства Йиркан освободился, с помощью волшебства бежал. — Мы должны найти Каймориль, — сказал Эльрик. — Отправь на поиски тысячу человек. Отправь всех мельнибонийцев, если это понадобится. Постарайся разбудить драконов. Снаряди в путь золотые галеры. Обыщи весь мир, но найди Каймориль. — Я сделал все, о чем ты говоришь, кроме одного, — ответил Дайвим Твар. — Каймориль мне найти не удалось.Прошел месяц. Имриррские воины маршировали по землям Молодых Королевств, разыскивая своих соотечественников-ренегатов. Альбинос терзался угрызениями совести. «Я рассуждал о морали и забывал о Каймориль, — думал он. — Размышляя о нравственности и безнравственности своих поступков, я заботился только о себе». Прошло два месяца. Имриррские драконы взвились в небо, отправились на Восток и на Юг, на Запад и на Север. Они пролетали над морями и горами, лесами и долинами, наводя ужас на жителей многих городов, но Йиркан со своими приспешниками как сквозь землю провалился. «В конечном итоге, — думал Эльрик, — человека судят по его действиям, а то, что я сделал — не то, что хотел сделать или думал, что хочу сделать, — было глупым, никчемным и не принесло ничего, кроме вреда. Йиркан прав, презирая меня, и, быть может, я ненавижу его именно за это». Прошло три месяца. Золотые галеры Имрирра останавливались в самых далеких портах; матросы расспрашивали о Йиркане горожан и путешественников. Но мельнибонийский принц не зря был могущественным волшебником, и о нем никто не слышал. Все это время Эльрик мучался, не желая прибегать к колдовству, чтобы найти Йиркана. Уставшие от странствий солдаты постепенно возвращались на Остров Драконов, и вскоре альбинос потерял всякую надежду на успех. Тогда он решился. Прежде всего он начал принимать травы, которые не просто поддерживали его силы, а увеличили их в несколько раз. Затем он приступил к чтению определенных рукописей, перечитывая их десятки раз, почти не выходя из библиотеки. Рукописи эти были на древнем мельнибонийском языке, с помощью которого великие предки Эльрика общались со сверхъестественными существами и вызывали на Землю богов Хаоса. И, наконец, альбинос усвоил все необходимое, хотя, изучая страшные заклинания, он часто задумывался о правильности принятого им решения. Когда же Эльрик твердо запомнил ритуал, который ему надлежало исполнить, — в рукописях особо подчеркивалось, что малейшая оплошность может привести к гибели, — он принял сонное зелье и пролежал в полудреме в течение трех дней и трех ночей. Утром четвертого дня Эльрик приказал всем рабам и слугам удалиться из своих покоев, У дверей он поставил стражников, повелев им никого не впускать, даже по самым неотложным делам. Затем он вынес из одной комнаты всю мебель, положил по центру пола рукопись, сел рядом и начал приводить свои мысли в порядок. Через пять часов Эльрик поднялся на ноги, взял заранее приготовленные кисточку и пузырек с тушью, начал чертить на стенах и полу символические знаки, сложные узоры, настолько запутанные, что, казалось, некоторые линии исчезали под углом к поверхности, на которой были нарисованы. Затем альбинос распростерся в центре огромного рунного знака, положив одну руку на рукопись, а вторую — на пальце которой блестел перстень с акторийским камнем — на пол ладонью вниз. Светила полная луна. Лунный луч падал прямо на голову альбиноса, серебрил его молочно-белые волосы. Он послал свою мысль извилистой тропинкой логики по бесконечным равнинам идей, сквозь горы символов и разнообразных истин бесчисленных вселенных. Он посылал свою чистую мысль все дальше и дальше, сопровождая ее словами, срывающимися с его искривленных губ, — словами, которые вряд ли поняли бы даже мельнибонийцы, хотя от каждого звука кровь наверняка заледенела бы в их жилах. Изредка Эльрик стонал, тело его непроизвольно дергалось, но он продолжал говорить, не умолкая ни на секунду, и одно слово повторял чаще других. Это слово было «Ариох». Ариох, демон-покровитель колдунов-императоров Мельнибонэ, один из самых могущественных богов Хаоса, которого называли также Валетом Мечей, Повелителем Семи Кругов Тьмы, Владыкой Преисподней и многими-многими другими именами. — Ариох! Это к Ариоху взывал Йиркан, требуя, чтобы Повелитель Хаоса проклял Эльрика. Это на Ариоха уповал мятежный принц, стремясь захватить Рубиновый Трон. Это Ариох являлся Хранителем двух рунных мечей с черными лезвиями, обладавшими неизмеримым могуществом, которым не раз пользовались предки альбиноса. — Ариох! Я вызываю тебя на Землю! Рунные заклинания с воем вырывались из груди Эльрика. Мысль его достигла, наконец, измерения, в котором обитал Ариох. — Ариох! Тебя вызывает Эльрик, император Мельнибонэ! Альбинос увидел глаз, уставившийся на него. К первому глазу подплыл второй. Теперь на него уставились два глаза. — Ариох! Повелитель Хаоса! Помоги мне! Глаза моргнули и исчезли. — Ариох! Помоги мне, и я обещаю служить тебе верой и правдой! Фигура, ничем не напоминающая человеческую, медленно повернулась к Эльрику. Он увидел лицо без малейших признаков черт, голову в ореоле красного света. Затем и это видение исчезло. Альбинос истощил свои силы. Мысль его покинула иные измерения, губы не произносили ни заклинаний, ни имен. В полном изнеможении он лежал на полу своей комнаты, чувствуя, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Он был убежден, что его постигла неудача. Стояла мертвая тишина. Внезапно он услышал какой-то тихий звук и с трудом поднял голову. По комнате летала муха. Она жужжала и носилась как угорелая точно над теми линиями, которые Эльрик начертил на стенах и полу. Внезапно муха опустилась на один рунный знак, потом перепрыгнула на другой. Должно быть, она влетела в окно, подумал Эльрик. Муха его раздражала, но он, словно зачарованный, не мог отвести от нее взгляда. Затем муха уселась Эльрику на лоб. Это была большая черная муха, и жужжала она до неприличия громко. Потерев передние лапки одна о другую, муха стала ползать по лицу альбиноса. Он задрожал от отвращения, но у него не было сил ни смахнуть, ни прихлопнуть ее. Муха взлетела, начала кружить под самым его носом. Внезапно он увидел ее глаза, очень похожие на те, что смотрели на него в другом измерении. Альбинос понял, что муха эта — не обычное насекомое. У нее было человеческое лицо, и она, как ни странно, улыбалась. Разлепив спекшиеся губы, альбинос с трудом произнес: — Ариох? Прекрасный юноша стоял на том месте, где только что кружила муха. Прекрасный юноша говорил прекрасным голосом: мягким, нежным и одновременно очень уверенным. На нем была мантия, переливающаяся всеми цветами радуги, но не слепящая глаза. На поясе у него висел узкий меч, голову окружал ореол красного огня. В его мудрых, древних как мир, глазах отражалось бесконечное и непобедимое Зло. — Эльрик, — сказал прекрасный юноша. Альбинос почувствовал прилив сил и встал на колени. — Эльрик. Альбинос поднялся на ноги. Все его тело переполняла энергия. Прекрасный юноша был высок ростом. Он смотрел на императора Мельнибонэ сверху вниз и улыбался, совсем как муха. — Ты — единственный, кто способен служить Ариоху. Много времени прошло с тех пор, как меня вызывали в это измерение, но теперь я здесь, и я помогу тебе, Эльрик. Я стану твоим покровителем. Я защищу тебя от многих опасностей, дам тебе силу, укажу неисчерпаемый источник могущества, которым ты сможешь воспользоваться, но при этом я буду твоим господином, а ты — моим слугой. Слова Повелителя Хаоса вселили в Эльрика ужас. — Какой службы ты от меня требуешь, герцог Ариох? — спросил он, сделав неимоверное усилие, чтобы взять себя в руки. — В данный момент мне ничего от тебя не нужно. Служи самому себе и тем самым ты послужишь мне. Позже тебе придется выполнить несколько моих поручений, но сначала поклянись, что ты будешь служить мне верой и правдой. Эльрик нерешительно посмотрел на Повелителя Хаоса. — Ты должен дать мне клятву, — рассудительно произнес Ариох. — Если ты этого не сделаешь, я не смогу помочь тебе ни наказать Йиркана, ни найти Каймориль. — Я клянусь, — сказал Эльрик и внезапно почувствовал такое неизъяснимое блаженство, что вскрикнул от радости и упал на колени. — В таком случае ты можешь время от времени обращаться ко мне, и я окажу тебе помощь, если ты действительно попадешь в отчаянное положение. Я буду появляться перед тобой в том виде, который сочту необходимым в каждом конкретном случае. А теперь, прежде чем я покину это измерение, я разрешаю тебе задать мне один вопрос. — Я хотел бы получить ответы на два вопроса. — На первый из них я не могу ответить. Вернее, не хочу. Ты должен смириться с этим, так как дал мне клятву верности. Но ты можешь ничего не бояться, если будешь добросовестно мне служить. — Тогда ответь на второй вопрос. Где принц Йиркан? — В стране южных варваров. С помощью волшебства он завоевал два небольших государства, Ойн и Йу, и сейчас готовится к походу на Мельнибонэ, так как ему известно, что ты все силы бросил на поиски Каймориль, а Остров Драконов оставил практически незащищенным. — Как ему удалось спрятаться? — Он не прятался. С помощью заклинаний Йиркан раздобыл волшебное Зеркало памяти. Тот, кто посмотрит в него, забывает обо всем. Любой путешественник, посетивший Ойн или Йу просто не помнит, что видел там Йиркана и имриррских воинов. Это — самый лучший способ скрыться от преследования. — Да, — Эльрик кивнул, нахмурился. — Видимо, мне придется уничтожить Зеркало Памяти, Интересно, что произойдет, если я его разобью? Ариох поднял изящную руку. — Я ответил не на один, а на несколько вопросов, потому что до сих пор речь шла о Йиркане. Но больше я тебе ничего не скажу. Быть может, уничтожить Зеркало Памяти — в твоих интересах, но на твоем месте я нашел бы другой способ обезопасить себя, так как в Зеркале содержатся миллионы воспоминаний тех, кто когда-либо в него гляделся. А теперь мне пора. Ты должен без промедления отправиться в Ойн и Йу, которые находятся в нескольких месяцах пути от Мельнибонэ, к югу от Лормира. Быстрее всего туда можно добраться на корабле, который называется «Корабль по Суше и по Морю». Прощай, Эльрик. — Муха зажужжала, уселась на стену и исчезла.
Глава пятая
Эльрик мерил шагами открытую террасу, расположенную на верхнем этаже башни Д’Арпутна. День стоял пасмурный, ни один луч солнца не пробивался сквозь низкие плотные облака. Город Мечты жил обычной жизнью, хотя на улицах его почти не было видно солдат, которые находились в Молодых Королевствах. Пройдет много времени, прежде чем они вернутся на родину, так и не выполнив поручение своего императора. — Сколько драконов спят сейчас в Пещерах? Дайвим Твар прислонился к перилам, рассеянно посмотрел на полупустынные улицы, скрестил руки на груди. У него было усталое, измученное лицо. — Два или три. Даже если нам удастся их разбудить, вряд ли мы сумеем ими воспользоваться. Скажи, что это за «Корабль по Суше и по Морю», о котором говорил Ариох? — О нем упоминается в Серебряной Рукописи и некоторых других книгах. Один мельнибонийский герой плавал на нем в те далекие времена, когда империи еще не существовало. Но где находится этот корабль, я не знаю. — А кто знает? — Дайвим Твар выпрямился, посмотрел на альбиноса. — Ариох. — Эльрик пожал плечами. — Но он отказался отвечать на мои вопросы. — Разве твои друзья, духи воды, не обещали тебе помогать? Кому, как не им, знать о волшебном корабле? Эльрик нахмурился, на лбу его обозначились глубокие морщины. — Да. Страаше наверняка известно о Корабле по Суше и по Морю. Но мне ненавистна сама мысль о том, что я должен буду вновь обратиться к нему с просьбой. Духи воды не такие могущественные существа, как Повелители Хаоса. К тому же они капризны и не любят, когда в их дела вмешиваются посторонние. И самое главное, мне не хочется пользоваться своими волшебными силами без крайней необходимости. — Ты колдун, Эльрик, и только что доказал свое могущество, вызвав Повелителя Хаоса, Ариоха. И после этого ты заявляешь, что не хочешь пользоваться своими волшебными силами? Ты нелогичен, сир, и я прошу тебя как следует подумать и пересмотреть свои взгляды. Ты уже решил применить колдовство, чтобы найти Йиркана и Каймориль. Жребий брошен. Ты поступишь мудро, если попросишь Страашу прийти тебе на помощь. — Ты не можешь представить себе, сколько надо затратить умственной и физической энергии… — Я могу себе это представить, сир. Я — твой друг. Мне очень не хочется, чтобы ты мучился, но… — Не забывай, Дайвим Твар, что природа не наградила меня здоровьем, — напомнил своему другу Эльрик. — Надолго ли меня хватит, если я все время буду принимать отвары трав, которые удваивают мои силы? Я могу умереть, прежде чем найду Каймориль. — Прости меня, сир. Я был неправ. Эльрик подошел к Дайвиму Твару, положил руку ему на плечо. — Нет. Ты был прав. В конце концов, что мне терять? Я праздную труса, в то время как речь идет о жизни моей возлюбленной. Я упрямо повторяю те глупые ошибки, которые уже привели к плачевному результату. Я вызову Страашу. Ты пойдешь со мной на берег? — Да! — Внезапно Дайвим Твар понял, что его, как и Эльрика, начали терзать угрызения совести. Гордому мельнибонийцу, которому такие чувства были в диковинку, стало не по себе.В последний раз Эльрик проезжал по этим местам вместе с Каймориль. Казалось, столетия прошли с тех пор. Какой он был глупец, считая, что их счастье будет продолжаться вечно. Шел мелкий дождь. К Мельнибонэ приближалась зима. Эльрик и Дайвим Твар остановились у скал, спешились, спустились по крутой тропинке на берег. Капли дождя тонули в море. Над водой, неподалеку от пляжа, висел туман, Черные скалы, туман, безмолвие… Дайвиму Твару показалось, что он попал в какой-то иной мир, где, если верить легенде, обитают души самоубийц. Галька скрипела под ногами двух Повелителей Драконов; туман приглушал шаги, с жадностью поглощал звуки, как будто они были пищей, без которой он не мог обойтись. — Сейчас, — прошептал Эльрик, не замечая ни дождя, ни тумана, — я должен вспомнить заклинание, которое само по себе возникло в моем мозгу несколько месяцев назад. Он подошел к берегу моря, сел, скрестив ноги, на песок, невидящим взглядом уставился на туман. На какое-то мгновение Дайвиму Твару показалось, что его друг — беспомощный ребенок. У Хранителя Драконьих Пещер защемило сердце, ему захотелось подойти к альбиносу, предложить ему отправиться в Ойн и Йу, не прибегая к волшебству. Эльрик поднял голову, словно собака, которая собирается завыть на луну. Страшные, леденящие душу звуки начали срываться с его губ, и стало ясно, что даже если Дайвим Твар к нему обратится, альбинос его не услышит. Дайвим Твар, Повелитель Драконов, хорошо знал древний мельнибонийский язык, но он почти не понимал слов: тягучих, протяжных, напевных, с определенными ударениями, подчеркивающими какой-то особый смысл фраз, которые Эльрик произносил то басом, то тонким визжащим голосом. Жутко было слышать эту песню-заклинание, вырывающуюся из горла обычного смертного, и Дайвим Твар наконец понял, почему Эльрик всегда с большой неохотой пользовался своей волшебной силой. Хранителю Драконьих Пещер захотелось уйти, спрятаться, но он заставил себя остаться на месте. Эльрик продолжал тянуть ноту за нотой. Пошел сильный дождь. Камешки на пляже блестели, море пенилось. Дайвим Твар задрожал, плотно запахнулся в плащ. — Страаша… Страаша… Страаша… Казалось, этими словами шумел дождь. А может, их шептал ветер? Или ими плескало море? — Страаша! И вновь Дайвиму Твару захотелось подойти к Эльрику, попросить его прервать колдовской обряд, найти какой-нибудь другой способ, чтобы попасть в Ойн и Йу. — Страаша! Дайвим Твар попытался окликнуть Эльрика, но не смог разжать губ. — Страаша! Дайвиму Твару стало ясно, что заклинание не действует, что Эльрик тратит свои силы понапрасну. Но Хранитель Драконьих Пещер ничем не мог ему помочь. Ноги его, казалось, примерзли к земле. Язык не шевелился. Дайвим Твар вздрогнул, прищурился. Показалось ему или нет, что туман стал светло-зеленым и приблизился к берегу? Волна вздыбилась, накатила на песок. Камешки застучали один о другой. Зеленые огоньки замелькали в воздухе. Дайвиму Твару показалось, что туман заискрился, принял форму гигантского существа. Эльрик перестал петь заклинание, сказал своим обычным голосом: — Повелитель Страаша. Я благодарю тебя за то, что ты ответил на мой зов. Существо заговорило; голос его напомнил Дайвиму Твару ласковый шум прибоя. — Мы встревожены, Эльрик. Говорят, ты вызвал в наше измерение богов Хаоса, а духи стихий никогда их не любили. Тем не менее я знаю, что ты идешь той дорогой, которую предопределила тебе судьба, и поэтому мы ни в чем тебя не упрекаем. — Я вынужден был так поступить. У меня не было другого выхода, Повелитель Страаша. И если ты не захочешь выполнить мою просьбу, я пойму это и не буду больше тебя беспокоить. — Я выполню твою просьбу, если смогу. Мне трудно помочь тебе, так как предзнаменования говорят о том, что в будущем Землю ждут большие перемены. И все же я сделаю все, что в моих силах. А сейчас скажи, какой помощи ты ждешь от духов воды? — Знаешь ли ты что-нибудь о Корабле по Суше и по Морю? Я должен найти его, чтобы выполнить данную мною клятву и спасти Каймориль. — О Корабле по Суше и по Морю я знаю многое, потому что он принадлежит мне. Гроом тоже претендует на него, но он — мой. Мой по праву. — Гроом, Повелитель Земли? — Гроом, Повелитель недр Земли. Гроом, Властелин Подземного Царства. Мой брат, Гроом. В незапамятные времена мы с Гроомом решили построить этот корабль, чтобы свободно путешествовать по нашим с ним владениям. Затем мы поссорились, — будь проклята эта глупость! — и подрались. Землетрясения, наводнения, извержения вулканов, тайфуны изменили облик Земли. Исчезли старые континенты, появились новые. Мы сражались не в первый раз, но в последний, и, чтобы не уничтожить друг друга, решили заключить мир. Я отдал Гроому часть своих владений, а он мне — Корабль по Суше и по Морю. Но Гроом уступил мне корабль с большой неохотой, и поэтому он ходит по воде лучше, чем по суше. Я разрешаю тебе им воспользоваться, если ты действительно в нем нуждаешься. — Я благодарю тебя, Повелитель Страаша. А как мне найти его? — Он приплывет к тебе сам. А сейчас мне пора. Прощай, Эльрик, и будь осторожен. Ты обладаешь куда большим могуществом, чем тебе кажется, и многие захотят воспользоваться им для достижения своих целей. — Должен ли я ждать появления корабля здесь, на этом пляже? — Нет… — словно издалека прозвучал голос Страаши. Туман отодвинулся от берега, зеленые огоньки замигали и исчезли. — Возвращайся в свою башню… он… приплывет… Небольшая волна набежала на песок, отхлынула; морской царь исчез, будто его и не было вовсе. Дайвим Твар протер глаза, медленно подошел к Эльрику, все еще сидевшему на берегу, протянул ему руку. Альбинос удивленно поднял голову. — Это ты, Дайвим Твар? Сколько времени прошло? — Несколько часов. Смеркается. Нам надо успеть вернуться в Имрирр до темноты. Эльрик с трудом поднялся на ноги, рассеянно произнес: — Да… морской царь сказал… — Я все слышал, Эльрик. И его совет, и его предостережение. Думаю, тебе надо последовать первому и запомнить второе. Признаться, мне не по душе эта затея с Кораблем по Суше и по Морю. Как все волшебное, наряду с достоинствами он имеет недостатки и похож на боевую дубинку, которой ты хочешь поразить врага, и которая поражает тебя другим концом. — Ты безусловно прав, друг мой. Но ведь это ты настаивал, чтобы я воспользовался моей волшебной силой. — Да, — пробормотал Дайвим Твар, словно разговаривая сам с собой. — Я помню об этом, мой император. Эльрик устало улыбнулся, дотронулся до руки Дайвима Твара. — Не расстраивайся. Дело сделано, и теперь у нас есть корабль, на котором мы быстро доберемся до Ойна и Йу. — Дай-то бог. — В глубине души Дайвим Твар сильно сомневался, что Корабль по Суше и по Морю имеет преимущество перед обычными средствами передвижения. Они поднялись по крутой тропинке, отерли мокрые бока своих лошадей. — Как жаль, — сказал Дайвим Твар, — что мы вновь понапрасну истощили силы драконов. Во главе эскадрона моих зверей я стер бы Йиркана и его приспешников с лица земли. Ты помнишь, как в нашей юности мы с тобой бороздили небеса, сир, предаваясь радости и веселью? — Мы еще не раз полетаем вместе, Дайвим Твар, когда вернемся домой с принцессой Каймориль, — сказал Эльрик, вскакивая в седло белого иноходца. — Мы усядемся на Огненного Клыка и его подругу Железную Лапу, запоем песню Повелителей Драконов, поднимем копья с нашими штандартами, а ты протрубишь врог, и наши братья-драконы устремятся ввысь. Свобода дороже могущества. Пусть Молодые Королевства идут своим путем, но поостерегутся вмешиваться в дела Острова Драконов! Дайвим Твар укоротил поводья, печально вздохнул. Лицо у него было озабоченным. — Будем надеяться, наступит тот час, когда слова твои сбудутся. Но меня не покидает мысль, что дни Имрирра сочтены, да и мне осталось недолго жить на этом свете. — Глупости, Дайвим Твар! Я умру намного раньше тебя! Они скакали галопом, стремясь попасть в Город Мечты как можно скорее. — У меня есть два сына, — неожиданно сказал Дайвим Твар. — Ты знал об этом, Эльрик? — Первый раз слышу. Ты никогда о них не говорил. — Они родились несколько лет назад от моих прежних любовниц. — Я рад за тебя, друг мой. — Они хорошие мельнибонийцы. — Почему вдруг ты заговорил о своих сыновьях? — Я люблю их и хочу, чтобы они получили все, что может дать им Остров Драконов. — Разве что-нибудь может этому воспрепятствовать? — Не знаю. — Дайвим Твар пристально посмотрел на альбиноса. — Ответственность за будущее моих детей лежит на тебе, сир. — На мне? — Из слов морского царя я понял, что судьба Острова Драконов находится в твоих руках. Прошу тебя никогда не забывать о моих сыновьях, Эльрик. — Конечно, Дайвим Твар. Я уверен, что со временем они станут прекрасными Повелителями Драконов, а один из них сменит тебя на посту Хранителя Драконьих Пещер. — Мне кажется, ты не совсем меня понял, мой император. Эльрик торжественно посмотрел на своего друга, покачал головой. — Я прекрасно тебя понял, Дайвим Твар. Но мне кажется, ты судишь слишком строго, если считаешь, что я стану врагом своего народа или уничтожу Город Мечты. — Прости меня. — Дайвим Твар опустил голову, но выражение его лица не изменилось.
Поздно вечером они сидели за столом, пили горячее вино, закусывали сладостями. Эльрик был нарочито весел, заставлял себя говорить оживленно. Он очень устал, но впервые за последние несколько месяцев ему стало спокойнее на душе. Дайвим Твар не мог не признать, что теперь у них появилась возможность быстро расправиться с Йирканом, но его пугали непредсказуемые опасности, которые могли встретиться им на пути. Тем не менее он не высказал своих опасений Эльрику. Хранитель Драконьих Пещер был очень рад, что его друг находится в прекрасном расположении духа и не хотел портить ему настроение. Они разговаривали о Корабле по Суше и по Морю, гадали, сколько воинов можно разместить на его борту, обсуждали неведомые земли Ойн и Йу, строили планы сражения с Йирканом. Когда Эльрик отправился спать, Дайвим Твар обратил внимание, что император не волочит ноги, как обычно, а идет легкой пружинящей походкой. И вновь Хранителю Драконьих Пещер показалось, что альбинос похож на маленького беззащитного ребенка, которого ждет горькое разочарование в жизни. Дайвим Твар вздохнул. Он тоже чувствовал себя виноватым в том, что Каймориль попала в беду. Ему следовало проявить твердость характера, повлиять на императора, уговорить его казнить Йиркана на месте. В этом случае Эльрику не пришлось бы ни вызывать Ариоха, ни прибегать к помощи морского царя, и в государстве царили бы мир и спокойствие. Дайвим Твар пожал плечами, выкинул ненужные мысли из головы. Истинный мельнибониец должен был придерживаться одного правила: искать удовольствие во всем, в чем только возможно. Впрочем, всегда ли мельнибонийцы думали исключительно о себе и своих удовольствиях? Быть может, Эльрик вовсе не был слабым императором и возрождал традиции, о которых никто уже не помнил? И вновь Дайвим Твар пожал плечами. В конце концов, к чему искать ответы на эти вопросы? Перед тем, как отправиться на покой, он зашел к своим бывшим любовницам, разбудил их, потребовал привести к нему сыновей: Дайвима Слорма и Дайвима Мава. Он молча смотрел на изумленных заспанных ребятишек, то хмурясь, то потирая лоб рукой, а затем велел вновь уложить их в постели и сказал двум женщинам, Ниопаль и Самараль, изумленным не меньше детей: — С завтрашнего дня они начнут обучаться в Драконьих Пещерах. — Не рано ли, Дайвим Твар? — спросила Ниопаль. — Нет. Дай бог, чтобы они успели закончить свое обучение. — Мрачные предчувствия все сильнее одолевали Дайвима Твара, и он ничего не мог с собой поделать.
Наутро Дайвим Твар вернулся в башню Д’Арпутна. Эльрик нетерпеливо мерил шагами крытую террасу и то и дело подзывал к себе слуг, задавая им один и тот же вопрос: не приближается ли к Острову Драконов какой-нибудь корабль. На альбиносе были черные доспехи, глаза его лихорадочно блестели, пальцы непроизвольно сжимались и разжимались; разговаривал он быстро, часто глотая слова. Дайвим Твар понял, что сегодня утром Эльрик принял более сильную дозу лекарственных трав, чем обычно. — Как ты себя чувствуешь, мой император? — спросил он. — Превосходно. — Эльрик ухмыльнулся. — Я бы чувствовал себя еще лучше, если бы Корабль по Суше и по Морю стоял в гавани. — Он посмотрел в сторону причала, потом на далекий лес. — Почему его до сих пор нигде нет? Как жаль, что Повелитель Страаша высказался так неопределенно! — Это верно. — Дайвим Твар подошел к столу, уставленному яствами, принялся за еду. Эльрик продолжал ходить по террасе. Было очевидно, что со вчерашнего вечера он ничего не ел. Дайвим Твар подумал, что сильные дозы лекарственных трав повлияли на мозг императора. Беспокойство за судьбу Каймориль, ненависть к Йиркану, те нагрузки, которые альбинос испытал, занимаясь магией, кого угодно могли свести с ума. Хранитель Драконьих Пещер вздохнул, вытер салфеткой губы. — Не хочешь ли ты немного отдохнуть? — спокойно спросил он. — Как только Корабль по Суше и по Морю войдет в гавань, тебе об этом немедленно доложат. — Ты, конечно, прав, Дайвим Твар, — согласился Эльрик, — но я не в состоянии отдыхать. Мне не терпится как можно скорее отправиться в путь, чтобы встретиться с Йирканом лицом к лицу, отомстить ему, соединиться с Каймориль. — Я тебя понимаю, но… Эльрик вымученно рассмеялся. — Ты кудахчешь надо мной, совсем как Худоба. Мне не нужны две няньки, Хранитель Драконьих Пещер. Дайвим Твар заставил себя улыбнуться. — Прости меня, сир. Будем надеяться, волшебный корабль… что это? — Он вытянул руку в сторону леса. — Деревья согнулись, как при урагане, а ветра нет. Эльрик повернул голову, прищурился. — Странно. Похоже… Земля вдали заволновалась, как море. — Парус, — сказал Дайвим Твар. — Должно быть, это и есть твой корабль, сир. — Да, — прошептал Эльрик. — Это — мой корабль. Собирайся, Дайвим Твар. Мы отплываем в полдень.
Глава шестая
Корабль по Суше и по Морю поражал своими изящными очертаниями. Ни один смертный не смог бы так искусно вырезать из дерева высокие борта, мачты, мостики, поручни, — черные, темно-синие, зеленые, кроваво-красные. Ванты корабля были цвета морских водорослей; на отполированных до блеска палубах виднелись темно-коричневые прожилки, напоминающие корни растений; паруса на трех высоких мачтах походили на белоснежные облака, плывущие по небу в погожий солнечный день. Все на этом корабле радовало глаз; нельзя было смотреть на него и не восхищаться его совершенством. Эльрик невольно подумал, что Кораблю по Суше и по Морю не страшны никакие опасности. Он шел по земле, как по морю; создавалось такое впечатление, что почва под его килем на какое-то мгновение превращается в воду, а затем становится такой же как прежде. Волшебный корабль стоял у башни Д’Арпутна; рабы поднимались по трапам, сгибаясь под тяжестью продовольствия и оружия, необходимых для долгого путешествия. Эльрик горящим взглядом смотрел на подарок морского царя. Дайвим Твар обходил шеренги воинов. После того урока, который мельнибонийцы преподали южным варварам, было маловероятно, что они нападут на Остров Драконов, но Йиркан поклялся захватить Рубиновый Трон, и поэтому большую часть воинов пришлось оставить в городе под командованием Магама Колима. По непонятной причине Дайвим Твар, помимо обычных солдат и матросов, набрал второй отряд из ветеранов-добровольцев, каждый из которых страдал одним и тем же физическим недугом. По единодушному мнению окружающих, толку от них не было никакого, и поэтому никто не стал возражать против того, чтобы они отправились в экспедицию. Ветераны поднялись на корабль первыми, Эльрик — последним. Стоя на палубе, он повернулся лицом к городу, отдал салют и приказал поднять трап. Дайвим Твар ждал императора на капитанском мостике. Хранитель Драконьих Пещер снял одну из латных рукавиц и гладил странные деревянные поручни, восхищаясь их красотой. — Этот корабль не предназначен для войны, Эльрик, — сказал он. — Обидно будет, если с ним что-нибудь произойдет. — Что с ним может произойти? — рассеянно спросил альбинос, глядя на матросов, карабкающихся по вантам. — Неужели ты думаешь, Страаша или Гроом допустят, чтобы их детищу кто-нибудь причинил вред? Не беспокойся за Корабль по Суше и по Морю, Дайвим Твар. Давай лучше позаботимся о собственной безопасности и о том, чтобы экспедиция наша завершилась успешно. Страаша предупреждал, что по земле корабль идет хуже, чем по воде, и поэтому я предлагаю основной путь проделать морем, а в одном из портов на западном побережье Лормира разузнать о странах Ойн и Йу все, что возможно. — Говорят, за Лормиром находится край Земли. — Дайвим Твар нахмурился. — Послушай, а может, Ариох хочет заманить нас в ловушку? Вдруг Йиркану удалось с ним договориться, и Повелитель Хаоса обманул тебя, послав в экспедицию, из которой мы никогда не вернемся? — Я думал об этом, — признался Эльрик, — но у нас нет другого выхода. Мы должны верить Ариоху. — Должны, так должны. — Дайвим Твар иронически усмехнулся. — И еще один вопрос, сир. Как управлять кораблем? На нем нет якорей, которые можно поднять, а на суше не бывает приливов и отливов. Посмотри, паруса наполнились ветром, мачты скрипят, а мы стоим на месте, как прикованные. Эльрик пожал плечами. — Быть может, он управляется голосом? Вперед, корабль! Мы готовы к отплытию! Корабль по Суше и по Морю чуть задрожал, начал двигаться, словно отошел от причала. Альбинос улыбнулся, глядя на изумленное выражение лица Дайвима Твара, который невольно схватился за поручень и испуганно закричал: — Сейчас мы врежемся в крепостную стену! Эльрик быстро подошел к рулевому управлению в виде рычага, прикрепленного к валу с делениями, взялся за рычаг, как за весло, потянул его на себя. В ту же секунду корабль повернул к другой части крепостной стены! Эльрик отвел рычаг в противоположную сторону до упора. Корабль накренился, круто развернулся, помчался вперед по направлению к далекому лесу. Альбинос счастливо рассмеялся. — Вот видишь, Дайвим Твар, как все просто. А ты боялся! — Я предпочел бы путешествовать на драконах, — слегка дрожащим голосом ответил Дайвим Твар. — По крайней мере их можно понять. А к магии я всегда относился с большим подозрением. — Негоже держать такие речи благородному мельнибонийцу! — воскликнул Эльрик, перекрикивая вой ветра в вантах, скрип рангоутов, хлопанье белых парусов. — Возможно, — согласился Хранитель Драконьих Пещер. — Но если б я не думал того, что сказал, навряд ли я сейчас стоял бы рядом с тобой, сир. Эльрик удивленно посмотрел на своего друга, но ничего ему не ответил.Корабль мчался по склонам гор и каменистым холмам, пробирался сквозь леса, огибая деревья, величаво плыл по травянистым равнинам. Казалось, он парил над землей подобно ястребу, выслеживающему добычу. Имриррские воины, забыв обо всем на свете, толпились на палубах, и только боцман вел себя так, словно никакого чуда не произошло. Он покрикивал на матросов, расставлял их по местам, одним словом, исправно исполнял свои обязанности. Рулевой, которого Эльрик поставил к непривычному «штурвалу», сильно нервничал. По выражению его лица сразу было видно, что он боится разбить корабль о какой-нибудь камень или дерево. Несмотря на довольно холодную погоду, ему все время приходилось отирать лоб, чтобы пот не заливал глаза. Тем не менее он был хорошим моряком и постепенно освоился с управлением, хотя ему поминутно приходилось менять курс из-за того, что корабль мчался с сумасшедшей скоростью, — быстрее лошади на галопе, быстрее любимых сердцу Дайвима Твара драконов. Мельнибонийцы радовались как дети, глядя на проносящийся мимо бортов корабля пейзаж; Эльрик счастливо смеялся. — Если Гроом мешает продвижению корабля по суше, — крикнул он Дайвиму Твару, — мне страшно даже подумать, с какой скоростью мы поплывем по воде! Хранитель Драконьих Пещер, настроение которого явно улучшилось, улыбнулся своему другу, откинул назад разметавшиеся по лицу длинные волосы. — Нас просто снесет с палубы, сир! — пошутил он. А затем, словно услышав их разговор, Корабль по Суше и по Морю внезапно тряхнуло, стало кидать с борта на борт, как будто он попал в сильное встречное течение. Рулевой побледнел, как полотно, вцепился в рычаг, пытаясь выправить курс. Раздался страшный, леденящий душу крик: матрос упал с мачты, ударился о палубу с такой силой, что слышно было, как захрустели кости. Корабль швырнуло раз, другой, неожиданно он выровнялся и вновь плавно пошел вперед. Эльрик уставился на труп матроса, до боли в пальцах сжал поручни. Его красные глаза мрачно сверкали, на губах змеилась ироническая усмешка. — Глупец! — воскликнул он. — Какой же я глупец, что испытывал терпение богов! Корабль по Суше и по Морю чуть уменьшил скорость — так бывает, когда в море к днищу корабля прилипают ракушки. У Эльрика возникло такое ощущение, что все вокруг него переменилось: по-другому шелестели деревья, неохотно расступались травы и кусты, круче стали склоны гор. И альбинос понял, что чувствует присутствие Гроома, Повелителя недр Земли, Властелина Подземного Царства, желавшего обладать кораблем, который когда-то символизировал единство Духов земли и воды и из-за которого впоследствии Страаша и Гроом поссорились. Эльрику стало страшно.
Глава седьмая
Земля все еще цеплялась за киль, когда корабль достиг моря, скользнул в воду и помчался вперед, с каждой минутой увеличивая скорость. Вскоре Остров Драконов скрылся из виду, на горизонте показались облака пара, вечно висевшие над Кипящим Морем, которое Эльрик не решился пересечь даже на волшебном корабле. Альбинос приказал взять курс на западное побережье Лормира, наименее воинственное из всех Молодых Королевств. (Король Лормира, Фадан, человек крайне осторожный, наверняка не принимал участия в рейде на Город Мечты.) В скором времени Корабль по Суше и по Морю вошел в порт Рамазас, вызвав восхищение у столпившихся на причале обывателей, пораженных его красотой. Изумление их еще больше усилилось, когда они увидели мельнибонийцев, которых в Молодых Королевствах не любили, но боялись. Тем не менее к Эльрику и его товарищам отнеслись с должным уважением, а в гостинице им подали довольно сносные еду и вино. Гостиница — самая большая в порту — носила пышное название: «Уходящие в Море вернутся Домой». Ее хозяин, преуспевший рыбак, прекрасно знал южное побережье, несколько раз бывал в Ойн и Йу и говорил об этих странах с явным презрением. — Ты считаешь, они готовятся к войне, милорд? — Он поднял брови, отхлебнул вино из кувшина, вытер губы, покачал головой. — Должно быть, собираются сражаться с воробьями. В Ойне и Йу живут малограмотные суеверные крестьяне, которым едва удается сводить концы с концами. Среди них нет воинов. Единственный город, Доз-Кам, расположенный по обеим сторонам реки Ар, является столицей обоих государств. — Ты ничего не слышал о мельнибонийце-ренегате, который завоевал Ойн и Йу, и сейчас муштрует этих самых нищих крестьян, сколачивая из них армию? — спросил Дайвим Твар, прихлебывая вино из бокала. — Его зовут принц Йиркан. Хозяин гостиницы с любопытством посмотрел на Хранителя Драконьих Пещер. — Вы ищете соотечественника, который вас предал? Неужели Повелители Драконов тоже воюют друг с другом? — Это наше личное дело, — высокомерно ответил Эльрик. — Конечно, милорд, конечно. — Может, ты что-нибудь знаешь о зеркале, которое лишает людей памяти? — спросил Дайвим Твар. Хозяин гостиницы откинул голову и расхохотался. — Сомневаюсь, что в Ойне или Йу найдется хоть одно простое зеркало, не говоря уже о волшебном! Нет, милорды, вы ошибаетесь, если считаете, что в Ойне и Йу имеются свои армия и флот. — Должно быть, ты прав, — спокойно сказал Эльрик, глядя в бокал с вином, из которого он не сделал ни глотка. — Тем не менее мы должны проверить, насколько твои слова соответствуют действительности. Это не только в наших, но и в ваших интересах. — За нас не беспокойся. С дурачками из Ойна и Йу мы расправимся в два счета. А проверить мои слова несложно. Плыви вдоль побережья и через три дня окажешься в большой бухте, куда впадает река Ар, на противоположных берегах которой расположен Доз-Кам: город, больше похожий на деревню, хоть он и является столицей двух государств. Жители его продажны, нечистоплотны и больны все поголовно, но, к счастью, они еще и ленивы, так что опасаться их нечего, в особенности если у тебя есть оружие. Через час пребывания в Доз-Каме ты поймешь, что грозить тебе может только одно: подхватить неизвестную болезнь. — В восторге от собственной шутки, хозяин гостиницы громко расхохотался. — Что же касается их флота, — добавил он, вдосталь насмеявшись, — он состоит из нескольких утлых суденышек, на которых они не осмеливаются выходить в море, предпочитая ловить рыбу на отмелях у побережья. Эльрик отодвинул бокал с вином. — Благодарю тебя, — сказал он и положил на стол серебряную монету. — Боюсь, у меня нет сдачи, — вкрадчиво произнес хозяин гостиницы. — Оставь ее у себя. — Спасибо вам, господа. Надеюсь, вы не откажетесь остановиться в моей гостинице? Я отведу вам лучшие комнаты во всем Рамазасе. — Мы переночуем на нашем корабле, а завтра утром отправимся в путь. Хозяин гостиницы подождал, пока мельнибонийцы выйдут на улицу, потом попробовал серебряную монету на зуб. Она показалась ему странной на вкус, и он быстро вынул ее изо рта, стал рассматривать. Мог ли простой смертный отравиться мельнибонийским серебром? Пожав плечами, он сунул монету в кошелек, но на всякий случай решил выбросить два бокала, из которых пили заморские гости.Корабль по Суше и по Морю отплыл из порта Рамазас на заре, а ровно в полдень вошел в бухту, куда впадала река Ар, и лег в дрейф неподалеку от узкого перешейка, поросшего тропическими деревьями. Эльрик и Дайвим Твар прошли по мелководью, выбрались на берег. Им не хотелось обнаруживать своего присутствия до тех пор, пока они не убедятся в справедливости слов хозяина гостиницы о Доз-Каме. Расчистив мечами тропинку к двум самым высоким деревьям, они забрались на них, устроились поудобнее, стали смотреть на город: маленький, грязный, убогий. Видимо, Йиркан решил поселиться в странах Ойн и Йу потому, что, во-первых, их нетрудно было завоевать с помощью сотни имриррских воинов и волшебства, а во-вторых — из-за удаленности обоих государств от цивилизованных стран запада. Однако хозяин гостиницы жестоко ошибался, считая, что в Ойне и Йу нет своего флота. В небольшой гавани стояло около тридцати боевых кораблей. Но наибольший интерес у Эльрика и Дайвима Твара вызвало огромное зеркало, прикрепленное к двум столбам на крыше самого высокого здания города. Вставленное в изумительной красоты раму, которая не могла быть изготовлена руками простого смертного, оно сверкало и переливалось в солнечном свете. Не вызывало сомнений, что это — Зеркало Памяти. — Нам не следует входить в гавань Доз-Кама, — заметил Дайвим Твар. — Мне кажется, зеркало не действует на нас только потому, что оно направлено прямо на стоящие на рейде корабли. Обрати внимание на механизм, с помощью которого его можно поворачивать в любую сторону, кроме одной: внутрь страны. Да и кто, кроме крестьян Ойна и Йу, может прийти в столицу по суше? — Я понял твою мысль, Дайвим Твар. Ты предлагаешь воспользоваться особыми свойствами нашего корабля… — Обойти Доз-Кам с тыла, — подхватил Хранитель Драконьих Пещер, — и бросить в бой наших ветеранов. Пока они будут сражаться с жителями города, мы постараемся захватить Йиркана и освободить Каймориль. Как ты думаешь, это реально? — Реально или нет, но у нас слишком мало сил для лобовой атаки, и поэтому твой план — самый лучший. Надеюсь, внезапность нападения позволит нам взять над ренегатами верх. Только бы Гроом не обнаружил, что мы вновь путешествуем по его владениям. Боюсь, он попытается отнять у нас Корабль по Суше и по Морю… Стоя на капитанском мостике, Эльрик отдал приказание рулевому, и корабль послушно повернул к земле, прошел по мелководью, выбрался на берег, углубился в лес, распугивая изумленных птиц и мелких животных. Вскоре путешественники оказались в Ойне — стране джунглей и бесплодных равнин, где крестьяне выращивали скудные урожаи. Впереди показалось большое озеро. Дайвим Твар, сверившись с грубой картой местности, приобретенной в Рамазасе, предложил поменять курс и приблизиться к Доз-Каму с юга. Эльрик согласно кивнул. В этот момент земля начала дрожать; на травянистой равнине, словно на море, поднялись высокие волны; корабль положило на один борт, потом на другой. Двое матросов упали с мачт на палубы, разбились насмерть. Боцман кричал во все горло (хотя вокруг царила мертвая тишина), приказывая свободным от вахты матросам спуститься в трюм. Эльрик обмотал один конец шарфа о поручень, а второй привязал к руке. Дайвим Твар сделал то же самое со своим поясом. Корабль швыряло, как щепку; казалось, он не выдержит этой бури, разразившейся на земле. — Неужели Гроом так быстро нас обнаружил? — задыхаясь, спросил Дайвим Твар. — Или это дело рук Йиркана? Эльрик пожал плечами. — Йиркан здесь не при чем. Это, конечно, Гроом, и я не знаю, как умиротворить его. Властелин Подземного Царства самый упрямый и, возможно, самый могущественный из Повелителей четырех стихий. — Но ведь он нарушает договор со своим братом, поступая подобным образом. — Я в этом не уверен. Страаша предупреждал, что на земле у нас могут быть неприятности. Остается надеяться, что Гроом истощит свои силы, а корабль выстоит, как он выстоял бы в обычный шторм на море. — То, что происходит сейчас, страшнее любого шторма на море! Эльрик согласно кивнул, но не сумел ответить, так как корабль принял чуть ли не вертикальное положение, и альбиносу пришлось ухватиться за поручни двумя руками, чтобы не упасть. Зловещую тишину нарушил рев, в котором угадывался отдаленный смех. — Повелитель Гроом! — вскричал Эльрик. — Повелитель Гроом! Не трогай нас! Мы не сделали тебе ничего плохого! Смех усилился; корабль задрожал от киля до клотика. Земля поднималась и опадала огромными волнами; холмы, скалы, деревья надвигались на Корабль по Суше и по Морю с угрожающей быстротой, словно стремясь уничтожить его, и опять отступали — видимо, Гроом не хотел причинить вред своему детищу. — Гроом! Ты никогда не обижал смертных! — вновь вскричал Эльрик. — Не трогай нас! Мы готовы заплатить выкуп, если ты этого желаешь! Альбинос говорил все, что приходило ему в голову, не надеясь, что Властелин Подземного Царства его услышит, понимая, что, даже услышав его слова, Гроом не обратит на них внимания. — ГРООМ! ГРООМ! ГРООМ! Это я, Эльрик, Император Мельнибонэ, взываю к тебе! Смех гремел, не переставая; корабль кружился, как в водовороте. — ПОВЕЛИТЕЛЬ ГРООМ! Неужели ты хочешь убить тех, кто никогда не причинял тебе вреда?! Земля начала медленно оседать. Огромное коричневое существо, похожее на столетний дуб, появилось прямо по курсу корабля, застывшего на месте. Волосы и борода существа были зелеными, как листья, глаза сверкали подобно золотым вкраплениям в руде, зубы напоминали камни, ноги — корни деревьев; от него исходил душный приятный запах. Гроом, Повелитель недр земли, повел носом воздух, нахмурился, сказал мягким, но могучим голосом: — Мне нужен мой корабль. — Мы не можем отдать тебе то, что нам не принадлежит. — Мне нужен мой корабль. — В тоне Гроома проскользнули капризные нотки. — Мне он нужен. Он — мой. — Зачем он тебе, Повелитель Гроом? — Зачем? Он — мой. Он — мой! — Гроом топнул ногой, и земля задрожала. — Это — корабль твоего брата, Повелитель Гроом, — с отчаянием в голосе воскликнул Эльрик. — Он отдал тебе часть своих владений, а ты уступил ему Корабль по Суше и по Морю. Таковы были условия договора. — Какого еще договора? Это мой корабль. — Если ты отнимешь у нас корабль, Повелитель Страаша заберет земли, которые он тебе выделил. — Мне нужен мой корабль. — Гроом переступил с ноги на ногу, комья глины посыпались с его тела, застучали по палубам Корабля по Суше и по Морю. — Тебе придется убить нас, чтобы завладеть им, — сказал Эльрик. — Убить? Гроом не убивает смертных. Он никого не убивает. Гроом созидает. Гроом дает жизнь. — Ты уже убил трех наших товарищей. Три человека погибли из-за того, что ты поднял на земле бурю. Гроом вновь нахмурился, поскреб в затылке. Волосы его зашелестели, как листья на ветру. — Гроом никого не убивает, — повторил он. — Гроом убил троих. Трое людей лишились жизни по его вине. Властелин Подземного Царства неуверенно хмыкнул. — Но мне нужен мой корабль! — Его одолжил нам твой брат, и мы не вправе им распоряжаться. Кроме того, мы преследуем благородную цель… — Меня не интересуют ни ваши цели, ни вы сами. Мне нужен мой корабль. Мой брат не должен был одалживать его вам. Я почти забыл о нем, а сейчас вспомнил. И он мне нужен. — Быть может, ты согласишься принять какой-нибудь дар взамен корабля, Повелитель Гроом? — неожиданно спросил Дайвим Твар. Гроом покачал огромной головой. — Что может подарить мне смертный? Люди все время обирают меня. Они крадут мои кости, мою кровь, мою плоть. Разве ты способен отдать мне все то, что забрали у меня тебе подобные? — Неужели тебе ничего не нужно? — спросил Эльрик. Гроом закрыл глаза. — Золото? Драгоценные камни? — предложил Дайвим Твар. — В Мельнибонэ много сокровищ. — У меня их больше, — сказал Повелитель Подземного Царства. Эльрик пожал плечами. — Как можем мы договориться с богом, Дайвим Твар? — Он иронически улыбнулся. — Что ему нужно? Больше солнца? Больше дождей? Стихии нам неподвластны. — Я довольно грубый бог, — признался Гроом, — если меня вообще можно считать богом. Но я не хотел убивать ваших товарищей. У меня появилась одна мысль. Отдайте мне тела погибших. Похороните их в моей земле. Эльрик почувствовал, как сердце сильно забилось у него в груди. — И это все, чего ты хочешь? — По-моему, я прошу многого. — А если мы выполним твою просьбу, ты позволишь нам плыть дальше? — Да, — проворчал Гроом. — Но только по воде. Я не могу допустить, чтобы вы бороздили поверхность моей земли. В конце концов я не бесчувственный чурбан. Можете добраться вон до того озера, а затем корабль будет обладать только теми свойствами, которыми наделил его мой брат Страаша. — Повелитель Гроом, нам очень нужен Корабль по Суше и по Морю. Мы срочно должны попасть в город… — Можете добраться до озера. По суше корабль не пойдет. А сейчас отдайте мне то, что обещали. Гроом протянул огромную руку, бережно взял тела трех матросов, которые боцман, по приказанию Эльрика, вынес на палубу. — Благодарю вас, — буркнул он. — Прощайте. — И с этими словами Властелин Подземного Царства медленно стал оседать, пока полностью не слился с поглотившей его землей. В ту же секунду никем не управляемый корабль заскользил по направлению к озеру, совершая свое последнее путешествие по суше. — Все наши планы рухнули, — сказал Эльрик. Дайвим Твар тоскливо посмотрел на сверкающее на солнце озеро. — Мне тяжело говорить об этом, сир, но если ты не прибегнешь к помощи волшебных сил, нам не удастся спасти Каймориль. Эльрик вздохнул. — К сожалению, ты прав, Дайвим Твар.
Глава восьмая
Принц Йиркан был доволен. Все шло согласно его планам. Он прохаживался по плоской крыше самого высокого в Доз-Каме дома, изредка бросая взгляды на гавань, где стояли боевые корабли, захваченные им с помощью Зеркала Памяти. Тот, кто смотрел в него, забывал обо всем на свете. Демоны прикрепили зеркало к двум колоннам, установили на нем поворотный механизм, а Йиркан заплатил им душами тех жителей Йона и Йу, которые оказали ему сопротивление. Он подошел к своей сестре, заговорил с ней. Каймориль лежала на деревянной скамье, уставившись в небо невидящим взором. Платье, в котором Йиркан похитил ее из Города Мечты, давно превратилось в грязные лохмотья. — Взгляни на наш флот, Каймориль! Пока золотые галеры Мельнибонэ разбросаны по всему свету, мы войдем в гавань Имрирра и объявим город нашим! Эльрик не сможет оказать нам сопротивления. Как легко император попался в мою ловушку! Он дурак! И ты была дурой, согласившись принять его ухаживания! Каймориль ничего не ответила. Все эти месяцы Йиркан подмешивал в ее еду и питье зелье, которое лишило принцессу сил, вызвало в ней такую же слабость, как у Эльрика, когда он не пил своих лекарственных трав. У Йиркана тоже был измученный вид. Непрерывные занятия черной магией сделали из него человека нервного, раздражительного. Глаза его мрачно сверкали, он практически перестал заботиться о своей внешности. Глядя на брата и сестру, можно было подумать, что жалкий город Доз-Кам оказал влияние на них обоих, заразил каждого какой-то болезнью. — За себя, однако, можешь не беспокоиться, — продолжал Йиркан, злобно ухмыляясь. — Ты обязательно станешь императрицей. Но на Рубиновом Троне будет восседать император Йиркан, а Эльрик умрет тысячью смертей, прежде чем окончательно расстанется с жизнью. О, как сладко я отомщу ему. Голос Каймориль звучал словно издалека. Отвечая своему брату, она даже не повернула головы. — Ты безумен, Йиркан. — Безумен? Что я слышу, сестра? Мы, истинные мельнибонийцы, никого не судим. Каждый из нас волен делать то, что хочет. Возможно, пребывание среди простых людей из Молодых Королевств повлияло на тебя нежелательным образом. Ничего, это поправимо. Скоро мы вернемся на Остров Драконов, и ты забудешь обо всем, как если б посмотрела в Зеркало Памяти. — Он вздрогнул, бросил испуганный взгляд на зеркало, словно ожидая, что сейчас оно повернется в его сторону. Каймориль закрыла глаза. Она дышала медленно и тяжело. Принцесса терпеливо выносила испытания, выпавшие на ее долю, не сомневаясь, что рано или поздно Эльрик придет за ней. Надежда помогала ей жить. Она твердо решила, что покончит с собой, когда надеяться будет больше не на что. — Я говорил тебе, что прошлой ночью мне сопутствовал успех? Я вызвал демонов, Каймориль. Могущественных демонов! Я получил от них бесценные сведения. И мне, наконец, удалось открыть Врата Тьмы. Скоро я войду в них, найду то, что искал, стану самым могущественным смертным на Земле! Я говорил тебе это, Каймориль? Принцесса никак не отреагировала на откровения своего брата, которые он повторял в пятый или шестой раз за утро. Она чувствовала себя смертельно усталой. Ей хотелось спать. С трудом выговаривая каждое слово, она произнесла: — Я ненавижу тебя, Йиркан. — Ничего, Каймориль, скоро ты меня полюбишь. Очень скоро. — Эльрик придет. — Эльрик! Ха! Он бездельничает в своей башне, ожидая новостей, которые никто не сможет ему сообщить, кроме меня, когда я появлюсь в Имрирре! — Эльрик придет. Лицо Йиркана перекосилось. В это время служанка поднялась на крышу, поднесла принцу кубок с вином. Йиркан схватил кубок, начал жадно пить, потом плюнул в девушку, которая отскочила в сторону, дрожа от страха. Принц поднял кубок, опрокинул его. — Так прольется жидкая кровь альбиноса-императора! — вскричал он, глядя, как вино плещет на покрытую белой пылью крышу. Каймориль его не слушала. Она пыталась вспомнить своего любимого и те дни, когда они были счастливы вместе. Йиркан швырнул пустой кубок служанке в голову, но девушка-ойнянка давно привыкла к подобному обращению и вовремя пригнулась, громко бормоча единственные слова, с которыми она обращалась к своему господину: — Спасибо, Повелитель демонов. Спасибо, Повелитель демонов. Йиркан расхохотался. — Да! Повелитель демонов! Ты права, называя меня этим именем. С каждым днем я становлюсь все могущественнее! Девушка удалилась, чтобы принести Йиркану еще один кубок с вином, а принц подошел к перилам ограждения на крыше и вновь с восхищением уставился на боевые корабли, стоявшие в гавани. Внезапно на улице, примыкавшей к другой стороне здания, послышался какой-то шум. Йиркан недовольно нахмурился. Неужели жители Ойна и Йу подрались между собой? Почему имриррские военачальники не уследили за порядком? Куда подевался капитан Вальгарик? Йиркан бросился на противоположный конец крыши, пробежав мимо Каймориль, которая, казалось, спала, посмотрел вниз. — Пожар? — неуверенно пробормотал он. — Пожар? И действительно, город горел, но подожгли его не люди. Огромные огненные шары величаво плыли по воздуху, прикасаясь к стенам, дверям, крышам домов, которые в ту же секунду вспыхивали, как факелы. Йиркан громко выругался. Сначала он подумал, что допустил ошибку при чтении какого-нибудь заклинания, в результате чего взбунтовался один из демонов, но потом принц увидел на реке корабль неописуемой красоты и понял, что город подвергся нападению. Но почему? В Доз-Каме нечем было поживиться, он не представлял никакого интереса для корсаров. А имриррцам никогда не пришло бы в голову искать его, Йиркана, в этом захолустье. И Эльрику тоже. — Не может такого быть, чтобы Эльрик меня обнаружил! — взревел мятежный принц. — Не должно такого быть! Зеркало! Надо немедленно повернуть зеркало к захватчикам! — И к своим собственным воинам, брат? — Каймориль с трудом приподнялась, оперлась о локоть. — Ты был слишком самоуверен, Йиркан. Эльрик пришел. — Глупости! На нас напали варвары из какой-то близлежащей страны. Как только они окажутся в центре города, мы сможем использовать против них Зеркало Памяти. — Он подбежал к лестнице, ведущей в его апартаменты. — Вальгарик! Капитан Вальгарик, где ты? Запыхавшийся Вальгарик поспешно поднимался на крышу. По лицу его градом катился пот. — Немедленно займись зеркалом! Поверни его к захватчикам! — Но, сир, тогда и наши… — Поторопись! Выполняй приказ! Скоро эти варвары вольются в ряды нашей армии, а их корабль станет флагманом нашего флота! — Варвары, сир? Разве могут варвары повелевать сверхъестественными существами? Эти шары — духи огня. Мы не можем с ними бороться. — Огонь уничтожают водой. Водой, капитан Вальгарик. Неужели ты этого не знаешь? — Мой император, мы пытались потушить огненные шары, но вода не стала выливаться из ведер. Какой-то могущественный волшебник командует захватчиками. Ему подвластны и духи огня, и духи воды. — Ты сошел с ума, капитан Вальгарик, — твердо сказал Йиркан. — Сошел с ума. Немедленно перестань болтать глупости и займись зеркалом. — Слушаюсь, сир. — Вальгарик облизнул пересохшие губы, низко поклонился и пошел выполнять распоряжение своего господина. Йиркан вновь подошел к перилам ограждения. Сражение кипело на улицах, но из-за густого дыма принцу никак не удавалось рассмотреть атакующих. — Наслаждайтесь мнимой победой! — Йиркан ухмыльнулся. — Скоро вы потеряете память и навсегда станете моими рабами! — Это Эльрик. — Каймориль улыбнулась. — Он пришел, чтобы отомстить тебе, брат. Йиркан чуть не поперхнулся собственной слюной. — Ты так думаешь? Ты в этом убеждена? Даже если б ты оказалась права, он все равно никогда не захватил бы меня в плен, зато тебя нашел бы в таком состоянии, что не обрадовался бы. Но это не Эльрик. Какой-нибудь глупый шаман подговорил восточных варваров напасть на нас. Скоро он будет в моей власти. Каймориль с трудом встала со скамьи, подошла к Йиркану, пристально посмотрела вниз. — Эльрик, — сказала она. — Я вижу его шлем. — Что?! — Йиркан оттолкнул сестру, перегнулся через перила ограждения. На улицах города имриррцы сражались с имриррцами, — теперь это не вызывало сомнений. Во главе нападавших бился человек в черном шлеме в форме дракона, — такой шлем носил только один мельнибониец. Двуручный меч, когда-то принадлежавший графу Оубеку из Маладора, поднимался и опускался, а лезвие его, обагренное кровью, сверкало в лучах восходящего солнца. Ha какое-то мгновение Йиркана охватило отчаяние. Он застонал. — Эльрик. Эльрик. Эльрик. Почему мы всегда недооценивали друг друга? Что за проклятье лежит на нас? Каймориль тряхнула волосами, в глазах ее зажглись огоньки. — Я говорила, что он придет, брат! Йиркан круто повернулся. — Да, он пришел, и зеркало лишит его рассудка, превратит в моего раба, который поверит всему, что я ему скажу. Моя месть будет слаще, чем я предполагал! Ха! — Он поднял голову, быстро прикрыл глаза рукой, понимая, какую страшную ошибку чуть было не совершил. — Скорее! Спускаемся вниз! Зеркало поворачивается! — Послышались скрип и скрежет цепей. — Скоро Эльрик и его воины вольются в ряды нашей армии! Какая великолепная шутка! — Крепко схватив Каймориль за руку, Йиркан подбежал к лестнице, начал быстро спускаться в свои апартаменты. — Эльрик поможет мне завоевать Город Мечты! Он своими руками уничтожит все то, что ему дорого, сам себя скинет с Рубинового Трона! — Неужели ты думаешь, Эльрик ничего не знает об опасности, которая грозит ему, если он посмотрится в Зеркало Памяти? — презрительно спросила Каймориль. — Конечно, знает, да что толку? Чтобы сражаться, надо видеть, с кем ты сражаешься. Если Эльрик закроет глаза, его убьют. Если он их откроет, то не сможет не посмотреть в зеркало. — Йиркан огляделся по сторонам. — Куда подевался Вальгарик? Что он мешкает? На лестнице послышался топот ног; капитан Вальгарик вбежал в комнату. — Зеркало поворачивается, сир, но я боюсь, оно окажет воздействие на наших воинов. — Что с того? Пускай себе лишаются памяти. Мы быстро объясним и нашим друзьям, и нашим врагам, как им надлежит действовать в дальнейшем. У тебя слишком слабые нервы, капитан Вальгарик. — Но нашими врагами командует Эльрик! — У Эльрика тоже есть глаза, хоть они и похожи на горящие угли. Он такой же, как все. На улицах вокруг дома Йиркана кипела битва. Мельнибонийцы во главе с Эльриком и Дайвимом Тваром теснили своих противников все дальше и дальше. Атака развивалась крайне успешно; повсюду валились трупы солдат Ойна и Йу, имриррские ренегаты в страхе отступали. Духи огня, которых Эльрик вызвал с большим трудом, исчезали один за другим (им тяжело было долго оставаться в измерении Земли), но они выполнили свою миссию. Теперь уже не вызывало сомнений, кто победит в битве: большинство защитников города тушило пожары, не желая, чтобы Доз-Кам сгорел дотла. В гавани пылали боевые корабли. Дайвим Твар первый заметил, что зеркало стало поворачиваться. В ту же секунду он протрубил в рожок, подзывая к себе отряд воинов, до сих пор не принимавших участия в сражении. — Теперь ваша очередь! — вскричал он, опуская забрало шлема, в котором прорезь для глаз была закрыта железной полосой. Эльрик тоже опустил забрало своего шлема, оказался в полной темноте. Однако битва продолжалась: вперед вышли ветераны Мельнибонэ. Лица их были открыты.Йиркан отодвинул тяжелую штору, осторожно выглянул в окно, раздраженно спросил: — Вальгарик? Они все еще сражаются. Почему? Ты уверен, что Зеркало Памяти повернуто в их сторону? — Да, сир. — Посмотри сам. Имриррцы продолжают наступать, а наши защитники постепенно попадают под влияние зеркала. В чем дело, Вальгарик? В чем дело? Вальгарик выглянул в окно, со свистом втянул воздух сквозь стиснутые зубы. — Они слепые, — сказал он, и в голосе его проскользнули нотки восхищения. — Они слепые, мой император, и они ведут за собой Эльрика и его солдат, которые закрыли прорези для глаз в шлемах, чтобы ничего не видеть. — Слепые? — растерянно спросил Йиркан, словно не веря собственным ушам. — Слепые? — Да. Ветераны, ослепшие в предыдущих боях; прекрасные воины, привыкшие жить и действовать в темноте. Эльрик может не бояться нашего зеркала, сир. — А-а-а-а! Нет! Нет! — Не помня себя от ярости, Йиркан изо всех сил ударил капитана по спине. — Эльрик неумен! Эльрик глуп! Какой-нибудь могущественный демон подсказал ему эту мысль! Капитан Вальгарик вжал голову в плечи. — Да, сир. Но разве есть на свете демоны более могущественные, чем те, которыми командуешь ты? — Нет. Конечно, нет. О, если б только я мог сейчас вызвать одного из них! Но я истратил все свои силы, открывая Врата Тьмы. Я должен был предвидеть… но я не мог этого предвидеть! Ах, Эльрик! Я уничтожу тебя, как только завладею рунными мечами. — Йиркан нахмурился. — Но кто предупредил его? Какой демон? Неужто ему удалось заручиться помощью Ариоха? Нет, не мог он вызвать Ариоха. Даже я не смог его вызвать! А затем, словно в ответ на его бессвязные слова, послышался боевой клич Эльрика, разнесшийся, казалось, по всему городу. — Ариох! Ариох! Кровь и души для моего повелителя, Ариоха! Йиркан заметался по комнате, бормоча себе под нос: — Я должен завладеть двумя рунными мечами. Я должен пройти во Врата Тьмы. У меня есть могущественные союзники, сверхъестественные существа, которые с легкостью расправятся с Эльриком. Время… Мне нужно выиграть время… Вальгарик продолжал наблюдать за битвой. — Скоро они будут здесь, — пробормотал он. Каймориль улыбнулась. — Что скажешь, Йиркан? Кто из вас двоих глуп — Эльрик или ты? — Замолчи! Не мешай мне думать!.. — Йиркан нервно потер лоб. Внезапно глаза его заблестели; онисподтишка посмотрел на Каймориль, затем резко повернулся к Вальгарику. — Ты должен уничтожить Зеркало Памяти. — Уничтожить? Ведь это — наше единственное оружие, сир! — Вот именно. Но разве зеркало может помочь нам победить Эльрика? — Нет. — Уничтожь его, и оно сослужит нам службу. — Йиркан вытянул руку по направлению к лестнице. — Иди. Уничтожь зеркало. — Но, принц Йир… мой император… — Выполняй приказ! — Слушаюсь, сир. Как мне уничтожить его? — Заберись на колонну с обратной стороны зеркала. Ударь по нему своим мечом. Оно сразу разобьется. — Что я еще должен сделать? — Ничего. Считай, больше ты у меня не служишь. Можешь идти на все четыре стороны. — Разве мы не отправимся на завоевание Мельнибонэ? — Конечно, нет. Я разработал другой план захвата Острова Драконов. Вальгарик пожал плечами. По выражению его лица было ясно видно, что он никогда не верил обещаниям Йиркана. Опустив голову, капитан начал медленно подниматься по лестнице. — А сейчас, Каймориль… — Йиркан усмехнулся, по-волчьи обнажив зубы, грубо схватил свою сестру за плечи. — А сейчас я подготовлю тебя к встрече с твоим суженым.
Один из слепых воинов воскликнул: — Нам больше не оказывают сопротивления, сир. Мы убиваем людей, как скотину на бойне. В чем дело? — Зеркало лишило их памяти, — ответил Эльрик. — А сейчас нам необходимо укрыться в каком-нибудь доме, где мы сможем передохнуть перед решительным наступлением. Ведите нас, ветераны! Через несколько минут альбинос поднял забрало шлема, огляделся по сторонам. Он стоял в пакгаузе, к счастью, достаточно просторном, чтобы в нем мог разместиться весь его отряд. Подождав, пока последний воин закроет за собой дверь, Эльрик начал обсуждать создавшееся положение с Дайвимом Тваром. — Нам необходимо найти Йиркана, — сказал Хранитель Драконьих Пещер. — Давай допросим одного из пленных. — Какой в этом смысл, друг мой? Все они потеряли память и не помнят даже, как их зовут, — напомнил Эльрик Дайвиму Твару. — Подойди к одному из окон, отодвинь занавеску и осторожно, чтобы не попасть под влияние зеркала, выгляни на улицу. Быть может, тебе удастся увидеть какое-нибудь здание, в котором, скорее всего, поселился мой брат. Дайвим Твар молча повиновался. — Я вижу самый большой в Доз-Каме дом, — сказал он, — а рядом с ним несколько имриррских воинов. Похоже, они не смогут оказать нам сопротивление. Эльрик подошел к окну. — Думаю, в этом доме мы найдем Йиркана. Захватить его будет несложно. Но нам надо спешить. Я боюсь, он убьет Каймориль. Выберем кратчайший маршрут, объясним нашим ветеранам… — Что это за звук? — внезапно спросил один из слепых воинов, поднимая голову. — Словно где-то далеко гудит колокол. — Странный звук, — сказал второй ветеран. Теперь и Эльрик услышал зловещий гул, доносившийся, казалось, со всех сторон. — Зеркало! — вскричал Дайвим Твар. — Быть может, оно обладает свойствами, о которых мы ничего не знаем? — Возможно… — Эльрик попытался вспомнить свой разговор с Ариохом. — Ничего конкретного Повелитель Хаоса о зеркале не сказал. И уж по крайней мере он не говорил… Йиркан разбивает зеркало! — вскричал альбинос. — Но зачем? — Внезапно он почувствовал, что неприятный звук проникает прямо в мозг, будоражит мысли. — А может, Йиркан погиб, и его колдовство погибло вместе с ним? — спросил Дайвим Твар. — Может… — Он застонал, схватился за голову. Теперь Эльрик понял, что произошло. Руками в латных рукавицах он зажал уши. Зеркало разбилось, а воспоминания, которые оно хранило тысячи, десятки тысяч лет вырвались на волю. Это были воспоминания богов и смертных, зверей и разумных существ, населявших Землю задолго до того, как появилась империя Мельнибонэ. И воспоминания эти пытались проникнуть в мозг Эльрика, в мозг каждого имриррца, в мозг каждого человека в Доз-Каме. Ужасные, душераздирающие крики доносились со всех сторон. Только в мозг капитана Вальгарика воспоминания проникнуть не смогли, потому что изменник поскользнулся, слезая с колонны, упал и разбился о мостовую, усыпанную осколками стекла. Эльрик не слышал предсмертного крика капитана Вальгарика, не слышал, как тело его ударилось сначала о крышу, а затем о мостовую. Эльрик катался по каменному полу складского помещения, как и все его товарищи, пытаясь выкинуть из головы миллионы воспоминаний, ему не принадлежавших: о любви и ненависти, странных и обычных приключениях, о родственниках, к которым он не имел ни малейшего отношения, о мужчинах, женщинах и детях, о животных, кораблях и городах, о сражениях, страхах и желаниях. Одни воспоминания старались вытеснить другие из мозга альбиноса, грозя уничтожить его память, а следовательно, и его самого. Эльрик катался по каменному полу пакгауза, повторяя одно и то же слово, чтобы не забыть, кто он такой: «Эльрик. Эльрик. Эльрик». Только один раз в жизни, вызывая Ариоха на Землю, потерял альбинос столько физических и душевных сил, сколько сейчас. Но постепенно ему удалось вытеснить из своего мозга все воспоминания, кроме собственных. С огромным трудом поднялся он на ноги, огляделся по сторонам. Почти все его люди, включая ветеранов, погибли. Трупы лежали в неестественных позах, некоторые воины перед смертью разбили свои головы о стены. Из правой глазницы боцмана текла кровь: видимо, он пытался выцарапать собственный глаз. Дайвим Твар, свернувшийся в клубок, что-то бессвязно бормотал себе под нос. Многие имриррцы сошли с ума, но безумие их было тихим: они смотрели в потолок невидящим взором, беззвучно шевеля губами. Только пятеро, включая Эльрика, не лишились памяти. Альбинос наклонился к Дайвиму Твару, положил руку ему на плечо. — Дайвим Твар? Хранитель Драконьих Пещер поднял голову, посмотрел Эльрику в глаза. Дайвим Твар словно постарел на тысячу лет, но на губах его блуждала ироническая улыбка. — Я жив, Эльрик, — сказал он.
Через некоторое время они вышли из пакгауза, не опасаясь больше Зеркала Памяти. Повсюду лежали трупы жителей Доз-Кама, не выдержавших наплыва чужих воспоминаний. Окоченевшие тела протягивали к Эльрику руки. Мертвые губы молча молили о пощаде. Желание отомстить Йиркану вспыхнуло в альбиносе с новой силой. Дверь в дом Йиркана была распахнута настежь. Осторожно переступая через мертвые тела, Эльрик, Дайвим Твар и четверо имриррцев поднялись по лестнице на четвертый этаж, вошли в просторную комнату. И увидели Каймориль. Она лежала на кровати абсолютно голая; ее кожа была разрисована непристойными рунами. Глаза девушки закрывались сами собой; казалось, она не видит и не слышит ничего вокруг. Эльрик подбежал к ней, прижал к себе. Тело Каймориль было холодным как лед. — Он… заставил меня… заснуть… волшебным сном, от которого… только он… может пробудить меня. — Она зевнула. — Я… не хочу спать… потому что мой Эльрик… скоро придет. — Эльрик пришел, — мягко сказал альбинос. — Я здесь, Каймориль. — Эльрик? — Девушка расслабилась, тело ее обмякло. — Ты… должен найти Йиркана… только он… может разбудить меня… — Где он? — Лицо альбиноса посуровело, в красных глазах зажглись недобрые огоньки. — Где? — Он ушел… чтобы добыть… два рунных меча… наших предков… — «Властительницу Мрака» и «Повелителя Бурь», — хмуро сказал Эльрик. — Эти мечи прокляты. — Но куда он ушел, Каймориль? Как ему удалось скрыться? — Он… он… он… воздвиг… Врата Тьмы… Ему удалось… заключить… страшный договор с демонами… В следующей… комнате… — Веки Каймориль закрылись, морщинки на лбу разгладились, на лице появилось умиротворенное выражение. Она уснула. Дайвим Твар выхватил меч из ножен, распахнул дверь в другую комнату, погруженную во тьму. В дальнем углу комнаты тускло сверкал и переливался воздух. Из тьмы исходил зловонный запах. — Без черной магии здесь не обошлось, — сказал Эльрик. — Йиркан оказался хитрее, чем я думал. Он проник в одно из бесчисленных измерений, и теперь я не смогу узнать, в какое именно. О, Ариох, дорого бы я дал, чтобы найти своего брата! — В таком случае ты его найдешь, — с иронией произнес мелодичный голос. Сначала альбинос подумал, что в мозгу его зазвучало эхо одного из воспоминаний Зеркала Памяти, но потом он понял, что к нему обратился Повелитель Хаоса. — Удали из комнаты своих людей, чтобы я мог поговорить с тобой, — сказал Ариох. Эльрик заколебался. Ему хотелось остаться наедине с Каймориль, а не с Ариохом. Он поглядел на девушку, и его красные глаза наполнились слезами. — То, что я скажу, даст тебе возможность помочь Каймориль и отомстить Йиркану. Более того, ты станешь самым могущественным смертным из всех, кто когда-либо населял этот мир. Эльрик посмотрел на Дайвима Твара. — Мне бы хотелось немного побыть одному. — Конечно, сир. — Дайвим Твар и четверо имриррских воинов вышли из комнаты, закрыли за собой дверь. Ариох стоял, прислонившись к этой самой двери. Повелитель Хаоса улыбался открыто и дружелюбно. Он вновь был в образе прекрасного юноши, и только древние как мир глаза не гармонировали с его внешностью. — Пришло время, когда ты должен отправиться на поиски рунных мечей, чтобы Йиркан не завладел ими первым, — сказал Ариох. — Хочу предупредить тебя: эти мечи сделают твоего брата таким могущественным, что он уничтожит половину планеты, и не заметит этого. Если Властительница Мрака и Повелитель Бурь окажутся в руках Йиркана, погибнешь ты, Каймориль, Молодые Королевства и, возможно, Мельнибонэ. Я помогу тебе проникнуть в измерение, где хранится это сверхъестественное оружие. — Меня часто предупреждали, — неуверенно произнес Эльрик, — что искать рунные мечи — опасно, а владеть ими — еще опаснее. Мне кажется, надо придумать какой-нибудь другой способ обезвредить Йиркана. — Другого способа не существует. Завладев мечами, твой брат станет неуязвимым, потому что они делают могущественным того, кто ими пользуется. — Ариох вздохнул. — Неизмеримо могущественным. Ты должен поступить так, как я сказал. Это в твоих интересах. — И в твоих тоже, герцог Ариох? — Да, и в моих тоже. Я не бескорыстен. Эльрик покачал головой. — Я не знаю, что мне делать. Слишком много сверхъестественных событий произошло за последнее время. Я подозреваю, что боги просто используют нас в своих целях. — Боги служат тем, кто хочет служить им. Кроме того, боги — служители судьбы. — Все это мне не нравится. Остановить Йиркана — это одно, а стремиться, как он, к власти и обладанию рунными мечами — совсем другое. — Такова твоя судьба. — Разве я не могу изменить свою судьбу? Ариох покачал головой. — Ни ты, ни я не властны изменить наши судьбы. Эльрик погладил спящую Каймориль по волосам. — Я люблю ее. Мое единственное желание — быть вместе с нею. — Тебе никогда не удастся разбудить Каймориль, если Йиркан завладеет рунными мечами. — Хорошо. Как мне найти их? — Пройди Врата Тьмы. Йиркан уверен, что они закрылись за ним, но я держу их открытыми. Ты должен разыскать Тоннель под Трясиной, который ведет в Пульсирующую Пещеру. Рунные мечи хранятся там с тех самых пор, как ими отказались пользоваться твои предки. — А почему они отказались ими пользоваться? — У твоих предков не хватило смелости. — Для чего? — Для того, чтобы познать себя. — Ты говоришь загадками, герцог Ариох. — В этом я ничем не отличаюсь от остальных Повелителей Высших Измерений. Поторопись. Даже я не могу долго держать Врата Тьмы открытыми. — Хорошо, — повторил Эльрик. — Я готов отправиться на поиски рунных мечей. В ту же секунду Ариох исчез. Хриплым, срывающимся голосом альбинос позвал Дайвима Твара. Хранитель Драконьих Пещер вбежал в комнату. — Эльрик? Что случилось? Каймориль грозит опасность? Ты выглядишь, как… — Я должен догнать Йиркана, Дайвим Твар. Сейчас я последую за ним, а ты возвращайся в Мельнибонэ вместе с Каймориль. Если ты не получишь обо мне никаких известий в течение года, объяви ее императрицей. Если она все еще будет спать, тебе придется управлять государством как регенту, до тех пор пока она не проснется. Дайвим Твар внимательно посмотрел на альбиноса. — Ты знаешь, что делаешь, друг мой? — мягко спросил он. Эльрик покачал головой. — Нет, Дайвим Твар, не знаю. — Он поднялся на ноги и, спотыкаясь на каждом шагу, вошел в комнату, где находились Врата Тьмы.
КНИГА ТРЕТЬЯ
Ничто теперь не могло изменить судьбу Эльрика, которая была выкована на наковальне будущего, как были выкованы на наковальне прошлого два черных рунных меча. Мог ли Эльрик свернуть со своего пути, ведущего к отчаянию, вечным мукам и гибели? Или он был обречен тосковать, сражаться, чувствовать свое одиночество и страшные угрызения совести в тысячах инкарнаций, быть Бессмертным Героем, преследующим неизвестную цель?Глава первая
Эльрик сделал шаг вперед и очутился в стране теней. Врата Тьмы растворились в воздухе, исчезли. Крепко сжимая в руке меч Оубека, альбинос огляделся по сторонам. У него возникло такое ощущение, будто он попал в гигантскую пещеру, стены и потолок которой, хоть и находились вне пределов досягаемости, давили на него, прижимали к земле. И Эльрик горько пожалел, что, предавшись отчаянию, согласился подчиниться воле своего демона-покровителя Ариоха. Йиркана нигде не было видно. Либо брат Эльрика заранее приготовил себе лошадь по эту сторону Врат Тьмы, либо он оказался в этом измерении под другим, чем Эльрик, углом (измерения медленно вращались одно вокруг другого), а следовательно мог находиться и ближе альбиноса к Пульсирующей Пещере, и дальше от нее. В душном влажном воздухе пахло солью. У Эльрика возникло ощущение, что он стоит на дне моря и каким-то непонятным образом дышит морской водой. Из-за густых теней, лежавших повсюду, вдалеке почти ничего нельзя было разглядеть; темно-серое, мрачное небо напоминало огромный купол, покрывший землю. Эльрик медленно вложил меч в ножны, прищурился, вглядываясь в горизонт. К востоку от каменистого плато, на котором он стоял, смутно угадывались очертания гор, к западу — лес. Расстояние до них определить было невозможно, так как на небе не было ни солнца, ни звезд, ни луны. Холодный ветерок раздувал полы плаща альбиноса. В сотне шагов от него росли несколько искривленных деревьев без единого листика, а за ними — на довольно большом расстоянии — возвышался бесформенный валун. Казалось, Эльрик очутился в измерении, где когда-то произошла страшная битва между Законом и Хаосом, уничтожившая все живое. Много ли существовало таких измерений во Вселенной? На мгновение Эльрик представил себе, что его Земля превратится в мир такой же холодный и мрачный, как этот, и ему стало страшно. Он тряхнул головой, отгоняя неприятные мысли, и пошел вперед. Проходя мимо деревьев, он случайно задел одну из веток, которая с треском сломалась, вспыхнула и мгновенно сгорела дотла. Ветер подхватил пепел, унес его вдаль. Эльрик плотнее запахнулся в плащ. По мере приближения к валуну, альбинос все отчетливее слышал какой-то странный звук. Он замедлил шаг, положил руку на рукоять меча. Кто-то храпел во сне: ритмично, громко. Внезапно храп оборвался. Зашуршала одежда, что-то звякнуло о камень. Незнакомец явно проснулся и приготовился либо к нападению, либо к защите. — Меня зовут Эльрик из Мельнибонэ, — негромко сказал альбинос. — Я — чужестранец. Стрела пролетела на волосок от его черного шлема в форме дракона. Эльрик упал на бок, перекатился по земле. Спрятаться ему было негде: единственным укрытием служил валун, за которым притаился неизвестный лучник. — Я хотел не убить тебя, а продемонстрировать свое искусство, — сказал бесстрастный голос. — Мне осточертели демоны, которыми кишит этот мир, а ты выглядишь опаснее любого из них. — Я — простой смертный. — Эльрик поднялся на ноги, выпрямился, решив, что уж если ему суждено умереть, надо принять смерть с достоинством. — Ты упомянул Мельнибонэ. Я слышал об Острове Драконов. На нем живут демоны. — Это не так. Мы — обычные люди. Только невежественный человек может считать нас демонами. — Меня нельзя назвать невежественным, друг мой. Я принадлежу к высшей касте воинов-священников Пама, обладаю древними знаниями и до недавнего времени моими покровителями были боги Хаоса. Когда я отказался служить им, они отправили меня в ссылку в это измерение. Возможно, и тебя постигла та же участь? Ведь мельнибонийцы, насколько мне известно, тоже служат Хаосу. — Да. И я слышал о Паме. Он находится далеко на востоке, за Плачущей Пустошью, за Вздыхающей Пустыней, за городом Эльвером. Пам — одно из первых Молодых Королевств. — Положим, он не обозначен только на картах западных варваров, а все остальное — верно. Так ты тоже находишься в ссылке? — Нет. Я пришел в это измерение с определенной целью. Когда она будет достигнута, я вернусь домой. — Вот как? Это интересно, мой бледнолицый друг. Я думал, из этого мира невозможно вернуться на Землю. — Быть может, ты прав, и меня обманули. Если у тебя не хватило сил, чтобы переместиться в другое измерение, значит, и у меня это вряд ли получится. — О каких силах ты говоришь? Я лишился их после того, как перестал служить Хаосу. Итак, друг, что мы будем делать? Намерен ли ты вызвать меня на дуэль? — В этом измерении существует лишь один человек, с которым я хочу скрестить мечи, и этот человек — не ты, воин-священник из Пама. — Эльрик вложил меч в ножны, и в ту же секунду его собеседник вышел из-за валуна, снял с тетивы стрелу и положил ее в колчан. — Я — Ракир, — представился он. — Меня называют Красный Лучник, потому что, как видишь, на мне — алые одежды. Таков наш обычай: каждый воин-священник Пама носит одежды одного цвета. Эта традиция — единственная, которую я соблюдаю. — На нем были алая куртка, алые бриджи, алые сапоги и алая шапочка с алым пером. За спиной у него висел алый лук. Рукоять его меча горела и переливалась подобно крупному рубину. Орлиные черты изможденного лица Ракира, казалось, были высечены из гранита. Он был высок ростом, худ, мускулист; на губах его играла ироническая улыбка, глаза говорили о том, что этот человек пережил многое. — Странное ты выбрал место для достижения своей цели, — сказал Красный Лучник, сложив руки на груди и оглядывая Эльрика с головы до ног. — Если тебя заинтересует мое предложение, мы могли бы договориться. — Ты знаешь мир, в который я попал, намного лучше меня, так что я готов договориться с тобой о чем угодно, если это, конечно, не будет противоречить моим планам. — Насколько я понимаю, ты пришел сюда по важному делу, а покончив с ним, собираешься вернуться домой. У меня здесь нет никаких дел, и я тоже хочу попасть на Землю. Если я помогу тебе, ты возьмешь меня с собой на обратном пути? — Я сделаю все возможное, чтобы выполнить твою просьбу. Но я не могу обещать тебе то, что может оказаться мне не по силам. — Разумно, — согласился Ракир. — А теперь скажи, зачем ты сюда пришел? — Я ищу два черных рунных меча, выкованные в незапамятные времена. Когда-то ими владели мои предки, сейчас же они находятся в этом измерении. Мне сказали, они хранятся в Пульсирующей Пещере, в которую можно попасть через Тоннель под Трясиной. Эти названия ни о чем тебе не говорят? — Нет. И о двух черных мечах я тоже ничего не знаю. — Красный Лучник потер подбородок, нахмурился. — Впрочем… в одной из священных книг говорилось о каком-то загадочном оружии с черным лезвием, испещренном рунами. — Рунные мечи легендарны, о них упоминается во всех древних рукописях, им посвящена книга, в которой рассказывается о тех, кто владел или будет владеть ими. Говорят, прочитав эту книгу, можно узнать свою судьбу. В ней заключена история всех времен, и называется она «Хроника Повелителя Бурь». — Первый раз слышу. В Паме такой книги нет. Боюсь, друг Эльрик, нам придется отправиться в город Амирон. Попробуем узнать у его жителей то, что тебя интересует. — В этом измерении есть город? — Да. И ради тебя я готов на некоторое время в него вернуться. Когда-то я жил там, но затем предпочел жить вне его стен. — Чем тебе не понравился Амирон? — Трудно сказать. Жители его — глубоко несчастные люди. Образно говоря, их можно назвать угнетенными и угнетателями в одно и то же время. Ни один из них — будь то ссыльный, беглец или простой путешественник — не может покинуть это измерение по своей воле. Они живут в Амироне потому, что им некуда деться. — Одним словом, Амирон — Город Проклятых. — Как сказал бы поэт: «О, да!» — иронически заметил Ракир. — Впрочем, иногда мне кажется, что все города одинаковы. — Странное измерение. Здесь нет ни луны, ни солнца, ни звезд. Иногда мне кажется, что я попал в какую-то гигантскую пещеру. — Ты недалек от истины. Согласно одной из теорий, мы находимся в сфере, погребенной в необъятной толще скалы. По другой теории, мы попали в будущее нашей Земли после гибели Вселенной. За те несколько дней, что я провел в Амироне, я выслушал тысячи теорий, которые показались мне достаточно убедительными. Многие люди утверждают, что все на свете — ложь. Соответственно, все на свете может быть правдой. Теперь уже Эльрик иронически заметил: — А ты, оказывается, не только лучник, друг Ракир, но еще и философ. Ракир рассмеялся. — Пусть так. Мои рассуждения привели к тому, что я перестал служить Повелителям Хаоса, и в результате оказался здесь. Говорят, на одной из вечно изменяющихся границ Вздыхающей Пустыни стоит город Танелорн. Если я когда-нибудь вернусь на Землю, друг Эльрик, я обязательно отправлюсь на поиски Танелорна, где разговоры о лжи и правде считаются бессмысленными, где можно обрести покой. Люди просто счастливы тем, что живут в Танелорне. — Я им завидую, — сказал Эльрик. Ракир усмехнулся. — Да. Но боюсь, очутившись в Танелорне, я испытаю горькое разочарование. Легенды тем и хороши, что они — легенды. Когда же сталкиваешься с действительностью, мечты развеиваются, как дым. Пойдем в Амирон, Эльрик. Как ни печально, этот город типичен для любого измерения. Двое высоких мужчин, — оба отщепенцы, хоть и с разными судьбами, — молча пошли вперед по каменистой равнине.Глава вторая
По сравнению с Амироном Доз-Кам казался самым богатым и самым опрятным городом на свете. Амирон был расположен в естественном котловане, окруженном скалами, над которыми висел густой грязно-серый дым, скрывающий от глаз смертных и богов полуразрушенные и разрушенные здания, сильно отличавшиеся одно от другого. Наряду с палатками и избушками в городе возвышались дворцы и замки, стояли коттеджи и виллы. Некоторые строения без окон и с небольшой дверью напоминали кучу камней. Тут и там горели небольшие костры; в чадном воздухе пахло гнилью. — Отличительная черта характера жителей Амирона — небывалое высокомерие, — Ракир сморщил свой орлиный нос. — Впрочем, других черт характера у них нет вовсе. Эльрик осторожно шагал по кучам мусора и отбросов. Между домами лежали глубокие тени. — Нет ли здесь какой-нибудь гостиницы, где мы могли бы расспросить постояльцев о Тоннеле под Трясиной и Пульсирующей Пещере? — В Амироне нет ни гостиниц, ни постоялых дворов. Его обитатели ютятся в своих домах семьями или поодиночке. Здесь собрались люди из различных измерений и времен, поэтому в городе царит разруха. — Как же они живут? — Грабят друг друга или торгуют с демонами. Самые храбрые охотятся на крыс в подземных пещерах города. — С какими демонами? — Здесь много приспешников Хаоса. Им можно продать душу-другую или новорожденного (хотя дети редко рождаются в Амироне). Иногда за их услуги надо платить сам знаешь чем, если тебе приходилось сталкиваться с демонами. — Понятно. Значит, Хаос безраздельно властвует в этом измерении? — Трудно сказать. Однако демонам намного проще попасть сюда, чем в наш мир. — А ты видел хоть одного демона? — Да. Это — обычные звероподобные существа: грубые, глупые и достаточно могущественные. Многие из них, прежде чем заключили договор с Хаосом, были людьми. Сейчас они стали уродами и в умственном, и в физическом отношении. От слов Ракира Эльрику стало не по себе. — Неужели такая судьба ждет каждого, кто служит Хаосу? — Тебе виднее, ты — мельнибониец. Воины-священники Пама, за редким исключением, сохраняют свой человеческий облик. Мне кажется, что чем выше ставки в той игре, которую Повелители Хаоса ведут со своими слугами, тем незаметнее изменения, происходящие в их телах и душах. Эльрик вздохнул. — У кого же нам узнать о Тоннеле под Трясиной? — В Амироне живет один старик… — Ракир умолк, наклонив голову. Послышалось громкое хрюканье. Из темноты на свет высунулось лицо с клыками. Уставившись на Эльрика и Ракира, оно еще раз хрюкнуло. — Кто ты? — спросил альбинос, положив руку на рукоять меча. — Свинья, — сказало лицо с клыками, и Эльрик не понял, оскорбило его существо или назвало свое имя. Из темноты появились еще два лица с клыками. — Свинья, — сказало одно из них. — Свинья, — повторило другое. — Змея, — произнес голос за спиной Эльрика. Альбинос резко повернулся, увидел высокого юношу с клубком змей вместо головы. Змеи открыли рты, произнесли, как одна: — Змея. — Явление, — сказал еще один голос. Эльрик оглянулся, задрожал от отвращения, выхватил меч из ножен. В эту минуту Свиньи, Змея и Явление набросились на двух людей. Ракир убил одну из Свиней, прежде чем она успела сделать три шага. Он снял лук, приладил стрелу и спустил ее с тетивы за доли секунды. Ему удалось убить еще одну Свинью, а затем он отбросил лук в сторону и тоже выхватил меч из ножен. Эльрик и Ракир стояли спиной к спине, отражая атаку демонов. Змея плевалась и шипела пятнадцатью головами; Явление все время меняло форму: из колеблющейся массы появлялись то плечо, то колено, то рука. — Явление! — вскричало оно, взмахнув двумя мечами сразу. Эльрик едва успел уклониться от удара, и в это время на него начала Свинья. Сделав выпад, он пронзил ей легкое. Свинья покачнулась, упала, захлебнулась собственной кровью. Демоны накинулись на Эльрика и Красного Лучника с удвоенной яростью. Половина голов Змеи валялись на земле, а альбиносу удалось отрубить у Явления одну руку, но из бесформенного туловища тут же появились три новые руки. Казалось, Явление было не одним существом, а несколькими. На мгновение в голове Эльрика мелькнула мысль, что в результате его договора с Ариохом он тоже когда-нибудь превратится в чудовище. Но разве он уже не был чудовищем? Разве люди не принимали его за демона? Эти мысли разозлили альбиноса, придали ему сил. — Эльрик! — вскричал он, кидаясь в атаку. — Явление! — так же яростно воскликнуло бесформенное существо. Эльрик изловчился, отрубил чудовищу вторую руку. В него полетело еще одно копье, и он едва успел отбить его, как получил сильнейший удар мечом по голове. Черный шлем зазвенел. Альбинос покачнулся, толкнул Ракира в спину. Красный Лучник споткнулся, едва увернувшись от четырех змеиных голов, высунувших жала. Эльрик отсек у Явления руку и длинное щупальце, державшие мечи. Конечности упали на землю, судорожно задергались, вновь слились с бесформенным существом. Эльрика чуть не вытошнило от отвращения; он яростно вонзил меч в колышащуюся плоть. — Явление! Явление! Явление! — вскричало чудовище, размахивая двумя копьями и четырьмя саблями. — Явление! — Дело рук Йиркана, — пробормотал, Эльрик. — Мой брат понял, что я кинулся за ним вдогонку, и решил избавиться от меня с помощью своих союзников-демонов. — Он стиснул зубы. — Если, конечно, эта гадина — не сам Йиркан. Скажи, Явление, ты не мой брат, Йиркан? — Явление… — жалобно произнесло существо. Оно продолжало сражаться, но перестало наступать. — А может, ты один из моих старых добрых друзей? — Явление… — демон явно ослабел. Эльрик наносил удар за ударом по бесформенной массе. Густая зловонная кровь чудовища залила черные доспехи. Альбинос никак не мог понять, почему существо вдруг почти перестало оказывать ему сопротивление. — Скорее! — донесся до него откуда-то сверху громкий голос. — Прикончи его! Эльрик поднял голову, увидел старика с красным лицом и седой бородой, сидевшего на полуразрушенной стене. — Не смотри на меня, глупец! Убей демона! Альбинос занес меч Оубека высоко над головой, с размаху опустил его на бесформенное тело. Чудовище застонало, всхлипнуло. — Фрэнк! — еле слышно произнесли невидимые губы, и демон испустил дух. В это же время Ракир отрубил головы оставшимся трем змеям и пронзил юноше сердце. Седобородый старик ловко слез со стены, хохоча во все горло. — Ниун еще не разучился колдовать, верно? Я слышал, как один высокий человек приказал демонам вас уничтожить. Двое против пятерых — это нечестно, поэтому я вмешался в драку и забрал у многорукого демона его силу. Это я могу! Это я могу! Теперь я чувствую себя таким же сильным, как много лун назад, — если, конечно, на свете существует луна. — Перед смертью он сказал — «Фрэнк». — Эльрик нахмурился. — Быть может, так звали его раньше? — Все может быть, — сказал старый Ниун. — Бедняга-демон! Теперь он погиб. А вы, двое, не из Амирона, хотя этого, — в красном, — я видел раньше. — Мы встречались, — с улыбкой сказал Ракир, вытирая окровавленное лезвие меча об одну из змеиных голов. — Ты — Ниун, Который Все Знал. — Я — Ниун, Который Все Знал и который почти ничего сейчас не знает. Скоро я вообще все забуду и смогу вернуться из этой ужасной ссылки домой. Такой договор я заключил с Орландом, хранителем Рунного Посоха. Я был глупцом, пожелавшим все знать, но Орланд наставил меня на путь истинный и послал в это измерение, чтобы я все забыл. К несчастью, как вы могли заметить, я еще многое помню и даже сохранил свою волшебную силу. От знаний трудно избавиться. Я знаю, например, что ты ищешь черные рунные мечи. Я знаю, что тебя зовут Эльрик из Мельнибонэ. Я знаю твою дальнейшую судьбу. — Ты знаешь мою судьбу? — Эльрик встрепенулся. — Скажи, что меня ждет? Ниун открыл рот, словно намереваясь разразиться длинной речью, и тут же закрыл его. — Я забыл, — сказал он. — Неправда! — Эльрик сделал шаг вперед, его красные глаза гневно блеснули. — Неправда! Ты помнишь! Я вижу, что ты помнишь! Ниун опустил голову. — Я забыл, — повторил он. Ракир схватил альбиноса за руку. — Он действительно забыл, друг мой. Эльрик кивнул. — Хорошо. Скажи, Ниун, ты знаешь, где находится Тоннель под Трясиной? — Конечно! От Амирона совсем недалеко до трясины. В ней стоит памятник: черный гранитный орел на черном гранитном постаменте. Под памятником находится вход в тоннель. — Ниун, как попугай, скороговоркой повторил эти фразы несколько раз, затем поднял голову. Лицо его было безмятежным. — Что я тут такое вам сказал? — Ты объяснил нам, как добраться до Тоннеля под Трясиной, — ответил Эльрик. — Правда? — Ниун захлопал в ладоши. — Превосходно! Теперь я и это забыл. А кто вы такие? — Нас тоже лучше забыть, — мягко улыбнувшись, произнес Ракир. — Прощай, Ниун, и спасибо тебе за все. — За что? — За то, что ты помнил, и за то, что забыл. Старый колдун что-то счастливо забормотал себе под нос, а Эльрик и Ракир пошли по городу Амирону, задерживая дыхание, морщась от зловонных запахов. Изредка два спутника видели в окнах любопытные лица; двери тихо скрипели, скрывая очертания чьих-то фигур. — Из всех жителей этого проклятого богами города я, пожалуй, завидую одному Ниуну, — сказал Ракир. — А мне его жаль. — Эльрик вздохнул. — Почему? — Мне кажется, забыв все, он забудет и о том, что ему позволено покинуть Амирон. Ракир рассмеялся, хлопнул альбиноса по спине в черных доспехах. — Ты пессимист, друг Эльрик. Неужели ты во всем видишь только плохое? — Скорее, я ни в чем не вижу хорошего, — ответил альбинос, слегка улыбнувшись.Глава третья
Они молча шагали по каменистой земле, окутанной вечными сумерками, и примерно через час подошли к трясине. Черная вода мрачно поблескивала. Тут и там были разбросаны островки черной колючей осоки. В черном тумане изредка появлялись и исчезали мелкие животные. В нескольких сотнях футов от края трясины возвышалось нечто похожее на огромный черный валун. — Памятник, — сказал Ракир, останавливаясь и опираясь на лук, который он нес в руке. — Хотел бы я знать, как до него добраться? У тебя нет никаких мыслей на этот счет, друг Эльрик? Альбинос осторожно поставил одну ногу на колеблющуюся поверхность, с трудом выдернул ее из холодной зловонной жижи. — Где-то здесь должна быть тропинка, — заметил Ракир. — Ведь твоему брату тоже пришлось идти через трясину. Эльрик пожал плечами. — Кто знает? Если он прибег к помощи потусторонних сил, трясина вряд ли была ему помехой. — Внезапно альбинос почувствовал сильную усталость и присел на влажный камень. От насыщенного солью воздуха у него закружилась голова. Действие лекарственных трав, которые он принял перед тем, как пройти во Врата Тьмы, заканчивалось. Ракир подошел к альбиносу, сочувственно посмотрел на него, сказал с наигранной веселостью: — Что ж, господин колдун, значит и тебе придется прибегнуть к помощи потусторонних сил. Эльрик покачал головой. — Я практически ничего не знаю о том, как вызывать обычных демонов. Йиркан изучил множество рукописей по демонологии, поддерживал связь с мирами, населенными демонами, специально занимался черной магией. Нам же, чтобы добраться до памятника, придется найти какую-нибудь тропинку. Воин-священник из Пама вытащил из кармана куртки красный платок, вытер вспотевший лоб, затем помог Эльрику подняться на ноги. Спутники пошли краем трясины, не выпуская черный памятник из виду. Они одновременно увидели тропинку: черная мраморная лента, прямая, как струна, уходила в туман. — У меня такое ощущение, что нас хотят заманить в ловушку, — задумчиво сказал Ракир, глядя на скользкую мраморную поверхность, покрытую болотной жижей. — Но в конце концов, что нам терять? — Не будем медлить. — Эльрик поставил ногу на мраморную тропинку, осторожно пошел вперед. В руке он держал факел из туго связанных камышей, горевший неприятным желтым пламенем и сильно чадивший. Ракир последовал за альбиносом, выставив перед собой лук, опираясь на него, как на палку. Красный Лучник тихонько насвистывал мелодию песни, которую знал каждый его соотечественник и которая называлась: Песня Сипа Героя Высших Измерений, Собравшегося Принести Себя в Жертву. Она была очень популярна в Паме, в особенности среди воинов-священников. Эльрику мелодия не понравилась. Более того, она вызвала у него раздражение, но он промолчал, так как все его внимание было поглощено тем, чтобы не упасть со скользкой тропинки, которая к тому же начала колыхаться под ногами. Они прошли полпути. Памятник был виден, как на ладони: черный орел с добычей в клюве, стоявший на черном постаменте. У Эльрика возникло такое ощущение, что это — надгробный памятник. Быть может, здесь похоронили какого-нибудь великого героя? А может, под памятником были погребены два черных меча, чтобы никто больше не смог воспользоваться оружием, которое питалось человеческими душами? Мраморная тропинка закачалась из стороны в сторону. Эльрик попытался выпрямиться, поскользнулся, не удержался на ногах, полетел в трясину, но не выпустил из рук самодельный факел, В его свете он ясно видел взволнованное лицо Красного Лучника. — Эльрик? — Я здесь, Ракир. — Ты тонешь? — Трясина никак не желает со мной расставаться. — Можешь лечь на живот? — Я могу наклониться, но ноги мои целиком ушли в трясину. — Он чувствовал, как зловонная жижа тянет его вниз. Мимо него, что-то вереща, пробежал какой-то зверек. Эльрик с трудом подавил страх, закравшийся ему в душу. — Думаю, тебе надо бросить меня, друг Ракир. — Что? Ты хочешь, чтобы я лишился единственной возможности вернуться на Землю? Я куда больший эгоист, чем ты думаешь. Ну-ка… — Ракир медленно присел на корточки, протянул Эльрику руку. Оба они были покрыты болотной жижей, оба дрожали от холода, оба прилагали неимоверные усилия, чтобы дотянуться друг до друга. С каждой секундой альбинос все больше погружался в трясину. — Подожди. — Ракир протянул Эльрику лук. — Сможешь ухватиться? Наклонившись вперед, напрягая мускулы, альбинос дотянулся до края лука, сомкнул на нем пальцы. — А сейчас… ох!.. — Мраморная тропинка закачалась, как лодка на волнах. Ракир упал на спину, ухватился за противоположный край тропинки левой рукой, продолжая держать лук в правой. — Скорее, Эльрик! Поторопись! Медленно, неохотно трясина выпускала Эльрика из своих смертельных объятий. Мраморная тропинка все еще раскачивалась из стороны в сторону; лицо Ракира стало почти таким же бледным, как у альбиноса. Наконец, Эльрик выбрался из трясины и, задыхаясь, весь покрытый болотной слизью, упал рядом с Ракиром. Ракир тоже тяжело дышал, но нашел в себе силы рассмеяться. — Что за рыбину я поймал! Крупнее не бывает! — Спасибо тебе, Ракир Красный Лучник. Я обязан тебе жизнью, воин-священник из Пама. И я клянусь, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы помочь тебе вернуться в наше с тобой измерение. — На свете мало настоящих мужчин, — тихо сказал Ракир. — Ты — один из них, Эльрик из Мельнибонэ, и поэтому я не мог бросить тебя в беде. — Он пожал плечами, ухмыльнулся. — Я предлагаю продолжить путь на четвереньках. Может, оно и неприлично, но зато безопасно. Эльрик молча кивнул. Прошло совсем немного времени, и они добрались до небольшого поросшего зеленым мхом островка, на котором стоял памятник. Черный орел, казалось, парил высоко в небе (или под куполом пещеры); в черном постаменте Эльрик и Ракир увидели распахнутую настежь дверь. — Ловушка? — спросил Ракир, подозрительно глядя на черное отверстие входа. — Скорее всего, Йиркан считает, что демоны прикончили нас в Амироне, — сказал Эльрик, отряхивая, насколько это было возможно, свои доспехи. — Давай не будем гадать, друг Ракир. Войдем и все узнаем. Они стояли в небольшой комнате с черными мраморными стенами, тускло поблескивающими в свете факела. В комнате была дверь, а за дверью — лестница, ведущая вниз. Эльрик и Ракир молча начали спускаться по мраморным ступенькам и вскоре очутились на нижней лестничной площадке. В двух шагах от них находился вход в тоннель. Ракир откашлялся, переступил с ноги на ногу. Эльрик поднял факел высоко над головой, выхватил из ножен меч древнего героя Оубека, решительно пошел вперед. Красный Лучник не отставал от него ни на шаг. Дыхание со свистом вырывалось из груди альбиноса; отовсюду доносились шелестящие, шипящие, звенящие звуки, многократно усиленные эхом. В тоннеле было тепло. Пол пружинил под ногами, соленым воздухом трудно было дышать. Гладкие стены, напоминавшие цветом человеческую кожу, сотрясались мелкой ритмичной дрожью. Ракир невольно вскрикнул. — Такое ощущенье, что мы шагаем по живой плоти, — пробормотал он. — По живой плоти! Эльрик промолчал. Все свое внимание он сосредоточил на том, чтобы не упасть. Страх овладел всем его существом. Ноги у него подкашивались, тело тряслось, как в лихорадке, пот градом катился по лицу. Он с трудом удерживал в руке меч Оубека, в голову ему назойливо лезли мысли, которые он никак не мог отогнать. Не был ли он здесь раньше? Почему тоннель казался ему таким знакомым? Глухой ритмичный звук выделился из остальных звуков. Впереди, в конце тоннеля, показалось маленькое, идеально круглое отверстие. Эльрик остановился, покачнулся, едва удержался на ногах. — Тоннель закончился, — хрипло сказал Ракир. — Дальше хода нет. Маленькое, идеально круглое отверстие сокращалось и расширялось… сокращалось и расширялось, — так бьется сердце. — Пульсирующая Пещера, — прошептал Эльрик. — Она находится в конце Тоннеля под Трясиной. Тут должен быть вход, Ракир. — Человек не может здесь пройти. — Ракир покачал головой. — Это не так… Альбинос вложил меч в ножны, протянул Ракиру факел, спотыкаясь, подошел к отверстию и бросился в него головой вперед, прежде чем воин-священник Пама успел помешать ему. Стенки отверстия раздвинулись перед Эльриком, сомкнулись за ним. Он медленно поднялся на ноги. Слабый розовый свет исходил от стен небольшого помещения, в котором находилось еще одно пульсирующее отверстие. Кровь стучала у Эльрика в висках, он ощущал ломоту во всем теле. — Эльрик! — Бледный, задыхающийся Ракир стоял позади альбиноса. Эльрик облизнул пересохшие губы, сказал, с трудом выговаривая каждое слово: — Ракир. Напрасно ты сюда пришел. — Я обещал тебе помочь. — Да, но… — Я помогу тебе. У Эльрика не было сил спорить. Он молча кивнул, раздвинул руками упругие стенки второго отверстия и увидел пещеру, стены которой ритмично пульсировали. Посередине пещеры, прямо в воздухе, висели два абсолютно одинаковых черных меча с лезвиями, испещренными рунами. Принц Йиркан из Мельнибонэ с горящими от жадности глазами и восторженным выражением на лице смотрел на мечи. Эльрик шагнул в отверстие, почувствовал, как под его ногами дрожит пол. Он хотел заговорить с Йирканом, но с губ его сорвалось одно только слово: — Нет! — С огромным трудом он вытащил из ножен меч Оубека, но не смог даже поднять его. Зрение альбиноса затуманилось, он хрипло дышал. И показалось ему, что исчезли пол, стены, потолок Пульсирующей Пещеры, исчез принц Йиркан. Лишь два черных меча неподвижно висели в воздухе. — Йиркан, — как сквозь сон услышал Эльрик собственный голос. — Они — мои. Принц улыбнулся, протянул к мечам руку. Черные лезвия слабо застонали, по ним заструилось черное сияние. Эльрику стало страшно. Ракир прицелился в Йиркана из лука. — Прикажи, Эльрик, и он умрет. — Убейего, — сказал альбинос. Ракир выстрелил. Стрела медленно полетела вперед, остановилась, зависла в воздухе. Йиркан осклабился. — Оружием, изготовленным руками смертных, здесь никого нельзя убить. — Он прав, — сказал Эльрик. — Твоя жизнь в опасности, воин-священник Пама. Уходи. — Нет. Я должен остаться и помочь тебе. Эльрик покачал головой. — Мне нельзя помочь. Ты погибнешь, если останешься в Пульсирующей Пещере. Уходи! Ракир неохотно закинул лук за спину, подозрительно посмотрел на два черных меча и, протиснувшись сквозь пульсирующее отверстие, вышел из пещеры. — А сейчас, Йиркан, — сказал альбинос, бросив меч Оубека на пол, — мы выясним наши отношения раз и навсегда.Глава четвертая
Внезапно два рунных меча, «Повелитель Бурь» и «Властительница Мрака», полетели по воздуху, сорвавшись с того места, на котором они провели не одну тысячу лет. «Повелитель Бурь» очутился в правой руке альбиноса; «Властительница Мрака» — в правой руке Йиркана. Двое мельнибонийцев изумленно уставились сначала друг на друга, затем на рунные мечи. Черные лезвия пели тихими, но отчетливыми голосами. Эльрик поднял большой меч, как пушинку, восхищаясь его красотой. — «Повелитель Бурь», — негромко сказал он, и внезапно ему показалось, что он и рунный меч составляют одно целое. Эльрику стало страшно. У него возникло ощущение, что он заново родился. — «Повелитель Бурь». — Черное лезвие сладострастно застонало, рукоять меча вжалась в ладонь альбиноса. — «Повелитель Бурь»! — вскричал Эльрик и бросился на своего брата. — «Повелитель Бурь»! — И вновь Эльрика охватил страх, а вместе со страхом появилось непреодолимое желание убить Йиркана, вонзить меч ему в сердце, отомстить, пролить кровь, послать его душу в ад. Теперь и Йиркан громко вскричал: — «Властительница Мрака»! Два брата скрестили мечи. «Властительница Мрака» отразила нападение «Повелителя Бурь», острие ее метнулось к груди альбиноса, который отскочил в сторону и сделал выпад, заставивший Йиркана отступить. «Властительница Мрака» отбила один удар «Повелителя Бурь»… второй… третий. Эльрик и Йиркан были одинаковыми по силе фехтовальщиками, но и рунные мечи стоили один другого; казалось, они были живыми существами, обладающими разумом и волей. Металл звенел о металл, и под этот звон мечи радостно пели, словно были счастливы, что у них появилась возможность вновь участвовать в битве. Эльрик не замечал ничего вокруг; лишь изредка он видел искаженное яростью лицо Йиркана. Все внимание альбиноса было поглощено двумя черными мечами; неожиданно он понял, что, соперничая друг с другом, «Повелитель Бурь» и «Властительница Мрака» поставили на кон жизнь одного из людей. Это наблюдение заставило Эльрика задуматься о той ненависти, которую он испытывал к Йиркану. Да, ему хотелось убить Йиркана, но по своей воле, а не по прихоти черных мечей. Лезвие «Властительницы Мрака» взметнулось над его головой — «Повелитель Бурь» мгновенно отразил удар. Эльрик перестал сражаться с Йирканом, Свою волю он противопоставил воле рунного меча. «Повелитель Бурь» метнулся к незащищенному горлу Йиркана. Альбинос изо всех сил сжал рукоять, подтащил меч к себе, тем самым пощадив брата. «Повелитель Бурь» завыл как собака, которой помешали укусить вора. — Я не стану твоей марионеткой, рунный меч, — сказал Эльрик сквозь стиснутые зубы. — Если нам суждено быть вместе, мы должны научиться понимать друг друга. «Повелитель Бурь» задрожал, перестал сопротивляться альбиносу, которому в ту же секунду пришлось защищаться от мгновенной атаки «Властительницы Мрака», почувствовавшей свое преимущество и не преминувшей им воспользоваться. Внезапно Эльрик почувствовал, как сначала по его руке, а затем по всему телу разливается энергия. И он понял, что ему не придется больше поддерживать свои силы с помощью лекарственных трав и заклинаний. Он не устанет в самой тяжелой битве, будет гордо властвовать над людьми в мирное время, сможет безбоязненно путешествовать в одиночестве. Рунный меч каким-то непонятным образом сказал все это альбиносу и вновь самостоятельно отразил нападение «Властительницы Мрака». А что потребует «Повелитель Бурь» взамен своего бесценного дара? Эльрик знал ответ и на этот вопрос. «Повелитель Бурь» существовал только для того, чтобы участвовать в сражениях, Он получал необходимую ему жизненную энергию, питаясь душами людей, демонов и даже богов. На какое-то мгновение альбинос замешкался, и Йиркан с громким криком бросился в атаку, нанес сильнейший удар. Лезвие «Властительницы Мрака» скользнуло по черному шлему в форме дракона, и Эльрик не удержался на ногах. Он упал, перекатился с бока на бок, а Йиркан обхватил рукоять рунного меча двумя руками, начал опускать его по сверкающей дуге, намереваясь разрубить своего противника напополам. Альбинос встал на одно колено и, держа рунный меч одной рукой в латной рукавице за лезвие, а второй — за рукоять, поднял его высоко над головой. «Властительница Мрака» ударила «Повелителя Бурь», и оба меча взвыли, словно испытывая неимоверную боль, застонали, как живые. Черное сияние заструилось по черным лезвиям, — так хлещет кровь из ран человека, пронзенного стрелами. И вновь исчезла Пульсирующая Пещера, исчез Йиркан, а Эльрик, окутанный черным сиянием, понял, что «Повелитель Бурь» опять разговаривает с ним и требует повиновения. — Он не умрет! — воскликнул альбинос. — Я не стану убивать его, чтобы доставить тебе удовольствие! Черное сияние рассеялось, Йиркан занес меч над головой. «Повелитель Бурь» тут же нанес удар в незащищенную грудь, но Эльрик во второй раз удержал меч, и принц отделался легкой царапиной. «Повелитель Бурь» яростно задрожал. — Ты не будешь повелевать мною, — сказал Эльрик. Казалось, рунный меч наконец-то понял, чего хочет альбинос, и подчинился ему. Эльрик рассмеялся, считая, что теперь «Повелитель Бурь» будет всегда послушен его воле. — Мы разоружим Йиркана, — сказал он. — Мы не станем его убивать. Огромный рунный меч замелькал со скоростью фехтовальной рапиры. Финт, движение в защите, в атаке, опять финт… Йиркан, только что ухмылявшийся в предвкушении легкой победы, вскричал от страха, попятился. Теперь «Повелитель Бурь» делал только те движения, которые хотел сделать Эльрик. Йиркан растерялся. «Властительница Мрака» изумленно взвыла, словно возражая против такого поведения своего брата. Эльрик нанес удар по руке Йиркана, в которой тот держал меч. Лезвие «Повелителя Бурь» разрезало как бритвой одежду, кожу, сухожилия, мышцы. Кровь хлынула из раны, заливая «Властительницу Мрака». Йиркан чуть было не выронил меч, схватил его двумя руками. Эльрик тоже обхватил рукоять «Повелителя Бурь» двумя руками и внезапно почувствовал, как по его жилам разливается неземная сила. Он занес меч над головой, нанес мощный удар по тому месту, где лезвие «Властительницы Мрака» соединялось с рукоятью. Рунный меч вылетел из рук Йиркана. Эльрик улыбнулся. Он подчинил «Повелителя Бурь» своей воле и в результате одержал победу. «Властительница Мрака» ударилась о стену Пульсирующей Пещеры. Черное лезвие застонало, словно признавая свое поражение. Свет погас, вновь вспыхнул, и Эльрик увидел у своих ног черные ножны такой же искусной работы, как рунный меч. Йиркан стоял на коленях, из груди его вырывались рыдания. Он посмотрел на Эльрика испуганно, как ребенок, затем обвел глазами Пульсирующую Пещеру. — «Властительница Мрака»? — спросил он безнадежным тоном, понимая, что жить ему осталось недолго. Но «Властительница Мрака» исчезла из пещеры. — Твоего рунного меча здесь нет, — спокойно сказал Эльрик. Йиркан посмотрел на пульсирующее отверстие, сократившееся до размеров мелкой монеты, и заплакал. «Повелитель Бурь» задрожал в руке альбиноса, словно требуя себе в награду душу мятежного принца. Эльрик сделал шаг вперед. — Не убивай меня этим мечом, Эльрик, — быстро произнес Йиркан. — Я сделаю все, что ты захочешь, умру любой смертью, только не этой. Альбинос вздохнул. — Мы с тобой жертвы заговора, брат, игрушки богов, демонов и рунных мечей, обладающих чуждым нам разумом. Они решили, что один из нас должен погибнуть, и я подозреваю, что твоей смерти хотят больше, чем моей. — Он наклонился, поднял ножны, вложил в них «Повелителя Бурь», который сразу же перестал дрожать и дергаться. Меч Оубека, который альбинос бросил на пол, тоже исчез. Эльрик отстегнул старые ножны, повесил на пояс рунный меч, положил руку на его рукоять, и не без жалости посмотрел на существо, которое было его братом. — Ты жалкий червь, Йиркан. Но разве это твоя вина? — На лице принца появилось изумленное выражение. — Хотел бы я знать, если б все твои желания исполнились, ты так и остался бы жалким червем, брат? Продолжая стоять на коленях, Йиркан выпрямился, с надеждой посмотрел на альбиноса. Эльрик улыбнулся. — Я подумаю, как мне с тобой поступить, — сказал он. — Прежде всего ты должен пробудить Каймориль от волшебного сна. — Ты показал мне, как я ничтожен, Эльрик, — робким, жалобным голосом произнес Йиркан. — Я разбужу ее. Я попытаюсь… — Ты не можешь снять собственного заклятья? — Нам не удастся покинуть Пульсирующую Пещеру. Слишком поздно. — Что ты имеешь в виду? — Я не думал, что ты последуешь за мной. А затем я решил, что легко с тобой расправлюсь. Мы потеряли слишком много времени. Действие заклинания закончилось. Сейчас войти в пещеру может каждый, но выйти из нее — невозможно. Я дорого дал, чтобы узнать это заклинание. — Ты дорого дал и за многое другое. — Эльрик подошел к отверстию, посмотрел в него одним глазом, увидел Ракира, нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу. — Воин-священник Пама, — обратился к нему альбинос. — Я и мой брат лишены возможности покинуть пещеру. — Он попытался раздвинуть руками пульсирующие стенки отверстия, но они не подались ни на дюйм. — Ты можешь либо присоединиться к нам, либо вернуться в Амирон. Если ты выберешь первое, то разделишь нашу участь. — Если я вернусь в Амирон, моей участи трудно будет позавидовать, — ответил Красный Лучник. — Ты на что-нибудь рассчитываешь? — У нас есть шанс. Я хочу вызвать своего покровителя. — Повелителя Хаоса? — Ракир поморщился. — Да. Я говорю об Ариохе. — Вряд ли Ариох захочет помочь ренегату из Пама. — Так какое решение ты принимаешь? Ракир сделал шаг вперед, с трудом протиснулся сквозь отверстие, стенки которого раздвинулись и вновь сомкнулись. — Я готов разделить твою судьбу и рискнуть жизнью, лишь бы выбраться отсюда. — Он увидел Йиркана, изумленно поднял бровь. — Твой противник жив? — Как видишь. — Ты слишком милостив. — Быть может, милостив, а быть может, — упрям. Я не хочу убивать его только потому, что какое-то сверхъестественное существо решило, что он должен умереть, а я — остаться в живых. Повелители Высших Измерений еще не сделали меня своим рабом, и пока у меня хватит сил, я буду сопротивляться чужой воле. Ракир ухмыльнулся. — Я разделяю твои взгляды, но не твой оптимизм. На твоем поясе висит черный меч. Не хочешь ли ты попробовать выбраться отсюда с его помощью? — Это невозможно, — сказал Йиркан, все еще стоявший на коленях. — Нет таких сил, которые могли бы оказать даже малейшее воздействие на вещество, из которого сделана Пульсирующая Пещера. — Я поверю тебе на слово, так как не хочу часто пользоваться рунным мечом, — сказал Эльрик. — Сначала я должен научиться управлять им. — В таком случае придется вызвать Ариоха. — Ракир вздохнул. Эльрик пожал плечами. — Если это окажется возможным. — Не сомневаюсь, что он меня убьет на месте, — сказал Красный Лучник таким тоном, словно надеялся, что альбинос опровергнет его слова. Но Эльрик не стал утешать воина-священника из Пама. — Возможно, мне удастся договориться с Ариохом, — сказал он. — Заодно я кое-что выясню сам для себя. Он повернулся спиной к Ракиру и Йиркану. Расслабился. Опустошил мозг от всех мыслей, кроме одной, которую послал сквозь измерения. — Ариох! — вскричал он. — Ариох! Помоги мне, Повелитель Мечей! Ему показалось, что на него обратили внимание. — Ариох! Он почувствовал, что его рассматривают. — Ариох! Эльрик понял, что Повелитель Хаоса его услышал. Ракир закричал не своим голосом. Йиркан завизжал от страха. Альбинос быстро оглянулся, увидел у стены бесформенное черное существо, от которого исходил зловонный запах. Неужели это был Ариох? Как же так? Валет Мечей отличался утонченной красотой и изяществом. Впрочем, — подумал Эльрик, — быть может, это и есть истинный облик Ариоха. Возможно, в этом странном измерении, в загадочной Пульсирующей Пещере, Ариох не мог обмануть тех, кто видел его. Догадка Эльрика не подтвердилась. Бесформенное чудовище исчезло, на его месте появился прекрасный юноша с древними, как мир, глазами. — Ты добыл меч в честном бою, Эльрик, — сказал Ариох, не обращая никакого внимания на Ракира и Йиркана. — Я поздравляю тебя. И ты пощадил своего брата. Почему? — По многим причинам. Допустим, потому, что он должен расколдовать Каймориль. Ариох слегка улыбнулся, и альбинос понял, что избежал ловушки. Если б он убил Йиркана, Каймориль никогда не проснулась бы. — А что делает здесь этот жалкий изменник? — Ариох холодно посмотрел на Ракира. Красный Лучник побледнел, но не отвел глаз. — Ракир — мой друг. Он согласился помочь мне найти рунный меч, а я обещал взять его с собой в наше измерение. — Это невозможно. Бывший воин-священник Пама отправлен в вечную ссылку. Он наказан за предательство. — Если Ракир не вернется со мной на Землю, я отказываюсь от меча. — Эльрик снял ножны с пояса, протянул «Повелителя Бурь» Ариоху. — Тогда и Ракиру, и Йиркану, и мне навсегда придется остаться в Пульсирующей Пещере. — Это неразумно, Эльрик. Подумай о том, какая на тебе лежит ответственность. — Я подумал обо всем. Мое решение непоколебимо. Ариох слегка нахмурился. — Ты должен взять рунный меч с собой. Такова твоя судьба. — Я тебе верю. Но я также знаю, что «Повелитель Бурь» не может принадлежать никому, кроме меня. Даже ты, Ариох, при всем своем желании, не можешь им владеть. Разве я не прав? — Ты далеко не глуп, Эльрик из Мельнибонэ, — иронически, но с нотками восхищения в голосе сказал Ариох. — Ты — достойный слуга Хаоса. Хорошо! Забирай этого предателя с собой, но я советую ему вести себя осмотрительно. Повелители Хаоса злопамятны… — Я знаю об этом, герцог Ариох, — хрипло произнес Ракир. Ариох даже не посмотрел в сторону Красного Лучника. — В конце концов, человек из Пама слишком ничтожен. И если ты хочешь пощадить жизнь своего брата, будь по-твоему. Подобные мелочи не могут повлиять на будущее, предопределенное свыше. — Что ж, тогда мы договорились, — сказал альбинос. — А теперь отправь нас в наше измерение. — Куда именно? — И ты еще спрашиваешь? Конечно, в Мельнибонэ! Ариох посмотрел на Эльрика чуть ли не с нежностью, мягкой шелковистой ладошкой потрепал его по щеке. — Ты самый замечательный, самый прелестный из всех моих слуг! — воскликнул он. Пульсирующая Пещера исчезла. Послышался шум прибоя. Трое людей стояли в тронном зале Имрирра Прекрасного. В углу зала струйка черного дыма поднялась к потолку и исчезла. Ракир сделал несколько шагов, осторожно сел на первую ступеньку хрустальной лестницы. Йиркан и Эльрик остались стоять на месте, глядя друг другу в глаза. Неожиданно альбинос рассмеялся, хлопнул по ножнам «Повелителя Бурь». — А сейчас ты должен выполнить свое обещание, брат. Затем я хочу сделать тебе одно выгодное предложение. — Совсем как на торгах, — пробормотал Ракир, рассматривая красное перо на красной шляпе.Глава пятая
Йиркан отошел от постели своей сестры. У него было измученное лицо, он говорил безжизненным голосом. — Дело сделано. — Принц отвернулся, посмотрел в окно, из которого открывался вид на башни Имрирра и на гавань, где стояли золотые мельнибонийские галеры и корабль, подаренный Эльрику морским царем Страашей. — Она проснется через несколько минут, — рассеянно сказал Йиркан. Дайвим Твар и Ракир вопросительно посмотрели на альбиноса, стоявшего на коленях у постели Каймориль. Морщинки на лице девушки разгладились, она выглядела умиротворенной, и на мгновенье Эльрик испугался, что Йиркан обманул его и убил Каймориль. Но затем ее веки дрогнули, глаза открылись. Она увидела альбиноса и улыбнулась. — Эльрик? Неужели мои сны сбылись? С тобой все в порядке? — Со мной все в порядке, Каймориль. И с тобой тоже. — Йиркан? — Он разбудил тебя. — Но ведь ты поклялся его убить. — Я был околдован так же, как ты Я многого не понимал. Я и теперь многого не понимаю. Но Йиркан переменился. Я победил его. Он больше не сомневается в моем могуществе и не стремится завладеть Рубиновым Троном. — Ты слишком милостив, Эльрик. — Она откинула со лба прядь черных, как вороново крыло, волос. Эльрик обменялся с Ракиром взглядами. — Возможно, мною движет не милосердие, а чувство дружбы, которое я питаю к Йиркану. — Дружбы? Не может быть, чтобы ты… — Оба мы — смертные. Оба мы были пешками в игре Богов Высших Измерений. В конце концов я в первую очередь должен позаботиться о своих близких, а поэтому не имею права ненавидеть Йиркана. Это и называется милосердием, — сказала Каймориль. Йиркан подошел к двери. — Могу я удалиться, мой Император? Эльрику показалось, что глаза Йиркана лихорадочно блеснули. Но возможно, он ошибся. Выражение лица у принца было покорным. Альбинос кивнул. Йиркан бесшумно выскользнул из комнаты. — Не доверяй ему, Эльрик, — предостерегающе сказал Дайвим Твар. — Он снова предаст тебя. — Хранитель Драконьих Пещер был явно встревожен. — Нет. Мой брат не посмеет замыслить ничего дурного хотя бы потому, что боится меча, который я ношу на поясе. — Тебе тоже следует бояться рунного меча, Эльрик. — Нет, — повторил альбинос. — Это я повелеваю мечом, а не меч мною. Дайвим Твар хотел что-то сказать, но передумал. Он печально покачал головой, поклонился, взял Ракира за руку и вышел с ним из комнаты, оставив Эльрика наедине с Каймориль. Девушка обняла альбиноса, притянула его к себе. Они поцеловались. И заплакали.Праздник в Мельнибонэ продолжался всю следующую неделю. Почти все золотые галеры, солдаты и драконы уже вернулись домой из дальних странствий. Вернулся и Эльрик, доказав, что по праву занимает Рубиновый Трон. Теперь странное поведение альбиноса (включая и то, что он простил своих врагов), воспринималось мельнибонийцами, как должное. В тронном зале состоялся бал — самый пышный на памяти придворных. Эльрик танцевал с Каймориль и вел себя так, как и подобает истинному императору. Йиркан сидел в темном углу — под ложей, где пели рабы. Он не принимал участия в общем веселье, и придворные делали вид, что не замечают его. Ракир Красный Лучник, будучи героем Мельнибонэ, очаровал сразу нескольких дам и договорился о встрече с каждой из них. Дайвим Твар тоже танцевал, но лицо его было мрачным, и он довольно часто смотрел в сторону принца Йиркана. После обильной трапезы придворные продолжали веселиться, а Эльрик и Каймориль сели на верхнюю ступеньку хрустальной лестницы. — Ты согласна стать моей женой, Каймориль? — спросил альбинос. — Ты ведь знаешь, что я всегда хотела выйти за тебя замуж. Мы оба это знаем. — Так ты согласна? Она рассмеялась, думая, что он шутит. — Да, мой император. — Даже если при этом ты не будешь императрицей? По крайней мере в течение года? — Я не понимаю тебя, Эльрик. — Мне необходимо покинуть Остров Драконов, Каймориль. То, что я узнал за последние несколько месяцев, заставило меня глубоко задуматься. Наша империя разрушается, и, чтобы она не погибла, надо многое изменить, а значит, мне прежде всего необходимо отправиться в путешествие по Молодым Королевствам, посмотреть, как они развиваются, как живут люди. Мельнибонэ — все еще могущественная держава, которая может сделать много хорошего для всей Земли. — Хорошего? — переспросила Каймориль. В голосе ее появились тревожные нотки. — Мельнибонийцы никому и никогда не делали ни хорошего, ни плохого. Мы — сами по себе и живем ради удовлетворения своих желаний. — Так жить больше нельзя. — Ты хочешь изменить образ нашей жизни? — Я хочу прежде всего понять, нужно ли мне принять подобное решение, а для этого я должен отправиться в мир. Повелители Высших Измерений мечтают безраздельно властвовать над нашей Землей. И несмотря на то, что они оказали мне помощь, я предпочел бы, чтобы люди решали свою судьбу без чьего-либо вмешательства. — Ты уедешь? — На глаза Каймориль навернулись слезы. — Когда? — Завтра. Вместе с Ракиром. Мы отплываем на корабле Страаши на остров Пурпурных Городов. У Ракира там есть друзья. Ты поедешь со мной? — Я… я не могу… Ох, Эльрик, мы могли бы быть так счастливы вместе! Почему ты хочешь меня покинуть? — Потому что я чувствую, что счастье наше будет продолжаться недолго, если я не пойму, как нам жить дальше. Каймориль нахмурилась. — Поступай так, как считаешь нужным, — медленно сказала она. — Я не могу помочь тебе разобраться в том, что тебя тревожит. — Так ты не едешь? — Нет. Это невозможно. Я… я — мельнибонийка. — Девушка вздохнула. — Я люблю тебя, Эльрик. — Я тоже очень люблю тебя, Каймориль. — В таком случае мы поженимся, как ты вернешься. Через год. Эльрик опечалился, но он был уверен в том, что принял правильное решение. Альбинос знал, что, оставшись, он рано или поздно обвинит Каймориль во всех несчастьях, которые могут с ними произойти. — Ты будешь управлять государством, как императрица, пока я не вернусь, — сказал он. — Нет, Эльрик. Я не могу взять на себя такую ответственность. — Кого же мне оставить вместо себя? Дайвима Твара? — Думаю, он тоже откажется. Может, Магама Колима? — Нет. — Тогда тебе придется остаться. Эльрик задумчиво посмотрел на толпу веселившихся в зале придворных, затем взгляд его остановился на одинокой фигуре Йиркана, сидевшего под ложей, где пели рабы. Альбинос усмехнулся. — Пусть Йиркан станет императором. — Нет, Эльрик! — в ужасе вскричала Каймориль. — Только не Йиркан! — Мне кажется, я принял справедливое решение. Йиркан всегда мечтал о Рубиновом Троне. Если он будет хорошим императором, я, быть может, отрекусь от престола в его пользу. Если он злоупотребит властью, это раз и навсегда докажет его несостоятельность. — Эльрик, — сказала Каймориль, — я люблю тебя. Но ты — глупец и преступник, если собираешься поверить Йиркану еще раз. — Я не глупец и не преступник, — спокойно ответил альбинос. — Я — Эльрик. И я ничего не могу с этим поделать, Каймориль. — Ты — Эльрик, которого я люблю! — вскричала девушка. — Но Эльрик обречен. Все мы обречены, если ты покинешь Мельнибонэ! — Я не могу остаться, потому что люблю тебя. Она поднялась на ноги. По ее щекам текли слезы. — А я — Каймориль. И тоже ничего не могу с этим поделать. Ты погубишь нас обоих. — Наклонившись, она погладила его по волосам. — Ты погубишь нас, Эльрик. — Никогда. Я многому научусь! Я сделаю мир лучше, чем он есть! Когда я вернусь, мы поженимся и будем жить долго и счастливо! Чем сильнее человек верит в то, что говорит, тем убедительнее он лжет. Эльрик солгал трижды. Насчет Йиркана. Насчет рунного меча. Насчет Каймориль. Император Мельнибонэ солгал трижды, и это предопределило его судьбу.
ЭПИЛОГ
На острове Пурпурных Городов, в скромном порту Меньи, к чужестранцам относились вежливо и дружелюбно. Эльрик и Ракир оставили корабль Страаши в гавани рядом с другими кораблями из разных стран и добрались до берега на лодке. — Итак, мне придется отправиться на поиски мифического Танелорна, где можно обрести вечный покой, — иронически сказал Ракир. Он зевнул, потянулся. Стрелы заплясали в колчане за его спиной. Эльрик, одетый в простые брюки и куртку, словно солдат-наемник, выглядел бодрым и веселым. Он подставил лицо утреннему солнцу, улыбнулся. На боку его висел большой двуручный меч в черных ножнах. С тех пор как альбинос стал обладателем «Повелителя Бурь», ему ни разу не пришлось поддерживать свои силы с помощью лекарственных трав и заклинаний. — А мне придется посетить государства, отмеченные на моей карте, — сказал он. — Я должен многое узнать, чтобы через год использовать свои знания на благо Мельнибонэ. Жаль, конечно, что рядом со мной не будет Каймориль, но я понимаю ее нежелание отправиться в путешествие по странам варваров. — Ты собираешься добыть необходимые тебе сведения всего за один год? Эльрик рассмеялся. — Меня так сильно тянет к Каймориль, что я боюсь не выдержать разлуки и вернуться домой раньше. — Я был бы рад стать твоим спутником и помочь тебе, но это невозможно, — сказал Ракир. — Я поклялся отыскать Танелорн, хоть и не знаю, существует ли он на самом деле. — Хочу верить, что ты найдешь свой Танелорн, воин-священник Пама. — Не называй меня больше этим именем. Я никогда… — Внезапно глаза Ракира изумленно расширились. — Посмотри! Твой корабль! Эльрик оглянулся и увидел, что корабль, который когда-то был Кораблем по Суше и по Морю, медленно идет ко дну. Страаша забрал свое детище, в котором альбинос больше не нуждался. — Духи стихий — мои друзья, — задумчиво сказал Эльрик. — Но, к сожалению, они теряют былое могущество, как потеряла его империя Мельнибонэ. И хотя люди считают мельнибонийцев порождением зла, у нас есть много общего с духами воздуха, земли, огня и воды. Глядя, как мачты корабля исчезают под водой, Ракир медленно произнес: — Я завидую, что у тебя такие друзья, Эльрик. Им можно доверять. — Да. Ракир искоса посмотрел на рунный меч, висевший у Эльрика на поясе. — А вообще-то я не советую тебе быть особо доверчивым. Эльрик расхохотался. — Не бойся за меня, Красный Лучник! Теперь я сам себе хозяин, и рунный меч послушен моей воле! Через год я стану совсем другим человеком! — Он хлопнул Ракира по спине, положил руку на рукоять «Повелителя Бурь», который, казалось, слегка зашевелился в ножнах. Продолжая смеяться, Эльрик тряхнул головой, и его молочно-белые волосы заструились по ветру, а красные глаза весело сверкнули.ПОХИТИТЕЛЬ ДУШ
КНИГА ПЕРВАЯ ИМРИРР ПРЕКРАСНЫЙ
Десять тысяч лет процветала Великая Империя Мельнибонэ, управляя миром. Десять тысяч лет до того, как началась история человечества, или десять тысяч лет после того, как она закончилась — это вопрос спорный, но Великая Империя существовала. И лучше надеяться на светлое будущее, думая о страшном прошлом, чем с тоской вспоминать прошлое в ожидании ужасного будущего. Но не дай вам бог увидеть проблески истины, потому что тогда настоящее станет для вас мучительной агонией. Уничтоженный бесформенным чудовищем, имя которому время, Мельнибонэ пал, и на смену ему пришли новые королевства: Ильмиора, Шигот, Майдак, Саалим. Затем началась история человечества, появились Индия, Китай, Египет, Ассирия, Персия и Рим. Ни одно из этих государств не просуществовало десяти тысяч лет. И ни в одном из них не знали древних мистических тайн, известных в Мельнибонэ. Никто не подозревал о существовании страшных оккультных сил, которыми можно было управлять. Десять тысяч лет процветала Империя Мельнибонэ, а затем время ее прошло, и она пала, а сыновья ее разбрелись по свету и стали скитальцами, которых ненавидели и боялись. Медленно вырождаясь, они постепенно теряли знания, доставшиеся им от великих предков. Последним императором Мельнибонэ был насмешливый и циничный Эльрик, и на устах его почти всегда змеилась улыбка, отражавшая горечь, накопившуюся у него в душе. Гордый властитель ненавидимого всеми народа, он предпочитал в одиночку бороться с миром, повинуясь лишь своим желаниям и полагаясь только на свой меч, имя которому было — «Повелитель Бурь». …Эльрик, когда-то царствовавший в Мельнибонэ, последний маг, почитающий великих богов, беспечный удалец и убийца, раздираемый противоречиями и обладающий знаниями, которые не под силу было вместить в себя ни одному смертному, мот и сатир, ведущий разгульный образ жизни…Глава первая
— Который час? — Чернобородый откинул шлем в сторону, снял кожаные перчатки, протянул руки к огню, пытаясь согреться. — Полночь давно прошла, — проворчал один из воинов, только что вошедший в зал. — Ты уверен, что он придет? — Утешайся тем, что все считают его человеком слова, — сказал, будто сплюнул, высокий юноша с бледным лицом. Сжав тонкие губы, он усмехнулся, по-волчьи обнажив зубы. — Твоя ирония неуместна, Ярис. — Воин пожал плечами, отвернулся и, словно пытаясь убедить в этом самого себя, произнес: — Он должен прийти. В огромном зале собрались шесть человек. Последним подошел граф Смиорган Лысый из Пурпурных Городов. Он был невысок ростом, коренаст, на вид лет пятидесяти; его пухлые пальцы то сжимались, то разжимались на усыпанной драгоценными камнями рукояти меча, глаза бегали из стороны в сторону, лицо было испещрено шрамами, которые частично скрывала густая иссиня-черная борода. — Эльрик высокомерен и меньше всего думает о наших интересах, — сказал Смиорган, плотнее запахиваясь в пурпурный плащ, одетый поверх позолоченных доспехов. — Тем не менее, я считаю, он — наш человек. — Ты сегодня слишком доверчив, граф. — Ярис вновь усмехнулся. — Непозволительная роскошь в наше смутное время. Лично я… — Он умолк, глубоко вздохнул, посмотрел на своих товарищей. Взгляд его на секунду задержался на худощавом Дармите из Джаркора, затем на Фадане из Лормира, который поджал толстые губы, отвел глаза и уставился в огонь. — Продолжай, Ярис! — раздраженно воскликнул Нелькон, вильмириец с благородными чертами лица. — Если хочешь сказать что-нибудь дельное, мы с удовольствием тебя выслушаем. Щеголь Джику зевнул во весь рот и почесал свой длинный нос. — Говори, Ярис! — нетерпеливо сказал Смиорган. — Мы ждем твоих предложений. — Я предлагаю отплыть немедленно, а не ждать, пока Эльрик соблаговолит осчастливить нас своим присутствием. Наверняка он сейчас гуляет в какой-нибудь таверне милях в ста отсюда или, что еще хуже, договаривается с Повелителями Драконов о том, чтобы стереть нас в порошок. Время не ждет: наш флот слишком велик, до мельнибонийцев в любую минуту могут дойти слухи, что мы собрались выступить против них. В случае успеха нас ждут фантастические сокровища самого богатого города мира, в случае неудачи — страшная смерть от рук Повелителей Драконов. Чем дольше мы бездействуем, тем больше у них шансов подготовиться к нападению. — Ты никогда и никому не верил, Ярис. — Король Вильмирии Нелькон говорил медленно, с неприязнью глядя на перекошенное злобой лицо молодого человека. — Как можем мы попасть в Имрирр, не зная расположения каналов лабиринта, ведущих в город? Если мы отплывем без Эльрика, задуманное нами предприятие обречено на провал. Эльрик нам необходим; мы должны либо дождаться его, либо разойтись по домам. — А я готов рискнуть! — вскричал Ярис, гневно сверкая раскосыми глазами. — Вы осторожничаете, словно немощные старики, а чтобы добыть богатство, надо не рассуждать, а действовать! — Глупец! — голос Дармита эхом прокатился по залу. Он невесело рассмеялся. — В юности я думал так же, как ты, и в результате потерял весь свой прекрасный флот. Только знания Эльрика помогут нам захватить Имрирр. После того как мельнибонийский флаг перестал развеваться над королевскими дворцами всех государств Земли, наша объединенная эскадра стала самой могущественной из всех, когда-либо бороздивших Вздыхающее Море. Каждого из нас знают по имени, каждого из нас боятся. Наши корабли собирают дань со многих прибрежных стран. Мы — сила! — Он сжал руку в кулак и потряс им перед лицом Яриса, оскалив в улыбке желтые зубы. Несколько успокоившись, Дармит продолжал говорить, чеканя каждую фразу. — Но наша сила — ничто, пустой звук по сравнению с той силой, которой обладает Эльрик и которая называется знанием. Он — колдун, будь проклято это слово! Его предки построили лабиринт, надежно защищающий Имрирр от нападения с моря. Город Мечты может спать спокойно, если Эльрик не проведет нашу эскадру каналами, тайна которых известна только мельнибонийским принцам. Без Эльрика мы погибнем, и он знает об этом не хуже нас. — Приятно слышать столь лестное о себе мнение, — насмешливо произнес с порога веселый громкий голос. Корсары вздрогнули, разом повернулись к двери. От самоуверенности Яриса не осталось и следа, когда он встретился взглядом с Эльриком из Мельнибонэ. Древние, как мир, глаза на молодом красивом лице, казалось, смотрели в вечность. Ярис задрожал с головы до ног, отвернулся, уставился на огонь. Эльрик дружелюбно улыбнулся графу Смиоргану, с которым у него установились довольно теплые отношения, пожал ему руку, коротко кивнул пятерым корсарам и, ловко управляя своим гибким телом, подошел к камину. Ярис торопливо уступил ему место. Эльрик был высок, строен, широкоплеч; его длинные волосы были заколоты сзади. По непонятной причине он облачился в одежды южных варваров: сапоги до колен из мягкой оленьей кожи, нагрудник кирасы из кованого серебра, голубая с белым короткая кожаная куртка, ярко-красные шерстяные бриджи и зеленый бархатный плащ. Сбоку на его поясе висел черный железный меч, испещренный рунами: вселяющий ужас «Повелитель Бурь» — древнее мистическое оружие, появившееся на Земле в те далекие времена, когда Мельнибонэ начал управлять миром. Одежда Эльрика была кричащей, безвкусной и совсем не вязалась с его обликом; тем не менее он носил ее, желая лишний раз подчеркнуть, что не принадлежит к обществу, в котором ему приходится жить. Впрочем, это становилось ясно при одном взгляде на его лицо. Эльрик, последний Император Мельнибонэ, был альбиносом и черпал свои силы из таинственного и страшного источника. Смиорган вздохнул. — Когда мы отплываем в Имрирр, Эльрик? — спросил он. Альбинос пожал плечами. — Когда надумаете. Мне это безразлично. Но перед рейдом я должен буду уладить кое-какие свои дела. — Завтра? Мы сможем отплыть завтра? — робко спросил Ярис, почти физически ощущая необычайную силу человека, которого он совсем недавно обвинил в предательстве. Эльрик снисходительно улыбнулся, сказал, не глядя на Яриса: — Через три дня. А может, и позже. — Три дня! — воскликнул толстяк Фадан, самый осторожный из корсаров. — К этому времени мельнибонийцы обязательно узнают, что мы собираемся на них напасть! — Я позабочусь о том, чтобы ваш флот не был обнаружен. Мне необходимо побывать в Имрирре до рейда. — Самый быстрый корабль не доплывет до Имрирра за трое суток! — вскричал Смиорган. — Я буду в Городе Мечты не позднее завтрашнего дня, — спокойно и уверенно сказал Эльрик. Смиорган пожал плечами. — Я, конечно, тебе верю… но зачем? — Хочу примириться со своей совестью, граф Смиорган. Не бойся, я не предам вас. Обещаю, что лично поведу корабли в бой. — Отсветы огня играли на белом, как мел, лице Эльрика, дыхание его участилось, красные глаза загадочно сверкали, изящная рука крепко сжимала рукоять меча, испещренного рунами. — По существу, Имрирр пал пятьсот лет назад, а сейчас он будет уничтожен на вечные времена. Я должен отомстить, и поэтому я согласился вам помочь. Как вы знаете, я поставил лишь два условия: во-первых, вы сотрете город с лица земли, а во-вторых — не причините вреда двум людям Я говорю о моем брате Йиркане и его сестре Каймориль… Ярис облизнул пересохшие губы. Когда отец его скоропостижно скончался, Ярис начал управлять огромным государством, обладающим могущественным флотом. Наглое поведение молодого человека объяснялось тем, что он старался скрыть свою неуверенность под маской показной удали. — А где мы спрячем флот, милорд Эльрик? — спросил он. На этот раз мельнибониец удостоил его ответом. — Этим я займусь прямо сейчас. Граф Смиорган, ты проследишь, чтобы экипажи всех кораблей сошли на берег? — Хорошо, — коротко ответил корсар. Смиорган и Эльрик вышли из зала, а пять человек у камина, охваченные леденящим душу ужасом, смотрели им вслед. — Как может он спрятать наш флот, если мы, лучше всех знающие эти фьорды, не смогли найти в них ни одного потайного места? — растерянно пробормотал Дармит из Джаркора. Ему никто не ответил. Корсары сидели молча, почти не двигаясь. Огонь в камине, не получая новой пищи, постепенно угасал. Прошло больше часа, прежде чем половицы заскрипели под ногами графа Смиоргана. В глазах его застыл страх, он дрожал мелкой дрожью, дыхание со свистом вырывалось у него из груди. — Ну? — нетерпеливо выкрикнул Дармит, делая вид, что не замечает плачевного состояния своего товарища. — Спрятал Эльрик флот или нет? Что он сделал? — Он его спрятал. — Смиорган говорил с трудом, словно человек, только что оправившийся от тяжелой болезни. Ярис подошел к двери, пристально посмотрел на воды фьорда, увидел лишь множество костров на берегу. — Слишком густой туман, — прошептал он. — Непонятно, стоят наши корабли на причале или их отвели в другое место. — Ярис прищурился… вздрогнул от неожиданности, увидев в тумане в двух шагах от себя бледное лицо Эльрика. — З-здравствуйте, милорд Эльрик. — Ярис попятился. Эльрик, покачиваясь от усталости, отирая пот рукавом плаща, вошел в зал. — Вина! — пробормотал он. — Я сделал то, что обещал, и мне это дорого обошлось. Трясущимися руками Дармит налил крепкое касандрианское вино из кувшина в резной деревянный кубок, молча протянул его Эльрику, который также молча осушил кубок до дна. — А теперь мне необходимо выспаться. — Альбинос уселся в кресло, вытянул ноги, закутался в свой зеленый плащ, закрыл красные глаза. Тело его расслабилось. Фадан на цыпочках подошел к двери, запер ее на засов. Сон шестерых корсаров в ту ночь был тревожен, а наутро они обнаружили, что Эльрик их покинул. На берег им пройти не удалось, потому что в густом тумане не было видно ни зги.Стоя на узкой полоске берега, Эльрик смотрел на воды фьорда. Он с удовлетворением отметил, что туман в бухте продолжал сгущаться, полностью скрыв могучую эскадру от посторонних глаз. Повсюду стояла ясная погода: неяркое зимнее солнце освещало черные изрезанные скалы и море, вздымавшееся и опускавшееся, словно грудь какого-нибудь чудовища. Эльрик провел пальцами по рунам на рукояти меча, подставил лицо северному ветру. Альбинос чувствовал себя значительно лучше, чем вчера вечером, когда он истратил почти все свои силы на создание тумана. Эльрик в совершенстве владел искусством вызывания духов воды, огня, земли и воздуха, но у него не было тех запасов энергии, которыми обладали Колдуны-Императоры Мельнибонэ, когда-то управлявшие всем миром. Предки Эльрика передали ему знания, но не смогли передать свою мистическую жизненную силу, и поэтому он не пользовался многими заклинаниями, которые способны были пощадить и его тело, и его душу. И тем не менее только одного человека на всем свете Эльрик считал достойным противником. Рука альбиноса крепче сжала рукоять меча, когда он вспомнил брата своего, Йиркана. Нахмурившись, Эльрик заставил себя сконцентрироваться на заклинаниях, которые необходимо было произнести, чтобы в кратчайший срок попасть на остров Повелителей Драконов. Рядом с Эльриком стоял маленький бот, наполовину вытащенный на берег, — судно, куда более прочное и древнее, чем это могло показаться с первого взгляда. Волнующееся море омывало его шпангоуты и откатывалось назад. Начинался отлив, и Эльрик понял, что ему нельзя больше терять время. Мышцы его напряглись, он выкинул все мысли из головы, сосредоточился. Чуть покачиваясь, уставившись в пустоту невидящими глазами, чертя в воздухе кабалистические знаки, он начал произносить слова свистящим монотонным шепотом. Постепенно голос его усилился, стал напоминать сначала далекий пронзительный крик чайки, потом — тоскливый волчий вой. Воздух вокруг Эльрика задрожал, заколебался, в нем возникли туманные, меняющиеся образы. На негнущихся ногах альбинос пошел к боту. Голос его давно перестал походить на человеческий; протяжным воем вызывал он духов воздуха, — сильфид, повелевающих бризом, шарнаг, управляющих ураганами, г’гааршанов, создающих смерчи, — и они кружили вокруг него, выполняя тот страшный договор, который заключили с предками Эльрика много веков назад. Двигаясь как во сне, Эльрик поднялся на борт бота, поставил парус. Спокойные воды у берега вздыбились, огромная волна, вырастая на глазах, поднялась в небо, застыла над маленьким суденышком, подхватила его и швырнула далеко в море. Сидя на корме, Эльрик тихонько напевал себе под нос, а духи воздуха, весело и пронзительно крича, надули парус и понесли бот по волнам со скоростью, недоступной самому быстроходному кораблю.
Глава вторая
Вот так и получилось, что буквально через несколько часов после отплытия из фьорда Эльрик, последний Император Мельнибонэ, вернулся в последний на земле мельнибонийский город. Когда на горизонте показалась береговая линия Острова Драконов, духи воздуха покинули бот, а Эльрик очнулся от летаргического сна. В который раз с восхищением смотрел он на видимые издалека розовые высокие башни, словно плывущие в белых облаках, на огромную каменную стену, стоящую прямо в море. За этой стеной находился лабиринт каналов, также огороженных каменными стенами, и только по одному из них можно было попасть в гавань Имрирра. Эльрик решил высадиться на побережье. Он уверенно направил бот к небольшой бухте, известной только ему одному, входв которую закрывали разросшиеся кусты с крупными голубыми ягодами, содержащими страшный яд, вызывающий у человека сначала слепоту, а затем безумие. Назывались эти ягоды «надуаль» и росли они только на Имрирре наряду с другими редкими и ядовитыми растениями. Клочковатые облака лениво ползли по небу, напоминая тонкую паутинку. Весь мир, казалось, был нарисован белыми, голубыми, золотыми и зелеными красками. Эльрик, втащив бот на берег, вдохнул полной грудью свежий чистый зимний воздух, ощутил запах прелых листьев. Неподалеку затявкала лисица, призывая самца. Последний Император Мельнибонэ с горечью подумал о том, что его подданные разучились ценить истинную красоту, которую дарит людям природа, и предпочитают сидеть по домам в наркотическом полусне. В Городе Мечты мельнибонийцы только и делали, что мечтали, и Эльрик, дыша полной грудью, радовался, что отказался от власти, доставшейся ему по наследству. Вместо него на Рубиновом Троне Имрирра Прекрасного восседал его брат Йиркан, ненавидящий альбиноса до глубины души, потому что Эльрик, несмотря на свое нежелание управлять государством, был законным властелином Острова Драконов, а он, Йиркан — узурпатором, не имеющим, согласно мельнибонийским традициям, никаких прав на престол. Эльрик тоже ненавидел Йиркана, и у него были на это свои причины, настолько веские, что он мечтал уничтожить Имрирр, последний город некогда могущественной Империи, разрушить до основания его белые, желтые и розовые башни. Вздохнув, Эльрик отправился в путь. Земля пружинила под его ногами, бледно-желтое солнце садилось в искрящееся море, уступая место холодной безлунной ночи, полной таинственных недомолвок. Спустя несколько часов он подошел к городу, зловещему и фантастически-прекрасному в одно и то же время. Имрирр — древняя столица мира — был скорее произведением искусства, чем местом, предназначенным для обитания. Наряду с многочисленными трущобами, расположенными на узких кривых улочках, многие башни пустовали, потому что Повелители Драконов, к числу которых принадлежал Эльрик, не желали пускать туда ублюдков из простонародья. В Имрирре почти не осталось чистокровных мельнибонийцев. Выстроен был город так, что фундаменты всех его зданий точно следовали изгибам земли, а многочисленные лужайки, словно ступеньки, поднимались к вершине холма, на котором гордо возвышался удивительный замок с многочисленными башенками и шпилями — архитектурный шедевр старого мастера, имя которого давно было забыто. Безжизненным и опустошенный казался Имрирр Прекрасный. Город спал. Повелители Драконов, их жены, наложницы и рабы, видели страшные и захватывающие сны, навеянные наркотиками, в то время как остальные жители, разошедшиеся после вечернего звона колоколов по своим хибаркам, ворочались на грязных матрасах, мечтая просто уснуть, чтобы во сне забыть о своем жалком существовании. Положив руку на рукоять меча, Эльрик миновал никем не охраняемые ворота в крепостной стене, пошел по неосвещенным улицам к дворцу Йиркана. Альбиносу часто приходилось прятаться в тенях пустых башен, когда он слышал шаги стражников, строго следящих за тем, чтобы после звона колоколов на улицах не было людей. Тихонько вздыхал ветер. Иногда из некоторых заселенных башен доносился дикий смех или леденящий душу крик какого-нибудь раба, которого убили, вдоволь им насладившись, чтобы смертью своей он доставил еще большее удовольствие мельнибонийскому вельможе. Эльрик не обращал внимания на эти крики, не возмущался тем, что видел, проходя мимо ярко освещенных окон. Он ценил удовольствия и иногда зловеще улыбался, слыша вопль очередной жертвы. Альбинос был мельнибонийцем и считал, что это дает ему право наслаждаться тем, что приводит в ужас обычного смертного. Да, Эльрик был мельнибонийцем, и хотя он, подчиняясь своим смутным желаниям, избрал жизнь скитальца в том мире, где люди развлекались грубо и неумело, десять тысяч лет развития цивилизации, жестокой, мудрой и порочной, наложили на него определенный отпечаток. В поисках совершенства альбинос-колдун часто проливал кровь. Он нетерпеливо постучал в тяжелую дверь черного дерева, расположенную напротив главного входа во дворец, осторожно осмотрелся по сторонам. Эльрик знал, что Йиркан приказал убить его, как только он появится в Имрирре. Послышался звук отодвигающегося засова, дверь чуть приоткрылась, в образовавшейся щели показалось худое морщинистое лицо. — Это ты, мой Император? — шепотом спросил высокий и на удивление тощий человек. Близоруко прищурившись, он уставился в темноту, пытаясь разглядеть неожиданного посетителя. — Я — принц Эльрик, — сказал альбинос. — Ты забыл, мой друг Худоба, что на Рубиновом Троне сидит новый Император. Слуга покачал головой; прядь жидких волос упала ему на лоб. Судорожным движением костлявой руки он откинул ее назад, отступил в сторону, освобождая проход. — На Острове Драконов один Император, — сказал он. Эльрик слабо улыбнулся, вошел в замок, подождал, пока Худоба закроет за ним дверь. — Она все еще спит, сир, — пробормотал преданный слуга, поднимаясь вслед за альбиносом по витой лестнице. — Я знаю. — Эльрик пожал плечами. — Мой брат — колдун, глупо было бы недооценивать его силы. Они молча продолжали подниматься, пока не очутились на верхней площадке лестницы, от которой начинался коридор, освещенный танцующим светом факелов. Причудливые тени плясали на белых мраморных стенах. Притаившись за колонной, Эльрик и Худоба смотрели на дверь в комнату, которую охранял высокий, толстый и абсолютно лысый стражник. На нем были сверкающие иссиня-черные доспехи, в руках он держал короткий лук со стрелой наготове. Эльрик понял, что перед ним стоит один из евнухов-лучников, принадлежащий к Молчаливой Страже — лучшим воинам Имрирра. Худоба, знавший о том, что комната охраняется, приготовился к этому заранее. Не говоря ни слова, он достал из-за колонны лук и колчан со стрелами, встал на одно колено, натянул тетиву. Прицелившись в левый глаз евнуха, он выстрелил, но в этот момент стражник повернулся к нему лицом. Стрела пролетела мимо, ударилась о стену, упала на каменный пол. Не задумываясь, Эльрик бросился вперед, выхватил меч из ножен, почувствовал, что в жилы вливается неземная сила. Черное лезвие застонало, как спичку перерубив костяной лук, который евнух выставил перед собой, надеясь отразить удар. Стражник тяжело дышал, его толстые мокрые губы дрожали; он раскрыл рот, собираясь закричать, но из его горла не вырвалось ни одного звука: по традиции, мельнибонийским евнухам всегда отрезали языки. Быстро выхватив короткий меч, стражник попытался парировать второй удар альбиноса Лезвие «Повелителя Бурь», волшебного оружия, наделенного, казалось, своей жизнью, вошло в твердую сталь, как нож входит в масло. Посыпались искры. Звон металла о металл эхом пронесся по коридору, и Эльрик проклял судьбу, которая спасла евнуха от быстрой смерти. Прикусив губу, альбинос бросился в атаку. Черный свет струился по огромному мечу, казавшемуся игрушкой в руках Эльрика. Стражник смутно видел лицо своего противника; лишь на мгновенье ему показалось, что он узнал знакомые черты, а затем голова его раскололась от нестерпимой боли. Он понял, что сейчас умрет, и смирился с этим, потому что все евнухи по природе своей фаталисты. Поставив ногу на жирный живот трупа, Эльрик вытащил меч из черепа, вытер окровавленное, испачканное мозгами лезвие о плащ своей жертвы. С лестницы доносился топот бегущих солдат. Предусмотрительный Худоба скрылся. Эльрик открыл дверь и вошел в комнату, освещенную двумя свечами, стоявшими у изголовья большой кровати, устланной шелками, на которой лежала девушка с волосами цвета воронова крыла. Губы альбиноса задрожали, из его странных красных глаз потекли слезы. Дрожащими руками он вложил меч в ножны, запер дверь, подошел к кровати, встал перед спящей девушкой на колени. Ее лицо, с чертами такими же тонкими, как у Эльрика, поражало необыкновенной, изысканной красотой. Девушка тяжело дышала во сне, вызванном не усталостью, а заклинаниями ее родного брата Йиркана. Эльрик осторожно взял ее руку, поднес к губам, поцеловал. — Каймориль! — прошептал он, вкладывая в это слово всю свою душу. — Проснись, Каймориль! Девушка даже не пошевелилась; дыхание ее оставалось таким же тяжелым. Красные глаза Эльрика зажглись ненавистью, лицо перекосилось от обуревавших его чувств. Он сжал безжизненную нежную руку, с трудом заставил себя расслабиться, понимая, что может сломать девушке пальцы. Солдат колотил в дверь кулаками, громко крича. Эльрик положил руку Каймориль на ее упругую девичью грудь, встал с колен, непонимающим взглядом уставился на дверь. — Что здесь происходит? — послышался холодный, надменный голос. — Неужели кто-то осмелился потревожить сон моей бедной сестры? — Йиркан, сатанинское отродье, — пробормотал Эльрик себе под нос. Солдат начал давать какие-то путаные объяснения; Йиркан, не дослушав, громко крикнул: — Кто бы ты ни был, ты умрешь тысячью смертей, когда тебя поймают. Убежать ты не можешь. Если же хоть один волосок упал с головы моей сестры, если ты причинил ей малейший вред, я обещаю, что ты никогда не умрешь, но денно и нощно будешь молить своих богов о смерти! — Йиркан, презренный болтун, как можешь ты грозить тому, кто не хуже тебя разбирается в черной магии? Это говорю я, Эльрик, твой законный повелитель и господин! Убирайся в крысиную дыру, из которой пришел, прежде чем я призову темные силы, которые сотрут тебя в порошок! Йиркан неуверенно рассмеялся. — Значит, ты вернулся, чтобы вновь попытаться разбудить мою сестру, Эльрик? У тебя ничего не выйдет, потому что я один могу снять с нее заклятье. Если ты хоть что-нибудь предпримешь сам, она умрет, и душа ее будет обречена на вечные муки, после чего ты сможешь с нею соединиться! — Ты — грязный ублюдок, Йиркан! И тебе придется горько пожалеть о своем заклятье, прежде чем твои дни будут сочтены. А если тебе кажется, что сонное зелье заставит нас с Каймориль разлюбить друг друга, ты еще больший дурак, чем я думал! Клянусь шестью грудями Арнары, это ты умрешь тысячью смертей и будешь молить богов о пощаде! — Хватит! — воскликнул Йиркан. — Солдаты! Я приказываю вам сломать дверь и взять этого мерзавца живым! Эльрик, выслушай теперь в чем я тебе клянусь: никогда в жизни ты не займешь Рубиновый Трон и не соединишься с Каймориль. Воспользуйся оставшимися у тебя минутами свободы, как хочешь, потому что скоро ты будешь ползать передо мной на коленях, испытывая такие душевные муки, каких не знал еще ни один смертный! Не обращая внимания на угрозы Йиркана, Эльрик посмотрел на единственное окно в комнате. Оно было достаточно большим, чтобы человек мог в него протиснуться. Наклонившись, альбинос поцеловал Каймориль в губы, подошел к двери, снял засов. Солдат, изо всех сил ударивший в дверь плечом, влетел в комнату, растянулся на полу. Выхватывая меч из ножен, Эльрик поднял его высоко над головой, резко опустил. Голова солдата скатилась с плеч; альбинос закричал протяжным низким голосом; — Ариох! Ариох! Я дарю тебе кровь и души! Помоги мне! Я дарю тебе этого человека, могущественный Повелитель Хаоса! Не оставь своего слугу, Эльрика из Мельнибонэ! В комнату ворвались три воина. Черное лезвие мелькнуло, снесло одному из них половину лица. — Ариох! Властелин Тьмы! Я дарю тебе кровь и души! Помоги мне, нечистый! В дальнем углу комнаты заклубился черный туман. Все новые и новые солдаты входили в дверь, нападая на Эльрика, громко выкрикивающего имя Ариоха, а Йиркан в коридоре сыпал проклятьями, приказывая как можно скорее захватить альбиноса в плен. Рунный меч, окруженный странным черным сиянием, пел свою песню, и те, кто слышал ее, невольно дрожали от ужаса. Еще двое солдат упали бездыханными, заливая кровью богатые ковры на полу. — Кровь и души для Повелителя моего Ариоха! Черный туман сгустился, приобрел форму. Эльрик бросил быстрый взгляд в угол комнаты и вздрогнул, несмотря на то, что не в первый раз имел дело со страшными силами тьмы. Солдаты стояли спиной к аморфной массе, которая вздыбилась и поползла вперед. К горлу Эльрика подступила тошнота, он перешел в наступление, тесня солдат к черному существу. Внезапно они почувствовали, что позади них происходит что-то неладное. Четверо воинов обернулись, истошно закричали, а черная масса дернулась, накрыв их с головой. Ариох изогнулся, высасывая души своих жертв. Захрустели кости; безумно и бессвязно крича, солдаты, все еще живые, упали на пол с переломанными позвоночниками. Впервые в жизни Эльрик поблагодарил судьбу за то, что Каймориль спит. Он подбежал к окну, посмотрел вниз, увидел, что до земли было несколько сот футов. Эльрик кинулся к двери. Йиркан с расширенными от ужаса глазами пел заклинания, стараясь отправить Ариоха туда, откуда он пришел. Это была трудная, но выполнимая задача. Эльрик прошел мимо своего брата, бросил прощальный взгляд на Каймориль, побежал по коридору, скользкому от пролитой крови. На лестничной площадке его ждал Худоба. — Что случилось, сир? — взволнованно спросил он. Эльрик схватил слугу за костлявое плечо, начал спускаться по лестнице. — Потом узнаешь. Нам надо спешить, пока Йиркан занят одним неотложным делом. Слушай меня внимательно и запоминай: через пять дней в истории Имрирра наступит новый этап. Надеюсь, он будет последним. Что бы ни случилось, ты должен в первую очередь позаботиться о безопасности Каймориль. Тебе понятно? — Да, милорд, но… Они подошли к двери, Худоба быстро снял тяжелый засов. — Больше я ничего не могу тебе сказать, у меня нет на это времени. Я вернусь через пять дней. Отнеси Каймориль в башню Д’Арпутна и жди меня там. Эльрик распахнул дверь настежь и скрылся в темноте, а вслед ему неслись полные отчаяния крики жертв Ариоха.Глава третья
Эльрик молча стоял на носу флагманского судна графа Смиоргана. С тех пор, как он вернулся во фьорд, и эскадра вышла в открытое море, альбинос разговаривал только в тех случаях, когда необходимо было отдать какие-нибудь распоряжения. Посовещавшись между собой, корсары пришли к выводу, что ненависть гложет душу Эльрика, а это делало его опасным и для врагов, и для друзей. Даже граф Смиорган старался как можно реже подходить к угрюмому мельнибонийцу. Легкие суденышки, танцуя на волнах, шли на восток, и со стороны могло показаться, что на воде распростерлась тень гигантской птицы, парящей в небе. В поход отправилось более пятисот кораблей, практически не отличимых друг от друга: изящных, маневренных, скоростных, мало приспособленных для морских сражений, — ведь они, в основном, были предназначены для торговли и быстрых набегов на прибрежные страны. Яркие паруса — оранжевые, голубые, черные, пурпурные, красные, желтые, зеленые и белые — сверкали на солнце. И на каждом корабле за веслами сидели от шестнадцати до двадцати гребцов, которые одновременно были воинами: корсары не имели возможности набирать отдельное войско, так как ежегодно теряли в рейдах сотни людей. В центре огромной эскадры шли большие шлюпы с катапультами на палубах; прежде чем попасть в Имрирр, необходимо было пробить брешь в воротах каменной стены, надежно защищающей город со стороны моря. Граф Смиорган и его друзья ели, пили, веселились и с гордостью говорили о своей эскадре, а Эльрик смотрел вдаль невидящим взором, проводя дни без сна и пищи, не обращая внимания на ветер и брызги и сжимая рукоять своего меча до боли в пальцах. Корабли шли на восток, приближаясь к Острову Повелителей Драконов, где корсаров ожидали либо сказочные богатства, либо ужасная смерть. Час за часом плыли они навстречу своей судьбе, и весла резали воду, а паруса надувал попутный ветер. Они плыли в самый древний город мира, чтобы жечь, убивать, насиловать, грабить. Через три дня после выхода из фьорда на горизонте показалось побережье острова, и скрип уключин сменило бряцанье оружия. Корсары готовились к битве, выиграть которую не посчитал бы возможным ни один нормальный человек. Приказы передавались от корабля к кораблю, эскадра расположилась в боевом порядке. Стоял ясный день, дул холодный свежий ветер. Нервное возбуждение охватило всех корсаров, начиная от капитанов и кончая простыми матросами: каждый из них гадал, что готовит ему будущее. Перед ними простиралась огромная каменная стена, преграждавшая доступ в гавань и возвышавшаяся над морем на сто футов. Наверху стены стояли башни, куда более прочные, чем в Городе Мечты. Только имриррским галерам разрешалось проходить в морские ворота, а путь через лабиринт не был известен ни одному чужеземцу. На стене изумленные стражники спешили занять свои места. Они представить себе не могли, что кто-то осмелился на них напасть, и тем не менее огромный флот, равного которому они никогда не видели, выступил против Имрирра Прекрасного. Желтые плащи шуршали, бронзовые доспехи звенели, но двигались стражники, как во сне, словно не верили собственным глазам, а на лицах у них была написана покорность судьбе, — ведь им суждено было погибнуть даже в том случае, если эскадра будет уничтожена. Дайвим Таркин, командор, был истинным мельнибонийцем, обожавшим жизнь и ее прелести. Красавчик с высоким лбом, крохотными усиками и аккуратно подстриженной бородкой, Таркин выглядел крайне импозантно в бронзовых доспехах и высоком шлеме с плюмажем. Он не хотел умирать. Его первые распоряжения воины выполнили быстро и четко. Напряженно вслушиваясь в крики, доносившиеся с кораблей, Таркин пытался себе представить, что собираются предпринять корсары в первую очередь. Ответ не заставил себя долго ждать. Катапульта на шлюпе хрипло кашлянула, огромный камень величаво поплыл по воздуху и, не долетев до стены, упал в воду с громким плеском. Сглотнув слюну и стараясь говорить твердым голосом, Дайвим Таркин тоже приказал выстрелить из катапульты. Воины мгновенно перерезали туго натянутую веревку, и круглое железное ядро понеслось к вражескому флоту, стоявшему таким тесным строем, что промахнуться было невозможно. Ядро ударило в судно Дармита из Джаркора, пробило в нем огромную дыру. Буквально в течение нескольких секунд, под крики и стоны утопающих, корабль пошел ко дну вместе с Дармитом. Нескольких матросов взяли на борт другие корабли; раненых оставили в воде. И вновь хрипло кашлянула катапульта на шлюпе, но на этот раз снаряд попал в цель, разрушив башню, в которой находился отряд лучников. Каменные осколки полетели во все стороны, и те, кто остался в живых после выстрела, упали в пенящееся море и разбились о стену. Разгневанные смертью своих товарищей, имриррские лучники послали тучу стрел в самую гущу неприятеля. Корсары взвыли от ярости, но быстро оправились и также повели прицельную стрельбу из луков. Камни из катапульт разрушали башню за башней, пробили брешь в стене, которую к тому времени уже некому было защищать. Дайвим Таркин все еще оставался в живых, но древко стрелы торчало из его левого плеча, а желтый плащ был залит кровью. Он все еще оставался в живых, когда шлюп ударил тараном в большие деревянные ворота. Второй шлюп пришел на помощь, они ударили одновременно… Суда корсаров вошли в лабиринт — первые чужеземные корабли, которым это удалось. Испытывая священный ужас при мысли о том, что древние мельнибонийские традиции были грубо нарушены, Дайвим Таркин поскользнулся, дико вскрикнул и упал, сломав шею о палубу корабля графа Смиоргана, который выдвинулся вперед, так как только Эльрик мог указать корсарам путь в лабиринте. Впереди высились каменные стены с потолками, огораживающие каналы; черные входы зияли, как отверстые пасти. Эльрик молча указал рукой на третий канал слева, гребцы взялись за весла, и через несколько секунд корабль поглотила тьма. — Факелы! — вскричал Эльрик. — Зажгите факелы! Факелы, приготовленные заранее, запылали, и в их свете стали видны темные воды проложенного в естественной пещере канала, от которого в разные стороны шли ответвления. — Держитесь вплотную друг к другу, — сказал Эльрик, и эхо многократно повторило его слова, постепенно затихая под каменными сводами. Лицо Эльрика напоминало маску, его красные глаза лихорадочно блестели. Гигантские тени, пляшущие на каменных стенах, вызывали у матросов суеверный ужас. Многие из них бормотали про себя молитвы, дрожа от страха. Весла монотонно чавкали, погружаясь в воду, и вскоре корабли очутились перед очередными пятью входами в ответвления основного канала. — Средний, — коротко сказал Эльрик. Рулевой молча повиновался. В пещере стояла зловещая тишина, нарушаемая лишь ропотом матросов да всплесками весел. Эльрик бросил взгляд на холодную мрачную воду и задрожал с головы до ног. Наконец, впереди показался солнечный свет; корабли один за другим вышли из пещеры и очутились в узком морском каньоне, ведущем в гавань. С удивлением смотрели матросы на высокие стены, на которых внезапно появились лучники в желтых плащах и бронзовых доспехах. Стрелы понеслись вниз, впиваясь в тела, а кораблям негде было даже развернуться. — Гребите! — громко вскричал Эльрик. — Быстрее! Гребцы лихорадочно налегли на весла. Корсары несли большие потери, но по каньону, прямому, как струна, было легко развить большую скорость, а впереди уже показалась набережная Имрирра. И внезапно каньон закончился, и корабли вошли в спокойные воды гавани, где на причале выстроился большой отряд имриррских воинов. Флагманский корабль графа Смиоргана стукнулся о причал бортом, и Эльрик, выхватывая из ножен рунный меч, не медля бросился в атаку. Стрелы свистели рядом с ним, но каким-то чудом ни одна из них не попала в цель. Испуская боевые кличи, пираты хлынули на берег, столкнулись с имриррскими воинами, вооруженными боевыми топорами. Мельнибонийцы, пораженные тем, что на их землю вступили чужеземцы, почти не оказывали корсарам сопротивления. Эльрик рубил направо и налево, снося головы с плеч. Испив крови, «Повелитель Бурь» протяжно завыл, начал управлять рукой альбиноса, требуя новых жертв. На бесцветных губах Эльрика играла мрачная улыбка, его красные глаза недобро блестели. Он хотел как можно скорее покинуть поле боя и заняться своими делами. За спинами солдат в желтых плащах возвышались изумительные по своей красоте башни Имрирра — коралловые, розовые, бледно-голубые, светло-желтые, золотые, ярко-зеленые. В одну из них, башню Д’Арпутна, Эльрик приказал Худобе отнести Каймориль, прекрасно понимая, что в общей неразберихе старому слуге удастся справиться с этой задачей. Альбинос шел вперед, прорубая кровавую тропу в рядах защитников города, которые умирали в страшных муках, когда «Повелитель Бурь» высасывал их души. Наконец, Эльрик выбрался из гущи сражения, предоставив корсарам возможность самим расправиться с мельнибонийцами, и помчался по кривым извилистым улочкам, убивая каждого, кто становился на его пути. Похожий на призрака, с мертвенно-бледным лицом, в окровавленных одеждах и помятых от ударов доспехах, он быстро бежал, стуча сапогами по мощеным мостовым к небесно-голубой с золотым куполом башне Д’Арпутна. Дверь в башню была открыта, а значит, в ней кто-то был. Эльрик ворвался в зал, расположенный на первом этаже. Его никто не встретил. — Худоба! — крикнул он во все горло, и голое его прозвучал, как гром, прокатившийся под сводами башни. — Худоба, где ты? — Эльрик кинулся к лестнице, побежал по ней, перепрыгивая через ступеньки, непрестанно выкрикивая имя своего слуги. На третьем этаже альбинос остановился, услышав, как в одной из комнат кто-то застонал. — Худоба, это ты? — Эльрик кинулся в коридор, настежь распахнул дверь комнаты, из которой теперь доносилось тяжелое дыхание. На голом полу лежал старый слуга, тщетно пытавшийся остановить кровь, потоком льющуюся из раны в боку. — Что случилось, Худоба, где Каймориль? Морщинистое лицо исказилось болью. — Она… я… я… принес ее сюда, господин, как ты велел. Но… — Худоба закашлялся, и кровь хлынула горлом, заливая его подбородок. — …принц Йиркан… он… обманул меня… наверное, выследил… он… ударил меня мечом… и забрал Каймориль… сказал… она будет в безопасности… в башне Вельз’невулла… господин… мне жаль… — Ты еще не так пожалеешь! — яростно сверкая глазами, воскликнул Эльрик, но тон его тут же смягчился. — Не беспокойся, дружище… я отомщу и за тебя, и за себя. Теперь я знаю, где Каймориль, и мне не составит труда вызволить ее из беды. Спасибо тебе за все, Худоба, да обретешь ты покой и счастье, отправляясь в последний долгий путь. Эльрик резко повернулся, вышел из комнаты, быстро спустился по лестнице и выбежал на улицу. Башня Вельз’невулла была самой высокой башней императорского дворца. Именно в ней предки Эльрика занимались черной магией и проводили дни и ночи, ставя страшные опыты. Альбинос задрожал, подумав о том, что Йиркан может сделать со своей единственной сестрой. Как ни странно, улицы города были пустынными, но Эльрик не обратил на это никакого внимания. Ворота во дворец и главный вход тоже не охранялись: такого не случалось за всю историю существования Имрирра Прекрасного. Тем не менее Эльрику это было только на руку; теперь он без помех поднимался по знакомым лестницам, ведущим к самой высокой башне дворца. Ему пришлось остановиться перед сверкающей и переливающейся черной хрустальной дверью. Он нетерпеливо ударил по ней рукоятью волшебного меча, но хрусталь, казалось, лишь на мгновенье поменял форму, а затем засверкал с новой силой, Эльрик нахмурился, пытаясь вспомнить одно-единственное слово, которое необходимо было произнести, чтобы дверь открылась. Он боялся впадать в транс, что позволило бы ему сказать это слово не задумываясь, и тратил остатки сил, пытаясь вызвать его из подсознания. Нагрузки, которые Эльрик сейчас испытывал, грозили ему серьезными неприятностями, но у него не было иного выхода. Дрожа всем телом, с перекошенным от напряжения лицом он словно плюнул этим чужеродным словом и тут же вскричал: — Повелеваю тебе: откройся! Переливающийся свет застыл на мгновенье, начал пульсировать, потом потек, как вода в ручейке, уплывая в ничто, где не существовало ни пространства, ни времени. Эльрик облегченно вздохнул, вошел в башню Вельз’невулла. Призрачный холодный огонь, от которого путались мысли, вспыхнул на ступенях лестницы, по которой последний император Мельнибонэ медленно поднимался к куполу. Странная неземная музыка стенала и плакала, разливалась волнами, стучала в висках. На верхней площадке лестницы альбинос увидел злобно ухмыляющегося Йиркана с черным рунным мечом в руке, близнецом «Повелителя Бурь». — Сатанинское отродье! — хрипло выкрикнул Эльрик. — Я вижу, ты вновь обрел свой меч, «Властительницу Мрака». Что ж, пусть померяется силами со своим братом, если ты не боишься. Я пришел, чтобы убить тебя, Йиркан. Лезвие «Повелителя Бурь» протяжно застонало в такт звучащей неземной музыке, сопровождавшейся холодным огнем. Рунный меч задергался в руке Эльрика, и альбиносу с большим трудом удалось с ним справиться. Собравшись с силами, он в прыжке преодолел несколько ступенек, отделявших его от Йиркана, и нанес первый удар. Внезапно призрачный огонь со всех сторон окружили потоки лавы. Исчезла лестница, башня, дворец: два человека сошлись в последнем бою за пределами Вселенной. Два лезвия скрестились с визгом, ревом и грохотом. У Эльрика онемело плечо. Тело перестало ему повиноваться, рунный меч принимал за него все решения. «Повелитель Бурь» вывернул кисть альбиноса, скользнул вдоль лезвия своей сестры-близнеца, вонзился в левую руку Йиркана. Узурпатор закричал, в глазах его отразилась смертная мука. «Властительница Мрака» нанесла ответный удар, ранив Эльрика в то же место, куда был ранен Йиркан. Рыдания вырвались из груди альбиноса, но он стиснул зубы, призвал на помощь всю свою волю и вновь, управляя своим мечом, сделал выпад. Черное лезвие пропороло Йиркану правый бок. Такой удар убил бы любого другого человека. На секунду Йиркан замер, затем откинул голову и засмеялся демоническим смехом, завывая и всхлипывая. Не справившись с теми силами, которыми управлял, узурпатор сошел с ума. Но несмотря на это, он не перестал быть колдуном, и Эльрик чувствовал вокруг себя потоки чудовищных энергий, грозивших сломать его, как сухую тростинку. Кровь, хлеставшая из раны Йиркана, залила пол, потушила холодный огонь. Лава медленно отступала, показывая вход в купол. Позади Йиркана кто-то стоял, и Эльрик вскрикнул от изумления, узнав Каймориль, пробудившуюся от сна. Лицо ее было перекошено ужасом. «Повелитель Бурь», опять обретший самостоятельность, мелькнул, как молния, чуть не выбив «Властительницу Мрака» из руки Йиркана. — Эльрик? — отчаянно вскричала Каймориль. — Спаси меня! Если ты сейчас меня не спасешь, наши души будут обречены на вечные муки! Слова эти поразили Эльрика. Он не понял, что именно девушка имела в виду. Рунный меч вновь нанес удар, и Йиркан быстро отступил к двери, ведущей в купол. — Эльрик! Вложи меч в ножны! Если ты этого не сделаешь, мы расстанемся с тобой навсегда! Но если б даже альбинос мог сейчас управлять свистящим в воздухе черным лезвием, он никогда не вложил бы его в ножны. Ненависть переполняла все его существо, он мечтал только об одном: пронзить злобное сердце Йиркана. Каймориль плакала, в мольбе протягивала к Эльрику руки. Брызжа слюной, слабоумный идиот, который был когда-то Йирканом из Имрирра, повернулся к своей сестре, вожделенно уставился на нее. Издавая нечленораздельные звуки, он схватил ее за плечо. Девушка попыталась вырваться, но злая колдовская сила еще не оставила Йиркана. Воспользовавшись тем, что его противник на мгновенье отвернулся, Эльрик нанес удар, вспоровший ему живот. Как это ни невероятно, Йиркан остался стоять на ногах, черпая жизненную силу из рунного меча, который все еще отбивал атаки своего близнеца-брата. Узурпатор вытолкнул Каймориль вперед; жалобно вскрикнув, девушка упала на лезвие «Повелителя Бурь», пронзившее ее насквозь. И вновь Йиркан расхохотался, последний раз в жизни, а затем смех его перешел в предсмертный хрип, и он упал бездыханный на каменный пол. Холодный огонь и лава исчезли окончательно, башня приняла свой прежний вид. Эльрик посмотрел вокруг себя непонимающим взглядом, ему никак не удавалось собраться с мыслями. У его ног лежали трупы мужчины и женщины. Внезапно к нему пришло понимание того, что произошло, и он застонал — так стонет раненый зверь. Женщина, которую он любил больше жизни, умерла. Рунный меч выпал из его рук, покатился, звеня, вниз по лестнице. Рыдая, Эльрик упал на колени, схватил Каймориль в свои объятия. — Каймориль! — выкрикнул он, вкладывая в это слово всю свою душу. — Каймориль, я убил тебя!Глава четвертая
Глядя на пламя, пожирающее Имрирр, Эльрик приказал взмокшим от пота гребцам налечь на весла. Корабль с нераспущенными парусами швыряло, как щепку, и альбиносу пришлось уцепиться за поручни, чтобы его не выбросило за борт. Глядя на Имрирр, Эльрик впервые осознал, что окончательно лишился дома, и внезапно почувствовал, что не в силах проглотить комок, стоявший у него в горле. Ренегат, убийца, он потерял единственную женщину, которую любил, подчинившись обуревавшей его слепой жажде мести. Сейчас жизнь его закончилась. Все закончилось. У последнего императора Мельнибонэ не могло быть будущего, потому что его будущее было неразрывно связано с прошлым, а прошлого больше не существовало. То ли стон, то ли всхлип вырвался из груди альбиноса, и он еще сильнее сжал поручни, не чувствуя боли в пальцах. Мысли его все время возвращались к Каймориль. Он отнес ее в купол, бережно уложил на кровать, а затем поджег башню Вельз’невулла и вернулся к причалу сквозь пылающий город. Корсары затаскивали на корабли девушек-рабынь и грузили сокровища. Он, Эльрик из Мельнибонэ, был причиной того, что с лица земли исчезли последние следы существования некогда могучей Великой Империи. Он чувствовал, что вместе с ее исчезновением в нем что-то умерло. Эльрик смотрел на Имрирр, и внезапно глубокая печаль овладела всем его существом. Башни, изящные и прекрасные, как самые тонкие кружева, рушились одна за другой. Вверх взвивались языки пламени. Он уничтожил последний памятник древней расы, своей расы. Когда-нибудь люди научатся строить воздушные и прочные башни, которыми славился Имрирр, но сейчас это знание умерло. Город Мечты был уничтожен огнем и мечом, мельнибонийцы вырождались. Но куда подевались Повелители Драконов? Почему ни они, ни золотые галеры Мельнибонэ не встали на защиту Имрирра Прекрасного? Город был отдан почти без сопротивления, а это означало, что рано было праздновать победу. Быть может, мельнибонийцы устроят засаду и разбудят драконов? Эльрик вздрогнул. Он ничего не сказал корсарам о чудовищах, которых его предки приручили много веков назад. Вполне возможно, именно в эту минуту один из Повелителей Драконов открывал тяжелые железные ворота, ведущие в пещеры. Эльрик заставил себя выкинуть эти мысли из головы.Корабли эскадры ставили паруса, выходя в открытое море, а Эльрик все еще печально смотрел на Имрирр, молча прощаясь с городом своих предков и с Каймориль. И вновь тело альбиноса сотрясли глухие рыдания, когда он с необычайной ясностью вспомнил, как девушка упала, пронзенная черным лезвием его рунного меча. Внезапно Эльрик услышал ропот людей, подобный раскатам далекого грома, и резко повернулся, не понимая, что случилось. Тридцать золотых галер Мельнибонэ шли на всех парусах, окружая эскадру с двух сторон. Видимо, подумал Эльрик, они прятались в лабиринте, выжидая, когда, пресытившись грабежами и убийствами, корсары отправятся в обратный путь. Боевые галеры, секрета постройки которых не знал ни один человек, живущий на земле, поражали своей мощью. От них веяло древним и страшным волшебством. По сравнению с ними флот Эльрика казался коллекцией игрушечных корабликов. Не было никакого сомнения в том, что уставшие пираты не смогут оказать сопротивление мельнибонийцам, рвущимся в бой. Оставалось одно: попытаться спастись хотя бы на нескольких кораблях, а для этого Эльрику необходимо было вызвать демон-ветер. Сейчас альбинос находился на флагманском судне Яриса, которого зарезала шлюха в имриррской таверне, где юнец напился от радости до потери сознания. Корабль графа Смиоргана шел неподалеку от судна Эльрика, и коренастый корсар хмурился, стоя на палубе. Он тоже прекрасно понимал, что несмотря на превосходство в численности, им никогда не удастся выиграть морского сражения. Вызывание духов воздуха, которые могли бы поднять ветер и наполнить паруса многочисленных кораблей, было задачей трудной и опасной. При малейшей ошибке со стороны волшебника силы, которые он привел в действие, могли его уничтожить. И тем не менее, другого шанса спастись от галер не существовало. Сосредоточившись, Эльрик начал нараспев выкрикивать имена существ, обитателей воздушной стихии. И вновь он побоялся впасть в транс, потому что духи могли в любую секунду накинуться на него. Речь Эльрика напоминала то крики баклана, то шум прибоя, и постепенно туманные образы тех, кто управлял ветрами, появились перед его взором. Сердце альбиноса бешено стучало, колени дрожали. Последним усилием воли он вызвал демона-ветра, взревевшего с такой яростью, что закачались на волнах даже золотые мельнибонийские галеры. Приказав ветру поменять направление, Эльрик наполнил им паруса примерно сорока кораблей, так как всю эскадру спасти было невозможно. Под завывания ветра и плеск волн боевые галеры врезались в пиратские суденышки, раскалывая их на щепки, а в это время сорок кораблей понеслись вперед с бешеной скоростью. Мачты скрипели и гнулись, весла ломались, как тростинки. Буквально через несколько секунд небольшая эскадра Эльрика вырвалась из окружения и вышла в открытое море. Матросы шептали молитвы, с ужасом глядя на призрачных существ, витающих в воздухе. Смиорган помахал Эльрику рукой, благодарно улыбнулся. — Мы спаслись благодаря тебе, Эльрик, — громко крикнул он с палубы своего корабля. — Я знал, что ты принесешь нам счастье! Эльрик ничего не ответил. Мельнибонийцы, горя жаждой мести, бросились в погоню, С той же скоростью, что подгоняемые волшебным ветром корабли корсаров, неслись золотые галеры Имрирра, и несколько пиратских суденышек, у которых сломались, не выдержав, мачты, были настигнуты и уничтожены. Эльрик видел, как летят абордажные крючья, впиваясь в деревянные борта, Катапульты на галерах плевались греческим огнем, обрушивающимся, подобно лаве, на палубы. Люди кричали, кидаясь в воду в горящих одеждах, но и вода не в силах была погасить дьявольский огонь, и многие корабли шли ко дну, пылая как факелы. Эльрик смотрел на кровавое побоище, а тем временем его небольшая эскадра постепенно отдалялась от преследователей, возглавляемых адмиралом мельнибонийского флота Магамом Колимом. Только теперь Эльрик повернулся к графу Смиоргану, который невидящим взором уставился в небо, и воскликнул, стараясь перекричать вой ветра: — Мы ушли от погони! Держи курс на запад, или мы погибнем! Смиорган, казалось, ничего не слышал. Он продолжал стоять, уставившись в небо, и в глазах его застыл ужас, который может охватить только того, кто никогда в жизни не ведал страха. Эльрик невольно посмотрел наверх. В небе парили драконы. Они были далеко, но Эльрик прекрасно знал, с какой скоростью могли гигантские рептилии преодолевать самые большие расстояния. Размах крыльев этих почти исчезнувших с лица земли чудовищ достигал тридцати футов. Змеиное сорокафутовое тело с плоской головой заканчивалось коротким толстым хвостом, удар которого мог разрушить самое прочное здание. И хоть драконы не изрыгали огонь, как утверждалось в древних легендах, их яд мог воспламенить дерево, сжечь человека дотла. На спинах драконов сидели имриррские воины, вооруженные длинными копьями с зазубренными наконечниками. Причудливая мелодия растеклась над волнующимся морем, когда всадники поднесли к губам странной формы охотничьи рожки. Приблизившись к золотым галерам, дракон, летящий впереди, сделал круг над флагманским кораблем и, резко хлопая крыльями, опустился. Серо-зеленое, покрытое твердой чешуей чудовище зависло над пенистыми гребнями волн. На фоне безоблачного неба было ясно видно, как наездник помахал адмиралу Магаму Колиму своим копьем, к древку которого был прикреплен штандарт с черными и зелеными зигзагообразными линиями на желтом поле… Хранитель Пещер Дайвим Твар, друг юности Эльрика, вел драконов в бой, чтобы отомстить за уничтожение Имрирра Прекрасного… И вновь Эльрик крикнул графу Смиоргану: — Сделай все возможное, чтобы не подпустить их близко! Матросы выхватили мечи из ножен, начали готовиться к битве, хотя и понимали, что обречены. Даже с помощью демона-ветра невозможно было спастись от стремительно летящих драконов. Дайвим Твар, видимо, закончил совещаться с Магамом Колимом. Взмахнув копьем, он ударил дракона по шее, и чудовище, лениво махая крыльями, начало набирать высоту. С кажущейся медлительностью приближались драконы к пиратским кораблям, в то время как матросы молили своих богов о чуде. Чуда не произошло. Мачты продолжали гнуться и скрипеть под зловещие завывания демона-ветра. Эльрик видел обреченные лица людей, которые понимали, что скоро умрут. Напрасно отправились они в этот рейд, напрасно награбили неисчислимые сокровища, которыми им не суждено было воспользоваться. Тряхнув головой, альбинос справился с охватившим его оцепенением, выхватил меч, почувствовал страшную темную силу, пульсирующую в испещренном рунами лезвии. Сейчас Эльрик ненавидел эту силу, обрекшую на смерть единственную женщину, которую он любил. Эльрик понимал, что обязан Повелителю Бурь своей жизнью, что без него он станет слабым и немощным. Последний Император Мельнибонэ был альбиносом и не обладал, подобно обычному человеку, запасами необходимой жизненной энергии. Страх и отчаяние охватили Эльрика, и он проклял тот день, когда решил отомстить Йиркану, и тот час, когда согласился возглавить рейд на Имрирр; но самым страшным проклятьем он проклял душу Йиркана, черная зависть которого дала ход всем последующим событиям. Впрочем, теперь уже ничего нельзя было изменить. Громко хлопая крыльями, драконы зависли над кораблями корсаров, Эльрик принял решение. Он не любил жизнь, но ему не хотелось умирать в битве со своими соотечественниками. Он твердо обещал себе, что погибнет только от собственной руки. Один из драконов опустился, плюнул ядом, и в это время Эльрик приказал демону-ветру утихнуть, напряг все свои силы, вызывая ураганный ветер, наполнивший паруса лишь его судна. Изумленные корсары на других кораблях, неожиданно попавших в штиль, отчаянно кричали, спрашивая Эльрика, что случилось. Альбинос молчал. Может быть, ему удастся скрыться от драконов. По крайней мере, он на это надеялся. Он предал графа Смиоргана, человека, который верил ему. Эльрик смотрел, как яд лился с небес и корабли вспыхивали один за другим, посылая в небо языки зеленого и алого пламени. Эльрик, гордый Император Развалин, стоял на палубе и плакал навзрыд, стараясь не думать о будущем и проклиная богов, которые, желая поразвлечься, создали человека. Корабли корсаров пылали, как факелы, а матросы осуждающе смотрели на Эльрика, хотя и были благодарны судьбе за то, что избегли печальной участи своих товарищей. Альбинос, ничего не замечая вокруг, продолжал плакать, и душа его не находила покоя.
На следующий вечер единственный корабль, которому удалось спастись от Повелителей Драконов, проплывал мимо острова Пан Танг. Эльрик, погруженный в свои думы, стоял на корме, а матросы, глядя на него со страхом и ненавистью, шептались между собой, называя альбиноса предателем и бессердечным трусом. Казалось, они забыли о том, что спаслись только благодаря Эльрику. Последний Император Мельнибонэ стоял на корме, держа в руках черный меч, испещренный рунами. Эльрик всегда знал, что «Повелитель Бурь» не был обычным боевыморужием, но сейчас он понял, что меч обладает чувствами, глубину которых невозможно измерить. «Повелитель Бурь» использовал своего владельца, заставив его убить Каймориль. И тем не менее, от этого меча зависела жизнь Эльрика. Альбиносы редко встречаются среди животных и еще реже среди людей. В свои годы Эльрик давно должен был превратиться в медлительного, неуклюжего, плохо соображающего человека, которого в дальнейшем ждала полная потеря зрения и, возможно, смерть. Если рунный меч перестанет оказывать ему помощь, он будет целиком зависеть от милости других людей. Эльрик боялся и не понимал волшебной силы, заключенной в «Повелителе Бурь», ненавидел тот хаос, который меч посеял в его мозгу и душе. Не зная, как поступить, презирая себя за нерешительность, Эльрик стоял, держа в руках страшное оружие. Лишившись «Повелителя Бурь», он лишится своей гордости, а может, жизни, но зато познает благодатный покой. Владея «Повелителем Бурь», он будет обладать силой и могуществом, но рунный меч поведет его путем зла к страшному и непредсказуемому будущему. Он обретет власть, но никогда не примирится с самим собой, не познает минуты покоя. Глухие рыдания сотрясли тело Эльрика; в страстном порыве он бросил меч в залитое лунным светом море. Невероятно, но «Повелитель Бурь» не утонул и не поплыл. Он упал острием вниз, вонзился в воду, как в дерево, и лезвие его задрожало. Стоя вертикально, погрузившись в море на шесть дюймов, черный меч испустил дикий злобный крик, полный ненависти и отчаяния. Проклятье невольно сорвалось с губ Эльрика. Перегнувшись через борт, он протянул белую изящную руку, стараясь схватить оружие за рукоять, и не смог дотянуться. Тяжело дыша, не в силах справиться с обуревавшими его чувствами, Эльрик прыгнул за борт в холодную воду и неуклюже поплыл к воткнувшемуся в море мечу. Альбинос проиграл бой, «Повелитель Бурь» его выиграл. Пальцы Эльрика сомкнулись на рукояти рунного меча, который тут же удобно устроился в его руке. Альбинос почувствовал, как в него медленно вливается жизненная сила, и неожиданно понял, что меч зависит от него в той же степени, что и он от меча. Да, Эльрик не мог обойтись без «Повелителя Бурь», но и «Повелитель Бурь» терял свою волшебную силу и становился беспомощным, если у него не было владельца. — Мы неразрывно связаны друг с другом, — хрипло прошептал Эльрик. — Нас навечно сковали сатанинские цепи и превратности злой судьбы. Что ж, да будет так, и пусть люди трепещут от страха при упоминании имени Эльрика из Мельнибонэ и его рунного меча, «Повелителя Бурь». Мы с тобой — две половинки одного целого, порожденного эпохой, нас покинувшей. Наступил новый век, которому мы ненавистны. Давай же не обманем его ожиданий, когда будем скитаться по новым землям и бороздить неизведанные моря! Чувствуя себя сильным и здоровым, Эльрик вложил меч в ножны и быстро поплыл к острову, в то время как матросы, оставшиеся на корабле, с облегчением смотрели ему вслед, гадая, доплывет он до берега или погибнет в холодных водах этого странного безымянного моря…
КНИГА ВТОРАЯ КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ
Глава первая
Однажды вечером Эльрик сидел в таверне, осушая вино кубок за кубком и мрачно глядя в никуда. На улице дул ураганный ветер. Внезапно дверь распахнулась и на пороге появилась бескрылая женщина из Миирна. Ни слова не говоря, она подошла прямо к альбиносу и села к нему на колени. Ее лицо с тонкими чертами, почти такое же белое, как у Эльрика, обрамляли темно-золотые волосы. Бледно-зеленое платье красиво обтягивало изящную фигуру. В таверне, ярко освещенной свечами, раздавались шумный говор и пьяный смех, но нежный голос женщины из Миирна прозвучал ясно и отчетливо: — Я искала тебя двадцать дней, — сказала она Эльрику, который смотрел на нее своими красными глазами с высокомерным презрением. Веки альбиноса были полузакрыты, правая его рука лежала на рукояти волшебного меча, «Повелителя Бурь», в левой он держал серебряный кубок с вином. — Двадцать дней, — пробормотал мельнибониец нарочито оскорбительным тоном, словно обращаясь к самому себе. — Сколько приключений должна была испытать молодая красивая женщина за столь долгий срок. — Откинувшись на высокую спинку кресла, он посмотрел своей собеседнице в глаза. — Меня зовут Эльрик из Мельнибонэ, хотя, видимо, мне нет смысла представляться. Я никому не оказываю услуг, ни от кого не принимаю подношений. А теперь скажи, зачем ты искала меня в течение двадцати дней. Женщина ответила спокойно и уверенно, словно ее не задел грубый тон альбиноса. — Я знаю, что в душе твоей накопилось много горечи, Эльрик, ведь о твоих похождениях ходят легенды. Я не прошу оказать мне услугу, но предлагаю тебе себя и одно важное дело. Чего ты хочешь больше всего на свете? — Покоя, — просто ответил Эльрик и иронически усмехнулся. — Я — злой человек, госпожа, и судьба моя предрешена силами тьмы, но я неглуп и честен. Поэтому разреши мне рассказать тебе правду, которую ты можешь назвать легендой — мне это все равно. Год тому назад, пронзенная острием моего верного меча, умерла одна девушка. — Эльрик похлопал по ножнам, и глаза его неожиданно загорелись дьявольским огнем, а на губах появилась презрительная улыбка. — С тех пор у меня не было ни одной женщины, да я никого и не желал. Зачем мне изменять своим привычкам? Конечно, я мог бы за тобой ухаживать, читать тебе красивые стихи, говорить о твоей изящной фигуре, тонко намекая на то, как приятно будет обладать ею, но я не имею права переложить на тебя даже части своей тяжкой ноши. А если наши отношения будут, как ты предлагаешь, близкими, тебе невольно придется нести эту ношу вместе со мной. — На мгновение он умолк, затем медленно произнес: — Должен признаться, я часто кричу во сне ночью, а еще чаще ненавижу самого себя днем. Уходи, госпожа, пока у тебя есть такая возможность, и забудь Эльрика, который не может принести тебе ничего, кроме горя. — Быстрым движением он поднес к губам серебряный кубок, опорожнил его, поставил на стол и снова налил в него вина из кувшина. — Нет, — спокойно сказала бескрылая женщина из Миирна. — Я не уйду. Пойдем со мной. Она встала с колен Эльрика, нежно взяла его за руку. Альбинос позволил ей вывести себя из таверны. Над филькирийским городом Расшель бушевал ураган. С циничной улыбкой на устах Эльрик последовал за девушкой на набережную, где она поведала ему, что ее зовут Шаарилья, или Танцующий Туман, и что она — калека и отверженная в своей стране, бескрылая дочь погибшего колдуна. Эльрика пугало, что его тянет к этой немногословной женщине со спокойными и ясными глазами. Он никогда не думал, что в душе его могут вновь пробудиться подобные чувства, и с трудом удержался от желания взять Шаарилью за нежные плечи и притянуть к себе. Она стояла, не двигаясь, и ветер играл ее волосами, бросая золотые пряди на лицо, словно высеченное из белого мрамора. Они стояли молча, и обоим было приятно это молчание. Ветер тоскливо завывал, пенистые волны бились о высокую набережную, куда не доносились ни пьяные крики, ни омерзительные запахи большого города. Эльрику стало легче на душе. Шаарилья отвернулась от него, посмотрела на бушующее море. — Ты когда-нибудь слышал о Книге Мертвых Богов? — спросила она. Эльрик кивнул. Несмотря на то, что он старался держаться как можно дальше от людей, некоторые вещи не могли его не интересовать. Считалось, что в легендарной книге содержатся знания, которые помогут человечеству решить множество проблем, мучавших его веками, великая мудрость, частичку которой мечтал познать каждый колдун, живущий на Земле. Правда, поговаривали, что Великие Старые Боги сожгли эту книгу на солнце, а затем исчезли в просторах Вселенной и погибли, но многие утверждали, что Безликие Силы украли ее и спасли от уничтожения. Большинство ученых, однако, сходились в мнении, что книги больше не существует, потому что в противном случае ее давно бы обнаружили. Делая вид, что упоминание о Книге Мертвых Богов оставило его равнодушным, Эльрик спросил у Шаарильи; — Почему ты заговорила на эту тему? — Я знаю, что книга существует, — уверенно сказала Шаарилья, — и мне известно, где она находится. Перед смертью отцу удалось раскрыть эту тайну. Возьми и меня, и книгу, только помоги мне добыть ее. Возможно ли, что Великие Старые Боги знали секрет покоя? Удастся ли ему, наконец, избавиться от ненавистного «Повелителя Бурь»? — Эльрик вздохнул. — Если ты обратилась ко мне за помощью только для того, чтобы получить книгу, — спросил он, — почему ты не хочешь оставить ее у себя? — Потому что я — женщина, и боюсь обладать столь ценной вещью; ты же — могучий волшебник, возможно, последний на этой земле, и сумеешь ею распорядиться. Кроме того, ты можешь убить меня, чтобы завладеть книгой: я не буду иметь ни минуты покоя, если оставлю ее у себя, А мне надо узнать совсем немного. — Что именно? — спросил Эльрик, невольно любуясь благородной красотой девушки. Губы ее сжались, она потупила глаза. — Когда мы будем держать книгу в руках, я отвечу на твой вопрос. — Согласен, — быстро сказал Эльрик, чувствуя нежелание Шаарильи выдавать свою тайну. — Мне нравится твой ответ. — Внезапно он схватил ее за плечи, сам не понимая, как это получилось, прижал к себе и прильнул губами к ее губам.Эльрик и Шаарилья скакали по цветущим долинам Шазаара на запад, к Безмолвным Землям. Между Шазааром и Безмолвными Землями лежала пограничная страна, где не селились даже крестьяне, несмотря на то, что почвы там были плодородными. Жители Шазаара намеренно их не осваивали, так как испытывали суеверный страх при одном упоминании о страшных обитателях Безмолвных Земель, хотя последние редко покидали свою страну, окруженную Туманной Топью. Путешественники скакали быстро, не встречая препятствий на своем пути. Однако несколько путников предупредили их о грозящей опасности, хотя они не знали, куда и зачем направляются Эльрик и Шаарилья. Это была плохая примета. Альбинос мрачнел с каждым часом, но не высказывал своих опасений Шаарилье, которую, казалось, устраивало его молчание. Они почти не разговаривали днем, а по ночам сходили с ума от страсти и никак не могли насытиться друг другом. В глубоких сумерках подскакали путешественники к бескрайнему болоту — естественной границе Безмолвных Земель. Спешившись, они установили шелковый шатер на невысоком холме. Внизу стелился туман, наверху — плыли облака, похожие на черные подушки. Изредка сквозь них пробивался лунный луч, серебривший болотную воду и редкие кустики травы. Однажды посеребрил он и высокую фигуру Эльрика, а затем погас, словно ему ненавистно было присутствие живого существа на мрачном холме. Альбиноса устраивала темнота. Он напряженно думал и, перебирая в уме многие зловещие предзнаменования, пытался представить себе, что ждет его в будущем. Над далекими горами прогремел гром, подобный смеху богов. Эльрик задрожал, плотнее запахнулся в свой голубой плащ. Неотрывно смотрел он на низину, покрытую туманом. Через некоторое время к нему подошла Шаарилья, одетая в толстый шерстяной плащ, почти не спасавший от промозглой сырости, которой, казалось, был пропитан воздух. — Безмолвные Земли, — прошептала она. — Скажи, о них говорят правду? Ты ведь мельнибониец, ты должен знать больше других. Эльрик нахмурился, недовольный тем, что Шаарилья прервала ход его мыслей. Резко повернувшись, он посмотрел на нее в упор, сухо сказал: — Обитателей Безмолвных Земель все боятся и ненавидят, потому что они не имеют никакого отношения к человеческой расе. Насколько мне известно, ни один из тех, кто осмелился проникнуть в их страну, не вернулся обратно. Даже в те времена, когда Мельнибонэ была могучей державой, мои предки не управляли и не имели ни малейшего желания управлять этим государством. Говорят, существа, его населяющие, постепенно вымирают. Считается, что их цивилизация намного древнее и порочнее мельнибонийской и что они властвовали над этим миром задолго до того, как люди стали людьми. В наши дни эти существа редко покидают свою страну, окруженную со всех сторон болотами и высокими горами. Шаарилья невесело засмеялась. — Значит, они не принадлежат к человеческой расе? Но ведь и мой народ к ней не принадлежит. Неужели я тоже такая страшная, Эльрик? — Ты вполне меня устраиваешь, — рассеянно ответил альбинос. Шаарилья улыбнулась. — Сомнительный комплимент, — сказала она, — но я удовольствуюсь им… пока твой бойкий язык не нашепчет мне в ушко ласковых слов. Ночь не принесла им покоя, и, как предрекал Эльрик, он громко кричал во сне, преследуемый кошмарами, все время повторяя одно и то же имя, звуки которого наполнили глаза Шаарильи слезами, а душу — ревностью. Альбинос звал Каймориль и, казалось, о чем-то с ней беседовал на певучем, протяжном языке, неизвестном бескрылой женщине из Миирна, плачущей навзрыд.
На следующее утро Шаарилья избегала смотреть Эльрику в глаза. Молча они упаковали седельные сумки, молча начали сворачивать шелковый шатер, и только когда девушка поняла, что альбинос не заговорит первый, она задала ему вопрос, который давно хотела, но не решалась задать. Голос ее слегка дрожал. — Зачем тебе Книга Мертвых Богов, Эльрик? Чего ты ждешь от нее? Альбинос пожал плечами, отвернулся, но она продолжала настаивать на ответе. На мгновенье Эльрик задумался. — Хорошо, — в конце концов сказал он. — Но объяснения займут у меня много времени. Если хочешь знать, я тоже ищу ответы на несколько мучающих меня вопросов. — Каких, Эльрик? Альбинос вздохнул, бросил свернутый шатер на землю, выпрямился, рассеянно дотронулся до рукояти рунного меча. — Существует ли абсолютный Бог, единственный и неповторимый? Мне необходимо это знать, иначе жизнь потеряет для меня всякий смысл. Закон или Хаос управляет нашими судьбами? Человеку бог необходим, так говорят нам философы. Создали ли люди бога или бог — людей? Мы знаем, что Великие Старые Боги умерли. Были ли они высшими существами или отличались от простых смертных только своей мудростью? Шаарилья дотронулась до руки Эльрика. — Зачем тебе это? — Когда меня охватывает отчаяние, я иногда пытаюсь найти утешение у Бога, Шаарилья. Бессонными ночами уношусь я душой в неизведанные глубины космоса и жду, когда кто-то или что-то возьмет меня к себе, согреет, защитит, скажет, что в хаосе Вселенной существует определенный порядок, что искорка разума не угаснет, раз вспыхнув, уничтоженная царящей повсюду анархией. — Эльрик грустно вздохнул. — Если же бога нет, и Вселенная не подчиняется никаким законам, мне не нужны утешения. Я смогу с чистой совестью служить Хаосу, заранее зная, что все мы обречены, так как наша жизнь, которая закончится с истечением времени, не имеет никакого смысла. И в этом случае нас нельзя считать забытыми богом, потому что не существовало на свете бога, который мог бы нас забыть. Иногда эта мысль меня успокаивает, иногда — сводит с ума, и я в ужасе спрашиваю у самого себя, как можно верить в анархию и зло, когда в мире существует столько прекрасного и удивительного. Я тщательно все взвесил, Шаарилья, и пришел к выводу, что повсюду царит анархия, хотя нам кажется, что наши действия и поступки предопределены свыше. Хаос правит всем. Если Книга Мертвых Богов убедит меня в обратном, я с радостью поменяю свое мнение. Но до тех пор я буду доверять только себе и своему мечу. На лице Шаарильи появилось странное выражение. — Не все твои слова нашли отклик в моем сердце, — медленно произнесла она, — но мне кажется, я поняла, что ты имел в виду. Скажи мне, однако, не вызваны ли твои мысли недавними событиями? Быть может, ты стал рассуждать подобным образом, оправдывая совершенные тобой преступления: убийство и предательство? В этом случае, конечно, тебе ничего другого не остается, как верить в торжество анархии и в отсутствие справедливости. Эльрик резко повернулся; его красные глаза гневно засверкали, но почти сразу же он потупил взгляд и опустил голову. — Возможно, ты права, — сказал он хриплым, ломающимся голосом. — Я не знаю. Это правда, Шаарилья. Я ничего не знаю. Бескрылая женщина из Миирна сочувственно кивнула, из груди ее вырвался тяжелый вздох, но Эльрик ничего не видел и не слышал. По изможденному белому лицу альбиноса катились крупные слезы; на какое-то мгновение силы, казалось, оставили его. — Я — человек конченый, — простонал он, — а без меча, с которым мне нельзя расставаться, я вообще не человек.
Глава вторая
Они оседлали черных скакунов, понеслись с холма к болоту. Ветер раздувал полы их плащей, свистел в ушах. Выражение их лиц было суровым и решительным: оба они не хотели признаться себе в том, что между ними осталась какая-то недоговоренность. Копыта лошадей с плеском ударили в болотную жижу. Эльрик сильно натянул поводья, заставил лошадь попятиться. Шаарилья с трудом справилась со своим скакуном, и в конце концов обоим путешественникам удалось благополучно выбраться на твердую землю. — Как нам перебраться через болото? — нетерпеливо спросил Эльрик у своей спутницы. — У меня была карта… — неуверенно сказала Шаарилья. — Где она? — Я… я ее потеряла. Но мне многое удалось запомнить. Неподалеку должна быть тропинка… — Где ты потеряла карту и почему я слышу об этом впервые? — гневно вскричал альбинос. — Прости меня, Эльрик… Перед тем, как найти тебя в таверне, я лишилась памяти на один день, и до сих пор не знаю, что со мной произошло. Я не помню, что делала в тот день, но когда я проснулась, моя карта исчезла. Эльрик нахмурился. — Нам мешает какая-то сила, — пробормотал он и, посмотрев на Шаарилью, громко сказал: — Остается надеяться, что у тебя хорошая память. Эти болота знамениты на весь мир, но в них нет ничего сверхъестественного. Поезжай впереди, но не отдаляйся от меня ни на шаг. Она покорно кивнула, тронула поводья и галопом поскакала к северу. Через некоторое время они подскакали к скале, от которой в болото, покрытое туманом, вела заросшая травой тропинка. Шаарилья свернула на нее не задумываясь, пустила коня легкой рысью. Эльрик не отставал. Тяжелый туман клубился, странно блестел. Лошади явно нервничали, и всадникам пришлось укоротить поводья. Стояла ватная тишина; от воды, покрытой ряской, пахло гнилью. Нигде не было видно ни одного животного, в небе не кричали птицы. Эльрик и Шаарилья медленно продвигались вперед, углубляясь в Туманную Топь, и ужас леденил их сердца. Омерзительный запах гниющей растительности стал непереносим. Несколько часов спустя конь Шаарильи внезапно заржал, встал на дыбы, бешено вращая глазами. Она удержалась в седле, но лицо ее перекосилось от страха. Уставившись в одну точку, бескрылая женщина из Миирна громко позвала Эльрика на помощь. Альбинос, еле справившийся со своим конем, который чуть не скинул его в болото, помчался вперед. Что-то двигалось в тумане: медленно, угрожающе. Эльрик выхватил из ножен рунный меч; «Повелитель Бурь» застонал, по лезвию заструилось черное сияние. Последний Император Мельнибонэ почувствовал, как в его тело вливается неземная сила. Глаза альбиноса зажглись дьявольским огнем, губы искривились в презрительной усмешке. Тряхнув поводьями, он заставил лошадь идти вперед. — Ариох, Повелитель Семи Кругов Тьмы, не оставь меня сейчас! — вскричал он, увидев перед собой белую фигуру, почти не выделявшуюся на фоне тумана. Существо, возвышавшееся над Эльриком, напоминало квадратную стену восьмифутовой высоты. Казалось, у него не было ни лица, ни конечностей. Эльрик чувствовал, как тяжело бьется сердце лошади, подчинившейся железной воле своего всадника. Шаарилья что-то кричала ему, но он не понял ни одного слова. Взмахнув мечом, альбинос рубанул по туманной фигуре что было сил, но лезвие почти не встретило сопротивления и злобно взвыло. Конь хрипел, отказываясь идти дальше. Эльрику пришлось спешиться. — Придержи мою лошадь! — крикнул он через плечо Шаарилье и танцующей походкой пошел вперед к огромному существу, преградившему ему дорогу. Теперь Эльрик ясно видел его черты. Два глаза цвета прозрачного желтого вина находились высоко на безголовом туловище, а сразу под ними располагалась непристойно выглядевшая щель, усеянная острыми клыками. Четыре руки чудовища извивались, подобно щупальцам, а ног не было вовсе, и нижний край тела стелился по земле. У Эльрика разболелись глаза. Аморфное существо выглядело омерзительно, от него исходил трупный запах гниющей плоти. Поборов невольный страх, сжимая рукоять меча, альбинос сделал шаг вперед. Он узнал это чудовище по описаниям колдунов-императоров Мельнибонэ. Туманный Великан Бельбейн был болотным духом, питавшимся душами и кровью как людей, так и животных. Никто из мудрецов точно не знал, остался на земле один Туманный Великан или их было несколько, но в любом случае Туманная Топь находилась далеко от тех мест, где Бельбейн обычно охотился. Эльрику стало понятно, почему по пути им не встретились животные. Небо потемнело. Громко призывая на помощь Демонов-Богов своего народа, альбинос поднял меч над головой. Черное сияние запульсировало; болотный дух, услышав ненавистные ему имена, отпрянул в сторону. Эльрик сделал несколько шагов, остановился. Теперь он понял, что Бельбейн был не белого, как ему показалось вначале, а болезненного желто-зеленого цвета с бледно-оранжевыми прожилками. Всем существом своим чувствовал альбинос чужеродность возвышавшегося над ним существа. Продолжая выкрикивать древние имена, Эльрик кинулся вперед. «Балаан! Мартим! Эсма! Алястор! Шебос! Верделе! Низикфм! Хаборум! Хаборум, Всепожирающий Огонь!» — кричал он. Казалось, сознание его раздвоилось. Он хотел убежать, скрыться, но те силы, к помощи которых он прибегнул, заставили его кинуться в бой. Лезвие меча рубило туманный образ, состоящий, казалось, из вязкой колышащейся жидкости. И хотя «Повелитель Бурь» не оставлял на теле омерзительной гадины никаких следов, она дрожала, словно испытывала смертельные муки. Эльрик почувствовал, что его поднимают в воздух. У него помутилось зрение, он рубил направо и налево, пытаясь вырваться из рук Туманного Великана. Пот ручьями тек по его телу. Испытывая ужасную, неестественную боль, не в силах удержаться от крика, он продолжал сражаться, а Бельбейн медленно поднимал его к зияющему рту, похотливо прижимал к себе, как грубый любовник женщину. Видимо, даже рунный меч был бессилен против болотного духа. Альбинос вновь принялся выкрикивать имена богов, а «Повелитель Бурь» пел свою зловещую песню, не умолкая ни на минуту. Но тщетно Эльрик плакал и кричал, взывал к демонам и обещал принести им жертвы. Свирепо, с полной отдачей сил боролся он за свою жизнь, а в сознании его всплыло страшное имя существа, символизирующее бесконечное Зло. Голосовые связки Эльрика напряглись, протестуя, губы с трудом разжались, и он выкрикнул это имя, ужасаясь самому себе. В ту же секунду Туманный Великан ослабил хватку. Голова у Эльрика раскалывалась, тело дрожало от напряжения, но он рубил и рубил с плеча, чувствуя, что чудовище наконец-то теряет силы. Внезапно Эльрик очутился в воздухе. Казалось, он превратился в пушинку и падал медленно, беззвучно, в течение нескольких часов, а затем приземлился на колышащуюся поверхность и начал тонуть. Издалека, из другого пространства-времени услышал он чей-то голос, зовущий его по имени. Ему не хотелось отвечать, не хотелось думать; он спокойно лежал на холодном удобном ложе, утопая в нем, как в перине. Но голос Шаарильи все настойчивей проникал в его сознание, и, повинуясь какому-то шестому чувству, он вслушался в ее слова: — Эльрик! Тебя засасывает трясина! Не двигайся! Он улыбнулся. Зачем ему двигаться? Болото медленно принимало его в свои объятия. Покой, забвение… Эльрик вздрогнул, глаза его широко открылись. Вокруг клубился туман. Слева от альбиноса испарялась желто-зеленая лужа, от которой исходил трупный запах гниющей плоти. Впереди него стояла Шаарилья, еле различимая в тумане. Позади нее смутно угадывались контуры двух лошадей. Под ним… Под ним была трясина. Он лежал, распластавшись, на густой вонючей жиже, которая засасывала его все глубже и глубже. С крайней осторожностью Эльрик попытался пошевелиться, опираясь на рунный меч, который держал в правой руке. Тело его приподнялось, но ноги увязли еще глубже. Сев прямо, он крикнул Шаарилье: — Брось мне веревку! Быстрее! — У меня нет веревки, Эльрик! — Она рвала платье на полосы, лихорадочно связывая их узлами. Эльрик погрузился в болото по пояс. Шаарилья неловко бросила самодельный жгут, не долетевший до альбиноса, торопливо свернула его, бросила еще раз. С большим трудом Эльрик поймал жгут левой рукой, почувствовал, как он натянулся. Рывок, другой… — Ничего не получается, Эльрик… У меня не хватает сил… Альбинос громко выругался. — Привяжи веревку к луке седла! Шаарилья-кинулась к лошади, и буквально через несколько секунд Эльрик оказался на поросшей травой тропинке. Тяжело дыша, он попытался встать, но ноги отказались ему служить. Шаарилья опустилась перед ним на колени. — Ты ранен? Эльрик слабо улыбнулся. — Думаю, нет. — Это было ужасно. Сначала ты исчез, а затем… затем… выкрикнул одно слово… — Шаарилья задрожала, лицо ее стало белым, как мел. — Какое слово? — удивленно спросил Эльрик. — Разве я что-нибудь говорил? Она покачала головой. — Я не могу повторить. Но это слово тебя спасло. Ты выкрикнул его и почти сразу же появился, а затем упал в трясину… Эльрик, все еще сжимавший в руке «Повелителя Бурь», почувствовал, что слабость его постепенно проходит. Он с трудом поднялся на ноги, спотыкаясь, подошел к своему коню. — Я уверен, что Бельбейн, как правило, не охотится в этих местах, — сказал он. — Значит, его сюда послали. Но кто… или что… этого я не знаю. Давай поскорее выберемся отсюда. — Вернемся или продолжим путь? — спросила Шаарилья. Эльрик нахмурился. — Конечно, продолжим. Что за странный вопрос? Она слегка покачала головой. — Неважно, Я готова. Они оседлали коней, поскакали вперед, не принимая никаких мер предосторожности, и вскоре оставили Туманную Топь далеко позади. Теперь Эльрик не сомневался в том, что какая-то сила все время воздвигает препятствия на их пути, и поэтому погонял своего коня, не давая отдыха ни себе с Шаарильей, ни животным. На пятый день путешествия они очутились в гористой местности. Моросил дождь. Каменистая почва была скользкой; путешественникам волей-неволей пришлось пустить лошадей шагом. Закутавшись в плащи, Эльрик и Шаарилья ехали рядом друг с другом, и каждый из них думал о чем-то своем. Неожиданно они услышали лай собак и топот копыт. Эльрик кивнул в сторону невысокой скалы, стоящей справа. — Спрячемся, — предложил он. — Возможно, это — враги. Если повезет, нас не заметят. Шаарилья молча повиновалась. Лай собачьей своры становился все громче и громче. Эльрик наклонил голову, прислушался. — Один всадник и несколько собак, — сказал он. — Они либо следуют, либо охотятся за ним. И внезапно Эльрик и Шаарилья увидели этого всадника, бешено погоняющего коня; позади него мчались звери, с первого взгляда похожие на собак, Расстояние между ними неуклонно сокращалось. У зверей были собачьи туловища, мощные лапы, заканчивающиеся огромными птичьими когтями, и морды с длинными искривленными клювами. — Охотничьи псы Дарзи! — в ужасе воскликнула Шаарилья. — Я думала, и они, и их хозяева давно исчезли с лица Земли! — Интересно, что они здесь делают? — задумчиво произнес Эльрик. — Дарзи и обитатели Безмолвных Земель никогда не поддерживали отношений друг с другом. — Кто-то привел их сюда, — прошептала Шаарилья. — Эти дьявольские псы обязательно нас учуют! Эльрик положил руку на рукоять меча. — В таком случае мы ничего не потеряем, если поможем несчастному, которого они преследуют. Подожди меня здесь, Шаарилья. Всадник проскакал мимо скалы, за которой спрятались путешественники, и Эльрик помчался вниз по склону, пришпоривая коня. — Эй! — окликнул он незнакомца. — Остановись и прими бой, друг мой! Я пришел к тебе на помощь! Подняв сверкающий меч высоко над головой, Эльрик врезался в гущу воющих и лязгающих клювами с острыми зубами псов, одному из которых копыта его лошади переломили хребет. Оставшиеся в живых пять или шесть собак на мгновение расступились, и в это время к Эльрику подскакал незнакомец, успевший вытащить из ножен свою длинную кривую саблю. Он был невысок ростом; на лице его выделялся некрасивый большой рот. — Мне повезло, что мы встретились, сударь! — воскликнул он, весело ухмыльнувшись. Больше он ничего не успел сказать, так как на него прыгнули два пса, и ему пришлось обороняться от их острых когтей и клювов. На Эльрика напали сразу три собаки. Одна из них высоко подпрыгнула, норовя вцепиться альбиносу в горло. Он почувствовал смрадное дыхание на своем лице. «Повелитель Бурь» по сверкающей дуге рассек воздух, опустился псу на спину, перерубил его пополам. Вонючая кровь фонтаном брызнула на Эльрика и его скакуна, а собаки, почуяв ее запах, еще больше разъярились. Но и «Повелитель Бурь», отведав крови, ликующе запел и по собственному почину, вывернув кисть Эльрика, пронзил еще одного пса. Зверь пронзительно закричал, забился в агонии, схватился клювом за черное лезвие. Послышалось зловещее шипение, запахло горелым, и собака сдохла. Конь Эльрика встал на дыбы, пытаясь копытами проломить третьему псу череп, но собака отскочила в сторону и кинулась на альбиноса с левой незащищенной стороны. Отпустив поводья и привстав на стременах, Эльрик нанес удар наискось. Череп пса раскололся, мозги брызнули на залитую кровью землю. Как ни странно, зверь не подох и сделал слабую попытку огрызнуться на Эльрика. Не обращая на него никакого внимания, альбинос повернулся к незнакомцу, который расправился с одним псом, но ничего не мог поделать со вторым. Собака схватила клювом клинок сабли у самого эфеса и не отпускала его, стараясь разодрать шею противника острыми когтями. Эльрик пришпорил коня, ударил мечом, как копьем, пропоров зверю брюхо от ягодиц до горла. Разжав клюв, собака свалилась на землю, задергалась в судорогах, а конь Эльрика в бешенстве стал топтать ее копытами. Тяжело дыша, альбинос вложил рунный меч в ножны и с любопытством посмотрел на человека, которого спас от верной смерти. Он терпеть не мог знакомиться с людьми и всегда смущался, когда его начинали долго и пространно благодарить. Этого последнего ему можно было не опасаться. Уродливый рот коротышки расплылся в улыбке, он поклонился, не слезая с седла, и сказал: — Спасибо, сударь. Если б не ты, мне пришлось бы с ними повозиться. Жаль, конечно, что не удалось подраться от души, но я тебя ни в чем не виню, ты хотел сделать доброе дело. Меня зовут Мунглам. — Я — Эльрик из Мельнибонэ, — представился альбинос, удивленно глядя на коротышку, который, судя по выражению лица, слышал это имя впервые. Удивление Эльрика было вполне объяснимым. Историю о том, как он убил Каймориль и предал корсаров, рассказывали со всевозможными подробностями, часто их приукрашивая, во всех тавернах цивилизованного мира. Имя Эльрика из Мельнибонэ стало нарицательным, его узнавали повсюду, тем более, что он был альбиносом. Заинтригованный поведением Мунглама и невольно чувствуя к нему симпатию, Эльрик внимательно посмотрел на нахального коротышку, стараясь понять, из какой он страны. Мунглам не носил доспехов, его голубая, видавшая виды одежда, перепоясанная широким кожаным поясом, на котором висели сабля в ножнах, кинжал и вязаный шерстяной кошелек, давно выцвела. Рост Мунглама не превышал пяти футов, его непропорционально длинные по сравнению с туловищем ноги в высоких кожаных сапогах торчали из стремян. У него был короткий вздернутый нос, серо-зеленые ясные глаза, копна огненно-рыжих волос, закрывающих лоб. Он сидел в стареньком добротном седле, все еще ухмыляясь, но на этот раз взгляд его был обращен не на Эльрика, а на Шаарилью, незаметно подъехавшую к альбиносу сзади. Когда девушка остановилась, Мунглам изысканно ей поклонился. Эльрик холодно произнес: — Леди Шаарилья — рыцарь Мунглам из?.. — Эльвера, — подсказал коротышка. — Эльвер — торговый центр всего востока, самый славный город в Молодых Королевствах. Эльрик кивнул. — Значит, ты из Эльвера, рыцарь Мунглам? Я о нем слышал. Его ведь построили совсем недавно, лет двести-триста назад. Ты путешествуешь далеко от своей родины. — Это верно, сударь. Если б я не знал местного языка, мне бы совсем плохо пришлось, но, к счастью, раб, вдохновивший меня на путешествие своими рассказами, обучил меня нескольким туземным наречиям. — Но почему ты решил отправиться именно в эту страну? — спросила Шаарилья. — Разве ты не слышал легенд о Безмолвных Землях? — В том-то и дело, что слышал и захотел проверить, врут они или нет. Я совсем было решил, что люди болтают пустое, когда эти твари неожиданно на меня напали. Что им в голову взбрело, я не знаю, видит бог, я не давал щенкам повода для недовольства! Варварская страна! Эльрик чувствовал себя не в своей тарелке. По натуре он был человеком мрачным и не любил светских бесед, которые, казалось, доставляли Мунгламу огромное удовольствие. Тем не менее, ему все больше и больше нравился веселый коротышка. Как ни странно, именно Мунглам предложил им путешествовать вместе. Шаарилья, явно протестуя, бросила на Эльрика многозначительный взгляд, но альбинос не обратил на это внимания. — Что ж, друг Мунглам, — сказал он, — трое сильнее двоих. Если хочешь, можешь к нам присоединиться. Мы направляемся в горы. — А зачем? — спросил Мунглам. — Это тайна, — сказал Эльрик, и Мунглам, проявив учтивость, не стал настаивать на ответе.Глава третья
Дождь усилился; капли, звеня, падали на каменистую почву; все небо было затянуто тучами; дул сильный ветер. Три крохотные фигурки скакали к высоким черным горам, возвышающимся над миром подобно скучающему богу. И возможно, именно бог смеялся над всадниками, а может, это ветер свистел в каньонах и глубоких трещинах, завывал на скальных площадках, лестницами поднимающимися к одиноким пикам гор, над которыми сгустились грозовые тучи. Молнии сверкали, словно кто-то шарил по земле гигантскими пальцами, гром гремел не умолкая, а Шаарилья по мере приближения к горам все замедляла и замедляла бег своего коня. — Эльрик, — сказала она в конце концов. — Давай вернемся. Смотри, какие силы ополчились против нас! Поверь дурным предзнаменованиям, Эльрик, если не хочешь, чтобы мы погибли. Альбинос угрюмо молчал: он давно понял, что девушка потеряла интерес к делу, за которое взялась с таким энтузиазмом. — Эльрик, прошу тебя. Мы никогда не доберемся до места, где хранится Книга. Вернемся, Эльрик. — Она схватила его за рукав, и альбинос нетерпеливо отдернул руку. — Поздно, Шаарилья. Я слишком любопытен, чтобы остановиться на полпути. Либо продолжай указывать дорогу, либо расскажи мне все, что знаешь, и оставайся здесь. Когда-то ты была готова на все, чтобы прочитать Книгу, а сейчас испугалась каких-то мелких неприятностей. Скажи мне, Шаарилья, что ты хотела узнать? Она ответила ему вопросом на вопрос. — А о чем мечтал ты, Эльрик? О покое? Ты не найдешь его в этих суровых горах, если нам удастся дойти до них. — Ты была неоткровенна со мной, Шаарилья, — холодно сказал альбинос, продолжая смотреть на далекие пики гор. — Ты что-то знаешь о тех силах, которые воздвигают препятствия на нашем пути. Она пожала плечами. — Напрасно ты думаешь, что я специально скрыла от тебя нечто важное. Перед смертью отец предупредил меня об опасностях, подстерегающих искателей Книги, но я почти ничего не поняла. — Что он говорил? — Речь шла о Том, кто сторожит Книгу. Если верить отцу, Сторож поклялся употребить все свое могущество, чтобы не позволить человечеству познать тайны Мертвых Богов. — Что еще? — Это все, Эльрик. Но отец был прав. Сторож убил его либо сам, либо с помощью одного из своих слуг, а я не хочу, чтобы меня постигла участь отца и готова поступиться самым заветным моим желанием ради жизни. Я думала, ты достаточно могуществен и сможешь помочь мне, но сейчас я начала в этом сомневаться. — До сих пор я защищал тебя от всех опасностей, — просто сказал Эльрик. — А сейчас скажи, что ты все-таки хочешь узнать? — Мне стыдно. Эльрик не стал настаивать на ответе, но, помолчав, Шаарилья заговорила сама. Голос ее был тихим, почти неслышным. — Я хотела получить новые крылья. — Что?! Значит, ты надеялась вычитать заклинание, с помощью которого можно отрастить крылья?! — Эльрик иронически усмехнулся. — И поэтому ты отправилась на поиски Книги, в которой заключена величайшая мудрость, до сих пор непознанная человечеством? — Если б ты был калекой в собственной стране, для тебя тоже не было бы ничего важнее на свете! — вскричала Шаарилья. Эльрик резко повернулся к ней, его красные глаза гневно блеснули. Он провел рукой по молочно-белой коже своего лица, презрительно усмехнулся. — Я тебя понимаю, — неожиданно спокойным тоном сказал он. Шаарилья опустила голову, плечи ее поникли. Они молча продолжали скакать вперед, но через некоторое время Мунглам неожиданно натянул поводья, остановил коня, прислушался. — В чем дело? — спросил Эльрик, подъезжая к своему спутнику. — Я слышу стук копыт. И звуки, вызывающие у меня неприятные воспоминания. Снова нас преследуют эти дьявольские псы, Эльрик, на этот раз в сопровождении всадников. Теперь и Эльрик услышал далекий собачий лай. — Возможно, ты была права, — сказал он, глядя на Шаарилью. — Похоже, нам грозят серьезные неприятности. — Что будем делать? — нахмурившись, спросил Мунглам. — Поскачем в горы, — предложил Эльрик. — Быть может, Дарзи нас не догонят. Они пришпорили лошадей и галопом понеслись вперед. Но убежать им не удалось. Вскоре вдалеке показалась свора черных псов, их лай становился все слышнее. Эльрик оглянулся. Спускалась ночь, в наступивших сумерках было плохо видно, но альбиносу показалось, что за собаками скачут всадники в длинных плащах с капюшонами. Погоняя лошадей, путешественники преодолели крутой подъем, остановились у большой скалы. — Будем сражаться здесь, — решил Эльрик. — На открытом месте с нами сразу расправятся. Мунглам утвердительно кивнул, явно одобряя действия альбиноса. Они молча ждали, глядя на приближающихся зверей. Вскоре первые из них вбежали на крутой склон, царапая птичьими когтями каменистую почву, брызжа слюной из клыкастых клювов. Встав между двух валунов, Эльрик и Мунглам отразили атаку, убив трех собак. Их место тут же заняли другие псы, а у подножья горы показались всадники. — Клянусь Ксиросом! — вскричал Эльрик, неожиданно узнав их. — Да это же Повелители Дарзи, погибшие десять тысяч лет назад! Мы сражаемся с мертвецами, Мунглам, и с призраками, — к сожалению, осязаемыми призраками, — их псов. Если мне не удастся изгнать оживших мертвецов с помощью волшебства, мы погибли! Всадники, казалось, не собирались принимать участия в сражении. Они стояли чуть поодаль и следили мертвыми светящимися глазами за собаками, которые погибали, но продолжали нападать на Эльрика и Мунглама, пытаясь оттеснить их за валуны. Эльрик тем временем лихорадочно пытался вспомнить заклинание, которое никак не шло на ум. Внезапно его словно осенило. Надеясь, что потусторонние силы не откажут ему в помощи, он нараспев произнес:В течение нескольких часов путешественники шли в полной темноте, держась друг за друга, опасаясь, что в любую секунду они могут свалиться в какую-нибудь трещину в скале. Тоннель уходил вниз, идти становилось все труднее. Эльрику казалось, что он спит и видит непонятный сон. Будущее было настолько неопределенным, что он старался ни о чем не думать. В конце концов у него возникло такое ощущение, что движется пол, а сам он стоит на месте. Иногда Эльрик спотыкался, в полной уверенности, что сейчас полетит в пропасть, но когда он падал, то всхлипывал от облегчения, чувствуя под собой твердую холодную поверхность. Ноги его продолжали механически подниматься и опускаться, хотя он и не был уверен в том, что двигается. Время перестало существовать. Внезапно Эльрик понял, что где-то далеко забрезжил голубой свет. На мгновение остановившись, он побежал вперед и тут же, испугавшись, перешел на шаг. Чем-то странным и зловещим веяло в холодном воздухе. Альбиноса охватил страх, хотя он и не смог бы объяснить, чем он вызван. Его спутники тоже почувствовали что-то неладное. Они не произнесли ни слова, но Эльрик знал, что им тоже было не по себе. Медленно, осторожно, путешественники приближались к голубому сиянию, пульсирующему далеко внизу. И наконец, они вышли из тоннеля и остановились, в изумлении глядя на удивительный, неземной пейзаж. Вокруг них дрожал и переливался голубой воздух. Они стояли на черном выступе скалы, внизу расстилался серебристый пляж, мерцающий все тем же голубым светом. Темное море волновалось, словно гигант, беспокойно ворочающийся во сне. Повсюду валялись обломки невиданных кораблей, потерпевших крушение. Горизонт отсутствовал, небо было черным, как смоль. Мороз стоял такой, что щипало кожу. Волны беззвучно накатывали на пляж, повсюду царила мертвая тишина. Несмотря на близость горы, в сухом воздухе не чувствовалось запаха соли. — Что будем делать, Эльрик? — спросил Мунглам, дрожа от холода. Эльрик покачал головой и долгое время стоял, не отвечая; в голубом свете его белые руки и лицо выглядели ужасающе. — Нам ничего другого не остается, как переправиться на другой берег, — сказал он в конце концов. — Возвращаться нет смысла. — Голос альбиноса звучал глухо, словно он не слышал собственных слов. Каменные ступени, вырезанные прямо в скале, вели к пляжу. Эльрик начал спускаться; Мунглам и Шаарилья последовали за ним, с восхищением и ужасом глядя по сторонам.
Глава четвертая
Они шли по серебристому пляжу, усыпанному хрустальным песком, и звуки их шагов нарушали мертвую тишину. Внезапно Эльрик остановился, уставился своими красными глазами на берег моря, зловеще улыбнулся, тряхнул головой, словно пытаясь освободиться от наваждения, и молча вытянул руку по направлению к небольшому боту, резко выделявшемуся среди обломков кораблей. Выкрашенный в желтый и красный цвета, бот выглядел более чем вульгарно на фоне окружающего его пейзажа. Он был деревянным, но такого дерева путешественникам никогда не доводилось видеть. Мунглам провел по нему пальцами. — Тверже железа, — пробормотал он. — Неудивительно, что этот бот не сгнил, как остальные. — Коротышка перегнулся через борт и задрожал. — Что ж, владелец не станет возражать, если мы отправимся на его судне в плавание. Эльрик и Шаарилья поняли, о чем он говорит, проследив направление его взгляда. На дне бота лежал неестественно искривленный скелет. Эльрик наклонился, поднял его, бросил на хрустальный песок. Скелет рассыпался, кости покатились по пляжу, череп подпрыгнул и остановился у самого моря, уставившись пустыми глазницами на беспокойные волны. Пока Эльрик и Мунглам старались столкнуть бот с берега, Шаарилья окунула руку в море, сразу же отдернув ее. — Это не обычная вода, — сказала она. Альбинос нахмурился, но ничего не ответил. — Нам нужен парус, — пробормотал он спустя несколько минут, снял с себя плащ и прикрепил его к мачте. — Ничего другого не придумаешь. Придется держать его за концы с двух сторон, чтобы хоть как-то управлять судном. Стараясь не замочить ног, путешественники оттолкнулись от берега и забрались в бот. Ветер мгновенно надул самодельный парус, и они помчались вперед с огромной скоростью, словно их подгоняла неведомая сила. Эльрик и Мунглам с трудом удерживали края плаща. Вскоре серебристый пляж скрылся из виду. Путешественники плыли почти в полной темноте — лишь небо слабо фосфоресцировало голубым светом. Внезапно они услышали, как над их головами захлопали крылья, и невольно посмотрели наверх. На бот опускались три крылатых существа, похожие на обезьян. Шаарилья узнала их, вскричала в ужасе: — Клакеры! Мунглам пожал плечами, выхватил саблю. — Не все ли равно, как они называются? Лучше скажи, как нам побыстрее их прикончить. — Но он не получил ответа, потому что в это время вожак обезьян стремительно спикировал, обнажив острые желтые клыки в уродливой пасти. Мунглам отпустил край плаща, нанес удар, но клакер резко отвернул в сторону, сделал круг и вновь ринулся в атаку. Эльрик выхватил из ножен рунный меч, замер от неожиданности. Черное лезвие не сверкало, не пело своей обычной песни. «Повелитель Бурь» слегка задрожал в руке альбиноса, который вместо обычного прилива энергии почувствовал лишь легкое покалывание в пальцах. На какое-то мгновение его охватило отчаяние: он знал, что без помощи «Повелителя Бурь» очень быстро потеряет силы. Но сейчас ему некогда было задумываться, и, справившись со своим страхом, он поднял меч и нанес удар одной из обезьян. Клакер схватился за лезвие, пригнул его вниз, повалил Эльрика на дно бота и взвыл от боли. Его отрезанные пальцы, извиваясь, со стуком упали на палубу. Альбинос уцепился за борт, с трудом поднялся на ноги. Крича от ярости, обезьяна вновь накинулась на него, и Эльрик, собравшись с силами, взял «Повелителя Бурь» двумя руками, высоко поднял над головой и одним ударом отрубил клакеру крыло. Искалеченный зверь рухнул на дно бота, и альбинос в ту же секунду пронзил ему сердце. Тем временем Мунглам отбивался от обезьян, атаковавших его с двух сторон. Он стоял на одном колене, и сабля его мелькала в воздухе. У одного из клакеров в черепе зияла большая рана, но он продолжал нападать. Эльрик сделал выпад, пропорол обезьяне брюхо. Схватившись за лезвие обеими руками, она свалилась за борт. Какое-то время труп ее оставался на поверхности, затем начал медленно тонуть. Альбинос изо всех сил держал рукоять меча, который — и это было невероятно! — уходил под воду вместе со зверем. Эльрик вспомнил, как однажды «Повелитель Бурь» воткнулся в море, как в дерево. Сейчас же он тонул, как самый обычный железный меч. С большим трудом удалось альбиносу вытащить лезвие из трупа крылатой обезьяны. Он чувствовал, что теряет остатки сил. Какие же законы правили этим подземным миром? Все мысли Эльрика сосредоточились на одном: если «Повелитель Бурь» не даст ему свою энергию, он погибнет. Искривленная сабля Мунглама нанесла смертельный удар третьей обезьяне. Коротышка ухмыльнулся, посмотрел на Эльрика. — Неплохо мы подрались! — заявил он. Эльрик покачал головой. — Нам необходимо как можно скорее добраться до берега, — сказал он. — Иначе мы погибли. Я потерял свою волшебную силу. — Что? Почему? — Этого я не знаю. Быть может, потому, что мы очутились в мире, где правит Хаос… Поторопись, рассуждать будем после. Мунглам молча взялся за край плаща. Дрожа от слабости, Эльрик последовал его примеру. Шаарилья села с ним рядом, помогла править самодельным парусом. Она смотрела на альбиноса с состраданием и любовью. — Кто они такие, эти летучие обезьяны? — спросил Мунглам. — Клакеры, — сказала Шаарилья, — далекие предки моего народа, который считается самым древним на нашей земле. — Посоветуй тем, кто пытается нас остановить, друг Эльрик, придумать что-нибудь новенькое. — Мунглам ухмыльнулся. — Они действуют крайне однообразно. Ни Эльрик, ни Шаарилья не улыбнулись в ответ. Альбинос находился в полубессознательном состоянии, девушка думала только о том, как облегчить его страдания. Мунглам пожал плечами, обернулся, неожиданно воскликнул: — Земля! Бот мчался вперед с огромной скоростью. Эльрик с трудом выпрямился, сказал заплетающимся языком: — Убери парус! Мунглам отвязал плащ от мачты, но скорость бота не уменьшилась. Он буквально влетел на еще один серебристый пляж и, резко остановившись, угрожающе накренился. Путешественников швырнуло на борт. Мунглам и Шаарилья подняли обмякшее тело Эльрика, вынесли его из бота, пошли по хрустальному песку и вскоре очутились у подножья высокого холма. Бережно положив альбиноса на землю, они обеспокоенно смотрели на него, не зная, что делать дальше. Эльрик попытался приподняться, но тут же упал. — Не волнуйтесь, — прошептал он, — я не умру. Но зрение мое уже начало ослабевать. Быть может, на берегу мой меч вновь обретет свою силу… С огромным трудом он вытащил «Повелителя Бурь» из ножен и чуть не заплакал от облегчения. Рунный меч застонал, по его лезвию заструилось черное сияние. Энергия вливалась в тело Эльрика, он чувствовал необычайный прилив сил. В глазах его отразилась невыразимая тоска. — Без моего черного меча я — никто, — простонал он. — Неужели мне никогда от него не избавиться? Кем же я стану? Мунглам и Шаарилья промолчали. Оба они жалели альбиноса и одновременно боялись его. Дрожа всем телом, Эльрик поднялся на ноги, начал подниматься по крутому склону холма к огромному отверстию высоко наверху, в которое проникал не голубой, а обычный дневной свет. Видимо, это был выход из подземной пещеры. Сбоку от него, прячась в глубоких тенях, возвышался черный каменный замок, поросший темно-зеленым мхом, словно защищавшим его от непрошеных гостей. В многочисленных башенках замка не было окон, вход в него закрывала решетка из толстых металлических прутьев, выглядевших раскаленными, но холодных наощупь. А над входом ослепительно горел янтарный Девиз Повелителей Хаоса: восемь стрел, расположенных по периметру круга. Казалось, он висел в воздухе. — Я думаю, наше путешествие подошло к концу, — угрюмо сказал Эльрик. — Либо Книга находится здесь, либо ее вообще не существует. Мунглам пожал плечами. — Мне непонятно, зачем она тебе понадобилась. Но если тебе удастся ее выгодно продать, надеюсь, я получу свою долю! Эльрик невольно улыбнулся, хотя внутри у него все похолодело. — Нам надо войти в замок, — сказал он. Словно в ответ на его слова металлические прутья стали таять в воздухе… исчезли. Мунглам вздрогнул. — Мне это не нравится, — хрипло сказал он. — Совершенно очевидно, нас хотят заманить в ловушку. Неужели они думают, мы такие простачки, что попадем в нее? — А что нам остается делать? — спокойно спросил Эльрик. — Вернуться… или продолжить путь. Уйдем отсюда, не искушай Того, кто сторожит Книгу! — Шаарилья схватила Эльрика за руку, умоляюще на него посмотрела. — Забудь о Книге Мертвых Богов, Эльрик! — Забыть? — Альбинос откинул голову, рассмеялся. — После того, что нам пришлось испытать? Никогда! Быть в двух шагах от цели и вернуться? Лучше умереть, Шаарилья! Девушка отпустила руку Эльрика, плечи ее поникли. — Мы не сможем победить слуг Хаоса, — сказала она безнадежным тоном. — Возможно, нам не придется с ними драться, — невольно вырвалось у Эльрика. Он и сам не верил своим словам; губы его презрительно искривились, красные глаза зажглись мрачным огнем. — Шаарилья права, — неожиданно произнес Мунглам, глядя на бескрылую женщину из Миирна. — Ничего, кроме разочарования, а возможно, смерти, не ждет нас за этими стенами. Давайте лучше поднимемся наверх по этим ступеням: быть может, они выведут нас из пещеры. — Он указал рукой на высеченную в камне лестницу, ведущую к отверстию, из которого проникал дневной свет. Эльрик покачал головой. — Нет. Уходите без меня. Мунглам скорчил гримасу. — Ты упрям, друг Эльрик. Что ж, если твой принцип — все или ничего, я, пожалуй, пойду с тобой, хотя, должен признаться, мне всегда больше нравились компромиссные решения. Эльрик пошел вперед. Мунглам и Шаарилья, неуверенно переглянувшись, последовали за ним. Во дворе замка стояла высокая фигура, объятая холодным алым пламенем. Альбинос подошел к ней почти вплотную, остановился. Гигант громко расхохотался, языки пламени взмыли вверх. Он был абсолютно гол, безоружен, но от него исходила такая сила, что трое путешественников вынуждены были отойти назад на несколько шагов. Кожа его была покрыта тусклой лиловой чешуей; он стоял, чуть согнув ноги в коленях и играя мощными мускулами, его маленькие голубые глаза без зрачков под высоким покатым лбом сверкали, как две голубые искорки. Смеялся гигант радостным, счастливым смехом, а вдоволь насмеявшись, сказал: — Приветствую тебя, Эльрик, Император Мельнибонэ! Я восхищен твоим упорством! — Кто ты? — вызывающе спросил альбинос, положив руку на рукоять меча. — Меня зовут Орунлу Хранитель Истины, а ты находишься в замке Повелителей Хаоса. — Гигант цинично улыбнулся. — Ты гордишься тем, что имеешь власть над некоторыми духами, считаешь себя волшебником. Тебе нет нужды так нервничать и хвататься за свой жалкий меч, ведь ты должен знать, что сейчас я не могу причинить тебе вреда. — Значит, это правда? — возбужденно спросил Эльрик. — Слуги Закона и Хаоса не имеют права лично вмешиваться в дела людей? — Я не смею… раз уж мне не удалось помешать тебе дойти до цели. Но должен признаться, твое глупое упрямство удивляет меня. Зачем тебе Книга? Я охранял ее тридцать тысяч лет, и у меня ни разу не возникло желания заглянуть внутрь, чтобы узнать, зачем мои Повелители спасли ее от уничтожения и спрятали в этом скучном мире, населенном недолговечными тупыми шутами, которых вы называете людьми. — Я ищу истину, — ответил Эльрик, чувствуя себя достаточно глупо. — Истина — в вечной борьбе, — с глубоким убеждением сказал гигант, объятый алым пламенем. — В таком случае, кто управляет Законом и Хаосом? Кто вершит судьбы не только смертных, но и богов? — Этого я не знаю. — Что ж, пусть Книга ответит нам обоим на этот вопрос. Пропусти меня и скажи, где она лежит. Гигант отступил, иронически улыбнулся. — В центральной башне замка. Я поклялся, что никогда в Нее не войду, а то я проводил бы тебя. Иди, если хочешь, я выполнил свой долг. Эльрик, Мунглам и Шаарилья направились к открытым дверям замка, но прежде чем они вошли в него, гигант предостерегающе произнес: — Мне было сказано, что знания, содержащиеся в Книге, могут нарушить равновесие сил, помочь Закону. Это тревожит меня, но куда меньше, чем другая вероятность. — Какая? — спросил Эльрик. — Если великие тайны будут открыты, Вселенная может погрузиться в Хаос. Мои Повелители не желают этого, потому что тогда погибнет все живое. Мы существуем только для борьбы и хотим сражаться, а не победить в вечной битве. — Мне это безразлично, — сказал Эльрик. — Я ничего не теряю, Орунлу Хранитель Истины. — Что ж, тогда иди. — Гигант повернулся, вышел из ворот замка и исчез в темноте. Бледный свет озарял винтовую лестницу, ведущую в центральную башню. Эльрик молча поднимался по ней, словно движимый какой-то неведомой силой. Мунглам и Шаарилья шли за ним следом; они были печальны и, казалось, покорились своей судьбе. Лестница поднималась спиралями все выше и выше, и наконец, они очутились у небольшой двери и вошли в комнату, залитую ослепительным светом. Потрясенные до глубины души, путешественники застыли на месте, глядя на Книгу Мертвых Богов, переплет которой был усыпан драгоценными камнями, переливающимися всеми цветами радуги. — Наконец-то! — прошептал Эльрик. — Наконец-то я узнаю истину! Спотыкаясь, как пьяный, он сделал несколько шагов, дрожащими руками схватил Книгу, ради которой претерпел столько невзгод. Затаив дыхание, Эльрик раскрыл ее… переплет упал, драгоценные камни, пылая разноцветными огнями, покатились по полу. Пальцы Эльрика были покрыты сухой, желтой пылью. — Нет! — Казалось, от душераздирающего крика альбиноса сотряслись стены замка. — Нет! — Слезы хлынули у него из глаз, лицо перекосилось, глухие рыдания вырвались из груди. Время уничтожило Книгу Мертвых Богов, которую так никто и не читал в течение тридцати тысяч лет. Погибли сочинившие ее мудрые и могущественные боги, канули в небытие собранные ими знания.Они стояли на склоне высокой горы, глядя на зеленые долины внизу. На голубом чистом небе сверкало солнце. Позади путешественников зияло отверстие пещеры, в которой находился удивительный подземный мир Повелителей Хаоса. На измученном лице Эльрика застыло страдальческое выражение. С тех пор, как Мунглам и Шаарилья вывели его из центральной башни замка, он не произнес ни единого слова. Сейчас он поднял голову, посмотрел на своих спутников и, словно издеваясь над самим собой, сказал: — Теперь я буду жить, не зная зачем. — Голос альбиноса звучал резко, пронзительно, как крик одинокой чайки. — Интересно, если бы Книга сохранилась, поверил бы я тому, что в ней написано? Я — скептик, вечно сомневающийся в том, что действую по своей воле, что мною не движет какая-то высшая сила. Я завидую людям, которые знают, зачем живут. Теперь мне остается только отправиться на поиски Истины, веруя, что когда-нибудь я найду ее, и одновременно понимая, что это невозможно. Шаарилья взяла его за руку. Глаза ее были полны слез. — Эльрик, позволь мне утешить тебя. — Лучше б мы никогда не встречались, Шаарилья, или Танцующий Туман, — с горечью сказал альбинос. — Ты подала мне надежду, я думал, что наконец-то смогу обрести покой, а в результате потерял даже то душевное равновесие, которое имел. Нельзя надеяться на спасение в мире, где правит злой рок. Прощай. — Он начал спускаться по склону горы. Мунглам посмотрел на Шаарилью, перевел взгляд на Эльрика, затем быстро вынул из кошелька какой-то небольшой предмет и сунул его девушке в руку. — Удачи тебе, — пробормотал он и побежал за альбиносом. Не замедляя шага, Эльрик обернулся, услышав за собой топот ног, и, несмотря на свое мрачное настроение, спросил: — В чем дело, друг Мунглам? Что ты хочешь от меня? — Мы проделали долгий путь, и я не вижу причин прерывать наше путешествие, — весело заявил коротышка. — Кроме того, в отличие от тебя, я — материалист. Не можем же мы с тобой не кушать. Эльрик нахмурился, но на душе у него потеплело. — Что ты хочешь этим сказать, Мунглам? — Я стараюсь извлечь выводу из любого положения, даже самого безнадежного. — Коротышка ухмыльнулся, полез в кошелек, вытащил оттуда сверкающий драгоценный камень. — У меня их несколько, и каждый стоит целого состояния. — Он взял альбиноса за руку. — Пойдем, Эльрик… какие новые страны хочешь ты посетить, чтобы обменять эти безделушки на хорошее вино и милых женщин? Шаарилья, стоя на склоне горы, тоскливо смотрела им вслед. Огромный изумруд выпал из ее пальцев, сверкнул на солнце, затерялся в высокой траве. Когда Мунглам и Эльрик скрылись из виду, девушка повернулась и через мгновенье исчезла в черной пасти пещеры подземного мира.
КНИГА ТРЕТЬЯ ПОЮЩАЯ ЦИТАДЕЛЬ
Десять тысяч лет управляла Великая Империя Мельнибонэ миром; ее золотые галеры властвовали над морями, ее драконы покорили самые отдаленные уголки планеты. Колдуны-Императоры, которые, как и все мельнибонийцы, отличались от обычных людей высоким ростом и тонкими чертами лица, были горделивы, мстительны, чувственны, темпераментны и обладали огромными знаниями. Они могли путешествовать по другим измерениям, созерцать такие чудеса, о существовании которых даже не подозревали на Земле. И они с презрением относились к своим меньшим братьям из Молодых Королевств, полагая, что люди созданы либо для их забавы, либо для рабского труда во благо Мельнибонэ. Но по прошествии десяти тысяч лет Великая Империя начала терять свое могущество, сломленная силами, ей неподвластными. Только Имрирр Прекрасный оставался неприступен, по и его дни были сочтены. Наступила эпоха процветания Молодых Королевств, продолжавшаяся несколько столетий; с невиданной быстротой возникали и рушились Империи, такие, как: Шигот, Майдак, Саалим, Ильмиора и некоторые другие. А затем начались великие перемены; Судьба предрешила участь людей и богов, чудовищные битвы гремели повсюду, великие дела свершались ежечасно. Пришло время героев. Самим, известным из них был Эльрик, последний Император Мельнибонэ, обладатель черного меча, испещренного рунами. Возможно, слово «герой» не совсем подходило Эльрику, предавшему своих соотечественников, а затем погубившему соратников по оружию, которые помогли ему до основания разрушить Город Мечты, но тогда он еще не знал, что все происшедшее с ним было частью великого плана, подготовленного высшей силой. Последний Император Мельнибонэ, гордый Властелин Развалин, стал скитальцем, которого боялись и ненавидели люди из Молодых Королевств. Эльрик, альбинос с красными глазами, колдун и убийца, не мог представить себе, какую роль ему предназначено сыграть…Хроника «Повелителя Бурь».
Глава первая
Вечерело. Бирюзовое море лениво катило волны, искрящиеся в солнечных лучах. На палубе галеры у перил борта стояли два человека. Один из них, одетый в черный плащ с капюшоном, откинутым на плечи, был высоким статным альбиносом; другой — невысок ростом, с копной огненно-рыжих волос, пряди которых падали на лоб. — Она была хорошей женщиной и, главное, любила тебя, — сказал коротышка, нарушив затянувшееся молчание. — Зачем ты так резко ее бросил? — Она была хорошей женщиной, — согласился его собеседник, — но за ее любовь пришлось бы слишком дорого платить. Пускай ищет свое счастье в стране, где никто не будет считать ее неполноценной. Однажды я убил женщину, дороже которой у меня не было никого на свете, и не хочу новых жертв. Мунглам пожал плечами. — Иногда мне кажется, Эльрик, что судьба, о которой ты все время говоришь, не более чем плод твоего больного воображения. Напрасно ты сам себя мучаешь. — Возможно, — небрежно ответил альбинос. — Но мне не хочется проверять на практике правоту твоих слов. Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. Гребцы дружно налегали на весла, море пенилось за кормой судна, час за часом приближавшегося к порту Дакосу, столице Джаркора, одного из самых могущественных Молодых Королевств. Прошло около двух лет с тех пор, как король Джаркора Дармит погиб в рейде на Имрирр, и Эльрик слышал, что джаркорцы винят его в смерти молодого короля, хотя он и не был в ней виноват. Впрочем, альбиносу, по-прежнему презирающему почти всех людей, было безразлично, как они к нему относятся. — Через час стемнеет, а вряд ли мы будем плыть ночью, — сказал Мунглам. — Пойду-ка я спать. Эльрик посмотрел на него, и в это время дозорный, сидевший в «вороньем гнезде» на мачте, громко крикнул: — Парус по левому борту! — Видимо, он уснул на вахте и только сейчас проснулся — корабль был виден прямо с палубы. Эльрик уступил место выскочившему из своей каюты капитану, темнокожему таркешиту. — Что это за судно, капитан? — спросил Мунглам. — Боевая трирема с острова Пан Танг. Они собираются нас таранить. Капитан побежал на корму, отдавая распоряжения громким голосом, а Эльрик и Мунглам подошли к противоположному борту, чтобы лучше разглядеть трирему. Ее корпус и два треугольных паруса с золотой окаемкой были выкрашены в черный цвет, за каждым веслом сидели трое матросов — на одного больше, чем на галере. Трирема выглядела мощной и одновременно элегантной, с высокой кормой и низко опущенным носом, к которому был прикреплен бронзовый таран, вздымающий на ходу высокие, волны. Рабов на таркешитской галере охватила паника. Они вразнобой били веслами по воде, неловко пытаясь выполнить распоряжения капитана. Мунглам, улыбаясь, повернулся к Эльрику. — Ничего у них не выйдет. Приготовься к битве, друг мой. На острове Пан Танг жили волшебники — несколько человек, стремившихся подражать колдунам Мельнибонэ, Их мощные триремы не уступали лучшим кораблям Молодых Королевств, и они практически безнаказанно совершали рейды на прибрежные государства. Теократ Пан Танга, некто Джагрен Лерн, заключил, по слухам, договор с Повелителями Хаоса и собирался завоевать весь мир. Эльрик считал этих доморощенных волшебников неумелыми выскочками, которым никогда не удастся достичь тех высот, где властвовали его великие предки, но и альбинос вынужден был признать, что трирема выглядела достаточно внушительно и с легкостью могла захватить в плен таркешитскую галеру. Вскоре стало ясно, что столкновение неизбежно, а еще через несколько секунд бронзовый таран ударил в корму, пробил в корпусе дыру ниже ватерлинии. Эльрик стоял неподвижно, глядя, как на галеру летят абордажные крючья. Понимая, что им не справиться с хорошо вооруженной командой триремы, таркешитские рабы и матросы тем не менее приготовились к бою. — Эльрик! — голос Мунглама вывел альбиноса из оцепенения. — Мы должны помочь! Эльрик неохотно кивнул. Ему неприятна была сама мысль о том, что снова придется вытаскивать рунный меч из ножен, «Повелитель Бурь» — сверхъестественное оружие, — казалось, обладал разумом; между ним и Эльриком существовала неразрывная связь. Альбинос не мог выжить без рунного меча, но и «Повелитель Бурь» не мог существовать без человека, убивающего им своих жертв. Черное лезвие питалось душами живых существ, отдавая часть полученной энергии своему хозяину. Воины в алых доспехах ринулись на корму галеры, сломали строй матросов и рабов. Боевые топоры и секиры обагрились кровью. Эльрик сжал рукоять своего меча, выхватил его из ножен. По черному лезвию заструилось черное сияние, оно застонало, словно в предвкушении добычи, задрожало в руке альбиноса, бросившегося на помощь защитникам галеры. Более половины матросов были убиты буквально в течение нескольких секунд, оставшиеся в живых беспорядочно отступали. Эльрик выбежал вперед, Мунглам не отставал от него ни на шаг. Свирепая радость, которой дышали лица воинов в алых доспехах, сменилась изумлением, когда испещренный рунами черный меч перерубил одного из нападавших от плеча до нижних ребер. Эльрика узнали сразу — о нем и о «Повелителе Бурь» ходили легенды. И хотя Мунглам был прекрасным фехтовальщиком, пираты Пан Танга не обратили на него внимания, понимая, что ни один из них не останется в живых, если им не удастся убить альбиноса. Горячая кровь предков вскипела в Эльрике, слепая жажда мести охватила его. Он и меч стали едины, но не Эльрик управлял «Повелителем Бурь», а «Повелитель Бурь» — Эльриком. Люди падали как колосья, скошенные серпом, крича скорее от ужаса, чем от боли: они чувствовали, чего именно их лишает дьявольское лезвие. На альбиноса напали сразу четверо воинов с боевыми топорами. Он отрубил одному голову, вспорол живот другому, отсек третьему руку и пронзил сердце четвертому. Таркешиты победно кричали, помогая Эльрику и Мунгламу очищать галеру от врагов. Воя, как волк, Эльрик схватился за канат с абордажным крюком на конце и перепрыгнул на палубу триремы. — За мной! — вскричал Мунглам, последовав примеру альбиноса. — Это наш единственный шанс спастись! На высокой корме триремы стоял капитан в красивых красных с голубым доспехах. На лице его был написан ужас. Он не сомневался, что добыча будет легкой, а сейчас сам стал добычей! «Повелитель Бурь» пел в экстазе, а Эльрик пробивался к корме, рубя направо и налево. Воины в страхе расступились, сосредоточив все усилия, чтобы сдержать натиск матросов и рабов во главе с Мунгламом. Капитан — один из знатных священников — приготовился к сражению. Эльрик заметил, что от его доспехов исходило слабое свечение — они были заколдованы. Коренастый, с густой черной бородой и орлиным носом капитан был типичным представителем теократии Пан Танга. Улыбаясь толстыми красными губами, сжимая в правой руке меч, а в левой — боевой топор, он ждал, когда альбинос приблизится к нему. Эльрик вбежал на высокую корму, сделал выпад; капитан парировал, отступил в сторону, нанес удар боевым топором по незащищенной голове альбиноса. Эльрик резко пригнулся, не удержался на ногах, упал на палубу, быстро перекатился с боку на бок. В то место, где он только что лежал, вонзилось острие меча. «Повелитель Бурь» поднялся по своей воле, отразил еще один удар боевого топора, перерубил его рукоятку. Капитан выругался, схватился за меч обеими руками, занес его над головой. И вновь «Повелитель Бурь» оказался быстрее своего хозяина. Он метнулся к сердцу священника, задержался на секунду, наткнувшись на невидимую преграду, взвыл от ярости, задрожал, словно собираясь с силами, и расколол заколдованные доспехи, как скорлупу ореха. Капитан с обнаженной грудью стоял, не веря собственным глазам, позабыв обо всем на свете. Он не отрываясь смотрел на испещренное рунами черное лезвие, победно взвывшее и вонзившееся ему в сердце. Лицо его перекосилось, он выронил свой меч, схватился за «Повелителя Бурь», который высасывал его душу. — Великий Чардрос!.. нет, нет, только не это… ахххх! — Он умер, зная, что душа его тоже погибла, поглощенная дьявольским оружием, которым убил его альбинос. Эльрик вытащил рунный меч из трупа, в очередной раз чувствуя прилив сил. Тем временем на палубе остались только рабы во главе с Мунгламом, но трирема, связанная с галерой абордажными крючьями и застрявшим в корме тараном, опасно накренилась. — Рубите канаты! Задний ход! — вскричал Эльрик. — Быстрее! — Рабы кинулись исполнять его приказание. Весла затабанили, канаты были перерублены, и тонущая галера стала медленно погружаться в глубину вод. Эльрик окинул взглядом свою команду. В живых осталось меньше половины матросов и рабов; капитан погиб при первой атаке. — Если хотите получить свободу, — сказал альбинос, обращаясь к рабам, — гребите в Дакос как можно скорее. — Солнце садилось, но Эльрик решил плыть ночью, ориентируясь по звездам. — Зачем ты предложил им свободу? — недоуменно вскричал Мунглам. — Мы могли бы продать их в Дакосе и хоть немного компенсировать себя за сегодняшние труды! Эльрик пожал плечами. — Мне так захотелось, Мунглам. Коротышка вздохнул, отвернулся, глядя, как матросы выкидывают трупы воинов Пан Танга за борт, Он решил, что никогда не поймет альбиноса, но не стал особо расстраиваться по этому поводу. Так и получилось, что Эльрик, намеревавшийся остаться неузнанным, вошел в порт Дакос с триумфом. Предоставив Мунгламу продать трирему и распределить половину вырученных денег между матросами, Эльрик пробрался сквозь толпу на причале и пошел в гостиницу у западных ворот города, в которой он не раз бывал.Глава вторая
Мунглам давно отправился спать, а Эльрик продолжал сидеть в полутемной таверне и пить вино. Даже завсегдатаи покинули комнату, когда узнали того, кто в ней сидит, и альбинос остался в полном одиночестве. Внезапно дверь отворилась, на пороге появился молодой человек в богатой одежде. — Я ищу Белого Волка, — сказал он, вглядываясь в полумрак. — Иногда меня называют этим именем, — спокойно ответил альбинос. — Тебе нужен Эльрик из Мельнибонэ? — Да. У меня к нему поручение. — Незнакомец подошел к столику, не снимая плаща. В таверне было холодно. — Я — граф Йолан, капитан королевской стражи, — надменно сказал он, окидывая Эльрика бесцеремонным взглядом. — Наверное, ты ничего не боишься или думаешь, что у джаркорцев короткая память. Но мы не забыли, как всего два года назад ты заманил нашего короля в ловушку! Прихлебывая вино, Эльрик посмотрел поверх бокала на молодого человека. — Все это пустая болтовня, граф Йолан. Что тебя просили мне передать? От уверенности Йолана не осталось и следа, он нерешительно переступил с ноги на ногу. — Может, для тебя это и пустая болтовня, но я никогда не забуду короля Дармита, который был бы жив и здоров, если б ты не бросил его в сражении за Имрирр. Разве ты не предал своих товарищей по оружию и удрал, прибегнув к волшебной силе, вместо того, чтобы оказать им помощь? Эльрик вздохнул. — Насколько я понимаю, ты искал меня не для того, чтобы со мной поссориться. К тому же Дармит погиб прежде, чем мы вошли в морской лабиринт. — Ты увиливаешь от моих вопросов и неуклюже лжешь, пытаясь оправдать собственную трусость, — с горечью сказал Йолан. — Будь на то моя воля, я убил бы тебя твоим собственным мечом, который, как я слышал, испил достаточно мельнибонийской крови. Эльрик медленно поднялся на ноги. — Твои мальчишеские выходки утомили меня. Когда успокоишься, передай то, что тебе велено, хозяину гостиницы. — Он вышел из-за столика, направился к лестнице, но остановился, почувствовав, что Йолан схватил его за рукав. Красные глаза на мертвенно-бледном лице альбиноса зажглись недобрым огнем. Он посмотрел на Йолана в упор. — Я не привык к подобной фамильярности, молодой человек. Йолан отдернул руку. — Прости меня. Я позволил своим чувствам возобладать над разумом. У меня к тебе важное и деликатное дело… королева Йишана нуждается в твоей помощи. — Я так же не люблю оказывать помощь, как объяснять свои поступки, — нетерпеливо сказал Эльрик. — Те, кто просили меня оказать им услуги, не всегда оказывались в выигрыше, и пример тому — король Дармит, брат Йишаны. — То же самое и я говорил королеве, — хмуро произнес Йолан. — Но она не захотела ко мне прислушаться и просила передать, что хочет увидеться с тобой наедине… сегодня ночью. — Лицо графа перекосилось, он отвернулся. — Мне остается упомянуть, что я могу тебя арестовать, если ты откажешься. — Возможно. — Эльрик пожал плечами. — Передай Йишане, что эту ночь я проведу в вашем городе, а наутро отправлюсь в путь. Если дело ее такое срочное, я согласен принять ее здесь. Альбинос не торопясь начал подниматься по лестнице, а граф Йолан смотрел ему вслед с широко открытым от изумления ртом.Телеб К'аарна хмурился. Он был адептом черной магии, но новичком в любви, и Йишана, распростертая на меховом покрывале, прекрасно это знала. Ей доставляло удовольствие властвовать над человеком, который мог уничтожить ее одним движением пальца. Хотя Телеб К'аарна принадлежал к иерархии священников Пан Танга, Йишана не сомневалась, что колдун никогда не причинит ей вреда. Скорее наоборот, интуиция подсказывала королеве, что тому, кто любит подчинять себе других, в свою очередь необходимо кому-нибудь подчиниться. И Йишана бессовестно этим пользовалась. Продолжая хмуриться, Телеб К’аарна искоса посмотрел на нее. — Чем может помочь тебе этот выродок, если у меня ничего не получилось? — пробормотал он, усаживаясь на кровать и гладя Йишану по голой ноге, обутой в туфельку, усыпанную драгоценными камнями. Йишана была и немолода, и некрасива, но что-то гипнотическое таилось в ее высокой пышной фигуре, черных, как вороново крыло, волосах, чувственном лице. И если она решала кого-нибудь соблазнить, мало кто мог устоять перед ее чарами. Нельзя было также назвать королеву нежной, доброй, мудрой или справедливой. Вряд ли будущие историки поставили бы один из этих эпитетов перед ее именем. Тем не менее, она казалась настолько необычной, так сильно отличалась от других женщин, что ее любили все подданные, хотя и относились к ней, как к капризному ребенку, чьи прихоти надо удовлетворять. Сейчас она тихо рассмеялась, явно поддразнивая своего любовника-колдуна. — Возможно, ты прав, Телеб К'аарна, но об Эльрике ходят легенды. О нем очень много говорят, но ничего не знают. Быть может, мне удастся понять, что он из себя представляет? Телеб К’аарна нетерпеливо махнул рукой, погладил свою большую черную бороду. Встав с кровати, он подошел к столику, налил два кубка вина, вернулся к Йишане. — Если ты снова хотела вызвать во мне ревность, у тебя это получилось. Но я не верю, что ты добьешься успеха. Предки Эльрика были демонами, он не принадлежит к нашей расе, его нельзя мерить человеческими мерками. Знания Эльрика интуитивны; то, что дается нам, магам, годами упорного труда, для него естественно. Ты можешь умереть, прежде чем что-нибудь о нем узнаешь. Он убил Каймориль, свою сестру, а она была его невестой! — Твоя забота меня трогает. — Лениво протянув руку, Йишана взяла один из кубков с вином. — И тем не менее, я не откажусь от своих намерений. В конце концов, ты не можешь похвастаться, что успешно разрешил загадку цитадели! — Существуют тонкости, в которые я пока еще не вдавался! — Что ж, в таком случае проверим, не поможет ли нам интуиция Эльрика! — Она улыбнулась, оперлась на локоть, посмотрела в окно. На чистом небе светила полная луна. — Странно, что Йолана до сих пор нет. Если все прошло гладко, он давно должен был привести Эльрика ко мне. — Напрасно ты отправила за Эльриком близкого друга Дармита. Не удивлюсь, если он вызвал альбиноса на дуэль и убил его! И вновь Йишана не смогла удержаться от смеха. — О, ты пристрастен, и это мешает тебе трезво мыслить. Я специально послала Йолана, зная его пылкий нрав. Думаю, грубость графа возбудит любопытство Эльрика, после чего он обязательно к нам придет! — Если не разгадает твоей маленькой хитрости. — Я, конечно, не отличаюсь большим умом, любимый, но инстинкты редко меня подводят. Посмотрим, кто из нас окажется прав. Через некоторое время в дверь деликатно постучали, и горничная доложила: — Ваше Величество, граф Йолан вернулся. — Один? — Телеб К’аарна не смог удержаться от улыбки. Этой улыбке скоро суждено было исчезнуть. Тепло одевшись, Йишана вышла из своих покоев. — Дура! — вскричал он, когда дверь за королевой захлопнулась, и в сердцах швырнул серебряный кубок на пол. — Если Эльрику удастся решить загадку цитадели… Телеб К’аарна глубоко задумался.
Глава третья
Хотя Эльрик и утверждал, что ему все было безразлично, его измученные глаза говорили об обратном. Альбинос сидел у окна, пил крепкое вино бокал за бокалом. После падения Имрирра Прекрасного последний Император Мельнибонэ странствовал по свету, стараясь понять, зачем он живет, в чем смысл его существования. Совсем недавно он пытался найти ответы на эти вопросы в Книге Мертвых Богов, хранившей, согласно легендам, разгадки всех тайн Вселенной, но страницы Книги за тридцать тысяч лет превратились в сухую пыль. Он хотел полюбить Шаарилью, бескрылую женщину из Миирна, но не смог позабыть Каймориль, каждую ночь снившуюся ему во сне. Покой, — думал он, — единственное, чего я хочу. А мне отказано даже в смерти. С каждой минутой альбинос мрачнел все больше и больше. Неожиданно в дверь тихонько постучали. В ту же секунду лицо его словно окаменело. Красные глаза настороженно блеснули. Он расправил плечи, поднялся на ноги: вся его поза выражала холодное высокомерие. Поставив бокал на стол, альбинос небрежно произнес: — Войдите! Дверь открылась и тут же закрылась за женщиной, закутанной в красный плащ. Она остановилась на пороге, помолчала, затем негромко произнесла: — Ты сидишь в темноте, милорд Эльрик. Я думала, ты спишь… — Спать, госпожа, слишком скучно. Но если тебе не нравится темнота, я зажгу свет. — Он подошел к столу, снял крышку с сосуда, где тлели угли, положил на них щепку. Когда та разгорелась, он поднес ее к факелу, висевшему на стене. Факел вспыхнул, по небольшой комнате заплясали тени. Женщина откинула капюшон плаща, встряхнула черными, как вороново крыло, волосами, обрамлявшими чувственное лицо. Она резко отличалась от высокого худого альбиноса, который бесстрастносмотрел на нее. Женщина явно не привыкла к подобным взглядам. Но новизна чувств, которую она сейчас испытала, ей понравилась. — Ты послал за мной, милорд Эльрик, и, как видишь, я пришла. — Она сделала шутливый реверанс. — Королева Йишана. — Эльрик ответил на реверанс легким поклоном. Стоя перед альбиносом, Йишана почувствовала его притягательную силу, которая, видимо, была намного больше, чем у нее самой. И тем не менее, он ни словом, ни жестом не выдал, что его хоть как-то к ней тянет. Йишана невольно подумала, что вместо легкой победы, на которую она рассчитывала, ее может ждать горькое разочарование. Как ни странно, но и эта мысль позабавила королеву. Эльрик, в свою очередь, заинтересовался стоявшей перед ним женщиной, сам того не желая. В нем начали пробуждаться чувства, о которых он старался не думать, Это взволновало его и одновременно привело в смятение. Заставив себя расслабиться, он пожал плечами. — Я слышал о тебе, королева Йишана. Присаживайся, если хочешь. — Он указал ей на деревянную скамью у стола, а сам сел на краешек кровати. — Ты куда любезнее, чем мне показалось со слов графа Йолана. — Она улыбнулась, села, положила ногу на ногу, скрестила руки на груди. — Означает ли это, что ты готов выслушать мое предложение? Он улыбнулся ей в ответ. Эльрик редко так улыбался — немного угрюмо, но без горечи. — Да. Ты — необычная женщина, королева Йишана. Я бы заподозрил, что в тебе течет мельнибонийская кровь, если б не знал, что это невозможно. — Не все «выскочки» из Молодых Королевств так глупы, как ты предполагаешь, милорд. — Возможно. — Теперь, когда мы встретились лицом к лицу, мне трудно поверить в те страшные легенды, которые о тебе сложены… хотя, с другой стороны… — Она наклонила голову на бок, окинула его откровенным взглядом. — …в них говорится о куда более грубом человеке, чем тот, которого я вижу перед собой. — На то они и легенды. — Ах, — прошептала она, — какой силой мы были бы вместе, ты и я… — Рассуждения на эту тему мне неприятны, королева Йишана. Зачем ты пришла? — Прости. Честно говоря, я не надеялась, что ты согласишься меня выслушать. — Я тебя выслушаю, но на большее не рассчитывай. — Тогда начнем. Думаю, мой рассказ заинтересует даже тебя. Йишана не ошиблась.— Несколько месяцев тому назад, — говорила Йишана Эльрику, — крестьяне гаравианской провинции Джаркора сообщили, что какие-то загадочные всадники крадут из деревень молодых мужчин и женщин. Не сомневаясь, что речь идет о шайке преступников, Йишана послала в провинцию полк Белых Леопардов, лучших солдат Джаркора, приказав им уничтожить бандитов. Ни один солдат не вернулся. Второй полк, посланный вслед за первым, не нашел и следа своих товарищей, но в долине близ города Такора Леопарды обнаружили странную цитадель, все время меняющую свои очертания. Командир второго полка, заподозрив неладное, оставил несколько солдат наблюдать за долиной, а сам поскакал с донесением в Дакос, В одном можно было не сомневаться: цитадель появилась в гаравианской провинции не более двух месяцев назад. Йишана и Телеб К’аарна во главе большой армии отправились к Такору. Люди, оставленные командиром полка для наблюдений, исчезли, и как только Телеб К'аарна увидел цитадель, он тут же предупредил Йишану, что захватить ее невозможно. — Это было удивительное зрелище, милорд Эльрик, — продолжала Йишана. — Цитадель сверкала, переливалась всеми цветами радуги. Она казалась нереальной, то резко выделяясь на фоне неба, то исчезая и расплываясь в тумане. Телеб К’аарна сказал, что это — волшебное сооружение, посланное из Измерений Хаоса. — Йишана поднялась со скамейки, распростерла руки. — Мы, джаркорцы, плохо разбираемся в колдовстве. Но и Телеб К’аарна, черный маг из города Кричащих Статуй на Пан Танге, признался, что никогда не встречал ничего подобного. — Вы отступили? — нетерпеливо спросил Эльрик. — Мы повернули назад, когда зазвучала музыка… Она была нежной, прекрасной, неземной, рвущей душу на части. Телеб К’аарна закричал, чтобы я скакала во весь опор. Я замешкалась, очарованная сладостными звуками, и тогда он хлестнул плеткой моего коня, и мы помчались, словно за нами гнались драконы. Те, кто были рядом с нами и впереди нас, спаслись, а остальные повернули коней и поскакали к цитадели. Более двухсот человек вошли в нее и исчезли. — Что вы предприняли? — спросил Эльрик. Йишана сделала несколько шагов и села рядом с ним на кровать. Он чуть подвинулся, освобождая ей место. — Телеб К'аарна попытался исследовать цитадель, определить, кто ее хозяин и какие цели он преследует. Ему удалось выяснить совсем немногое: Хаос послал на Землю цитадель, которая медленно, но верно увеличивается в размерах. Слуги Хаоса похищают все больше и больше наших молодых людей. — Кто эти слуги? — Загадочные всадники. Крестьяне, которые пытались помешать им, погибли. — Йишана вновь придвинулась к Эльрику, и на этот раз альбинос остался сидеть на месте. — Чего же ты от меня хочешь? — Помощи. — Она наклонилась к нему, дотронулась до его лица. — Ты обладаешь знаниями о Законе и Хаосе, древними, инстинктивными знаниями, если верить Телебу К’аарне. Ведь Повелители Хаоса — твои боги. — Ты абсолютно права, Йишана, и именно потому, что мои покровители — боги Хаоса, я не хочу сражаться с одним из них. Он повернулся к ней, улыбаясь, посмотрел ей в глаза. Затем внезапно обнял и привлек к себе. — Возможно, ты окажешься достаточно сильной, — загадочно сказал он, прежде чем их губы слились. — А что касается твоего дела, мы поговорим о нем позже.
В зеленых глубинах темного зеркала Телеб К'аарна видел урывками то, что происходило в комнате Эльрика, и кусал себе губы в бессильной злобе. Туманные образы расплылись, исчезли, и черный маг изо всех сил дернул себя за бороду. На этот раз ему не помогли никакие заклинания: зеркало осталось темным. Откинувшись на спинку кресла из змеиных голов, Телеб К'аарна строил планы мести. Он решил, что идея его должна вызреть, а если Эльрик окажется полезен в деле с цитаделью, уничтожить его можно будет после…
Глава четвертая
На следующий день трое всадников отправились в путь по направлению к городу Такору. Эльрик и Йишана скакали рядом; Телеб К'аарна держался от них на некотором расстоянии, но в пределах слышимости. Если Эльрика и смущало поведение колдуна, чье место он занял в постели и сердце его любовницы, он ничем не проявлял этого. Альбинос, поневоле увлекшийся Йишаной, согласился осмотреть цитадель и высказать о ней свое мнение. Перед отъездом он перекинулся несколькими словами с Мунгламом. Они скакали по прекрасным долинам Джаркора, освещенным золотыми лучами солнца. До Такора было два дня пути, и Эльрик намеревался как следует отдохнуть. Чувствуя себя не таким несчастным, как всегда, он скакал галопом рядом с Йишаной, смеясь, когда она радовалась цветочку или травинке, словно ребенок. Тем не менее, у альбиноса появилось какое-то мрачное предчувствие, усилившееся по мере их приближения к цитадели. К тому же он заметил, что на лице Телеба К'аарны изредка появляется довольное выражение, что в сложившейся ситуации было необъяснимо. Иногда Эльрик кричал черному магу: — Ого-го, заклинатель змей! Неужели тебе не хочется порезвиться на лоне природы? Вдохни чистый воздух полной грудью, Телеб К’аарна, и повеселись вместе с нами! В эти минуты лицо волшебника с острова Пан Танг вытягивалось, он начинал что-то бормотать себе под нос, а Йишана смеялась и смотрела на Эльрика влюбленными глазами. Когда они подъехали к Такору, на месте города была огромная дымящаяся яма, из которой несло, как из помойки. — Это — дело рук Хаоса, — сказал Эльрик. — Тут ты оказался прав, Телеб К'аарна. Только сверхъестественный огонь мог до такой степени уничтожить большой город. И тот, кто его зажег, постепенно набирает силу. Как тебе известно, колдун, силы Закона и Хаоса, как правило, находятся в идеальном равновесии; ни один из богов не станет открыто переделывать нашу Землю. Видимо, оно было нарушено, как часто бывает, и чаша весов склонилась на сторону Повелителей Хаоса, позволив им захватить часть нашего измерения. Любой волшебник может прибегнуть к помощи богов и на короткое время вызвать их к себе, но крайне редко Закону или Хаосу удается утвердиться здесь так прочно, как удалось нашему приятелю из цитадели. Для Молодых Королевств это очень плохо, потому что, получив даже маленькую зацепку, Хаос постепенно завоюет всю Землю. — О боги! — пробормотал Телеб К’аарна. Хоть он и прибегал иногда к помощи Хаоса, жить под его пятой не захотел бы ни один нормальный человек. Эльрик тряхнул поводьями своего коня. — Теперь поскачем в долину. — Ты уверен, что это не опасно? — нервно спросил Телеб К’аарна. Эльрик рассмеялся. — Что я слышу? И это говорит колдун из Пан Танга, один из приближенных Первосвященника, утверждающего, что знает о волшебстве столько же, сколько мои великие предки, Императоры Мельнибонэ! Конечно же мы отправимся посмотреть на цитадель, тем более что сегодня мне не хочется осторожничать! — И мне тоже! — вскричала Йишана, пришпоривая коня. — Вперед, господа, — в цитадель Хаоса!Стоял полдень, когда они остановились на вершине одного из холмов, окружающих долину, в которой находилась загадочная цитадель. Йишана хорошо ее обрисовала, но многого не увидела. У Эльрика разболелись глаза при взгляде на сооружение, простирающееся за пределы Земли в одно, а может, в несколько других измерений. Цитадель сверкала и переливалась всеми цветами радуги, известными и неизвестными на Земле, ее очертания постоянно менялись. Долина, в которой она стояла, была покрыта черным пеплом, изредка вздымавшимся вверх небольшими фонтанами. — Ну? — Телеб К’аарна с трудом успокоил лошадь, захрипевшую и попятившуюся при виде цитадели. — Видел ли ты что-нибудь подобное в нашем мире? Эльрик покачал головой. — В нашем мире — нет, но эту цитадель я знаю. Во время моего посвящения отец показал мне Измерения Хаоса и представил меня моему покровителю, Ариоху, Повелителю Семи Кругов Тьмы… Телеб К’аарна задрожал. — Ты побывал в Измерениях Хаоса? Значит, перед нами цитадель Ариоха? Эльрик презрительно усмехнулся. — Этот сарай? Разве можно сравнить его с дворцами Повелителей Хаоса? — В таком случае, кто хозяин цитадели? — нетерпеливо спросила Йишана. — Когда в далекой юности я путешествовал по измерениям Хаоса, в ней жил, если не ошибаюсь, вовсе не бог, а слуга богов… впрочем, нет, не совсем слуга… Эльрик нахмурился, роясь в своей памяти. — Ха! Ты говоришь загадками. — Телеб К’аарна развернул коня, явно намереваясь отъехать от цитадели подальше. — Знаю я вас, мельнибонийцев! Помирая с голода, вы предпочтете сочинить хороший парадокс, чем съесть кусок хлеба! — Он поскакал вниз по склону холма. Эльрик и Йишана медленно последовали за ним, затем альбинос остановился, обернулся через плечо. — Вспомнил! Хозяин цитадели — большой любитель парадоксов, придворный шут. Повелители Хаоса уважают его, даже слегка побаиваются, хоть он и развлекает их, придумывая космические головоломки или слагая забавные стишки о Руке, которая держит Весы, управляющие Законом и Хаосом; он высмеивает то, что дорого сердцу богов, не воспринимает всерьез того, над чем они задумываются… — Эльрик умолк, пожал плечами. — По крайней мере так мне рассказывали. — Почему он здесь обосновался? — А почему он должен был обосноваться в другом месте? Никто, даже Повелители Высших Измерений, не может объяснить действий Бало, придворного шута. Говорят, он единственный, кто свободно перемещается по Королевствам Закона и Хаоса. Правда, я никогда не слышал, чтобы Бало разрушал города или захватывал кого-нибудь в плен, но ведь и на Земле он впервые. В общем, то, что происходит — загадка, как раз в стиле Бало. — Существует только один способ выяснить, что ему здесь надо, — сказал Телеб К’аарна с легкой усмешкой. — Зайти в цитадель. — А ты болтун, волшебник из Пан Танга. — Эльрик пожал плечами. — Я, конечно, не ценю свою жизнь, но есть вещи, которые мне дороги, — моя душа, например! Не говоря ни слова, Телеб К’аарна поскакал вниз по холму. Эльрик и Йишана остались на месте. Казалось, альбинос о чем-то глубоко задумался. — Мне кажется, ты напрасно так тревожишься, Эльрик, — сказала Йишана, пристально глядя на него. — У меня есть все основания для тревоги. В глубине души я чувствую, что, исследуя цитадель, мы окажемся втянутыми в спор между Бало и Повелителями Хаоса, а может, и Закона. Если это произойдет, нас ждет верная гибель: ни один смертный не выстоит против тех сил, которые будут пущены в код. — Нельзя же сидеть сложа руки и смотреть, как Бало уничтожает наши города и захватывает в плен наших юношей и девушек! Если его не остановить, он завоюет весь Джаркор! Эльрик вздохнул, но ничего не ответил. — Разве ты не можешь с помощью колдовства отправить Бало обратно в Измерение Хаоса? — Даже мельнибонийцы не в состоянии соперничать с Повелителями Высших Измерений, а у моих отцов и дедов знаний было больше, чем у меня. Мои помощники не служат ни Закону, ни Хаосу, это — духи огня, земли, воды и воздуха, повелители некоторых животных и растений. Они могут помочь мне в обычной битве, но практически бессильны перед такими, как Бало. Я должен подумать… По крайней мере, выступив против шута, я вряд ли навлеку на себя гнев моих покровителей. С другой стороны… Яркое солнце освещало холмы, поросшие густой зеленой травой. Какая-то хищная птица парила высоко в чистом небе. Телеб К'аарна, остановившийся у подножья холма, помахал рукой и что-то прокричал, но слов было не разобрать. Йишана, казалось, совсем упала духом. Плечи ее поникли, она смотрела куда-то в сторону. Эльрик понимал, что его нерешительность произвела на нее неприятное впечатление, но не особо печалился по этому поводу. В конце концов, какое ему было дело… Зазвучала музыка: нежная, мелодичная, навевающая приятные воспоминания, зовущая в неведомые дали. Эльрик подавил в себе невольное желание подчиниться этому зову, но Йишана не смогла устоять перед ним. Щеки ее пылали, губы дрожали, из глаз текли слезы. Эльрик, путешествуя по многим измерениям, не раз слышал подобную музыку, характерную и для многих мельнибонийских симфоний. Она не оказала на него такого действия, как на Йишану. Понимая, что королеве грозит опасность, он схватил ее коня за уздечку. Йишана мгновенно ударила его по руке хлыстом, пришпорила коня, в несколько секунд очутилась на вершине холма и скрылась из виду. — Йишана! — в отчаянии закричал альбинос, но музыка заглушила звуки его голоса. Эльрик оглянулся, надеясь, что Телеб К’аарна придет ему на помощь, но колдун во весь опор скакал обратно по дороге, ведущей к сожженному городу. Альбинос кинулся вдогонку за Йишаной. Неподалеку от цитадели копыта ее лошади начали ступать не по земле, а по волнам переливающегося света. Внезапно Эльрик увидел не одну, а десять Йишан, входящих в десять ворот цитадели. Иллюзия была настолько полной, что невозможно было отличить настоящую женщину от ее отражений. Внезапно музыка стихла. Эльрику показалось, что кто-то негромко рассмеялся. Альбинос спешился, ноги его по щиколотки погрузились в розовый туман. Испуганная лошадь, хрипя и бешено вращая глазами, умчалась прочь. Эльрик положил левую руку на рукоять «Повелителя Бурь», задумался. Если он обнажит рунный меч, тот потребует принести ему в жертву чью-нибудь душу, прежде чем позволит вложить себя в ножны. Эльрик вздохнул, сделал шаг вперед. «Повелитель Бурь» задрожал, ножны дернулись. — Подожди, — сказал своему мечу альбинос. — Пока еще неизвестно, с кем нам предстоит сражаться. Он продолжал идти, окутанный серебряными, голубыми, красными, зелеными, желтыми, золотыми волнами света. Он не понимал, куда идет, ничего не видел вокруг. Подобные ощущения он испытывал, когда путешествовал по измерениям Хаоса. Исчезло пространство, исчезло время, он словно плыл против течения, и мысли в его голове путались. Понимая, что так продолжаться не может, он все-таки решил вынуть рунный меч из ножен. Пусть Хаос борется против Хаоса! Альбинос вновь положил руку на рукоять «Повелителя Бурь», неожиданно почувствовал необычайный прилив сил. Меч буквально вылетел из ножен; по черному лезвию, испещренному рунами, заструилось черное сияние. Разноцветные волны расступились. Из груди Эльрика вырвался боевой клич его предков. Теперь он ясно видел истинный вход в цитадель, а не его отражения. Рубя рунным мечом по танцующим туманным образам, он бросился к открытой двери, на мгновенье остановился на пороге, припоминая заклинание, которое могло ему пригодиться. Губы его беззвучно шевелились. Ариох, Повелитель Хаоса, покровитель Императоров Мельнибонэ, был капризным божеством. Вряд ли Эльрик мог рассчитывать сейчас на его помощь, разве что… По длинному коридору величавыми прыжками к альбиносу приближался зверь с густой золотистой шерстью. Его красные глаза горели, как угли, но он смотрел в одну точку и, казалось, был слеп. В нескольких шагах от Эльрика зверь остановился, открыл пасть, обнажив изогнутые красные клыки, присел на задние лапы и взвился в воздух. Эльрик попятился, взмахнул мечом… Тяжелое тело навалилось на него, прижало к земле. Внезапно Эльрик почувствовал, что начинает цепенеть от холода. Он попытался скинуть с себя ледяного зверя. «Повелитель Бурь» тихонько застонал, проколол чудовищу шкуру. Холодная энергия влилась в тело альбиноса. Зверь прижался к нему еще сильнее, из его пасти вырвался жалобный протяжный звук. Видимо, небольшая рана причинила ему боль. Коченея от холода, Эльрик вновь нанес чудовищу удар рунным мечом. И вновь зверь жалобно завыл, а Эльрик почувствовал прилив могучей ледяной силы. Он напряг мышцы, с легкостью сбросил с себя обжигающее холодом существо, которое, скуля, как побитый пес, поползло по коридору. Альбинос вскочил на ноги, занес рунный меч над головой, с размаху опустил черное лезвие на покрытый золотистым мехом череп, расколовшийся, как глыба льда. Альбинос побежал по коридору, слыша со всех сторон громкие крики, визг и стоны. Пол круто уходил наверх, напоминая склон холма. Эльрик остановился, посмотрел вниз, задрожал от ужаса, увидев бездонную пропасть, заполненную извивающимися полосками света, от которых почти невозможно было оторвать взгляд. Он почувствовал, как его тянет в эту пропасть, с трудом справился с желанием броситься в нее, вновь пошел вперед. Наверху тоже извивались полоски света: зеленые, голубые, желтые, темно-красные, черные, оранжевые. Внезапно Эльрик очутился перед узким мостиком над пропастью, в конце которого сиял голубым светом проход под аркой. Двигаясь с крайней осторожностью, он прошел по мостику, миновал арку. Все вокруг, включая его самого, было голубым. «Повелитель Бурь» тихонько застонал, и Эльрик тут же пригнулся, посмотрел по сторонам. Справа от него появился еще один проход под аркой, на этот раз темно-красный. Голубой и красный смешивались друг с другом, превращаясь в лиловый цвет, производящий такой же гипнотический эффект, как извивающиеся полоски в пропасти. И вновь Эльрик справился с собой, заставил себя пройти сквозь темно-красную арку. В ту же секунду слева от него появился зеленый проход через арку, справа — желтый, впереди — лиловато-розоватый. Разноцветные лучи били в Эльрика, как в мишень. Он ударил по ним рунным мечом, и черное сияние на мгновение затмило калейдоскоп красок. Стиснув зубы, Эльрик пошел дальше. Перед ним появилась фигура, похожая на человеческую, но гигантских размеров. Однако подойдя ближе, Эльрик понял, что непонятное существо даже меньше ростом, чем он сам, хотя, глядя на него, создавалось впечатление чего-то необъятного, как будто оно действительно было огромным, а альбинос вдруг увеличился до его размеров. Существо кинулось на Эльрика, прошло сквозь него. Оно казалось плотным, осязаемым, а альбинос, напротив, чувствовал себя бестелесным духом. Великан повернулся, лицо его исказилось злобой, он протянул к Эльрику огромную руку. Эльрик взмахнул «Повелителем Бурь», нанес удар и замер на месте, пораженный до глубины души. Черное лезвие отскочило от груди гиганта, как резиновый мячик от стенки. Руки существа сомкнулись на Эльрике, прошли сквозь него. Альбинос попятился, облегченно вздохнул и тут же вздрогнул, увидев, что свет тоже свободно проходит сквозь его тело. Он действительно стал бестелесным духом! Чувствуя, что может сойти с ума, Эльрик повернулся и побежал вперед. Внезапно он очутился в зале, стены и потолок которого переливались такими же разноцветными полосками, что и весь дворец. В центре зала, держа на ладони крохотных, копошащихся человечков, сидел карлик. Подняв голову, он посмотрел на Эльрика и ухмыльнулся. — Приветствую тебя, Император Мельнибонэ. Как поживаешь, последний повелитель любимой мною земной расы? На карлике был разноцветный шутовской наряд. Голову его украшала высокая, похожая на колпак, корона — пародия на короны могущественных Повелителей Хаоса. Большой рот выглядел нелепым на его угловатом лице. — Здравствуй, рыцарь Бало. — Эльрик отвесил ему шутливый поклон. — Какое странное гостеприимство оказываешь ты повелителю любимой тобою расы. — Ха! Моя шутка пришлась тебе не по вкусу? Впрочем, людям куда труднее угодить, чем богам. Ты согласен со мной? — У людей не так сильно развито чувство юмора. Где королева Йишана? — Позволь и мне развлекаться так, как я хочу, смертный. Кажется, это она. — Бало указал на одну из крошечных фигурок, копошащихся у него на ладони. — С ними намного проще управляться, когда они маленькие, — доверительным тоном сообщил он. — Несомненно. Однако я думаю, это не они меньше нас, а мы больше их. — Ты проницателен, смертный. Но догадываешься ли ты, каким образом можно этого добиться? — Твои бездонные пропасти… полоски света… проходы под арками… они преобразуют что-то… но что именно? — Массу, Император Мельнибонэ, но тебе не понять этой концепции. Даже мельнибонийцы, полубоги и самые разумные из смертных, управляя духами огня, воды, земли и воздуха с помощью заклинаний, так и не поняли, какими силами они управляют. И в этом они отличаются от богов Высших Измерений, которые знают, что делают. — Я прекрасно могу обходиться без заклинаний, потому что сумел подчинить разум своей воле! — Это тебе, конечно, помогло, но ты забываешь о своем великом помощнике… я имею в виду этот раздражающий меня меч, который висит у тебя на поясе. Ты пользуешься им для решения своих жалких проблем, а это все равно, что бить из гарпунов кильку! Твой рунный меч обладает силой и могуществом в любом измерении, Император Эльрик! — Может быть. Меня это не интересует. Зачем ты явился на Землю, рыцарь Бало? Шут усмехнулся, потом музыкально расхохотался: — Моим повелителям не понравилась моя шутка об их эгоизме, гордости и ничтожестве. Боги не любят, когда им говорят о том, что они тоже не вечны, и поэтому мой фарс не имел успеха. Тогда я сбежал на Землю, где по своей воле не могут появиться ни Повелители Закона, ни Повелители Хаоса. Тебе, как истинному мельнибонийцу, мой замысел должен понравиться, Эльрик: я намерен создать на Земле свое королевство — Королевство Парадоксов. Немного Закона, немного Хаоса, — а в результате получится веселая и забавная борьба противоположностей. — Мне кажется, мы уже живем в том мире, который ты собираешься создать, рыцарь Бало! Не пропадут ли твои усилия даром? — Для мельнибонийца ты шутишь слишком серьезно, Император Эльрик. — Что делать, при некоторых обстоятельствах я становлюсь скучен. Ты освободишь нас с Йишаной? — Но мы с тобой — великаны, я сделал тебя почти что богом! Почему бы нам не поразвлечься вместе? — К сожалению, рыцарь Бало, я не обладаю таким чувством юмора, как ты, и не подхожу на роль бога. К тому же мне кажется, что Повелители Высших Измерений вряд ли посмотрят сквозь пальцы на твои выходки, которые могут помешать их планам. Бало засмеялся, но ничего не ответил. Эльрик тоже улыбнулся, делая вид, что абсолютно спокоен, но мысли его неслись вскачь. — Что ты намерен предпринять, если я откажусь от твоего предложения? — спросил он. — Но ведь ты не откажешься, Эльрик! Я мог бы сыграть с тобой много злых шуток… — Правда? Несмотря на мой рунный меч? — Ах, да… — Бало, желая от души повеселиться, ты многого не учел. Тебе следовало приложить больше усилий, чтобы убить меня как только я здесь появился. — Красные глаза Эльрика засверкали, он поднял Повелителя Бурь над головой, громко вскричал: — Ариох! Господин мой! Я вызываю тебя, Повелитель Хаоса! Бало вздрогнул. — Прекрати, Император Эльрик! — Ариох, здесь находится душа, которая принадлежит тебе по праву! — Замолчи, говорю тебе! — Ариох! Услышь меня! Бало сбросил крошечных человечков на пол, быстро встал с кресла. — Тебя никто не услышит! — Он засмеялся, потянулся за Эльриком. «Повелитель Бурь» застонал, черное сияние заструилось по его лезвию, и шут торопливо отдернул руку. На лице его появилось озабоченное выражение, он нахмурился. — Ариох, Повелитель Семи Кругов Тьмы, твой слуга призывает тебя! Стены из разноцветных полосок потускнели. Расширившимися от ужаса глазами Бало огляделся по сторонам. — Ариох! Приди за своим заблудшим Бало! — Ты не имеешь права! — взвизгнул карлик, кидаясь к стене, которая растаяла в воздухе, обнажив проход в черную пустоту. — Как это ни прискорбно для тебя, малышка-шут, он имеет на это право, — сказал мелодичный прекрасный голос, и высокая фигура вышла из темноты на свет. Согласно обычаю, Повелитель Хаоса появился на Земле в человеческом облике, но необычайная красота незнакомца, выражение его лица, — надменное, гордое, жестокое и слегка печальное, — говорили о том, что он не мог быть человеком. На нем был переливающийся алый камзол, брюки, все время меняющие цвет; на его поясе висел золотой меч в золотых ножнах. У него были огромные, чуть раскосые глаза, длинные золотистые волосы, изящно очерченный рот, выдающийся вперед подбородок. — Ариох! — воскликнул Бало, попятившись. — Ты допустил ошибку, Бало, — сказал Эльрик из-за спины шута. — Разве ты не знал, что Императоры Мельнибонэ, и только они одни, имеют право вызывать Ариоха на Землю? Эта привилегия была дарована нам много веков назад. — И ты неоднократно пользовался ею в своих корыстных целях, — произнес Ариох, слегка улыбнувшись. — Однако услуга, которую ты оказал мне сегодня, с лихвой окупает твои прошлые ошибки. Эльрик чувствовал себя жалким муравьем по сравнению с могущественным Повелителем Хаоса, но одновременно он испытывал облегчение, так как вовсе не был уверен, что ему удастся вызвать Ариоха на Землю. Альбинос много раз обращался к нему за помощью, и не раз получал ее, но впервые бог сам явился по его зову. Ариох двумя пальцами поднял шута за шиворот. Бало извивался в воздухе, лицо его перекосилось от ужаса. Повелитель Хаоса сдавил голову карлика, которая тут же стала уменьшаться в размерах, затем согнул ему ноги, начал мять своими нежными изящными руками, пока он не превратился в маленький шарик. Изумленный Эльрик смотрел, как бог Хаоса бросил шарик себе в рот и проглотил его. — Не бойся, Эльрик, я не съел Бало, — пояснил Ариох, вновь слегка улыбнувшись. — Сейчас я перемещу его в другое измерение, где он будет наказан за свои грехи. То, что произошло, — он помахал рукой, — не согласуется с нашими планами в отношении Земли; планами, в которых ты, наш верный слуга, играешь важную роль. Тебя ждут почет и слава, Эльрик. — Это большая честь для меня, мой повелитель, но я не ищу ничьих милостей. Голос Ариоха потерял свою мелодичность, лицо его на мгновенье затуманилось. — Ты обречен служить Хаосу, Эльрик, так же, как ему служили твои предки. И ты будешь служить Хаосу! Приближается время, когда Закон и Хаос сойдутся в решительной битве за Землю, и Хаос победит Закон! Земля станет частью нашего Королевства, а ты превратишься в одного из нас, бессмертных богов Хаоса! — Бессмертие не прельщает меня, мой повелитель. — Ах, Эльрик, неужто мельнибонийцы превратились в полуобезьян, которые сейчас расплодились в этом мире и создали свою жалкую «цивилизацию?» Подумай, что мы тебе предлагаем! — Обязательно, мой повелитель, но не раньше чем придет время, о котором ты говоришь. — Оно придет. — Ариох воздел вверх руки. — А теперь пора отправить дурачка Бало, куда полагается, и уничтожить следы его пребывания на Земле, пока наши противники не узнали, что здесь произошло. — Голос Повелителя Хаоса зазвучал, как миллионы маленьких колокольчиков, и Эльрик, вложивший меч в ножны, невольно зажал уши ладонями. Внезапно он почувствовал, что тело его увеличивается в размерах, становится бесконечным, невесомым, превращается в дым, который постепенно начинает сгущаться, приобретать плотность. Вокруг него плыли разноцветные облака, сверкали молнии, раздавались непонятные звуки. Неожиданно наступила темнота, и он закрыл глаза… …А когда открыл их, увидел под своими ногами зеленую траву долины. Поющая цитадель исчезла, неподалеку от него стояли Йишана и солдаты, недоуменно оглядывающиеся по сторонам. Йишана подбежала к нему. — Эльрик… это ты меня спас? — Не могу похвастаться, что действовал в одиночку. — А куда подевались мои остальные солдаты? — спросила Йишана. — И где деревенские жители? — Если у Бало такие же вкусы, как у его господ, боюсь, они стали частью полубога. Повелители Хаоса, естественно, не едят мяса, будучи обитателями Высших Измерений, но они находят в людях нечто притягательное… Йишана обняла себя руками за плечи, задрожала, словно от холода. — Он был великаном… я не понимала, как ему удалось поместиться в цитадели… — Она простиралась на несколько измерений и к тому же постоянно меняла форму. Ариох забрал с собой и Бало, и цитадель. — Ариох! Один из шести великих Повелителей Хаоса! Неужели он здесь был? — Да. Еще мои далекие предки заключили с Ариохом договор, согласно которому он имел право появляться на короткое время на Земле, когда они вызывали его. Взамен Повелитель Хаоса обещал помогать им в трудные минуты. — Пойдем, Эльрик. — Йишана взяла его за руку. — Мне не хочется оставаться в этой долине. Они начали медленно подниматься на холм. Эльрика покачивало от усталости, Йишана поддерживала его за локоть, солдаты шли за ними гурьбой. Им хотелось поскорее попасть в ближайшую деревню, где можно было как следует отдохнуть перед возвращением в Дакос.
Глава пятая
Они проходили мимо уничтоженного огнем Такора, когда Йишана внезапно указала рукой на небо. — Что это? По направлению к ним летело какое-то существо, похожее на огромную бабочку, крылья которой затмевали солнце. — Неужели одно из созданий Бало осталось на Земле? — с ужасом спросила Йишана. — Вряд ли. Оно не похоже на зверя Хаоса. Скорее… — Телеб К’аарна! — воскликнула Йишана. — Это его рук дело! — Он превзошел самого себя, — сухо сказал Эльрик. — Никогда не думал, что этот болтун на что-нибудь способен. — Он мстит нам, Эльрик! — Вполне возможно. Но я слишком слаб, Йишана, а «Повелитель Бурь» нуждается в душах, чтобы передать мне частичку своей силы. — Он оглянулся, внимательно посмотрел на солдат, растерянно наблюдавших за приближающимся существом с человеческим туловищем, покрытым павлиньими перьями. Пятидесятифутовые крылья, по сравнению с которыми семифутовое тело казалось крошечным, со свистом разрезали воздух. На голове у чудовища росли изогнутые рога, мощные лапы заканчивались длинными когтями. — Мы погибли, Эльрик! — вскричала Йишана, глядя, как ее солдаты разбегаются в разные стороны. Альбинос стоял неподвижно. Он понимал, что в одиночку ему не справиться с гигантской бабочкой. — Уходи, Йишана, — пробормотал он. — Зачем нам умирать вместе? — Нет! Чудовище приземлилось, заскользило по траве, и Эльрик, позабыв о Йишане, пошел к нему навстречу. Он вытащил из ножен непривычно тяжелый рунный меч, который даже не задрожал в его руке. Альбинос почувствовал небольшой прилив сил, но их было явно недостаточно. Он надеялся, что ему удастся хотя бы ранить чудовище, чтобы воспользоваться его энергией. Лицо зверя исказилось от ненависти, он пронзительно закричал, и Эльрик понял, что видит перед собой не сверхъестественное существо, а заколдованного человека, которого заклинания Телеба К'аарны превратили в страшное орудие его мести. Если б альбинос не был так слаб, ему ничего не стоило бы убить обычного смертного, но сейчас… Он взял рунный меч двумя руками, ударил по шее чудовища, которое быстро сложило крылья, обхватив ими черное лезвие. Длинный коготь впился в руку Эльрика, разодрал ее до кости. Закричав от боли, он с трудом вытащил «Повелителя Бурь» из массы разноцветных перьев, а существо тем временем поволокло его к себе, наклонив голову и выставив вперед острые рога. Эльрик сопротивлялся, стиснув зубы; мысль о неизбежной смерти придала ему сил. Внезапно из-за его спины с громким криком выскочил человек, размахивающий двумя саблями. Не медля ни секунды, он атаковал гигантскую бабочку, ударил одной из сабель по мощной лапе. Дико взвизгнув, чудовище напало на спасителя Эльрика. Это был Мунглам. Альбинос упал; хриплое дыхание со свистом вырывалось у него из груди. Помутневшими глазами он смотрел, как его друг сражается, не щадя себя. Понимая, что Мунгламу долго не выстоять, Эльрик лихорадочно пытался вспомнить какое-нибудь заклинание, а вспомнив его, вдруг подумал, что у него не хватит сил вызвать того, кто должен прийти ему на помощь. Неожиданно альбиноса осенило. Йишана! Она устала меньше, чем он. Только бы получилось! Мунглам с трудом сдерживал натиск зверя: сабли мелькали в воздухе, почти не причиняя ему вреда. Эльрик повернул голову. — Йишана! — позвал он. Она подбежала к нему, опустилась перед ним на колени. — Бежим, Эльрик! Быть может, нам удастся спастись… — Нет. Я должен помочь Мунгламу. Послушай, ты понимаешь, что наше положение безнадежно? У нас есть всего один шанс, и я хочу его использовать. Я научу тебя заклинанию, и ты будешь читать, его вместе со мной. Скажи, в этих краях водятся ящерицы? — Да… да, конечно. — Тогда начнем, и помни, что слуга Телеба К’аарны уничтожит нас, если мы не добьемся успеха.В измерении между пространствами, где обитают сверхсущества всех живых особей, за исключением человека, Тот, кого звали Хааашаастаак, зашевелился, услышав свое имя. У Хааашаастаака было холодное, покрытое твердой чешуей тело, он не умел мыслить, подобно людям и богам, но обладал чувствами, которые служили ему куда лучше, чем разум. Он являлся братом таких сверхсуществ, как Миирклар, Повелитель Кошек, Рууфдрак, Повелитель Собак, Нуруаш, Повелитель Коров, и многих других. Сам Хааашаастаак был Повелителем Ящериц. Он, конечно, не понимал слов, которые слышал, но ритм, в котором они произносились, многое для него значил, хоть он и не знал почему. Впрочем, ритмично повторяющиеся строки звучали почти неслышно. Хааашаастаак повернулся на другой бок, зевнул…
Хааашаастаак заворочался, приподнял голову. Его разобрало любопытство. Он решил отправиться в тот мир, где жили его подопечные. Повелитель Ящериц знал, что, ответив на заклинание, он должен будет подчиниться тому, кто его произнес. Но он не догадывался, что все его действия были запрограммированны в те далекие времена, когда Земля еще не была сотворена, а Повелители Закона и Хаоса, которых никто так тогда не называл, жили в одном измерении, вместе созидали живую и неживую материю и старались соблюсти определенный порядок, строго следуя указаниям Космического Равновесия, которое с тех пор не произнесло ни единого слова. Хааашаастаак встряхнулся и довольно неуклюже переместился на Землю. Эльрик и Йишана читали заклинание хриплыми голосами, когда Повелитель Ящериц появился перед ними. Он был похож на огромную игуану с глазами из множества драгоценных камней, переливающихся всеми цветами радуги, и чешуей из золота, серебра и других драгоценных металлов. Хааашаастаака окружила туманная дымка, словно он переместился на Землю вместе с частью своего мира между измерениями. Йишана вскрикнула от ужаса, но Эльрик облегченно вздохнул. Будучи ребенком, альбинос выучил языки всех Повелителей Зверей и сейчас, находясь перед лицом смертельной опасности, с легкостью вспомнил язык Повелителя Ящериц. — Хааашаастаак! — вскричал он, указывая на человека-бабочку. — Мохим анхум! Хааашаастаак медленно повернул голову. Разноцветные глаза сверкнули, длинный язык вылетел из пасти, как молния, обвился вокруг зверя, который дико закричал и захлопал крыльями. Не прошло и нескольких секунд, как Хааашаастаак сомкнул челюсти на создании Телеба К’аарны, проглотил его, неуверенно огляделся и исчез так же внезапно, как появился. Только теперь Эльрик почувствовал, как сильно болит у него рука. Мунглам, ухмыляясь, подошел к нему, вложил сабли в ножны. — Я ехал за вами на некотором расстоянии, как мы договорились, — сказал он. — Ты был прав, считая, что Телеб К’аарна предаст вас. Когда вы расстались, он скрылся в пещере неподалеку, — Мунглам указал рукой на холмы, — а затем оттуда вылетел этот жуткий зверь, и я решил проследить, куда он держит путь. — Он вновь ухмыльнулся. — Мне почему-то показалось, что он направляется в вашу сторону. — Я рад, что интуиция тебя не подвела, — сказал Эльрик. — Я-то здесь при чем? Если б ты не заподозрил Телеба К’аарну, меня бы не оказалось с вами в нужную минуту. Внезапно у Мунглама подкосились ноги, он упал на землю и потерял сознание. Эльрик тоже окончательно лишился сил. — Я думаю, мы можем на время забыть о Телебе К’аарне, — устало произнес он. — Сейчас его можно не бояться. Давайте как следует отдохнем, а если эти трусливые солдаты вернутся, пошлем их в ближайшую деревню за лошадьми. Йишана легла на траву рядом с Эльриком, и они заснули, обнявшись.
Проснувшись, Эльрик понял, что лежит в теплой мягкой постели. Он удивленно открыл глаза, увидел перед собой улыбающиеся лица Мунглама и Йишаны. — Долго я спал? — Около трех дней. Ты не проснулся, когда солдаты привели лошадей, и я велела соорудить носилки и отвезти тебя в Дакос. Сейчас ты находишься в моем дворце. Эльрик осторожно пошевелил забинтованной рукой, поморщился от боли. — А где мои вещи? В гостинице? — Если их не украли. Зачем они тебе? — Я вожу с собой травы, которые помогли бы мне хоть немного собраться с силами и заодно вылечили бы руку. — Пойду проверю. — Мунглам вышел из комнаты. Йишана потрепала Эльрика по волосам. — Я многим обязана тебе, Белый Волк, — сказала она. — Ты спас мое государство, а может, и все Молодые Королевства от неминуемого уничтожения. В моих глазах ты искупил свою вину за смерть брата. — Благодарю тебя, великодушная госпожа, — с издевкой в голосе произнес Эльрик. Йишана весело рассмеялась. — Ты истинный мельнибониец! — Это верно. — Как странно сочетаются в тебе чувственность и жестокость, цинизм и преданность своему другу-коротышке. Надеюсь, со временем я пойму тебя окончательно, сир. — Боюсь, тебе не представится такой возможности. Йишана нахмурилась. — Почему? — Ты неполно определила мой характер. Тебе следовало добавить: «ко всему безразличный и мстительный». Я должен отомстить твоему бывшему любимцу. — Но ведь ты сам говорил, что сейчас он не опасен! — Только что ты сказала, что я мельнибониец. Моя голубая кровь требует, чтобы я отомстил выскочке! — Забудь Телеба К’аарну. Я прикажу Белым Леопардам выследить его и загнать, как дикого зверя. Никакие заклинания не спасут колдуна от моих свирепых воинов! — Забыть Телеба К’аарну? О, нет! — Эльрик, Эльрик. — я отдам тебе свое королевство, объявлю тебя повелителем Джаркора, только позволь мне быть твоей любовницей. Альбинос нежно провел пальцами по ее руке. — Ты строишь воздушные замки, королева. Если ты поступишь подобным образом, в стране начнется восстание. Для твоих подданных я все еще Имриррский Предатель. — Сейчас ты герой Джаркора. — С чего ты взяла? Они не знают о том, что им угрожало, и поэтому не могут чувствовать ко мне признательности. Чем скорее я рассчитаюсь с твоим колдуном и уберусь восвояси, тем будет лучше. Город наверняка уже полон слухами, что ты спишь с убийцей своего брата. Не думаю, что сейчас ты пользуешься особой популярностью у народа, госпожа королева. — Мне это безразлично. — Вряд ли ты останешься безразличной, когда твои дворяне взбунтуются и распнут тебя голой на главной площади города. — Ты хорошо знаком с нашими обычаями. — Мы, мельнибонийцы, народ ученый. — И искусный. — Во всем, моя королева. — Он почувствовал, как сильно забилось его сердце, когда она встала и заперла дверь на засов. В эту минуту ему не нужны были травы, за которыми Мунглам отправился в гостиницу.
Когда глубокой ночью Эльрик вышел на цыпочках из комнаты, Мунглам, терпеливо ожидавший его в прихожей, подмигнул ему и протянул мешочек стравами. Альбинос выглядел мрачным и угрюмым. Вынув из мешочка несколько пучков трав, он выбрал тот, который был ему нужен, и принялся сосредоточенно жевать. Мунглам поморщился. Они незаметно покинули королевский дворец, оседлали своих коней. Мунглам скакал чуть впереди, указывая дорогу. — Насколько я знаю колдунов из Пан Танга, — пробормотал Эльрик, — они быстро утомляются. Если мне повезет, я застану Телеба К'аарну спящим. — В таком случае я подожду тебя у входа в пещеру, — сказал Мунглам, который не раз видел, как Эльрик мстит своим врагам и не хотел присутствовать при медленной смерти Телеба К’аарны. Они скакали галопом, так что путешествие отняло у них совсем немного времени. Спешившись, Эльрик бросил поводья Мунгламу, положил руку на рукоять меча и, крадучись, вошел в пещеру. Мунглам нервно оглядывался по сторонам, ожидая с минуты на минуту услышать крики колдуна, но ночную тишину не нарушал ни один посторонний звук. Небо постепенно светлело, а Эльрика все не было. Наконец, он вышел из пещеры и, ни слова не говоря, вырвал у Мунглама поводья и вскочил в седло. — Все в порядке? — нерешительно спросил Мунглам. — Нет! Этот пес улизнул! — Но… — Он оказался хитрее, чем я думал. Я обыскал цепь пещер и в последней из них обнаружил следы волшебных рун на стенах и полу. Колдун переместился куда-то, но хотя я разгадал большинство рун, мне не удалось понять, куда именно. Быть может, в Пан Танг. — Значит, на этот раз тебе не удалось отомстить. Что ж, вернемся в Дакос и насладимся гостеприимством королевы Йишаны. — Нет, мы отправимся в Пан Танг. — Послушай, Эльрик, там живут одни колдуны, друзья Телеба К’аарны, а Джагрин Лерн, Первосвященник, запретил посторонним посещать остров. — Не имеет значения. Я должен закончить начатое дело. — Ты сам только что сказал, что Телеб К’аарна находится неизвестно где. — Не имеет значения! Эльрик взмахнул хлыстом и помчался вперед, словно был одержим дьяволом. Мунглам задумчиво смотрел, как его друг скачет во весь опор, и невольно думал о том, что Йишана задела те струны в сердце альбиноса, о существовании которых тот стремился позабыть всеми силами своей души. Мунглам был уверен, что Эльрик отказался вернуться в Дакос вовсе не потому, что жаждал немедленно отомстить Телебу К’аарне. Мунглам пожал плечами, пришпорил коня и поскакал вслед за последним Императором Мельнибонэ, не сомневаясь, что, удалившись от Дакоса на достаточное расстояние, альбинос откажется от мысли немедленно отправиться на Пан Танг. Эльрик же вообще ни о чем не думал. На него нахлынули чувства, в которых он не хотел разбираться. Молочно-белые волосы струились за его спиной, мертвенно-бледное лицо было, как каменное, холеные руки крепко сжимали поводья. И только в странных красных глазах отражалось страдание и та битва, которую альбинос пытался выиграть у самого себя. На следующее утро в Дакосе еще в одной паре глаз появилось страдальческое выражение, которое, однако, быстро прошло. Йишана была практичной королевой.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ ПОХИТИТЕЛЬ ДУШ
Глава первая
В городе Вакшаане, по сравнению с которым все города северо-востока казались жалкими деревушками, в таверне с высоким потолком сидел Эльрик, Повелитель руин Мельнибонэ. Он усмехался, по-волчьи обнажив зубы, и сухо шутил с четырьмя купцами, которых собирался через день-другой сделать нищими. Мунглам, товарищ Эльрика, смотрел на него с восхищением и беспокойством. Альбинос редко смеялся и шутил, но никогда еще он не веселился в компании купцов. Это было неслыханно! На всякий случай Мунглам поздравил себя с тем, что является другом Эльрика и принялся гадать, чем закончится сегодняшний вечер. Как всегда, альбинос не посвятил его в свои планы. — Мы нуждаемся в твоих услугах, милорд Эльрик, и готовы хорошо тебе заплатить, — осторожно сказал сухощавый, безвкусно одетый Пилярмо, вызвавшийся вести переговоры с альбиносом от имени всех четверых купцов. — Чем же вы мне заплатите, господа? — вежливо спросил Эльрик, все еще улыбаясь. Брови купцов изумленно поползли вверх. Пилярмо растерянно помахал рукой в воздухе, отгоняя табачный дым. В таверне сидели всего шесть человек, но было накурено. — Мы можем рассчитаться с тобой золотом… или драгоценными камнями. — Цепями, — сказал Эльрик. — Для нас, путешественников, богатство — цепи, отнимающие свободу. Мунглам слегка наклонился, по выражению его лица было ясно видно, что он абсолютно не согласен с высказыванием своего друга. Пилярмо и трое купцов недоуменно уставились на альбиноса. — В таком случае назови свою цену. — Со временем. — Эльрик улыбнулся. — Прежде чем говорить на эту тему, я хотел бы узнать, что именно вы мне предлагаете. Пилярмо откашлялся, переглянулся со своими товарищами. Они кивнули, каждый по очереди. — Ты не можешь не знать, милорд Эльрик, — начал Пилярмо, — что в нашем городе существует сильнейшая конкуренция. Многие купцы соперничают друг с другом, стремясь продать свои товары. Бакшаан — город богатый, жители его живут в достатке. — Мне это известно, — согласился Эльрик, считавший жителей Бакшаана овцами, а себя — волком, которому предоставился случай хорошо поживиться. Глаза альбиноса весело блестели. Мунглам усмехнулся. — В нашем городе торгует один человек, скупивший множество складов и лавок, — продолжал Пилярмо. — Он снаряжает большие, прекрасно вооруженные караваны и поэтому имеет возможность привозить в Бакшаан много товаров и продавать их по низким ценам. Короче говоря, он — вор, пользуется нечестными методами и рано или поздно разорит нас всех. — На лице Пилярмо отразились неподдельные возмущение и обида. — Ты говоришь о Никорне из Ильмара? — спросил Мунглам из-за спины Эльрика. Пилярмо молча кивнул. Эльрик нахмурился. — Этот человек сам ведет свои караваны, подвергается опасностям в пустынях, лесах и горах. Он — храбрец, и заслужил всего, чего добился с таким трудом. — Это не имеет отношения к делу! — вскричал толстяк Тормиель, и его жирные напудренные щеки затряслись от гнева. — Да, да, конечно, — успокаивающе сказал красноречивый Келос и потрепал Тормиеля по руке. — Но храбрость вызывает восхищение у каждого из нас, верно? — Его товарищи согласно закивали головами. Молчаливый Дейнстаф, последний из четырех купцов, откашлялся, тряхнул нечесаными волосами, положил руку на эфес очень красивой, но бесполезной в бою шпаги и расправил плечи. — Тем не менее, — продолжал Келос, с одобрением глядя на Дейнстафа, — Никорн ничем не рискует, продавая товары по низкой цене, а мы скоро вконец разоримся. — Никорн — заноза в нашем здоровом теле, — зачем-то уточнил Пилярмо. — И вам, господа, требуется, чтобы я и мой друг вытащили эту занозу? — Грубо говоря, да. — Пот градом катился по лицу Пилярмо. Совершенно очевидно, он до полусмерти боялся улыбающегося альбиноса. Легенды об Эльрике и его приключениях рассказывались со всевозможными страшными подробностями во всех городах Молодых Королевств, и только крайняя нужда заставила купцов обратиться к нему за помощью. — Мы хотим лишить Никорна могущества, а если это означает, что его придется убить, что ж… — Пилярмо пожал плечами, заискивающе улыбнулся, напряженно глядя на альбиноса. — Наемных убийц найти нетрудно, особенно в Бакшаане, — заметил Эльрик. — Э-э… верно. Но у Никорна есть своя армия. К тому же он взял на службу колдуна, который с помощью заклинаний сделал его дворец неприступным. А на тот случай, если колдовство не поможет, все входы и выходы охраняет отряд воинов-кочевников. Наемные убийцы не раз пытались устранить Никорна, но до сих пор им не везло. Эльрик рассмеялся. — Как это печально, друзья мои. Впрочем, убийцы не пользуются успехом в обществе, не так ли? Возможно, их заблудшие души понравились какому-нибудь демону, которому пришлось бы, не насыться он вовремя, охотиться за душами честных людей. Купцы вежливо засмеялись, Мунглам отвернулся, не в силах удержаться от улыбки. Эльрик наполнил бокалы. В Бакшаане было запрещено торговать вином, которое они пили: слишком много людей сходили от него с ума. Эльрик поднес к губам бокал, осушил его, удовлетворенно вздохнул. Купцы осторожно отхлебнули по маленькому глоточку, жалея, что связались с альбиносом. Каждый из них чувствовал, что слухи о человеке, к которому они обратились за помощью, не преувеличены, а преуменьшены. Эльрик вновь наполнил свой бокал, с наслаждением выпил. Любой другой на его месте давно превратился бы в полного идиота, но на альбиноса почти не подействовал желтый напиток, который люди употребляли-в надежде увидеть иные миры. Эльрик, напротив, пил, чтобы не видеть снов. — Кто же этот могущественный колдун, которого взял на службу Никорн? — насмешливо спросил он. — Его зовут Телеб К’аарна. Красные глаза альбиноса недобро блеснули. — Волшебник с острова Пан Танг? — Да. Эльрик поставил бокал на стол, поднялся на ноги, теребя рукоять своего рунного меча, «Повелителя Бурь». — Я помогу вам, господа, — твердо сказал он, решив про себя, что не будет грабить купцов. В голове у него созрел другой план. Телеб К’аарна, — подумал последний Император Мельнибонэ. — Значит, вот где твоя нора, колдун.Телеб К’аарна судорожно вздохнул, застонал. Даже не верилось, что высокий, одетый в алую мантию человек с серьезным лицом, украшенным черной бородой, может издавать столь непристойные звуки. Телеб К’аарна судорожно вздохнул, застонал, перекатился на бок, влюбленными глазами посмотрел на женщину, лежавшую рядом с ним на кушетке. Он неуклюже поцеловал ее, что-то прошептал в ушко. Женщина рассеянно улыбнулась и погладила его по волосам, — так гладят домашнюю собаку или кошку. — Ты глуп, несмотря на свои знания, Телеб К'аарна, — пробормотала она, глядя из-под приспущенных век на оранжево-зеленые ковры, висевшие на стенах ее спальни. В голову ей пришла мысль, что женщине ничего не остается, как повелевать мужчиной, если он окажется в ее власти. — Йишана, ты ведьма, — прерывающимся от страсти голосом прошептал колдун, — и все знания в мире не стоят твоей любви. Я люблю тебя, Йишана. — Телеб К'аарна говорил прямо, просто, не понимая женщины, которая лежала рядом с ним. Он побывал в самой преисподней и вернулся оттуда, не лишившись разума; он знал тайны, которые свели бы с ума обычного человека; но он был новичком в искусстве любви. — Я люблю тебя, — повторил колдун, удивляясь, что она не обращает на него внимания. Йишана, королева Джаркора, оттолкнула Телеба К’аарну, скинула красивые голые ноги на пол, села на кровати. Она не отличалась красотой, молодость ее давно прошла, но было в ней что-то такое, от чего мужчины теряли рассудок. Йишана одернула подол переливающегося шелкового платья, грациозно встала, подошла к зарешеченному окну и уставилась на темное небо, по которому ветер быстро гнал тучи. Колдун, прищурившись, удивленно посмотрел на нее, разочарованный тем, что она не захотела еще раз ответить на его ласки. — Что случилось? Йишана продолжала смотреть на зловещее небо, на черные облака, похожие на гигантских чудовищ. Над Бакшааном разыгрался шторм. Телеб К’аарна повторил свой вопрос, и вновь Йишана ничего ему не ответила. Колдун сердито поднялся на ноги, запахнулся в алую мантию, подошел к окну. — Давай уедем отсюда, Йишана, пока не поздно. Если Эльрик узнает, что мы здесь, нам несдобровать. И вновь она не ответила, но ее большая грудь колыхнулась, а губы упрямо сжались. Лицо колдуна исказилось от ярости, он схватил ее за руку. — Забудь этого ренегата и убийцу! Сейчас у тебя есть я! Чем тебе плохо со мной? Йишана неприятно рассмеялась, резко повернулась к своему любовнику. — Ты дурак, Телеб К’аарна, и, как мужчина, не идешь ни в какое сравнение с Эльриком. Три долгих года прошло с тех пор, как он бросил меня, отправившись по твоему следу, но я до сих пор помню дикие наслаждения, которые он дарил мне безумными ночами. О боги! Как жаль, что нет второго такого, как он! После Эльрика у меня было много любовников, которых ты отпугивал своими заклинаниями или отправлял на тот свет, и каждый из них удовлетворял меня куда лучше, чем ты! — Она рассмеялась ему в лицо. — Мне скучно с тобой, Телеб К'аарна! Лицо колдуна потемнело от гнева, на его скулах заходили желваки. — В таком случае, почему, ты позволила мне остаться с тобой? Я мог бы сделать тебя рабыней с помощью приворотного зелья, и ты прекрасно об этом знаешь! — Но ты этого не сделаешь, а следовательно, это ты — мой раб, могущественный волшебник! Ты любишь меня, Телеб К’аарна, и я согласилась жить с тобой, потому что ты часто бываешь мне полезен, но если б Эльрик вернулся… Колдун отвернулся, дернул себя за бороду. — Зачем же ты приехала ко мне в Бакшаан? Почему сделала регентом сына своего брата и примчалась сюда по первому моему зову? Я не верю, что ты не испытываешь ко мне никаких чувств! Йишана вновь рассмеялась. — До меня дошли слухи, что человек с мертвенно-бледным лицом и красными глазами путешествует по северо-востоку. Вот почему я летела сюда, как на крыльях, Телеб К’аарна. — Ты забыла, что этот человек виновен в смерти твоего брата! — вскричал колдун. — Ты спала с убийцей его и твоих близких! Он предал собственный народ, а затем трусливо удрал с поля боя, когда на эскадру напали драконы! На борту одного из кораблей находился твой брат, который сейчас лежит на дне морском! Йишана устало покачала головой. — Ты вечно заводишь разговор на эту тему, надеясь пристыдить меня. Да, я отдалась тому, кого можно считать убийцей моего брата, но Эльрик виновен в более страшных преступлениях, а я, несмотря на это, а может, благодаря этому, все равно люблю его! Твой упрек не достиг цели, Телеб К’аарна. А сейчас оставь меня, я хочу спать. Выражение лица колдуна мгновенно изменилось. — Прости меня, — сказал он прерывающимся голосом. — Позволь мне остаться. — Уходи, — мягко ответила она. Телеб К’аарна, могущественный колдун с острова Пан Танг, опустил голову и, мучаясь от сознания собственного бессилия, вышел из комнаты. Эльрик из Мельнибонэ находился в Бакшаане, а три года назад Эльрик поклялся страшными клятвами отомстить Телебу К’аарне. В сердце своем чернобородый колдун знал, кто из них двоих победит, если дело дойдет до поединка.
Глава вторая
Четверо купцов покинули таверну, завернувшись в черные плащи, сделавшие их неузнаваемыми. Они предпочитали, чтобы об их встрече с Эльриком никто даже не подозревал. Альбинос налил себе очередной бокал желтого вина, задумался Без посторонней помощи он не мог захватить дворец Никорна, защищенный от нападения заклинаниями Телеба К’аарны. На Земле не было волшебника, равного Эльрику, но на борьбу с Телебом К’аарной ему придется истратить слишком много сил, после чего он уже не сможет войти во дворец, охраняемый свирепыми воинами-кочевниками. Да, без посторонней помощи ему было не обойтись. И он знал, что должен обратиться за ней к тем, кто сейчас разбил лагерь в лесу к югу от Бакшаана. Но захотят ли они помочь ему? Эльрик посмотрел на Мунглама, медленно произнес: — Я слышал, что небольшой отряд моих соотечественников, разграбив по дороге несколько больших городов, недавно перебрался из Вильмира на север. После того, как пять лет назад пал Имрирр, мельнибонийцы покинули Остров Драконов, превратились в скитальцев, часто предлагающих свои услуги в качестве наемников. Это я организовал рейд на Город Мечты, и им об этом известно, но если речь пойдет о богатой добыче, они могут согласиться мне помочь. Мунглам хмыкнул. — На твоем месте я не стал бы на них рассчитывать, Эльрик. Прости меня за откровенность, но то, что ты сделал, никогда не забудется. Твои соотечественники лишились родины, не по своей воле остались без крыши над головой. Когда Имрирр Прекрасный, древняя столица Мельнибонэ, был разрушен, тебя проклял каждый его житель. Эльрик усмехнулся. — Возможно. Но я хорошо знаю свой народ. Мы, мельнибонийцы, древняя раса, славимся своей мудростью и редко позволяем чувствам брать верх над разумом, в особенности когда речь идет о нашем благосостоянии. Мунглам иронически поднял брови, и Эльрик понял, о чем подумал его товарищ. — Я — исключение из правила. Но сейчас Каймориль и мой брат покоятся в развалинах Имрирра, а мои страдания в какой-то мере искупили мою вину. Думаю, мои соотечественники это понимают. Мунглам вздохнул. — Будем надеяться, что ты прав. Кто командует отрядом мельнибонийцев? — Мой старый друг, один из Повелителей Драконов, Хранитель Пещер. Его зовут Дайвим Твар. — Кстати, что стало с драконами? Где они? — Вновь спят в пещерах. Их можно будить не чаще одного-двух раз в столетие: на восстановление сил и запасов яда уходят долгие годы. Если б не эта их особенность, мельнибонийцы и сейчас правили бы миром. — Твое счастье, что их могущество сломлено. — Кто знает? — задумчиво сказал Эльрик. — Если я соглашусь стать предводителем нынешних скитальцев, мы еще сумеем создать новую Великую Империю, наподобие той, что создали наши предки. Мунглам промолчал. В глубине души он был уверен, что завоевать Молодые Королевства будет не так-то просто. Мельнибонийцы были древней расой, жестокой и мудрой, но они вырождались. У них отсутствовала жизненная сила варваров, предки которых построили Имрирр Прекрасный и многие другие города Великой Империи. Повелители Драконов все еще купались в лучах былой славы, но дни их были сочтены. — Мы поедем к Дайвиму Твару утром, — сказал альбинос. — Надеюсь, он вспомнит, что самолично уничтожил эскадру, напавшую на Имрирр, а также учтет угрызения совести, которые меня мучают, и проявит снисходительность. — В таком случае, пойдем спать, — предложил Мунглам. — Мне необходимо отдохнуть, а меня ждет одна милашка, и терпение ее скоро может лопнуть. Эльрик пожал плечами. — Иди, я еще посижу. Черные тучи все еще висели над Бакшааном, когда рано утром Эльрик и Мунглам оседлали коней и поскакали по улицам, омытым дождем, направляясь к южным воротам города. Вместо безвкусной, кричащей одежды, которую обычно носил альбинос, на нем были кожаные темно-зеленые брюки и куртка с вышитым на ней гербом Императоров Мельнибонэ: алым драконом на золотом поле. Палец Эльрика украшал перстень: редкий акторийский камень в серебряной оправе тончайшей работы. Этот перстень носили предки Эльрика в течение десяти тысяч лет. Костюм альбиноса довершали короткий темно-зеленый плащ и сапоги до колен. На его поясе висел рунный меч, еще более древний, чем перстень, выкованный богами в те далекие времена, когда на Земле еще не зародилось человечество. Странный и ужасный симбиоз существовал между мечом и человеком, который им пользовался. Человек без своего меча стал бы калекой, меч без человека не смог бы питаться кровью и душами, необходимыми для его существования. Они всегда были вместе, человек и меч, и ни тот, ни другой не знали, кто из них кем повелевает. Мунглам, в отличие от своего друга всегда обращавший внимание на погоду, поднял воротник плаща, вполголоса выругался. Примерно через час они подскакали к опушке леса. Эльрик только по слухам знал, что его соотечественники разбили здесь лагерь. Бакшаанцы видели нескольких высоких незнакомцев в тавернах на южных окраинах города, но это их не встревожило, так как они считали, — и не без оснований, — что захватить Бакшаан гораздо труднее, чем слабо укрепленные вильмирийские города. Эльрик решил, что мельнибонийцы остановились здесь, чтобы отдохнуть и сбыть награбленное добро на городских базарах. Дым больших костров поднимался сквозь густую листву в небо. Эльрик и Мунглам осторожно ехали среди деревьев, вдыхая свежие запахи леса. Внезапно из-за кустов вышел имриррский воин, одетый в стальные доспехи и меха. Забрало его было опущено. Не узнав альбиноса, часовой громко крикнул: — Стойте! Что вам здесь надо? — Немедленно пропусти меня, — нетерпеливо сказал Эльрик. — Это я, твой Император. Часовой судорожно вздохнул, опустил длинное зазубренное копье. Подняв забрало, он посмотрел на сидевшего перед ним в седле человека, и на его лице попеременно отразились отчаяние, страх и ненависть. Он коротко поклонился. — Тебе здесь не место, сир. Ты отверг и предал свой народ пять лет назад, и хотя я почитаю королевскую кровь, текущую в твоих жилах, я не могу ни подчиниться тебе, ни выказать свою преданность, на которую ты вправе был когда-то рассчитывать. — Естественно, — надменно сказал Эльрик, выпрямляясь в седле. — Пускай твой предводитель, друг моей юности, Дайвим Твар, решит, как ему со мной поступить. Немедленно отведи меня к нему и не забудь, что мой спутник не причинил вам зла. Отнесись к нему с уважением, как подобает относиться к избранным друзьям, сопровождающим Императора Мельнибонэ. Часовой вновь поклонился, взял коня Эльрика под уздцы, повел его по едва заметной тропинке. Вскоре они оказались на большой лесной поляне, где стояли многочисленные имриррские шатры. Вокруг костров, на которых готовился обед, сидели и оживленно переговаривались высокие мельнибонийские воины. Несмотря на хмурую погоду, шелковое полотно шатров выглядело ярким и веселым, пестрело красками, — зелеными, оранжевыми, золотыми, темно-голубыми. Несмотря на разнообразие, краски были нежными, гармонично сливались одна с другой, напоминая Эльрику расцвеченные всеми цветами радуги башни Имрирра Прекрасного, города, в котором он родился и вырос. Когда Эльрик и Мунглам подъехали к кострам, мельнибонийцы в изумлении уставились на них, затем, узнав своего Императора, начали негромко перешептываться. — Прошу тебя подождать, — сказал часовой Эльрику. — Я доложу о тебе Повелителю Драконов Дайвиму Твару. Эльрик кивнул, остался сидеть в седле, глядя прямо перед собой, чувствуя на себе любопытные взгляды имриррских воинов. Ни один из них не подошел к нему; многие его старые знакомые смущенно отворачивались, делая вид, что готовят обед или начищают доспехи. Некоторые солдаты злобно бормотали себе под нос, но их было меньшинство. На самом большой шатре, обшитом алым и золотым шелками, полоскалось белое знамя, на котором был изображен спящий голубой дракон. Из этого шатра торопливо вышел Дайвим Твар, пристегивая к поясу меч, изумленно и настороженно глядя на сидевшего в седле альбиноса. Повелитель Драконов был ненамного старше Эльрика и принадлежал к высшей мельнибонийской знати. Его мать была принцессой, двоюродной сестрой матери Эльрика. У Дайвима Твара были высокие скулы, чуть раскосые глаза, продолговатый череп, выдающийся вперед подбородок, уши без мочек, белая кожа, хотя и не такая мертвенно-бледная, как у альбиноса. Положив левую руку на рукоять меча, Дайвим Твар сделал несколько шагов к Императору Мельнибонэ, остановился в пяти футах от него, отвесил глубокий поклон. Когда он выпрямился, глаза их встретились. — Дайвим Твар, Хранитель Драконьих Пещер, приветствует Императора Эльрика, Повелителя Мельнибонэ, Толкователя Священных Таинств, — произнес он ритуальные слова. Эльрик ответил с уверенностью, которой не чувствовал: — Повелитель Мельнибонэ приветствует своего преданного слугу, Дайвима Твара, и настаивает на том, чтобы дать ему аудиенцию. — По древним мельнибонийским традициям, Император не мог просить аудиенции у своего подданного, и Дайвим Твар это знал. — Император окажет мне честь, если согласится пройти в мой скромный шатер. Эльрик спешился, пошел вперед. Мунглам тоже соскочил на землю и последовал за ним, но альбинос, обернувшись через плечо, отрицательно покачал головой. Двое знатных имриррцев вошли в шатер, где стояли жесткая походная кровать, стол, на котором горела масляная лампа, и шесть деревянных стульев. Дайвим Твар с поклоном указал на один из них. Эльрик сел. Некоторое время два мельнибонийца молча смотрели друг другу в глаза; лица у обоих были бесстрастны. Эльрик заговорил первым: — Ты считаешь меня предателем, вором, братоубийцей, истребителем своего народа, Хранитель Драконьих Пещер. Дайвим Твар кивнул. — С позволения моего сюзерена, я согласен. — В былые дни мы никогда не соблюдали формальностей, оставаясь вдвоем, — произнес Эльрик. Забудем традиции и ритуалы — Мельнибонэ больше не существует, а его сыновья стали скитальцами. Давай поговорим, как прежде, на равных, тем более что сейчас мы действительно равны. Рубиновый Трон уничтожен, теперь на него не взойдет ни один Император. Дайвим Твар вздохнул. — Твоя правда, Эльрик, но зачем ты явился к нам? Мы решили забыть тебя и не стали искать, чтобы отомстить. Ты пришел поиздеваться над нами? — Ты прекрасно знаешь, что я на это не способен, Дайвим Твар. Последние годы я редко сплю, а когда мне удается заснуть, я вижу такие сны, что не хочу больше спать. Ты ведь понимаешь, что Йиркан вынудил меня сделать то, что я сделал, когда погрузил свою сестру, которую я любил, в волшебный сон. Я помог корсарам, потому что это был мой единственный шанс заставить Йиркана снять заклятье с Каймориль. Мною двигала жажда мести, а Каймориль убил не я, а мой меч, «Повелитель Бурь». — Знаю. — Дайвим Твар вновь вздохнул, провел ладонью по лицу. Драгоценные перстни на его пальцах сверкнули. — Тем не менее ты не ответил на мой вопрос. Зачем ты пришел к нам? Ты не должен больше встречаться со своим народом, Эльрик. Мы боимся тебя. Если ты уговоришь нас следовать за собой, мы пойдем по пути, тебе уготованному, а он ведет в ад. Ни мне, ни моим людям это ни к чему. — Согласен. Но мне нужна твоя помощь в одном деле, а потом наши пути вновь могут разойтись. — Нам следует убить тебя, Эльрик. Но что является большим преступлением: оставить в живых предателя или казнить своего Императора? Ты загадал мне загадку, Эльрик, а мне не хочется ее отгадывать. У меня хватает своих проблем. — Обстоятельства оказались сильнее меня, — убежденно сказал альбинос. — Я приблизил день падения Мельнибонэ, но по крайней мере сейчас у моего народа появился шанс начать новую жизнь. Дайвим Твар иронически улыбнулся. — В какой-то степени ты прав, Эльрик, и я не буду с тобой спорить. Но попытайся повторить то, что ты мне сказал, людям, потерявшим по твоей вине родных и близких, лишившихся крыши над головой. Или поговори с Воинами, похоронившими своих товарищей, с братьями, мужьями и отцами, чьих дочерей, жен и сестер насиловали пьяные матросы. — Да. — Эльрик опустил голову, еле слышно произнес: — Мне никогда не возместить того, что потерял мой народ, но поверь, я сделал бы все на свете, если бы это было возможно. Сейчас же я могу лишь предложить тебе захватить сокровища, которые хранятся в самом богатом дворце Бакшаана. Позабудь о прошлом и помоги мне в этом деле. — Зачем тебе сокровища, Эльрик? Ты всегда был равнодушен к золоту и драгоценностям. Почему ты просишь у меня помощи? — О, боги! — альбинос посмотрел на своего собеседника измученными красными глазами, провел дрожащей рукой по молочно-белым волосам. — Потому что я вновь хочу отомстить! Мне надо сполна рассчитаться с колдуном, которого зовут Телеб К’аарна. Может, ты о нем слышал: для человека он неплохо разбирается в черной магии. — Считай, что мы договорились, — сумрачно произнес Дайвим Твар. — Ты не единственный мельнибониец, который хочет рассчитаться с Телебом К’аарной. Мой воин умер ужасной смертью в руках этого колдуна только потому, что подарил одной ведьме, королеве Джаркора, Йишане, несколько ночей. Мы можем объединиться, чтобы отомстить за моего воина, Император Эльрик, и это будет достойный ответ тем, кто мечтал отомстить тебе. Эльрик не обрадовался, добившись своего. У него появилось внезапное предчувствие, что неожиданное совпадение, благодаря которому Дайвим Твар согласился ему помочь, было не к добру. Но альбинос ничем не выдал своих чувств. Улыбнувшись другу своей юности, он поднялся на ноги.Глава третья
В заполненной дымом преисподней, зашевелилось существо. Вокруг него двигались тени. Это были тени людских душ, повелевавших существом. Оно позволяло им повелевать собой, потому что они платили ту цену, которая его устраивала. У существа было имя. На человеческом языке его звали Кваолнарн, и он отвечал тому, кто называл его этим именем. Итак, существо зашевелилось. Оно услышало свое имя сквозь барьеры, которые препятствовали его появлению на Земле. Когда его звали по имени, эти барьеры временно исчезали. Существо услышало свое имя во второй раз и вновь зашевелилось. Оно не знало, почему и зачем кто-то произносил его имя, но память подсказывала ему, что когда барьеры исчезали, оно могло поесть. Его не интересовали плоть и кровь. Кваолнарн питался ощущениями и путями взрослых мужчин и женщин. Изредка, на сладкое, ему доставалась жизненная сила, которую он высасывал из невинного ребенка. К животным существо было равнодушно, так как они практически не имели лакомых чувств. Несмотря на то, что оно не отличалось умом, существо было большим гурманом и знатоком пищи. Его позвали по имени в третий раз. Кваолнарн тронулся в путь. Наступило время, когда он опять, мог поесть…Телеб К'аарна задрожал. В принципе, он считал себя мирным человеком. Это Йишана была виновата, что возбудила в нем страсть, которая свела его с ума. Это Йишана была виновата, что он занялся черной магией и подчинил себе несколько ужасных демонов, которых приходилось кормить кровью и душами рабов за то, что они охраняли дворец купца Никорна. Своей вины Телеб К’аарна не чувствовал. Обстоятельства вынудили его к действиям, погубившим его душу. Ему стало тоскливо. Лучше б он никогда не встречал Йишану! Телеб К’аарна вновь задрожал, ступил внутрь вычерченного на полу пятиугольника. Колдун с острова Пан Танг был немного ясновидцем, знал, что в ближайшем будущем Эльрик собирается напасть на него, и поэтому решил призвать на помощь все силы, которые были ему подвластны. Эльрика следовало уничтожить до того, как он начнет осаду дворца. Телеб К'аарна поздравил себя с тем, что сохранил локон молочно-белых волос, благодаря которому сумел когда-то наслать на Эльрика демона-бабочку, и начал вызывать Кваолнарна в надежде, что тому удастся справиться с альбиносом. Кваолнарн приближался к своему повелителю. Он неуклюже продвигался вперед; почувствовал боль, как от укола, когда очутился в непривычной для него среде. Он знал, что душа его повелителя находится совсем близко, но по непонятной причине, не вызывающей ничего, кроме раздражения, к этой душе невозможно было подступиться. Внезапно рядом с ним что-то упало. Кваолнарн учуял незнакомый запах и понял, что ему предлагают часть его будущей пищи. Испытывая к своему повелителю благодарность, он отправился на поиски, намереваясь полакомиться как можно скорее, пока боль, которую он все время чувствовал, находясь на Земле, не стала невыносимой.
Эльрик скакал во главе мельнибонийского отряда. По правую его руку погонял коня Дайвим Твар, Повелитель Драконов, по левую — Мунглам из Эльвера. Позади них ехали двести имриррских воинов, а за ними — обозы с рабами, осадными машинами и награбленным добром. Над караваном гордо колыхались шелковые полотнища знамен Мельнибонэ. На воинах были стальные доспехи, наголенники, нагрудники кирас, высокие шлемы, а поверх меховых курток — разноцветные плащи из имриррских тканей. Лучники скакали в нескольких шагах от Эльрика и его товарищей. В руках они держали костяные луки, стреляющие на огромное расстояние, за спиной у них висели колчаны с черными стрелами. За лучниками ехали копьеносцы, опустив наконечники копий к земле, чтобы не задеть за ветки деревьев. Последними скакали основные силы отряда — имриррские солдаты, вооруженные двуручными мечами и кортиками. Они ехали лесом, направляясь к дворцу Никорна, стоявшему к северу от Бакшаана. Мельнибонийцы скакали молча. Им нечего было сказать своему Императору, который впервые за пятнадцать лет повел их в бой. «Повелитель Бурь», зловещий черный меч, задрожал в ножнах, предчувствуя, что ему удастся как следует поживиться. Мунглам ерзал в седле, явно нервничая в ожидании битвы с применением черной магии. Весельчак-коротышка не любил колдовства и связанного с ним вызывания страшных существ. С его точки зрения, люди должны были сами сражаться за свои идеалы, не прибегая к помощи потусторонних сил, и он знал, что Эльрик тоже так думает, хотя и понимает что с волшебством можно бороться только с помощью волшебства. «Повелитель Бурь» вновь задрожал в ножнах. Черное лезвие слабо застонало, и Эльрик понял, что рунный меч предупреждает его об опасности. Альбинос поднял вверх руку; кавалькада всадников остановилась. — К нам приближается нечто такое, — сказал он своим друзьям, — с чем могу справиться я один. Оставайтесь на месте, а я поскачу вперед. Он пришпорил коня, быстро тронулся в путь, настороженно глядя по сторонам. «Повелитель Бурь» застонал сильнее; лошадь задрожала мелкой дрожью. Нервы у Эльрика были напряжены до предела. Он никак не ожидал, что подвергнется опасности в самом начале пути. — Ариох, не оставь меня! — прошептал альбинос. — Помоги мне, и я принесу тебе в жертву души воинов-кочевников. Помоги мне, Ариох! Повелитель Хаоса Ариох был покровителем Императоров Мельнибонэ с древних времен, могущественным сверхсуществом, которое невозможно было подчинить своей воле никакими заклинаниями. За его помощь, в которой он, как правило, отказывал, приходилось платить кровью, душами и преданностью… Омерзительный запах был настолько силен, что невозможно стало дышать. Эльрик закашлялся, закрыл рот и нос ладонью, быстро осмотрелся по сторонам. Лошадь испуганно заржала. Эльрик спешился, отправил ее обратно по тропинке, хлопнув по влажному боку. Пригнувшись, он выхватил из ножен «Повелителя Бурь», дрожавшего от лезвия до рукояти. С помощью чувств, унаследованных им от предков, он увидел страшное существо раньше, чем оно появилось в поле его зрения. Эльрик был одним из повелителей Кваолнарна и сразу узнал его. Но на этот раз кабалистический пятиугольник не защищал альбиноса, и ему оставалось полагаться лишь на свою находчивость и черный рунный меч. По телу Эльрика пробежал холодок. Он знал могущество Кваолнарна и не был уверен, что сможет справиться со страшным демоном из глубин преисподней. — Ариох! Ариох! Помоги мне! — надсадно закричал альбинос. — Ариох! У него не оставалось времени на то, чтобы вспомнить и произнести нужные заклинания. Кваолнарн приблизился к нему почти вплотную: огромная зеленая жаба непристойно прыгала по тропинке, стеная от боли, которую испытывала на земле. Она остановилась в десяти футах от Эльрика, закрыла его своей гигантской тенью. Судорожно вздохнув, альбинос еще раз закричал что было сил: — Ариох! Я подарю тебе кровь и души, если ты придешь сейчас мне на помощь! Чудовище прыгнуло. Эльрик отскочил в сторону, но зеленая лапа с длинными когтями задела его, отшвырнула в кусты. Кваолнарн неуклюже повернулся, его рот жадно открылся, обнажив беззубые челюсти и глотку, из которой исходил омерзительный запах. — Ариох! Злобное существо оказалось настолько тупым, что даже не узнало имя могущественного бога. Кваолнарн ничего не боялся, с ним необходимо было сражаться насмерть. Черные тучи, сгустившиеся на небе, хлынули проливным дождем. Эльрик поднялся на ноги, отступил за дерево. Кваолнарн был слеп. Он видел не окружающее его пространство, а человечьи души, чувствовал их запах, Зеленая жаба шагнула мимо альбиноса, который в ту же секунду высоко подпрыгнул и вонзил меч по самую рукоятку в мягкую, дрожащую спину чудовища. Плоть, — вернее та субстанция, которая заменяла Кваолнарну тело, когда он путешествовал по Земле, — разорвалась с чавкающим звуком. Держа волшебный меч двумя руками, Эльрик сверху донизу распорол колеблющуюся массу, напоминающую густое желе. Кваолнарн тоненько заверещал. Но несмотря на боль, он продолжал испытывать муки голода, а пища была рядом с ним. Мозг Эльрика сковало странным холодом. Такого ощущенья он никогда еще не испытывал. Альбинос не мог вымолвить ни слова, ему нечем было дышать. Глаза его расширились от ужаса — он понял, что с ним происходит. Душа его отделялась от тела. У него не появилось физической слабости, но сознание его затуманилось, перед внутренним взором появилась бездонная пропасть, заполненная… — Ариох! — выкрикнул он посиневшими губами… и внезапно почувствовал себя всемогущим. Неземная сила растеклась по его жилам. Он с легкостью выдернул рунный меч из спины демона, встал на ноги, возвышаясь над ним, потом поднялся в воздух. У Кваолнарна, — в чем Эльрик почему-то не сомневался, — было только одно уязвимое место. Осторожно, не торопясь, альбинос поднял меч, вонзил острие в голову чудовища, навалился на него. Жаба всхлипнула, начала быстро уменьшаться в размерах, исчезла… Эльрик лежал в кустах, дрожа от слабости. «Повелитель Бурь», казалось, тоже лишился жизненной энергии, но альбинос знал, что скоро рунный меч станет таким, как прежде, а значит, поможет ему восстановить силы. Внезапно он почувствовал, что не может пошевелиться. Эльрик вскрикнул от изумления. Он не понимал, что происходит, сознание его помутилось. Ему показалось, что он глядит в черный тоннель, ведущий в никуда. Тоннель угрожающе надвигался на него… или это он двигался по тоннелю? В течение нескольких секунд альбинос твердо знал только одно: «Повелитель Бурь», от которого зависели его жизнь и смерть, находился у него в руке. Эльрик лежал на каменном полу. Он открыл глаза — или, может, к нему вернулось зрение? — и увидел над собой лицо человека, ухмыляющегося во весь рот. — Телеб К'аарна, — хрипло прошептал Эльрик. — Как тебе это удалось? Колдун наклонился, выхватил из руки альбиноса рунный меч, злобно усмехнулся. — Я следил за твоей схваткой с посланным мною демоном, милорд Эльрик. Когда мне стало ясно, что тебе каким-то чудом удалось получить помощь, я перенес тебя сюда с помощью заклинаний. Твоя сила и твой меч в моих руках. Я знаю, что без «Повелителя Бурь» ты — никто. Теперь ты в моей власти, Эльрик из Мельнибонэ! Эльрик жадно ловил воздух открытым ртом, испытывая мучительные боли во всем теле. Он попытался улыбнуться, но у него ничего не получилось. Он не умел улыбаться, когда проигрывал сражения. — Отдай мне мой меч, — прохрипел он. — Немедленно отдай. — Скоро ты начнешь клянчить, как нищий, — с довольной усмешкой произнес Телеб К’аарна. — Кажется, ты собирался мне отомстить, Эльрик? — Отдай меч, и считай, что твоя презренная жизнь в безопасности, выродок! — Эльрик попытался приподняться, но у него не хватило сил. Зрение его помутилось, лицо стоявшего перед ним колдуна расплылось. — Никак ты хочешь со мной договориться? — издевательским тоном спросил Телеб К’аарна. — Ты нездоров, Император Мельнибонэ, а больные люди не ставят условий. Они клянчат. Эльрик задрожал от ярости. Стиснув зубы, он ненавидящим взглядом посмотрел на колдуна, твердо решив, что больше ни о чем не будет просить. — Я думаю, прежде всего надо надежно спрятать твое оружие, — улыбаясь, сказал Телеб К’аарна. Он подошел к стене, открыл шкаф, положил туда «Повелителя Бурь», запер шкаф на ключ. — А теперь я хочу показать нашего мужественного героя его бывшей любовнице — сестре человека, которого он предал пять лет назад. Эльрик изумленно посмотрел на колдуна. — Йишана здесь? В Бакшаане? Я не знал. — Оно и к лучшему. — Телеб К’аарна просиял, глаза его зажглись безумным огнем. — Оно и к лучшему, — повторил он. — И для тебя, и для нее. Сейчас ты увидишь «свет своих очей», а она поглядит на «мужчину», о котором мечтала все эти три года. Эльрик промолчал. — Затем, — продолжал Телеб К’аарна, — я покажу своему хозяину, Никорну, человека, который возомнил, что сможет добиться того, чего не смог добиться никто другой. — Он улыбнулся. — Какой день! Какой день! Победа за победой! Удовлетворенно бормоча что-то себе под нос, Телеб К’аарна взял со стола колокольчик, позвонил. Дверь позади Эльрика открылась, в комнату вошли два воина-кочевника. Они посмотрели на альбиноса, перевели взгляд на Телеба К'аарну. На лицах их было написано изумление. — Молчать! — прикрикнул колдун. — Немедленно отнесите этого негодяя в покои королевы Йишаны! У Эльрика все кипело внутри от чувства собственного бессилия. Его подхватили под мышки, резко подняли на ноги. Он увидел темные загорелые лица, глубоко посаженные глаза, смотревшие из-под кустистых бровей. Головы воинов украшали небольшие шерстяные шапочки, доспехи у них были не металлические, а деревянные, обшитые кожей. Эльрика протащили по коридору до большой двустворчатой двери. Один из воинов громко постучал. — Войдите! — услышал альбинос голос Йишаны. — У меня для тебя сюрприз, дорогая, — сказал Телеб К’аарна из-за спины воинов. — Я хочу сделать тебе подарок. По приказанию колдуна воины-кочевники втащили Эльрика в комнату, бросили его на кушетку. Он лежал, не в силах пошевелиться, глядя на потолок, расписанный яркими красками. Йишана склонилась над ним. Эльрик вдохнул эротический запах ее духов, хрипло сказал: — Какая неожиданная встреча, королева. Какое-то мгновение Йишана смотрела на него сочувственно, с пониманием, затем взгляд ее стал жестоким; она цинично рассмеялась. — Ах! Наконец-то мой герой вернулся! Я предпочла бы, конечно, чтобы он пришел по своей воле, но его втащили ко мне, как беспомощного котенка за шкирку. У волка вырвали зубы, теперь он не сможет свирепо трепать меня ночи напролет. — Йишана отвернулась, презрительно искривила накрашенные губы. — Прикажи унести его отсюда, Телеб К’аарна. Я тебя поняла. Колдун кивнул. — Пора навестить Никорна, — сказал он. — Нас ждут.
Глава четвертая
Никорн из Ильмара был немолод. Ему давно перевалило за пятьдесят, хотя выглядел он летна сорок. На его простом крестьянском лице выделялись проницательные глаза; он сурово смотрел на Эльрика, которого воины-кочевники небрежно бросили в кресло. — Итак, ты — Эльрик из Мельнибонэ, Корсар Вздыхающего Моря, предатель, убийца женщин. Сейчас ты вряд ли смог бы убить ребенка. Тем не менее я никому не пожелал бы очутиться в твоем положении. Скажи, мой заклинатель сказал правду? Тебя действительно наняли, чтобы убить меня? Эльрик с тревогой подумал об имриррских воинах. Что они предпримут? Будут ждать его возвращения или атакуют? Если мельнибонийцы решат взять дворец штурмом, они погибнут, и он вместе с ними. — Это правда? — настойчиво повторил Никорн. — Нет, — прошептал Эльрик. — Мне нужен был Телеб К'аарна. У меня с ним старые счеты. — Меня интересуют не старые счеты, друг мой, а моя жизнь, — довольно дружелюбно произнес Никорн. — Кто тебя нанял? — Телеб К'аарна говорит неправду, утверждая, что я — наемный убийца, — солгал Эльрик. — Я хотел отомстить ему за предательство. — Боюсь, это утверждает не он один. — Никорн пожал плечами. — Два моих шпиона в Бакшаане, независимо один от другого, донесли мне, что купцы пообещали хорошо тебе заплатить, если ты меня убьешь. Эльрик слабо улыбнулся. — Пусть так. Это не значит, что я согласился сделать то, о чем меня просили. — Быть может, я готов тебе поверить, Эльрик из Мельнибонэ, — сказал Никорн. — Но теперь я не знаю, как мне с тобой поступить. По своей воле я никого не отдам Телебу К’аарне на милость. Ты можешь дать мне слово, что никогда не совершишь покушения на мою жизнь? — Разве мы о чем-нибудь договариваемся, купец Никорн? — Да. — В таком случае, что я получу в обмен на мое слово? — Жизнь и свободу, милорд Эльрик. — И мой меч? Никорн с сожалением покачал головой. — Мне очень жаль, — но, нет. — В таком случае забери мою жизнь, — срывающимся голосом сказал Эльрик. — Зачем же так? Чем тебе не нравится наш договор? Ты получишь жизнь и свободу, а я — твое слово. По-моему, это справедливо. Эльрик глубоко вздохнул. — Хорошо. Я согласен. Никорн встал с кресла, пошел к двери. Телеб К'аарна схватил его за руку. — Ты хочешь отпустить его? — Да. Ни тебе, ни мне он больше не страшен. Эльрик видел, что Никорн симпатизирует ему, и почувствовал невольное уважение к этому храброму и умному человеку. Неудивительно, что купец разбогател: он был честен. Но… Никорн отказался отдать альбиносу «Повелителя Бурь». Эльрику стало страшно.Спустились сумерки. Двести имриррских воинов лежали, замаскировавшись, в кустах и наблюдали за дорогой. Никто не понимал, куда исчез Эльрик. Дайвим Твар, обладая даром ясновидения, — как и все мельнибонийцы королевской крови, — предполагал, что альбинос находится во дворце Никорна. Но разве мог небольшой отряд противостоять колдовским силам без помощи Эльрика? Дворец Никорна был крепостью, высеченной в огромной скале и окруженной глубоким рвом со стоячей водой, которая постоянно подтачивала поросшие темно-зеленым мхом каменные стены. Снаружи дворец производил неприятное впечатление, выглядел практически неприступным. По крайней мере двумстам воинам никогда не удалось бы захватить его без помощи волшебства. Мельнибонийцы начали проявлять нетерпение, многие открыто заявляли, что Эльрик вновь их предал. Ни Дайвим Твар, ни Мунглам в это не верили. Загремели цепи, большие железные ворота дворца распахнулись настежь. Человек с мертвенно-бледным лицом, в куртке с гербом Императоров Мельнибонэ, поддерживаемый с двух сторон воинами-кочевниками, сделал несколько неуверенных шагов, упал на узкий мостик через заполненный водой ров. Двигаясь с большим трудом, он медленно пополз вперед. — Что они с ним сделали? — вскричал Мунглам и приподнялся, собираясь броситься навстречу альбиносу. Дайвим Твар удержал его за руку. — Подожди. Нам нельзя выдавать своего присутствия. Мы поможем ему, когда он доберется до леса. Даже те, кто проклинал Эльрика, с жалостью смотрели, как он ползет, поминутно отдыхая, по грязной дороге. С крепостной стены раздался смех, послышался чей-то голос: — Не испачкай брюхо, волк! Не испачкай брюхо! Мунглам сжал руки в кулаки, дрожа от ярости при мысли о том, что над его гордым другом издеваются. — Что они с ним сделали? — в отчаянии повторил он. — Терпение, — сказал Дайвим Твар. — Скоро узнаем. И, наконец, Эльрик добрался до леса. Мунглам первый бросился к нему, обнял за плечи. Альбинос взревел, скинул руку Мунглама. Лицо его пылало ненавистью, тем более страшной, что он был бессилен отомстить тем, кого ненавидел. — Эльрик, ты должен рассказать нам, что с тобой произошло, — твердо сказал Дайвим Твар. — Если ты хочешь, чтобы мы помогли тебе, ты должен объяснить, что случилось. Тяжело дыша, альбинос кивнул. Он справился с обуревавшими его чувствами, начал говорить слабым голосом. — Значит, наш план не удался, а ты навсегда потерял свою силу, — пробормотал Мунглам, когда Эльрик закончил свой рассказ. Эльрик покачал головой. — Выход должен быть найден! — хрипло выкрикнул он. — Обязательно! — Какой? Если ты что-то задумал, говори скорее. Альбинос с трудом сглотнул комок, застрявший в горле, произнес заплетающимся языком: — Хорошо. Слушай. И запоминай то, что я скажу, потому что у меня не хватит сил повторить все с начала.
Мунглам был большим любителем ночных приключений… в городе при свете факелов. Ему не нравились ночные приключения под открытым небом… в особенности вблизи дворца Никорна. Тем не менее, он упрямо шел вперед, стараясь не думать ни о чем плохом. Если догадка Эльрика была верна, у мельнибонийцев не все еще было потеряно. Мунгламу предстояло проверить правоту альбиноса, а следовательно, рискнуть своей жизнью. Рыжеволосый коротышка любил жизнь и не любил ею рисковать, поэтому, согласившись выполнить поручение Эльрика, он лишний раз доказал, что является его другом. С отвращением глядя на глубокий ров, он вздохнул, полез в грязную воду, поплыл, стараясь не плескать. Цепляясь за мох, а потом за ветки плюща, Мунглам принялся карабкаться по крепостной стене. Эльрик просил его поторопиться, считая, что Телеб К’аарна, истратив все свои силы на вызывание демона и заклинания, спит сейчас мертвым сном. Мунглам осторожно продвигался вперед, надеясь, что альбинос не ошибся, и, наконец, очутился у небольшого незарешеченного окошка. Благодаря своей худобе и малому росту, он протиснулся сквозь него, спрыгнул на узкую каменную лестницу. Мунглам нахмурился, задумался на секунду, затем, вспомнив указания альбиноса, начал решительно подниматься по ступенькам. Стараясь двигаться бесшумно, он шел к покоям королевы Йишаны.
Примерно час спустя, дрожащий от холода и насквозь промокший Мунглам вернулся в лес. В руках у него был «Повелитель Бурь», который он нес с необычайной осторожностью, чувствуя исходящую от него зловещую силу. — Благодарение богу, я оказался прав, — еле слышно прошептал альбинос, лежавший на земле. Дайвим Твар с участием посмотрел на него, приподнял за плечи. Эльрик потянулся дрожащей рукой к рунному мечу, схватил его за рукоять, облегченно вздохнул. — Ты передал ей мое предложение? — спросил он у Мунглама. — Да. — Мунглам поежился. — Она согласилась. Насчет Телеба К’аарны ты тоже не ошибся. Ей не составило труда украсть у него ключ. Она самолично открыла шкаф и отдала мне твой меч. Колдун ничего не соображал от усталости. Никорн обеспокоен тем, что Телеб К'аарна не сможет защитить его в случае нападения на дворец. — Женщины иногда бывают полезны, — сухо заметил Дайвим Твар, — хотя, как правило, их лучше не вмешивать в мужские дела. — Хранитель Драконьих Пещер был явно не в духе, но никто не решился спросить, чем он обеспокоен. — Я согласен с тобой, Дайвим Твар, — весело сказал Эльрик. Казалось, он ожил прямо на глазах. — А теперь пришла пора отомстить. Помните, Никорна не трогать. Я дал ему слово. — Альбинос крепко сжал рукоять «Повелителя Бурь». — Сейчас мы начнем штурмовать дворец Ариох, покровитель Мельнибонэ, с нами. Я обещал ему кровь и души за то, что он помог мне в битве с демоном, вызванным Телебом К’аарной. Думаю, мне удастся привлечь на нашу сторону союзников, которые займутся колдуном, пока мы будем сражаться во дворце. Мне не нужно чертить пентаграмму, чтобы призвать на помощь моих друзей, Повелителей воздушных стихий! Мунглам облизнул пересохшие губы. — Опять волшебство. Скоро в нашей стране нельзя будет продохнуть от магии и дьяволов из преисподней! Эльрик, желая утешить своего друга, прошептал ему на ухо: — Создания воздуха не имеют к Хаосу никакого отношения. Они чисты и преданны, хотя в могуществе почти не уступают демонам. Я произнесу несколько простых заклинаний, и у Телеба К’аарны раз и навсегда отпадет охота устраивать против меня заговоры. Альбинос нахмурился, вспоминая тайные соглашения, которые его предки заключили с силами, повелевающими природой. Из груди его вырвался глубокий вздох, красные глаза сами собой закрылись. Он покачнулся и, не выпуская рунный меч из рук, начал читать нараспев. Несколько молодых воинов, не посвященных в древние ритуалы Мельнибонэ, смотрели на него с ужасом. Голос Эльрика напоминал далекое завывание ветра.
Глава пятая
На шелковых простынях под собольим покрывалом Телеб К’аарна заворочался, открыл глаза. У него возникло предчувствие чего-то недоброго; он вспомнил, что Йишана, воспользовавшись его усталостью, выспросила у него нечто очень важное. Впрочем, сейчас это не имело значения. Всем существом своим чувствуя приближающуюся опасность, Телеб К'аарна соскочил с постели, схватил со стула свою мантию и, одеваясь на ходу, подошел к висевшему на стене странному серебряному зеркалу, которое ничего не отражало. Мигая воспаленными веками, колдун взял одну из многочисленных баночек, стоявших на скамье, дрожащими руками налил в тигель густую жидкость: смесь высушенной человеческой крови с голубым ядом черной змеи, обитающей в далеком Дареле. Пробормотав короткое заклинание, он прикрыл глаза рукой, выплеснул содержимое тигля на зеркало. Раздался звук, похожий на треск рвущейся материи, зеленый свет ослепительно вспыхнул и тут же погас. Поверхность зеркала заколебалась, в глубине его появилось изображение. Телеб К’аарна знал, что видит сцену из недавнего прошлого. На его глазах Эльрик впал в транс и обратился за помощью к Ветрам-Гигантам. Лицо Телеба К’аарны исказилось от страха. Его руки конвульсивно задергались. Несвязно выкрикивая какие-то слова, он бросился к окну, уставился в непроглядную ночь. Колдун понимал, что его ожидает. Разыграется буря, Лашаары нападут на него, вырвут душу из тела, швырнут ее в воздушные течения, где она будет скитаться вечно, не зная ни отдыха, ни покоя, то стеная в вершинах покрытых льдом скал, то тоскливо воя над бушующим морем. Редко какой колдун мог повелевать воздушными стихиями, но для Эльрика и его предков духи воздуха являлись небольшой частью тех сил, которые были им подвластны. Только сейчас Телеб К'аарна до конца осознал, что вступил в борьбу с поколениями колдунов, живших в течение десяти тысяч лет, обладающих колоссальными знаниями, доставшимися по наследству Эльрику — тому, кого он, Телеб К’аарна, вознамерился уничтожить. И Телеб К’аарна горько пожалел о том, что бросил вызов альбиносу. Но было поздно. Черный маг с острова Пан Танг не мог, подобно Эльрику, повелевать Ветрами-Гигантами. Ему оставалось лишь просить помощи у духов огня, приложить все свои силы, чтобы не подпустить к себе всесокрушающий сверхъестественный ветер, который вскоре сотрясет небо и землю. Сама преисподняя содрогнется от разъяренного рева Ветров-Гигантов. Колдун собрался с мыслями, дрожащими руками начал делать пассы в воздухе, обещая заключить договор на любых условиях с тем, кто согласится ему помочь. Ради нескольких лет жизни он согласился умереть конечной смертью.Ветры-Гиганты собирались с силами; пошел дождь, загремел гром. Сверкали молнии, но ни одна из них не коснулась земли. Дайвим Твар, Мунглам и имриррские воины чувствовали изменения в атмосфере, но только Эльрик, обладающий вторым зрением, видел, что происходит на самом деле. Могучие Лашаары готовились к битве, но они не могли помочь взять штурмом дворец Никорна. При свете факелов мельнибонийцы достали из обозов различные орудия, лихорадочно стали собирать осадные лестницы с крючьями, мощные тараны. Час Бури приближался. Ветер завывал все сильнее, гром гремел не умолкая. Луна скрылась за черными тучами. За два часа до рассвета все было готово. Эльрик, Дайвим Твар, Мунглам и двести воинов вышли на дорогу, ведущую к замку. Эльрик поднял голову, закричал нечеловеческим голосом. Ему ответил оглушительный раскат грома. Ослепительная молния расколола небо, понеслась к замку, над которым внезапно появилось лиловато-розоватое облако, поглотившее эту молнию! Началась битва между силами огня и воздуха. Земля дрожала, отовсюду доносились зловещие завывания, невнятные крики и стоны. Неземное сияние над дворцом то вздымалось, то опадало, защищая сломленного духом, трясущегося от страха колдуна, который знал, что погибнет, если Повелители Огня отступят перед ревущими Ветрами-Гигантами. Эльрик хмуро улыбнулся, глядя на разыгравшееся сражение. Телеб К’аарна больше не представлял опасности. Теперь надо было захватить замок, который защищали свирепые воины-кочевники, выстроившиеся на крепостной стене и готовые уничтожить двести человек, осмелившихся напасть на них. Вверх взмыли штандарты с изображениями драконов; золотые полотнища развевались, освещенные призрачным светом. Сыны Имрирра, чеканя шаг, шли в бой. Под градом стрел, защищаясь щитами, воины в авангарде с таранами в руках, каждый из которых держали двадцать человек, пробежали по узкому мостику через ров. Первый из таранов с силой ударил в ворота, которые, к удивлению Эльрика, выдержали этот мощнейший удар! Подобно вампирам, жаждущим крови, мельнибонийцы взвыли, отскочили в сторону, пропуская своих товарищей со вторым тараном. Ворота задрожали, но вновь выстояли. Дайвим Твар громовым голосом отдавал распоряжения воинам, карабкавшимся по осадным лестницам, приставленным к стенам. Только отчаянные смельчаки могли пойти на штурм первыми, — ведь большинство из них должны были погибнуть. На головы нападавших посыпались камни, полился расплавленный свинец из котлов, висевших на цепях, чтобы их можно было быстро опорожнить и вновь наполнить. Имриррские воины падали, погибая до того, как разбивались об острые камни внизу. И тем не менее мельнибонийцы не отступили. Медленно, но верно поднимались они все выше и выше, в то время как их товарищи продолжали равномерно бить таранами в железные ворота. Эльрик и два его друга ничем не могли помочь имриррским воинам, но лучники, стоявшие в задних рядах, посылали тучи стрел на крепостную стену, убивая одного защитника замка за другим. Ворота затрещали. В них появились трещины. Внезапно правая створка сорвалась с петель и рухнула. Воины взревели, как один бросили тараны, с победными криками ринулись во внутренний двор замка, рубя боевыми топорами направо и налево, снося головы с плеч, словно они косили серпами колосья пшеницы. — Замок наш! — вскричал Мунглам и бросился к воротам. — Мы победили! — Не хвались победой заранее, — сказал Дайвим Твар, но и он улыбнулся, выхватывая меч из ножен. — Не сбылись твои дурные предчувствия! — на бегу крикнул Эльрик своему другу и тут же осекся, увидев, как вытянулось лицо мельнибонийца. На какую-то секунду между ними возникла какая-то недоговоренность, затем Дайвим Твар громко засмеялся и постарался обратить все в шутку. — Смерть ждет меня, Эльрик, и когда-нибудь дождется, но лучше не думать о ней сейчас. Все равно мне некуда будет бежать, когда пробьет мой час! — И он хлопнул смущенного альбиноса по плечу, желая показать, что не обиделся на него за необдуманные слова. Они вбежали во внутренний двор замка, где кипела битва. Три друга одновременно вступили в бой, но «Повелитель Бурь» был первым, отведавшим крови и отправившим душу воина-кочевника в преисподнюю. Рунный меч пел свою зловещую песню, по его лезвию струилось черное сияние. Темнокожие воины-кочевники были знамениты своей свирепостью, отвагой и умением сражаться. Изогнутые клинки их сабель производили опустошение в рядах имриррцев, значительно уступавших им в численности. Сверху донеслись победные крики мельнибонийцев, вскарабкавшихся на крепостную стену и вступивших в рукопашный бой. Теперь уже защитники замка с дикими криками падали вниз, и один из них свалился прямо под ноги Эльрику. Альбинос поскользнулся, упал в лужу крови. Воин-кочевник воспользовался случаем, торжествующе смеясь кинулся к альбиносу, занося саблю над головой. Внезапно шлем его раскололся, а Дайвим Твар, ухмыляясь своему императору, выдернул боевой топор из черепа поверженного врага. — Мы с тобой оба доживем до победы! — воскликнул Повелитель Драконов, перекрикивая шум битвы сражающихся духов и лязг металла о металл. — Я обману судьбу и… — Он умолк, на его лице с тонкими чертами появилось изумленное выражение. Эльрик почувствовал, что у него все похолодело внутри. Из живота Дайвима Твара торчало острие клинка, а стоявший сзади воин-кочевник свирепо скалился. Эльрик бросился вперед; горячая волна ненависти захлестнула его мозг. Воин-кочевник торопливо вытащил саблю из тела Дайвима Твара, поднял ее, защищаясь от удара. Черное лезвие «Повелителя Бурь» взвыло, вошло в изогнутый клинок, как нож в масло, разрубило воина надвое, от плеча до крестца. Эльрик быстро подбежал к Дайвиму Твару, все еще стоявшему на ногах, с участием вгляделся в его бледное, измученное лицо. — Ты серьезно ранен? — спросил он, тревожно глядя на расплывающееся пятно крови. — Что ты чувствуешь? — Кажется, мне пощекотали ребра. — Дайвим Твар закашлялся, попытался улыбнуться. — Ничего страшного. Я бы знал, если б меня… Он упал. Эльрик быстро наклонился, бережно перевернул своего друга на спину, уставился на бледное лицо с остекленевшими глазами. Повелитель Драконов, Хранитель Драконьих Пещер был мертв. Альбиноса затошнило. Он медленно выпрямился, застыл над телом своего двоюродного брата. Из-за меня, — подумал он, — погиб еще один хороший человек. Больше Эльрик ни о чем не успел подумать: воины-кочевники напали на него с двух сторон. Лучники, закончившие обстреливать крепостные стены, ворвались в ворота, осыпали защитников замка градом стрел. — Мой брат, Дайвим Твар, погиб, сраженный подлым наемником в спину! — вскричал Эльрик. — Отомстим за него! Отомстим за Хранителя Драконьих Пещер Имрирра! Стон прокатился по рядам мельнибонийцев; еще яростнее, чем прежде, кинулись они в атаку. Эльрик подозвал к себе несколько солдат, спустившихся с крепостной стены. — Следуйте за мной! — приказал он. — Мы отомстим за кровь, пролитую по вине Телеба К’аарны! — Подожди, Эльрик, я с тобой! — закричал откуда-то Мунглам. Воин-кочевник, стоявший спиной к альбиносу, упал; ухмыляющийся коротышка вытащил из его тела клинок сабли, от острия до эфеса перепачканной в крови. Эльрик подбежал к небольшой двери, ведущей в центральную башню замка, указал на нее своим солдатам. — Вперед! — вскричал он. — Поторопитесь! Боевые топоры вгрызлись в твердое дерево, полетели щепки. Эльрик нетерпеливо переступил с ноги на ногу.
Это было ужасно. Телеб К’аарна рыдал, чувствуя свое бессилие. Какатал, Повелитель Огня, и его подданные не могли оказать почти никакого сопротивления Ветрам-Гигантам. Они ревели все сильнее и сильнее, мощь их натиска усиливалась. Колдун засунул в рот кулак, начал грызть костяшки пальцев, чавкая и жалобно повизгивая, в то время как внизу сражались, истекали кровью и умирали защитники замка. Телеб К'аарна думал только об одном: как спастись от Лашааров. Но и в эту минуту он твердо знал, что часы его сочтены.
Топоры все глубже вгрызались в твердое дерево и, наконец, пробили его насквозь. — Дело сделано, сир, — сказал один из солдат, отступая в сторону. Эльрик засунул руку в образовавшееся отверстие, скинул тяжелый засов, со звоном упавший на каменный пол. Альбинос толкнул дверь плечом; прежде чем войти в башню, бросил взгляд на небо. На фоне ночи четко выделялись две фигуры, похожие на человеческие. Одна из них, с огненным мечом в руке, была золотой и сверкала, как солнце; другая — серебристая — казалась расплывчатой и держала в руке розовато-лиловатое копье. Миша и Какатал сошлись в поединке, исход которого должен был решить судьбу Телеба К’аарны. — Скорее! — крикнул Эльрик. — В башню! Они побежали по лестнице, ведущей в покои Телеба К’аарны. Внезапно мельнибонийские воины остановились: путь им преградила иссиня-черная каменная дверь, отделанная красным металлом. На двери не было видно ни замочной скважины, ни засова, но стояла она непоколебимо. И вновь Эльрик приказал пустить в ход боевые топоры. Шесть лезвий одновременно мелькнули в воздухе, обрушились на каменную дверь. Шесть солдат отчаянно закричали и бесследно исчезли. На том месте, где они стояли, не осталось даже пятна. Мунглам попятился, расширенными от ужаса глазами посмотрел на Эльрика. «Повелитель Бурь» дернулся в руке альбиноса. — Уйдем отсюда, Эльрик, — сказал Мунглам дрожащим голосом. — Не будем связываться с этим ужасным колдовством… пусть твои друзья, духи воздуха, прикончат Телеба К’аарну. Последний Император Мельнибонэ запрокинул голову, цинично расхохотался. — С колдовством надо бороться колдовством! — выкрикнул он и, размахнувшись что было сил, ударил по двери рунным мечом. Черное лезвие победно запело, взвыло, словно демон, изголодавшийся по людским душам. Яркая вспышка света ослепила Эльрика; он услышал рев в ушах, тело его на мгновение стало невесомым. Дверь рухнула. Если б Мунглам собственными глазами не видел, что произошло, он никогда бы в это не поверил. — «Повелитель Бурь» редко подводил меня, Мунглам! — воскликнул Эльрик, переступая через порог. — Вот мы и пришли в логово Телеба К’аарны… — Он умолк, глядя на скрюченное существо, сидевшее на полу и невнятно бормотавшее себе под нос. Когда-то оно было человеком. Когда-то оно было Телебом К’аарной. Сейчас существо превратилось в сгорбленного и кривого старца; изо рта у него текли слюни, падавшие на линии пентаграммы, часть которых уничтожил огонь. Внезапно в глазах существа засветился разум. — Ты опоздал, Император Мельнибонэ, — сказало оно. — Теперь тебе не удастся мне отомстить. Видишь ли, я победил тебя, потому что отомстил сам себе. Нахмурившись, не говоря ни слова, Эльрик сделал шаг вперед, одним ударом рассек череп колдуна, оставил черное лезвие в зияющей ране. — Пей до дна, рунный меч, — пробормотал он. — Мы с тобой оба заслужили эту награду. Звуки битвы наверху внезапно затихли. Наступила мертвая тишина.
Глава шестая
— Это неправда! Ты лжешь! — визгливо закричал насмерть перепуганный Пилярмо, стоявший перед группой самых уважаемых граждан города. Из-за спины безвкусно одетого купца выглядывали три его товарища, которые совсем недавно встречались с Эльриком и Мунгламом в таверне. Один из горожан обвинительным жестом вытянул руку, ткнул пальцем в сторону дворца Никорна. — Никорн был врагом всех купцов Бакшаана, с этим я не спорю, — сказал он. — Но в данный момент отряд головорезов осаждает его замок с помощью сверхъестественных сил, а командует ими Эльрик из Мельнибонэ! Зачем вы лжете? Всему городу известно, что вы тайно встречались с альбиносом и просили у него помощи. Вы одни виноваты в том, что произошло! — Но мы никогда не думали, что он пойдет на все, чтобы убить Никорна! — в отчаянии вскричал толстяк Тормиель, ломая руки. — Вы к нам несправедливы! Мы только… — Это мы к вам несправедливы?! — Фаратт, выступающий от имени горожан, поджал толстые губы, вытянулся во весь рост. Глаза его гневно засверкали. — Когда Эльрик и его шайка разбойников покончат с Никорном, они придут в город! Идиоты! Колдун-альбинос с самого начала намеревался вас одурачить! А теперь он воспользуется предлогом и разграбит Бакшаан! Нам ничего не стоит справиться с вооруженными бандитами, но мы не способны устоять против колдовства! — Что же нам делать? Что делать? — чуть не плача спросил Тормиель, поворачиваясь к Пилярмо. — Это была твоя идея! Придумай хоть что-нибудь! — Мы… мы… — заикаясь, произнес Пилярмо, — заплатим выкуп… подкупим их… дадим столько денег, сколько они запросят… — Кто будет платить? — спросил Фаратт. Разгорелся спор.Эльрик с отвращением посмотрел на труп Телеба К’аарны, отвернулся, встретился взглядом с бледным, как смерть, Мунгламом. — Пойдем отсюда, Эльрик, — хрипло сказал Мунглам. — Йишана ждет тебя в городе. Ты должен сдержать обещание, которое я дал ей от твоего имени. Эльрик устало кивнул. — Хорошо. Судя по всему, имриррцы победили. Мы предоставим им делить добычу, а сами потихоньку уйдем. Но мне хотелось бы на несколько минут остаться здесь одному. Ты не возражаешь? Пораженный учтивостью Эльрика, которая была ему несвойственна, Мунглам кивнул и сказал: — Я спущусь во двор через четверть часа. Схожу напомню, чтобы добычу делили поровну. Он ушел, весело стуча каблуками по каменным ступенькам, а Эльрик вновь посмотрел на труп своего врага. Он раскинул руки, крепко держа за рукоять рунный меч, с лезвия которого стекала кровь, и вскричал: — Дайвим Твар! Дайвим Твар! Я отомстил за тебя и за нашего соотечественника! Пусть же нечистый, пленивший душу Дайвима Твара, освободит ее, а взамен возьмет душу Телеба К’аарны. Нечто невидимое, неосязаемое, — то, что можно было только почувствовать, — поплыло по воздуху, остановилось над изуродованным телом Телеба К’аарны. Эльрик посмотрел в окно, и ему показалось, что он слышит удары драконьих крыльев, вдыхает едкий драконий запах, видит на фоне светлеющего неба бестелесного Дайвима Твара на бестелесном драконе, улетающего в страну, где драконы никогда не спят, а миллионы измерений сливаются в одно под лучами никогда не заходящего солнца. Эльрик грустно улыбнулся. — Боги Мельнибонэ защитят тебя, где бы ты ни был, — тихо сказал он и, опустив голову, вышел из комнаты. На нижней площадке лестницы он столкнулся с Никорном из Ильмара. В правой руке купец держал большой меч. — Наконец-то я разыскал тебя, волк! — воскликнул он. — Я подарил тебе жизнь, и вот твоя благодарность! — Случилось то, чему суждено было случиться, — устало сказал Эльрик. — Но я сдержал свое слово, и, поверь мне, Никорн, я не убил бы тебя, даже если б ничего тебе не обещал. Купец стоял в двух шагах от двери, загораживая проход. — Тогда Я тебя убью! Защищайся! — Он попятился, вышел во двор, споткнулся о труп имриррского воина, чуть было не потерял равновесие. Выпрямившись, он приготовился к поединку. Альбинос вышел во двор, но не вынул рунный меч из ножен. — Нет. — Он покачал головой. — Я убью тебя! Рука Эльрика невольно сомкнулась на рукояти меча, затем он пожал плечами, сделал шаг в сторону. Никорн выругался, нанес удар. Альбинос, едва успевший отступить, неохотно обнажил «Повелителя Бурь», решив разоружить Никорна. Ему не хотелось ни калечить, ни убивать этого храброго и благородного человека. Никорн сделал выпад, Эльрик парировал. «Повелитель Бурь» тихонько застонал, черное сияние заструилось по его лезвию. Металл звенел о металл. Купец справился со своей яростью: он дрался хладнокровно, расчетливо. Эльрик оборонялся, используя все свое мастерство. Несмотря на возраст и род занятий, Никорн был блестящим фехтовальщиком, и иной раз альбиносу приходилось защищаться не только потому, что он не хотел нападать. Рунный меч вывернул кисть руки Эльрика, заставил его провести контратаку. Никорн попятился, в глазах его промелькнул страх. Казалось, он только сейчас осознал, какой страшной волшебной силой обладало черное лезвие, испещренное рунами. Купец сражался не щадя себя, а Эльрик вообще не сражался. Он чувствовал, что находится в полной власти меча, который делал то, что хотел. Внезапно «Повелитель Бурь» вырвался из рук альбиноса, повис в воздухе. — Нет! — Эльрик не успел схватить за рукоять рунный меч, который мелькнул быстрее молнии, вонзился в сердце своего противника и победно взвыл. — Нет! — Альбинос кинулся вперед, попытался выдернуть меч из тела. Никорн дико кричал в мучительной агонии. Удар был смертельным. Но купец не умер. — Будь оно трижды проклято! — Кровь клокотала в горле Никорна; он схватился за черное лезвие скрюченными пальцами. — Оно поглощает меня! Останови его, Эльрик! Молю тебя, останови его! Пожалуйста! И вновь Эльрик попытался вытащить «Повелителя Бурь» из сердца купца. Ему не удалось даже пошевелить рунный меч, который, казалось, сросся с плотью, стал с нею одним целым. Черное лезвие пело тихую, до отвращения сладострастную песню; жадно всхлипывало, до капли высасывая все то, что было Никорном из Ильмара. Вновь и вновь Эльрик дергал за рукоять «Повелителя Бурь», но был не в силах сдвинуть его с места. — Будь ты проклят! — простонал альбинос. — Этот человек мог стать моим другом. Я дал слово, что никогда не убью его. — Но «Повелитель Бурь», хоть и обладал разумом, не понимал своего хозяина. Дикий крик купца перешел в долгий протяжный стон. Затем Никорн умер. От него осталась одна оболочка, а душа его соединилась с бесчисленными душами друзей, родных и врагов Эльрика из Мельнибонэ, который и жил-то благодаря тому, что получал силы от рунного меча, питавшегося этими душами. Эльрик зарыдал, упал как подкошенный в лужу крови. — О, боги! — вскричал он сквозь душившие его слезы. — За что мне все это? За что? Через несколько минут Мунглам, спустившийся во двор, увидел, что друг его неподвижно лежит на земле. Испугавшись, он схватил Эльрика за плечо, перевернул на спину. Перепачканное грязью, вымазанное в крови лицо альбиноса выражало такое страдание, такие душевные муки, что Мунглам невольно содрогнулся. — Что случилось? Эльрик приподнялся на локте, указал рукой на труп Никорна. — Опять, Мунглам! Опять! Будь проклят этот меч! Мунглам поежился. — Никорн убил бы тебя, в этом нет сомнений. Не думай о нем. Ты нарушил слово не по своей вине. Пойдем, друг мой. Йишана ожидает нас в таверне «Сизый Голубок». Пойдем. Эльрик с трудом поднялся на ноги, медленно пошел к воротам дворца, за которыми их ожидали оседланные лошади. Они скакали рядом, направляясь в Бакшаан, даже не подозревая о том страхе, который они посеяли в душах его жителей. Эльрик хлопнул по ножнам «Повелителя Бурь», вновь спокойно висевшим у него на поясе. Взгляд альбиноса был суров и хмур. — Бойся этого дьявольского меча, Мунглам. Он убивает врагов, но больше всего на свете любит лакомиться кровью друзей и родных. Мунглам тряхнул головой, отвернулся, ничего не ответил. Эльрик посмотрел на него, собираясь еще что-то сказать, но промолчал. В эту минуту больше всего на свете альбиносу хотелось поговорить. Но говорить ему было не о чем.
Пилярмо держался за сердце, глядя, как рабы, сгибаясь под тяжестью сундуков с драгоценностями, вытаскивают их на улицу и ставят у ворот его дома. Впрочем, с тремя товарищами Пилярмо тоже случились сердечные приступы. Бюргеры Бакшаана высказались вполне определенно по поводу того, кто должен будет заплатить выкуп Эльрику и его головорезам. Внезапно на улице появился бегущий горожанин в лохмотьях. — Едут! Едут! — громко кричал он. — Альбинос и его друг остановились у северных ворот! Едут! Бюргеры, стоявшие рядом с Пилярмо, переглянулись. Фаратт с трудом сглотнул слюну. — Прежде чем спустить на нас своих демонов, Эльрик наверняка захочет поторговаться. Скорее! Откройте сундуки с драгоценностями и прикажите страже пропустить его в город! — Один из горожан бросился со всех ног к северным воротам. В то время, как бюргеры лихорадочно открывали сундуки, чтобы продемонстрировать товар лицом, в конце улицы показались Эльрик и Мунглам. Они скакали, бесстрастно глядя на собравшихся горожан, ничем не выдавая своего изумления. — Что это? — спросил Эльрик, останавливая коня рядом с Пилярмо. Фаратт выступил вперед, униженно кланяясь. — Драгоценности, — подобострастным, жалобным голосом сказал он. — Возьми их, милорд Эльрик, для себя и своих людей. И не думай, что это все. Мы по всему городу собрали сокровища, которым нет цены. Зачем тебе насылать на нас демонов? Возьми выкуп и, пожалуйста, не разрушай Бакшаан. Мунглам едва удержался от смеха. Эльрик холодно посмотрел на Фаратта. — Хорошо. Я согласен. Потрудись доставить сундуки, включая те, которых я здесь не вижу, моим людям в бывший дворец Никорна. Если ты нас обманешь, мы поджарим тебя и твоих друзей на медленном огне. Фаратт поперхнулся, дрожащим голосом произнес: — Будет исполнено, милорд Эльрик. Мы все сделаем, как ты велел. Два товарища развернули коней, поскакали к таверне «Сизый Голубок». Когда толпа горожан скрылась из виду, Мунглам весело рассмеялся. — Насколько я понял, — сказал он, — непрошенный нами выкуп платят Пилярмо и три его друга. Эльрик был не в состоянии веселиться, но и он хмуро улыбнулся. — Да. Я с самого начала намеревался их ограбить, а сейчас это сделали за меня горожане. На обратном пути надо будет заехать за нашей долей добычи. Вскоре они подскакали к таверне, спешились. Йишана, одетая по-походному, ждала их на улице. Увидев Эльрика, она с облегчением вздохнула, нежно улыбнулась ему. — Значит, Телеб К’аарна мертв. Теперь нам никто не помешает возобновить прерванное знакомство! Эльрик кивнул. — Я выполню условие нашего договора, как выполнила его ты, когда помогла Мунгламу добыть мой меч. — Лицо альбиноса было бесстрастно. Йишана попыталась обнять его, но Эльрик отстранился. — Позже, — пробормотал он. — Но этого обещания я никогда не нарушу, Йишана. — Он помог удивленной его словами женщине сесть в седло, и они поскакали к дому Пилярмо. — Что с Никорном? — спросила Йишана. — Он хороший человек, и я от всей души желаю ему счастья. — Никорн мертв, — сдавленным голосом ответил Эльрик. — То есть как? — Купец запросил за свою жизнь слишком высокую цену, — коротко сказал Эльрик. Они продолжали путь в молчании, и Эльрик не остановился перед домом Пилярмо, где Мунглам и Йишана задержались, чтобы забрать часть ценностей. Им удалось догнать альбиноса лишь в двух милях от города. Стоял жаркий летний день. В Бакшаане, в садах богатых купцов, не шелохнулся ни один лист на деревьях. Потные лица бедняков не обдувал прохладный ветер. Круглое красное солнце сверкало на небе, и тень, похожая на драконью, закрыла его на миг и исчезла.
КНИГА ПЯТАЯ ПОДЗЕМНЫЕ КОРОЛИ
Покоятся во тьме три короля,Средь них Гутеран Орогский и я.Под мрачным небом нас не ждет покой.Где третий отдыхает? Под горой.Песня Виркада
Глава первая
Эльрик, Повелитель уничтоженной и разграбленной Империи Мельнибонэ, мчался, как волк от охотников, загоняя коня. Он бежал из Надсокора, Города Нищих, которые с криками ненависти преследовали его по пятам. Горожане сразу признали в нем колдуна, служителя Темных Сил, и бросились в погоню за ним и его спутником, коротышкой Мунгламом из Эльвера, который весело смеялся, скача рядом с альбиносом. Огни факелов освещали черную бархатную ночь, гигантские тени плясали по земле. Длинные ножи и костяные луки блестели отраженным светом. Худых, оборванных нищих было слишком много, чтобы вступить с ними в бой, поэтому Эльрик и Мунглам решили оставить негостеприимный город и сейчас погоняли коней при свете полной луны, светившей на мрачные воды реки Валкарк, преградившей им дорогу. Два друга предпочли бы участвовать в каком угодно сражении, лишь бы не переплывать Валкарк, но выхода у них не было. Что ждет их в таинственных водах, оставалось загадкой, зато они очень хорошо знали, как поступят с ними нищие, если поймают. Лошади захрипели, встали на дыбы. Укоротив уздечки, ругаясь почем зря, путешественники заставили своих скакунов спуститься с крутого берега, войти в реку, стремительно бегущую к нечистому лесу Троос, находившемуся в стране Орог, где жили неизвестные миру колдуны, и царило древнее зло. Эльрик выплюнул воду изо рта, закашлялся. — Надеюсь, они не последуют за нами в Троос! — воскликнул он, обращаясь к своему спутнику. Мунглам промолчал. Несмотря на то, что в глазах его застыл страх, он ухмыльнулся, обнажив белые зубы. Лошади быстро плыли по течению; толпа нищих, собравшаяся на берегу, яростно ревела, чувствуя, что добыча от них ускользает; несколько человек громко смеялись и выкрикивали: — Теперь нам не придется трудиться! Троос постарается за нас! Эльрик издевательски рассмеялся в ответ. Глубокие воды широкой, прямой, как стрела, реки неслись по травянистой равнине, усеянной большими камнями, поросшими темно-зеленым мхом. Наступило промозглое утро. Нищие, бежавшие за двумя друзьями по берегу, решили, наконец, прекратить преследование и повернули обратно. Когда они скрылись из виду, Эльрик и Мунглам повернули коней к берегу, выбрались из воды. Среди высоких трав и камней росли редкие деревья, постепенно переходящие в густой лес. Ветви шевелились, словно живые существа, изумрудно-зеленая листва о чем-то шептала, кроваво-красные цветы с лепестками в крапинку угрожающе кивали головками, черные изогнутые стволы, словно отполированные неизвестным мастером, зловеще скрипели. Запах гниющей растительности был настолько резким, что трудно было дышать. Мунглам сморщил нос. — Вернемся? — спросил он. — Обойдем Троос стороной и через день будем в Бакшаане. Что скажешь, Эльрик? Альбинос нахмурился. — Чем Бакшаан лучше Надсокора? Бюргеры наверняка не забыли, как мы штурмовали дворец Никорна, а затем содрали выкуп с купцов. Нет, раз уж мы здесь оказались, я намерен удовлетворить свое любопытство и исследовать этот загадочный лес. Об Ороге и Троосе ходят легенды, и мне хочется проверить, лгут они или нет. Мой меч и заклинания защитят нас, если в этом возникнет необходимость. Мунглам вздохнул. — Эльрик, хоть раз в жизни, давай разумно струсим и не станем подвергать себя опасности. Альбинос холодно улыбнулся. Его красные глаза сверкнули, мертвенно-бледная кожа лица, казалось, побледнела еще сильнее. — В случае опасности мы умрем, только и всего. — Знаешь, мне как-то не хочется умирать, — сказал Мунглам. — Славное вино Бакшаана или, скажем, Джадмара… Но Эльрик, не слушая, пришпорил коня, углубляясь в лес. Мунглам вздохнул и поехал следом. Черные лепестки огромных цветов на мощных стеблях закрыли небо. В нескольких шагах ничего не было видно. Мунглам невольно вспомнил рассказы о Троосе путешественников с сумасшедшими глазами, которые с утра до вечера пили вино в самых захудалых тавернах Надсокора. — Говорят, — сказал он, обращаясь кЭльрику, — что Обреченный Народ высвободил из недр Земли колоссальные силы, которые вызвали ужасные изменения в людях, животных и растениях. Напоследок обреченные создали этот лес, который и погибнуть должен последним на планете. Должно быть, они ненавидели Землю, хоть она и дала им жизнь. — В определенные минуты ребенок всегда ненавидит своих родителей, — заметил Эльрик. — Но родители следят за своими детьми, — возразил Мунглам. — Я слышал, во времена расцвета обреченные не боялись даже богов. — Смелый народ. — Эльрик чуть заметно улыбнулся. — Жаль, я не могу засвидетельствовать им своего почтения. Не знаю, отчего они погибли, но меня утешает мысль о том, что сейчас к нам вернулись и боги, и страх. Мунглам задумался, но так и не понял, что альбинос имел в виду. Ему стало неуютно. Троос шептал, шуршал, шумел, но в нем не было ни одного живого существа, по крайней мере Эльрик и Мунглам не видели ни зверей, ни птиц, ни даже комаров. Не желая поддаваться страху и надеясь, что настроение у него хоть немного улучшится, Мунглам запел дрожащим голосом:Путешественники крепко спали; огонь костра постепенно угасал. Эльрик, радость которого не знала границ, позабыл о том, что ему надо стоять на часах, а Мунглам, полагавшийся только на самого себя, бодрствовал, сколько мог, а затем тоже уснул. Среди черных стволов искривленных деревьев двигались небольшие коренастые фигуры. Орогиане неслышно подбирались к трем спящим людям. Эльрик инстинктивно открыл глаза, увидел юное, умиротворенное лицо Зарозинии. Не поворачивая головы, он обвел взглядом поляну и лес, в ту же секунду перекатился по земле, выхватил «Повелителя Бурь» из ножен. Черное лезвие яростно завыло, словно протестуя, что его разбудили. — Мунглам! Опасность! — вскричал Эльрик, чувствуя, как его охватил страх при мысли о девушке, за которую он готов был отдать жизнь. Коротышка, спавший сидя, резко поднял голову, схватил саблю, лежавшую у него на коленях, вскочил на ноги и бросился к альбиносу. — Извини, — сказал он. — Это я виноват… Орогиане накинулись на них. Эльрик и Мунглам стояли над Зарозинией. Девушка проснулась, сразу поняла, что произошло, но даже не вскрикнула. Быстро оглядевшись по сторонам, она убедилась, что поблизости нет никакого оружия, и поступила самым разумным образом: осталась на своем месте. От орогиан пахло протухшей рыбой. Размахивая длинными ножами, которыми мясники разделывают туши, они напали на двух друзей. «Повелитель Бурь» взвыл, прошел сквозь лезвие ножа, как сквозь трухлявое дерево, снес орогианину голову с плеч. Кровь фонтаном взлетела в небо. Мунглам уклонился от удара, поскользнулся, упал, рубанул саблей по ногам противника, дико завизжавшего и свалившегося в костер. Не вставая с земли, коротышка сделал выпад, пронзил сердце еще одному орогианину. Быстро вскочив на ноги, он оказался плечом к плечу с альбиносом. — Если сможешь, приведи сюда наших лошадей! — крикнул Эльрик Зарозинии, не оборачиваясь. Мунглам застонал: лезвие ножа полоснуло его по руке. Стиснув зубы, он убил нападавшего ударом в шею, слегка повернулся, снес половину лица еще одному орогианину. Два друга перешли в контратаку; раненой рукой Мунглам с трудом достал кинжал из ножен, отбил лезвие ножа клинком сабли, по самую рукоять вонзил кинжал в живот своего противника. Эльрик взял рунный меч двумя руками, начал вращать его с бешеной скоростью, внося хаос в ряды маленьких человечков. Зарозиния бросилась к лошадям, подвела их к месту битвы. Эльрик разрубил пополам напавшего на него орогианина, возблагодарил судьбу за то, что проявил предусмотрительность и не стал расседлывать лошадей на ночь, чтобы ими можно было воспользоваться в случае опасности. Трое путешественников быстро вскочили в седла и галопом поскакали по тропинке, ведущей в лес. — Седельные сумки! — с отчаянием в голосе воскликнул Мунглам, казалось, позабыв даже о своей ране. — Мы забыли седельные сумки! — Что с того? Не гневи богов, друг мой. — Но в них остались все наши деньги! Эльрик рассмеялся. На душе у него было легко и весело. — Не переживай, Мунглам. Не в деньгах счастье. — Знаю я тебя, Эльрик. Ты вечно витаешь в облаках. Но Мунглам тоже рассмеялся, слыша за своей спиной разъяренные вопли орогиан. Альбинос подскакал к Зарозинии, обнял ее. — В твоих жилах течет благородная кровь бесстрашного народа, — сказал он. — Спасибо, — ответила девушка, очень довольная комплиментом. — Но ни один из наших воинов не смог бы сражаться так, как вы с Мунгламом. Это было бесподобно. — Благодари мой меч, — коротко сказал Эльрик. — Нет. Я благодарю тебя. Каким бы могуществом ни обладало твое оружие, по-моему, ты придаешь ему слишком большое значение. — «Повелитель Бурь» мне необходим. — Для чего? — Для того, чтобы обладать силой, которую я могу передать и тебе. — Я не вампир. — Она улыбнулась. — И мне не нужна такая страшная сила. — Поверь, что мне она очень нужна. Ты не посмотрела бы в мою сторону, если б рунный меч не питал меня своей энергией. Без него я превращусь в жалкое и ничтожное существо. — Я никогда в это не поверю, но сейчас не стану с тобой спорить. Они молча продолжали путь.
Примерно через час путешественники остановили коней, спешились. Лес шумел неприятно, зловеще. Зарозиния взяла целебные травы, которые дал ей Эльрик, положила их на рану Мунглама, завязала ему руку. Альбинос о чем-то глубоко задумался, потом сказал: — Мы находимся в самом центре Трооса, так что возвращаться нет смысла. Давайте продолжим путь в Ильмиору через лес, а по дороге навестим орогского короля. Мунглам рассмеялся. — Ты не хочешь сначала послать ему наши мечи? Заодно предлагаю явиться к нему со связанными руками. — Целебные травы подействовали на него быстро, боль его прошла почти сразу же. — Я не шучу. Орогиане — наши должники. Они убили дядю и братьев Зарозинии, ранили тебя и к тому же забрали все наши деньги. Я считаю, король должен возместить наши убытки. Обитатели Трооса кажутся мне настолько глупыми, что их нетрудно будет надуть. — Вот-вот. По своей глупости король прикажет разрезать нас на маленькие кусочки. — Я действительно не шучу. Убежден, что нам надо нанести визит Его Величеству. — Неплохо было бы, конечно, вернуть наши деньги, но мы не можем рисковать жизнью миледи Зарозинии. — Я — будущая жена Эльрика, Мунглам. Если он пойдет к орогскому королю, я пойду вместе с ним. Мунглам приподнял бровь. — Быстро вы обручились. — Тем не менее, она говорит правду. Мы навестим короля Орога вместе, а моя волшебная сила защитит нас от его гнева. — И вновь ты хочешь отомстить и посеять вокруг себя смерть, Эльрик, — сказал Мунглам, усаживаясь в седло и пожимая плечами. — Меня это, конечно, не касается, потому что дело ты предлагаешь выгодное. Считай себя Богом Несчастья, если хочешь, но должен признаться, до сих пор ты приносил мне удачу. Эльрик улыбнулся. — Убивать я никого не собираюсь, но отомстить — отомщу. — Скоро рассветет. — Мунглам огляделся по сторонам. — Насколько я помню карту, которую видел в Надсокоре, королевская цитадель находится в шести часах езды отсюда, на юг — юго-восток от Древней Звезды. — С тобой невозможно заблудиться, Мунглам. Ни один караван не отказался бы от такого проводника, как ты. — Наша философия основана на чтении звезд. Мы, эльверцы, считаем, что звезды, вращаясь вокруг Земли, управляют всеми событиями, происходящими на планете. Им ведомо прошлое, настоящее и будущее. Звезды — это наши боги. — Предсказуемые боги, — уточнил Эльрик. Весело смеясь, путешественники тронулись в путь.
Глава вторая
О крохотном орогском королевстве доподлинно известно было только одно: на его территории, — чему соседние государства искренне радовались, — находился лес Троос, в котором жили орогиане — уродливый народец с искривленными конечностями и деформированными телами. Согласно легендам, они являлись потомками Обреченного Народа, того самого, который практически уничтожил Землю в предыдущем Цикле Времени, Говорили, что безумие орогских правителей, внешне похожих на обычных людей, хуже уродства их подданных. Немногочисленные обитатели Орога жили в лесу, а король управлял ими из цитадели, которая тоже называлась Орог. В эту цитадель и направлялись трое путешественников, а по пути Эльрик рассказал, что он задумал. Альбинос нашел в лесу небольшое растение, которое делало человека неуязвимым. Надо было только выжать из листьев сок, произнести нужное заклинание, — вполне безопасное, так как волшебник мог не бояться духов, согласившихся ему помочь, — и принять снадобье, изменявшее кожу и плоть таким образом, что они могли выдержать практически любой удар меча или топора. Эльрик, будучи в редком для себя расположении духа, подробно объяснил своим спутникам, как действует снадобье, но он употребил столько архаизмов и незнакомых слов, что они ничего не поняли.Путешественники сделали привал примерно в часе езды от цитадели, и Эльрик принялся за работу. Он развел небольшой костер, истолок листья растения пестиком в ступке, налил в нее немного воды. Когда жидкость закипела, альбинос начертал руны, настолько странные, что они, казалось, исчезали в другом измерении, а затем вновь появлялись на земле. Сделав несколько пассов в воздухе, он тихонько запел:
Эльрик, Мунглам и Зарозиния подъехали к цитадели Орог в сумерках. Лающий отрывистый голос окрикнул их с крепостной стены, окружающей большое квадратное здание — древнюю резиденцию орогских королей. Из толстых каменных стен, поросших лишайником и мхом, сочилась вода. Единственным входом в цитадель служила покрытая на фут черной вонючей грязью тропинка, по которой мог пройти только один человек. — Что вам надо в королевском дворце Гутерана Могучего? Они не видели, кто задал им этот вопрос. — Мы просим, чтобы король оказал нам гостеприимство и дал аудиенцию, — весело крикнул Мунглам. — Мы сообщим ему очень важные новости. Из-за башенки на стене выглянуло перекошенное лицо. — Войдите, незнакомцы. Мы рады вас приветствовать, — заявил часовой безрадостным тоном. Тяжелые деревянные ворота поднялись; путешественники с трудом проехали по тропинке, очутились во внутреннем дворе цитадели. По серому небу стремительно неслись черные рваные тучи, словно им не терпелось как можно скорее покинуть границы Орога и омерзительный лес Троос. Двор был тоже покрыт черной вонючей грязью, хотя и не такой глубокой. Справа от Эльрика каменные ступени поднимались ко входу под аркой, поросшей тем же лишайником, что стены цитадели и деревья Трооса. На верхнюю площадку лестницы вышел высокий человек благородной внешности с такими же, как у Эльрика, молочно-белыми волосами, но грязными и спутанными. Выглядел он лет на сорок-пятьдесят, на его волевом, изрезанном глубокими морщинами лице выделялись крупные оспины. Он был одет в куртку из мятой кожи и желтую юбку до голеней; на поясе у него висел обоюдоострый кинжал без ножен. Человек остановился, бросил на путешественников тяжелый взгляд из-под полуопущенных век, подал знак стражнику, который бросился закрывать ворота, сказал безо всякого выражения в голосе: — Мужчин убейте, женщину не трогайте. — Эльрику доводилось слышать, как таким тоном разговаривают ожившие мертвые. Эльрик и Мунглам, договорившиеся заранее, встали по бокам Зарозинии и молча скрестили руки на груди. Изумленные орогиане, одетые в широкие брюки и рубашки с просторными рукавами, скрывавшими их изуродованные конечности, осторожно приблизились к путешественникам, взмахнули длинными ножами. Эльрик почувствовал небольшой шок от сильных ударов, но на теле у него не появилось ни царапины. Мунглам тоже остался цел и невредим. Орогиане отскочили в сторону; их лица, похожие на звериные, исказились от страха. Глаза человека, стоявшего на лестничной площадке, расширились от изумления. Он поднес ко рту белую руку, принялся грызть ногти. Драгоценные камни в перстнях на его пальцах засверкали. — Мы не можем убить пришельцев мечами, о король! На их телах не появилось ран, из них не течет кровь. Кто они такие? Эльрик картинно рассмеялся. — Мы не простые смертные, маленькие человечки, — сказал он. — Мы — посланники богов и спустились на Землю, чтобы объявить их волю вашему королю. Не беспокойтесь, мы не причиним вам вреда, потому что вы против нас бессильны. А теперь расступитесь и окажите нам достойный прием. Король Гутеран продолжал задумчиво грызть ногти. Эльрик выругался про себя. Его Величество оказался куда разумнее своих подданных; обмануть его будет нелегко. Альбинос решительно поднялся по каменной лестнице. — Приветствую тебя, король Гутеран. Боги, наконец-то, вернулись в Орог и послали нас сообщить тебе об этом. — В Ороге не поклонялись богам целую вечность, — все тем же безжизненным тоном сказал Гутеран. — Зачем они нам сейчас? — Повернувшись, он прошел в цитадель. — Ты слишком дерзок, король. — А ты слишком смел. Откуда я знаю, что вы — посланники богов? — Гутеран быстро шел по мрачным залам с низкими потолками. — Ты своими глазами видел, что мечи твоих воинов не причинили нам вреда. — Это так. Что ж, допустим, я тебе верю. Придется устроить пир… в вашу честь. Я приветствую вас, посланники богов. — Выражение лица у короля оставалось бесстрастным, по нему невозможно было определить, что он думает на самом деле. Эльрик расстегнул застежки своего плаща, беззаботно произнес: — Мы обязательно расскажем о твоей щедрости нашим Повелителям.
Королевский дворец состоял из множества полутемных залов, из которых до слуха путешественников иногда доносился неестественный смех. Эльрик задал Гутерану множество вопросов, но король либо не отвечал на них, либо отделывался ничего не значащими фразами. Он не предложил своим гостям ни перекусить, ни отдохнуть с дороги и заставил их в течение нескольких часов стоять в тронном зале цитадели, в то время как сам он сидел на троне, грыз ногти и даже не вспоминал о том, что обещал устроить пир. — Радушный хозяин, — пробормотал Мунглам. — Эльрик, когда закончится действие снадобья? — спросила Зарозиния, стоявшая рядом с альбиносом. Он обнял ее за плечи. — Точно не знаю. Думаю, скоро. Оно сослужило свою службу. Вряд ли орогиане нападут на нас еще раз. Однако за ними надо внимательно наблюдать: они могут попытаться прикончить нас каким-нибудь другим способом. В тронном зале было холодно и неуютно. Огонь, по-видимому, никогда не разводился в полуразвалившихся каминах; с голых каменных стен, потускневших от времени, капала вода; на грязном полу валялись обглоданные кости и гниющие остатки пищи. — Чистюли хоть куда, — иронически заметил Мунглам, с отвращением уставившись на Гутерана, продолжающего грызть ногти и, казалось, забывшего о своих гостях. Слуга приблизился к королю, что-то прошептал ему на ухо. Гутеран кивнул, встал с трона, величаво удалился. Через несколько минут в зал вошли орогиане со столами и скамейками. Видимо, скоро должен был начаться пир. Гостей усадили по правую руку от короля, одевшего на шею тяжелую золотую цепь, усыпанную драгоценными камнями. Слева от Гутерана сидели его сын и несколько женщин с молочно-белой кожей, не разговаривавших даже между собой. Принц Гурд, развязный юноша, явно испытывавший неприязнь к отцу, жадно накинулся на безвкусную еду и осушал кислое, но довольно крепкое вино бокал за бокалом. — Чего же хотят от нас, бедных орогиан, боги? — спросил он, похотливо глядя на Зарозинию. — Им ничего от вас не нужно. Но они будут помогать вам в беде, если вы их признаете. — Только и всего? — Гурд расхохотался. — От тех, кто лежит под горой, нам помощи не дождаться. Верно я говорю, папочка? Гутеран бросил на своего сына тяжелый взгляд. — Да, — сказал он, и впервые за все время голос его был не монотонным, а угрожающим. — Под какой горой? — спросил Мунглам. Ему никто не ответил. В дверях тронного зала появился худой, как скелет, человек. Глядя прямо перед собой невидящим взором, он визгливо рассмеялся. Незнакомец был как две капли воды похож на Гутерана; его пальцы перебирали печально звеневшие струны музыкального инструмента, который он держал в руках. — Смотри-ка, папочка, — издевательским тоном произнес Гурд, — к нам пожаловал слепой Виркад, твой брат и менестрель. Ты не знаешь, он будет петь? — Петь? — Ты ведь не станешь возражать, если он споет нам свои песни, папочка? Губы Гутерана задрожали, рот перекосился. Тяжело дыша, он неуверенно произнес: — Пусть развлечет наших гостей какой-нибудь балладой, но… — Некоторые песни ты ему петь запрещаешь… — Гурд злорадно усмехнулся. Казалось, сын намеренно мучал своего отца, хотя Эльрик никак не мог понять, что между ними происходит. Гурд посмотрел на слепца, громко крикнул: — Иди сюда, дядя Виркад, спой нам! — Здесь присутствуют посторонние, — гулко заявил Виркад, продолжая перебирать струны. — Посторонние в Ороге? Гурд захихикал, залпом выпил очередной бокал вина. Гутеран задрожал всем телом, принялся нервно грызть ногти. — Мы с удовольствием выслушаем тебя, менестрель, — громко сказал Эльрик. — Тогда я спою вам песню о Трех Королях, чужеземцы. — Нет! — вскричал Гутеран, вскакивая с места, но Виркад уже начал петь:
Глава третья
Холодные металлические наручники обхватывали запястья альбиноса, мелкие капли дождя стекали по его лицу, расцарапанному ногтями Гурда. Эльрик огляделся по сторонам. Он был прикован цепями к двум каменным столбам, стоявшим на вершине гигантского могильного холма. Наступила ночь, бледная луна плыла по темному небу. Альбинос посмотрел на группу людей далеко внизу, увидел среди них Гутерана и Гурда, злобно смеявшихся. — Прощай, посланник богов! Ты сослужишь нам добрую службу: умиротворишь Великих, живущих под горой! — крикнул Гурд и пошел вместе со всеми обратно в цитадель, находившуюся неподалеку. Куда он попал? Что стало с Зарозинией и Мунгламом? Почему его приковали… внезапно Эльрик вспомнил все, что произошло, понял, где он находится. «Ты умиротворишь Великих, живущих под горой»! Альбинос задрожал, чувствуя свою беспомощность. Как он ни дергал за цепи, ему не удавалось освободиться. В отчаянии он попытался придумать хоть какой-нибудь план действий, но никак не мог сосредоточиться, испытывая душевные муки при мысли о том, что по его вине Мунглам и Зарозиния должны погибнуть. Снизу до него донесся неприятный шелестящий звук; он увидел омерзительное белое существо, появившееся из тьмы. И вновь Эльрик забился в цепях, намертво приковавших его к двум каменным столбам.В тронном зале пир закончился оргией. Гутеран и Гурд, безумно хохоча, празднуя победу над пришельцами, напились до полусмерти. За дверьми тронного зала Виркад вслушивался в пьяные голоса и кипел от ненависти. Больше всех на свете он ненавидел своего брата, который ослепил его, когда узнал, что менестрель изучает черную магию с целью оживить короля под горой. — Наконец-то настал мой час, — прошептал Виркад и остановил проходившего мимо слугу. — Скажи мне, где пленная девушка? — В спальне Гутерана, господин. Виркад отпустил маленького человечка, пошел по коридорам и витым каменным лестницам, пробираясь наощупь, затем остановился у королевских покоев, достав из кармана ключ — один из многих, изготовленных им без ведома Гутерана, — и открыл дверь. Зарозиния видела, как слепец вошел в комнату, но была бессильна оказать ему сопротивление. Девушку связали ее собственным платьем, засунули кляп в рот. Гурд сообщил ей о том, какая судьба ждет Эльрика, но Мунглама орогиане не поймали; стражники до сих пор искали его в катакомбах Орога. — Я доставлю тебя к твоему другу, госпожа. — Слепой Виркад улыбнулся, поднял ее как пушинку, — он обладал силой, присущей всем сумасшедшим, — и вышел из комнаты. Менестрель прекрасно знал катакомбы Орога, потому что родился и вырос в них. Его видели два человека. Одним из них был Гурд, ненавидевший своего отца и пожелавший сам обладать девушкой, вторым — Мунглам, спрятавшийся от стражников в одной из глубоких ниш в коридоре. Гурд стоял, не шевелясь, но когда его дядя скрылся за поворотом, последовал за ним, двигаясь с крайней осторожностью. Мунглам выждал несколько секунд и пошел вслед за Гурдом. Не выпуская из руте своей ноши, Виркад вышел из цитадели через небольшую дверь и направился к могильному холму.
У подножья гигантского холма скользили омерзительные белые существа с пятнами проказы на бесформенных членах. Они чувствовали присутствие Эльрика, которого орогиане решили принести им в жертву. Только сейчас альбинос понял, что король боялся этих призраков больше самых страшных богов, потому что они были живыми мертвыми, предками тех, кто правил сейчас орогским королевством, — Обреченным Народом. Какое же наказание постигло Обреченных? Не знать ни минуты покоя? Никогда не умирать, постепенно превращаясь в безмозглых вампиров? Эльрик задрожал от отвращения. Но размышления пробудили его память. Он воззвал к Ариоху, демону-покровителю Мельнибонэ, и его мучительный крик, полный отчаяния, унесся в мрачное небо. — Ариох! Разрушь каменные столбы! Спаси своего слугу! Ариох, повелитель, помоги мне! Он не был услышан. Белые существа начали медленно карабкаться по склону холма к беспомощному альбиносу. — Ариох! Если Обреченный Народ оживет, память о тебе исчезнет из душ людских! Помоги мне уничтожить живых мертвых! Земля задрожала, тучи закрыли луну. Белые существа с пятнами проказы на телах подобрались к Эльрику почти вплотную. А затем в небе высоко над головой альбиноса вспыхнул огненный шар, раздался оглушительный раскат грома, две ослепительные молнии ударили в каменные столбы, превратив их в пыль. Эльрик был свободен. Он вскочил на ноги, понимая, что Ариох потребует платы за свою помощь, яростно накинулся на белых тварей, размахивая цепями, нанося мощные удары по бесформенным телам. Обреченные отступили, побежали вниз по холму, вереща от страха и бессильной злобы. Внезапно они исчезли. Эльрик внимательно пригляделся, увидел у подножья холма черное отверстие входа в подземелье. Тяжело дыша, он стал шарить по кармашкам своего пояса; с облегчением вздохнул, нащупав тонкую золотую проволоку. Не медля ни секунды, альбинос засунул ее в один из замков наручников, к которым были прикреплены тяжелые цепи.
Зарозинии казалось, что она сойдет с ума от страха. Беспрерывно хихикая, Виркад все время шептал ей на ухо: «Ужели не займет король свой трон? — Когда другой умрет, восстанет он. —Тогда, когда прольется кровь другого. — Все мертвые живыми станут снова». Мы с тобой оживим его, и он отомстит, — о, как Он отомстит! — моему брату. Твоя кровь, моя дорогая, поможет ему восстать из мертвых. — Виркад почувствовал, что белых призраков поблизости нет и удовлетворенно улыбнулся. — Твой любовник сослужил мне хорошую службу, — сказал он и вошел в подземелье. От смрадного трупного запаха Зарозиния чуть не потеряла сознания. Продолжая бормотать себе под нос, безумный слепец нес ее все дальше и дальше в глубь холма. Гурд, протрезвевший на свежем воздухе, пришел в ужас, увидев, куда пошел его дядя. Могильный холм Обреченного Народа или, как его называли, Королевская Гора, был самым страшным местом во всей орогской стране. Гурд бросился бежать к цитадели и тут же остановился, как вкопанный. Окровавленная фигура альбиноса, медленно спускавшегося с холма, преградила ему путь. Дико вскрикнув, Гурд повернулся, нырнул в подземелье. Эльрик, не заметивший принца, услышал чей-то крик и, не понимая, в чем дело, побежал к подножью холма. Навстречу ему из темноты выбежал человек. — Эльрик! Слава звездам и всем богам на свете! Ты жив! — Славь Ариоха, Мунглам. Где Зарозиния? — Сумасшедший менестрель отнес ее внутрь этой горы; Гурд шел за ним следом. Все эти короли и принцы — безумные; по-моему, они сами не понимают, что делают. — Зато я прекрасно понимаю, чего хочет Виркад. Зарозиния в опасности, Мунглам. Мы должны как можно скорее освободить ее! — Клянусь звездами, ну и вонища! Таким воздухом я не дышал даже после знаменитой битвы в Эшмирской долине, где сражались армии Эльвера и Калега Вогуна, принца-узурпатора Тангензи, и на поле брани осталось более полумиллиона трупов! — Если ты слаб желудком… — Послушай, давай поговорим на другую тему. Пойдем… Они бросились в черное отверстие, побежали по длинному тоннелю. Где-то вдалеке хохотал сумасшедший Виркад; слышался топот ног обезумевшего от страха Гурда, который оказался меж двух врагов, но больше всего боялся…
В призрачно фосфоресцирующем воздухе Усыпальницы, окруженный мумиями своих предков, Виркад стоял перед огромным гробом Короля Горы и нараспев читал заклинания, совершая ритуал воскрешения из мертвых. Менестрель не думал о собственной безопасности, он мечтал лишь отомстить своему брату, Гутерану. В руке Виркад держал большой нож, которым он собирался убить Зарозинию, лежавшую в полуобморочном состоянии на грязном полу рядом с гробом. Когда горячая кровь брызнет на его крышку, ритуал воскрешения можно будет считать завершенным, и тогда… Разверзнутся ворота преисподней. По крайней мере, Виркад был в этом уверен. Он закончил читать заклинания, занес над девушкой нож, и в это время в усыпальницу ворвался Гурд с обнаженным мечом в руке. Виркад резко повернулся, лицо его исказилось от ярости. Ни на секунду не задумываясь, Гурд по самую рукоять вонзил меч в грудь своего дяди. Испустив предсмертный крик, Виркад отбросил нож и сомкнул пальцы на шее орогского принца. Лицо Гурда посинело, он схватил слепца за руки, но не смог их разжать. Двое мужчин, каким-то чудом не умерших на месте, танцевали танец смерти. Гроб Короля Горы едва заметно задрожал. В усыпальницу вбежали Эльрик и Мунглам. Альбинос бросил взгляд на Виркада и Гурда, кинулся к Зарозинии, которая, к счастью, потеряла сознание. Он бережно поднял ее на руки, посмотрел на гроб, дрожавший все сильнее и сильнее, подошел к Мунгламу. — Этот слепой безумец воскресил мертвых. Пойдем отсюда, друг мой, пока на нас не набросились все дьяволы преисподней. Не говоря ни слова, Мунглам побежал вслед за альбиносом к выходу из гробницы. — Что будем делать, Эльрик? — спросил он, когда они очутились на свежем воздухе. — Придется рискнуть и вернуться в цитадель. Там наши лошади, а пешими нам далеко не уйти. Насколько я разбираюсь в волшебстве, скоро здесь прольются моря крови. — Мне кажется, мы ничем не рискуем. Когда я удрал из цитадели, все орогиане были пьяны — поэтому им и не удалось меня поймать. Если они продолжали пить все это время, нам нечего бояться. — Тем более поспешим. Они побежали к цитадели.
Глава четвертая
Мунглам оказался прав. Пьяные орогиане спали беспробудным сном. В полуразрушенных каминах горел огонь, черные тени плясали по стенам. — Мунглам, — тихо сказал Эльрик, — иди вместе с Зарозинией на конюшню и оседлай наших коней. Я присоединюсь к вам, как только рассчитаюсь с Гутераном. Посмотри, — он указал рукой на стол, где были свалены в кучу их вещи, включая седельные сумки, украденные у дяди и братьев Зарозинии, поверх которых лежал «Повелитель Бурь». — Эти твари напились, празднуя свою победу над нами. Зарозиния, все еще не пришедшая в себя после испытаний, выпавших на ее долю, покорно последовала за Мунгламом на конюшню. Эльрик, осторожно переступая через тела лежавших на полу орогиан, подошел к груде наваленных вещей, со вздохом облегчения схватил свой рунный меч, затем перепрыгнул через стол и совсем было собрался схватить за шиворот Гутерана, на шее которого все еще висела золотая цепь, усыпанная драгоценными камнями, когда дверь в тронный зал неожиданно рухнула. Позабыв о Гутеране, Эльрик резко повернулся; глаза его расширились от изумления. Умерший много сотен столетий назад монарх, воскресший благодаря ритуалу, который Виркад скрепил собственной кровью, стоял на пороге тронного зала. Сгнившая одежда почти не прикрывала скелета короля, обтянутого морщинистой кожей; сердце его не билось, потому что у него не было сердца; грудь не вздымалась и не опускалась, потому что он не дышал. И тем не менее, он был жив. Король Горы. Последний Повелитель Обреченного Народа, который, обуреваемый безумными страстями, уничтожил почти всю Землю и сотворил лес Троос. Позади короля толпились его придворные, похороненные вместе с ним в легендарном прошлом. Побоище началось! За что мстил Обреченный Народ своим потомкам, Эльрик не знал, но орда оживших мертвецов накинулась на орогиан с неописуемой яростью. Послышались дикие крики и стоны умирающих. Эльрик замер, с ужасом глядя на гибнувших одного за другим беззащитных человечков. Гутеран проснулся, безумным взором посмотрел на Короля Горы и его свиту, вскричал, с благодарностью воздев руки: — Наконец-то! Теперь я смогу отдохнуть! — Губы его посинели, и он упал, мертвый, на грязный пол, лишив Эльрика возможности отомстить ему. Альбинос вспомнил мрачную песню Виркада. Три Короля во тьме: Гутеран, Виркад и Король Горы. Два первых властителя погибли, третий — неожиданно ожил. Холодные мертвые глаза Короля Горы обежали тронный зал, остановились на бездыханном Гутеране, на шее которого висела бесценная золотая цепь, усыпанная драгоценными камнями — древний символ королевской власти. Эльрик быстро снял цепь с трупа, попятился… Король Горы приблизился к Эльрику медленными шагами, кинулся на него с глубоким стоном, исходившим, казалось, из глубин разлагающегося тела. Эльрик выхватил рунный меч из ножен, но даже «Повелитель Бурь» был бессилен против ужасного существа, лишенного души. Мощные челюсти лязгнули у горла альбиноса, длинные ногти мелькнули у его лица. Свита короля пировала, поедая и живых, и мертвых; от смрадного трупного запаха можно было задохнуться. Внезапно Эльрик услышал голос Мунглама, увидел своего друга на галерее, опоясывающей стены тронного зала. В руках Мунглам держал большой кувшин с маслом. — Замани его поближе к огню, Эльрик! — крикнул он. — Это — твой единственный шанс! Стиснув зубы, альбинос перешел в наступление. Его атака была настолько стремительной, что Король Горы отступил. Вокруг них не переставая кричали обезумевшие от страха орогиане. Король Горы остановился спиной к полуразрушенному камину, в котором горел огонь. Казалось, он не чувствовал ударов испещренного рунами черного меча. Мунглам бросил кувшин с маслом, упавший позади короля на каменный пол. Кувшин разбился вдребезги, масло загорелось. Эльрик толкнул воскресшего монарха изо всех сил. Страшный тоскливый вой вырвался из горла Короля Горы; он покачнулся, упал и исчез в пожравшем его пламени. В тронном зале начался пожар; воскресшие мертвые продолжали пировать как ни в чем не бывало, несмотря на то, что погибали в огне один за другим. Пламя разбушевалось, пробиться к двери было невозможно. Эльрик огляделся по сторонам, вложил меч в ножны. У него оставался только один путь к спасению. Коротко разбежавшись, он изо всех сил оттолкнулся от пола, подпрыгнул, уцепился за столбик перил галереи. Мунглам наклонился, помог альбиносу перебраться через перила. — Я в тебе разочаровался, Эльрик. — Коротышка ухмыльнулся. — Ты не прихватил с собой ничего ценного. Альбинос показал ему золотую цепь, усыпанную драгоценными камнями, которую он держал в левой руке. — Эта безделушка в какой-то мере вознаградит нас за труды. — Он улыбнулся. — Клянусь Ариохом, я ее не украл! В Ороге не осталось королей, которые могли бы носить этот символ власти! Пойдем отсюда. Через дверь галереи они вышли на каменную лестницу, спустились вниз. Через несколько минут трое всадников покинули цитадель, объятую ревущим пламенем. Орог прекратил свое существование; исчезли три короля; закончилось настоящее; будущее было уничтожено. Теперь от древнего королевства останется лишь могильный холм, а в нем — два трупа, покоящихся рядом со своими великими предками, пролежавшими в усыпальнице сотни веков. Предыдущий Цикл Времени окончательно канул в небытие, Земля очистилась от древнего Зла. Только страшный лес Троос напоминал теперь о былом величии легендарного Обреченного Народа. Усталые, но довольные путешественники смотрели на вздымающийся в небо столб погребального огня, освещающего мрачный Троос. Эльрик глубоко задумался. — Почему ты хмуришься, любимый? — спросила его Зарозиния. — Я думаю о том, что ты, быть может, оказалась права. Помнишь, ты говорила, что я придаю своему мечу слишком большое значение? — Да… и обещала, что не буду спорить с тобой по этому поводу. — Верно. Видишь ли, когда меня приковали к каменным столбам на могильном холме, у меня не было с собой «Повелителя Бурь», и тем не менее я сражался и победил, потому что больше всего на свете беспокоился за твою жизнь. — Голос альбиноса был тих и спокоен. — Вдруг мне удастся когда-нибудь избавиться от рунного меча и поддерживать свои силы с помощью трав, которые я нашел в Троосе? Мунглам громко расхохотался. — Что я слышу, Эльрик! Неужто ты осмелился предположить, что сможешь обойтись без своего ужасного оружия? Какая приятная неожиданность! — Вот именно, друг мой, вот именно. — Не обращая внимания на то, что лошади мчались галопом, Эльрик притянул Зарозинию к себе за плечи, крепко поцеловал ее в губы. — Я начинаю новую жизнь! — вскричал он, чувствуя, как ветер свистит у него в ушах. — Нас ждет новая жизнь, моя любимая!Дорогой в Карлаак, расположенный на Плачущей Пустоши, они весело смеялись и шутили. Им предстояли новые знакомства, их ждали богатство и слава, они торопились сыграть свадьбу — самую странную из всех, которые когда-либо игрались в Западных Землях, потому что, сочетаясь браком, ужасный колдун и молодая дочь сенатора устанавливали связь между старым и новым миром, между мудростью прошлых веков и надеждой на прекрасное будущее. Кто знал, что может дать подобный союз? Впрочем, об этом говорится в других легендах об Эльрике из Мельнибонэ.
КНИГА ШЕСТАЯ ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ
Глава первая
Ястребы с кроваво-красными клювами парили в небе над огромной ордой всадников, скачущих по Плачущей Пустоши. Орда прошла две пустыни, перевалила через три горных хребта, неумолимо двигалась вперед, распаленная рассказами путешественников о сокровищах Востока, падкая на обещания своего предводителя, скакавшего впереди с десятифутовым копьем в руке, на древке которого развевались знамена захваченных и уничтоженных ордой городов. Усталые воины двигались медленно, не зная, что цель их близка. Из столицы восточного мира Эльвера, который орда обошла стороной, выехал одинокий всадник. Через несколько часов он очутился в Эшмирской долине, которую когда-то называли бархатным садом востока, и, погоняя коня, поскакал по выжженной траве мимо обуглившихся деревьев. Чума поразила Эшмир, саранча уничтожила его красоту. У чумы и саранчи было одно имя: Терарн Гаштек — предводитель орды, уничтожающей все на своем пути, кровавый убийца, поджигатель, называвший себя Повелителем Огня. Всадника, который видел, во что Терарн Гаштек превратил цветущий Эшмир, звали Мунглам. Он скакал в Карлаак, расположенный на Плачущей Пустоши, — последний оплот западной цивилизации, о которой на востоке почти ничего не знали, — чтобы предупредить Эльрика из Мельнибонэ об опасности и заручиться его помощью. Мунглам был коренаст, невысок ростом. Голову его украшала копна ярко-рыжих волос, на лице выделялся непропорционально большой рот. Весельчак по натуре, сейчас он не смеялся. Эшмир, прекрасный Эшмир, который предки Мунглама считали своей родиной, был уничтожен огнем и мечом. Пригнувшись к шее коня, бормоча проклятья, Мунглам скакал в Карлаак. Туда же направлялся и Терарн Гаштек. Повелитель Огня подошел к Плачущей Пустоши, но орда двигалась медленно, так как обозы с продовольствием сильно отстали. Помимо провизии, в этих обозах находился пленник, связанный по рукам и ногам. Лежа на спине, он клял Терарна Гаштека и его воинов с раскосыми глазами. Дринидж Бара был связан по рукам и ногам не только кожаными ремнями, от которых он, будучи волшебником, мог избавиться в течение нескольких секунд. Если б не слабость к женщинам и вину, Терарну Гаштеку никогда не удалось бы одержать над ним верх и пленить его душу. Да, Дринидж Бара был связан по рукам и ногам тем, что маленькая черная кошка, в которую он поместил свою душу, находилась у повелителя орды, пригрозившего отправить эту душу в преисподнюю, если волшебник откажется подчиняться его приказаниям. Гордый колдун попал в рабство, но, видимо, он это заслужил.На лице Эльрика еще не стерлись следы прежних страданий, но он часто улыбался, а его красные глаза зажигались радостью, когда он смотрел на свою черноволосую красавицу-жену, которая сейчас шла рядом с ним по крытой террасе, увитой цветами. — Эльрик, — спросила Зарозиния, — ты счастлив? Альбинос кивнул. — Наверное, да. Мой рунный меч, «Повелитель Бурь», висит в оружейной палате твоего отца и покрывается пылью. Я редко принимаю травы, которые нашел в Троосе, но они дают мне силу, сохраняют зрение. Я больше не стремлюсь путешествовать, не думаю о битвах. Мне нравится проводить с тобой время, изучать старые книги в библиотеке Карлаака. Чего еще можно желать? — Смотри, не перехвали меня, а то я возгоржусь. — Гордись на здоровье! Не бойся, Зарозиния, я никуда не собираюсь уезжать. Мне недостает Мунглама, но я понимаю, что он устал от праздной жизни и решил навестить своих родных в Эльвере. — Я рада, что ты обрел покой, Эльрик. Мой отец сначала не хотел, чтобы ты остался; он думал, что ты принесешь нам несчастье, а мы живем, не зная забот, и тебе перестали сниться по ночам кошмары. Внезапно на улице послышались возмущенные голоса, раздался сильный стук в ворота, кто-то громко закричал: — Открой, черт тебя побери! Мне необходимо поговорить с твоим хозяином! Перепуганный слуга вбежал на террасу. — Милорд, какой-то человек рвется в дом, нагло заявляя, что он — ваш друг… — Его имя? — Очень странное, милорд. Мунглам… — Мунглам! Недолго же он пробыл в Эльвере! Немедленно впусти его! Зарозиния вздрогнула, схватила Эльрика за руку. — Только бы его вести не оказались дурными! Я так боюсь, что тебе придется уехать… — Нет таких вестей, которые заставили бы меня покинуть мою жену, Зарозиния. Успокойся. — Он торопливо сошел с террасы во внутренний двор, подбежал к своему другу, только что въехавшему в ворота и соскочившему с коня. — Мунглам, в чем дело? Я, конечно, рад тебя видеть, но почему ты так быстро вернулся? Что случилось? Ты едва держишься на ногах! От долгой скачки одежда Мунглама была покрыта пылью и грязью; на его хмуром лице четко обозначились морщины, он тяжело дышал. — Повелитель Огня идет на Карлаак, сметая препятствия на своем пути с помощью волшебства. Ты должен предупредить отцов города об опасности. — О чем ты говоришь? Кто такой Повелитель Огня? Ты, случайно, не болен, друг мой? — Ты угадал. Я болен, и моя болезнь называется ненавистью. Он уничтожил мою страну, убил моих близких и друзей. Два года назад он был обычным разбойником с большой дороги, а потом к его шайке стали присоединяться отряды варваров. Они жгли, грабили и убивали; разорили все крупные города, кроме Эльвера, который оказался им не по зубам. Две тысячи миль некогда прекрасной страны Терарн Гаштек превратил в выжженную пустыню. А сейчас он двинулся на завоевание запада, и в его распоряжении пятьсот тысяч воинов! Этот человек собирается покорить весь мир! — А при чем здесь волшебство? Как может варвар разбираться в магическом искусстве? — Сам он, конечно, ничего не может, но в его власти находится один из величайших колдунов мира, Дринидж Бара. Он был взят в плен, когда, пьяный, развлекался с двумя девицами из таверны. Колдун поместил свою душу в тело кошки, чтобы его соперники не украли ее, пока он спит. Терарн Гаштек, Повелитель Огня, узнал об этом, спутал кошке лапы, завязал ей глаза и рот, пленив злую душу Дриниджа Бары. Колдун стал рабом варвара, который пригрозил убить кошку железным мечом и отправить душу своего пленника в преисподнюю, если тот откажется ему подчиниться. — Первый раз о таком слышу, — сказал Эльрик. — По-моему, все это — глупые суеверия. — Может быть, но до тех пор, пока Дринидж Бара в них верит, он будет делать то, что велит ему Терарн Гаштек. Немало больших городов было уже захвачено с помощью магии. — Этот Повелитель Огня далеко от Карлаака? — В трех днях пути. Мне пришлось сделать круг, чтобы меня не заметили его дозорные. — В таком случае нам надо приготовиться к осаде. — Нет, Эльрик! Ты должен бежать! — Бежать… Ты хочешь, чтобы я предложил жителям Карлаака бросить свой прекрасный город, оставить свои дома? — Если они откажутся, забирай Зарозинию и уезжай как можно скорее. Против такого сильного врага невозможно выстоять. — Я не новичок в колдовстве, Мунглам. — Тебе придется сражаться не только с волшебником, но и с полумиллионной армией варваров. Разве это возможно? — Карлаак — торговый город, а не крепость, — задумчиво сказал Эльрик. — Хорошо, я поговорю со Старейшинами. — Ты должен убедить их покинуть город, Эльрик. Под натиском кровожадной орды Карлаак падет в течение нескольких часов.
— Старейшины заупрямились, — сказал Эльрик. Он сидел вдвоем с Мунгламом в своем кабинете, задумчиво глядя в окно. На улице быстро темнело. — Они решили, что я преувеличиваю грозящую им опасность, наотрез отказались покинуть Карлаак. А я не могу бросить в беде тех, кто оказал мне гостеприимство, сделал полноправным членом общества. — Ты предпочитаешь погибнуть? — Да… если не найду выхода. Но у меня возник один план. Ты говорил, колдун орды — пленник Терарна Гаштека. Как ты считаешь, что сделает Дринидж Бара, если ему удастся вернуть себе душу? — Конечно же, отомстит своему тюремщику. Но Терарн Гаштек неглуп, и сторожит кошку пуще глаза. — А если нам удастся помочь колдуну? — Каким образом? Это невозможно. — Другого выхода нет. Скажи, Повелитель Огня что-нибудь знает обо мне или моих приключениях? — Навряд ли. — А ты с ним знаком? — Еще чего! — В таком случае я предлагаю тебе присоединиться к нему. — При… Эльрик, ты был и остался сумасшедшим. Даже женитьба тебя не исправила! — Я отвечаю за свои слова. Только находясь рядом с Терарном Гаштеком, мы сумеем обмануть его. Отправимся в путь на рассвете, нам нельзя терять времени. — Хорошо. Надеюсь, удача тебя не покинула, хоть ты и изменил ей, став домоседом. — Поживем — увидим. — Ты возьмешь с собой «Повелителя Бурь»? — Я надеялся, что никогда больше не буду держать в руках дьявольский рунный меч. Он не раз предавал меня. — Думаю, сейчас тебе без него не обойтись. — Ты прав. — Эльрик нахмурился, мышцы его непроизвольно напряглись. — Это значит, я нарушу обещание, данное мною Зарозинии. — Лучше нарушить обещание, чем отдать жену на растерзание варварам.
Эльрик открыл ключом дверь, взял в левую руку факел, пошел по длинному коридору, стены которого были увешаны разнообразным холодным оружием, пылившемся уже на протяжении ста лет. С бьющимся сердцем вошел он в небольшую комнатку, где находились регалии давно умерших Карлаакских военачальников и… «Повелитель Бурь». Черное лезвие застонало, словно приветствуя альбиноса, когда он потянулся за рунным мечом. Эльрик схватил рукоять «Повелителя Бурь» и, почувствовав, как могучая сила вливается в каждую клеточку его тела, испытал такой неземной восторг, что ему стало страшно. Лицо его перекосилось, он дрожащими руками вложил меч в ножны и выбежал из оружейной палаты.
Два друга, одетые по-походному, оседлали коней и быстро распрощались со Старейшинами Карлаака. Зарозиния поцеловала Эльрику руку. — Я все понимаю, — сказала она, поднимая на него глаза, полные слез, — но прошу тебя, будь осторожен. — Обязательно. Помолись, Зарозиния, чтобы нам во всем сопутствовал успех. — Да помогут тебе боги Закона. — Нет. Проси богов Хаоса, Ариоха и Варуна, Повелителей Мечей, ибо только их злая воля может помочь мне в том, что я задумал. И не забудь послать гонца на юго-запад. Пусть разыщет Дайвима Слорма и передаст ему мои слова. — Не забуду. Больше всего на свете я боюсь, что ты пойдешь прежним путем и погубишь себя. — Бойся тех опасностей, которые угрожают нам сейчас, а о будущей своей судьбе я сам позабочусь. — Тогда до свидания, милорд, и пусть тебе во всем сопутствует удача. — До свидания, Зарозиния. Моя любовь к тебе дает мне больше сил, чем мой страшный меч. — Он пришпорил коня и выехал из городских ворот. Мунглам скакал за ним следом.
Глава вторая
Два всадника, казавшиеся карликами на бескрайней Плачущей Пустоши, где всегда шел дождь, мчались на восток, погоняя своих коней. Дрожавший от холода воин-кочевник увидел их издалека. Он прищурился, пытаясь сквозь сетку дождя разглядеть две неясные фигуры, затем развернул коня, дал ему шпоры и вскоре присоединился к необычному отряду воинов, одетых в меха, с железными шлемами на головах. Они были вооружены ятаганами и короткими костяными луками; через плечо у каждого из них висели колчаны с длинными стрелами, украшенными орлиными перьями. Дозорный что-то сказал своим товарищам, и они не медля поскакали навстречу двум незнакомцам. — Далеко еще до лагеря Терарна Гаштека, Мунглам? — спросил Эльрик, слегка задыхаясь от быстрой скачки. — Не думаю. Мы… Смотри! — Коротышка указал рукой на группу примерно из десяти всадников, мчавшихся к ним во весь опор. — Воины-кочевники из орды Повелителя Огня. Приготовься к битве — эти ребята не теряют времени на выяснения отношений. «Повелитель Бурь» с легким свистом вылетел из ножен. Тяжелый меч показался Эльрику легче пушинки, казалось, он сам взлетел в воздух. Мунглам выхватил саблю, взял в левую руку кинжал. С громкими воинственными криками кочевники рассыпались полукругом, атаковали. Эльрик резко остановил своего коня, убил первого нападавшего ударом в горло. Глаза воина расширились от ужаса: умирая, он понял, какая судьба его постигла, ибо «Повелитель Бурь» питался не только кровью, но и душами своих жертв. Рунный меч мелькнул, как молния, отрубил руку еще одному кочевнику, а через секунду разрубил его железный шлем, расколол череп. Капли дождя и пота катились по мертвенно-бледному лицу альбиноса, застилая красные глаза. Эльрик тряхнул головой, отбил в сторону клинок ятагана, неуловимо быстрым движением кисти вонзил острие рунного меча в сердце своего противника. Воин-кочевник завыл, как волк на луну, и продолжал выть, пока «Повелитель Бурь» по каплям не высосал из него душу. Эльрик ненавидел себя за ту сверхъестественную силу, которая разлилась по его жилам. Мунглам старался держаться подальше от испещренного рунами черного лезвия, которое больше всего на свете любило лакомиться кровью и душами друзей последнего Императора Мельнибонэ. Вскоре из нападавших в живых остался только один воин. Эльрик разоружил его, с трудом удержал «Повелителя Бурь», жадно устремившегося к горлу кочевника. Дрожа от страха, воин что-то сказал на лающем языке, который показался альбиносу знакомым. Он напряг память, вспоминая древние языки, которые ему пришлось изучать в молодости, когда он готовился стать колдуном. — Ты есмь ратник Терарна Гаштека, Повелителя Огня. — Полузабытые слова выговаривались ясно и легко. — Правду ты молвил. Мне тоже ведомо о тебе, Бледнолицый Дьявол из Преисподней. Молю тебя, убей меня другим оружием, чем то, что ты держишь в руке. — Я не ищу твоей жизни. Мы ехали этим путем, дабы присоединиться к Терарну Гаштеку. Проводи нас к нему. Воин быстро кивнул, торопливо вскочил в седло. — Кто ты такой, что знаешь Священный Язык моего народа? — Я — Эльрик из Мельнибонэ. Тебе ведомо мое имя? Кочевник покачал головой. — Нет, но Священный Язык наших предков не знает сейчас никто, кроме шаманов, а ты, судя по одежде, простой воин. — Я и мой друг — наемники. Но я устал от разговоров. Все, что потребуется, я объясню твоему предводителю. Оставив трупы воинов шакалам на съедение, Эльрик и Мунглам поскакали за своим пленником на восток. Вскоре они увидели дымы костров на горизонте, а еще через некоторое время их взорам открылся лагерь варваров, занимающий около мили в окружности. Словно дома в захолустном городе, повсюду стояли шатры, покрытые шкурами, а примерно посередине лагеря возвышалось большое строение, обшитое снаружи яркими шелковыми тканями. — Должно быть, это ставка Терарна Гаштека, — сумрачно сказал Мунглам. — Посмотри, он разукрасил все стены флагами уничтоженных им восточных городов. — Лицо его посуровело, он с горечью посмотрел на разорванный штандарт Эшмира, на вымпел Окара с гербом, изображающим льва на золотом поле, на пропитанные кровью знамена Чангшаи. Они ехали вслед за своим пленником, осторожно пробираясь между отдыхающими варварами, которые бесстрастно смотрели на них и о чем-то переговаривались между собой. Перед огромным шатром Терарна Гаштека было воткнуто в землю копье, увешанное высушенными черепами восточных принцев и королей. — Такого человека нельзя оставлять в живых, — пробормотал Эльрик. — Молодые Королевства процветают, — философски заметил Мунглам, — но люди в них обленились, и Терарну Гаштеку не составит труда стереть их в порошок. — Пока я жив, он не захватит Карлаак… и не войдет в Бакшаан. — Пусть себе забирает Надсокор, я не возражаю. Городу Нищих будет очень полезен визит Повелителя Огня. Серьезно, Эльрик, Терарн Гаштек не остановится, пока не дойдет до моря, а может, и море не преградит ему путь. — С помощью Дайвима Слорма мы его остановим. Будем надеяться, гонец из Карлаака не подведет. — Дай-то бог. Вдвоем нам трудненько будет справиться с полумиллионной армией, друг мой! Воин-кочевник остановился у входа в шатер, громко закричал: — О, Великий Завоеватель! Могучий Повелитель Огня! Двое чужеземцев желают поговорить с тобой! — Введи их! — не совсем внятно рявкнул чей-то голос. В шатре, освещенном огнем, горящим в круге камней, было душно. Худой высокий человек, одетый в яркие одежды с чужого плеча, сидел, полуразвалившись, на деревянной скамье. Несколько полуголых женщин внимательно наблюдали за каждым его движением; одна из них все время подливала вино в золотой кубок, стоявший на столе. Терарн Гаштек отшвырнул ее в сторону, поднялся на ноги, уставился на двух друзей. Глядя на его худое лицо, Эльрик невольно вспомнил черепа, нанизанные на копье у входа в шатер. У Терарна Гаштека были впалые щеки, раскосые глаза, блестевшие из-под мохнатых бровей. — Это еще кто? — Не знаю, о Повелитель… они убили десять наших воинов и подарили мне жизнь. — Твоя жизнь ничего не стоит, если ты позволил разоружить себя. Убирайся и немедленно найди новый меч, если не хочешь, чтобы я приказал шаманам погадать на твоих внутренностях. — Вжав голову в плечи, кочевник выбежал из шатра. Терарн Гаштек вновь опустился на скамью. — Значит, вы убили десять моих отборных воинов и пришли ко мне похвастаться своей удалью? Я жду объяснений. — Мы не искали с ними ссоры, нам пришлось защищаться, — ответил Эльрик на более грубом современном языке варваров. — Гм-мм… драться вы умеете. Каждый наш воин стоит троих мягкотелых горожан. Я вижу, ты с запада, но у твоего молчаливого друга лицо эльверийца. Откуда вы? — С запада, — сказал Эльрик. — Мы — солдаты, готовые продать наши мечи тому, кто хорошо заплатит или пообещает богатую добычу. — Послушай, в твоей стране все воины так же искусны в бою, как вы? — с тревогой, которую не сумел скрыть, спросил Терарн Гаштек. Видимо, ему внезапно пришло в голову, что он недооценил тех, кого собирался завоевать. — Мы немного искуснее других, — солгал Мунглам. — А волшебством на западе кто-нибудь занимается? — Нет, — сказал Эльрик. — У них почти не осталось настоящих волшебников. — Тогда и беспокоиться не о чем. — Терарн Гаштек с облегчением вздохнул; его тонкие губы раздвинулись в улыбке. Он кивнул, засунул руку под одежды, вытащил оттуда маленькую связанную кошечку, начал гладить ее по спине. Зверек, который не в силах был оказать своему мучителю сопротивления, смотрел на него горящими глазами. — Зачем же вы все-таки пришли сюда? — спросил Терарн Гаштек после непродолжительного молчания. — В наказание за то, что вы убили десять моих стражников, я мог бы подвергнуть вас страшным пыткам. — Мы можем помочь тебе и одновременно нажить большое богатство, — сказал Эльрик. — Мы покажем тебе страны, где накоплены сказочные сокровища, приведем к незащищенным городам, которые не сумеют оказать тебе сопротивления. Ты позволишь нам вступить в ряды твоей армии? — Не стану скрывать, мне нужны такие люди, как вы. Я с удовольствием найму вас, но запомните, я не стану доверять вам, пока вы не докажете мне своей преданности на деле. Устройтесь в каком-нибудь шатре, а вечером приходите на пир. Я докажу вам, что обладаю таким могуществом, перед которым не устоят не только западные страны, которые я уничтожу огнем и мечом, но и весь мир! — Спасибо тебе, — спокойно произнес Эльрик. — Мы с нетерпением будем ждать сегодняшнего вечера. Они медленно шли по лагерю, пробираясь между людьми, лошадьми и повозками. Редко на каком костре готовилась пища, зато вино было в изобилии, и, похоже, варваров это вполне устраивало. Эльрик остановил одного из воинов, ссылаясь на Терарна Гаштека, потребовал, чтобы ему и его другу предоставили жилье. Кочевник подвел их к одному из шатров. — Он принадлежит вам по праву, так же как оружие и прочее добро. Здесь жили трое кочевников, которых вы убили в честном поединке. Оставшись вдвоем, два друга переглянулись. — Мне что-то не по себе, — пожаловался Мунглам. — Каждый раз, когда я думаю о том, во что они превратили Эшмир, у меня руки чешутся переколотить их всех до единого. Что будем делать? — Нам ничего не остается, как дождаться вечера, а дальше действовать по обстоятельствам. — Эльрик вздохнул. — Наша задача кажется невыполнимой: я никогда еще не видел такой большой армии. — Она непобедима, — согласился Мунглам. — Даже без Дриниджа Бары варвары не имеют себе равных, а западные государства, вечно грызущиеся между собой, просто не успеют объединиться, чтобы противостоять этой могучей силе. Над нашей цивилизацией нависла угроза, Эльрик. Помолись своим мудрым богам Зла, быть может, уничтожение Земли не входит в их планы, и они подскажут нам, что делать. — Боги играют в странные игры, а люди для них не более, чем пешки, — ответил Эльрик. — Смертным не дано знать их планов.Когда Эльрик и Мунглам вошли в шатер Терарна Гаштека, пир был в разгаре. Факелы чадили, вино лилось рекой. — Приветствую вас, друзья мои! — вскричал Повелитель Огня, размахивая в воздухе золотым кубком. — Здесь собрались ближайшие мои помощники, присоединяйтесь к нам скорее! Никогда еще Эльрик не видел столь омерзительных людей. Все они были пьяны и, под стать своему предводителю, носили одежду с чужого плеча. На поясе у каждого из них висел ятаган. Варвары потеснились, освобождая двум друзьям место, налили им вино в кубки. — Привести сюда нашего раба! — крикнул Терарн Гаштек. — Привести сюда нашего любимого колдуна, Дриниджа Бару! — На столе перед ним лежала связанная кошка, а рядом с ней — железный кинжал. Ухмыляющиеся воины втащили в шатер стройного человека с угрюмым лицом, поставили его на колени перед предводителем варваров. Колдун с ненавистью посмотрел на своего мучителя, перевел взгляд на кошку, увидел железный кинжал. В глазах его мелькнул страх. — Чего ты хочешь от меня? — мрачно спросил он. — Как ты разговариваешь со своим господином? Ну, да ладно. Нам надо развлечь гостей — чужеземцев, которые обещали проводить нас в самые богатые западные города. Мы требуем, чтобы ты показал им несколько своих фокусов. — Я не фокусник. Зачем мне, одному из величайших волшебников мира, исполнять дешевые трюки? — Затем, что я тебе приказываю. Давай, заклинатель, позабавь нас. Что тебе нужно для твоей магии? Несколько рабов? Кровь девственниц? Мы все для тебя сделаем. — Я не шаман-пустомеля, и не нуждаюсь в подобных атрибутах. — Внезапно он увидел Эльрика. Альбинос почувствовал, как колдун, напрягая свою мысль, пытается проникнуть в закоулки его мозга. Не было сомнений, что Дринидж Бара признал в мельнибонийце собрата по профессии. Эльрик небрежно положил руку на рукоять меча, приготовился дорого продать свою жизнь, если колдун его выдаст. Чуть откинувшись назад, он сложил пальцы определенным образом: знак, который был бы понятен любому волшебнику запада. Поймет ли его восточный маг? Глаза Дриниджа Бары расширились от изумления. Он искоса посмотрел на предводителя варваров, затем отвернулся, начал делать руками пассы в воздухе, невнятно бормоча себе под нос. Все присутствующие разом вскрикнули, увидев, как золотой дым сгустился у потолка, превратился в фигуру всадника, в котором они узнали Терарна Гаштека. Повелитель Огня задрал голову, уставился на свой образ. — Что это? Под копытами коня появилась карта с изображением рек, лесов и морей. — Западные Земли! — вскричал Дринидж Бара. — Сейчас я предскажу будущее! — Как так? Лошадь начала скакать по карте, расползшейся на тысячи струек дыма; образ всадника затуманился. — Распадутся Западные Земли под могучим натиском великого Повелителя Огня! — воскликнул Дринидж Бара. Варвары восторженно взревели; Эльрик чуть заметно улыбнулся. Восточный колдун издевался над Терарном Гаштеком и его сподвижниками. Струйки дыма собрались в золотой шар, который ярко вспыхнул и исчез. Терарн Гаштек засмеялся. — Хороший фокус, заклинатель, и предсказал ты верно. Я тобой доволен. А теперь, уберите его отсюда! Когда Дриниджа Бару выводили из шатра, он бросил на Эльрика вопросительный взгляд, но промолчал.
Поздним вечером, когда варвары напились до бесчувствия, Эльрик и Мунглам осторожно пробирались по лагерю, направляясь к небольшому шатру, где находился пленный колдун. У входа в шатер стоял часовой. Мунглам поднес к губам мех с вином и, делая вид, что мертвецки пьян, подошел к варвару, качаясь из стороны в сторону. Эльрик остался стоять на месте. — Что тебе надо, чужеземец? — проворчал часовой. — Надо? Мне ничего не надо, друг, я хочу попасть в свой шатер. Ты не знаешь, где он? — Откуда мне знать? — Ха, ха, ха! Вот правда, откуда? Хочешь выпить? Прекрасное вино, из закромов самого Терарна Гаштека. Часовой протянул руку. — Давай! Мунглам поднял мех, сделал большой глоток. — Нет, я передумал. Жаль тратить такое вино на простого солдата. — Вот как? — Кочевник сделал шаг к Мунгламу. — Я смешаю его с твоей кровью, малыш, и выпью за упокой твоей души. Мунглам попятился, повернулся, неуклюже побежал вперед. Воин кинулся за ним следом. Эльрик метнулся к шатру, зашел внутрь. Дринидж Бара со связанными руками лежал на куче невыделанных шкур. Увидев альбиноса, он поднял голову. — Ты! Что тебе надо? — Мы хотим помочь тебе, Дринидж Бара. — Почему? Ты не относишься к числу моих друзей. Риск слишком велик, чтобы ты действовал бескорыстно. — Разве один волшебник не обязан помочь другому в беде? — Я сразу понял, что ты — маг. Но в моей стране собратья по нашей профессии пальцем не пошевелят, чтобы помочь друг другу. — Я скажу тебе правду, Дринидж Бара. Нам нужна твоя помощь, чтобы остановить кровавое продвижение варваров на запад. У нас с тобой общий враг. Скажи, если мне удастся вернуть тебе твою душу, ты нам поможешь? — Конечно! Я давно уже вынашиваю план мести. Но молю тебя, будь осторожен. Если Терарн Гаштек что-нибудь заподозрит, он убьет и кошку, и нас с тобой. — Мы постараемся принести тебе эту кошку. Ты ведь этого хочешь? — Да. Мы должны обменяться с нею кровью, и тогда моя душа ко мне вернется. — Хорошо. Я постараюсь… — Эльрик повернул голову, услышав на улице громкий раздраженный голос. — Кто это? Дринидж Бара задрожал от страха. — Терарн Гаштек… Он приходит каждую ночь, чтобы поиздеваться надо мной. — Куда подевался часовой? — рассерженно кричал предводитель варваров, заходя в шатер. — Безобразие! Я… — Он умолк, недоуменно уставился на Эльрика, стоявшего над связанным колдуном. Глаза его расширились от изумления, он подозрительно спросил: — Как ты здесь оказался, чужеземец? Что ты сделал с часовым? — С часовым? — удивленно переспросил альбинос. — Я его и в глаза не видел. По дороге в свой шатер я услышал, как этот вонючий пес что-то кричит и зашел узнать, что случилось. К тому же мне было любопытно посмотреть на могущественного колдуна, беспомощного, как слепой котенок. — Если ты еще раз проявишь подобное любопытство, я покажу тебе, как выглядит твое сердце. Убирайся отсюда. Утром мы выступаем в поход. Сделав вид, что испугался, Эльрик втянул голову в плечи и выскользнул из шатра.
Одинокий всадник в ливрее официального гонца Карлаака, погоняя коня, мчался на юго-запад. Спустившись с холма, он поскакал по деревне, окликнул первого попавшегося человека, которого увидел на улице: — Скорее скажи мне, ты знаешь что-нибудь о Дайвиме Слорме и его имриррских наемниках? Они здесь не проходили? — Мы принимали их неделю назад. Они направлялись в Ригнарион, на границу с Джадмаром, чтобы предложить свои услуги претенденту на вильмирийский престол. — Пешие или конные? — И те, и другие. — Спасибо, друг, — крикнул гонец через плечо и, пришпорив коня, помчался по дороге в Ригнарион. Он скакал по свежим следам большого отряда воинов, который прошел здесь совсем недавно. Цветущие сады Карлаака больше не радовали его жителей, напряженно ожидающих известий от Эльрика и от гонца, посланного к Дайвиму Слорму. Если оба они преуспеют, город будет спасен. Если нет… Надежд оставалось все меньше и меньше.
Глава третья
Шел мелкий дождь. Оружие бряцало; воины громко переговаривались, Терарн Гаштек сердито кричал, приказывая им поторопиться. Рабы разобрали и уложили в повозку шатер предводителя варваров, который вырвал из мягкой земли свое длинное копье и поскакал вперед. Его помощники, включая Эльрика и Мунглама, поехали за ним следом. Разговаривая на незнакомом для кочевников вильмирийском языке, два друга обсудили создавшееся положение. Терарн Гаштек надеялся на легкую добычу, а так как дозорные варвара рыскали по всей округе, обмануть его будет невозможно. Указать же Повелителю Огня какой-нибудь богатый город, чтобы спасти на время Карлаак, было бы бесчестным. И все же… Двое кочевников, громко крича, галопом мчались навстречу Терарну Гаштеку. — Город, о Повелитель! Совсем маленький и беззащитный! — Наконец-то! Да не затупятся клинки наших ятаганов в ножнах! — Он повернулся к Эльрику. — Ты знаешь это поселение? — Где оно находится? — спросил альбинос, с трудом выговаривая каждое слово. — В десяти милях отсюда на юго-запад, — сообщил дозорный. Несмотря на то, что город был обречен, Эльрику стало легче на душе. Речь шла о Горджане. — Я его знаю, — сказал он.Шорник Кэйвим ехал в деревню, чтобы продать крестьянам упряжь и несколько седел. Внезапно он увидел вдалеке всадников в сверкающих на солнце железных шлемах. Казалось, им не было числа. Подгоняемый страхом, Кэйвим развернул коня и помчался обратно в Горджан. Он скакал по главной улице города и громко кричал; — Кочевники! К нам приближается орда кочевников! Через четверть часа на Городском Совете разгорелся спор. Те, кто были постарше, предлагали все бросить и бежать; молодежь настаивала на том, чтобы дать варварам бой. Несколько Советников высказали мнение, что на них вообще не нападут, так как город их слишком беден. Спор перекинулся на улицы, и пока горожане спорили, первая волна кочевников хлынула на крепостные стены. С разговорами было покончено. Жители Горджана, вооруженные чем попало, кинулись защищать свой город, хотя и понимали, что обречены на гибель. Из-под копыт танцующего на месте коня Терарна Гаштекалетели комья грязи. — Не будем тратить времени на осаду! — проревел он. — Привести ко мне колдуна! Дриниджа Бару выволокли из повозки, поставили перед предводителем варваров, который вытащил из-за пазухи маленькую черную кошечку и занес над ней кинжал. — Делай свое дело, заклинатель! Немедленно уничтожь стены этого города! Дринидж Бара судорожно вздохнул, искоса посмотрел на Эльрика. Альбинос отвел глаза. Колдун нехотя достал из кармашка своего пояса щепотку серого порошка, подкинул ее на ладони. Воздух задрожал, загорелся; в языках холодного пламени появилось страшное нечеловеческое лицо. — Даг-Гадден, Разрушитель, — монотонно произнес Дринидж Бара, — готов ли ты, повинуясь клятвам, которые мы дали друг другу, выполнить мою волю? — Я дал клятву, и я ее выполню. Приказывай. — Уничтожь стены этого города, дабы люди остались незащищенными, как крабы, лишившиеся своих панцирей. — Уничтожать — мое призвание. Слушаю и повинуюсь. — Языки пламени взметнулись, с диким свистом унеслись в небо, окрасив его в кроваво-красный цвет, затем ринулись вниз, подобно урагану пронеслись над городом. Крепостные стены Горджана задрожали, заколебались и исчезли. Эльрик стиснул зубы. Если варвары когда-нибудь подойдут к Карлааку, его ждет такая же участь. Радостно крича, кочевники ринулись в незащищенный город. Хотя Эльрик и Мунглам не принимали участия в сражении, они не в силах были помочь горожанам, которых убивали, как быков на бойне. Бессмысленная жестокость воинов-кочевников не могла вызвать у двух друзей ничего, кроме отвращения. Они зашли в небольшой дом, который каким-то чудом до сих пор не привлек внимания варваров, увидели трех испуганных ребятишек, жавшихся к молоденькой девушке, стоявшей с кухонным ножом в руке. Дрожа от страха, она приготовилась защищаться. — Не теряй времени, девочка, если не хочешь потерять жизнь, — сказал Эльрик. — В этом доме есть чердак? Она кивнула. — Спрячься там вместе с детьми. Мы позаботимся о твоей безопасности. Избиение беззащитных горожан продолжалось. На улицах раздавались отчаянные крики, кровь лилась рекой. Дверь в дом распахнулась настежь, хохочущий варвар за волосы втащил в комнату женщину и бросил ее на деревянный пол. Несчастная даже не пыталась сопротивляться, лицо ее было искажено от ужаса. — Найди себе другое место для развлечений, — угрожающе сказал Эльрик. — Мы с другом здесь отдыхаем. Воин ухмыльнулся. — Я вам не помешаю. Присоединяйтесь. Эльрик не помнил, как рунный меч очутился в его руках. Красные глаза альбиноса горели ненавистью, он шагнул вперед, занес «Повелителя Бурь» над головой, одним ударом расколол воину череп. Не в силах справиться с обуревавшей его яростью, он ударил еще раз, разрубив тело варвара пополам. Женщина безучастно смотрела на разыгравшуюся перед ее глазами сцену. Эльрик бережно взял ее на руки, передал Мунгламу. — Отнеси ее на чердак, пусть девушка присмотрит за нею. Варвары, насытившись кровью, начали грабить и поджигать дома. Вложив рунный меч в ножны, Эльрик вышел на улицу. Город пылал, огненные языки пламени вздымались в серое небо. Лицо альбиноса было похоже на маску из света и тени. Отовсюду доносились отчаянные женские крики, грубый смех, бряцание оружия, невнятные голоса варваров, деливших жалкую добычу. Внезапно Эльрик услышал чей-то молящий голос, резко отличающийся от других голосов, увидел сквозь дым Терарна Гаштека, победно размахивающего в воздухе окровавленной человеческой рукой, отрезанной у кисти. За предводителем варваров шли несколько воинов-кочевников, которые волокли за собой голого человека, истекающего кровью. Заметив Эльрика, Терарн Гаштек нахмурился, посмотрел на него исподлобья, затем громко вскричал: — Сейчас ты увидишь, чужеземец, как мы почитаем наших богов! Мы приносим им в жертву не тухлую пищу и кислое молоко, а кое-что пожирнее! Взгляни-ка на эту падаль! Послушай, как он выклянчивает у нас свою жизнь! Верно я говорю, Святой Отец? Старик-священник прикусил губу до крови, перестал жалобно стонать, горящими глазами уставился на Эльрика, заговорил высоким, пронзительным голосом: — Шелудивые псы! Вы можете тявкать на меня, сколько угодно, но Мират и Т'ааргано отомстят за оскорбление их жреца и разрушение храма. Вы пришли к нам с огнем, от огня и погибнете! — Он указал окровавленным обрубком руки на альбиноса. — А ты — убийца и предатель, я вижу клеймо клятвопреступника на твоем лице. Хотя сейчас… ты… — Жрец судорожно вздохнул. Эльрик облизнул пересохшие губы. — Я такой, какой есть, — ответил он. — А ты — жалкий старик, который скоро умрет. Твои боги не могут причинить нам вреда, потому что мы им не поклоняемся. Я не желаю больше слушать твоей болтовни! На лице престарелого священника появилось страдальческое выражение. Видимо, он подумал о том, какие мучения ждут его впереди. — Ничего, скоро эта мразь запоет по-другому! — воскликнул Терарн Гаштек. — Убивать священнослужителя — дурная примета, — неожиданно сказал Эльрик. — Ты слаб в коленках, друг мой. Не бойся, наши боги любят, когда им приносят кровавые жертвы. Альбинос отвернулся, вошел в дом. Дикий крик боли расколол вечернюю тишину. Варвары засмеялись. Поздно вечером, при свете догорающих домов, Эльрик и Мунглам выбрались из города, скинули с плеч тяжелые мешки, выпустили из них детей и женщин. Мунглам куда-то исчез, но вскоре вернулся с тремя лошадьми. Женщины подсадили детей, молча сели в седла. Они ускакали, не попрощавшись. — Независимо от того, нашел или нет гонец Дайвима Слорма, — со сдержанной яростью сказал альбинос, — мы осуществим наш план сегодня ночью. Я больше не могу быть свидетелем подобных зверств.
Терарн Гаштек напился до бесчувствия Он лежал, ничего не соображая, в постели на втором этаже уцелевшего от пожара дома. Пока Эльрик сторожил у двери, Мунглам на коленях подполз к предводителю варваров, осторожно запустил руку в его одежды. Удовлетворенно улыбнувшись, он вытащил оттуда извивающуюся всем телом кошечку, положил на ее место набитую травой шкуру кролика. Крепко сжимая зверька в руке, он встал на ноги, кивнул Эльрику. Они быстро спустились на первый этаж, вышли из дома. — Насколько я понял, Дринидж Вара находится в фургоне, — сказал альбинос своему другу. — Пойдем скорее, главная опасность миновала. — Когда кошка и Дринидж Бара обменяются кровью, и колдун вернет себе душу, что мы будем делать, Эльрик? — спросил Мунглам. — Вдвоем, возможно, у нас хватит сил сдержать натиск варваров, Но… — Он умолк, глядя на приближавшуюся к ним большую группу воинов. — Да это же чужеземец со своим другом-малышом, — засмеялся один из них. — Куда вы собрались, приятели? Эльрик почувствовал настроение толпы. Кочевники все еще жаждали крови. Им не терпелось затеять с кем-нибудь ссору. — Никуда, — ответил он. — Просто прогуливаемся. Варвары остановились, не давая им пройти. — Мы много слышали о твоем чудесном мече, незнакомец, — произнес с усмешкой все тот же кочевник, — и мне захотелось проверить, как он себя поведет, скрестившись с настоящим оружием. — Он выхватил из-за пояса ятаган. — Стоит ли тебе затрудняться? — хладнокровно сказал Эльрик. — Ты крайне любезен, но я настаиваю на своем предложении. — Пропустите нас, — вмешался в разговор Мунглам. Глаза воинов-кочевников засверкали. — Как смеешь ты разговаривать таким тоном с завоевателями мира? — выкрикнул их предводитель. Мунглам сделал шаг в сторону, взялся за эфес сабли, продолжая сжимать кошку у себя под мышкой левой рукой. Зверек дергался изо всех сил; видимо, ему каким-то образом удалось освободиться от пут. — Ничего не поделаешь, — сказал Эльрик своему другу и выхватил меч из ножен. С тихим издевательским свистом черное лезвие, испещренное рунами, разрезало воздух, и варвары услышали этот звук. Переглянувшись, они невольно отступили. — В чем же дело? — спросил Эльрик, вытянув руку с «Повелителем Бурь». Воин, бросивший ему вызов, нерешительно посмотрел на своих товарищей, затем, набравшись храбрости, бросился на альбиноса, громко вскричав: — Благородное железо справится с любым колдовством! Эльрик, радуясь, что получил возможность отомстить, с легкостью отбил клинок ятагана, нанес удар наискосок, перерубив кочевнику живот и бедро, Мунглам тем временем расправился с двумя варварами, но третий неожиданно напал на него с левой стороны и ранил в плечо. Вскрикнув от боли, Мунглам выронил кошку. Эльрик пришел своему другу на помощь. Победно взвыв, черное лезвие перерезало кочевнику горло. Варвары не выдержали и бросились врассыпную. — Ты серьезно ранен? — с тревогой спросил альбинос, глядя на Мунглама, который стоял на коленях и напряженно всматривался в темноту. — Ерунда, Эльрик. Я выронил кошку. Если мы ее не отыщем, все погибло. Они лихорадочно принялись за поиски, но не добились успеха. С хитростью, свойственной этим животным, кошка спряталась так, что найти ее было невозможно. Внезапно к ним подошли несколько воинов. — Наш предводитель желает поговорить с вами, — сказал один из них. — О чем? — Он сам вам все объяснит. Пойдемте с нами. Они неохотно повиновались и вскоре предстали перед разъяренным Терарном Гаштеком, державшим в руке набитую травой шкурку кролика. — Я лишился своего колдуна! — завопил он. — Что ты об этом знаешь? — Прости, я тебя не понимаю, — ответил Эльрик. — У меня украли кошку, а вместо нее положили это чучело. Недавно я застал тебя в шатре Дриниджа Бары. Признавайся, что ты задумал! — Мы ни в чем не виноваты, — сказал Мунглам. — Нас здесь и близко не было. Терарн Гаштек нахмурился. — В лагере царит хаос, воины не подчиняются никаким приказам. Но завтра я наведу порядок и допрошу каждого из них. Если ты говоришь правду, я отпущу вас на свободу, а пока что вам придется провести ночь вместе с колдуном. — Он дернул головой. — Свяжите их и бросьте в фургон.
— Нет, собрат-волшебник, я не стану тебе помогать, — сказал из темноты голос Дриниджа Бары. — Риск слишком велик. — Но ведь теперь ты можешь не бояться Терарна Гаштека. — А если он поймает кошку? Эльрик промолчал. Он лежал на голом дощатом полу фургона, обтянутого шкурами, и уже с полчаса безуспешно уговаривал Дриниджа Бару выступить против предводителя варваров. Внезапно полог распахнулся, и в фургон бросили еще одного человека, связанного по рукам и ногам. — Кто ты? — спросил Эльрик на эшмирском языке. — Не понимаю, — ответил человек на вильмирийском. — Так ты с запада? — Да. Я — официальный гонец города Карлаака. Эти вонючие шакалы схватили меня, когда я возвращался домой. — Что?! Значит, это тебя мы послали к моему родственнику, Дайвиму Слорму? Я — Эльрик из Мельнибонэ. — Милорд, неужели и ты попал в плен? О, боги, теперь Карлаак обречен. — Ты видел Дайвима Слорма? — Да. К счастью, имриррцы оказались ближе к Карлааку, чем мы предполагали. — Что он тебе сказал? — Дайвим Слорм согласился выполнить твою просьбу, но предупредил, что сможет разбудить немногих драконов. Он просил передать, что даже с помощью волшебства не успеет за один день добраться до острова. — Все равно, теперь у нас появился шанс. Но нам необходимо вернуть Дриниджу Бару его душу, чтобы он не стал защищать варваров. У меня появилась одна идея: я вспомнил, что мы, мельнибонийцы, состоим в родстве с существом по имени Миирклар. Какое счастье, что в Троосе я нашел травы, которые позволили мне сохранить силы. Сейчас я постараюсь позвать свой меч. Альбинос закрыл глаза, полностью расслабился, затем сконцентрировался на «Повелителе Бурь», стараясь увидеть его своим внутренним взором. Между человеком и рунным мечом в течение долгих лет существовал своего рода симбиоз: один не мог обойтись без другого. — «Повелитель Бурь»! — вскричал Эльрик. — Брат мой! Соединись со своим братом! Приди ко мне, гордый меч, испещренный рунами, убийца моих родных и близких! Твой господин погибнет без тебя… Казалось, на улице забушевал ураган. Эльрик услышал испуганные крики людей, свист ветра. Затем над его головой показалось звездное небо: черное лезвие разрезало шкуры, покрывающие фургон, запело победную песню, зависло в воздухе. Альбинос с трудом поднялся на ноги, испытывая отчаяние при мысли о том, какими силами предстоит ему воспользоваться, и утешая себя, что на этот раз он заботится не о собственном благополучии, а о спасении человечества от варваров. — Дай мне твою силу, брат, — простонал он, хватаясь за рукоять меча связанными руками. — Дай мне твою силу, и будем надеяться, больше она мне никогда не понадобится. Рунный меч задергался, вжался в ладони альбиноса, почувствовавшего небывалый прилив энергии, украденной оружием-вампиром у сотен храбрецов. Эльрик испытывал необычайные ощущения, и не только физические. Его мертвенно-бледное лицо исказилось от ужаса: на мгновение ему показалось, что он навсегда останется рабом своего могущественного оружия. Затем он одним движением разорвал стягивающие его веревки и выпрямился. Варвары сбегались к фургону со всех сторон. Эльрик быстро освободил пленников и, не обращая внимания на воинов-кочевников, напевно заговорил на языке, который Императоры-колдуны Мельнибонэ знали задолго до того, как десять тысяч лет назад был построен Имрирр Прекрасный. — Миирклар, это я, твой родич, Эльрик, последний Император Мельнибонэ, поклявшийся тебе и твоему народу в вечной дружбе. Ты слышишь меня, Повелитель Кошек?
За пределами Земли, там, где нет ни пространства, ни времени, похожее на человека существо, купавшееся в теплом голубом и янтарном свете, потянулось и зевнуло, обнажив маленькие острые зубки. Наклонив голову к мохнатому плечу, оно прислушалось к голосу, зовущему его по имени. Этот голос не был голосом одного из подданных, которые находились под его защитой, но слова древнего языка были хорошо ему знакомы. Миирклар улыбнулся, невольно испытывая чувство привязанности к тому, кто звал его по имени. Повелитель Кошек вспомнил расу мельнибонийцев, непохожую на человеческую (которую он презирал) и любившую, подобно ему, удовольствия ради удовольствий, жестокость ради жестокости и знания ради знаний. Миирклар, Повелитель Кошек, грациозно изогнувшись, переместился на Землю. — Чем я могу помочь тебе? — промурлыкал он. — Мы ищем одну твою подданную, Миирклар. Она находится неподалеку отсюда. — Да, я чувствую. Что тебе надо от нее? — То, что ей не принадлежит. У кошечки две души, и одна из них — чужая. — Это так… Ее зовут Мррушерн, она из блистательной семьи Трремяуу. Я позову ее. Она придет. Варвары, столпившиеся перед фургоном, никак не могли преодолеть своего страха перед теми сверхъестественными событиями, свидетелями которых они оказались. Терарн Гаштек яростно кричал: — Трусы! Вас — пятьсот тысяч, а их всего несколько человек! Схватить негодяев! Воины-кочевники осторожно двинулись вперед. Черная кошечка по имени Мррушерн услышала голос, которому, как она знала, не подчиниться было бы глупо. Она быстро побежала к фургону. — Смотрите! Кошка! Вот она! Хватайте ее быстрее! Двое варваров попытались выполнить приказ своего предводителя, но Мррушерн ловко ускользнула от них и прыгнула в фургон. — Отдай человеку обратно его душу, — мягко сказал Миирклар. Кошечка прыгнула на колени к своему хозяину, бережно прокусила острыми, зубками вену на его руке. Через мгновение Дринидж Бара громко рассмеялся. — Наконец-то! Моя душа вновь со мной! Благодарю тебя, о великий Повелитель Кошек! Позволь мне не остаться у тебя в долгу. — Ты ничего мне не должен. — Миирклар насмешливо улыбнулся. — К тому же твоя душа, как я вижу, давно уже тебе не принадлежит. Прощай, Эльрик из Мельнибонэ. Мне было приятно ответить на твой зов, хоть ты и свернул с того пути, которым шли твои великие предки. Тем не менее, я на тебя не в обиде. Прощай, я покидаю твою негостеприимную планету. Образ Повелителя Кошек затуманился, исчез, Миирклар вернулся на свой теплый мир, устроился поуютнее и уснул, купаясь в голубом и янтарном свете. — Пойдем, брат-колдун! — возбужденно вскричал Дринидж Бара. — Мы должны отомстить! Они соскочили на землю, остановились перед группой кочевников во главе с Терарном Гаштеком. — Убейте их! — взревел предводитель варваров. — Убейте их, пока они не вызвали еще каких-нибудь демонов! Воины, державшие луки со стрелами наготове, разом спустили тугие тетивы. Дринидж Бара улыбнулся, сказал несколько слов, небрежно провел руками в воздухе. Стрелы остановились в полете, развернулись, понеслись в обратном направлении. Каждая из них впилась в горло кочевника, выпустившего ее из лука. Терарн Гаштек коротко вскрикнул, бросился бежать, расталкивая воинов, крича во все горло: — Убейте их! Не дайте им уйти живыми! Варвары, прекрасно понимая, что погибнут, если отступят, набросились на своих бывших пленников. Разгоралась заря. — Смотри, Эльрик! — неожиданно вскричал Мунглам, указывая на небо. — Всего пятеро, — пробормотал альбинос, поднимая голову. — Всего пятеро. Он парировал удар за ударом. Тело его переполняла чудовищная энергия, но «Повелитель Бурь» стал обычным мечом, лишился своего сверхъестественного могущества. Продолжая обороняться, Эльрик расслабился, почувствовал, как сила уходит из него в рунный меч. Черное сияние заструилось по черному лезвию, «Повелитель Бурь» запел свою песню, впиваясь в горла и сердца варваров. У Дриниджа Бары не было оружия, но он прекрасно без него обходился. Вокруг колдуна валялись окровавленные трупы кочевников, похожие на мешки с тряпьем. Два волшебника, Мунглам и гонец Карлаака медленно продвигались вперед. Большинство воинов-кочевников, не помня себя от страха, мчались на запад, погоняя своих коней. Внезапно Эльрик увидел Терарна Гаштека, целившегося из лука в Дриниджа Бару, и громко крикнул, предупреждая колдуна об опасности. Дринидж Бара повернулся, начал произносить какое-то заклинание, но было поздно: стрела вонзилась в его левый глаз. — Нет! — вскричал он и упал бездыханный к ногам альбиноса. Последний император Мельнибонэ посмотрел на небо. Дайвим Слорм, сын двоюродного брата Эльрика, Дайвима Твара, прилетел на легендарных имриррских драконах на помощь своему соотечественнику. Большинство зверей спали — и будут спать еще сто лет, — но пятеро драконов гордо реяли над уничтоженным городом. Терарн Гаштек тоже увидел гигантских рептилий. Грандиозные планы несостоявшегося завоевателя Земли рухнули. Не помня себя от ярости, предводитель варваров кинулся к альбиносу. — Бледнолицая мразь! — взревел он. — Это ты во всем виноват! Сейчас тебе придется сполна заплатить по счетам Повелителю Огня! Эльрик громко расхохотался, небрежно отбил рунным мечом клинок ятагана. — Моих драконов тоже можно назвать Повелителями Огня, — насмешливо сказал он, — но, в отличие от тебя, каждый из них по праву заслужил это имя! — И не ведая жалости, он пронзил грудь предводителя варваров. Чувствуя, как черное лезвие жадно пьет его душу, Терарн Гаштек застонал и, испуская последнее дыхание, выкрикнул: — Быть может, я и преступник, Эльрик из Мельнибонэ, но я жил куда честнее и порядочнее, чем ты! Будь ты проклят! Да не познаешь ты во веки веков ни минуты покоя! Эльрик рассмеялся, глядя на труп варвара, но голос его слегка дрожал. — Подобные проклятья давно на меня не действуют, друг мой. — Он на мгновенье задумался. — Клянусь Ариохом, надеюсь, я прав! Я думал, надо мною больше не тяготеет злой рок, но, возможно, я ошибался… Лагерь опустел. Полумиллионная орда воинов-кочевников скакала на запад. Если их не остановить, они очень скоро достигнут Карлаака, и от беззащитного города не останется камня на камне. Над головой Эльрика раздалось хлопанье тридцатифутовых крыльев; он почувствовал драконий запах, который преследовал его много лет подряд, с тех самых пор как корсары уничтожили Имрирр Прекрасный. Затем послышались трубные звуки рога, и альбинос увидел Дайвима Слорма с длинным копьем в правой руке, сидевшего на шее вожака драконов. Зверь по спирали опустился вниз, сел на землю в двадцати футах от Эльрика, сложил перепончатые крылья. Повелитель Драконов помахал альбиносу рукой. — Приветствую тебя, император Эльрик. Мы чуть было не опоздали прийти тебе на помощь. — Вы подоспели вовремя. — Эльрик улыбнулся. — Я рад видеть сына Дайвима Твара. Не думал, что ты согласишься выполнить мою просьбу. — Мы перечеркнули прошлое после битвы при Бакшаане, где мой отец, Дайвим Твар, погиб, помогая тебе захватить замок Никорна. Мне жаль, что удалось разбудить только пятерых драконов. Если помнишь, остальные участвовали в сражении за Имрирр. — Я помню. Но могу я попросить тебя еще об одной услуге, Дайвим Твар? — Какой именно? — Позволь мне занять твое место на вожаке драконов. У меня есть причины отомстить варварам, убившим на моих глазах ни в чем не повинных жителей города, уничтожившим их дома огнем и мечом. Я хочу отплатить им той же монетой. Дайвим Слорм кивнул, соскочил на землю. Дракон беспокойно зашевелился, приподнял верхнюю губу, обнажив острые, как мечи, зубы — каждый толщиной с человеческую руку. Раздвоенный язык зверя мелькнул с быстротой молнии, огромные глаза холодно уставились на Эльрика. Альбинос запел на древнем мельнибонийском языке, взял копье и рог у Дайвима Слорма, осторожно забрался в седло на шее дракона, сунул ноги в большие серебряные стремена. — Лети, брат-дракон, — пел Эльрик, — вздымайся в небо и держи свой яд наготове. Громадные крылья развернулись, начали бить по воздуху, зверь с легкостью набрал высоту, стал парить над серыми тучами. Четыре дракона последовали за своим вожаком; альбинос выхватил рунный меч из ножен, протрубил в рог. Десятки веков назад предки Эльрика, вооруженные «Повелителем Бурь» и его сестрой «Властительницей Мрака» завоевали мир с помощью гордых драконов. В те времена Драконьи Пещеры были переполнены удивительными зверями. Сейчас их осталось совсем немного, а разбудить удалось только пятерых.
Полы черного плаща, молочно-белые волосы Эльрика развевались у него за спиной. Он пел торжественную песню Повелителей Драконов, и голос его дрожал от волнения:
Первая Хроника Эльрика «Повелитель Бурь» английского писателя Майкла Муркока является продолжением уже известной читателю Хроники Корума. Принц в Алой Мантии Джайлин Ирси, Вечный Герой, странствующий по бесчисленным мирам, предстает в своей новой инкарнации под именем Эльрика, последнего императора Мельнибонэ. Он снова оказывается вовлеченным в извечную борьбу Повелителей Хаоса и Хранителей Закона, грозящую нарушить Космическое Равновесие. На пути его ожидают лишения и удачи, предательство и верность, коварство и любовь, друзья и недруги. Во всех невзгодах Эльрика выручает волшебный меч, испещренный руническими письменами, который черпает чудодейственную силу, питаясь душами убиваемых им существ. Но со временем Эльрик начинает замечать, что этот меч, названный Повелителем Бурь, из верного слуги превращается в жестокого хозяина, наделенного злой волей к уничтожению…
Майкл Муркок Чуждое тепло
Нику Тернеру, Дейву Броку, Бобу Калверту, Дик Мику, Делу Детмару, Терри Оллису, Саймону Кингу, Лемми и Рональду Фирбенку
И розы той, что пламенем цвела, И серебром окутанной лилеи Бутоны застекленные милее, Взыскующие чуждого тепла.Теодор Вратислав, «Цветы из оранжереи», 1896
Пролог
Дни Вселенной были сочтены, и род человеческий, оказавшись на Краю Времени, принялся беспечно транжирить наследство, завещанное заботливыми праотцами. Обладатели колоссального капитала превратились в лицедеев на подмостках угасающей планеты. Пленники причудливых фантазий и нелепых прихотей, люди жаждали творить прекрасные уродства. Да и что им оставалось делать! Накопленные миллиардами лет ресурсы пускались на ветер с шокирующей экстравагантностью, способной привести в смятение умы рачительных пращуров. В прежние века чудовищная расточительность беззаботных потомков создала бы им недобрую славу растленных декадентов. Но даже если обитатели закатного будущего не сознавали, что живут в Конце Времени, некая интуиция лишала их интереса ко всякого рода идеалам и убеждениям, предотвращая конфликты, из подобных вещей произрастающие. Они предавались эстетике парадокса, исповедуя и воспевая лишь одну философию – философию чувственности. Каноны суровой морали давно канули в Лету, предоставив человеку полную свободу. Неискушенные, они любили, не ведая страсти, соперничали, не ведая ревности, враждовали, не ведая ярости. Замыслы, часто грандиозные и неподражаемые, воплощались без одержимости и забывались без сожаления людьми, не ведавшими страха смерти, потому что смерть была редка и жизнь могла оборваться только тогда, когда умрет сама Земля. Эта история о всепоглощающей высокой страсти, овладевшей одним из лицедеев – к его собственному удивлению. Именно поэтому мы решили поведать ее, вероятно, последнюю в анналах рода человеческого, не намного отличающуюся от той, что принято считать первой. Что дальше? История Джерека Карнелиана, несведущего в тонкостях морали, и миссис Амелии Андервуд, неукоснительно следующей ей.Глава первая БЕСЕДА С ЖЕЛЕЗНОЙ ОРХИДЕЕЙ
Разузоренные в тончайшие оттенки светло-кофейного, Железная Орхидея и ее сын возлежали на кремовом пляже из размолотой кости. Поодаль мерцало и шелестело молочное море. Был полдень. Между Железной Орхидеей и ее сыном, Джереком Карнелианом, покоились остатки ленча. Блюда слоновой кости были наполнены бледной рыбой, картофелем пастельных тонов, меренгами и ванильным мороженым. В самом центре этого натюрморта в светлых тонах ярким мазком желтел лимон. Железная Орхидея улыбнулась янтарными губами и, потянувшись за устрицей, поинтересовалась. – Любовь моя, что значит «добродетельный»? Ее совершенной формы рука, чуть припудренная золотом, на секунду замерла над устрицей, а затем отстранилась. Она прикрыла ладонью легкий зевок. Джерек вытянулся на мягких подушках. Его клонило ко сну от обильной трапезы, но он послушно ответил, поддерживая беседу. – Я не совсем постиг значение этого слова. Ты ведь знаешь, о самый экстазный из минералов, я изучал язык тех времен довольно прилежно и отыскал все уцелевшие рукописи. Мне нравится этот древний язык, хотя я до сих пор не улавливаю всех его тонкостей. В словаре я нашел, что «добродетельный» – это «поступающий по законам морали, с нравственной прямотой, добрый, справедливый, праведный». Но это ничего не объясняет. Он взял устрицу. Позволил ей соскользнуть в рот. Устрицы были открытием Железной Орхидеи, и Джерек с восторгом принял ее предложение встретиться на пляже, дабы их отведать. Она сотворила немного шампанского, но оба решили, что шампанское им не по вкусу, и беззаботно вернули шипучий напиток в атомы, его составляющие. – Во всяком случае, – продолжил Джерек, – мне хотелось бы испробовать чуть-чуть «добродетели». Судя по всему, сюда входит и «самоотречение». – Заметив в ее глазах вопрос, он тут же добавил, – это означает «не делать ничего, доставляющее удовольствие». – Но ведь абсолютно все, о мое бархатное тело, скрывающее кости из стали, способно доставлять удовольствие? – Верно, в этом-то и заключается парадокс. Видишь ли, мама, древние делили свои ощущения на различные категории, некоторые из которых, похоже, приятными не находили. Или, напротив, считали их чересчур приятными, и оттого были недовольны. О, дражайшая Железная Орхидея, я вижу, что ты готова забыть все это. А я часто прихожу в отчаяние, пытаясь разгадать загадку. Почему одна вещь считается достойной, а другая – нет? Но… – его красивые губы сложились в улыбку, – рано или поздно я решу проблему, – и он опустил отяжелевшие веки. – О, Карнелиан! Железная Орхидея тихо засмеялась и потянулась к нему через скатерть. Изящные руки скользнули под его свободные одежды, лаская молодое тело. – О, мой дорогой! Какой ты сладкий! Как ты зрел и полон жизни! Джерек встал, перешагнул через скатерть, и подарил своей матери медленный поцелуй. А море вздохнуло. Когда, все еще в объятиях друг друга, они очнулись от дремы, было утро, хотя ночь не наступала. Видно кто-то, удовольствия ради, менял ход времени. Джерек заметил, что море стало розовым, затем почти вишневым, и ужасно дисгармонировало с пляжем, а на горизонте скала и две пальмы исчезли. На их месте стояла серебряная пагода высотой этажей в двенадцать и сверкала в лучах утреннего солнца. Джерек посмотрел налево и удовлетворенно отметил про себя, что его воздушная машина, выглядевшая как паровоз начала двадцатого века, но вполовину меньше, сделанная из золота, черного дерева и рубинов, все еще находится там, где они ее оставили. Он снова посмотрел на пагоду, и как раз в этот момент крылатая фигура поднялась с ее изогнутой крыши, и беспорядочно запорхала на восток. – О, это Герцог Квинский со своими крыльями, – зевнула только что проснувшаяся Железная Орхидея. Она поднялась. – Он полагает, что эти крылья ему удались? Железная Орхидея махнула рукой в сторону исчезнувшего Герцога. – Прощай, играющий в старые игры! Она бросила взгляд на остатки ленча и поморщилась: – Нужно это убрать! Легким поворотом кольца на левой руке Орхидея испарила объедки и проводила взглядом облачко пыли, которое унес прочь легкий ветерок. – Ты собираешься посетить журфикс Герцога? – Она подняла изящную руку, отяжеленную коричневой парчой, и потрогала кончиками пальцев чело сына. – Наверное, – Джерек распылил подушки. – Герцог Квинский мне симпатичен. Слегка надув губы, Джерек оценивающе посмотрел на багровеющее море. – Хотя ему и недостает чувства цвета. Он повернулся и направился по измельченной кости к своему воздушному ландо. Подойдя к локомотиву, Джерек забрался в кабину. – Начинается посадка, моя сладкая Железная Орхидея! Она засмеялась и протянула ему руки. Джерек с подножки схватил ее за талию и поднял в кабину. – Отправление в Пасадену! Он потянул паровозный свисток. – Пересадка в Буффало! Послушный звуковому сигналу, маленький локомотив величаво поднялся в воздух и, попыхивая белым паром из трубы, поплыл над землей. – В Расине, штат Вирджиния, ему забили баки! – пел Джерек Карнелиан, надевая фуражку машиниста из золотой и алой ткани. – Поддай-ка, парень, пару, забудь свои ты враки! С таким старьем как это, и с веком ты не в ногу. Тебе, приятель, место на Нептукской дороге! Орхидея расположилась на сиденье из бархата и меха горностая и развлекалась, наблюдая, как ее сын открывает дверцу топки и кидает туда лопатой огромные черные алмазы, сделанные им специально для паровоза. Воздушная машина не нуждалась в топливе, но алмазы добавляли эстетизма в атмосферу забавы. – И где ты находишь эти древние песенки, о Карнелиан, сын мой? – Мне попался тайник с «пластинками», – ответил он ей, вытирая с лица честный трудовой пот шелковой ветошкой. Внизу быстро промелькнуло море и горный хребет. – Способ «звукозаписи» относится к тому же периоду, что и мой локомотив. По меньшей мере, им миллион лет, хотя кое-что наводит на мысль о том, что они сами являются копиями других оригиналов. Хорошо, что поколения их владельцев сохранили эти черные диски в безупречном состоянии. Захлопнув дверцу топки и отбросив платиновую лопату, Джерек присоединился к матери на сиденье и принялся рассматривать проплывающую внизу причудливую местность, которую Миссис Кристия, Неистощимая Наложница, начала строить давным-давно, да так и не закончила. Пейзаж и впрямь не отличался элегантностью. А точнее говоря, был изрядно подпорчен. На две трети построе-ный холм в манере арийских ландшафтов девяностого столетия столетия, был увенчан змеедревом сатурийского фасона. Рядом с полоской реки периода Бенгальской империи высились готические руины одинадцатого века. Можно было понять, почему она решила не заканчивать это творение, но Джереку казалось, что ей не мешало бы побеспокоиться и рассеять эту нелепицу. Кто-нибудь, конечно, сделает это рано или поздно. И он снова запел:* * *
Они поднялись по белой винтовой лестнице на веранду, вдыхая восхитительный запах магнолий, которые росли неподалеку. Подойдя к двери, Джерек нажал на рычаг, створки ее распахнулись, и они прошли в гостиную, занимавшую весь этаж. Другие восемь этажей были отданы кухням, спальням и кладовым. Орхидея остановилась около сложной кружевной безделушки, которую Джерек скопировал со старой голограммы и воспроизвел в стали и хроме. Вещица походила на огромное яйцо, стоявшее на одном конце, и касалась потолка. – Что это, о источник моей жизни? – спросила мать у сына. – Космический корабль, – пояснил он. – Древние любили летать к Луне или отражать нашествия с Марса. Правда, в те дни марсиан там уже не было. Некоторые из писателей были склонны приукрасить свои творения, видимо для того, чтобы развлечь современников. – Что заставляло их летать в космос?! – поежилась Железная Орхидея. Ее недоумение легко было понять, ведь человечество потеряло желание покидать Землю столетия назад. Конечно, время от времени эту старую планету посещали космические пришельцы, но чаще всего они оказывались скучными ребятами, которых обычно не задерживали долго, если только кому-то не приходила в голову идея оставить их в своей коллекции. Вошел механический слуга и поклонился. Железная Орхидея протянула ему свою одежду (этому ее научил Джерек, объяснив, что таков обычай старого времени) и пошла к фикусовому дереву, чтобы отдохнуть под ним. Джерек с удовольствием отметил, что его мать снова сотворила себе груди, чтобы не выделяться из окружающей обстановки и соотвествовать данному временному периоду. Слуга был одет в духе того же времени и носил длинное свободное пальто, кожаные ковбойские штаны и грубые башмаки. На голове его красовался котелок, а в зубах из нержавейки он держал несколько пеньковых трубок. По сигналу хозяина он укатил прочь. Джерек сел рядом с Железной Орхидеей и прислонился спиной к дереву. – А теперь, милая Орхидея, поведай мне о своих увлечениях. Глаза ее заблестели. – Я делаю детей, дорогой. Сотнями! Тысячами! – она хихикнула. – И не могу остановиться. В основном ангелочков. Я соорудила им трубы, арфы, и составила самую сладчайшую музыку, какую ты когда-либо слышал. И они играют, надо отдать им должное… – О, я хотел бы послушать! – Какая жалость, что я не сообразила пригласить тебя на мой хор ангелов. – Она искренне расстроилась, что не подумала о нем, ее единственном, любимом сыне. – Понимаешь, я сейчас делаю микроскопы. И сады, конечно, ведь нужно что-то рассматривать сквозь окуляры. А еще крошечных зверей. Возможно, я снова когда-нибудь сделаю херувимов, и ты тогда их услышишь. – Если я буду «добродетельным»… – начал он высокопарно. – А, теперь я начинаю понимать значение этого слова. Это если ты имеешь желание сделать что-нибудь, но делаешь наоборот. Ты хочешь быть мужчиной, а становишься женщиной. Ты желаешь полететь куда-нибудь, а отправляешься под землю, и тому подобное… Да, это великолепно! Пожалуй, ты создашь моду, ичерез месяц-другой, кровь от крови моей, все станут добродетельными. И что мы тогда будем делать? – Тогда можем стать «злыми» или «скромными», «ленивыми» или «бедными», или… я не знаю… «достойными». Имеются сотни таких слов. – И ты научишь нас, как стать такими? – Ну… – он нахмурился. – Мне потребуется немного времени, чтобы уточнить значение этих понятий. – Мы все будем благодарны тебе. Вспомни, как ты научил нас Лунному каннибализму. И плаванию… И, как это… Флагам. – Да, флаги удались на славу, – расцвел Джерек, – особенно, когда Миледи Шарлотина сделала тот знаменитый флаг, который накрыл все западное полушарие. Помнишь? Металлическая ткань толщиной с крыло муравья. О, как мы смеялись, когда он упал на нас! – Да, да! – она захлопала в ладоши от восторга. – Потом Лорд Джеггед построил флаг и мачту, чтобы повесить его, а ты согнал облака и намочил всех дождем. Всех – всех, даже Монгрова. А Монгров закопался в подземный ад, напичканный дьволами и всем, чем положено. Адово пламя подожгло «Бункер-2» Хулио Гимидера, а Хулио так рассердился, что стал закидывать атомными бомбами ад Монгрова, не зная, что обеспечивает Монгрова как раз тем самым теплом, в котором тот нуждался. Вспоминая, они смеялись от всей души. – Неужели это было триста лет назад? – задумчиво произнес Джерек. Он сорвал лист с фикуса и задумчиво сунул в рот. На загорелый подбородок закапал голубой сок. – Я иногда сожалею, – продолжил он, – что не в нашей власти менять ход вещей. И жизнь поэтому продолжается сама собой: одно событие приводит к другому без нашего ведома. Ад Монгрова, если ты помнишь, уничтожил весь мой зверинец, за исключением одного существа, которое сбежало и поломало добрую половину его дьяволов. А весь мой питомник погиб! По сути дела, из-за Гимидера. Или из-за Миледи Шарлотины. Ведь неизвестно, как все в мире связано между собой… Он отбросил в сторону лист. – Странно. С тех пор я не завожу питомника. А ведь все остальные имеют каких-нибудь зверюшек, даже ты, Железная Орхидея. – Мой питомник скуден по сравнению с коллекцией Неистощимой Наложницы. – У тебя есть три Наполеона, а у нее – ни одного. – Верно, но, если честно, я совсем не уверена, что хотя бы один из них настоящий. – Кто их разберет, – пожал плечами Джерек. – А она имеет абсолютно подлинного Атиллу-Хана. Но он такой скучный. – Я думаю, что именно поэтому перестал собирать коллекцию, – сказал Джерек. – Подлинные образцы зачастую менее интересны, чем подделки. – Обычно так и бывает, о плод моего лона, – она снова опустилась на траву под фикусом. Последние слова были некоторым преувеличением. На самом-то деле в момент рождения Джерека мать его была мужчиной и совсем забыла про «плод своего лона», пока случайно, шесть месяцев спустя, не обнаружила младенца в инкубаторе. Естественное рождение почти не встречалось в те дни. Возможно, поэтому Джерек чувствовал такой интерес к прошлому. Он знал, что многие из скитальцев во времени, и даже некоторые из космических путешественников, тоже когда-то были детьми. И вот почему он и ладил со всеми странными существами, жившими в разбросанных по планете питомниках. Перег Трало, например, правил миром в тридцатом столетии лишь оттого, что являлся последним человеком, рожденным из чрева женщины! А Клер Цирато, певица из пятисотого столетия, появилась на свет благодаря какому-то эксперименту, проведенному над ее матерью. Джерек не жалел, что был ребенком. Его любили и баловали все друзья матери, которые с восхищением наблюдали как он растет! Каждый завидовал ему, каждый завидовал Орхидее, хотя через некоторое время она явно устала от своей материнской роли и удалилась жить в горы. Да, каждый завидовал ему, кроме Монгрова, который был лишен чувства зависти, и Вертера де Гете, который тоже родился естественным путем, хотя и в результате эксперимента, отчего первоначально имел шесть рук. Лишние руки ему удалили, но Вертер с тех пор стал испытывать отвращение к изменению своего тела, хотя и не отказывал себе в новых членах или модной голове. Джерек заметил, что его мать снова задремала. Она засыпала всякий раз, стоило ей только прилечь на минуту. Это была привычка, которую она сама в себе воспитала, ведь только во сне к ней приходили самые лучшие идеи. Джереку же почти не снились сны. По крайней мере, он так думал, иначе ему не пришлось бы искать древние документы, чтобы читать, смотреть или слушать их. Несмотря на это, он был творцом творцов прошлого, даже если оригиналы, им сотворенные, не могли сравниться с шедеврами его матери или Герцога Квинского. Хотя Герцог Квинский, по мнению Джерека, не мог служить примером для подражания. Джерек вспомнил, что они с Железной Орхидеей приглашены к Герцогу сегодня вечером. Он не бывал на приемах довольно давно и решил подумать о своем наряде. Джерек не знал, что выбрать. Конечно, что-то из девятнадцатого столетия, чтобы сохранять постоянство стиля. И никаких изысков! «Все должно быть в меру прекрасным, – рассуждал он про себя, – и душа, и одежда и мысли. Стоит подумать и о чистых руках, горячем сердце, холодном разуме. Держи ноги в тепле, а голову в холоде», – вспомнил он древний афоризм и остановил свой выбор на фраке и цилиндре. С довольной улыбкой он решил, что выдержит весь костюм в уверенной комбинации светло-оранжевого и темно-голубого. С алой гвоздикой на горле.Глава вторая ЖУРФИКС ГЕРЦОГА КВИНСКОГО
Несколько миллионов лет назад, а может и меньше (ведь время так трудно отсчитывать правильно) в легендарном Нью-Йорке процветал удивительный район под названием Квинс. Именно там супруга нью-йорского короля основала свою летнюю резиденцию. Построив обширный дворец с садами, она пригласила со всего мира самых талантливых и удивительных людей разделить с ней летние месяцы. Ко двору королевы съезжались великие дизайнеры, трубадуры, ваятели, шансонье и прочие мастера-искусники, чтобы показать свежие полотна, разыграть представления, исполнить пляски, спеть ариозы, а также обменяться сплетнями и развлечь свою королеву-покровительницу, которая, вероятно, и была мифической королевой Элеонорой из Красного Вельдта. Хотя за прошедшие века часть континентов затонула, а на их месте возникли новые, некоторые участки суши соединились вместе, а другие раздробились на архипелаги, в уме Лиама Тай Пама $12.51 Цезаря Ллойд-Джорджа Затопека Финсбери Ронни Микеланджело Юрио Иопа 4578 Соединенных не было сомнений, что он установил свою резиденцию в подлинном месте, что, конечно, давало ему право величаться с тех пор Герцогом Квинским. Уходящая в небо статуя королевы Красного Вельдта занимала площадь без малого в шесть миль и изображала доблестную владычицу в кадиллаке-колеснице, запряженной шестеркой драконов, с необычно изогнутым копьем в одной длани и квадратным щитом в другой, в причудливом шлеме на голове, и была едва ли не единственной неприкасаемой и неизменяемой реликвией. Когда Джерек и Орхидея приблизились к владениям Герцога, первое, что они увидели была, естественно, статуя, но почти сразу же их внимание приковал дворец, который хозяин, должно быть, специально воздвиг только для этого вечера. – О! – выдохнула Железная Орхидея, выглядывая из кабины локомотива, и заслонила глаза от света. – Какой он умный! Как это восхитительно! Джерек в своем развевающемся плаще с напускным безразличием присоединился к ней на подножке лестницы. – Красиво, – хмыкнул он, – и впечатляюще, как всегда у Герцога Квинского. Лепестки ее платья, сплетенного из маков, вьюнков и васильков, затрепетали, когда Железная Орхидея повернулась к Джереку и, улыбнувшись, погрозила пальцем. – Перестань иронизировать, мой дорогой. Согласись – это великолепно! – Я уже сказал, что это впечатляет. Она топнула ножкой: – Не «впечатляет», а великолепно! Неудовольствие сына растаяло при виде ее восторга, и Джерек рассмеялся. – Хорошо, желаннейший из цветков, – великолепно! Несравненно! Превосходно! Захватывает дух! Творение гения! – И ты скажешь это ему, мой призрак, – ее глаза иронически сузились. – Обещай мне это. Он поклонился. – Пожалуй. – И тогда, ты сам увидишь – вечер принесет больше радости и удовольствия. Никто не сомневался в изобретательности Герцога, но здесь он явно перегнул палку – в пурпурно-коричневом небе тяжело вращались все тридцать оставшихся планет Солнечной системы: Марс в виде огромного рубина, Венера – изумруда, Герод – бриллианта и так далее. Резиденция Герцога являла собой копию Великого Пожара Африки. Она состояла из ряда отдельных зданий, в форме какого-нибудь знаменитого города того времени, весело полыхающего огнем. Дурбан, Килва-Кивинье, Иола, Тимбукту – все они горели, хотя каждое отдельное строение, воспроизведенное в точном масштабе, было сделано из воды, которая была ярко (излишне ярко, по мнению Джерека) окрашена в цвета невообразимых оттенков в тон языкам пламени. Среди воды и огня уже бродили прибывшие гости. Естественно, пожар не давал тепла – или почти не давал – Герцог Квинский пока не намеревался опалить до смерти своих гостей. Может быть, поэтому резиденция казалась Джереку движимой какой-то реальной разумной силой. Хотя многие считали, что он грешит излишней серьезностью по отношению к подобным вещам. Локомотив приземлился около Смитсмитсона, чьи башни и террасы сгорали дотла, а затем восставали из пепла, прежде чем вода могла на кого-нибудь попасть. Гости кричали от восхищения и удивления. Смитсмитсон был сейчас самым популярным зрелищем в резиденции. Выпивка и закуска, в основном из двадцать восьмого столетия, были разложены повсюду, и люди прохаживались от стола к столу, вкушая и смакуя угощение. Сойдя с подножки и машинально предложив руку матери, чье «брависсимо» пошло на убыль – видимо, ей стал уже надоедать этот ритуал – Джерек заметил толпу своих знакомых, в которой было несколько неизвестных ему лиц. Некоторые из тех, кого он не знал, были явно выпущены из питомников и, вероятно, были путешественниками во времени. Он мог догадаться об этом по их нелепому поведению, отчужденному, вялому разговору, по несчастному виду. Одного из них, одетого в свой неизменный сатиновый голубой комбинезон, он знал – его звали Ли Пао Когда Джерек и Железная Орхидея подошли к нему, тот бросал неодобрительные взгляды на Смитсмитсон. – Добрый вечер, Ли Пао, – нежно произнесла Железная Орхидея. Она поцеловала его приятное круглое желтое лицо. – Тебе есть, что сказать об этом? Тебе ведь не нравится Смитсмитсон? Как всегда, из-за отсутствия подлинности? Ты из двадцать восьмого столетия, не так ли? – Из двадцать седьмого, – уточнил Ли Пао, – но не думаю, чтобы все так сильно изменилось. Вы все делаете плохо, потому что вы – буржуазные индивидуалисты! Я в этом убедился! – Ты смог бы стать настоящим «буржуазным индивидуалистом», если бы захотел, да? – обратился к нему еще один из питомника. Он был одет в длинную серебряного цвета рубаху палача тридцать второго столетия. – Ты всегда придираешься к мелочам, Ли Пао. – Я знаю, я скучен, но таков я есть. – Поэтому мы любим тебя, – сказала Железная Орхидея, снова целуя его, а затем помахала рукой своему другу Гэфу Лошади-в-Слезах, который повернул голову, отвлекшись от беседы с Сладким Мускатным Оком (которого некоторые считали его отцом Джерека), и улыбнулся Железной Орхидее, приглашая ее присоединиться к ним. – И поэтому мы не слушаем вас, нудных странников, – сказал Джерек. – Вы умеете быть ужасно педантичными: эта деталь неверна, та – не соответствует периоду… и так далее. Вы способны испортить любое удовольствие. Ты должен признать, Ли Пао, что представляешь все слишком буквально. – В этом заключалась сила нашей Республики, – ответил Ли Пао, делая глоток вина из бокала. – Вот почему она существовала пятьдесят тысячелетий. – Все шире и дальше, – сказал палач из тридцать второго столетия. – Более дальше, чем шире, – сказал Ли Пао. – Ну, это зависит от того, что вы понимаете под термином «республика», – возразил палач. Они возобновили свой давний, бессмысленный спор. Джерек Карнелиан стал прихорашиваться и вдруг заметил Монгрова, мрачного гиганта, чрезмерного во всех проявлениях и оттого нелюбимого многими. Монгров стоял в самом центре пылающего Смитсмитсона в надежде, что здания на самом деле рухнут и сокрушат его. Все в Монг-рове было преувеличено, и это продолжалось столь долго, что Монгров, похоже, действительно стал таким, каким он казался. Не то, чтобы Монгрова не любили на самом деле, им пренебрегали скорее понарошку. Он был желанным гостем на вечеринках, хотя редко снисходил до их посещения. Эта, должно быть, была первая за последние двадцать лет. – Как поживаете, Лорд Монгров? – спросил Джерек, всматриваясь в скорбное лицо гиганта. – Хуже, когда вижу тебя, Джерек. Знай, я не забыл все твои проделки. – Вы не были бы Монгровом, если бы забыли. – Превращение моих ног в крыс. Ты был тогда мальчишкой. – Правильно, первая проделка, – кивнул головой Джерек. – Кража моих записей личного характера. – Точно… я еще опубликовал их. – Именно так, – Монгров кивнул, продолжая. – Перемещение моего жилища с Северного на Южный полюс. – Вы были сбиты с толку. – Сбит с толку и рассержен на тебя, Джерек Карнелиан. Список бесконечен. Я знаю, что ты считаешь меня глупцом, своей игрушкой. Я знаю, что ты думаешь обо мне. – Я хорошо думаю о вас, Лорд Монгров. – Ты считаешь меня тем, кто я есть. Чудовище, монстр. Вещь, не заслуживающая права жить. И я ненавижу тебя за это, Джерек Карнелиан. – Вы любите меня за это, Монгров! Признайтесь! Глубокий вздох, почти всхлип, вырвался из груди гиганта, и слезы закапали из его глаз, когда он отвернулся от Джерека. – Делай со мной все, на что ты способен, Джерек Карнелиан. Делай, что хочешь. – Если вы настаиваете, мой дорогой Монгров. Джерек улыбнулся, наблюдая, как Монгров, тяжеловесно ступая, уходит дальше в адское пламя. Широкие его плечи были ссутулены, огромные руки повисли по бокам, Монгров весь был в черном, и даже кожа его, волосы и глаза чернели в зареве Смитсмитсона. Джерек подумал, что их любовь друг к другу еще не исчерпала себя. Может быть, гигант намеренно лишает себя того, о чем мечтает. Джерек почувствовал, что он начинает понимать Монгрова. Раньше у Джерека была мысль превратиться в другого Монгрова, но останавливало его то, что это была бы единственная вещь, которой Монгров мог воспротивиться по-настоящему. «Однако, – думал Джерек, шагая через пламя и воду, – если он станет Монгровом, не появится ли тогда у Монгрова причина стать кем-нибудь еще? Но будет ли этот новый Монгров таким же очаровательным, как старый? Вряд ли». – Джерек, мой прелестный любимец! Ты здесь?! Джерек повернулся и увидел Лорда Джеггеда Канари – массу золотисто-желтого цвета с головой, едва различимой в пышном воротнике. Лорд жестом пригласил его присоединиться к компании у стола, уставленного вазами с десертом, Джерек подошел и крепко обнял друга. – Лорд Джеггед, ну как, ваши битвы кончились? – Кончились, наконец. Целых пять лет! Но все-таки они кончились, и я боюсь, что каждый человечек мертв. Лорд Джеггед построил совершеннейшее факсимиле Солнечной системы и разыграл все войны, о каких когда-либо слышал. Каждый солдат микроскопических размеров был выполнен с изрядной дотошностью, а сама Солнечная система занимала куб размером не больше двух футов в объеме. Лорд Джеггед зевнул, и на мгновение лицо его скрылось в ворохе воротника. – Да, они мне изрядно наскучили под конец. Глупые твари. А ты, прекрасный Джерек, что делаешь? – Ничего особенного. Я занимаюсь изучением древнего мира. Вы видели мой локомотив? – Я даже не знаю, что это такое! – воскликнул лорд Джеггед. – Могу я увидеть его сейчас? – Он где-то там, – сказал Джерек, показывая сквозь рушащийся небоскреб. – Посмотрите, когда окажетесь поблизости. – Твой костюм восхитителен, – отметил Лорд, потрогав его наряд. – Я всегда завидовал твоему вкусу. Это тоже носили древние, Джерек? – Да, одежда точно копирует подлинник. – О, какая точность! Какое терпение! Какое старание! Какой глазомер! Джерек развел руками и огляделся, надеясь, что кто-то услышит комплимент. – У меня хороший глазомер, – согласился он. – Но где же наш хозяин, величественный Герцог, изобретатель всей этой эксцессерии! Джерек знал, что Лорд Джеггед разделяет его взгляды на вкус Герцога, и покачал головой: – Я не видел его. Возможно, в одном из своих городов. Здесь есть главный город? – Думаю, нет. Возможно, конечно, что Герцог еще не прибыл, или уже отбыл. Ты знаешь, как он любит исчезать. Такое сильное чувство драматургии. – И скуки, – улыбнулся Джерек, встречаясь взглядом с другом. – Не стоит преувеличивать, мой милый, – укоризненно сказал Лорд Джеггед. – Давай немного прогуляемся. Может быть, тогда мы найдем хозяина и лично выразим ему наше восхищение. Они под руку двинулись через пылающий город, пересекли лужайку и вышли в Тимбукту, где плящущие, вытянутые вверх, увенчанные минаретами здания рушились, почти что ударяясь о землю, а затем вырастали вновь и опять поглощались языками пламени. – Хром, – услышал Джерек голос Ли Пао, – они были из хрома, а не из серебра, кварца или золота. Боюсь, что для меня этого достаточно, чтобы испортить все впечатление. Джерек хихикнул. – Вы знаете, Лорд, я подозреваю, что Ли Пао не по своей воле проделал путешествие сквозь время. Мне кажется, его «послали» товарищи! Кстати, вы знаете – я изучаю «добродетель»! – И что такое «добродетель»? – Я думаю, что это предполагает такой же образ жизни, как у Монгрова. – О! – Лорд Джеггед округлил губы в ироническом выражении неодобрения. – Пусть не Монгрова! Но вы знаете, как я стремлюсь к совершенству. – В твоем случае мне оно очень нравится. – Я думаю, что этому научили меня вы, когда я был ребенком. – Помню, помню, – Лорд Джеггед растроганно вздохнул. – И я благодарен вам за это! – Вздор! Любому ребенку нужен отец. Его пышный рукав раскрылся, и из него появилась бледная рука, которая легонько прикоснувшись к гвоздике Джерека, сорвала с нее крошечный лепесток и элегантно поднесла к бледным губам. – Я заметил его, мое сердце. – Как-нибудь, – с чувством сказал Джерек, – мы должны заняться с вами любовью, Лорд Джеггед! – Да, да! Когда у нас с тобой в одно и то же время появится настроение, – Лорд Джеггед тонко улыбнулся. – Я буду ждать этого. А как поживает твоя мать? – Она стала много спать. – Значит скоро Железная Орхидея опять удивит нас чем-нибудь необычным? – Я тоже так думаю. – Она здесь? – Лорд отошел от Джерека. – Я поищу ее. Пока! – До свидания, Золотой Лорд!* * *
Джерек смотрел, как его друг исчез под аркой из огня, которая через мгновение стала башней. Лорд Джеггед действительно помог воспитанию его вкуса и являлся, по мнению Джерека, самым добрым и приятным человеком во всем мире. Но вместе с тем была в нем какая-то грусть, и Джерек не мог никак понять, почему так. Ходили слухи, что Джеггед – странник во времени. Джерек однажды выложил это Лорду, чем весьма обескуражил его, что, правда, не убедило Джерека до конца. Он недоумевал только, зачем Джеггед делает из этого тайну. Джерек согнал озабоченность со своего лица и, придав ему больше жизнерадостности, зашагал через Тимбукту. Каким скучным было, наверное, двадцать восьмое столетие. Странно, что мир мог так сильно измениться в течение каких-то нескольких сотен лет. Ведь век девятнадцатый был полон чудес, а столетие вроде двадцать восьмого могло предложить только Великий Пожар Африки. «Но скорее, дело во мне самом», – подумал Джерек и обещал себе постараться быть снисходительней к Герцогу Квинскому. Появился прайд львов и угрожающе закружил вокруг Джерека, нюхая воздух и рыча. Львы были настоящими. У Джерека мелькнула мысль – неужели Герцог Квинский зашел так далеко, что позволил львам сохранить все свои инстинкты. Но львы скоро потеряли к нему интерес и двинулись прочь. Их цвета, в основном голубой и зеленый, не сочетались между собой. Повсюду раздавались нервные испуганные смешки – это львы подходили к гостям, но большинству нравились острые ощущения. Джерек подумал, не испортит ли погоня за «добродетелью» его характер, и не станет ли он скучным. Если так, то ему лучше оставить этот замысел. Затем он увидел Миссис Кристию, Неистощимую Наложницу, погруженную в любовные утехи с Алым О'Кэла, обернувшимся гориллой. Кристия заметила Джерека и помахала рукой. – Джерек… – выдохнула она. – О'Кэла, любовь моя, довольно. Не сердись, но сейчас я хочу поговорить с Джереком. Горилла повернула голову, заметила Джерека и осклабилась. – Я не возражаю! Привет, Джерек. – Он встал, поглаживая свой мех. – Спасибо, Кристия. – Благодарю тебя, о'Кэла. Это было приятно. – Она принялась поправлять свои юбки. – Как поживаешь, Джерек? Ты хочешь меня? – Ты знаешь, я всегда желаю тебя. Но сейчас предпочел бы поболтать. – И я тоже, если честно. О'Кэла – горилла уже несколько недель. Я постоянно сталкиваюсь с ним и подозреваю, что эти встречи не случайны. Конечно, я не возражаю. Но, признаться, я сама не прочь снова стать мужчиной. Или, может быть, – гориллой. Твоя мать тоже была гориллой какое-то время, не так ли? Это ей понравилось? – Я был слишком молодым, чтобы помнить, Кристия. – О, конечно, – она оглядела его с головы до ног. – Ребенок! Я помню! – Ты должна помнить, мое лакомство! – Ничто не мешает любому стать ребенком хотя бы на время. Поразительно почему люди не делают этого?! – Потому что не модно. Джерек обнял ее и поцеловал шею и плечи Кристии. Она ответила тотчас же. Неистощимая Наложница действительно была самым совершенным созданием в этом мире. И ни один мужчина не мог устоять перед ней, каждый, хотел он того или нет, хоть раз в жизни целовал ее или занимался с ней любовью. Даже Монгров! Даже Вертер де Гете! – Ты встречала сегодня Вертера де Гете? – спросил Джерек. – Да, он был здесь, – ответила Миссис Кристия, оглядываясь вокруг. – Они прогуливались вместе с Монгровом. Им нравится компания друг друга, правда? – Я думаю, Монгров учится у Вертера, – сказал Джерек. – А Вертер утверждает, что Монгров – единственная разумная личность в целом мире. – Возможно, он прав. Что значит «разумный»? – Позволь мне не отвечать. Сегодня я уже достаточно объяснял трудные слова и понятия. – О, Джерек. Что ты задумал? – Немногое. Я всегда тяготел к абстракциям, но это делало меня скучным. Я намерен исправиться. – Ты очарователен, Джерек. Все тебя любят. – Я знаю. И намерен оставаться таковым. Но, знаешь, я стал бы хуже Ли Пао, если бы ничего не делал, а только говорил и чуть-чуть выдумывал. – Все любят Ли Пао. – Конечно. Но мне не нужна любовь, подобная той, что получает Ли Пао. Кристия усмехнулась. – Ты имеешь в виду, что я и впрямь похож на Ли Пао?! – воскликнул он в ужасе. – Не совсем. Но ты был ребенком, Джерек. Вспомни вопросы, которые ты задавал! – Я удручен, – нахмурился Джерек, хотя, по правде говоря, удручен он не был. Он засмеялся оттого, что понял – ему все равно! – Ты прав, – сказала она. – Ли Пао скучен, и даже я нахожу его иногда утомительным. Ты слышал, что Герцог Квинский готовит для нас сюрприз? – Еще один? – Джерек, ты несправедлив по отношению к Герцогу – он очень гостеприимный хозяин. – Что да, то да. Так в чем же заключается новый сюрприз? – А это тоже сюрприз. Высоко в небе маленькие африканские орнитоптеры начали бомбить город. Яркие огни брызнули во все стороны, раздались вопли. – Это «на бис»! – воскликнула Миссис Кристия. – Герцог повторяет для тех, кто пропустил первый раз. Пожалуй, Миссис Кристия была единственной свидетельницей первоначального действа. Она всегда прибывала первой. – Пойдем, Джерек. Все идут к Волверхэмптону. Там и будет показан обещанный сюрприз. – Очень хорошо. Джерек позволил взять себя за руку и повести к Волверхэмптону, находившемуся на дальнем конце коллекции городов. Вдруг пламя исчезло – наступила темнота и тишина. – Восхитительно! – прошептала Миссис Кристия, сжимая его руку. Джерек закрыл глаза.Глава третья ГОСТЬ, НЕ СУМЕВШИЙ РАЗВЛЕЧЬ
Когда Джерек уже стал подумывать о несовершенстве паузы, которую хозяин так удлинил, из мрака донесся голос Герцога. – Милые друзья! Без сомнений, вы прониклись темой нашего вечера. Имя ее – «Бедствие»! – Занимательно сравнить это представление с тем, что давал Пэр Карболик пару лет назад, – произнес нежный спокойный голос, и Джерек улыбнулся, узнав Лорда Джеггеда. – Подождем, когда зажжется свет, – ответил он. И тотчас появился свет. Он сфокусировался на странном, ассиметричной формы холме, возвышающемся на постаменте из прозрачной стали. Холм казался облитым зелено-желтой слизью, которая пульсировала и издавала тихие хлюпающие звуки. Все это выглядело весьма непривлекательно. – Да-а, – прошептал Лорд Джеггед из темноты, – это в духе темы. Хотел бы я знать, что за бедствие могло довести до такого? Миссис Кристия крепче прижалась к руке Джерека и, невпопад хихикнув, съязвила: – Увы, и этот опус Герцога с треском провалился. – Вы столь проницательны, о повелительница, – галантно заметил Лорд Джеггед, – сколь и вожделенны! Герцог, все еще невидимый, вещал: – Друзья мои! Перед вами – космический корабль. Он приземлился на этом месте день или два назад. Джерек был разочарован. По недоуменному молчанию, которое хранили другие гости, он догадывался, что все испытывают похожие чувства. Хотя Джерек и не мог припомнить ни одного подобного случая за последние годы, само по себе приземление космических кораблей не считалось чем-то достойным внимания. – Этот корабль проделал самый долгий путь из всех, посетивших нашу древнюю планету, – сообщил голос Герцога Квинского. – Чтобы оказаться здесь, ему пришлось преодолеть световые миллионолетия. О, как это поразительно! «И все-таки это не повод поднимать такую шумиху», – подумал Джерек. – Странно, – опять послышался бесстрастный голос Лорда Джеггеда. – Научная нотация. Можно подумать, Герцог позаимствовал страничку из трудов Ли Пао, слегка изменив ее, а это так не похоже на нашего Герцога. – Возможно, сенсуализм ради сенсуализма утомителен даже для Герцога, – сказал Джерек. – Но, несмотря на это – согласитесь – эта сцена впечатляет! – Ох уж, эти проблемы вкуса! Боюсь, они так и останутся предметом дискуссий вплоть до нашего решения завершить свое бренное существование, – вздохнул Лорд Джеггед. – Вы все полагаете, что это не повод для суеты, – сказал Герцог, как бы отвечая им обоим. – Вы правы! Обитатель этого самобытного корабля, волею судеб оказавшийся здесь, добавил пикантности теме этого вечера. Я надеюсь, он равлечет вас. Итак, вот он! Его зовут, насколько в моих силах выговорить – Юшарисп. Он обратится к вам через собственную переводящую систему, которая во многом уступает нашим, и я уверен, вы, подобно мне, найдете его забавным. Друзья! Я дарю вам космического путешественника Юшариспа! Луч потускнел, а затем высветил существо нескольких футов роста без головы и рук, которое стояло на другой стороне постамента на четырех кривых конечностях. Верхняя часть его круглого туловища была заполнена пунктирной линией светлых, отливающих фарфоровой голубизной глаз. Чуть ниже находилось небольшое отверстие, которое Джерек принял за рот. Все туловище темного мутно-коричневого цвета было испещрено крошечными зелеными крапинками. В целом несчастный имел довольно неприятный вид. – Приветствую вас, жители этой планеты, – начал Юшарисп. – Я прибыл от имени цивилизации Пупли… – механический переводчик скрежетал несколько секунд, и Юшариспу пришлось покашлять, чтобы отрегулировать его, – отдаленной на много галактик отсюда. Я вызвался добровольно лететь по Вселенной, разнося сообщение. Я считаю своим долгом рассказать всем разумным формам жизни, что нам известно. Я… – снова пауза и кашель, пока Юшарисп настраивал свой переводчик, который скорее был механическим, нежели органическим устройством, и, вероятно, был вживлен в его горло посредством грубой хирургии. Устройство привлекло внимание Джерека, он уже слышал, что похожие аппараты существовали то ли в девятнадцатом веке, то ли чуть позже. – …извиняюсь за плохую работу моего оборудования, – продолжил Юшарисп. – Им пришлось много пользоваться за последние две или три тысячи лет, пока я странствовал по Вселенной, оглашая весть. Покинув вас, я продолжу свою миссию, пока, в конце концов, не умру. Наверное, это случится через несколько тысячелетий, жаль только, до того, как удастся предупредить все разумные существа. Неожиданно раздался рев, и Джерек вспомнил о львах, так как не мог предположить, что столь громкий звук испускался из такого маленького рта. Но из-за смущенных телодвижений чужака и его кашля стало ясно, что опять барахлит переводчик. Джерек заерзал. – По всей вероятности, это и есть мастерство. Однако, какая бестактность, удерживать нас здесь против воли. В конце концов, не все наслаждаются скукой. – О, вы несправедливы, Лорд Джеггед, – возразила Миссис Кристия. – Я начинаю испытывать небольшую симпатию к этому зверьку. – Сухой слог, – сказал инопланетянин. – Извините, сухой слог, – он снова прочистил горло. – Лучше я буду краток, насколько возможно. Гости начали довольно громко обмениваться впечатлениями. – Короче говоря, – сказал инопланетянин, стараясь быть услышанным в поднявшемся гуле голосов, – мой народ пришел к неизбежному заключению, что мы живем на Краю Времени. Вселенная вскоре вывернется наизнанку, и ни один атом не уцелеет. Вся жизнь погибнет. Все солнца сгорят, все планеты разрушатся, тогда цикл Вселенной закончится и начнется другой. Мы обречены, братья по разуму, мы обречены! Джерек зевнул и стал ласкать грудь Миссис Кристии. Подумалось, что инопланетянину пора закругляться. – Я вижу, вы шокированы (хрим-хрям-хрум), – завопил инопланетянин. – Вероятно, я мог бы (р-р-р) сказать это тактичнее, но у меня (хрим-хрям-хрум) мало времени. Мы, конечно, ничего не сможем сделать, чтобы избежать этой участи. Но остается только мудро (хрим-хрям-хрум) встретить смерть. Миссис Кристия хихикнула. Они опустились на землю, и Джерек силился припомнить, как расстегивается нижняя часть ее одеяния. Миссис Кристия уже раскрыла объятья. – Кнопки! – воскликнул Джерек, не забывший даже такой незначительной детали. – И все-таки, это поразительно! – воскликнул Герцог Квинский. Голос его был напряженным после хоть и неудачной, но страстной попытки заразить гостей своей увлеченностью. – Конец Вселенной! Восхитительно! – Даже если это и так, – произнес Лорд Джеггед, нащупывая ритмично двигающийся зад Джерека и прощально похлопывая его, – то сама по себе идея не нова. – Мы все обречены! – довольно деланно рассмеялся Герцог. – О, как это мило! – Мое почтение, Джерек. Прощайте, прекрасная Миссис Кристия, – откланялся Лорд Джеггед и с оскорбленным видом покинул вечеринку, окончательно разочаровавшись в Герцоге. – До встречи, Лорд Джеггед, – одновременно попрощались Джерек и Миссис Кристия. – И в самом деле, такой унылой вечеринки не было уже тысячу лет. Немного погодя они разомкнули объятья и уселись рядом на лужайке. Судя по звукам, многие стремились уйти, натыкаясь в темноте друг на друга и принося извинения. Это было самое настоящее бедствие. Джерек, пытаясь быть великодушным, подумал, а не нарочно ли все это подстроил Герцог. Если так, сюжет можно было признать вполне пристойным – «Вечер обманутых надежд». Города Африки снова вспыхнули огнем, и Джерек смог разглядеть Герцога Квинского, толкующего о чем-то с инопланетянином, который все еще стоял на постаменте. Мимо прошествовала Миледи Шарлотина, не замечая Джерека и Миссис Кристию. – Герцог, – окликнула Миледи Шарлотина, – этот зверек из вашего питомника? Хозяин вечеринки повернулся, и по его красивому бородатому лицу, выражающему полное уныние, стало ясно, что неудача не была задумана заранее. – Герцог, должно быть, устал, бедняжка, – посочувствовала Миссис Кристия. – Это можно было предвидеть, если сваливать сенсации в кучу, да еще и без малейшей авторской задумки, – саркастически сказал Джерек. – Впрочем, я уже говорил это. – О, Джерек! Не будь таким жестоким. – Хорошо… Карнелиан устыдился того, что стал наслаждаться неудачей Герцога. – Прекрасно, Миссис Кристия. Мы сейчас же пойдем и утешим его. Даже поздравим, если пожелаете, хотя, боюсь он не поверит в мою искренность. Они поднялись. Вопрос Миледи Шарлотины застал Герцога врасплох. Он ответил туманно: – Питомника? Почему бы нет… – Тогда я могу взять его? – Конечно, конечно, берите! – Благодарю, – Миледи Шарлотина пальцем поманила инопланетянина. – Пойдем со мной, любезный! Инопланетянин повернул к ней несколько глаз. – Но я должен оставить вас. Благодарю за приглашение – (хрим-хрюм-хрям), но, тем не менее, (р-р-р) я вынужден (хрим-хрюм-хрям) отказаться. Он двинулся к своему кораблю. Миледи Шарлотина небрежным жестом одной руки сковала движение пришельца, а другой рассеяла его звездолет. – Какое безобразие! Джерек услышал голос за спиной и обернулся, чтобы увидеть, кто это там говорит на языке девятнадцатого века. Это была женщина. На ней был плотно облегающий жакет, а пышная серая юбка закрывала ноги до кончиков черных сапожек. Под жакетом виднелась белая блузка с маленькими кружевами. На уложенных косами каштановых волосах – широкополая шляпка. Ее хорошенькое худощавое лицо выражало негодование. Без сомнения, это была странница во времени. Джерек радостно заулыбался. – О! – воскликнул он. – Вы из древности! Она не обратила на него ни малейшего внимания, обращаясь исключительно к Миледи Шарлотине, которая, увы, абсолютно не знала этого языка. – Сейчас же отпустите бедное создание! Хотя оно не человек и уж, конечно, не христианин, но все же творение Божье, и имеет право на свободу! Джерек от восхищения потерял дар речи, наблюдая, как странница во времени шагнула вперед, махнув тяжелыми юбками. Кристия подняла брови. – Что она говорит, Джерек! – Она, должно быть, новенькая, – ответил он. – Ей надо принять переводильную пилюлю. По-моему, она хочет маленького инопланетянина. Откровенно говоря, я понимаю отнюдь не все слова. – Джерек восторженно покачал головой. Тем временем барышня положила свою маленькую ладонь на плечо Миледи Шарлотины. Та с удивлением обернулась. Джерек и Кристия приблизились к паре. Герцог Квинский взирал с возвышения на неподвижного пришельца, не понимая ничего. – То, что вы сделали, можно поправить, заблудшая душа, – кротко молвила девушка недоумевающей Миледи Шарлотине. – Она говорит на языке девятнадцатого столетия, на одном из его многочисленных диалектов, – объяснил Джерек, гордясь своими познаниями. Миледи Шарлотина осмотрела облаченную в серое особу. – Она хочет заняться со мною любовью? Я могла бы, если… Джерек покачал головой. – Нет, я думаю, она желает вашего пришельца, а может ей не нравится, что вы его забираете. Самое время поговорить с ней. – Он повернулся и улыбнулся женщине. – Добрый вечер, фрау, я парле ивак. Иди спи па, – сказал Джерек. Женщина не стала спокойней, напротив, она смотрела на него с непреходящим изумлением. – Эта фрау, – сказал Джерек, указывая на Миледи Шарлотину, слушавшую с терпеливым интересом, – думать, что вы с она хотите заняться любовь. – Он хотел было объяснить, что понимает, дело совсем не в этом, но пришелица с размаху дала ему пощечину. Это обескуражило Джерека, потому что он не знал этого обычая и понятия не имел, как должно ответствовать. – Я думаю, – сказал он с досадой Миледи Шарлотине, – что нам необходимо предложить ей пилюлю, чтобы продвинуться дальше. – Какое безобразие! – снова повторила странница во времени. – Я начинаю верить, что несчастье настигло меня в этой колонии для душевнобольных. Этому нужно положить конец. Я отправляюсь на поиски властей!.. – и с этими словами она стала удаляться. Все посмотрели ей вслед. – Ну разве она не изящна, – сказал Джерек. – Не удивлюсь, если кто-нибудь заявил права на нее. Я почти захотел основать свой собственный питомник. Герцог Квинский сошел с возвышения и очутился рядом с ними. На нем был плащ из перьев и коническая шляпа из сушеных человеческих голов. – Я должен принести свои извинения, – начал он. – Все было превосходно, – перебил его Джерек. Все претензии к Герцогу утонули в восхищении от встречи с прелестной незнакомкой. – Как вам все это пришло в голову? – Ну, – начал Герцог Квинский, касаясь своей бороды. – Э-э-э… – Чудесная шутка, лучший из Герцогов, – сказала Миссис Кристия. – Мы будем долго вспоминать ее! – Правда? – просветлел Герцог Квинский. – И вы еще раз проявили свою безграничную душевную щедрость, – шепнула леди Шарлотина, прижимая голубые губы и нос к его щеке, – отдав мне этого мрачного вселенского инородца в мой питомник, который пока еще так невелик. – Всегда рад услужить вам, – ответил Герцог Квинский с возвращающимся к нему обычным самодовольством, хотя Джереку почудилось, что Герцог уже сожалеет о своей душевной щедрости. Миледи Шарлотина повернула одно из колец: парализованное тело маленького инопланетянина всплыло с возвышения и замерло у нее над головой, слегка покачиваясь, словно воздушный шар. – А эта странница во времени? Она тоже ваша, Герцог? – спросил Джерек. – Женщина в сером, которая шлепнула тебя? Нет. Я никогда не видел ее прежде. Возможно, это чей-то фантом. – Возможно, – Джерек приподнял свою театральную шляпу и поклонился компании. – Если позволите, я поищу ее. Она послужит тем штрихом, который приблизит мою коллекцию к совершенству. – До свидания, Джерек, – сказал Герцог почти благодарно. Миледи Шарлотина и Миссис Кристия сочувственно взяли его за руки и повели прочь. Джерек еще раз поклонился и кинулся на поиски незнакомки.Глава четвертая ДЖЕРЕК ЗАДУМЫВАЕТ НОВОЕ ЖЕМАНСТВО
После часа поисков, которые нельзя было назвать затруднительными, поскольку многие гости уже исчезли, Джерек осознал, что серой странницы во времени здесь больше нет. Печальный, он вернулся в свой локомотив и бросился на плюш и горностай длинного сидения. Он так хотел вознаградить себя за это разочарование, что немного помедлил в ожидании какого-то чуда, прежде чем потянулся к свистку и привел экипаж в движение. Карнелиан подумал, что путница во времени вернулась в питомник того, кому она принадлежала, или отправилась куда-нибудь по своей воле. Джерек надеялся, что у нее нет машины времени, способной перенести ее в собственный век, иначе она была бы потеряна навсегда. Он припомнил, что какие-то авторы предполагали, что люди конца девятнадцатого века обладали примитивными устройствами для путешествий во времени. – А, ладно, – вздохнул он, – пропала, так пропала. Будучи общительным по натуре, Джерек чувствовал себя всеми покинутым. Железная Орхидея, его мать, в обществе Безголосой Леди вспоминала былые годы, когда Джерека еще не было на свете. Едва ли здесь остался хоть один хорошо знакомый Джереку человек, который мог бы вернуться с ним на ранчо. Сердце его забилось при воспоминании о путешественнице. Джерек улыбнулся, прикасаясь к раскрасневшейся щеке. Он желал эту странницу. Она была прекрасна. Через одно из окон он увидел, что Монгров и Вертер де Гете приближаются к локомотиву, и встал, чтобы окликнуть их. Но те намеренно проигнорировали его и усилили тем чувство одиночества, хотя в другой раз его позабавила бы та нарочитость, с которой оба играли свои роли. Карнелиан снова уселся на диван: возвращаться домой расхотелось, но и здесь заняться было нечем. Госпожа Кристия, всегда верная спутница, пропала с Герцогом Квинским и Миледи Шарлотиной. Даже Ли Пао нигде не было видно. Джерек зевнул и закрыл глаза. – Спишь, мой дорогой? – раздался голос снизу. Это был Лорд Джеггед. – Это и есть машина, о которой ты мне рассказывал, а? – Она называется… локомотив. О, Лорд Джеггед, мне так приятно видеть вас. Я думал, вы давно уехали. – Меня отвлекли от дела, – Из желтого воротника была видна бледная голова с привычной задумчивой улыбкой. – Могу я присоединиться к тебе? – Конечно. Джеггед воспарил в воздух облаком лимонного цвета и опустился рядом с Джереком. – Оказывается, эксцессерия Герцога не являлась намеренной неудачей? – сказал Лорд Джеггед. – Но мы все притворились, что не заметили этого. Джерек Карнелиан снял шляпу и выкинул ее из локомотива. Она превратилась в оранжевый дым, растаявший в воздухе. Джерек ослабил завязки своего плаща. – Да, – сказал он. – Я даже ухитрился польстить ему. Он выглядел таким жалким. Но почему ему взбрело в голову, что кто-то заинтересуется ординарным маленьким пришельцем? Причем безумным, прорицающим бедствия, помешанным на предсказаниях. – Ты, значит, не считаешь его слова правдой? – Почему? Я уверен, он не лгал! Но что такого интересного в правде? Очень мало, – и это знаем мы все. Поглядите на Ли Пао. Он тоже все время говорит правду. А кстати, что такое правда? Существует так много ее видов. – И его пылкая речь не встревожила тебя? – А что он сказал нового? То, что срок, отпущенный Вселенной, конечен? – Что мы находимся слишком близко к концу этого срока, живем на Краю Времени! – Лорд Джеггед сделал движение рукой – одежды его спали, обнажив тонкое бледное тело, и он вытянулся на диване. – Почему вы придаете этому сообщению такое значение, Лорд Джеггед? Лорд Джеггед рассмеялся: – Нет, не придаю. Просто беседую. И чуть любопытствую… Твой ум намного свежее моего… и почти любого другого в этом мире. Вот почему я задаю вопросы. Если тема наскучила тебе, я готов оставить ее. – Отнюдь. Но бедный космический путешественник был так невыразителен, не правда ли? Или вынашли в нем нечто, заслуживающее внимания? – Пожалуй нет. Когда-то люди боялись смерти, и я полагаю, что он, как там его, тоже боится. И думаю, его раса привыкла делиться своим страхом с другими, что каким-то образом успокаивает их самих. Наверное, на этом и зиждется его уверенность в своей правоте. Ну да бог с ним, он найдет достаточно утешения в питомнике Миледи Шарлотины. – Кстати, о питомниках. Вы не видели девушку, путешественницу во времени, в довольно тяжелом сером одеянии и в широкополой шляпе соломенного цвета. – Если мне не изменяет память, видел. – Не обратили внимание, куда она делась? Не заметили, как она уходила? – Сдается мне, она понравилась Монгрову, и он, прежде чем уйти с Вертером де Гете, отослал ее в свой питомник. – Монгров! Какая неудача! – Ты хотел ее для себя? – Да, ведь она из интересующего меня периода. – Но у тебя нет питомника. – Зато у меня есть коллекция девятнадцатого столетия. Она превосходно подошла бы к ней. – Значит, она из девятнадцатого столетия? – Да. – Возможно, Монгров отдаст ее тебе. – Лучше, чтобы Монгров не знал, что я хочу ее. Иначе назло мне он скорее распылит ее на атомы или отошлет назад в ее собственный век, а может, отдаст кому-нибудь другому. Вы должны знать это, Лорд Джеггед. – Ты мог бы выменять ее на что-нибудь. Как насчет того экземпляра, который так хотел Монгров? Кажется, это был писатель девятнадцатого века, или нет? – Да, это было еще до того, как я увлекся этим периодом. Насколько я понимаю, Амбруаз Бирс. – Он самый. – Он погиб вместе с остальными. В огне. Я поленился тогда воскресить его, а сейчас, конечно, слишком поздно. – Ты никогда не отличался благоразумием, милый Джерек. Брови Джерека сошлись вместе. – Я должен иметь ее, Лорд Джеггед. Я полагаю, что влюбился в нее. Точно – влюбился! – О! Изощреннейшее притворство! Оно даст силы уму, сделает тебя изобретательным! Ты добьешься успеха! Ты отнимешь ее у Монгрова, даже если для этого придется перевернуть весь мир. Ты будешь питать наше любопытство. Заставишь трепетать. Ты завладеешь нашим вниманием на месяцы. На годы. Мы будем обсуждать твою победу или поражение. Будем гадать, как далеко ты зашел в своей игре. Будем наблюдать, ответит тебе взаимностью твоя серая странница или оттолкнет, отвергнет твою любовь. Или предпочтет Монгрова, чем усложнит твою задачу. – Лорд Джеггед приблизился и сердечно поцеловал Джерека в губы. – Да, это должно быть разыграно до мельчайших подробностей. Твои друзья помогут тебе советами. Они перевернут литературу всех времен и выберут лучшие любовные истории для твоей игры, Джерек! Горгона и королева Элизабет, Ромео и Юлий Цезарь, Виндемир и леди Оскар, Гитлер и Муссолини, Фред и Луэла, Одлиба и Обика, Серо и Фидзилак. Список можно продолжить и… в нем – ты, дорогой Джерек! Зараженный энтузиазмом друга, Джерек встал и громко засмеялся. – Я буду возлюбленным! – Возлюбленным! – Ничто не помешает мне! – Ничто! – Я завоюю мою любовь и буду счастлив, пока Вселенная не состарится, не остынет! – И что бы там ни пророчил наш друг-пришелец, сейчас это лишь придаст игре особую остроту! – Лорд Джеггед потер свой белый, словно полотно, нос. – О, Джерек! Ты познаешь искушение, исступление, изнеможение, искупление, избавление! Джеггед, казалось, увлекся «иканьем» в этот вечер. – Избранный, истовый, истинный, исконный, искомый! Он был близок к опасным преувеличениям. – Ты станешь идолом, мой дорогой. Твоя история прогремит в веках, или во всяком случае, в том, что от них останется! – и с этим возгласом он заключил в объятия своего друга, в то время как Джерек Карнелиан схватил веревку гудка и с силой дернул ее, заставив локомотив закричать, застонать и кинуться, пульсируя клубами пара, в теплую черную ночь. – Любовь! – кричал Джерек. – Любовь, – шептал Лорд Джеггед, снова целуя его. – О, Джеггед! – Джерек отдался сладострастным объятиям Лорда.* * *
– У нее должно быть имя! – воскликнул Джеггед, переворачиваясь на спину в широкой постели и делая глоток пива из бронзовой кружки, которую держал между указательным и большим пальцами левой руки. – Мы должны узнать его. Он встал, прошел по гофрированному полу к окну и, откинув в сторону занавески, посмотрел наружу. – Это закат или рассвет? Похоже на закат. – Извините, – Джерек открыл глаза и дотронулся до кольца на правой руке, чтобы слегка подправить пейзаж. – Намного лучше, – сказал Лорд Джеггед Канари, восхищаясь золотой зарей. – А это что за птицы? – он показал на черные силуэты, кружащиеся высоко в небе. – Попугаи, – ответил Джерек. – Им положено питаться мясом бизонов. – И что? – Они не хотят. Я где-то допустил ошибку в копировании. Придется вернуть их в генобанк и начать все с нуля. – Что, если мы навестим сейчас Монгрова? – предложил Лорд Джеггед, возвращаясь к изначальной теме. – Он не примет меня. – Но зато он примет меня. А ты будешь моим спутником. Я сделаю вид, что меня заинтересовал его питомник, и ты сможешь снова встретить предмет своей страсти. – Я не уверен сейчас, что это была хорошая мысль, любимый Джеггед, – сказал Джерек. – Я слишком увлекся прошлой ночью. – Конечно, моя любовь. Но почему нет? Это случается не так часто. Джерек Карнелиан, ты не должен отступать. Это доставит удовольствие слишком многим. – Джерек засмеялся. – Лорд Джеггед, мне кажется, в этом есть какой-то иной мотив – ваш собственный. Может быть вы метите на мое место! – Я? Что ты, право… Меня совсем не занимает этот период. – И вы не заинтересованы в любви? – Я заинтересован в твоей любви. Ты должен полюбить. Это сделает тебя совершенным, Джерек. Ты же родился из материнского лона! Остальные пришли в мир взрослыми, созданными или друзьями, или собой, не считая, конечно, бедного Вертера, но это совсем другая история. Но ты, Джерек, был рожден младенцем. И потому ты обязан полюбить. О, да! Это несомненно. С любым другим из нас это было бы нелепицей. – Мне кажется, вы уже говорили, что это будет нелепо и для меня, – сказал Джерек тихо. – Любовь всегда нелепа, Джерек, но это другое. – Хорошо, – улыбнулся Джерек. – Я постараюсь сделать все возможное для вашего удовольствия, мой повелитель. – Для нашего удовольствия, Джерек! – Я должен обдумать… Лорд Джеггед вдруг запел. Вибрирующая трель лилась из его горла. Это была мелодия изумительной гармонии, настолько сложная и неповторимая, что Карнелиан даже не смог уследить за ее переливами. Джерек взглянул на своего друга с некоторой иронией. В какой-то миг ему показалось, что Лорд Джеггед намеренно прервал его. Но почему? Он подумал: «Лорд Канари обладает таким умом и воображением, что мне следовало бы полюбить именно его, а не какую-то бродяжку во времени, которую я толком и не знаю». Карнелиан стал подозревать, что Лорд Джеггед догадывается о его мыслях. Возможно, они не отличались безупречным вкусом. Не было ничего странного в том, чтобы полюбить серую странницу. В его веке все любили или, по крайней мере, могли убедить себя в подобном чувстве, что в сущности было тем же самым. Да, Лорд Джеггед проявил великодушие, не дав ему поставить себя в неловкое положение. Было бы пошло объявить о своей любви к Лорду Джеггеду, но, напротив, остроумно полюбить серую странницу во времени. «Хотя и в намеренной пошлости нет ничего особенного, как, впрочем, и в ненамеренной, – подумал Джерек, – взять хотя бы Герцога Квинского». Он содрогнулся, вспомнив вечеринку. – Бедный Герцог! Его журфикс был совершенно необходим. Лучше и не могло быть.* * *
Лорд Джеггед отошел от окна и зашагал по гулкому полу. – Могу я использовать это для костюма? – он жестом показал на чучело мамонта, занимающее целый угол комнаты. – Конечно, – ответил Джерек. – Я никогда не был уверен, что оно соответствует периоду. Хорошо, что вы выбрали его. Он с интересом наблюдал, как Лорд Джеггед разложил мамонта на составляющие его атомы, а затем из облака частиц состряпал себе свободное лилового цвета одеяние с высоким жестким воротником, какой он предпочитал, с огромными пышными рукавами, из которых выглядывали кончики его пальцев. Ноги его украшали серебряные туфли с длинными изогнутыми носами, а на платинового цвета волосах лежал обруч в виде живой сверкающей урановой ящерицы пятьдесят четвертого столетия. – Как вы величественны! – воскликнул Джерек. – Принц Пятидесяти Планет! Лорд Джеггед наклонил голову в благодарность за комплимент. – Мы – сумма всех предыдущих столетий, не так ли? А в результате нет ничего, что бы отмечало наш собственный век. Кроме того, что мы – это сумма. – Я никогда не думал об этом. – Джерек спустил длинные ноги с постели и встал. – Признаться, я тоже. Но это правда. Я не могу вспомнить ничего характерного. Наша технология, наши фокусы, наши иллюзии – все это подражание прошлому. Мы пользуемся тем, что наработали наши предки, и ничего не изобретаем сами. Мы просто дополняем то, что уже существует. – Нет простора для открытий, мой Лиловый Лорд. Долгая история человечества, если она вообще имеет смысл, обрела свое завершение в нас. Мы можем позволить себе все, что пожелаем. Что же нужно для счастья? Даже Монгров счастлив в своих страданиях – ведь это его выбор. Никто не станет ничего менять. Поэтому мне сложно понять ваши доводы, – Джерек отхлебнул из своей пивной кружки. – Это не доводы, мой славный Джерек. Это только наблюдение. Не больше! – Но оно точное? – Джерек не мог прибавить ничего больше. – Точное. Лорд Джеггед шагнул назад, восхищаясь обнаженным Джереком. – Что ты наденешь? – Я как раз размышляю об этом, – Джерек поднес палец к подбородку, – костюм должен подходить к обстоятельствам, ведь я собираюсь навестить леди из девятнадцатого века, но он не должен повторять вчерашний! – Не должен, – согласился Лорд Джеггед. И тут Джерека осенило. Он был в восторге от собственной изобретательности. – Я придумал! Я надену такой же костюм, какой был на ней вчера. Это будет комплиментом, который она не сможет не оценить. – Джерек! – проворковал Лорд Джеггед, обнимая его. – Достойнейший…Глава пятая ПИТОМНИК ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
– …достойнейший, – зевнул Лорд Джеггед Канари, утопая в плюше и горнастаях кушетки, в то время как Джерек, закутанный в пепельный наряд, тянул свисток локомотива, направляя его к мрачным владениям Монгрова. Локомотив взял курс на тропики, пролетая сквозь дюжину различных небес. Некоторые были полностью завершены, другие были полуразобраны, оттого что уже поднадоели своим создателям. Они пролетали над Руинными Городами, которые не были уничтожены потому, что в них были сосредоточены источники многих форм энергии – и в их числе та, что питала Кольца Власти. Некогда, во время маниакального Технического Тысячелетия, целая звездная система была преобразована, чтобы эти источники пополнить. По пути к Монгрову они миновали несколько рассветов и закатов, и прошло больше часа, прежде чем их взорам открылись серые облака, которые всегда висели над его владениями, располагающимися там, где в былые времена лежал континент, называемый «Индия». В зависимости от настроения хозяина эти облака изливали то снег, то град, то дождь, но никогда не пропускали свет солнца, которое владелец этого поместья ненавидел от всей души. Лорд Джеггед притворно поежился, хотя его одеяние было чувствительно к малейшим изменениям температуры. – Смотри, показались скорбные Скалы Монгрова, – сказал он, не отрываясь от окна. Джерек увидел утесы высотой в милю, которые сливались с серыми облаками. Они были черные, блестящие и печальные, без единого яркого пятнышка. Даже падающий на них дождь, и тот, казалось, становился черным, касаясь камня, и сбегал черными реками по горным склонам. Джерека тоже пробрала дрожь. Прошло немало лет с момента его последнего визита к Монгрову, и он успел забыть, с каким бескомпромиссным отвращением к жизни гигант проектировал свою твердыню. По команде Джерека локомотив взмыл над облаками. Дождь и холод не могли повредить воздушной машине, но зрелище внизу было чересчур угнетающим. Но вот скалы остались позади, и Джерек сумел разглядеть в разрыве облаков долину Монгрова. Осталось преодолеть сами облака. Локомотив начал спускаться, прокалывая толстый клубящийся туман слой за слоем, пока, наконец, не завис над долиной Монгрова. Джерек и Лорд Джеггед поглядели вниз на бесплодный ландшафт из гниющих болот, безжизненных чахлых деревьев и серых валунов, в самом центре которого приютился навевающий уныние черный замок Монгрова. В зубчатых башнях замка светилось несколько тускло-желтых огоньков. И вдруг над замком возник силовой купол, превращающий падающий снег в пар. Затем голос Монгрова, усиленный раз в пятьдесят, громыхнул из почти скрытого строения. – Что за враг приближается, угрожая несчастному Монгрову? Догадываясь, что детекторы Монгрова наверняка уже опознали их, Джеггед доброжелательно ответил. – Это я, дорогой Монгров, твой друг, Лорд Джеггед Канари. – А кто рядом с тобой, Лорд Канари? – Хорошо знакомый тебе Джерек Карнелиан. – Хорошо знакомый и ненавистный. Он не нужен здесь, Лорд Джеггед. – А я? Ты пустишь меня? – Никто не нужен в замке Монгрова, но ты, если хочешь, можешь войти. – А мой друг Джерек? – Если ты настаиваешь, чтобы он сопровождал тебя, и если он дает слово, Лорд Джеггед, что не будет жестоко шутить надо мной… – Я даю слово, Монгров, – сказал Джерек. – Тогда, – с неохотой произнес Монгров, – заходите. Силовой купол исчез, снег, не встречая препятствий, снова стал падать на базальт и обсидиан. Из вежливости Джерек не стал перелетать через городскую стену, а посадил локомотив на болотистую землю и подождал, пока массивные железные ворота не откроются широко, чтобы впустить локомотив, который бодро пропыхтел через них, выпуская разноцветный дым из трубы. Дым явно не соответствовал окружающей обстановке, но Джерек не смог удержаться, чтобы не позлить Монгрова, так как чувствовал, что тому, несмотря на все его сетования, очень нравится, когда его дразнят. Лорд Джеггед положил руку на плечо Джерека. – Веселый Джерек, если мы перестанем пускать дым, то это поможет делу, и наша задача облегчится. – Хорошо, – засмеялся Джерек и убрал дым. – Возможно, следовало бы спроектировать экипаж более похоронного вида как раз для таких случаев. Скажем, один из черных кораблей Четырехлетней Минтрии, для жителей которой смерть значила так много. Черт возьми, может быть, мы что-то упускаем в этом вопросе? – Я думал над этим. И все же мы все умирали и воскресали столько раз, что перестали испытывать удовольствие от этих процессов. Другое дело – примитивные народы Империи, которые могли испытать это не более трех-четырех раз, прежде чем откажут их системы реанимации… Они приближались ко входу в замок, минуя узкие улицы с темными стенами и железными заборами, за которыми иногда мелькали смутные тени. Большая часть окружающего относилась к питомнику Монгрова. – Он немало поработал над ним с тех пор, как я в последний раз был здесь, – отметил Джерек. – Предоставь действовать мне, – сказал Лорд Джеггед. – Я оценю настроение Монгрова и испрошу, как бы ненароком, его позволения осмотреть питомник. Возможно, после ленча, если он предложит нам ленч. – Я помню последний ленч здесь, – содрогнулся Джерек. – Турьянский навозный кит, приготовленный в стиле ганельских дикарей – охотников восемьдесят девятого столетия. – У тебя превосходная память. – Такое не забудешь вовеки! Я всегда отдавал должное мастерству Монгрова. Он, как и я, дотошен в каждой мелочи. – Вот почему между вами соперничество. Ведь, по сути дела, в вас больше сходства, чем различий! Джерек засмеялся: – Возможно, хотя, в отличие от Монгрова, я иду по пути самовыражения. Они проехали под аркой и оказались в мощенном булыжником дворе. Локомотив остановился. Дождь капал на камни. Вдалеке печально звенел колокол. Лорд Монгров, одетый в темно-зеленую накидку, уже ждал их, опустив на грудь огромный подбородок и не меняя мрачного взгляда на лице, кажущемся вырезанным из камня. Его чудовищная десятифутовая фигура не шелохнулась, пока они высаживались из воздушной машины под холодный дождь. – Доброе утро, Монгров, – Лорд Джеггед Канари сделал один из своих знаменитых глубоких поклонов, а затем встал на цыпочки, чтобы сжать массивные руки гиганта, сложенные у того на животе. – Джеггед, – сказал Монгров, – тут что-то неладно. Почему вы и этот негодник Джерек Карнелиан здесь? Какой заговор зреет? Какую дьявольскую уловку вы задумали, чтобы нарушить мой покой? – О, перестаньте, Монгров… ваш покой – это последнее, что вы цените? – не смог удержаться от замечания Джерек. Он стоял перед старым соперником в своем новом сером платье с соломенной шляпкой на каштановых кудрях, подбоченясь и ухмыляясь гиганту. – Вы ищете отчаяния… восхитительного отчаяния. Это агония души, которую знали древние. Вы хотите открыть тайну того, что они называли «человеческим фактором», и воссоздать его во всей боли и ужасе. И все же вы никогда не открыли бы эту тайну, Монгров. Не потому ли вы держите этот огромный питомник с созданиями, собранными со всех мыслимых времен и пространств? Не надеетесь ли вы, что в своем несчастье они покажут вам путь от отчаяния к крайнему отчаянию, от меланхолии к глубокой меланхолии, от печали к невыразимой печали? – Замолчи, – простонал Монгров. – Ты явился мучить меня! Ты не можешь здесь остаться! Уходи! Он прикрыл свои чудовищные уши ладонями и закрыл большие печальные глаза. – Я извиняюсь за Джерека, Монгров, – сказал Лорд Джеггед, – он надеялся доставить вам удовольствие. Ответом Монгрова был продолжительный стон. Он повернулся, чтобы уйти в замок. – Пожалуйста, Монгров, – сказал Джерек, – извините меня за бестактность. Я только хочу, чтобы у вас была передышка от этого ужаса, этого мрака, этой непереносимой депрессии. Монгров снова повернулся к ним, чуточку просветлев. – Ты понимаешь меня? – Конечно. Я ощущаю лишь малую толику того, что чувствуете вы, – Джерек положил руку на грудь гиганта. – Я ощущаю гнетущую скорбь всего, что вас окружает. – Да, – прошептал Монгров. Из его огромного правого глаза упала слеза. – Ты прав, Джерек, – слеза упала из левого глаза, – никто не понимает меня. Я – предмет насмешек. Они знают, что в этом огромном теле находится крошечное испуганное существо, неприспособленное и бездарное, умеющее только рыдать, стенать, вздыхать и созерцать трагедию жизни человеческой плоти до ее ужасного конца. – Да, – сказал Джерек. – Да, Монгров. Лорд Джеггед, стоявший теперь позади Монгрова, укрывшись в дверном проеме от дождя, кинул на Джерека взгляд, полный восхищения, присовокупив к нему еще один взгляд одобрения. Он кивнул бледной головой и улыбнулся, подмигнув Джереку белым веком бесцветного глаза. Джерек восхищался усердием, с которым Монгров играл свою роль. «Когда я стану любовником, я буду играть свою роль столь же рьяно», – подумал он. – Вот видите, – вставил Лорд Джеггед, – видите, Монгров, – Джерек понимает вас лучше, чем кто бы то ни было. В прошлом он сыграл с вами пару шуток, это правда, но он сделал это, лишь желая развеселить вас. Тогда он еще не понимал – ничто не облегчит страдания вашей измученной души. – Да, – сказал Монгров. – Вы правы, Лорд Джеггед, – с этими словами он обнял Джерека своими огромными руками, отчего тот чуть не опрокинулся навзничь на брусчатку. Джерек испугался за свой костюм, который уже изрядно намок, но этикет запрещал использовать в таких случаях любую форму силовой защиты. Он почувствовал, как осела его соломенная шляпа, а поглядев на блузку, обнаружил, что кружева ее потеряли свой безупречный вид. – Прошу вас, – пригласил их Монгров. – Вы должны отобедать со мной. Я никогда не догадывался, Джерек, что ты такой чувствительный. Ведь ты прятал свою ранимую душу под грубым юмором, резкими насмешками и неуклюжими шутками. Джерек находил свои шутки довольно тонкими, но в данный момент вспоминать об этом было неуместно. Поэтому он кивнул и улыбнулся. Наконец, они зашли внутрь. Несмотря на сквозняки, дующие в коридорах, и завывания ветра на лестничных площадках; несмотря на тусклый свет и серые стены; несмотря на крыс, шныряющих под ногами, на бескровные лица живых мертвецов, заменяющих слуг; несмотря на паутину, запахи и мерзкие звуки, Джереку нравилось тут, и он бодро шагал рядом с Монгровом. Они преодолели несколько пролетов каменной лестницы и миновали лабиринт коридоров, пока, наконец, не прибыли в банкетный зал. – А где Вертер де Гете? – спросил Лорд Джеггед, – я был уверен, что он уехал с вами прошлым вечером от Герцога Квинского. – От Герцога Квинского? – массивные брови Монгрова нахмурились. – Да-да, Герцог Квинский. Вертер побыл здесь немного, но потом уехал. Он обещал мне показать какой-то новый кошмар, когда его закончит. – Кошмар? – Пьеса. Что-то вроде этого, я не знаю. Он сказал, что мне понравится. – Великолепно! – О, – вздохнул Монгров. – Тот космический путешественник. Как бы мне хотелось подольше поговорить с ним. Вы слышали его? «Конец», – сказал он. Мы обречены! – Конец, конец, – эхом отозвался Лорд Джеггед, делая знаки Джереку присоединиться к нему. – Конец, – сказал Джерек несколько неопределенно. – Конец, конец. – Да, роковое проклятье. Катастрофа, конец, конец. – Монгров уставился в пространство. – Вам, значит, приглянулся инопланетянин? – спросил Джерек. – Приглянулся? – Хотите ли вы его для своего питомника? – уточнил Лорд. – Конечно, я бы не отказался. Он ведь очень болезненный, не правда ли? Он стал бы украшением любого вольера. – Несомненно, – сказал Лорд Джеггед, многозначительно посмотрев на Джерека, чем весьма его озадачил. – Какая жалость, что он находится в коллекции Миледи Шарлотины. – Вот значит где! А я-то гадал! – Я уверен, Миледи Шарлотина не уступит вам свою новую игрушку, – продолжил Лорд Джеггед. – И только потому, что этот маленький монстр вам необходим. – Миледи Шарлотина ненавидит меня, – бесхитростно сказал Монгров. – Вы ошибаетесь. – Я постоянно ощущаю ее ненависть. Она ничего не уступит мне. Скорее всего, она завидует моей коллекции, – продолжал Монгров с мрачной гордостью. – Моя коллекция огромна – ей нет равных! – Многие говорят, что она великолепна, – вставил Джерек. – Благодарю, – ответил с чувством гигант. Отношение Монгрова менялось на глазах. Видимо, все, в чем он нуждался – это чтобы кто-то принимал всерьез его страдания. Тогда он мгновенно забывал все былые насмешки и глумление. За несколько минут в глазах Монгрова Джерек превратился из заклятого врага в близкого друга. Карнелиан убедился, что Лорд Джеггед понимает Монгрова не хуже его самого. «Не зря многие находят его проницательность удивительной», – подумал он. – Вас не затруднит показать нам питомник, мой несчастный Монгров? – спросил Лорд Джеггед. – Нисколько, – пробормотал тот. – Но, если честно – там нет ничего особенного. Он не так великолепен, как питомник Миледи Шарлотины, и не так примечателен, как коллекция Герцога Квинского, у него нет даже разнообразия зверинца твоей матери, Джерек, – Железной Орхидеи. – Я уверен, что вы скромничаете, – сказал Карнелиан дипломатично. – Разве ты тоже хочешь взглянуть на него? – удивился Монгров. – Еще как! – воскликнул Джерек. – Это моя мечта. Я слышал, что у вас содержится… – Эти трещины, – выпалил Лорд Джеггед, намеренно прерывая своего друга, – они новые, не правда ли, дорогой Монгров? – Он показал на несколько больших расселин на дальней стене зала. – Да, трещины сравнительно недавнего происхождения, – согласился Монгров. – Они нравятся вам? – Они превосходны! – Не слишком глубокие? – осведомился Монгров с волнением в голосе. – Ничуть. Как раз нужной величины. Признак настоящего мастерства художника. – Я счастлив, Лорд Джеггед, что меня посетили люди с таким тонким чувством прекрасного! Вы должны простить меня, если раньше я позволил себе быть нелюбезным с вами. – Нелюбезным? Что вы? Осмотрительным – пожалуй! Но не нелюбезным. – Прошу к столу, – сказал Монгров, и сердце Джерека тревожно сжалось. – Ленч, а затем прогулка по питомнику. Монгров хлопнул в ладоши, и на столе появились яства. – Божественно! – воскликнул Лорд Джеггед, оглядывая бесцветное мясо, водянистые овощи, увядшие салаты и комковидные приправы. – Что это за деликатесы? – Это банкет времен Чумного Столетия, – гордо ответил Монгров. – Вы слышали о чуме, которая вспыхнула в Солнечной системе, кажется, в тысячном веке, заразив всех и вся? – Чудно! Лорд Джеггед сумел изобразить такой правдоподобный энтузиазм, что Джерек, сражаясь с приступами тошноты, был потрясен самообладанием друга. – А это что такое? – вопрошал Лорд Джеггед, выбирая блюдо с трепещущей кровавой плотью. – Где? А! Это мое собственное творчество, хотя я уверен, что оно соответствует подлиннику, – Монгров привстал, всматриваясь в очертания жуткого месива поверх голов Лорда Джеггеда и Джерека. – Это, кажется, Роза! Или нет. Возможно, это Рожа! Проклятье, я запутался, хотя так досконально изучал все материалы, которые сумел раздобыть. Ведь это одна из моих любимых эпох. Да, забыл. Если это Рожа, то вы можете испытать интересное ощущение: «смерть от пищевого отравления». Вы ведь не умирали ни разу от отравления, а Лорд? – Увы, ни разу, – с сожалением ответил Лорд Джеггед, – однако на это потребуется время, а я жажду увидеть ваш питомник. – Что ж, отведаете это в другой раз, – разочарованно сказал Монгров. – Жаль, но мне придется тоже воздержаться от соблазна. А как ты, Джерек? Джерек судорожно потянулся к ближайшему блюду. – Я лучше попробую вот это, оно выглядит аппетитно. – Аппетитно? Я бы предпочел иное определение. Вкус не являлся критерием кулинарии Чумного Столетия, я, к примеру, исхожу из иных соображений, творя мои трапезы… – Нет-нет, – согласился Джерек. – Я имел в виду, что оно выглядит э… – Нездоровым, – подсказал Лорд Джеггед, уплетая уже новое блюдо, очень похожее на только что отвергнутую Розу или Рожу. Джерек поглядел на Монгрова, которому пришлось по душе замечание Лорда. – Да, – согласился Джерек чужим голосом. – Нездоровым или болезнетворным. Это правильно. Но блюдо не особенно повредит вам. Оно обладает иным метаболизмом, нежели рисует ваше воображение. Монгров подвинул блюдо ближе к Джереку. В мутно-коричневом соусе Джерек увидел несколько видов отталкивающе-зеленоватых растений. – Накладывай себе сам. Джерек зачерпнул крохотную порцию сомнительного лакомства. – Не стесняйся, – сказал Монгров с набитым ртом. – Клади больше. Здесь изобилие. – Да, – пролепетал Джерек и положил еще пару ложек вещества себе на тарелку. Это была наиболее отвратительная пища, какую он когда-либо видел. Джерек предпочитал невидимые средства для поддержания своего существования, не испытывая интереса, а тем более пристрастия, к грубой еде. На мгновение он пожелал, что лучше бы им предложили Турьянского навозного кита. С трудом проглатывая деликатесы Монгрова, Джерек сквозь приступы спазмов с удивлением заметил, что, несмотря на явный аппетит Лорда Джеггеда, у того на тарелке еда совсем не убавлялась. Он пообещал себе непременно научиться подобному фокусу. – А теперь, – сказал Монгров, – прошу в мой питомник. Он посмотрел с печальной добротой на Джерека, который все еще не мог подняться со стула. – Тебе нехорошо? Возможно, угощение оказалось более болезнетворным, чем полагается. – Возможно, – выдавил Джерек, опираясь ладонями на стол и прилагая невероятные усилия, чтобы выпрямиться. – Ты не чувствуешь головокружения? – участливо спросил Монгров, с силой сжимая локоть Джерека, чтобы его поддержать. – Самую малость. – Нет боли в желудке? У тебя есть желудок? – Думаю, есть. Да, я чувствую некоторую боль. – Хм-м, – нахмурился Монгров. – Может быть, лучше перенести осмотр на другой день или повременить с этой экскурсией? – Нет-нет, – вмешался Джеггед. – В состоянии подавленности Джерек проникнется увиденным, прочувствует, оценит. Он наслаждается ощущением недомогания. Это подводит его к подлинному пониманию болезненной сущности человеческого бытия. Не правда ли, Джерек? Джерек молча кивнул. Он не смог выдавить в ответ ни слова. – Это хорошо, – сказал Монгров, подталкивая Джерека вперед. – Очень хорошо. Жаль, что мы не поняли друг друга намного раньше, милый Джерек. И вижу теперь, как я ошибался в тебе. Пользуясь тем, что Монгров отвлекся, Джерек метнул полный ненависти взгляд на своего друга, Лорда Джеггеда. К тому времени, когда они покинули внутренний двор и под дождем направились к первому зданию зверинца, Джерек пришел в себя. Как выяснилось, лорд Монгров имел пристрастие к эпидемиям. В этом здании он лелеял коллекцию бактерий и вирусов рака. Экспонаты хранились под увеличительными экранами и достигали до четверти мили в разрезе. – Некоторым из этих болезней больше миллиона лет, – сказал Монгров с гордостью. – В основном принесены странниками во времени. Другие собраны со всех концов Вселенной; когда смотришь на это великолепие, начинаешь понимать, как много мы теряем, друзья, не имея собственных болезней. – Он остановился перед большим экраном, на котором демонстрировались примеры заражения бактериями. Медведеподобный инопланетянин извивался в агонии, а его плоть пузырилась, отваливаясь кусками от костей. Другой космический путешественник, но уже рептилиеподобный, наблюдал со страданием в немигающих глазах, как из его собственных перепончатых рук и ног вырастали маленькие шупальца, постепенно опутывающие все тело и удушающие его. – Я иногда удивляюсь, не отсутствует ли у нас, несмотря на всю нашу фантазию, определенный вид воображения, – пробормотал Лорд Джеггед Джереку, когда они остановились перед бедной рептилией. Они подошли к месту, где растительный разум был атакован плесенью, которая постепенно съедала его прекрасные цветы и превращала стебли в сухие ветки. Там были сотни видов. Все они были настолько интересны, что Джерек стал забывать о своем собственном недомогании и оставил Джеггеда позади, шагая рядом с Монгровом, задавая вопросы и внимательно слушая ответы. Лорд Джеггед не торопился, рассматривая один за другим образцы и восхищаясь ими. Он с опозданием последовал за Джереком в Дом Флуктуантов. Там находилось большое разнообразие существ, которые могли изменять форму или цвет по собственному желанию. Каждому существу был отведен вольер с воспроизведенной в мельчайших деталях средой обитания. Эти миры были отделены друг от друга невидимыми силовыми полями, плавно переходящими друг в друга. Большинство флуктуантов никогда не жили на Земле ни в какой период ее истории (кроме нескольких примитивных хамелеонов и ящериц). Они были привезены из многих отдаленных планет Галактики. В сущности, все они были разумны и одарены способностью подражания. Когда трое людей, защищенных от возможности нападения, проходили через различные миры, их встречали существа, имитирующие то Джерека, то Джеггеда, то Монгрова. Некоторые изменялись настолько быстро от Джеггеда, скажем, к Монгрову или Джереку, что Джерек сам начал чувствовать себя странно. Следующим был Человеческий Дом, где Джерек надеялся отыскать свою избранницу. Этот дом был самым просторным, и если все прочие были собраны из самых разных областей пространства, то этот состоял из различных периодов истории Земли. Он тянулся на несколько миль и, подобно Дому Флуктуантов, был разбит на отдельные сферы обитания, расположенные в хронологическом порядке, и воспроизводящие картины жизни многих периодов. В коллекции Монгрова были и Неандертальский, и Пимдаунский, и Религиозный, и Научный человек самых разных размеров и мастей. – Здесь, – проникновенно сказал Монгров, – мужчины и женщины практически всех периодов нашей истории, – он сделал паузу, – что вам больше по душе, друзья мои? Может быть Фрадрасианская тирания? – он обвел жестом участок, в котором они сейчас находились. На постаменте песочного цвета возвышались строения из квадратных блоков песчаника. Одежда экспонируемых, если это была она, состояла из материала, неотличимого от песка. Человечек комического вида с головой и конечностями, забавно торчавшими из одеяния, размахивал кулаками и кричал на троицу посетителей. Однако он держался на безопасном расстоянии. – Кажется, злится, – отметил Лорд Джеггед, с любопытством наблюдая за ним. – Это был злой век, – согласился Монгров. – Впрочем, как и многие другие. Они миновали этот участок и прошли еще немного, когда Монгров снова остановился. – Это славная Ирландская Империя, – сказал он. – Пять столетий чудесных Кельтских Сумерек, покрывших сорок планет. А вот и правитель, собственной персоной. На участке, заросшем пышной зеленой травой и залитом мягким светом, на скамейке рядом с двухэтажным строением из дерева и камня сидел забавный краснолицый индивидуум, одетый в довольно странную темно-коричневую одежду, плотно перетянутую поясом, с высоко поднятым воротником, затемняющим лицо. Коричневая шляпа с полями была надвинута на глаза. В одной руке он держал кружку с темной жидкостью, покрытой белой пеной. Человек часто поднимал этот сосуд к губам и периодически осушал его, после чего тот мгновенно наполнялся вновь, к постоянному восхищению его обладателя. Он все время пел бодрую мелодию, что, казалось, доставляло ему удовольствие, хотя временами он склонял голову в рыданиях. – Он может быть таким печальным, – с восхищением сказал Монгров. – Он смеется, он поет – но печаль переполняет его. Я очень ценю его, моего Пивного Короля. Они двинулись дальше сквозь образцы доисторического Греческого Золотого века, Британского Ренессанса, Коринфской Республики, Императорской Американской Конфедерации, Мексиканского Владычества, Юлианских Империй, Союза Двенадцати планет, Союза Тридцати Планет, Анархических Государств, Кулианской Теократии, Темно-зеленого Совета, Переджинтского военного Периода, Геродианской Империи, Гиеникской Империи, Сахарной диктатуры, периода Звукоубийства, времени Невидимого Знака (наиболее интересного из множества подобных периодов) эпохи Канатоходца, Первого, Второго и Третьего покровителей, Культуры Кораблей, Технического Тысячелетия, эпохи Строителей Планет и сотни других. Джерек без устали искал вокруг себя следы странницы во времени. Машинально похваливая коллекцию Монгрова, он оставлял большую часть аллилуйщины Лорду Джеггеду, который, как мог, отвлекал внимание хозяина от Джерека. Когда они вошли в среду обитания, более скудную, чем другие, именно Монгров первым указал на нее. – Мое последнее приобретение. Я горжусь этой находкой. Правда, сия особа все еще не ответствовала, какая среда обитания для нее предпочтительней. Джерек повернулся и поглядел в глаза путешественницы во времени. Ее глаза сверкали. Лицо раскраснелось от гнева. Джерек понял, что виновником этого гнева является он. А надеялся, что узнав его и увидев костюм, странница смягчится, но все вышло наоборот. – Она еще не приняла переводильную пилюлю? – спросил он Монгрова. Но Монгров уставился на него с подозрительным видом. – Ваши костюмы очень похожи, Джерек. – Ха, – ответил Джерек. – Я уже встречался с ней прошлым вечером у Герцога Квинского. И был так впечатлен костюмом, что не поленился сотворить похожий. – Вижу, – брови Монгрова несколько разгладились. – Какое совпадение, – оживился Лорд Джеггед. – Мы не имели представления, что она именно в вашей коллекции, Лорд Монгров. Как это неожиданно. – Да, – подтвердил Монгров спокойным голосом. Джерек прочистил горло. – Удивительно… – начал Монгров. Джерек повернулся к леди и произнес в учтивом поклоне. – Надеюсь, с вами все в порядке, и вы можете понять меня лучше. – Понять! Понять! – в голосе барышни послышались истерические нотки. Оказывается, она нисколько не была польщена. – О! Я понимаю, что вы безнравственное, отвратительное и развратное существо, сэр! Джерек не понимал смысла некоторых ее слов и вежливо улыбнулся. – Возможно, другая переводильная пилюля… – Вы самый грязный гаер, которого я встречала в своей жизни! – крикнула она. – И теперь я убедилась, что умерла и нахожусь в самом мерзком аду, какой только может вообразить человек. О, мои грехи, должно быть, были ужасны! – Ад? – спросил Монгров с проснувшимся интересом. – Вы из ада? – Это другое название девятнадцатого столетия? – спросил Лорд Джеггед. – Он заметно повеселел. – Я многое смогу узнать от вас, – страстно начал Монгров, – я рад, что вы попали в мою коллекцию! – Как вас зовут? – спросил Джерек, оторопев от ее реакции. Женщина смерила его уничижающим взглядом и ответила с презрительно-негодующей усмешкой. – Сэр, меня зовут миссис Амелия Андервуд, и если это не ад, то какая-то ужасная зарубежная страна. Я требую, чтобы мне позволили сейчас же переговорить с британским консулом! Джерек поднял глаза на Монгрова, а тот поглядел вниз на Джерека. – Самое странное из моих приобретений, – задумчиво произнес Монгров. – Я могу избавить вас от нее, – предложил Джерек. – Нет-нет, – ответил Монгров. – Хотя благодарю за участие. Нет, мне будет интересно изучить ее, – с этими словами он повернулся к миссис Андервуд и галантно осведомился. – Вы любите пламя пожарче?Глава шестая ПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА: ЖЕЛЕЗНАЯ ОРХИДЕЯ ПРИДУМЫВАЕТ ПЛАН
Убедив меланхоличного Монгрова, что пламя – отнюдь не лучшая среда для странницы во времени, и сделав пару альтернативных предложений, основанных на его собственном представлении об этом периоде, Джерек решил, что пора откланяться. Монгров бросал на него странные подозрительные взгляды, миссис Андервуд явно была не в том настроении, чтобы принять его декларацию любви, и даже Лорд Джеггед, казалось, заскучал и был не прочь уехать. Монгров проводил их из Дома Человека к ожидавшему золоченому локомотиву, неуместному среди темно-зеленых и грязно-коричневых цветов логова Монгрова. – Ну, – сказал Монгров, – благодарю вас за советы, Джерек. Я думаю, эта особь скоро обживется. Конечно, некоторые существа хандрят, несмотря на любую заботу о них. Некоторые умирают, и их приходится воскрешать и посылать туда, откуда они явились. – Если я смогу быть чем-то полезен… – пробормотал Джерек, ужаснувшись словам Монгрова. – Непременно посоветуюсь с вами, – в голосе Монгрова появились холодные нотки. – О, если бы я мог провести некоторое время с… – Вы были, – перебил Лорд Канари, стоя на подножке локомотива, – самым гостеприимным хозяином, Монгров. Я помню о вашем желании пополнить коллекцию этим мрачным пришельцем. Я найду способ приобрести его для вас. Может быть вы заинтересованы в обмене? – Обмен? – Монгров пожал плечами. – Да, почему бы и нет? Но на что? У меня нет ничего ценного! – О, я думаю, что смог бы избавить вас от образца девятнадцатого столетия, – сказал Джеггед небрежно. – Честно говоря, не думаю, что она доставит Вам бездну удовольствия. С другой стороны, я знаю одного человека, кому этот подарок пришелся бы по душе. – Джерек? – насторожился Монгров. – Не о нем ли речь? Он повернул свою огромную голову, внимательно взглянув на Джерека, который притворился, что не слышит, о чем они говорят. – О, не сейчас, – ответил Лорд. – Бестактно, Монгров, говорить об этом заранее. – Конечно, – согласился Монгров, громко чихая. Дождь бежал по его лицу, пропитывая некрасивую бесформенную одежду. – Но вы никогда не заставите расстаться Миледи Шарлотину с ее инопланетянином. Это пустой разговор. – Не думаю, – возразил Лорд Джеггед. Капли дождя попали на обруч, и ящерица зашипела, выражая свое неудовольствие так, что ее хозяин поспешил скрыться в кабине локомотива. – Ты идешь, Джерек? Джерек поклонился Монгрову. – Вы были очень добры, Монгров. Я рад, что мы поняли друг друга. Монгров наблюдал, как Джерек поднимается в кабину. Глаза его сузились. – Да, – ответил он, – я тоже рад этому, Джерек. – И вы согласитесь на обмен? – спросил Джеггед. – Если я привезу вам инопланетянина? Огромные губы Монгрова задрожали. – Если вы сумеете добыть мне этого бедолагу, у вас будет серая странница. – Договорились, – весело воскликнул Лорд. – Я скоро привезу его вам. И тут, наконец, Монгров решился высказать все начистоту. – Лорд Джеггед, вы прибыли сюда с целью приобрести мой новый экземпляр? Лорд Джеггед засмеялся. – Вот почему вы так насторожились! Я уже было подумал, что обидел вас чем-то. – Но именно в этом причина? – продолжал настаивать Монгров. Он повернулся к Джереку. – Вы обманывали меня, притворяясь моим другом все это время, думая лишь о том, как выманить мой экземпляр? Я потрясен! Разузоренный и закудрявленный, Лорд Джеггед высунулся из кабины. – Потрясены, Монгров? Джерек не мог сдержать улыбки, наблюдая за артистическим поведением Джеггеда. Но тут Лорд Джеггед обратился к нему, хмуря брови: – Чему вы улыбаетесь, Джерек? Вы верите тому, что сказал Монгров? Вы тоже считаете, что я пригласил вас составить мне компанию под ложным предлогом, что у меня не было намерения исправить отношения между вами? – Нет, – опустил глаза Джерек, пытаясь освободиться от предательской улыбки. – Простите, Лорд Джеггед. – О, я тоже прошу прощения, – губы Монгрова вновь задрожали. – Я ошибся в вас обоих. Простите меня! – Конечно, несчастный Монгров, – добродушно ответил Лорд. – Конечно! Конечно! Вы вправе быть подозрительным. Вашей коллекции завидует вся планета. Каждый из ваших экземпляров – драгоценность. Оставайтесь осторожным! Кто-то другой, не такой щепетильный, как мы с Джереком Карнелианом, может обманутьвас. – Какой я невеликодушный! Какой невежливый, с безобразными манерами. Слишком бездушный! – стонал Монгров. – Какой я гадкий, Лорд Джеггед. Сейчас я ненавижу себя. Теперь вы видите, каков я есть, и вы будете вечно презирать меня! – Презирать? Никогда! Ваша скромность восхитительна. Я изумляюсь ей. Я изумляюсь вами. А теперь, дорогой Монгров, мы должны отправляться. Возможно, через пару дней я вернусь с экземпляром, который вам необходим. – О, вы более чем великодушны. Прощайте, Лорд Канари. Прощайте, добрый Карнелиан. Приезжайте ко мне, когда захотите. Хотя я понимаю, что я – плохая компания, и, следовательно, вы вряд ли… – Прощайте, безутешный Монгров, – Джерек потянул за свисток, и локомотив издал скорбящий звук – вроде стона отчаяния, – прежде чем начал медленно подниматься в струящееся дождевое небо. Лорд Джеггед вновь устроился на диване. Лицо его ничего не выражало, глаза были прикрыты. Джерек отвернулся от окна. – Лорд Джеггед, вы эталон хитрости. – Ладно, ладно, милый, – пробормотал Лорд Джеггед со все еще закрытыми глазами. – Тебя тоже нельзя упрекнуть в отсутствии подобных талантов. – Бедный Монгров. Как изящно вы отвели его подозрение, – Джерек сел рядом с другом. – Но как мы раздобудем миссис Амелию Андервуд? Миледи Шарлотина, может быть, и не презирает Монгрова, но ревнует к его сокровищам. Она не отдаст нам этого зверька. – Тогда мы должны украсть его, так? – Джеггед открыл свои блеклые глаза, и в них заблестел озорной огонек. – Мы станем похитителями, Джерек, ты и я! Предложение было настолько ошеломляющим, что потребовалось некоторое время, чтобы Джерек понял, о чем идет речь. А поняв это, он рассмеялся от восхищения. – Как вы изобретательны, Лорд Джеггед! Это отличная идея! – Да! Обезумев от любви, ты идешь на все, чтобы овладеть предметом своей страсти! Все другие обстоятельства – дружба, престиж, достоинства – отметены прочь! Я вижу, тебе нравится это. Лорд Джеггед прислонил изящный палец к губам, на которых сейчас можно было различить улыбку. – Мы приступаем к творению такой пышной драмы! О Джерек, мой дорогой, ты был рожден для любви! – Хм, – сказал Джерек задумчиво, – я начинаю подозревать, что был рожден для того, чтобы стать подопытным материалом для упражнений вашего незаурядного литературного дара, Лорд. – Ты льстишь, льстишь, ты льстишь мне!* * *
Чуть позже Джерек услышал нежный голос. – Мой сын, мой алмаз! Это твоя воздушная машина? Джерек узнал голос Железной Орхидеи. – Да, мама. А где ты? – Ниже тебя, дорогой. Джерек встал и взглянул вниз. Он различил две фигуры, разместившиеся на шахматном поле из голубых, пурпурных и желтых квадратов, которое украшали хрустальные деревья, и Джерек поинтересовался у Джеггеда. – Вы не возражаете, если мы ненадолго остановимся? – Конечно нет. Джерек приземлил свой локомотив на оранжевый ворс крошечных трилистниковых цветов. В соседнем лазурном квадрате сидела Железная Орхидея с Ли Пао на коленях. Когда Джерек вышел из машины на поле, цвет квадратов снова изменился. – Не могу определиться сегодня, – объяснила Орхидея. – Ты не можешь помочь мне, Джерек? Она всегда имела склонность к мехам, и сейчас ее тело покрывало золотистое манто-палантин. Лицо она окрасила в цвета Ли Пао, одетого, как обычно, в тот же сине-голубой сатиновый комбинезон. Ли Пао был смущен. Он пытался слезть с колен Железной Орхидеи, однако та не отпускала его, сидя в красиво мерцающем силовом кресле. Над ее головой кружились маленькие синие птички. Шахматная равнина простиралась на милю в обе стороны. Джерек задумчиво рассматривал ее. Его занимали иные проблемы, поэтому он затруднялся с ответом. Наконец, Джерек сказал: – Я считаю, что все, сделанное тобой, превосходно, самая изысканная из Орхидей. Добрый день, Ли Пао. – Добрый день, – довольно холодно ответил Ли Пао. Он предпочитал одиночество, хотя и был собственностью Герцога Квинского. Джереку казалось, что Ли Пао не очень нравится аскетическое окружение, которое Герцог Квинский создал для него, хотя китаец утверждал, что это все, в чем он нуждается. Ли Пао перевел взгляд на Джеггеда. – Я вижу, с вами ваш друг-декадент Лорд Джеггед. Лорд Джеггед приветствовал Ли Пао поклоном, заставившим затрепетать все лилии на его костюме, а ящерицу – приподнять голову и щелкнуть зубами. Затем он коснулся укутанной мехом руки Железной Орхидеи и поднес ее к своим губам. – Нежнейшая из зверей, – пробормотал он, гладя ее плечо – Самая красивая из кошек. Ли Пао встал, помрачнев. Он сделал вид, что заинтересовался хрустальным деревом. Железная Орхидея рассмеялась и обняла Лорда Джеггеда, притянув его голову к себе, чтобы поцеловать ящерицу в чешуйчатую морду. Не вдаваясь в тонкости ритуала, Джерек подошел к Ли Пао. – Мы только что покинули Монгрова. Вы его друг? – Что-то вроде этого. – Ли Пао кивнул. – У нас совпадают одна или две идеи. Но я подозреваю, что взгляды Монгрова не всегда его собственные, не всегда искренние. – Монгров? Нет никого, более искреннего… – В этом мире? Возможно, нет. Но факт остается, – Ли Пао поддел серебристый хрустальный фрукт, и тот мелодично звенел секунды две, прежде чем снова замолчать. – Я имел в виду, не стоит много говорить о выходцах из вашего общества. – Да! – начал Джерек торжественно, почти не слушая собеседника. – Я, Ли Пао, столкнулся с любовью! Я отчаянно влюблен, безумно влюблен в девушку. – Вы не понимаете, что значит любить! – негодующе ответил Ли Пао. – Любовь предполагает посвящение, преданность, самоотверженность, величие души. Это свойства, которыми вы больше не обладаете. На сей раз это ваша очередная безобразная пародия. Почему вы так одеты? Вы что, привидение? Что за душераздирающие фантазии? Вы играете в бессмысленные игры! Вы играете, а у вас на глазах погибает Вселенная! – Возможно, вы правы, – ответил Джерек вежливо, – но тогда почему вы не вернетесь в свое собственное время? Это трудно, но вполне возможно. – Нет! Это не так! Вы наверняка слышали об эффекте Морфейла. Человек может вернуться назад во времени от силы на пару минут. Ни один ученый за долгую историю Земли не смог решить эту проблему. Но даже если бы был шанс остаться там, что я могу сказать людям, когда вернусь? Что весь их труд, все самопожертвование, идеализм, борьба за справедливость приведут, в конце концов, к вашему прогнившему миру? Я стану чудовищем, если попытаюсь сказать это. Могу ли я описать вашу выродившуюся технологию, вашу разнузданную сексуальную практику, ваше дегенеративное буржуазное время-препровождение, на которое вы тратите столетия? Нет! Глаза Ли Пао сверкали. Разгоряченный этой темой, он чувствовал себя настоящим героем. – Нет! Моя участь – остаться здесь. И я делаю это, добровольно принеся себя в жертву. Мой долг – предупредить вас о последствиях вашего декадентского поведения. Мой долг – направить вас на путь истинный; задумайтесь над более серьезными вещами, пока не поздно. Он тяжело дышал, гордясь своей речью. – А между тем, – раздался расслабленный голос Железной Орхидеи, которая приближалась под руку с Лордом Джеггедом, одобрительно кивающим Ли Пао, – ваша участь, Ли Пао – развлекать Железную Орхидею яркой игрой эмоций, доставлять ей удовольствие, обожать ее (ведь это именно так, я знаю) и жесточайшей критикой услаждать ее дни. – О, испорченная женщина! Вы – империалистка! Вы порочны! Ли Пао зашагал прочь. – Вы еще вспомните мои слова, – бросил он через плечо. – Апокалипсис уже недалеко. Вы будете сожалеть, Железная Орхидея, что сделали из меня посмешище. – Какие темные, темные намеки! Ли Пао любит вас? – спросил Лорд Джеггед. На его белоснежном лице появилась задумчивость. Он сардонически предположил. – Возможно, он может научить вас каким-нибудь новым чувствам, мой подмастерье. – Возможно, – Джерек зевнул. Напряжение, испытанное во время визита к Монгрову, немного утомило его. – Почему? – Железная Орхидея с интересом посмотрела на своего сына. – Ты теперь изучаешь «ревность», кровь от крови моей? Вместо «добродетели»? Ли Пао сейчас демонстрировал ревность? Джерек уже забыл о вчерашнем своем увлечении. – Наверное, – ответил он, – я должен порасспросить Ли Пао об этом. Разве ревность не является одним из компонентов настоящей любви, Лорд Джеггед? – Ты знаешь больше меня о подробностях этого периода, жизнерадостный Джерек. Все, чем я могу помочь тебе – это поместить их в контекст нашей драмы. – В превосходный контекст, – добавил Джерек. Он смотрел вслед уходящему Ли Пао. – Расскажи мне, Джерек, – попросила его мать, укладывая свои изящные формы на мягкую кушетку и распыляя шахматное поле, которое, откровенно говоря, показалось Джереку ужасным. Поле превратилось в пустыню. Певчие птички стали орлами. Неподалеку возникла пальмовая рощица рядом с источником воды. Оазис появился в том месте, где находился Ли Пао. Железная Орхидея притворилась, что не заметила этого. Над поверхностью воды осталась только голова китайца, злобно сверкающая глазами. – Что за игру изобрели вы с Лордом Джеггедом? – с живостью спросила она. – Мама, я полюбил чудесную девушку, – начал Джерек. – О! – она вздохнула с восхищением. – Мое сердце поет, когда я вижу ее. Мой пульс сбивается, когда я думаю о ней. Моя жизнь теряет смысл, когда ее нет рядом! – Очаровательно! – И, дорогая мама, она воплощает в себе все, что должна иметь девушка. Она прекрасна, умна, понятлива, жестока! О, мама, я хочу жениться на ней! Утомленный своим выступлением, Джерек рухнул на песок. Железная Орхидея с энтузиазмом захлопала в ладоши. Звук утонул в мехах. – Восхитительно, – она послала ему воздушный поцелуй. – Джерек, мой пупсик, ты гений! Никакое другое описание не подходит. – Орхидея наклонилась вперед. – Ну, а теперь – я жду подробностей. И Джерек рассказал обо всем, что случилось с того момента, когда он в последний раз виделся с матерью и посвятил Орхидею в их планы – включая и похищение. – Неотразимо, – сказала она. – Итак, мы должны каким-то образом похитить мрачного инопланетянина у Миледи Шарлотины. Она никогда не простит этого. Я знаю ее. Ты прав – это трудная задача, – она поглядела на оазис и капризно закричала. – Ли Пао, выйди оттуда! Ли Пао хмуро смотрел из воды. – Вот почему я привязана к нему, – объяснила Железная Орхидея. – Ли Пао так прелестно сердится, – она коснулась подбородка и задумалась над ждущей решения проблемой. Джерек оглядывался по сторонам, заново обдумывая предстоящее действие и начиная сомневаться, не будет ли оно слишком сложным, а хуже того – скучным. Может быть, ему следовало изобрести предмет страсти попроще? Любовь отнимала слишком много времени. Наконец, Железная Орхидея подняла голову. – Первое, что мы должны сделать – это посетить Миледи Шарлотину большой компанией. Столько, сколько возможно. Устроим веселье. Вечеринка будет суматошной. В самый разгар мы украдем инопланетянина. Каким образом – решим на месте. Я не помню, как устроен ее питомник, да это, в принципе, все равно – он, вероятно, изменился с тех пор, как я посещала его в последний раз. Что ты думаешь, Джеггед? – Я думаю, что ты – гений, мой цветок, – ухмыльнулся Лорд Джеггед и обнял плечи Железной Орхидеи. – Самый душистый из цветов, это превосходная идея. Никто не догадается об истинном намерении. Мы одни планируем ограбление. Остальные, ничего не ведая, прикроют нашу попытку. Ты согласен, Джерек? – Я согласен. Что за пару вы составляете? Вы хвалите меня за свою собственную изобретательность, приписываете мне свои идеи… я просто игрушка в ваших руках. – Чепуха, – Лорд Джеггед прикрыл глаза, словно из скромности. – Ты создал грандиозный проект. Мы – просто твои подмастерья, мы вычерчиваем фон на твоем холсте. Железная Орхидея протянула руку, чтобы погладить почти задремавшую ящерицу на голове Лорда Джеггеда. – Наших друзей воодушевит мысль посетить Миледи Шарлотину. Сначала мы будем надеяться, что она дома. И что она пригласит нас. А потом, – Железная Орхидея засмеялась своим изысканным смехом, – мы опять будем надеяться, на этот раз – что она не обнаружит наш обман. По крайней мере, во время похищения. А последствия! Вы можете вообразить последствия, которые возникнут? Ты помнишь, Джерек, наши надежды на нечто, что могло бы заменить прошлые события с флагами? – Ну куда каким-то флагам до похищения, – сказал Лорд Джеггед. – Я снова почувствовал себя молодым. – Вы были молодым, Лорд Джеггед? – подняла брови Железная Орхидея с удивлением. – Ну, вы понимаете, что я имею в виду, – ответил он.Глава седьмая УКРАСТЬ ПРИШЕЛЬЦА
Миледи Шарлотина всегда предпочитала подземное существование. Ее территория под озером была не только подземной, но и подводной – в истинном смысле этого слова. Мили обширных грязных пещер были соединены туннелями, в которые можно было упрятать множество городов без малейших трудностей. Миледи Шарлотина сама создала все эти пещеры много лет назад, следуя контурам одного из настоящих озер, оставшихся на планете. Озеро называлось Билли Кид, по имени легендарного американского исследователя, астронавта и гурмана, распятого на кресте примерно в 2000 году за то, что он имел несчастье обладать козлиной нижней частью тела. Во времена Билли Кид такие превращения, очевидно, были не в моде. Озеро Билли Кид являлось, вероятно, наиболее древней частью ландшафта планеты. Оно передвигалось только дважды за последние пятьдесят тысяч лет. Пиршество под озером было в полном разгаре. Около сотни ближайших друзей Миледи Шарлотины прибыли, чтобы повеселить восхищенную и порядком удивленную хозяйку, а заодно и самих себя. Было шумно и сумбурно. Джереку Карнелиану не составило труда в этой атмосфере тихонько проскользнуть в питомник и отыскать там последнее приобретение Миледи в одной из тысячи или двух тысяч маленьких пещер, где она обычно держала свои экземпляры. Пещера, оборудованная для Юшариспа, находилась между вольером с шипящим и мерцающе-огненным существом, которое, хотя и было обнаружено на Солнце, но прибыло туда, скорее всего, откуда-нибудь еще, и другим, где содержался крохотный собакоподобный инопланетянин из окрестностей Бельтельгейзе. Юшарисп был поселен в холодной пурпурно-черной башне, покрытой отвратительной слизью. В подобной пульсирующей башне Юшарисп жил на своей родной планете. Башню окружали мерцающие растения и острые темно-желтые скалы. Дом его напоминал космический корабль, который распылила Миледи Шарлотина. Юшарисп сидел на скале около башни, поджав свои маленькие ножки под сферическим телом. Почти все глаза его были закрыты, кроме одного впереди и одного сзади. Омраченный мыслями, Юшарисп сначала не заметил Джерека, который, прикоснувшись к одному из своих колец, на мгновение сделал брешь в силовом поле и вошел внутрь. – Как поживаете, Юшарисп? – поинтересовался Джерек. – Я пришел сказать, что ваша речь на ужине у Герцога задела меня за живое. Все глаза Юшариспа, наполненные беспросветной тоской, округлились. Туловище его дрогнуло, и Джерек испугался, что оно может скатиться вниз, подпрыгивая, словно мячик. – Вы (хрим-хрям) услышали меня? – похрустел он с тихим отчанием в голосе. – О да! Все, что вы сказали, было очень приятно слышать, – невнятно пробормотал Джерек, думая что, возможно, он начал не с того. – Очень приятная речь. – Приятная? Я совсем запутался, – Юшарисп начал приподниматься на своих убогих конечностях. – Вы, вы считаете, что я сказал нечто «приятное»? Джерек подумал, что допустил досадный промах. – Я хотел сказать, – путался он в собственных словах, – что было приятно слышать выражение подобных чувств, – он ломал голову, пытаясь вспомнить, о чем вещал этот пришелец. Он помнил общее направление речи, однако, все это говорилось уже много раз. Предрекали конец Вселенной или конец галактики, или что-то вроде этого. Очень похоже на тот бред, который обычно несет Ли Пао. Может быть, все из-за того, что люди Земли не соблюдают традиции и обычаи, которые в моде на родине Юшариспа? Обычно содержание сообщения гласило: «Вы живете не так, как мы. Следовательно, вы скоро умрете. Это неизбежно. И в этом вы будете виноваты сами». – Освежающее, имел в виду… – выкручивался Джерек. – Я понял (хрум), что вы хотите сказать, – успокоенный чужак спрыгнул со скалы и оказался рядом с Джереком, уставившись на него передними глазами. – Я рад встретить здесь хоть одного думающего человека, – продолжал Юшарисп. – За все мое путешествие меня впервые принимают так странно. Моя весть всегда находила отклик. Кто-то принимал с достоинством (хрим) и хладнокровием. Кто-то агрессивно, иногда мне не верили, было и такое, что на меня даже нападали. Однажды просто не обратили внимания, потому что не боялись смерти (хрим-хрум). У вас на Земле меня взяли (р-р-р) в плен, а мой космический корабль безжалостно разрушили. И никто не выразил ни сожаления, ни гнева – будто бы ничего не произошло. Мои слова приняли за шутку, а меня – за паяца, и заперли в этой конуре. Ведь я (хрим) не совершал никакого преступления. Почему я здесь? Что происходит? – Наверное, – сказал Джерек, – вы приглянулись Шарлотине, и она захотела взять вас в свою коллекцию. Дело в том, что у нее никогда не было модели, подобной вам: вашей формы, габаритов. – Это что – зоопарк? – В некотором роде. Разве она не объяснила? Иногда она бывает уклончива, эта Миледи Шарлотина. Но она постаралась соблюсти все мелочи вашего бытия, чтоб вы чувствовали себя как дома. Джерек еще раз взглянул на мерцающие растения и темно-желтые скалы, склизкую башню, торчащую в холодном воздухе. Нетрудно было догадаться, почему пришелец предпочел стать глашатаем во Вселенной. Юшарисп повернулся и заковылял к своему убежищу. – Это бесполезно. Мой переводчик работает хуже, чем я думал. Я не могу передать мое сообщение правильно. Это моя вина, а не ваша. Я заслужил это. – В чем точно заключалось сообщение? – оживился Джерек. Он увидел шанс выяснить это, не показавшись забывчивым. – Возможно, если вы повторите сообщение, я смогу сказать вам, понял ли его. Инопланетянин, казалось, просветлел и заспешил обратно. Единственным различием между его физиономией и затылком, насколько видел Джерек, было только то, что спереди находился рот. Глаза всюду выглядели одинаково. Пришелец развернулся так, что его ротовое отверстие оказалось направленным на Джерека. – Ну, – начал Юшарисп, – случилось то, что Вселенная, перестав расширяться, начала сокращаться. Наши исследования показали, что такое происходит все время – расширение – сокращение – Вселенная постоянно меняет форму. Возможно, каждый цикл повторяет предыдущий. Я не знаю. Как бы там ни было, это уводит нас в область Времени, а не Пространства, а я совсем ничего не знаю о Времени. – Занимательная версия, – сказал Джерек, предчувствуя скуку. – Это не версия. – Понятно. – Вселенная начала сокращаться. Как результат (хрям), все, что уже находится в газообразном состоянии, будет уничтожаться, попав в центральный вихрь Вселенной. Наверное, моей планеты уже не существует, – глубоко вздохнул незадачливый гость, – и ваша галактика тоже обречена. Вопрос лишь во времени. – Ну-ну, – Джерек похлопал пришельца по верхней части тела. Юшарисп обиженно поднял на него проницательные глаза. – Сейчас не время (хрум) секса, мой друг. Джерек отдернул руку. – Приношу извинения, вы меня неправильно поняли. – В другое время, быть может… Механический переводчик Юшариспа рычал и стонал, пока тот пытался прочистить свое горло. – Я подавлен происходящим, – оправдывался он. – Я на грани срыва. План Джерека, или, по меньшей мере, важнейшая его часть, прояснился именно в этот момент. Он сказал. – Я хочу помочь Вам бежать из плена Миледи Шарлотины. – Вы? Но силовое поле и тому подобное? Охрана (хрим-хрям), должно быть, очень надежная. Джерек не сказал несчастному, что тот мог свободно разгуливать по всей планете, если бы только захотел. Разумные существа оставались в питомниках по своей доброй воле. Джерек рассудил, что для его целей лучше всего оставить Юшариспа в неведении. – Мне нетрудно справиться со всем этим, – небрежно заявил он. – Я признателен вам, – одна из коричневых кривых лап пришельца коснулась бедра Джерека. – Я верил, что не все на этой планете такие (хрим-хрум) бессердечные. Но мой космический корабль? Как я покину ваш мир? Я должен продолжить мое путешествие, нести свой крест! – Мы справимся с этой проблемой позже, – заверил его Джерек. – Очень (хрим) хорошо. Я понимаю, как вы рискуете! – Юшарисп возбужденно подпрыгнул на всех четырех ногах. – Мы можем уйти сейчас или нужны тайные приготовления (хрум)? – Главное, чтобы ваш уход не заметила леди Шарлотина, – ответил Джерек. – Лучше всего временно изменить форму, если вы не возражаете. Это не очень сложное изменение, ведь у нас нет времени. Не беспокойтесь, я верну вам прежний вид до того, как мы приедем к Монгрову. – Кто такой Монгров? – Наше тайное укрытие! Друг, сочувствующий вам! – А что такое (хрум) изменение формы? – насторожился Юшарисп. – Маскировка, – сказал Джерек. – Я должен изменить ваше тело. – Хрим… хрям… хрум… Трюк! Опять жестокий трюк (р-р-р), – бродячий пророк в волнении попытался скрыться в башне. Теперь Джерек понимал, почему Монгров разглядел родственную душу в Юшариспе. Они превосходно поладят друг с другом. – Никакого трюка с вами, наоборот, – с женщиной, которая заточила вас здесь. Юшарисп несколько успокоился, но его глаза метались из стороны в сторону, выражая тревогу. – А что (р-р-р) потом? Куда вы отправите (хрум) меня? – К Монгрову. Он сочувствует и симпатизирует вашей миссии и жаждет выслушать все, что вы хотите сказать. Он, вероятно, единственная личность на планете, не считая, конечно, меня, кто действительно понимает важность вашего визита. Возможно, подумал Джерек, он не обманывает пришельца. Вполне вероятно, что Монгров захочет помочь Юшариспу, когда услышит всю историю маленького существа. – Теперь… – Джерек повозился с одним из колец, – если вы позволите мне… – Хорошо, – сказал инопланетянин, казалось, примирившийся с судьбой. – В конце концов (хрум) мне нечего больше (р-р-р) терять.* * *
– Джерек, милый ребенок, дитя природы! Сын Земли! Иди сюда. Миледи Шарлотина в окружении гостей, среди которых были Железная Орхидея и Лорд Джеггед, упорно отвлекающие внимание хозяйки, махала рукой Джереку. Джерек и Юшарисп (его тело слегка изменилось) двигались через толпу радостных гостей в одной из основных пещер рядом с Водными Воротами, через которые Джерек надеялся устроить побег. Золотые стены пещеры сверкали, потолок и пол были из полированного до зеркального блеска серебра. Поэтому казалось, что каждый находился одновременно в сотне мест на полу и потолке пещеры. Леди Шарлотина плавала в силовом гамаке, в то время как низкорослый Браннарт Морфейл пыхтел между ее коленей. Морфейл, вероятно, был последним настоящим ученым на Земле. Он ставил опыты в единственно возможной области для подобных занятий – в области манипулирования временем. Когда Миледи Шарлотина окликнула Джерека, Морфейл поднял голову и сквозь космы серо-буро-малиновой гривы стал всматриваться в юношу. Он облизнул губы, окруженные бородкой красно-черного цвета. Его темные глаза засверкали, обвиняя Джерека в прерванном удовольствии. Джерек был вынужден ответить на призыв Миледи Шарлотины. Он улыбнулся, склонился в почтительном поклоне и попытался придумать какую-нибудь вежливую фразу, после которой можно было бы удалиться. Миледи Шарлотина была обнажена. Все четыре ее золоченые груди с серебряными сосками в тон оформлению пещеры красовались на розовом теле, излучающем спокойствие и комфорт. Ее удлиненное худощавое лицо с острым носиком и заостренным подбородком украшали постоянно меняющие цвет световые нити. Порой казалось, что очертания ее лица меняются тоже. Джерек с Юшариспом, нервно цепляющимся за него нижними лапками, хотел двинуться дальше, но был вынужден остановиться, чтобы шепотом посоветовать пришельцу взяться за него одной из верхних конечностей, если уж тому непременно надо держаться. Джерек боялся, что Миледи Шарлотина уже обнаружила пропажу. Юшарисп был готов удариться в бега. Джерек сдержал его порыв, положив руку на неузнаваемое туловище. – Что с вами? Лицо Миледи Шарлотины в этот момент было малиновым. – Это странник во времени? Ее силовой гамак стал двигаться к Джереку и Юшариспу. Неожиданное движение сбросило Браннарта Морфейла на пол пещеры. Он неподвижно лежал на месте приземления, мрачно разглядывая свое отражение в зеркале пола, и отталкивал протянутые к нему руки Лорда Джеггеда Канари и Железной Орхидеи. Они стояли рядом с ним, стараясь не замечать Джерека, который платил им той же монетой. Ведь неосторожные взгляды могли легко вызвать подозрения Миледи Шарлотины. – Да, – выпалил Джерек, – путешественник! При этих словах Браннарт Морфейл снова поднял голову. – Он здесь недавно. Вероятно, он станет основой моей новой коллекции. – О, значит, вы собираетесь соперничать со мной? Тогда мне придется следить за вами, Джерек. Ведь вы такой коварный. – Ну так следите, если есть желание. Хотя моя коллекция вряд ли когда-нибудь сравнится с вашей, очаровательная Шарлотина. – Кстати, вы знаете о моем приобретении? – Шарлотина мельком оглядела пришельца. – Да, я видел вчера или позавчера. Забавная вещичка. – Я тронута. Однако ваша находка уж слишком своеобразна. Вы уверены, что это не подделка, дорогой? – Абсолютно. Это подлинник. – Джерек придал беженцу форму Пилтдауна из десятого столетия. Юшарисп стал похож на косматую, с проплешинами, сутулую обезьяну, которая опиралась на четыре конечности. На нем была накинута потрепанная шкурка какого-то животного, а в руке он держал дубинку с металлической рукояткой и тупым деревянным наконечником. – Неужели это убожество могло прибыть сюда на собственной машине времени? – не могла поверить Миледи Шарлотина. Джерек посмотрел в сторону Орхидеи и Джеггеда, но те уже спали мирным сном. Лишь покинутый всеми Морфейл медленно поднимался с пола. – Нет, его доставила машина из другого времени. Без сомнения, это был несчастный случай. По всей вероятности, несколько странников погрузились в его период на своей машине. Там они задержались, оставив машину без присмотра, а это примитивное существо, любопытства ради забравшись в машину, нажало на кнопку… или две, и – гей-гоп – вот он перед вами. – Это он вам поведал, неистощимый Джерек? – Что вы? Это лишь предположение. Я не сомневаюсь, мы имеем дело с существом слабоумным, малоразвитым. По всей вероятности, это гибрид человека с тварью. – А сам он умеет говорить? – полюбопытствовала Миледи Шарлотина. – Только хрюкать, – просветил ее Джерек, неистово кивая головой. – Он общается только хрюками. Предостерегая Юшариспа от излишних звуков, Джерек остановил на нем тяжелый взгляд. Этот болван мог с легкостью превратить в прах великое дело Джерека. Однако Юшарисп промолчал. – Жаль, что он только хрюкает. Хотя не стоит расстраиваться. Он лишь первый в твоей коллекции. Все еще впереди, – благословила псевдоначинание Джерека Шарлотина. Браннарт Морфейл был уже на ногах. Он заковылял чуть быстрее, чтобы присоединиться к ним. Будучи от природы человеком здоровым, Браннарт пользовался горбом и культей, придерживаясь традиционной точки зрения, что настоящий ученый не может выглядеть иначе. Его устраивала такая внешность, и Морфейл веками оставался неизмено горбуном. Добравшись до собеседников, он спросил: – Как выглядит машина, на которой он прибыл? Я спрашиваю, потому что у нас нет подобной. Я знаю четыре или пять видов машин, но о такой даже не слышал. И в учебниках истории ничего не сказано о подобных аппаратах. Скорей всего, такой машины просто нет, потому что ее не может быть. – Почему не может быть?! Джерек был на грани умопомрачения. Морфейл прекрасно знал обо всем, что касалось машин времени. Он должен был предвидеть это и мог состряпать более правдоподобную байку. Теперь было поздно. – Приборы в моей лаборатории фиксируют все хроностранствия. Ничто не может появиться у нас незамеченным – особенно машины времени. – О! Э… – Джерек окончательно запутался. – Я должен посмотреть на машину, в которой прибыл этот примитив. Скорее всего, это новый для нас тип. – Завтра, – сказал Джерек в отчаянии, подталкивая своего подопечного к выходу, подальше от Миледи Шарлотины и Браннарта Морфейла, – вы посетите меня завтра утром… – Я приду. – Джерек, вы покидаете мою вечеринку? – Миледи Шарлотина казалась обиженной. – Но ведь это ты ее придумал. Ты должен задержаться, мой цветок. – Сожалею, но мне пора. Джерек чувствовал себя в западне. Он поправил шкурку, надетую на Юшариспа. У него не хватило времени изменить цвет его кожи, и он остался почти без изменений грязно-коричневым с зелеными пятнами. – Видите ли, мой экземпляр хочет есть. – Есть? Мы можем покормить его здесь. – Специальной пищей? Только я знаю рецепт, – сказал Джерек. – Но кухня моего зверинца безукоризненна, – возразила Миледи Шарлотина. – Только скажи мне, что он ест, и все будет приготовлено. – О… – простонал Джерек. Миледи Шарлотина засмеялась. Ее лицо запульсировало световыми волнами. – Ты явно не в себе, Джерек. Что ты задумал? – Задумал? Ничего, – он дал себе слово никогда больше не ввязываться в подобные истории. – Ты действительно приобрел это существо так, как рассказал, или здесь кроется тайна? Может, ты сам путешествовал во времени? – Нет, нет, – его губы пересохли. Он постарался отрегулировать влажность своего тела, но разницы не почувствовал. – Может, ты сделал этого пришельца сам? Все же он очень похож на жалкую подделку. Она подбиралась все ближе. Джерек нашел взглядом выход и прошептал Юшариспу: – Там путь к свободе. Мы должны… Миледи Шарлотина сделала шаг к пришельцу, наклонившись вперед, чтобы лучше рассмотреть его. Запах ее духов был настолько сильным, что Джереку стало дурно. Сузив глаза, Шарлотина спросила Юшариспа. – Как тебя зовут? – Он не говорит… – голос Джерека дрогнул. – Хрум, – вырвалось у Юшариспа. – Его зовут Хрум, – нашелся Джерек, толкая незадачливого беглеца вперед. Космический путешественник упал на четвереньки и посеменил в сторону туннеля, ведущего из пещеры. Его дубинка осталась лежать на полу. Брови Миледи Шарлотины сошлись над переносицей, на ее многоцветном лице постепенно проявилась подозрительность. – Мы увидимся завтра, – сказал Браннарт Морфейл, пропустивший всю остальную часть беседы. – Насчет машины времени… Он повернулся к Миледи Шарлотине, которая приподнялась на одном локте в своем силовом гамаке и смотрела с открытым ртом вслед Джереку. – Интересно, – задумчиво сказал Браннарт Морфейл. – Скорее всего новая форма хроностранствий. – Скорее новая форма надувательства, – мрачно предположила Миледи Шарлотина. Голос ее звучал скорее мелодраматически, нежели искренне, когда она воскликнула. – Джерек! Джерек! Джерек обернулся на бегу, крича. – Мой пришелец… Я имею в виду, мой скиталец во времени… Он убегает! Я должен поймать его! Чудесная вечеринка! Прощайте, ослепительная Шарлотина! – О, Джерек! Но Джерек пустился вслед за Юшариспом через туннели к Водяным Воротам – энергетической трубе, проложенной сквозь воду, на берег – туда, где их ждал маленький локомотив. Джерек взмыл в небо, таща за собой Юшариспа. – В машину! – тяжело выдохнул Джерек, подплывая к локомотиву. Вместе они ввалились в кабину и рухнули на диван. – К Монгрову! – крикнул он, наблюдая за озером – нет ли признаков преследования, – и побыстрее! Оглянувшись, Джерек увидел, как Миледи Шарлотина вынырнула из мерцающего озера на своем силовом гамаке, все еще опираясь на один локоть, испуская гневные вопли вслед тающему в синеве локомотиву. Джерек напрягся, стараясь различить слова, но не услышал их. Он надеялся также, что она проявит достаточно спортивный характер и не станет использовать устройство, следящее за его воздушной машиной, или не протянет силовой луч, дабы вернуть их назад. Возможно, Миледи еще не поняла, что он сделал. Но тут до его ушей донесся театральный крик Шарлотины: – Держите! Держите вора! Джерек почувствовал дрожь в коленках и понял, что переживает самое восхитительное переживание в своей жизни. Ничего подобного он не испытывал даже в детстве. – Держите, – бормотал он про себя, а локомотив тем временем быстро двигался к владениям Монгрова. – Держите вора! О, вор, вор, вор! – его дыхание стало тяжелым. Голова кружилась. – Держите вора! Юшарисп, после долгих и неудачных попыток залезть на диван, сдался и уселся на пол. – Будут неприятности? – спросил он. – Думаю, да, – овладел собой Джерек, – Да! Неприятности, – его глаза остекленели, он стал смотреть сквозь Юшариспа. Юшарисп был тронут благородством Джерека. – Почему вы так рискуете из-за незнакомца, вроде меня? – Из-за любви, – прошептал неудачный похититель и поежился от удовольствия. – Из-за любви! – Вы – великодушное (хрим) существо, – нежно произнес Юшарисп и поглядел сияющими глазами на Джерека. – Сильнее (хрим-хрям) любви, как мы говорим (р-р-р) на нашей планете, не имеет никто, (хрум) руоф чио лар, – он остановился в смущении. – Это должно быть, (хрим) непереводимо… – Давайте-ка я изменю вас обратно. Ведь скоро мы прибудем к Монгрову, – деловито сказал Джерек.Глава восьмая ОБЕЩАНИЕ МИССИС АМЕЛИИ АНДЕРВУД
Монгров был восхищен, получив Юшариспа. Чуть не задушив тщедушного пророка в железных обьятьях, он мгновенно начал расспрашивать обо всех нюансах его рокового сообщения. Юшарисп не ожидал такого приема и был весьма польщен, все еще заблуждаясь относительно своей дальнейшей судьбы. Поэтому Джерек Карнелиан совершил сделку без промедления и исчез со своим новым сокровищем, оставив Монгрова с Юшариспом одних, глубоко погруженных в беседу. Миссис Амелия Андервуд была обездвижена для облегчения транспортировки и перенесена на борт локомотива. Ее не стали просвещать, что с нынешнего момента она – собственность Джерека. Джерек, не теряя времени, вернулся на свое ранчо и поместил миссис Андервуд там, где в древние времена, по его сведениям, находилась самая важная часть дома – подвал. Подвал, в котором стояли резервуары с вином, располагался над спальней и был самым красивым помещением в доме, и Карнелиану показалось, что миссис Андервуд понравится проснуться в такой приятной обстановке. Уложив ее на софу в центре комнаты. Джерек отрегулировал силовые поля так, чтобы она проснулась только на следующее утро. Затем он отправился в свою спальню, горя нетерпением подготовиться к встрече с любимой и полный решимости произвести на сей раз достойное впечатление. До утра было много времени, и Джерек, не спеша, стал обдумывать все детали своего одеяния. Разочаровавшись в попытках доставить ей удовольствие, подражая в нарядах, он решил на сей раз одеться просто. Он сотворил свое голографическое изображение и стал примерять на него костюмы разных эпох. После долгих часов поиска Джерек остановился на одежде в белых тонах, соответственно окрасив волосы, брови и губы. Он решил, что теперь полностью вписывается в интерьер подвала, особенно если наденет только одно кольцо с крупным красным рубином, который будет напоминать каплю свежей крови. Джерек подумал, не захочет ли миссис Андервуд переодеться, ведь ее серый костюм, белая блузка и соломенная шляпа приняли довольно помятый и блеклый вид. Он решил смоделировать для нее несколько нарядов и преподнести ей, как дар влюбленного. Будучи знакомым с литературой этого периода, он знал, что дары являются неотъемлемой частью ритуала ухаживания и должны встретить теплый прием. Но нужен и другой подарок, простой, но изящный. И музыка. Должна играть музыка… После всех приготовлений осталось время, и Джерек решил поразмыслить о недавних событиях. Миледи Шарлотина, конечно, захочет отомстить ему за этот трюк с кражей ее экспоната. Досадно, если она решит действовать немедленно, и это помешает его ухаживаниям. Джерек надеялся сохранить обман в тайне и не ожидал, что Шарлотина так быстро раскусит его. Увы, но теперь изменить что-либо было не в его силах. Оставалось надеяться, что ее месть не будет чересчур изощренной. Джерек возлежал на белых перинах и нетерпеливо ждал утра, намеренно не ускоряя ход времени, так как знал, что подобная вещь могла быть опасной для девушки. Он обдумывал сложившуюся ситуацию. Ему понравилась миссис Андервуд, и он с нежностью стал вспоминать ее красивую кожу и миловидное личико. Она казалась неглупой, и это тоже было приятно. Если она полюбит его завтра (что несомненно), то можно будет начать много новых игр – «ссоры», «самоубийство», «прогулки под луной», «неизбежные прощания» и так далее. Все зависело от того, насколько воображение Амелии сможет подыгрывать ему. И будущий возлюбленный уснул с умиротворенной улыбкой на красивых губах. Утром Джерек Карнелиан отправился ухаживать. В полупрозрачном белом костюме, с курчавыми белоснежными волосами, с улыбающимися белыми губами, с длинными лиственными растениями в одной руке и с серебряным «чемоданом», полным одежды, в другой, он остановился перед дверью из натурального шелка, натянутого на золоченую раму, и дважды топнул об пол вместо стука (механизм стука в дверь остался для него одной из непознанных тайн). Заиграла музыка. Это было сочинение композитора по имени Чарльз Ив, близкого по времени к девятнадцатому столетию, чьи бесхитростные сельские мелодии, должны, по разумению Джерека, порадовать миссис Андервуд. Для начала он сделал музыку тихой, почти неслышной. – Миссис Амелия Андервуд, – сказал он. – Вы слышали мой стук? Или топанье? – Вы заблуждаетесь, любезный, если думаете, что сможете довести меня до сумасшествия! Я покончу с собой! О, чудовище! – Вы попробовали завтрак? Я надеюсь, он пришелся вам по вкусу? – миролюбиво поинтересовался Джерек. Тон ее стал насмешливым, хотя напряжение и оставалось. – Я никогда не злоупотребляла сырым мясом, сэр. Чистое виски также не соответствует моим представлениям о напитке, приличествующем леди. В другой тюрьме я получу, по меньшей мере, ту пищу, о которой попрошу. – Тогда просите! Просите, миссис Амелия Андервуд! Мне казалось, что я сделал все правильно. Возможно, в вашем районе мира в то время обычаи были другими… Все же вы должны сказать мне… – Если мне суждено оставаться здесь пленницей, сэр, – сказала она твердо, – я прошу на завтрак два ломтика чуть обжаренного хлеба, несоленое масло, чеширский сыр, мармелад, кофе и, пожалуй, два вареных яйца. Он сделал движение красным кольцом. – Готово. Запрограммировано. Ее голос продолжал: – На ленч… ну, это будет по-разному. Но так как климат здесь довольно теплый, уместно употреблять в пищу различные салаты. Но никаких томатов. Они дурно влияют на цвет лица. По воскресеньям – жареная говядина, баранина или свинина. Оленина в охотничий сезон, хотя, говорят, она горячит кровь, и временами – дичь. Бараньи котлеты. Вареные телячьи щечки и прочее. Я составлю вам список. И йоркширский мясной пудинг, приправленный соусом из редьки. С бараниной лучше пряный соус. А со свининой – яблочный. Лук желательно подавать к телятине, хотя я предпочитаю определенные специи к телятине, которые позже внесу в список. На обед… – Миссис Амелия Андервуд! – закричал в смятении Джерек Карнелиан. – У вас будет любая пища, какую вы пожелаете. Вы будете есть черепах и индюков, сердца и ляжки, подливы и соусы, рыбу и дичь. Любые звери будут созданы и умрут, чтобы усладить ваш вкус! Клянусь вам, что вы больше никогда не будете завтракать сырым мясом и виски. Миссис Андервуд, можно мне войти сейчас? В ее голосе прозвучала нотка удивления. – Вы же тюремщик, сэр. В вашей воле делать все, что вам угодно. Музыка Чарльза Ива стала громче, и Джерек, преодолевая шелк двери, споткнулся и подпрыгнул не в том стиле, какой допустим при ухаживании. Сквозь грохот ударника он услышал причитания Амелии. – Кошмар! Кошмар! – Вам не нравится музыка? Она из вашего времени. – Это какофония. – Понятно, – он щелкнул пальцами, и музыка стихла. Джерек повернулся и поправил шелк на раме. Затем, с низким поклоном, который смело мог конкурировать с поклонами Лор да Джеггеда, он явил себя во всей снежной белизне. На девушке был все тот же наряд, разве что шляпка не красовалась на ее прелестной головке, а лежала на аккуратно прибранной софе. Миссис Андервуд стояла рядом с резервуаром, полным искрящегося шампанского, сложив на груди руки и неодобрительно поджав губы. Она действительно была самым красивым представителем Homo Sapiens, какое когда-либо мог лицезреть Джерек, за исключением, конечно, самого себя. Маленькие пряди каштановых волос ниспадали на ее личико. Серо-зеленые глаза излучали спокойствие. Плечи были расправлены, спина прямая, маленькие сапожки сдвинуты вместе. Он не смог бы вообразить и создать ничего подобного. – Ну, сэр? – произнесла она резким, холодным тоном. – Я предполагаю, что вы похитили меня. Вы в силах справиться с моим телом, но никогда не получите мою душу. Он почти не услышал слов, упиваясь ее красотой. Но потом, спохватившись, Джерек предложил ей пучок шоколадок. Она отказалась. – Наркотики, – отрезала она, – никогда не попадут в мой рот по доброй воле! – Это шоколад, – объяснил Джерек. – Шоколад, – она пригляделась более внимательно, казалось, заколебавшись на мгновение, но затем ее лицо снова приняло решительное выражение. – Я не приму их! Наконец, он был вынужден положить шоколад на кушетку и сесть рядом с ее шляпой. Он распылил чемодан, содержимое которого посыпалось на пол. – А что это? – Одежда, – ответилДжерек, – для вас. Красивая? Она поглядела вниз на обилие цвета и разнообразие материала. Ткани мерцали. Их красоту нельзя было отрицать, и все цвета шли ей. Губы миссис Андервуд раскрылись, щеки покраснели. Но она поддела платье сапожком. – Это неподходящая одежда для хорошо воспитанной леди, – сказала она. – Вы должны убрать ее. Он был разочарован, он был обижен. – Но?… Убрать? – Мое платье вполне меня устраивает. Правда, ему требуется небольшая чистка, но в этой… в этой клетке я нигде не могла обнаружить даже кусочка мыла! – Вам не надоела, миссис Амелия Андервуд, та одежда, что вы носите? – Нет! Вот если бы я имела кусочек мыла… – Хорошо, – он сделал жест кольцом. Одежда у ее ног поднялась в воздух, изменила форму и цвет и поплыла к кушетке. Теперь рядом с шоколадом и шляпой лежали в ряд шесть одинаковых наборов, укомплектованных даже соломенными шляпами, каждый в точности повторял ее одеяние. – Благодарю вас, – она стала чуть снисходительней, – это намного лучше, – она нахмурилась. – Может быть, в конце концов, вы и не такой. Обрадованный, что сделал нечто, заслуживающее ее одобрение, Джерек решил объявить о своих чувствах. Он аккуратно встал на одно колено, приложил обе руки к сердцу и поднял глаза к небесам с видом обожания. – Миссис Амелия Андервуд! Она испуганно отшатнулась назад и натолкнулась на резервуар с вином, в котором что-то булькнуло. – Я Джерек Карнелиан, – продолжал он. – Рожденный женщиной. Я люблю вас! – О, боже! – Я люблю вас больше, чем люблю жизнь, достоинство или богов! – продолжал Джерек. – Я буду любить вас, пока коровы не вернутся домой, пока свиньи не перестанут летать! Я, Джерек… – Мистер Карнелиан, – она была ошеломлена столь оригинальным проявлением его страсти. Он спросил себя: «Почему? В конце концов, в ее времени все только и делали, что заявляли о своей любви к кому-либо!» – Встаньте, сэр, пожалуйста. Я порядочная женщина. Мне кажется, вы что-то недопонимаете, не учитываете мое положение в обществе. Мистер Карнелиан, я замужем. Домашняя хозяйка из Бромли, графство Кент, близ Лондона. Кстати, сэр я хотела бы кое-что посетить… – Домашняя хозяйка! – он умоляюще посмотрел на нее, ожидая объяснения. – Сэр, подчеркиваю… я хотела бы кое-что посетить… Он был озадачен. – Я не понимаю! – Мистер Карнелиан, я уже намекала, старалась коснуться довольно деликатно вопроса, касающегося… э… некоторых пустяков. Я не смогла их обнаружить. – Пустяков? Все еще стоя на одном колене, Джерек обвел глазами подвал, огромные емкости с вином, саркофаги, чучела аллигаторов и медведей. – Боюсь, я все равно не понимаю… – Мистер Карнелиан, – она кашлянула и опустила глаза к полу. – Ванная… – Но миссис Амелия Андервуд, если вы хотите принять ванну, здесь есть емкость с вином. Или, может быть, вы предпочитаете молоко. Она произнесла более настойчиво, хотя смущение еще не до конца покинуло ее. – Я не хочу принимать ванну, мистер Карнелиан. Я имею в виду, – она набрала в грудь воздуха, – ватерклозет. Осененный догадкой, Джерек счастливо улыбнулся. – Мне кажется я понял, о чем идет речь! Я наполню клозет водой, и мы займемся там любовью. О, в воде! В жидкости! Ее губы задрожали, и она чуть не расплакалась. Неужели он снова попал впросак? Джерек беспомощно посмотрел на нее. – Я люблю вас, – сказал он. Она закрыла лицо руками, ее плечи дрогнули. – Вы, должно быть, меня ужасно ненавидите, – приглушенным голосом сказала она. – Если делаете вид, что не понимаете моих слов… О, как вы ненавидите меня! – Нет! – вскричал он. – Нет! Я люблю вас! Я исполню любое ваше желание! Сделаю все, что в моих силах! Просто вы, миссис Амелия Андервуд, непонятно выражаетесь, – он развел руками. – Посмотрите, я старался создать это жилище в соответствии с вашим периодом времени, и я буду счастлив сделать то, о чем вы просите, если только вы объясните подробнее, – он выдержал паузу. Она опустила руки и внимательно взглянула на него. – Лучше нарисуйте! – предложил Джерек. Она снова закрыла лицо руками, и плечи ее задрожали опять. Потребовалось некоторое время, прежде чем он выяснил, что же она хочет. Сильно покраснев, миссис Андервуд объяснила ему срывающимся нервным голосом. Джерек засмеялся от удовольствия, когда, наконец, понял. – Подобные функции давно упразднены у нас Я могу слегка переделать ваше тело, и вам не понадобится… – Я не позволю вмешиваться! – Как вам будет угодно! Наконец, он изготовил ей «ванную», в соответствии с ее инструкциями, и поместил ее в одном из углов подвала. Затем, по ее дальнейшим требованиям, он отгородил ее стенками, добавив от себя красный мрамор и зеленый малахит. Как только он закончил, миссис Андервуд вбежала внутрь и захлопнула дверь, напомнив ему маленькое нервное животное. Джерек подумал, что стенки дают ей ощущение безопасности, которого не может обеспечить подвал. Сколько она будет оставаться в ванной за мраморной дверью, отказываясь видеть его? Может быть, вечность! Как те экземпляры питомника, которые могут существовать только в своей среде обитания? Джерек ждал, как ему показалось, очень долго. Затем он сдался и позвал ее. – Миссис Амелия? Ее голос резко прозвучал с другой стороны двери. – Мистер Карнелиан, у вас нет такта! Я могла ошибиться в ваших намерениях, но не могу игнорировать тот факт, что ваши манеры оставляют желать лучшего. – О! – обиделся Джерек. – Миссис Амелия. Я известен своим тактом. Я знаменит этим. Я был рожден! – Так же, как и я, мистер Карнелиан. Я не могу понять, почему вы так подчеркиваете это. Мне вспоминаются дикари, которых мы, по несчастью, встретили, когда мой отец, мать и я сама находились в Южной Америке. У них имелась похожая фраза… – Они были бестактны? – Это не имеет значения. Скажем так, что ваш такт очень отличается от такта настоящего английского джентльмена. Секунду… Раздался клокочущий шум воды, и она, наконец, появилась. Миссис Андервуд выглядела немного свежее, но бросила на Джерека взгляд загадочного неудовольствия. Джерек Карнелиан никогда не испытывал прежде ничего похожего на подавленность, но он начал понимать значение этого слова, когда вздохнул в расстройстве по поводу своей неспособности общаться с миссис Андервуд. Она все время неправильно истолковывала его намерения. Сообразно его первоначальным расчетам, они должны были в этот момент находиться на кушетке, обмениваясь поцелуями и заверяя друг друга в вечной любви. Все происходящее крайне обескуражило его. Он решил повторить попытку. – Я хочу заняться любовью с вами, – сказал он рассудительно. – Разве это плохо? Я уверен, что люди только этим и занимались в ваше время. Я знаю это. Все, что я изучал, доказывает, что это было главной приметой века! – Мы говорим не об этом, мистер Карнелиан. Есть такая вещь, мистер Карнелиан, как институт христианского брака, – ее тон, смягчаясь, приобрел наставническую нотку. – Та любовь, о которой вы говорите, освящена обществом, только если двое участвующих в ней людей женаты. Я верю, что вы не чудовище, как я, признаюсь, подумала поначалу. Вы в своем роде вели себя почти по-джентльменски. Значит, я должна сделать вывод, что вы введены в заблуждение. Если вы хотите научиться соответствующему поведению, я не буду мешать вам. Я сделаю все, что смогу, чтобы научить вас цивилизованным манерам. – Да, – он просветлел. – Христианский брак? Значит, мы должны сделать это. – Вы хотите жениться на мне? – она холодно рассмеялась. – Да, – он снова начал опускаться на колени. – Я уже замужем, – объяснила она, – за мистером Андервудом. – Я тоже замужем. – повторил он, не в состоянии вникнуть в смысл ее последнего заявления. – Тогда мы не можем пожениться, мистер Карнелиан, – она снова засмеялась. – Люди уже женатые, должны оставаться женатыми на тех людях, на которых они… э… уже женаты. На ком вы женаты? – О, – он улыбнулся и пожал плечами. – Я был женат на многих людях. На моей матери, конечно, Железной Орхидее. Она была первой, потому что была ближе всех. Затем вторая, если не первая, Миссис Кристия, Неистощимая Наложница. И Миледи Шарлотина. И Вертер де Гете, но с ним насколько помню, я бывал очень мало. И чаще всего на Лорде Джеггеде, моем старом друге. И, возможно, сотне других людей. – На… сотне других? – она обмякла и присела на кушетку. – Сотне? – она бросила на него странный взгляд. – Вы меня правильно поняли, мистер Карнелиан, когда я говорила о замужестве? Ваша мать? И еще – мужчина? О боже! – Я уверен, что правильно понял вас. Женитьба означает занятие любовью, не так ли? – он сделал паузу, пытаясь вспомнить более прямую фразу, наконец, вспомнив ее, выпалил. – Сексуальная любовь! Она откинулась назад на кушетку, закрыв глаза изящной ручкой и прошептала. – Пожалуйста, мистер Карнелиан! Прекратите сейчас же! Я не хочу больше слышать! Оставьте меня, прошу вас! – Вы не хотите выйти за меня замуж сейчас? – Убирайтесь! – она показала дрожащим пальцем на дверь. – Немедленно убирайтесь!.. Он терпеливо повторил. – Я люблю вас, миссис Амелия Андервуд. Я принес шоколад, одежду. Я сделал… э… ванную для вас, обманывал и лгал из-за вас, – он замолк, затем продолжил извиняющимся тоном. – Я признаю, что еще не потерял уважения своих друзей, но постараюсь добиться этого каким-то образом. Что еще я должен сделать, миссис Амелия Андервуд? Она немного успокоилась и, глубоко вздохнув, сказала, уставившись в пространство. – В конце концов, это не ваша вина. И мой долг помочь вам. Вы ведь просили о помощи. Это будет титанический труд, но я жила в Индии, посещала Америку. Мало осталось уголков империи, о которых я не имею представления. Мой отец был миссионером. Он посвятил свою жизнь обучению дикарей христианской добродетели. – Добродетель? – он на коленях подполз вперед. – Добродетель! Вот оно! Вы научите меня добродетели, миссис Амелия Андервуд. Она вздохнула, ее взгляд стал рассеянным, и, казалось, она была на грани обморока. – Как может истинный христианин отвергнуть такую просьбу? Но сейчас вы должны оставить меня, мистер Карнелиан, а я обдумаю как следует эту ситуацию. Он снова поднялся на ноги. – Как вам будет угодно. Скажите, когда я научусь добродетели… я смогу стать вашим возлюбленным? Она устало махнула рукой. – Если бы у вас нашелся флакон с нюхательной солью, сейчас он мне не помешал бы. – Он будет у нас! Только объясните, что это такое! – Хорошо, позже я объясню вам и это. А сейчас оставьте меня одну. Будем считать, что вы пытались всего лишь подшутить над моим положением, и пока у меня нет доказательств противоположного… – она упала на кушетку, сохранив достаточно сил, чтобы прикрыть лодыжку краем платья. – Я вернусь позже, – пообещал Джерек. – И мы начнем занятия! – Позже… – выдохнула она, – да… позже… Он шагнул сквозь шуршащий шелк двери, затем повернулся и поклонился низким галантным поклоном. Миссис Андервуд посмотрела на него отсутствующим взглядом и покачала головой. – Мое милое сердце, – пробормотал Джерек. Она нащупала часы на цепочке, висевшие у нее на поясе, открыла крышку и посмотрела. – Я жду ленч, – сказала она, – ровно в час. Почти с радостью Джерек вернулся в свою спальню и бросился на перину. Ухаживания, надо признать, оказались более трудным и сложным делом, чем он сперва представлял. Хотя, по крайней мере, он скоро узнает тайну загадочной добродетели и хоть что-то приобретет с появлением миссис Андервуд. Его раздумья были прерваны голосом Лор да Джеггеда Канари, звучащим прямо в ухе. – Могу я поговорить с тобой, мой славный Джерек? Ты не занят чем-нибудь другим? Я вижу, ты у себя. – Конечно, – Джерек встал. – Я сейчас присоединюсь к вам. Джереку было приятно появление Джеггеда. Ему хотелось поделиться с другом всем, что произошло между ним и его возлюбленной. Он хотел спросить совета у Лорда Канари о том, что следует предпринять дальше. В конце концов, все это было идеей Лорда… Джерек скользнул вниз, в гостиную, и обнаружил там своего друга, который прислонился к стволу фикуса с фруктом в руке, который ел почти механически. Одет он был в голубой туман, обволакивающий его тело и поднимающийся над головой в виде своеобразного капюшона. – Доброе утро, Джерек, – сказал он, распыляя фрукт. – Как твоя новая гостья? – Сначала она никак не реагировала на меня, – пожаловался Джерек, – она, похоже, посчитала меня несимпатичным. Но, кажется, я сломал ее сопротивление. Недолго осталось ждать того, когда занавес поднимется для основного действия. – Она отвечает тебе взаимностью? – Я думаю, она начинает любить меня. Во всяком случае, начинает проявлять интерес к моей персоне. – Так ты еще не занимался с ней любовью? – Пока нет. Оказывается, существует больше ритуалов, чем вы или я могли вообразить. И все совершенно различные. Как это интересно! – Ты все еще любишь ее? – О, конечно! Отчаянно! Я не из тех, кто отступает, Лорд Джеггед! Надеюсь, вы это знаете? – Прости, если я чем-то задел тебя, – улыбнулся Лорд Канари, показав острые золотые зубы. – Если она не полюбит меня, то история из драмы или трагедии превратится в фарс, дурную комедию, не стоящую стараний! – Да, да! – согласился Джеггед. Но улыбка его оставалась странной. – Она научит меня обычаям своей расы, подготовит к основному ритуалу, который называется «женитьба». Потом, без сомнения, она признается мне в своей любви. – И сколько на все это потребуется времени? – О, по меньшей мере день или два, – беспечно ответил Джерек. – Может быть, неделя, – он вспомнил о недавних событиях. – А как Миледи Шарлотина восприняла мое, гм, преступление? – Исключительно хорошо, – Лорд Джеггед зашагал по комнате, оставляя после себя маленькие облачка голубого тумана. – Она поклялась в… как же это… «вендетте». Сейчас она обдумывает самую лучшую форму мести. Какие возможности! Ты никогда даже не сможешь представить некоторые из них. Возмездие, мой дорогой друг, настигнет тебя в самый неподходящий момент! И оно будет жестоким! Оно будет соответствовать твоей вине! Но Джерек почти не слушал. – Шарлотина весьма изобретательна, – рассеянно сказал он. – Весьма. – Но она ведь не станет мстить немедленно? – Думаю, нет. – Хорошо. Мне хотелось бы располагать временем, чтобы завершить ритуал с миссис Амелией Андервуд прежде, чем я начну думать о мести Миледи Шарлотины. – Я понимаю, – Лорд поднял свою изящную голову и посмотрел сквозь стену. – Ты немного пренебрегаешь декорациями. Твои стада бизонов давно не перемещались, а попугаи совсем исчезли. И это, насколько я понимаю, соответствует поведению человека, охваченного страстью. – Пора убрать этот закат, он мне наскучил, – Джерек повернул кольцо, и ландшафт внезапно наполнился обычным светом от тусклого старого Солнца. Это не совсем отвечало вкусу Джерека, но он больше не обращал внимание на такие мелочи. – Почему бы и нет? А кто это явился к тебе в гости? Неуклюжий и тяжелый орнитоптер хлопал невпопад огромными металлическими крыльями. Машина бухнулась на лужайку рядом с локомотивом Джерека. Из нее выбралась маленькая фигура. – Неужели, – воскликнул Лорд Канари, – это сам Браннарт Морфейл? Вероятно, по распоряжению Миледи Шарлотины. Открывать военные действия? – Надеюсь, нет. Джерек смотрел, как горбатый ученый проковылял вверх по ступенькам веранды: Браннарт Морфейл любил подчеркивать свою хромоту. Он доплелся до двери и поприветствовал друзей. – Здравствуйте, Браннарт, – сказал Лорд Джеггед, шагнув навстречу и хлопая ученого по горбу. – Что заставило вас покинуть лабораторию? – Надеюсь, ты помнишь, Джерек, – осведомился хронолог, – что обещал продемонстрировать мне сегодня машину времени. Новую машину. Джерек совершенно забыл свой поспешный и беглый разговор с Морфейлом предыдущим вечером. – Машину времени? – повторил он, пытаясь вспомнить то, что говорил. – О да, – Джерек решил признаться во всем. – Сожалею, но это была шутка, мой дорогой Морфейл. Шутка с Миледи Шарлотиной. Вы разве не слышали об этом? – Нет. Она казалась раздраженной, когда вернулась, но я вскоре уехал, потому что она потеряла интерес ко мне. Какая жалость! – Браннарт пригладил пальцами разноцветную бороду, приняв известие достаточно философски. – Я надеялся… – Конечно, вы надеялись, моя скрюченная потрепанная любовь, – вступил в разговор Лорд Джеггед. – Но у Джерека здесь есть хроностранник. – Пилтдаунский человек? – Не совсем. Чуть более поздний экземпляр. Девятнадцатый век, не так ли, Джерек? – сказал Лорд Джеггед. – Леди. – Англия девятнадцатого века, – сказал Джерек чуточку педантично, кичась своим знанием периода. Но Браннарт был разочарован. – Прибыла в обычной машине, да? Девятнадцатого, двадцатого или двадцать первого века? Модель с большими колесами, не так ли? – Полагаю, да, – Джерек не подумал спросить ее. – Я не видел машину. Вы видели, Лорд Джеггед? Лорд Джеггед пожал плечами и покачал головой. – Когда она прибыла? – спросил старый Морфейл. – Два или три дня назад. – Никакой машины не было зарегистрировано в это время, – решительно заявил Морфейл. – Ни одной, уже довольно много времени. Ты должен узнать у своей странницы, Джерек, какого рода аппарат она использовала. Может статься – это важно. В конце концов, ты можешь помочь мне. Новый вид машины времени, а может даже и не машины. Загадка, а? Его глаза блестели. – Буду рад, если смогу чем-нибудь помочь. Я уже и так зря заставил вас приехать сюда, Браннарт. Все, что вас интересует, я выясню как можно скорее. – Ты очень добр, Джерек, – Браннарт Морфейл сделал паузу. – Я позволю себе откланяться… – Вы останетесь на ленч? – Э, нет. И меня ждут эксперименты. Еду, – он помахал худосочной рукой. – До свидания, мои дорогие! Они проводили его до орнитоптера. Агрегат с лязганьем, после нескольких неудачных попыток, поднялся в небо. Джерек помахал ему вслед, а Лорд Джеггед в это время оглянулся на дом с задумчивым видом. – Загадка… – пробормотал Джеггед. – Загадка? – Джерек повернулся к нему. – Тоже загадка, – сказал Лорд Джеггед и подмигнул Джереку. Джерек подмигнул в ответ, слегка недоумевая.Глава девятая НЕМНОГО ИДИЛЛИИ, НЕМНОГО ТРАГЕДИИ
Шли дни. Миледи Шарлотина не мстила. Лорд Джеггед Канари куда-то исчез по своим делам и больше не посещал Джерека. Монгров и Юшарисп стали хорошими друзьями, и Монгров был полон решимости помочь Юшариспу построить новый космический корабль. Железная Орхидея увлеклась Вертером де Гете и предпочитала теперь черные тона. Даже свою кровь она превратила в черную жидкость. А спала она в большом черном гробу, который стоял в огромной усыпальнице из черного мрамора и эбонита. Казалось, наступил сезон мрака, трагедии и отчаяния. Все уже знали о безнадежной страсти Джерека к миссис Амелии Андервуд. Он положил начало новой моде, которой мир следовал с большим рвением, нежели моде на флаги. По иронии судьбы эта мода не коснулась только Джерека Карнелиана и миссис Амелии Андервуд. Они довольно приятно проводили время вместе с того момента, как Джерек смирился с тем, что ему пока не суждено достичь вершины своей любви, а миссис Амелия Андервуд утвердилась во мнении, что он, по ее выражению, больше похож на заблудшего набоба, чем на коварного кесаря. Джерек точно не знал, о чем идет речь, но был доволен положением дел, раз это означало, что Амелия не возражала сносить его общество в часы своего бодрствования. Они катались по окрестностям на локомотиве, в конной упряжке и даже на лодке по реке, сделанной Джереком для нее. Она научила его искусству езды на велосипеде, и они колесили по лиственному лесу, сотворенному точно по ее инструкциям, взяв с собой упакованный завтрак и термос с чаем. Амелия пообвыклась и согласилась время от времени менять наряды, все же оставаясь приверженной моде своего времени. Джерек после нескольких неудачных попыток сделал фисгармонию, и Амелия пела гимны, а иногда патриотические песни, вроде «Барабана Дрейка» или «Англия, славься в веках». Иногда она исполняла сентиментальные песенки, такие, как «Приходи в сад», «Если бы только эти губы могли сказать». Один раз Джерек взял в руки банджо и попытался аккомпанировать ей, но миссис Амелии Андервуд не понравился этот инструмент, и он прекратил это занятие. Солнце освещало плечи, широкополую шляпку на каштановых волосах и летнее платье из белого хлопка, украшенное зелеными кружевами, когда они поднимались на лодке в воздух и парили над миром, глядя на горы Монгрова или гейзеры Герцога Квинского, мрачную гробницу Вертера де Гете, душистый океан Миссис Кристии. Они держались подальше от озера Билли Кид – владений Миледи Шарлотины. Не было смысла испытывать судьбу. Джерек построил шлюзы и озера по описаниям английских озер, но, казалось, ничто не могло обрадовать ее. – Вы склонны к излишеству, мистер Карнелиан, – заметила Амелия, изучая копию озера Тилмери, расстилающуюся на пятьдесят миль во всех направлениях, – хотя мерцающие отблески на воде получились совсем недурно, – добавила она примирительно и вздохнула. – Нет, это не годится. Простите. И он уничтожил озеро. Это было одно из многих разочарований. Она продолжала учить Джерека пониманию смысла добродетели, надеясь, что он познает оную на примерах ее собственного мира. Однажды, вспомнив просьбу Браннарта Морфейла, он улучил момент и поинтересовался, как она попала в его мир. – Я была похищена, – потупилась она. – Похищена? Кем? Каким-нибудь путешественником во времени? – Я спала в собственной постели, когда однажды ночью фигура в плаще с поднятым капюшоном появилась в комнате. Я пыталась закричать, но не смогла, мой голос отказался повиноваться. Незнакомец приказал мне одеться. Я и не подумала послушаться! Он настаивал, особенно упирая на то, чтобы я надела одежду, «типичную для моего периода». Я отказалась, но неожиданно одежда оказалась на мне, а я против воли встала на ноги. Он схватил меня, и я потеряла сознание. Все закружилось, а затем я очутилась в вашем мире, блуждая и пытаясь найти, наконец, какого-нибудь представителя власти, предпочтительно британского консула. Я понимаю сейчас, конечно, что у вас нет британского консула. Вот почему я, естественно, не верю, что когда-нибудь вернусь на Коллинз-стрит 23, Бромли. – «Бромли» звучит очень романтично, – сказал Джерек. – Я понимаю причину вашей грусти. – Романтично? Бромли?… – она умолкла, съежившись на бархатном сидении локомотива, нарочито разглядывая проплывающий внизу ландшафт. – И все-таки я очень хотела бы вернуться домой, мистер Карнелиан. – Боюсь, что это невозможно, – ответил он. – По техническим причинам? – она никогда прежде не настаивала на подробностях, Джерек всегда умудрялся внушить ей впечатление, что это, скорее, «совершенно невозможно», чем просто «очень трудно» – передвигаться в обратном направлении во Времени. – Да, – сказал он. – По техническим причинам. – А мы не можем нанести визит тому ученому, про которого вы говорили? Браннарт Морфейл, кажется? И порасспросить его как следует? Джерек не хотел потерять ее. Он прирос к ней «душой и телом», или, по крайней мере, он думал так, не будучи уверен, что означает «душой и телом». Он покачал головой, подчеркивая сказанное. К тому же налицо были все признаки более теплого отношения к нему. Вполне возможно, что она скоро станет его возлюбленной, поэтому Джерек не желал, чтобы она отвлекалась на посторонние вещи. – Это бессмысленно, – сказал он. – Особенно потому, что вы, насколько я могу судить, прибыли сюда не в машине времени. Я никогда не слыхал о подобном раньше. Я считал, что всегда требуется машина времени. Ах, если бы узнать, кто ваш похититель! Этот человек, конечно, был не из моего времени? – Я припоминаю, что он был в капюшоне. – Неужели? – Все его тело было скрыто плащом. Может быть, это даже был не мужчина. Этим человеком могла быть женщина. Или зверь с какой-нибудь планеты, подобный тем, что содержатся в ваших питомниках. – Все это очень странно. Может быть, – мечтательно протянул Джерек, – это был посланец Судьбы, соединивший сквозь столетия Двух Бессмертных Влюбленных, – он наклонился к ней и взял за руку. – Наконец мы вместе… Она отдернула руку. – Мистер Карнелиан! Я думала, мы согласились прекратить подобную чепуху! Он вздохнул: – Я могу скрывать свои чувства, миссис Амелия Андервуд, но я не могу изгнать их. Они во мне и днем, и ночью. Она одарила его мягкой улыбкой. – Я уверена, это только слепое увлечение, мистер Карнелиан. Я должна признать, что нахожу вас довольно привлекательным, в общем смысле, конечно, но не забывайте – я замужем за мистером Андервудом. – Но мистер Андервуд находится за миллионы лет отсюда. – Это не имеет значения. – Нет, имеет. Мистер Андервуд мертв, вы вдова, – он успел подробно расспросить ее об этих обычаях. – А вдова может снова выйти замуж! – находчиво добавил он. – Я только условно вдова, мистер Карнелиан, вы это хорошо знаете, – она строго смотрела на него, пока он мрачно топтался на подножке и чуть не выпал из локомотива от возбуждения. – Мой долг всегда помнить о возможности найти средство вернуться в собственный век. – Эффект Морфейла, – сказал он. – Вы не сможете остаться в прошлом, посетив хоть раз будущее. Во всяком случае, надолго. Я не знаю, почему. Не знает и Морфейл. Примиритесь с тем, миссис Амелия Андервуд, что вам придется провести здесь вечность. Поэтому проведите ее со мной! – Мистер Карнелиан, ни слова больше! Он пригорюнился, стоя на дальнем конце подножки. – Я согласилась коротать время в вашем обществе потому, что считала своим долгом просветить вас в какой-то мере в вопросах морали. И я продолжу эти попытки. Тем не менее, если через какое-то время я удостоверюсь, что вы безнадежны, я махну на вас рукой и откажусь встречаться с вами. Неважно, буду я вашей пленницей или нет. Джерек вздохнул. – Хорошо, миссис Амелия Андервуд. Но месяц назад вы обещали объяснить, что такое добродетель, и как я могу постичь ее. И до сих пор не сделали этого. – Вы заблуждаетесь, я все объяснила, – ответила она. Ее спина стала чуть прямее. – Но если вы настаиваете… И она рассказывала ему историю сэра Персифаля, пока золотой, украшенный драгоценными камнями локомотив пыхтел в небе, оставляя позади величественные облака серебристо-голубого дыма. И так шло время, пока миссис Амелия Андервуд и Джерек Карнелиан глубоко не привязались друг к другу – так, словно они были женаты (Джерек, с его чрезвычайными способностями к адаптации, не придавал этой условности значения), к тому же они были равны. Даже миссис Амелия Андервуд вынуждена была признать некоторые преимущества такой ситуации. У нее не было никаких обязанностей, кроме воспитания Джерека и ведения домашнего хозяйства. И ей не нужно было сдерживаться, когда хотелось сделать остроумное замечание, ведь Джерек не требовал того внимания и уважения, которые были необходимы мистеру Андервуду в их бытность в Бромли. И миссис Амелия Андервуд в этом несносном декадентском веке впервые ощутила, что такое свобода. Свобода от страха, от обязанностей, от неприятных эмоций. А Джерек был любезным и проявлял огромное желание доставить ей удовольствие, искренне ценя ее характер и красоту. Ей иногда хотелось, чтобы все было по-другому, чтобы она и в самом деле была вдовой. Или незамужней девицей в своем собственном времени, где она и Джерек могли бы обвенчаться в настоящей церкви с настоящим священником. Когда появлялись такие мысли, она решительно гнала их от себя. Ее долгом было помнить, что однажды она может вернуться на Коллинз-Стрит, 23, Бромли, причем желательно весной 1896 года, 4 апреля в три часа утра (именно тогда, когда ее похитили), дабы никто не смог узнать, что произошло. Она хорошо понимала, что никто не поверит правде, и что догадки будут гораздо более обыденными, не сулящими ничего хорошего, нежели та действительность, в которой она находилась. Оттого момент ее возращения выглядел не слишком многообещающим. Но как бы то ни было – долг есть долг. Порой она затруднялась вспомнить, в чем состоял ее долг в том мире или в этом… этом загнившем рае. Действительно, трудно цепляться за все моральные идеалы, когда все говорило об отсутствии сатаны, ибо здесь не существовало войн, болезней, печалей (разве только по заказу) и даже самой смерти. И все же сатана должен был присутствовать и здесь. Конечно, вспомнила она, он обитает в сексуальном поведении этих людей. Но каким-то образом оно уже не шокировало ее так сильно, как раньше, хотя именно это было доказательством морального падения. Но все-таки эти люди были не хуже тех невинных дикарей, дикарей острова Паутау в Южных морях, где она провела два года, помогая отцу после смерти матери. Эти дикари тоже проживали дни, не ведая о грехе. Миссис Амелия Андервуд, будучи рассудительной женщиной, иногда спрашивала себя, правильно ли она делает, обучая Джерека Карнелиана смыслу добродетели. Не то, чтобы он выказывал какую-то особую леность в усвоении ее уроков. Были случаи, когда она едва подавляла соблазн махнуть рукой на все это и просто наслаждаться жизнью, будто находясь на каникулах. Это была приятная мысль. И мистер Карнелиан был прав в одном – все ее друзья, все родственники и, естественно, мистер Андервуд, все ее общество в целом, даже сама Британская империя, что само по себе было невероятно, мертвы уже миллион лет, превратились в прах и забыты. Даже мистер Карнелиан был вынужден собирать по кусочкам сведения о ее мире из нескольких сохранившихся записей и ссылок на другие, более поздние по отношению к девятнадцатому веку столетия. А ведь мистер Карнелиан считался крупнейшим специалистом планеты по данному периоду. Это удручало ее. Подавленность сделала ее отчаянной. Отчаяние привело к вызову. Вызов заставил ее отвергнуть определенные ценности, когда-то казавшиеся незыблимыми и прочно укоренившимися в ее натуре. Подобные чувства, к счастью, возникали, как правило, ночью, когда она находилась в своей постели, далеко от мистера Карнелиана. Джерек Карнелиан часто слышал, что миссис Амелия Андервуд поет, готовясь ко сну, и, стараясь подражать предмету своей любви, сам просыпался в некоторой тревоге. Тревога переходила в размышления. Ему хотелось бы верить, что миссис Андервуд зовет его – подобно древним любовным песням Фабричных Сирен, которые когда-то заманивали мужчин в рабство, на пластмассовые шахты. К счастью, мелодии и слова были ему знакомы, и, по его разумению, полностью отличались от брачных песен. Он вздыхал и ворочался, пытаясь заснуть снова, в то время как ее высокий сладкий голос снова и снова повторял: «Иисус осеняет нас чистым ясным светом»… Мало-помалу ранчо Джерека видоизменялось. Миссис Андервуд делала предложения: что-то подправить здесь, кое-что изменить там – и так до тех пор, пока дом не стал похож на старый добрый викторианский особняк. Джереку комнаты казались чересчур маленькими и загроможденными, и ему было неуютно в них. Он находил пищу, которую они оба ели по ее настоянию, скудной и тяжелой. Маленькие готические башенки, разные деревянные балкончики и фронтончики красного кирпича ранили его эстетические чувства больше, чем грандиозные творения Герцога Квинского. Однажды, когда они вкушали ленч из холодной говядины, чеснока, огурцов и вареного картофеля, он отложил неудобный нож и вилку, которыми по ее настоянию пользовался, и сказал: – Миссис Амелия Андервуд, я люблю вас, я знаю, что сделаю все для вас… – Мистер Карнелиан, мы же договорились… Он поднял руку. – Но я признаюсь вам, моя прекрасная леди, что этот интерьер, который вы заставили меня создать, становится чуточку скучным, если не сказать больше. Вам не хочется перемен? – Перемен? Но, сэр, это хороший дом. Вы сами говорили мне, что хотите, чтобы я жила, как раньше. Этот дом очень походит на наш особняк в Бромли. Он несколько больше и, пожалуй, обставлен получше, но я не могла противится этому. Я не вижу смысла не использовать возможность приобрести пару вещей, которые я не могла иметь в моей… моей прошлой жизни. С глубоким вздохом он уставился на камин, загроможденный маленькими фарфоровыми безделушками, пальмы в горшках, столы, буфет, толстые ковры, темные обои, газовые фонари, тусклые занавески и окна, картины и кружевное украшение с письменами эпохи миссис Андервуд, читаеммыми как: «Добродетель – сама себе награда». – Мало цвета, – сказал он, – мало света, мало пространства. – Дом очень уютный, он совсем как настоящий, – настаивала она. – Угу, – он вернул свое внимание плоти животного и неаппетитным овощам, напоминающим угощения Монгрова. – Вы говорили раньше, что восхищаетесь им, – продолжала она рассудительно. Ее озадачило его недовольство. – Я и восхищался, – пробормотал Джерек. – А потом? – Потом это прошло, – сказал он, – уже давно прошло. Я думал, что это просто одно из многих жилищ, которые вы будете выбирать. – О, – она нахмурилась. – Гм… Видите ли, мистер Карнелиан, мы верим в устойчивость, в постоянство. В прочные, неизменные вещи, – она добавила извиняющимся тоном. – Мы убеждены, что наш образ жизни должен быть всегда неизменным. Улучшающимся, конечно же, но, по сути дела, все равно неизменным. Нам мнилось, что настало время, когда все люди будут жить так, как живем мы, и мы верили, что каждый человек хочет жить, как мы, – она отложила нож и вилку и дотронулась до его плеча. – Теперь я понимаю, что мы заблуждались. Но я полагала, что вы хотели бы иметь старую добрую английскую усадьбу, которая поможет вам обрести себя, – она сняла свою руку с его плеча и выпрямилась в кресле. – Должна сказать, что чувствую себя немного виноватой. Забыла про непостоянство вашего века ко всему незабываемому… – она обвела рукой, показывая комнату и обстановку. Джерек улыбнулся и встал. – Нет-нет. Если это то, чего вы хотите, тогда, конечно, и я хочу этого. Потребуется время, чтобы привыкнуть, но… – он замялся, не зная, что еще добавить. – Вы несчастливы, мистер Карнелиан, – сказала она мягко. – Я прежде не думала, что когда-нибудь увижу вас таким. – Я никогда прежде не был несчастным, – сказал он. – Это новый опыт. Хотя несчастья Монгрова кажутся более впечатляющими, чем мои. Ладно, это то, чего я хотел. Все это, несомненно, входит в понятие любви… вероятно, и добродетели тоже. – Если вы хотите вернуть меня назад к Монгрову… – начала она с достоинством в голосе. – Нет. О нет! Я слишком сильно люблю вас! На этот раз она не выказала решительного возражения его словам. – Хорошо, – заявила она, – попробуем развеселить вас. Идемте, – она протянула руку. Джерек взял ее ладонь, взволнованно гадая, что будет дальше. Она провела его в гостиную, где стояла фисгармония. – Может быть, какой-нибудь жизнерадостный гимн? – предложила она. – Как насчет «Все вокруг прекрасно и сияет»? Она пригладила юбку прежде, чем сесть на стул. – Вы уже знаете слова? Джерек не мог не вспомнить слов. Он слышал их слишком часто, как ночью, так и днем. Он покорно кивнул. Миссис Андервуд извлекла несколько вступительных аккордов и начала петь. Он попытался присоединиться к ней, но слова застревали в горле. Удивленный, Джерек приложил ладонь к шее. Голос миссис Андервуд умолк, она прекратила играть и повернулась кругом на стуле, и посмотрела на своего печального покровителя… – Как насчет прогулки? – спросила она. Джерек прочистил горло, пытаясь улыбнуться. – Прогулка? – Короткая энергичная ходьба, мистер Карнелиан, часто оказывает успокоивающее воздействие. – Хорошо. – Я принесу свою шляпку. Спустя несколько мгновений она присоединилась к нему. Прилегающий к дому участок земли теперь стал немного меньше. Прерию, бизонов, кавалеристов и попугаев заменили аккуратные ряды кустиков, некоторые из них были подстрижены в орнаментальные фигуры и цветочные куртины, где росли розы разных сортов, включая и тот, сине-зеленого цвета, который она позволила ему изобрести для нее. Она закрыла последнюю калитку и взяла его под руку. – Куда мы пойдем? – спросила она. Снова прикосновение ее руки взволновало его и, что удивительно, перешло в чувство крайнего отчаяния. – Куда хотите, – ответил Джерек. Они пошли по мощеной дорожке к воротам, вышли из них и пошли по тропинке, пролегающей между двумя невысокими зелеными холмами, вдоль которой стояло несколько газовых фонарей. Он чувствовал ее запах, теплоту ее руки. Джерек печально взглянул на ее умиротворенное лицо, ее пышные волосы, красивое летнее платье, приятную фигурку и отвернулся со сдавленным рыданием. – О, перестаньте, мистер Карнелиан. Вы скоро почувствуете себя лучше, подышав этим свежим сельским воздухом. Он позволил ей вести себя по дороге, пока они не очутились между рядами высоких кипарисов, обрамляющих поля, на которых паслись коровы и овцы под присмотром механических пастухов, неотличимых даже вблизи от настоящих людей. – Я должна сказать, – прощебетала Амелия, – что этот ландшафт – такое же произведение искусства, как и любое полотно кисти Рейнолдса. Я почти верю, что нахожусь в моей любимой деревушке, в графстве Кент. Комплимент не утишил его печаль. Они пересекли маленький горбатый мостик над журчащим потоком и вошли в прохладную зеленую рощицу из дубов и вязов. Там были даже грачи, гнездящиеся на деревьях, и рыжие белки, скачущие по ветвям. Но Джерек с трудом волочил ноги. Его шаги становились все медленнее и медленнее, и, в конце концов, он совсем остановился. Амелия нежно посмотрела на него. Сам не зная почему, Джерек неловко обнял ее и не ощутил сопротивления. По мере того, как их лица приближались друг к другу, уныние стало исчезать, а присутствие духа постепенно возвращаться. В тот самый момент, когда их губы соприкоснулись, он испытал экстаз, доселе ему неведомый. – Мой дорогой… – сказала миссис Амелия Андервуд. Она дрожала, прижимаясь к нему своим совершенным телом и обнимая его. – Мой дорогой Джерек… Вдруг она исчезла. Джерек остался один. На секунду он опешил, затем оглянулся вокруг и закричал. – Миссис Амелия Андервуд! Миссис Амелия! Но все, что осталось от нее – это лес с дубами и вязами, грачами и белками. Он поднялся в воздух и устремился к маленькому домику. Полы его пальто развевались. Шляпа слетела с головы. Джерек пробежал сквозь тесно обставленные мебелью комнаты. Он звал ее, но она не отвечала. Он знал, что она не ответит. Все, что он создал для нее: столы, диваны, кресла, кровати, буфеты – казалось, дразнило его горе и усиливало страдания. И, в конце концов, он рухнул на траву в садике и зарыдал, так как понял, что произошло. Лорд Джеггед! Лорд Джеггед говорил Джереку, что все произойдет именно так. Но Джерек изменился. Он больше не мог оценить утонченность шутки. Хотя любой, кроме Джерека, рассматривал бы это как шутку, и вдобавок, весьма неглупую. Свершилась месть Миледи Шарлотины!Глава десятая ВЫПОЛНЕНИЕ СОКРОВЕННОГО ЖЕЛАНИЯ
Немного оправившись от потрясения, Джерек понял, что Миледи Шарлотина надежно спрятала Амелию, и начал раздумывать, как ему спасти свою возлюбленную. Его первым побуждением было отправиться к Миледи Шарлотине и потребовать возвращения миссис Андервуд, но он понял, что это лишено всякого смысла. Миледи Шарлотина лишь посмеялась бы над ним. Нет, лучше навестить Лорда Джеггеда и посоветоваться, как вести себя дальше. Джерек задумался, почему хозяин замка Канари не навещал его с той поры, как в доме поселилась миссис Андервуд. Возможно, Лорд Джеггед оставался в стороне из-за своей щепетильности. С тяжелым сердцем Джерек Карнелиан побрел к строению, где по настоянию миссис Андервуд держал свой локомотив. Дверь здания открывалась ключом, который всегда хранила миссис Андервуд, и он не мог найти его. Ему не хотелось распылять здание: ведь она болезненно относилась к соблюдению правил частной собственности своего времени, и ключи и замки были главными атрибутами, несмотря на свое очевидное уродство. К тому же теперь, с исчезновением миссис Андервуд, все, относящееся к ней, стало для Джерека святым. Если он никогда не обретет ее вновь, этот маленький домик будет вечно стоять на этом самом месте. Все же дверь ему пришлось распылить, но после того, как локомотив был выведен наружу, он скрупулезно ее восстановил. Во время полета к Лорду Джеггеду его мучила мысль, что Миледи Шарлотина может не увидеть ничего особенного в том, чтобы уничтожить миссис Амелию Андервуд окончательно и бесповоротно. Вряд ли она зайдет так далеко, но кто знает? В таком случае миссис Андервуд исчезнет навечно. Ее нельзя будет воскресить, если каждый атом ее тела будет расщеплен и развеян по поверхности Земли. Джерек старался гнать от себя такие мысли, чувствуя, что если он будет так казнить себя, то впадет в транс безысходного отчаяния, где и останется навсегда. Локомотив наконец достиг замка Лорда Джеггеда в форме причудливой птичьей клетки ярко-желтого цвета высотой в скромные семьдесят пять футов и начал делать круги над ним, пока Джерек посылал сообщение своему другу. – Лорд Джеггед? Вы примете посетителя? Это я, Джерек Карнелиан, у меня дело неотложной важности. Ответа не последовало. Локомотив опустился по спирали ниже. Птичья клетка содержала множество различных «ящиков», поддерживаемых антигравитационными лучами. Каждый ящик был комнатой, используемой Лордом Джеггедом. Он мог находиться в любой из них. Но какую бы комнату он ни занимал, он должен был услышать голос гостя. – Лорд Джеггед? Стало ясно, что хозяина нет дома. Возникло ощущение заброшенности, словно замком не пользовались несколько месяцев. Может, с Лордом Канари что-нибудь случилось, скажем, Миледи Шарлотина отомстила ему за участие в краже Юшариспа? О, это было бы дикостью! Джерек развернул локомотив на север, к гробнице Вертера де Гете, боясь, что его мать, Железная Орхидея, тоже исчезла. Но гробница Вертера – огромная статуя его самого, спящая мертвым сном вместе сгигантским ангелом смерти, парящим над ней, и несколько оплакивающих женщин на коленях рядом – все еще была занята черной парой. Фактически они находились на крыше, у ног склонившейся статуи, но сперва Джерек не заметил их, любовники почти сливались с черным мрамором гробницы. – Джерек, печаль моя! – голос матери звучал почти оживленно. Вертер злобно засверкал глазами и стал грызть ногти на пальцах, пока локомотив причаливал к плоскому парапету, внося ослепительный контраст цвета в окружающий ландшафт. – Джерек, какая плохая новость привела тебя сюда? – Мать вытащила черный носовой платок и вытерла черные слезы с черных щек. – Новости и в самом деле плохие, – ответил Джерек. Он чувствовал себя уязвленным. То, что происходило в данный момент, казалось ему насмешкой над его истинным горем. – Миссис Амелию Андервуд похитили, может быть, уничтожили, и почти определенно причиной этого явилась Миледи Шарлотина. – Это месть! – выдохнула Железная Орхидея. Ее черные глаза расширились, и в них заблестел интерес. – О! О! Горе мне! Великий Джерек наказан! Дом Карнелиана разорен! О! О! – И она добавила спокойным тоном. – Как тебе нравятся мои стенания? – Это серьезно, мама, подарившая мне драгоценную жизнь… – Только для того, чтобы ты страдал от мучений! Я знаю! Увы! – Что мне делать, мама? – Что ты можешь сделать? – вмешался Вертер де Гете. – Ты обречен, Карнелиан. Ты проклят. Судьба избрала тебя, как и меня, для вечных страданий, – он издал горький смешок. – Примирись с этим мрачным фактом. Выхода нет. Тебе было дано несколько мгновений блаженства, чтобы ты страдал более глубоко, когда предмет твоей страсти у тебя отняли. – Откуда вы знаете о том, что произошло? – насторожился Джерек. Вертер смутился: – Ну, Миледи Шарлотина недели две назад кое-что доверила мне… – Дьявол! – зарычал Джерек. – И вы не предупредили меня? – О неизбежном? Что хорошего могло из этого получиться? – ответил Вертер язвительно. – Мы все знаем, что случается с пророками! Никто не любит слушать правду! – Болтун! – Джерек повернулся к Железной Орхидее. – И ты, мама, знала, что замышляла Миледи Шарлотина? – Не полностью, мое несчастье. Она просто сказала что-то о выполнении сокровенного желания миссис Андервуд. – И что же это, как не жизнь рядом со мной? – Она не объяснила, – Железная Орхидея приложила платочек к глазам. – Она боялась, несомненно, что я выдам ее план тебе. Ведь мы одной крови, мой плод. Джерек мрачно сказал: – Я вижу, мне ничего не остается, как обратиться к самой Миледи Шарлотине! – Разве ты не хотел этого? – сказал Вертер, сидя на выступе над их головами, прислонившись черной спиной к мраморному колену статуи и меланхолически покачивая ногами. – Разве ты не навлекал катастрофу, ухаживая за миссис Андервуд? Я, кажется, припоминаю некий план… – Молчите… Я люблю миссис Андервуд больше, чем люблю себя! – Джерек, – сказала рассудительно его мать, – ты слишком далеко заходишь в этих вещах. – Так и есть! Я глубоко люблю. Я всецело поглощен любовью. Моя страсть управляет мною. Это больше не игра! – Больше не игра?! – Даже Вертер де Гете был шокирован. – Прощайте, черные предатели… Будьте вы прокляты! – И Джерек кинулся назад к своему локомотиву, потянул свисток и устремился на воздушной машине высоко в темное безрадостное небо. – Не борись со своей участью, Джерек! – услышал он крик Вертера, – Не грози кулаком неумолимой Судьбе! Не проси милости у богов, ибо они глухи и слепы! Джерек не ответил. Вместо этого он горько всхлипнул и пробормотал Ее имя. И звук этого имени снова зажег болезненный гнев в его душе. Он прибыл к озеру Билли Кид, сверкающему в солнечном свете, с мыслью уничтожить озеро и Миледи Шарлотину, и ее питомник, и ее пещеры – уничтожить весь земной шар, если будет необходимо. Но он сдерживал свою ярость, так как миссис Амелия Андервуд могла сейчас находиться пленницей в одной из этих пещер. Джерек оставил локомотив парящим в нескольких дюймах над поверхностью воды и прошел через Водные Ворота в пещеру со стенами из золота, а потолком и полом из полированного серебра. Миледи Шарлотина ждала его, зная, что он придет. – Я знала, что ты придешь, моя жертва, – промурлыкала она. На ней было надето платье лилового цвета, сквозь которое просвечивало ее мягкое розовое тело. Кучу светлых волос на голове поддерживал обруч из платины и жемчуга. Лицо было спокойным, даже суровым и гордым. Глаза сузились от удовольствия, когда она улыбнулась Джереку. Миледи Шарлотина лежала на кушетке, покрытой белой тканью и усыпанной белыми розами. Все розы были белыми, кроме одной в ее руке. Это была роза сине-зеленого цвета. Пока Джерек приближался к ней, она открыла рот, белыми зубками отщипнула лепесток от розы и разорвала этот лепесток на крошечные кусочки, упавшие на ее подбородок и грудь. – Я знала, что ты придешь. Джерек вытянул руки, его пальцы стали когтями, и он шел на негнувшихся ногах, не отрывая от нее взгляда, и схватил бы ее за шею, если бы его не остановил наспех изготовленный ею силовой барьер, который он, однако, мог без труда разрушить. Джерек остановился. – Вы должны быть лишены ума, очарования, красоты и грации, – сказал он резко. Она опешила. – Джерек, не слишком ли это сильно! – Я сказал то, что думаю! – Джерек! Твой юмор! Где он? Где? Я считала, тебя позабавит такой поворот событий. Я все подготовила так тщательно! У нее был вид разочарованной хозяйки, устроившей такую же вечеринку, как и Герцог Квинский, которую никто, конечно, не забыл, и не забудет, пока Герцог Квинский не умудрится придумать нечто еще более нелепое. – Да. И все знали этот план, все, кроме меня и миссис Амелии Андервуд. – Но так и было задумано! – Миледи Шарлотина, вы зашли слишком далеко! Где миссис Амелия Андервуд? Верните мне ее сейчас же! – Нет! – А что еще вы сделали с Лордом Джеггедом? Его нет в замке. – Я ничего не знаю о Лорде Джеггеде. Я не видела его несколько месяцев. Джерек, что с тобой? Я ожидала какой-нибудь контратаки. Это она и есть? В таком случае, это – жалко… – Железная Орхидея сказала, что вы удовлетворили сокровенное желание миссис Андервуд. Что вы имели в виду? – Джерек! Ты становишься скучным. Это необычно. Давай лучше займемся любовью! – Вы неприятны мне! – Неприятна? Как интересно! Давай… – Что вы имели в виду? – То, что сказала. Я выполнила ее самое сокровенное желание. – Откуда вы знаете ее самое сокровенное желание? – Ну, я позволила себе маленького соглядатая, механическую блоху, чтобы подслушивать ваши беседы. Скоро стало очевидным, чего она хочет больше всего. И поэтому я стала ждать подходящего момента… и сделала это! – Сделала что? Что сделала? – Джерек, ты потерял рассудок! Не можешь догадаться? Он нахмурился. – Смерть. Она однажды сказала, что предпочтет смерть… – Нет, нет. – Тогда что? – О, каким ты стал скучным! Давай займемся любовью, а потом… – Ревность. Теперь я понял. Вы сами любите меня. Вы уничтожили миссис Андервуд потому, что думаете, что тогда я полюблю вас. Что же, мадам, позвольте сказать вам… – Ревность? Уничтожила? Любовь? Джерек, ты здорово вошел в роль, как я вижу. Ты очень убедителен. Но, боюсь, чего-то не хватает – какого-то намека на иронию, которая придает роли немного больше выразительности. – Вы должны сказать мне, Миледи Шарлотина, что вы сделали с миссис Амелией Андервуд. Она зевнула: – Скажите мне! – Безумный дорогой Джерек, я удовлетворила… – Что вы с ней сделали? – Ну, хорошо! Браннарт! Из одного из туннелей показался горбатый ученый и захромал по зеркальному полу, с удовольствием глядя вниз на свое отражение. – Какое отношение к этому имеет Браннарт Морфейл? – насторожился Джерек. – Я использовала его помощь. А ему нужно было поставить свой опыт. – Опыт? – в ужасе прошептал Карнелиан. – Привет, Джерек. Ну, она сейчас уже там. Надеюсь, все прошло успешно. Если так, передо мной открываются новые пути исследований. Меня все еще интересует, как она появилась здесь без машины времени. – Что вы сделали, Браннарт? – Что? Конечно я отправил ее назад в ее собственное время. В одной из машин из моей коллекции. Если все идет хорошо, она сейчас уже должна быть там. 4 апреля 1896 года, 3 часа утра, Бромли, Англия. Темпоральные координаты не доставляют хлопот, но возможны незначительные пространственные отклонения. Поэтому, если ничего не произойдет на обратном пути – вы знаете, хро-ношторм или что-нибудь еще – она… – Вы имеете в виду… вы послали ее назад… О! – Джерек в отчаянии опустился на колени. – Ее сокровенное желание, – сказала Миледи Шарлотина. – Теперь ты оценил мрачную иронию этого, мой трагический Джерек? Видишь, как я отплатила тебе? Не правда ли, очаровательная вендетта? И какая интересная! Джерек с трудом собрался с силами. Он поднялся, содрогаясь, на ноги и посмотрел мимо улыбающейся Миледи Шарлотины на Браннарта Морфейла, который, как обычно, не обращал внимания на подобные мелочи. – Браннарт, вы должны послать меня туда же! Я должен последовать за ней! Она любит меня! Она уже почти призналась в этой любви!.. – Я знала… Я знала, – Миледи Шарлотина захлопала в ладоши. – …когда была отнята у меня! Я должен, должен найти ее, через миллион лет, если потребуется, и перенести ее назад! Вы должны помочь мне, Браннарт! – О, – Миледи Шарлотина хихикнула от восхищения, – теперь я понимаю тебя, Джерек. Конечно, так и должно быть! Браннарт, вы должны помочь ему! – Но эффект Морфейла, – Браннарт Морфейл умоляюще протянул к ней руки. – Маловероятно, что прошлое примет миссис Андервуд обратно. Оно может вытолкнуть ее в ближайшее будущее; да так скорее всего и будет. Но Джерека оно пошлет назад в будущее. Может быть – в никуда. Гости из будущего не могут существовать в прошлом. Движение открыто только в одну сторону. В этом суть эффекта Морфейла. – Вы сделаете, как я прошу, Браннарт, – сказал Джерек. – Вы пошлете меня назад, в 1896-й год. – Ты сможешь пробыть только несколько секунд в прошлом, прежде чем оно выплюнет тебя, – медленно сказал Браннарт Морфейл. – Джерек, послушай добрый совет… – Вы сделаете, что он просит, Браннарт, – сказала Миледи Шарлотина, отбрасывая в сторону сине-зеленую розу. – Разве вы не можете оценить драму, когда она предстает перед вами? Что еще делать Джереку? Это неизбежно! Браннарт снова начал возражать, ворча про себя. Но Миледи Шарлотина подплыла к нему и что-то прошептала на ухо. Ворчание прекратилось, и он кивнул. – Я сделаю, что ты хочешь, Джерек, хотя это, судя по всему, пустая трата времени.Глава одиннадцатая ПОИСКИ БРОМЛИ
Машина времени представляла собой сферу, заполненную молочного цвета жидкостью, в которой, по замыслу авторов, должен плавать путешественник, защищенный прорезиненным костюмом, и дышать через маску, прикрепленную к шлангу, ведущему внутрь стенки машины. Джерек Карнелиан смотрел на нее с нескрываемым отвращением. Машина была довольно маленькая и весьма потертая. На металлических боках виднелись пятна, похожие на ожоги. – Откуда она взялась, Браннарт? – он потянулся в своем резиновом скафандре. – О, она может быть почти отовсюду. При расшифровке внутренней отсчетной системы я пришел к заключению, что эта машина появилась за два тысячелетия до того периода, который ты хочешь посетить. Вот почему я выбрал ее для тебя. Я полагаю, это может слегка увеличить шансы. Браннарт Морфейл праздно расхаживал по лаборатории, загроможденной приборами и техникой из различных эпох времени, большая часть приспособлений находилась в различных стадиях обветшалости. Самые немудренные из них были изобретениями самого Браннарта Морфейла. – Она надежна? – Джерек осторожно дотронулся до шершавого металла сферы. Некоторые трещины казались сваренными заново. – Эта машина отслужила свое. – Надежна? Какая машина времени надежна? – Браннарт решительно махнул рукой. – Только ты, Джерек, хочешь путешествовать в ней. Я пытался отговорить тебя от этой глупой затеи. – Браннарт, у вас нет воображения. Нет чувства драмы, – сверкнув глазами, упрекнула его Миледи Шарлотина, сидящая на диване в углу лаборатории. Глубоко вздохнув, Джерек вскарабкался в машину и проверил дыхательный аппарат, перед погружением в жидкость. – Ты мученик, Джерек Карнелиан! – вздохнула Миледи Шарлотина. – Ты можешь погибнуть во славу исследований времени. Тебя запомнят как героя, если ты погибнешь – о, потрясающий странник во времени, Казанова хрононавтов, распятый на кресте Времени! Ее кушетка устремилась вперед, и она, протянув руку, втиснула в его правую ладонь переводильную пилюлю, а в левую – смятую сине-зеленую розу. – Я намерен спасти ее, Миледи Шарлотина, привезти ее обратно, – его голос немного дрожал. – Конечно, ты сделаешь это! Ты – великолепный спасатель, Джерек! – Благодарю, – несмотря на то, что он держался с ней довольно натянуто, она, казалось, забыла, что из-за нее он вынужден отправиться в это опасное путешествие. Ее кушетка отплыла в сторону. Шарлотина замахала зеленым носовым платочком. – Вперед, сквозь время, мой герой! Сквозь дни и месяцы, века и тысячелетия. Вы самый преданный из любовников – так Гитлер спешил к Еве, Оскар к Боши! О, о! О, как я тронута. Это так экстазно! Джерек хмуро посмотрел на нее, но взял ее подарки с собой, втискиваясь глубже в сферу. Люк закрылся над его головой. Он плавал в неуютной невесомости, готовясь к прыжку в поток времени. Сквозь жидкость он видел приборы загадочных, непривычных очертаний, плавающие, казалось, как и он, в жидкости. Приборы были безмолвны, циферблаты на них – неподвижны. Вдруг одна из шкал замерцала. Появилось и исчезло несколько зеленых и красных цифр. Внутри Джерека все сжалось. Он почувствовал, как напряглось его тело. Затем все снова успокоилось. Казалось, машина перевернулась. Джерек слышал свое дыхание, шумящее в трубке. Машина была такой неудобной, резиновый костюм – настолько тесным, что он почти пожалел, что отказался от другой машины. Затем та же самая шкала замерцала снова. Зеленый и красный. Потом ожили еще две шкалы. Голубой и желтый. Быстро замигал белый свет. Скорость мигания все увеличивалась и увеличивалась. Он услышал клокочущий звук. Толчок. Жидкость, в которой он плавал, все темнела и темнела. Джерек почувствовал боль. Раньше он никогда не испытывал физической боли. Он закричал, но голос звучал глухо. Он был в пути. Джерек потерял сознание. Он очнулся. Его ужасно трясло. Жидкость вытекала из трещины в сфере. Его тело швыряло из стороны в сторону, а сфера в это время катилась по земле, Джерек открыл глаза, потом закрыл и застонал. Зашипел воздух, когда трубку выдернуло из его рта. Пластиковая обивка машины стала оседать, Джерек лежал на груде металла. Он застонал. Его тело было покрыто ушибами. Итак, он страдал сейчас. В этом не было сомнений. Несмотря ни на что, он обрадовался, что познал «страдание». Новоиспеченный путешественник во времени посмотрел на зазубренную трещину в сфере и подумал, что придется искать другую машину времени, которая выдержит трудности пути при возвращении обратно. Если он находится в 1896 году и сможет найти миссис Амелию (Джерек полагал, что она сама прибыла благополучно), он пойдет к изобретателю и возьмет машину взаймы. Ему думалось, что это наименьшая из трудностей, с которыми ему придется столкнуться. Джерек, попытался шевельнуться и вскрикнул, так как то, что было относительно тупой болью, превратилось в пульсирующую агонию. Боль медленно утихала. Он задрожал, почувствовав холодный воздух, ворвавшийся через расколотую стенку машины времени. За трещиной была темнота. Джерек, поморщившись, встал и стащил костюм. Под костюмом были помятые пиджак и брюки розового цвета. Он убедился, что Кольца Власти по-прежнему находятся на пальцах. Это были кольца с рубином, изумрудом и бриллиантом. Воздух пах очень странно и был плотным. Джерек закашлялся. Он протиснулся ближе к трещине и шагнул сквозь нее в темноту. Вокруг клубилась белая мгла. Машина, казалось, приземлилась на какую-то сделанную человеком поверхность и находилась на самом краю рядом с водным пространством. Ряд каменных ступенек вел вверх сквозь туман, и, вероятно, машина скатилась вниз по ступенькам, прежде чем расколоться. Высоко над головой он различил тусклый свет, желтый и мерцающий. Джерек дрожал от холода. Он не ожидал этого. Если он находится в Лондоне эпохи Рассвета, тогда почему весь город покинут? Джерек представлял его набитым людьми – миллионами людей, так как это был период Множественных культур. Он решил пойти на свет и поковылял по ступенькам. Лицо его покрыла влага. Он коснулся лица и понял, что это такое, издав непроизвольный вздох облегчения. Туман… Это был туман. Ободренный, он стал подниматься по ступенькам, и, в конце концов, ударился плечом о металлическую колонну. На верхушке колонны горела газовая лампа, очень похожая на те, что миссис Амелия Андервуд попросила сделать для нее. По крайней мере, он находился в правильном периоде времени. Браннарт Морфейл был излишне пессимистичен. Но было ли это правильное место? Был ли это Бромли? Джерек посмотрел назад сквозь туман и широкую гладь темной воды. Миссис Андервуд много рассказывала о Бромли, но она никогда не упоминала большую реку. Все же это мог быть Лондон, находящийся рядом с Бромли, и если так, то река была Темзой. Что-то прогудело из глубины тумана. Он услышал тонкий крик вдалеке. Затем снова наступило молчание. Затем Джерек вступил в узкий переулок с неровной, покрытой булыжником поверхностью. По обеим стенам переулка виднелись наклеенные на темные кирпичные стены листы бумаги. Джерек заметил, что листы покрывали письмена, но, конечно, он не мог прочитать ничего. Даже переводильные пилюли, действующие хитрым способом на мозговые клетки, не могли научить его понимать написанное. Он понял, что все еще держит в руке ту пилюлю, которую дала ему Миледи Шарлотина. Он должен подождать, пока не встретит кого-нибудь, прежде чем проглотить ее. В другой руке все еще была зажата смятая роза – все, что пока оставалось у него от миссис Амелии. Переулок вывел на улицу, и здесь туман был прозрачнее. Джерек мог видеть на несколько ярдов в обоих направлениях, так как там было несколько ламп, чей желтый свет силился разогнать туман. Но все-таки место казалось покинутым, когда он шел по улице, завороженно разглядывая дом за домом. В некоторых из домов светились огоньки, проглядывающие из-за штор окон. Пару раз он слышал приглушенный голос. По каким-то причинам, значит, население было внутри домов. Несомненно, в свое время он найдет ответ на эту тайну. Следующая улица, до которой он дошел, была еще шире, и дома здесь были выше, хотя и в том же ветхом состоянии. В их окнах на первых этажах были выставлены на обозрение разнообразные предметы искусства: швейные машины, откидные катки для белья, сковородки, кровати и кресла, инструменты и одежда. Джерек останавливался каждую минуту, чтобы заглянуть в эти окна. Владельцы вправе были так гордо демонстрировать эти вещи. Какое изобилие! Правда, некоторые из предметов были меньше и немного тусклее, чем он себе представлял, а многие, конечно, он не мог узнать совсем. Тем не менее, когда он и миссис Андервуд вернутся, он сможет сделать ей гораздо больше вещей, чтобы доставить удовольствие и напомнить о доме. Свет впереди стал ярче. Он увидел фигуры людей, услышал голоса. Джерек кинулся через улицу, и в этот момент в его ушах зазвучал странный клацающий шум пополам с дребезжанием. Он услышал крик и поглядев влево, увидел черного зверя, появившегося из тумана. Глаза зверя вращались, ноздри раздувались. – Лошадь! – воскликнул Джерек. – Это лошадь! Он сам частенько изготавливал лошадей, но теперь он видел, что они отличались от оригинала. Снова крик. Джерек закричал в ответ, приветствуя и размахивая руками. Лошадь тащила за собой что-то похожее на высокую черную повозку, на вершине которой сидел мужчина с кнутом. Он что-то кричал Джереку. Лошадь встала на задние ноги, и Джереку показалось, что она машет ему в ответ передними ногами. Странно быть приветствуемым животным в первый день своего прибытия в эпоху. Затем Джерек почувствовал, как что-то ударило его по голове, он упал на мостовую и откатился в сторону. Лошадь с повозкой прогрохотала мимо и исчезла в тумане. Джерек попытался встать, но не смог, почувствовав слабость… Он застонал. К нему бежали люди оттуда, где был яркий свет. Ему, наконец, удалось встать на четвереньки, он увидел стоящих вокруг него мужчин и женщин, одетых в одежду данного периода, хмурых и серьезных. Они угрюмо молчали. – Э-э-э – Джерек понял, что они не поймут его. – Извините. Если вы подождете секундочку… Они загомонили все разом. Джерек проглотил переводильную пилюлю. – Иностранец какой-то. Наверное, русский. С одного из их кораблей… – услышал он слова одного мужчины. – Вы можете сказать, что со мной произошло? – растерянно спросил его Джерек. Мужчина удивленно сдвинул свой помятый котелок на затылок. – Я мог бы поклясться, что вы иностранец! – Вас сбил этот чертов кэб – вот что случилось с вами, – сказал другой мужчина, не скрывая своего удовлетворения. Он поправил большую кепку, нависающую над его глазами, сунул руки в карман брюк и веско продолжил. – Потому что вы махали руками на лошадь и заставили ее встать на дыбы, не так ли? – Ага? И копыто ударило мне в голову, да? – Да! – ответил первый мужчина тоном поздравления, словно Джерек прошел трудное испытание. Одна из женщин помогла Джереку встать на ноги. Она была очень сморщенной, лицо ее было покрыто множеством красок, и от нее чем-то сильно пахло, но Джерек не узнавал запах. Она сладострастно улыбнулась ему. Джерек из вежливости столь же сладострастно улыбнулся в ответ. – Благодарю, – сказал он. – Все в порядке, милый, – сказала леди. – Мне кажется, я сама хватила лишку, – она засмеялась резким прерывистым смехом и, обращаясь ко всем собравшимся, продолжала. – Мы все, наверное, такие в два часа утра. Я могу сказать, что ты неплохо погулял, – она оглядела Джерека с головы до ног. – Был на вечеринке, а? Или, может, ты артист, а? – она дернула бедрами, заставив качнуться свою длинную юбку. – Простите, – сказал Джерек. – Я не… – Ладно, ладно, – перебила она, влепив мокрый поцелуй в его влажную и выпачканную щеку. – Хочешь теплую постельку на ночь? – она прижалась к нему всем телом, пробормотав ему на ухо. – Я с тебя много не возьму. Ты мне нравишься. – Вы хотите заняться любовью со мной? – удивился Джерек. – Я польщен. Вы очень сморщены, поэтому мне было бы интересно… но, к несчастью… тем не менее… я… – Сопляк, – она отодвинулась от него. – Сосунок. Противный пьяница, – она пошла прочь под улюлюканье толпы. – Кажется, я обидел ее, – сказал Джерек. – Я не хотел… – Неплохое достижение, – хмыкнул один из зевак в желтом пиджаке, грязно-коричневых брюках и такой же грязно-коричневой шляпе с узенькими полями. У него было тонкое живое лицо. Он подмигнул Джереку. – Эта Элен далеко не первой свежести. Мысли о возрасте никогда реально не приходили в голову Джереку, хотя он знал, что это была своего рода примета данного периода. Сейчас, увидев этих людей, он понял, что все они находятся в различных стадиях увядания. Вдруг его осенило, что они не намеренно портили свои черты подобным образом, а просто у них не было выбора. – Ладно уж, – промолвил другой мужчина. – Будете моим гостем. Поняв, что он чуть не обидел еще одного человека, Джерек быстро извинился, и, решив сменить тему, кивнул в сторону источника света. – Что это такое? – Это кофейня Чарли, – ответил тот же хват в желтом пиджаке. – Она для нашего района центр, навроде Пикадилли для Лондона. Вы лучше выпейте чашку, пока рядом. Кофе Чарли или убьет вас, или вылечит, это уж как пить дать. Он подвел Джерека к большому фургону, открытому с одного бока, над которым был натянут навес, где уже толпились посетители. Внутри фургона стояло несколько больших металлических резервуаров (явно горячих), множество фарфоровых посудин, а также разнообразные предметы, которые, вероятно, являлись какого-то рода пищей. Большой усатый багроволицый мужчина, с закатанными по локоть рукавами в полосатом переднике на груди стоял в фургоне и раздавал людям емкости с жидкостью, которую он наливал из металлического контейнера. – Я заплачу, – великодушно предложил молодой мужчина. – Заплатите? – повторил Джерек, наблюдая, как его новый приятель протянул какие-то маленькие коричневые диски усатому и в обмен получил две фарфоровые штучки с ручками. Он протянул одну Джереку, который чуть не уронил ее, так обожгло пальцы. Он осторожно глотнул жидкость. Она была горькой и сладкой в одно и то же время. Это ему понравилось. Мужчина толкнул локтем Джерека в бок. – Вы хорошо говорите по-английски! – Благодарю, – ответил Джерек, – хотя это не проявление моего таланта, а действие переводильных пилюль. – Чего-чего? – переспросил его покровитель без особого интереса. Его мысли, казалось, были где-то в другом месте, пока он пил кофе и рассеянно поглядывал вокруг. – Очень хорошо. Я бы принял вас за английского джентельмена, если бы не одежда, конечно, и тот язык, на котором вы говорили сразу после того, как вас сбила лошадь. Сошли с корабля, не так ли? – его глаза сузились. – В некотором смысле, – ответил Джерек. Не было смысла упоминать машину времени, ведь мужчина захочет повести его к изобретателю прямо сейчас, чтобы помочь достать новую. А главной целью Джерека в настоящий момент было найти миссис Амелию. – Это 1896-й год? – спросил Джерек. – Что? Год? Да, конечно, 4 апреля 1896 года. А что, у вас другой календарь там, откуда вы приехали? Джерек улыбнулся: – Более или менее. Люди начали расходиться, прощаясь друг с другом. – Доброй ночи, Нюхальщик, – сказала одна из женщин молодому мужчине. – Пока, Мэгги. – Вас зовут Нюхальщик? – спросил Джерек. – Точно, прозвище, – мужчина поднял указательный палец правой руки и приложил его поперек к носу. Он подмигнул. – А как тебя кличут, приятель? – Мое имя Джерек Карнелиан. – Я буду звать тебя Джерри, а? Хорошо? – Конечно. Я буду звать вас Нюхальщик. – Ну, насчет этого… – мужчина поставил пустую чашку на прилавок. – Может быть, ты будешь звать меня мистер Вайн… что, между прочим, является моим настоящим именем. Я согласился бы на Нюхальщика при нормальных обстоятельствах, но там, куда мы собираемся пойти, «мистер Вайн» будет звучать более респектабельно. – Хорошо, мистер Вайн. Скажите мне, мистер Вайн, Бромли далеко отсюда? – Бромли в Кенте, – мужчина засмеялся. – Ты можешь добраться туда достаточно быстро на поезде. Меньше, чем полчаса с вокзала Виктори… или Ватерлоо? Что? У тебя там какой-нибудь родственник? – М-м… невеста. – Молодая леди? Англичанка? – Думаю, да. – Вот повезло! Ладно, я могу помочь тебе добраться до Бромли, Джерри. Но не сегодня. Сегодня тебе нужна комфортабельная постель в роскошном отеле. За твой счет, конечно. – Вы очень добры, мистер Вайн. «Действительно, – подумал Джерек, – люди этой эпохи исключительно дружелюбны». – Я уже замерз и помят немного, – он засмеялся. – Да, твоя одежда нуждается в чистке, – Вайн пощупал подбородок. – Ладно, думаю, я смогу помочь тебе в этом тоже. Обеспечу новый костюм и все остальное. И нужен какой-нибудь багаж. У тебя есть багаж? – Гм, нет. Я… – Не надо больше слов. Багаж будет обеспечен, Джерри, друг мой. Как твое второе имя? – Карнелиан. – Карнел. Я буду звать тебя Карнел, если ты не возражаешь. – Совсем нет, мистер Вайн. Тот издал жизнерадостный смешок. – Я вижу, мы станем хорошими друзьями, лорд Карнел. – Лорд? – Это мое прозвище для тебя. Согласен? – Если вам будет угодно. – Отлично, отлично, что за карта ты, Джерри! Я думаю, наш союз будет очень прибыльным. – Прибыльным? Он хлопнул дружески Джерека по спине. – В духовном смысле, я имею в виду. Дружба. Пошли, мы быстро заберемся в мое логово и обрядим тебя, как красавчика! И Джерек Карнелиан, удивленный, но постепенно обретающий былую уверенность, последовал за своим новым другом через лабиринт темных улочек. Наконец они пришли к высокому черному зданию, которое стояло особняком в конце аллеи. Из нескольких освещенных окон доносились звуки: смех, крики, как Джереку показалось, гневные. – Это ваш замок, мистер Вайн? – спросил он. – Ну… – Вайн ухмыльнулся Джереку. – И да, и нет. Я разделяю его, можно сказать, с одним или двумя приятелями, товарищами по профессии, сэр, – он низко поклонился и преувеличенным жестом пригласил Джерека подняться первым по сломанным ступенькам к главной двери из рассохшегося дерева и ржавого металла, покрытой облупившейся коричневой краской, с грязным бронзовым молотком в форме львиной головы в ее центре. Они достигли верхней ступеньки. – Это здесь мы должны провести ночь, мистер Вайн? – Джерек с интересом поглядел на дверь. Она была приятно уродливой. – Нет-нет. Мы только переоденемся здесь наверху, а потом отправимся дальше. В кэбе. – В Бромли? – Бромли позже. – Но я должен попасть в Бромли как можно быстрее. Видите ли, я… – Я знаю. Призыв любви. Бромли манит. Будь уверен, ты увидишь свою леди. Завтра. – Вы очень добры, мистер Вайн. Джерек был доволен, что счастье наконец улыбнулось ему. – Конечно. Если Нюхальщик дает обещание, ваше величество, оно что-то значит. – Итак, это место… – Ты можешь назвать его своего рода необычной гостиницей… для джентельмена с независимыми средствами, сэр. Для профессиональных леди. И для детей, желающих изучить ремесло. Добро пожаловать, ваше величество, в Кухню Джонса. И Нюхальщик Вайн стукнул несколько раз молотком по двери. Но дверь уже открывалась. В тени прохода стоял маленький мальчик. Он был одет в явные лохмотья, волосы засалены, лицо покрыто грязью и струпьями. – А еще ее называют Задницей Дьявола. Привет, Нюхальщик, кто это там с тобой?Глава двенадцатая УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОЯВЛЕНИЯ И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НЮХАЛЬЩИКА ВАЙНА
В Кухне Джонса было жарко. Она была полна запахов, не все из которых Джереку понравились. К тому же она была набита людьми. В длинной основной комнате на первом этаже и в галерее, огибающей ее сверху, было тесно от пестрой коллекции скамеек, кресел и столов (все далеко не в лучшем состоянии). Под галереей во всю длину одной стены размещался большой бар. Напротив бара в огромном очаге ревел огонь, над которым жарился труп какого-то животного. В лужах разной консистенции валялись солома и объедки, тряпки и бумаги. Сквозь постоянное жужжание голосов доносились взрывы смеха, обрывки песен, вопли обвинений и потоки клятв. Грязная одежда явно была в моде сегодня. Напудренные роскошные леди в изощренных тряпичных шляпках носили платья из зеленого, красного и голубого шелка, украшенные кружевами и вышивкой, а когда они поднимали юбки (что случалось часто), взору являлись слои грязных нижних рубашек. У некоторых верх платья был расстегнут. Мужчины носили усы, бороды или щетину и помятые котелки или шляпы на головах, желтые в клеточку пиджаки, желтые, голубые или коричневые брюки. У многих были часы на цепочке или цветы в дырочках на воротнике. Девочки и мальчики носили укороченные варианты такой же одежды, а некоторые из детей в подражание взрослым особям раскрашивали свои лица румянами и углем. Стаканы, бутылки, кружки были в каждой руке, даже самой маленькой; на столах и на полу была россыпь тарелок, ножей, вилок и остатков пищи. Нюхальщик Вайн повел Джерека Карнелиана сквозь эту толчею. Все здесь знали его. – Ого, Нюхальщик! – кричали они. – Как дела, Нюхальщик? – Поцелуй нас, Нюхальщик! Нюхальщик ухмылялся, кивая, и рукой с засаленным манжетом направлял Джерека через толпу эпохи Рассвета: эти семена, из которых произрастет обилие разнообразных растений, они будут расти и увядать, расти и увядать миллион или два миллиона лет истории Земли. Они были предками Джерека, и он любил их всех, а потому улыбался и махал рукой, получая, к своему удовольствию, много широких улыбок в ответ. Вопрос маленького мальчика часто повторялся. – Кто твой друг, Нюхальщик? – Что у него там под странной одеждой? – Что ты задумал, Нюхальщик? Пару раз они останавливались, чтобы мистер Вайн мог потрепать по щеке очередную девицу и ответить. – Иностранный джентельмен. Деловое знакомство. Легче, легче, не трогайте его! Он не знаком с нашими обычаями, – затем он подмигивал девице и шел дальше. А один раз кто-то подмигнул в ответ Нюхальщику. – Новая жертва, а? Ха-ха. Ты покупаешь их круглый градусник, а? – Может быть, – ответил он, потрогав пальцем нос, как делал это прежде. Джереку казалось, что переводильная пилюля не сработала, потому что он почти ничего не понимал. К несчастью, пилюля больше переводила его язык на английский девятнадцатого века, чем снабжала его лексикой этих людей. Все же он мог объясняться вполне прилично. – Привет, парни, – загоготала какая-то старая леди, похлопав Нюхальщика по заду, предложила им что-то в стакане, запах чего напомнил Джереку тот, каким пахла другая леди на улице. – Хотите джина? Хочешь повеселиться, красавчик? – Убирайся, Нелли, – сказал Нюхальщик добродушно. – Он мой. – Джерек заметил, что голос Нюхальщика изменился с того момента, как он вошел на Кухню Джонса. Казалось, он говорит на двух различных языках. Несколько других женщин, мужчин и детей выразили свою готовность заняться любовью с Джереком, и он признался, что при других обстоятельствах с удовольствием удовлетворил бы предложения. Но Нюхальщик тащил его дальше. Джерека очень озадачило, что ни один из этих людей даже приблизительно не напоминает миссис Амелию Андервуд. Ужасная мысль пришла ему в голову: вдруг существует несколько дат «год 1896». Или различные временные потоки. Возможно, в разных районах имелись отличающиеся друг от друга племенные обычаи. Миссис Андервуд принадлежала к племени, где в моде была скука и смирение, тогда как здесь люди верили и в веселье, и разнообразие. Теперь Нюхальщик вел Джерека вверх по ветхой лестнице дальше в галерею. От галереи отходил коридор, и Нюхальщик вошел в него, подталкивая Джерека впереди себя, пока они не подошли к одной из нескольких дверей. Нюхальщик остановился, достал ключ из кармана жилета, и открыл дверь. Войдя внутрь, Джерек оказался в полной темноте. – Минутку, – сказал Нюхальщик, шаря вокруг. Раздался скрежет, сопровождаемый вспышкой света. Лицо Нюхальщика осветилось маленьким огоньком, горящим на кончиках его пальцев. Он приложил этот предмет к предмету из стекла и металла, который стоял на столе. Предмет сам начал светиться и постепенно залил тусклым светом всю маленькую комнату. В комнате стояла кровать с мятыми серыми простынями, шкаф, стол и два кресла, большое зеркало и около пятидесяти или шестидесяти сундуков и чемоданов различных размеров. Они были свалены повсюду, достигая потолка, высовываясь из-под кровати, балансируя на вершине шкафа, частично закрывая зеркало. – Вы собираете ящики, мистер Вайн? – Джерек восхитился сундуками. Некоторые были обтянуты кожей, некоторые обиты металлом, некоторые деревянные – все они имели превосходный вид. На многих были надписи, которые Джерек, конечно, не мог прочитать, но надписи казались очень разнообразными. Вайн фыркнул и засмеялся. – Да, – сказал он. – Именно так, ваше величество. Это мое маленькое хобби. Теперь давай подумаем о твоей одежде. С выражением хмурой сосредоточенности на лице он начал рыться в чемоданах. Видимо, не отыскав ничего достойного, он вытащил два дорожных баула и поставил их около лампы на столе. Баулы были одинаковые, и письмена на них тоже были одинаковые. – Отлично, – сказал Вайн, потирая свой острый подбородок. – Великолепно. Д.К.– твои инициалы, а? – Боюсь, что не умею читать… – Не беспокойся об этом. Я буду читать за тебя. Теперь нам нужна какая-нибудь одежда. – Ага, – сказал Джерек, обрадовавшись, что может помочь своему другу. – Скажите, что вам хочется надеть, мистер Вайн, и я сделаю это одним из моих Колец Власти. – Сделаешь что? – У вас, вероятно, нет здесь таких, – сказал Джерек, показывая свои кольца. – Но с их помощью я могу произвести все, что пожелаю… от носового платка до… гм… дома… – Ты, значит, фокусник? – глаза Нюхальщика Вайна расширились и стали настороженными. – Я могу сделать все, что вы хотите. Скажите мне. – Нюхальщик издал странный смешок. – Хорошо. Мне нужна куча золота… на этом столе. – Сейчас, – Джерек с улыбкой представил в уме просьбу Нюхальщика и направил нервный сигнал в соответствующий палец, управляющий рубиновым кольцом. – Готово! И ничего не появилось. – Ты решил посмеяться надо мной? – Нюхальщик искоса посмотрел на Джерека. Джерек пожал плечами. – Как странно! – Да, странно, – согласился Нюхальщик. Неожиданно лицо Джерека просветлело. – Все понятно. Здесь нет банков энергии. Они находятся за миллионы лет в будущем. – Будущем? – Нюхальщик, казалось, застыл на месте. – Я из будущего, – сказал Джерек. – Я собирался сказать вам позже. Я прибыл на корабле… ну, это машина времени. Сейчас она повреждена. – Заткнись! – Нюхальщик прочистил горло. – Ты русский. Или кто-то еще. – Уверяю вас, это чистая правда. – Ты хочешь сказать, что можешь узнать победителя завтрашних скачек, если я дам тебе список сегодня? – Извините, я не понимаю… – Ты можешь сделать предсказание, как гадалка. А может ты цыган. – Мои предсказания имеют мало отношения к вашему времени. Мои знания о ближайшем будущем, мягко говоря, схематичны. – Ты чертов псих, – сказал Нюхальщик Вайн с некоторым облегчением, поборов удивление, – сбежавший псих. О, вот мое счастье! – Боюсь, что я не вполне… – Не имеет значения. Ты все еще хочешь попасть в Бромли? – Да, конечно. – А ты хочешь ночевать сегодня в роскошном отеле? – Если вы считаете, что так лучше. – Тогда пошли, – сказал Вайн, – подберем тебе одежду. – Он подошел к шкафу. – Господи! Ты почти заставил меня поверить в свои россказни… Джерек подошел к зеркалу и посмотрел на себя с видимым удовольствием. Он был одет в белую рубашку с высоким крахмальным воротником, пурпурный галстук с жемчужной булавкой, черный жилет, черные брюки, лакированные черные ботинки, черный фрак и высокую черную шляпу из шелка. – Английский аристократ, как с картинки, – сказал Нюхальщик Вайн, выбиравший всю одежду. – Сойдешь, ваша светлость. – Благодарю, – ответил Джерек, посчитав эту фразу комплиментом. Он улыбнулся и пощупал одежду. Она напоминала ту, что предлагала ему носить миссис Амелия Андервуд. Это значительно подбодрило Джерека. Казалось, одежда приблизила его к ней. – Мистер Вайн, мой дорогой, моя одежда очаровательна! – Эй, держись! – сказал Нюхальщик, с тревогой рассматривая Карнелиана. Он также был одет в черное, хотя его костюм не был столь роскошен, как у Джерека. Вайн поднял два дорожных баула, которые наполнил другими баульчиками – маленькими. – Торопись, кэб сейчас будет здесь. Они не любят долго ждать подле Джонса. Джерек и мистер Вайн прошли обратно через толпу, вызывая оживление, удивление, разного сорта шуточки, пока не очутились снаружи в холодной ночи. Туман немного рассеялся, и Джерек разглядел кэб, ожидавший на улице. Он был той же конструкции, как и тот, что сбил его. – Вокзал Виктория, – бросил Нюхальщик кучеру, сидевшему над кабиной на квадратном ящике. Они сели в кэб, и кучер дернул поводья. Коляска задребезжала по узеньким мощеным улицам. – Так лучше, – объяснил Вайн Джереку, который был очарован кэбом и тем немногим, что он мог разглядеть сквозь окошко. – Потом пересядем. Не хочу давать кэб-мену повод для подозрений. Джерек не понял, с какой стати «кэбмен» должен что-то подозревать, но не стал переспрашивать. Постепенно улицы расширились, и газовые фонари стали встречаться чаще. Движение на дороге стало оживленнее. – Приближаемся к центру города, – пояснил Нюхальщик. – Впереди Трафальгарская площадь. Это Стрэнд. Мы проедем Уайтхолл, затем двинемся по улице Виктории к вокзалу. Эти имена ничего не значили для Джерека, но имели чудесное экзотическое звучание. Он улыбнулся и кивнул, повторяя их про себя. Они остановили кэб около красивого большого здания с несколькими высокими входными дверями, близ которых тянулись полосы асфальта, к железным воротам. За воротами стояла пара машин, в которых он немедленно узнал варианты его собственного локомотива, но несколько больших размеров и радостно воскликнул: «Музей!» – Обыкновенная железнодорожная станция, – уточнил Вайн. – Отсюда ходят поезда. В твоей стране есть поезда? – Только один, который я сделал сам. – О, господи! – простонал Нюхальщик и потащил Джерека через один из входов и далее через асфальт, так что пара локомотивов оказалась рядом с ними. – А что это за штуки позади? – удивленно спросил Джерек. – Вагоны, – фыркнул Нюхальщик. – Обязательно сделаю такой же, как только вернусь в свое собственное время. – Теперь, – сказал Нюхальщик, не обращая внимания на его болтовню, – ты должен предоставить мне обо всем договориться. Держись спокойно, хорошо… или ты нас обоих втравишь в неприятности. – Хорошо, Нюхальщик. – Вайн! Если тебе нужно обратиться ко мне. Но лучше не надо, понял? Джерек кивнул. Они прошли через выход, где ожидало несколько кэбов. Нюхальщик выбрал ближайший, и они забрались внутрь. – Отель «Империал», – бросил кэбмену мистер Вайн и повернулся к Джереку, который снова залюбовался видом из оконца. – И не забудь, что я говорил тебе! – Вы мой проводник! – заверил его Джерек. – Я в ваших руках… Вайн. – Отлично. Вскоре кэб остановился около большого здания, нижние окна которого сияли огнями. Внушительный подъезд из мрамора и гранита под каменным навесом обрамляли мраморныеколонны. Когда кэб подъехал, средних лет мужчина в темно-зеленом пиджаке и зеленой высокой шляпе выскочил из подъезда и открыл дверь. Мальчик, также в зеленом, но с квадратной зеленой кепкой на голове, последовал за мужчиной и взял два баула, которые кучер опустил вниз. – Добрый вечер, сэр, – сказал мужчина Джереку. – Это лорд Карнел, – сказал Нюхальщик Вайн. – Я его камердинер. Мы телеграфировали из Довера о том, что прибываем сегодня. Мужчина поднял брови. – Я не помню телеграммы, сэр. Но, может быть, о ней знают в приемной отеля? Нюхальщик расплатился с кучером, и они последовали за мальчиком в теплоту просторного холла, в дальнем конце которого находился полированный стол. За столом стоял старик, одетый в черный фрак с синим жилетом. Он выглядел немного удивленным и листал большую книгу, лежавшую на столе перед ним. В холле стояло множество пальм в горшках, и они тоже ностальгически напомнили Джереку о миссис Андервуд, которую он надеялся увидеть рано утром в Бромли. – Лорд Карнел, сэр? – бормотал старик во фраке. – Я боюсь, никакой телеграммы нет!.. – Это крайне неприятно, – нахмурился Вайн. – Я отправил телеграмму лично, как только причалил пароход. – Не беспокойтесь, сэр, – утешил его старик. – У нас множество свободных комнат. Что бы вы хотели? – Апартаменты для его светлости с прилегающей комнатой для меня, – отчеканил Вайн. – Конечно, сэр, – старик снова нырнул в книгу, – номер 26 с видом на реку, сэр! – Это подходит, – высокомерно согласился Вайн. – Будьте любезны подписать регистр, сэр. Джерек чуть не проговорился, что он не умеет писать, когда Вайн взял ручку, окунул ее в чернила и поставил знаки на бумаге. Вероятно, им обоим не помешала бы пара уроков чистописания. Новоиспеченый лорд и его «верный слуга» прошли по мягким, малинового цвета коврам к клетке, украшенной завитушками из бронзы и железа, и мальчик открыл створки, чтобы они могли зайти внутрь, где стоял другой старик, и сказал. – Номер 26. Джерек огляделся вокруг. – Странная комната, – пробормотал он, но Вайн сделал вид, что не расслышал. Старик потянул веревку, и вдруг они стали подниматься в воздух. Джерек хихикнул от удовольствия, а затем вскрикнул, когда клетка внезапно остановилась, и он был вынужден опереться о стену, чтобы не упасть. Старик распахнул створки. – Ага, – понимающе кивнул Джерек. – Это была грубая форма левитации. Перед ними уходил вдаль покрытый ковром коридор. Интерьер выглядел роскошным и напоминал Джереку его дом. И тут появился мужчина в черном пиджаке и мальчик с багажом. Знатных постояльцев провели вдоль коридора к номеру, состоящему из больших комнат. Из окон была видна водяная гладь, похожая на ту, что уже видел Джерек. – Вы будете заказывать ужин, сэр? – спросил Джерека мужчина во фраке. Джерек понял, что он зверски проголодался и открыл было рот, чтобы согласиться с предложением, но тут вмешался Нюхальщик Вайн. – Нет, спасибо. Мы поужинали… в поезде из Довера. – Тогда желаю вам спокойной ночи, ваша светлость, – мужчина во фраке, казалось был недоволен тем, что Нюхальщик говорил за Джерека. Его последняя фраза была подчеркнуто обращена к Джереку. – Спокойной ночи, – расслабился Джерек. – Я благодарю вас, что вы разместили реку именно здесь. Я… – Его светлость благодарит вас за вид из окна. Мы уезжали на долгое время, и лорд Карнел не видел старой доброй Темзы целый год, – поспешно вмешался Нюхальщик, подталкивая старика и мальчика к выходу из комнаты. Наконец двери закрылись. Вайн посмотрел на Джерека странным взглядом и покачал головой. – Ладно, я не должен жаловаться. В конце концов, мы уже здесь. Ты лучше поспи, пока есть время. Я подремлю в своей собственной комнате. Спокойной ночи… ваша светлость, – хмыкнул Нюхальщик, покидая гостиную и закрывая за собой дверь. Джерек почти ничего не понял из последних слов Вайна, поэтому пожал плечами и пошел к окну, чтобы повнимательнее рассмотреть реку. Он представил себя на лодке вместе с миссис Амелией и вздохнул. Если он столкнется с трудностями, связанными с возвращением в свое собственное время, можно пожить и здесь, где все были так добры к нему. Может быть, и миссис Андервуд будет добрее в своем собственном времени. Что ж, скоро они снова будут вместе. Напевая мелодию «Все вокруг прекрасно и смеется», он походил по номеру, исследуя спальню, гостиную, гардероб и ванную. Джерек уже знал о водопроводе, но все равно был очарован кранами, цепочками и пробками, нужными для наливания и выливания воды из различных фарфоровых сосудов. Он поиграл с ними, пока не надоело, и вернулся назад, в освещенную газом спальню. «Наверное, лучше поспать», – подумал он. И все же, несмотря на все приключения, небольшие ушибы, возбуждение, он совсем не чувствовал усталости. Интересно, устал ли Нюхальщик? Джерек открыл дверь, чтобы посмотреть, спит ли его друг, и был весьма удивлен, обнаружив, что Вайн исчез. Постель была пуста. Два баула лежали открытыми, но маленькие сумочки пропали вместе в Вайном. Джерек не мог понять исчезновения Нюхальщика, как, впрочем, и того, куда он мог подевать баульчики. Он вернулся в свою комнату и снова принялся рассматривать Темзу, наблюдая за черным судном, исчезавшим под аркой одного из ближайших мостов. Туман сейчас был настолько прозрачным, что Джерек мог разглядеть другой берег реки, очертания зданий и свечение газовых фонарей. «Может, Бромли находится там?» – подумал он. Вдруг в соседней комнате послышался шорох. Джерек обернулся. Его благодетель вернулся назад, тихо закрывая за собой наружную дверь. В одной руке он держал оба маленьких баула, и они буквально раздувались от содержимого. Вайн заметно удивился, когда увидел, что Джерек не спит, но быстро совладал с собой и улыбнулся. – Привет, ваша светлость. – Привет, Нюхальщик, – улыбнулся в ответ Джерек. Вайн, кажется, неправильно истолковал улыбку. Подойдя к постели, вложил оба маленьких баула в один большой, буркнув. – Ты догадался, да? – Насчет баулов? – Именно. Ну, в них есть кое-что и для тебя тоже, – Нюхальщик засмеялся. – Этого хватит на проезд в Бромли! – А, да, – сказал Джерек. – Конечно, ты заработал свою долю. Четверть тебя устроит? Не забывай, что я взял на себя весь риск. Заметь, это лучший улов, который у меня был. Я мечтал попасть сюда много лет. Мне нужен был кто-нибудь вроде тебя, кто мог бы сойти за джентельмена. – О, – сказал Джерек, не до конца понимая смысл сказанного. Он снова улыбнулся. – Ты умнее, чем я думал. Наверное, много ловких парней, там, откуда ты приехал, а? Ладно, не беспокойся. Держи язык за зубами. Мы уедем отсюда рано утром, прежде чем кто-нибудь проснется… и будем намного богаче, чем раньше, – Нюхальщик засмеялся, подмигнул и быстро удалился, тщательно закрыв замок. Джерек подошел к баулам. С трудом разобравшись в их запорах, он, наконец, открыл один и заглянул внутрь. Оказалось, мистер Вайн коллекционировал часы, кольца и золотые диски. Там же были и другие предметы, такие как: бриллиантовые булавки для галстука, очень похожие на ту, что была на Джереке; какие-то маленькие цепочки для застегивания рукавов рубашек; коробочки с бумажными трубочками, набитыми ароматической травой. А еще бутылочки, обрамленные серебром и золотом, пуговицы, цепочки, кулоны, ожерелья, пара диадем, веер с рамкой из золота и украшения с изумрудом. Все вещи были очень красивыми, но Джерек так и не смог понять, зачем Нюхальщику они понадобились. Он пожал плечами и закрыл баул. Немного позже его компаньон вернулся с новой добычей. Он был доволен, глаза его сияли. – Самый большой улов в моей жизни. Ты не поверишь, какие тузы собрались здесь сегодня. Я не мог бы выбрать лучшую ночь за сотню лет. Где-то в Бельгравии был большой бал: собралась вся знать страны во всем своем великолепии. В их комнатах лежит ценностей, наверное, на миллион фунтов. Мне остается только брать. Нюхальщик вытащил большую связку ключей из своего кармана и потряс ими перед лицом Джерека. А из другого кармана извлек небольшой предмет, напоминавший Джереку дубинку, которую таскал с собой замаскированный Юшарисп. – Посмотри на это. Нашел на крышке ящика с жемчугом. Подумать только, даже он украшен жемчужинами! Я оставлю его себе, – Нюхальщик довольно засмеялся, – на случай ограбления. Джереку было приятно видеть своего друга таким радостным. – На случай ограбления! – повторил в восхищении Нюхальщик. Он открыл один из баулов и вытащил на свет пригоршню ниток жемчуга. – Мы все упакуем и уберемся отсюда, пока они не проснулись после гулянки. Ха-ха. Джерек, вдруг почувствовав усталость, зевнул и потянулся. – Прекрасно, – сказал он. – Вы не возражаете, если я посплю час или два, прежде чем мы уйдем? – Спи сном праведным, мой друг. Ты принес мне счастье, это как пить дать. Я могу выйти в отставку. Могу завести конюшню, купить лошадей и стать владельцем! Нюхальщик – владелец победителя скачек! Как звучит, а? Я вижу его перед собой, – он сделал жест руками, – и я могу купить бар где-нибудь в сельской местности. По Хайлшимской дороге или в Эпсом, рядом с ипподромом, – он закрыл глаза, – или поехать за границу. В Париж! О-ля-ля! – он засмеялся, засунул еще один баульчик под пиджак и ушел. Джерек снял свой фрак, шелковую шляпу и лег на постель. Он ждал рассвета, надеясь, что Нюхальщик укажет ему дорогу в Бромли, дом 23 по Колинз-стрит. – О, миссис Андервуд, – прошептал он, – не бойтесь. Даже сейчас я думаю о том, как избавить вас от неволи.* * *
Джерека разбудил Нюхальщик, который тряс его за плечо. Он был взмылен, глаза лихорадочно блестели. – Мы теряем время, Джерри, мой мальчик. Нам нужно назад, на Кухню Джонса. Там мы спрячем вещи, и мне придется исчезнуть на некоторое время. – А Бромли? – спросил Джерек, поднимаясь с постели. – Поедешь, когда захочешь. Я оставлю тебя на станции и куплю билет. Если бы у меня было время, я нанял бы специальный поезд после того, что ты для меня сделал. Нюхальщик протянул Джереку фрак и шляпу. – Быстро одевайся. Я сказал им, что мы уезжаем рано… в твое поместье. Они ничего не подозревают. Смешно подумать, какими они становятся доверчивыми, когда слышат твой титул. Когда Джерек Карнелиан надевал фрак, в дверь постучали. Вайн насторожился, но спустя мгновение расслабился и ухмыльнулся. – Наверняка, это пришел мальчишка за нашими саквояжами. Мы позволим им нести улов за нас, а? Джерек кивнул с отсутствующим видом. Он снова думал о предстоящем свидании с миссис Андервуд. Вошел бой. Он поднял их баулы и нахмурился, обнаружив, что немного раньше они были не такие тяжелые. – Что же, сэр, – громко сказал Нюхальщик Вайн Джереку Карнелиану, – Вы рады возвращению в Дорсет? – Дорсет? – следуя за мальчиком по коридору, Джерек наморщил лоб. – Не Дорсет, а Бромли… – Конечно, сэр, – Нюхальщик приложил палец к губам. Они вошли в клетку и спустились на первый этаж. У Вайна на лице еще оставалось выражение восторга, которое он старался спрятать, придав лицу более строгое выражение. Снаружи был рассвет, серый дождливый рассвет, Джерек ждал около двери, пока другой бой отправился искать кэб, потому что в этот ранний час поблизости никого не было. За столом стоял тот же самый старик, что и ночью. Он немного нахмурился, принимая золотые диски, которые Нюхальщик протянул ему. – Его светлость спешит в свое поместье, – объяснил Вайн. – Его светлость нездоровы. Поэтому-то нам и пришлось так спешно вернуться из Франции. – Понимаю, сэр, – старик что-то нацарапал на листочке бумаги и протянул листок Вайну. Вдруг Джерек почувствовал странную напряженную атмосферу в этом красивом отеле. Все, казалось, смотрели на него с каким-то особенным выражением. С улицы донесся шум кэба, и вскоре показался он сам. Мальчик в зеленом костюме прицепился сзади. Старик в цилиндре открыл стеклянную дверь. Бой поднял баулы. – До свидания, ваше сиятельство, – сказал мужчина за столом. – До свидания, – ответил приветливо Джерек. – Благодарю вас. – Эти баулы такие тяжелые, сэр, – пожаловался бой. – Не хнычь, Герберт, – пожурил его швейцар. – Да, – похвалился Джерек, – они сейчас полны добычей Нюхальщика. Нюхальщик вздрогнул, у швейцара отвисла челюсть. В этот момент по лестнице, запыхавшись, бежал краснолицый постоялец в ночной рубашке, натягивая на ходу бархатный халат, от которого сам Джерек не отказался бы. – Меня ограбили, – кричал краснолицый мужчина. – Драгоценности моей жены! Мой портсигар. Все исчезло! – Держите воров! – закричал старик за столом. Швейцар бросился на Джерека. Бой уронил баулы. Джерек упал. Он не испытывал физического нападения прежде. Он засмеялся. На тонком лице Нюхальщика, отчаянно пытавшегося протащить баулы через дверь в кэб, появилось выражение, близкое к агонии. Когда швейцар подбежал и схватил его, он уронил их. – Назад! – завопил Вайн. Он вырвался из рук старика, вытаскивая что-то из кармана. – Отойди назад! – Ворюга! – зарычал швейцар. – И как я сразу не понял! Ты меня не напугаешь! Меня, бывшего майора войск его величества, – и он снова кинулся на Нюхальщика. Раздался довольно громкий хлопок. Швейцар упал. Нюхальщик с удивлением уставился на него. Такое же удивление появилось на лице швейцара, когда он увидел большое красное пятно, расплывшееся на его униформе. Цилиндр свалился у него с головы. Нюхальщик показал что-то мужчине в халате и старику во фраке. – Подними баулы, Джерри, – приказал он. Джерек, весьма озадаченный, нагнулся и поднял два тяжелых баула. Бой широко раскрытыми глазами смотрел за сценой из-за пальмы в кадке. Вайн ринулся к двери, но Джерек заметил, что кэбмен слез с коляски и побежал по улице, размахивая руками. Затем он услышал звук свистка. – На улицу, – произнес Нюхальщик ледяным голосом. Джерек прошел через дверь на улицу под дождь. – В кэб, быстро! – сказал Нюхальщик. – Теперь он махал предметом черного цвета с серебром на кэбмена и другого мужчину, одетого в темно-голубой костюм и шляпу без полей с круглым значком, которые бежали по улице к ним. – Назад, или я стреляю! Джереку все происходящее показалось крайне интересным. Он не имел понятия, что происходит, но радовался драме, предвкушая, как будет рассказывать миссис Амелии Андервуд через несколько часов, что произошло с ним. Он удивился, почему Нюхальщик Вайн забрался на верх коляски и хлестнул кнутом лошадь. Кэб рванулся по улице. Джерек услышал еще один громкий хлопок, а затем коляска повернула за угол и помчалась по другой улице, заполненной множеством людей, одетых, в основном, в серые пальто и кепки. Люди оборачивались, глядя вслед кэбу, проносящемуся мимо. Джерек весело махал рукой некоторым из них. Полный ликования в предчувствии скорого прибытия в Бромли, Джерек запел, качаясь из стороны в сторону в мчащемся кэбе: – «Иисус освещает нас ясным чистым светом». Вскоре они достигли Кухни Джонса, бросив кэб за добрую милю до нее. Джерек нес баулы и порядком устал, когда они, наконец, добрались до своего убежища. Он очень удивился, почему манеры Нюхальщика значительно изменились. Тот продолжал рычать на него и говорить вещи вроде. – Ты определенно превратил счастье в беду. Надеюсь, бог не даст умереть этому парню. Если он умрет, в этом будет столько же твоей вины, как и моей. – Умрет? – наивно спросил Джерек. – Но почему его нельзя воскресить? Или слишком рано? – Заткнись, – рявкнул Нюхальщик. – Ладно, раз уж я связался с тобой, придется терпеть. Если я тебя брошу, ты разболтаешь все в две минуты. Поэтому возьму тебя с собой, – он громко засмеялся. – Не забывай, что ты только подмастерье. – Вы сказали, что доставите меня в Бромли, – напомнил ему мягко Джерек, когда они поднялись по ступенькам Кухни Джонса. – Бромли? – фыркнул Нюхальщик Вайн. – Ха! Тебе крупно повезет, парень, если ты не окажешься в аду!* * *
В течение нескольких дней Джерек осознал всю тяжесть страдания. У него начала расти борода, и кожа в этом месте ужасно чесалась. Его одолевали крошечные насекомые трех или четырех различных разновидностей, кусавшие все его тело. Одежду, которую Нюхальщик первоначально ему дал, он сам же и отобрал, и Джерек был прикрыт какими-то лохмотьями. Нюхальщик иногда покидал их комнату и спускался этажом ниже. Оттуда он всегда возвращался с мрачным лицом, пропахший той самой жидкостью, которую предлагала Джереку женщина первой ночью на Кухне Джонса. Нюхальщик не позволял Джереку спускаться вниз, чтобы погреться у огня, поэтому Карнелиан скоро узнал, что такое холод, а вслед за этим открытием понял природу голода и жажды. Сначала он смаковал новые ощущения, но постепенно они начали угнетать. И в конце концов он обнаружил, что больше неспособен откликаться на новизну происходящего. Медленно он познавал, что такое страх. Нюхальщик учил его этому, отпуская порой оплеуху и бормоча при этом непонятные угрозы. Сама мысль о защите была чужда Джереку, и все те люди, которые были так дружелюбны, когда он пришел в первый раз, теперь или не обращали на него внимания, или огрызались, когда он высовывался из комнаты. Джерек похудел и стал грязным. Он потерял вкус к жизни и стал забывать Бромли и миссис Андервуд. Другая жизнь, за пределами этой тесной и забитой сундуками каморки над Кухней Джонса, казалась ему невозможной. Однажды утром внизу началась большая суматоха. Нюхальщик еще храпел на постели, а Джерек дремал на своем обычном месте под столом. Хотя он проснулся первым, его чувства были настолько притуплены голодом, усталостью и страданиями, что он никак не отреагировал на шум: удары, вопли, звуки столкновения. Вдруг Нюхальщик пошевелился и открыл глаза. – Что это? – спросил он хрипло. – Ах, если бы только этот чертов швейцар не подвернулся под руку. Столько добра, и нельзя трогать, потому что этот парень может отдать богу душу, – он скинул ноги с постели и по привычке пнул Джерека. – Господи, как жаль, что проклятый кэб-мен не убил тебя той проклятой ночью, недоумок. В этом состоял почти неизменный ритуал его пробуждения. Но сегодня он склонил голову, осознавая, что внизу что-то происходит, засунул руку под подушку, вытащил пистолет и подошел к двери. Осторожно приоткрыв ее, он начал прислушиваться. Громкие голоса мужчин. Проклятья. Выкрикивание угроз. Женский визг. Плач ребенка. Нюхальщик Вайн, выглядевший чуть здоровей, чем Джерек, двинулся вдоль коридора. Джерек встал и наблюдал за ним из дверного проема. Он увидел, как Нюхальщик достиг галереи, и в этот момент два человека в голубой одежде, которую он уже видел на мужчине, когда они покидали отель, кинулись на его мучителя с двух сторон, словно поджидали его. Раздался громкий хлопок. Один из мужчин в голубом отшатнулся назад. Нюхальщик вырвался из рук второго, шмыгнул к перилам галереи. Мгновение он колебался, а затем перепрыгнул через них и исчез из виду. Джерек поплелся по коридору туда, где один из мужчин в голубом помогал другому встать на ноги. – Назад! – закричал тот, что не был ранен. Но Джерек почти не слышал его. Он подошел к перилам и, посмотрев вниз, увидел Нюхальщика на грязных плитах пола. Тот лежал, раскинув руки, голова кровоточила, все лицо казалось покрытым кровью. Пытаясь подняться на чтервереньки, он снова падал на пол. Его медленно окружали другие люди, все одетые в ту же самую голубую форму с теми же голубыми шляпами на головах. Они стояли и смотрели, не пытаясь помочь ему. Вайн подергался немного и перестал шевелиться. Толстый мужчина, один из обслуживающих бар в Кухне Джонса, появился около группы мужчин в голубом. Он поглядел на Нюхальщика, потом поднял глаза на галерею и увидел Джерека. Он показал на него. – Этот, – сказал он. – Этот – второй. Джерек почувствовал сильную руку на своем грязном плече. Плечо было чувствительно к боли, потому что Нюхальщик поставил ему синяк на этом месте предыдущей ночью. Но боль, казалось, пробудила его память. Он взглянул в мрачное лицо человека, державшего его. – Миссис Амелия, – произнес Джерек тонким умоляющим голосом, – Коллинз-стрит, 23. Бромли. Кент. Англия. Он повторял эту фразу снова и снова, пока его вели по ступенькам лестницы, через опустевший зал, через дверь на утреннюю улицу, где ждал его фургон с четырьмя черными лошадьми. Освобожденный от Нюхальщика, свободный от Кухни Джонса, Джерек почувствовал безотчетный прилив радости. – Благодарю вас, – улыбаясь, повторял он мужчинам, забравшимся в фургон вместе с ним. – Благодарю вас. Один из них криво усмехнулся. – Не благодари меня за это, парень. Как пить дать, они повесят тебя.Глава тринадцатая ДОРОГА НА ВИСЕЛИЦУ: СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ В НОВОМ ОБЛИЧИИ
В тюрьме, где лучше кормили, одевали и сносно к нему относились, Джерек Карнелиан начал понемногу приходить в себя. Больше всего ему приглянулся серый мешковатый костюм с нашитыми на него широкими стрелами, и Джерек решил, что если он когда-нибудь попадет в свой собственный век, то обязательно сделает себе такой же (хотя, возможно, стрелы окрасит в оранжевый цвет). Мир тюрьмы был небогат цветами, в ней преобладали бледно-зеленые, серые или черные тона. Даже тела других заключенных, и те были серые. Звуки тоже обладали определенной монотонностью – стуки, крики и проклятья. Но ежедневный ритуал подъема, кормления, прогулки и сна имели исцеляющий эффект для духа Джерека. Сначала ему предъявили обвинение в различных преступлениях, а затем оставили в покое. Никто не навещал его, кроме случайного посетителя, который показался сочувствующим. И Джерек снова стал грезить о Бромли и миссис Амелии Андервуд. Он надеялся, что его скоро выпустят или закончат ритуал каким-нибудь другим подходящим для него способом. Тогда он продолжит свой путь. Каждые несколько дней мужчина в черном костюме с белым воротником и черной книгой в руках посещал белокафельную камеру Джерека и разговаривал с ним о своем друге, который умер, и еще об одном друге, который был невинен. Джерек обнаружил, что проповеди этого мужчины, которого звали преподобный Лоуденс, имели приятный успокаивающий эффект и, слушая их, он улыбался и согласно кивал, стараясь тем самым приободрить преподобного Лоуденса, или качал головой, когда казалось, что соглашаться не надо. Это вызывало у преподобного Лоуденса большое удовольствие и множество улыбок, и еще больше – слов, произносимых довольно высоким и монотонным голосом, о своем невидимом друге, который, как выяснилось, был отцом мертвого друга. Однажды, перед уходом, преподобный похлопал Джерека по плечу и сказал ему. – Я не сомневаюсь, что ваше Спасение уже ждет вас! Это обрадовало Джерека, и он с нетерпением ожидал своего освобождения. К большому удовольствию Джерека, воздух за стенами тюрьмы становился теплее. Другой посетитель Джерека был одет в черный костюм, черные галстук и цилиндр. На нем был черный жилет и брюки в яркую полоску. Он представился мистером Гриффитсом из Гильдии адвокатов. У него была большая голова с темными волосами и огромные мохнатые брови, которые почти срослись у переносицы. Его руки тоже были большими и неуклюже обращались с документами, которые он доставал из своего маленького кожаного чемоданчика. Он садился на край жесткой койки Джерека и листал бумаги, часто раздувая щеки, и время от времени громко вздыхал. Затем, наконец, он поворачивался к Джереку и поджимал губы, прежде чем заговорить. – Мы собираемся заявить о вашем безумии, мой друг. – Что? – спросил Джерек непонимающе. – Да, в самом деле. Вы все подтвердили полиции. Несколько свидетелей определенно узнали вас. И вы опознали свидетелей перед лицом понятых. Вы утверждали, что не имели понятия, что происходит. Это само по себе вряд ли правдоподобно, исходя из остальных ваших заявлений. Вы видели, как покойный Вайн приносил свой «улов». Вы помогали ему унести награбленное, убежав вместе с ним после того, как он застрелил швейцара. На вопрос о вашем имени и происхождении вы сочинили дикую историю о появлении из будущего в какой-то машине и дали явно вымышленное имя. Отсюда я намерен начать свое расследование… и оно может спасти вашу жизнь. Сейчас вы лучше расскажите, что произошло, по вашему мнению, с той ночи, когда вы встретили Альфреда Вайна, до утра, когда полиция проследила вас обоих до Кухни Джонса, и Вайн был убит при попытке к бегству. Джерек с готовностью рассказывал свою историю мистеру Гриффитсу, так как это помогало провести время. Но мистер Гриффите раздувал щеки и закатывал глаза под черными бровями, а один раз хлопнул ладонью по лбу и чертыхнулся. – Передо мной труднейшая задача, – сказал мистер Гриффите, уходя в первый раз, – мне предстоит убедить судью, что человек, явно разумный с одной стороны, является безусловно законченным безумцем с другой; что ж, по крайней мере, я сам убедился в правдивости моих предположений. До свидания, мистер… хм… до свидания. – Надеюсь на скорую встречу, – вежливо сказал Джерек, когда охранник выпускал мистера Гриффитса из камеры. – Да-да, – поспешно отвечал мистер Гриффите, – да-да. Мистер Гриффите нанес ряд других визитов, так же, как и преподобный Лоуденс. Но тогда, как преподобный Лоуденс всегда казался уходящим в еще более счастливом настроении, мистер Гриффите обычно уходил с отчаянием на лице. Его поведение выдавало крайнее возбуждение.* * *
Суд над Джереком Карнелианом за соучастие в убийстве Эдварда Фрэнка Морриса, швейцара отеля «Империал», совершенном 5 апреля 1896 года примерно в 6 часов утра, состоялся в центральном уголовном суде Лондона. Никто, включая защитников, не ждал, что суд затянется. Единственное, в чем можно было сомневаться, сочтет ли суд достаточными обстоятельства для смягчения приговора. Все это совсем не трогало Джерека Карнелиана, настаивающего на сохранении вымышленного имени, несмотря на все предупреждения о том, что сокрытие имени подлинного влечет за собой наказание. Перед началом суда Джерека под конвоем доставили в деревянную ложу, где он должен был стоять во время процесса. Ему нравилась ложа, позволяющая хорошо видеть остальную часть довольно большой комнаты. Мистер Гриффите подошел к ложе и торопливо спросил Джерека. – Эта миссис Андервуд, вы давно ее знаете? – Очень давно, – сказал Джерек, – строго говоря… я буду знать ее долгое время, – он засмеялся. – Мне нравятся эти парадоксы. – А мне – нет, – сказал с чувством мистер Гриффите – Она респектабельная женщина? Я имею в виду она… ну… в своем уме, например? – В высшей степени. – Гм-м… что ж, я намерен вызвать ее, если возможно. Чтобы она засвидетельствовала вашу особенность… ваши заблуждения и тому подобное. – Вызвать ее? Привести ее сюда? – Именно это. – Это было бы превосходно, мистер Гриффите, – Джерек захлопал в ладоши. – Вы очень добры, сэр. – Гм-мгм, – промычал Гриффите, поворачиваясь и уходя к столу, где сидел вместе с другими мужчинами, одетыми, как и он, в черные накидки и странно выглядевшие волосы – белые и туго закрученные. За ними располагался ряд скамеек, где было множество людей в разнообразных одеждах, и без фальшивых волос на голове. А позади Джерека, над ним, находилась галерея, содержащая еще больше людей в обычной одежде. Слева от него был еще один ряд скамеек, на которых, как заметил Джерек, расположились двенадцать человек, проявлявших заметный интерес к нему. Джереку нравилось быть в центре внимания. Он улыбнулся и помахал рукой. Его жест остался без ответа. Затем кто-то прокричал какие-то слова, которых Джерек не уловил, все начали вставать – из комнаты вышла группа людей в длинных накидках и с фальшивыми волосами и расположилась за столами прямо напротив Джерека на дальней стороне комнаты. Именно тогда Джерек и разинул от удивления рот. Он узнал человека, который, казалось, как и он сам, занимал почетное место в суде. – Лорд Джеггед Канари, – воскликнул Джерек. – Вы проследовали за мной сквозь время? Оказывается, вы настоящий друг. Один из мужчин в голубом, стоявший позади Джерека, наклонился вперед и похлопал его по плечу. – Спокойнее, парень. Ты должен говорить, когда к тебе обратятся. Но Джерек был слишком взволнован, чтобы слышать его. – Лорд Джеггед, вы узнали меня? Все снова начали усаживаться, и Лорд Джеггед, казалось, не услышал Джерека. Он достал бумаги, которые кто-то положил перед ним. – Тише! – снова сказал мужчина позади Джерека. Джерек повернулся к нему с улыбкой. – Это мой друг, – объяснил он, показывая рукой. – Молись, чтоб это было так на самом деле, – мрачно ответил мужчина, – это лорд главный судья, вот кто. И он будет судить тебя, парень. Его имя лорд Джеггер. Не серди его, иначе у тебя не будет ни одного шанса. – Лорд Джеггед, – поправил Джерек. – Тишина! – закричал кто-то. – Тишина в зале суда! Лорд Джеггед Канари поднял голову. На его лице было странное суровое выражение. Когда он взглянул на Джерека, то не показал ничем, что узнал его. Джерек был озадачен, но предположил, что это какая-то новая игра Лорда Джеггеда. Он решил поучаствовать в ней какое-то время, поэтому перестал делать дальнейшие замечания и привлекать всеобщее внимание к тому неоспоримому факту, что человек, восседающий напротив, был его старым другом. Начался суд, и интерес Джерека не иссякал все то время, когда группа людей, большую часть которых он видел в отеле, выходила рассказывать, что случилось той ночью, когда Джерек и Нюхальщик Вайн прибыли в «Империал», и что потом произошло на следующее утро. Этих людей опрашивал сэр Джордж Брен, обвинитель, а затем мистер Гриффите снова задавал им вопросы. В основном эти люди помнили события так же, как и Джерек, но мистер Гриффите, казалось, не верил им. Также мистер Гриффите интересовался их мнением о Джереке. Вел ли он себя странно? Что он говорил? Некоторые из присуствующих вспоминали, что Джерек говорил какие-то странные вещи или, во всяком случае, то, что они не понимали, но сейчас они были убеждены, что это воровской жаргон. Мужчины в голубой форме были также опрошены, включая того, кого Джерек видел на улице, когда покинул отель, и нескольких других, которые пришли в Кухню Джонса позднее. Их снова тщательно переспрашивал мистер Гриффите. Потом появился преподобный Лауденс и заявил, что считает Джерека раскаявшимся. Затем был перерыв для ленча, и Джерека повели в маленькую чистую камеру и дали какую-то неаппетитную пищу. Пока он ел, его в очередной раз посетил мистер Гриффите. – Думаю – есть шанс, что судья сочтет вас виновным, но невменяемым… – начал мистер Гриффите. Джерек рассеянно кивнул. Он все еще думал о неожиданной встрече с Лордом Джеггедом в суде. Как его друг умудрился найти его? Как он смог для этого вернуться назад во времени? Джерек надеялся, что теперь все дальнейшее окажется простым. Как только все кончится, он заберет миссис Амелию Андервуд в новой машине времени Лорда. И он был бы рад вернуться в свой собственный век, так как век девятнадцатый порядком ему надоел. – …особенно, – продолжал мистер Гриффите, – потому, что вы не стреляли в этого человека. С другой стороны, суд, кажется, жаждет крови, и лорд Джеггер не выглядит слишком сочувствующим. Но все же лорд Джеггер имеет репутацию снисходительного человека, я слышал… – Лорд Джеггед, – поправил Джерек мистера Гриффитса, – таково его настоящее имя, во всяком случае. Он мой друг. – Вот в чем дело, – мистер Гриффите покачал головой, – как бы там ни было, вы помогаете мне в защите. – Он из моего собственного периода времени, – сказал Джерек, – мой ближайший друг в моем веке. – Он довольно хорошо известен и в нашем веке, – сказал мистер Гриффите с кривой улыбкой. – Самый известный судья в империи, самый молодой из когда-либо заседавших в суде. – Вот значит, где он пропадал во время своих длительных отлучек, – засмеялся Джерек, – интересно, почему он никогда не говорил мне об этом? – Интересно, – фыркнул мистер Гриффите и встал. – Между прочим, ваша знакомая леди здесь. Она прочитала о суде в газетах этим утром и сама нашла меня. – Миссис Андервуд! Это чудесно! Два старых друга! Лорд Джеггед и миссис Андервуд! О, благодарю вас, мистер Гриффите, – Джерек вскочил на ноги, и тут дверь открылась, и на пороге показалась женщина, которую он любил. Как она была прекрасна в своем простом темном бархатном платье! На ней была незамысловатая шляпка с вуалью, сквозь которую Джерек разглядел ее милое лицо. – Миссис Амелия Андервуд! – Джерек шагнул вперед, чтобы обнять ее, но она отстранилась. – Миссис? – Охранник шевельнулся, словно желая помочь ей. – Все в порядке, – сказала миссис Андервуд охраннику. – Да, это он, мистер Гриффите. Она говорила очень печально и рассеянно, словно припоминая сон, в котором Джерек принимал участие. – Мы скоро уедем отсюда, – заверил ее Джерек. – Здесь Лорд Джеггед. У него должна быть машина времени. Мы все сможем вернуться в ней назад! – Я не могу вернуться, мистер Карнелиан, – ответила тихим голосом миссис Андервуд, сохраняя отчужденный тон. – Пока я не увидела вас, я не до конца верила, что когда-либо была там. Как вы попали сюда? – Я последовал за вами. В машине времени, предоставленной Браннартом Морфейлом. Я знал, что вы полюбите меня. – Любовь? А-а, – она вздохнула. – И вы все еще любите меня, я вижу это. – Нет, – она была шокирована, – я замужем! И… – она взяла себя в руки. – Я приехала не для этого, мистер Карнелиан, я пришла убедиться действительно ли это вы, и если это так, просить о помиловании вашей жизни. Я знаю, что вы не могли совершить ничего плохого, вроде соучастия в убийстве… или даже ограблении. Я уверена, что вас обманули. Вы всегда были таким наивным в некоторых отношениях. Мистер Гриффите хочет, чтобы я солгала суду, потому что он думает, что может спасти вашу жизнь. – Ложь? – Он хочет, чтобы я сказала, что знаю вас довольно давно, и вы всегда проявляли тенденции к слабоумию. – Вы должны сказать это? Почему бы не сказать им правду? – Они не поверят правде. Никто не поверит. – Я заметил, что они слушали меня только тогда, когда я повторял их версии. Все мои попытки сказать правду канули в пустоту. Мистер Гриффите переводил взгляд с Джерека на миссис Амелию и обратно, и на его лице было несчастное затравленное выражение. – Вы, значит, оба верите в эту дикую чушь насчет будущего? – Это не чушь, мистер Гриффите, – сказала миссис Амелия твердо. – Но, с другой стороны, я не прошу вас поверить в это. Сейчас самое важное – спасти жизнь мистера Карнелиана, даже если придется пойти против всех моих принципов и лжесвидетельствовать перед судом. Кажется, в данном случае это единственный способ остановить несправедливость. – Да, да, – сказал отчаянно мистер Гриффите. – Итак, вы пойдете в ложу свидетелей и скажете судье, что этот мистер… Карнелиан… сумасшедший. Это все, что я прошу. – Да, – прошептала она. – Вы любите меня, – также тихо сказал Джерек. – Я вижу это в ваших глазах, миссис Андервуд. Она пристально посмотрела на него мучительным, страждущим взглядом. Потом миссис Андервуд повернулась и покинула камеру. – Она любит меня! – Джерек взволнованно зашагал по камере. Мистер Гриффите устало наблюдал за ним, и его лицо постепенно принимало выражение фатализма. Когда он уходил, Джерек начал петь во весь голос: – «Все вокруг прекрасно сияет, все вещи мудрые и полные чудес»…* * *
После ленча все снова заняли свои места, и первым свидетелем защиты оказалась миссис Амелия, более скованная и напряженная, чем когда-либо. Мистер Гриффите спросил, давно ли она знает Джерека. Амелия ответила, что встретила его во время миссионерского путешествия в Южную Америку. Карнелиан причинил ей некоторые неудобства, но по сути своей он безвреден. – Можно сказать, что он слабоумный, а, миссис Андервуд? – Да, – прошептала она, – можно… – Что-то вроде… не отдающего отчет в своих поступках, да? – Да, – согласилась она тем же тоном. – Он выказывал какие-нибудь агрессивные намерения? – Нет. Я думаю, он не знает, что такое насилие. – Очень хорошо. А преступление? Как вы думаете, он имеет представление об уголовном преступлении? – Никакого. – Превосходно, – мистер Гриффите повернулся к двенадцати мужчинам, которые внимательно слушали диалог. – Я думаю, господа присяжные заседатели, эта леди, дочь миссионера, успешно доказала вам, что мой подзащитный не только не знал, что был вовлечен в преступление умершим Альфредом Вайном, но и что он не способен понять, что совершает какое-либо преступление. Он приехал в Англию, чтобы найти женщину, которая была добра к нему в его собственной стране – в Аргентине, как миссис Андервуд рассказала вам. Он был обманом втянут бессовестным мошенником в воровство, ничего не зная о наших нравах. Лорд Джеггер наклонился вперед. – Я считаю, мы можем поберечь все это для заключительной части мистер Гриффите. Мистер Гриффите наклонил голову. – Хорошо, милорд, простите. Теперь наступила очередь сэра обвинителя расспрашивать миссис Андервуд. Он имел маленькие, похожие на бусинки глаза, красный нос и вызывающие манеры. Его интересовали подробности, например, где и когда она встретилась с мистером Карнелианом. Он представил свидетельство, что ни один корабль из Аргентины не прибывал в Лондон в упомянутую дату. Он предположил, что миссис Андервуд безрассудно почувствовала жалость к мистеру Карнелиану и дала свидетельские показания, не отвечающие истине, чтобы спасти его. Может быть, она из тех людей, которые против смертной казни как многие истинные христиане? Еще обвинитель уведомил присутствующих, что не допускает мысли о том, что эта леди появилась в ложе свидетелей из каких-либо иных побуждений, кроме самых лучших. И так далее, и так далее, пока миссис Андервуд не зарыдала, а Джерек не попытался вылезти из-за своей загородки и подойти к ней. – Миссис Андервуд, – закричал он. – Скажите им, что произошло в действительности, Лорд Джеггед поймет. Он подтвердит, что вы говорите правду. Казалось, все в зале вскочили на ноги одновременно, и раздался стук молотка, перекрывающий шум голосов, и громкий голос мужчины. – Тишина в зале суда! Тишина в зале суда! – Я попрошу очистить помещение в случае продолжения подобной демонстрации, – сказал сухим тоном лорд Джеггер. – Но она лжет только потому, что эти люди не верят правде, – кричал Джерек. – Тише. Джерек огляделся с безумием во взоре. – Мы встретились через миллион лет в будущем, я последовал за ней сюда, потому что люблю ее… все еще люблю. Лорд Джеггер, игнорируя Джерека, нагнулся вперед к мужчине с фальшивыми волосами, сидевшему пониже его. – Свидетельница может удалиться, – сказал он. – Она, кажется, в расстройстве чувств. У вас еще есть вопросы, джентельмены? Мистер Гриффите покачал головой в полном отчаянии. Обвинитель казался вполне удовлетворенным и тоже покачал головой. Джерек смотрел, как миссис Андервуд выпроводили из свидетельской ложи. Он видел ее отчаяние и боялся, что никогда больше не увидит ее. Он умоляюще взглянул на лорда Джеггера. – Почему вы позволили им довести ее до слез, Джеггед? – Тише! – Я считаю, что успешно доказал, милорд, что единственная свидетельница защиты лжет, – сказал сэр Джордж Брен. – Что вы скажете на это, мистер Гриффите? – спросил лорд Джеггер. Мистер Гриффите опустил голову. – Ничего, сэр, – он повернулся и посмотрел на все еще возбужденного Джерека. – Хотя я считаю, что у нас есть достаточное свидетельство неустойчивого умственного состояния подзащитного. – Мы решим это позже, – сказал лорд Джеггер. – И мне хотелось бы напомнить суду, что в нашу задачу не входит исследование умственного состояния подзащитного. Мы всего-навсего хотим выяснить, был ли он вменяем в утро убийства. – Лорд Джеггед, – воскликнул Джерек. – Прошу вас. Закончите всю процедуру сейчас. Представление было забавным в начале, но оно принесло миссис Андервуд подлинное огорчение. Возможно, вы не понимаете, что чувствуют эти люди… но я понимаю… я сам испытал довольно ужасные эмоции с тех пор, как нахожусь здесь! – Тише! – Лорд Джеггед?! – Молчать, обвиняемый! Вам дадут возможность высказаться в свою защиту позднее, если вы захотите, – сказал лорд Джеггер без тени юмора, без единого намека на то, что узнал Джерека. И Джерек, в конце концов, начал сомневаться, не ошибся ли он. Хотя лицо, манеры, голос были теми же самыми… и имя почти такое же. Это не могло быть случайным совпадением. А затем ему пришло в голову, что Лорд Джеггед получает какое-нибудь злорадное удовольствие от происходящего, что он совсем не является другом Джерека и что он задумал все происходящее от начала до конца. Заседание суда, казалось, завершилось в одно мгновение. И когда лорд Джеггер спросил Джерека, хочет ли тот что-нибудь сказать, он просто покачал головой. Он был слишком подавлен, чтобы попытаться убедить их в своей правоте. Он начал верить, что и в самом деле обезумел с горя. Эта мысль привела Джерека в смятение. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. А затем лорд Джеггер произнес короткую речь перед присяжными, и они удалились. Джерека увели назад в камеру, где к нему присоединился мистер Гриффите. – Все обстоит хуже некуда, – взволнованно затараторил мистер Гриффите. – Вы должны были сидеть спокойно, а не болтать невесть что. Теперь они думают, что это хитрый трюк, чтобы выручить вас. Это может погубить мою репутацию. Он что-то достал из своего чемоданчика и протянул Джереку. – Это просила передать вам миссис Андервуд. Джерек взял бумагу, непонимающе посмотрел на иероглифы, начертанные любимой рукой, и протянул бумагу обратно. – Лучше прочтите ее мне. Мистер Гриффите прищурился, вглядываясь в письмена, и неожиданно покраснел и прокашлялся. – Это довольно личное. – Пожалуйста, прочитайте, – сказал Джерек. – Ладно, здесь сказано – ага… «Я обвиняю себя за то, что произошло. Я знаю, они посадят вас в тюрьму на долгое время, если не лишат вас жизни. Я боюсь, что у вас мало надежд на оправдание, и поэтому я должна сказать вам, Джерек, что люблю вас, что мне не хватает вас, что я всегда будувас помнить…» Гм-м… Без подписи, что очень умно. Хотя, с другой стороны, вообще неосторожно писать подобные вещи. Джерек снова улыбался. – Я знал, что она любит меня. Я придумаю, как спасти ее, даже если Лорд Джеггед не поможет мне. – Мой дорогой мальчик, – весомо произнес мистер Гриффите, – вы должны помнить серьезность вашего положения. Очень много шансов за то, что они приговорят вас к виселице. – Да, – сказал Джерек. – Между прочим, мистер Гриффите, что из себя представляет этот ритуал «вешания», можете объяснить мне? Мистер Гриффите вздохнул, встал и молча покинул камеру. Джерека в третий раз привели в его ложу. Поднявшись по ступенькам, он увидел Лор да Джеггеда и других, занимавших своих кресла. Вошли двенадцать мужчин и сели на свои места. Один из мужчин с фальшивыми волосами стал читать список имен, и каждый раз, когда он называл имя, один из двенадцати человек отвечал «да», пока не были названы имена всех двенадцати. Затем встал другой человек и обратился к двенадцати. – Джентельмены присяжные, вы пришли к согласию о вашем заключении? Один из двенадцати ответил. – Да. – Считаете ли вы заключенного под стражей виновным или невиновным? На мгновение глаза всех двенадцати обратились на Джерека, который уже почти не проявлял интереса к опостылевшему ритуалу. – Виновен. Джерек вздрогнул, когда руки двух охранников упали на его плечи. Он с удивлением посмотрел на каждого из них. Лорд Джеггер спокойно посмотрел на Джерека. – У вас есть, что сказать, пока приговор не оглашен? Джерек ответил устало. – Джеггед, прекратите этот фарс. Давайте заберем миссис Андервуд и отправимся домой. – Обвиняемому нечего сказать в свое оправдание. – Я понял, что вам нечего сказать, – отчеканил лорд Джеггер, полностью игнорируя слова Джерека. Один из мужчин рядом с Лордом Джеггедом протянул ему квадратный предмет из черной ткани, который тот осторожно поместил поверх своих белых фальшивых волос. Около лорда Джеггеда появился преподобный Лоуденс, одетый в черную мантию. Он выглядел еще печальнее, чем обычно. – Вас признали виновным в соучастии в жестоком убийстве невинного служащего отеля, который вы хотели ограбить, – монотонным голосом произнес лорд Джеггер, и в первый раз Джереку показалось, что он заметил блеск юмора в глазах друга. Значит, это была шутка, в конце концов. Джерек улыбнулся в ответ. – …следовательно, я должен приговорить вас… – Ха-ха! – закричал Джерек. – Это вы, Джеггед! – Тише! – воскликнул кто-то. Звук голоса лорда Джеггера продолжался сквозь слабое бормотание голосов в суде, пока он не закончил словами. – Господи, помилуй вашу душу! Преподобный Лоуденс сказал. – Аминь! Охранники потянули Джерека к выходу. – Увидимся позже, Джеггед, – закричал Джерек. Но Джеггед снова игнорировал его, повернувшись спиной и что-то тихо говоря преподобному Лоуденсу, скорбно качающему головой. – Никаких угроз. Они не приведут ни к чему хорошему, – сказал один из охранников. – Пойдем, сынок! Джерек смеялся, пока его вели снова в камеру. – Действительно, я потерял свое чувство юмора, чувство драмы. В этом виновато, наверное, то ужасное время на Кухне Джонса. Я извинюсь перед Джеггедом, как только встречу его снова. – Ты не встретишь его, – сказал охранник. – Пока он не присоединится к тебе там, – и он показал на потолок. – Вы считаете, там находится будущее? – спросил Джерек с подлинным любопытством. Но они больше ничего не сказали ему, и через несколько секунд он оказался один в камере, вертя в руках записку, которую послала ему миссис Амелия Андервуд, он помнил каждое слово из нее. Она любит его. Она сказала это. Джерек никогда прежде не испытывал подобного счастья.* * *
После того, как его перевезли в другую тюрьму в черном экипаже, Джерек обнаружил, что с ним обращаются еще более заботливо, чем прежде. Охранники, разговаривающие обычно с особо мрачным юмором, теперь говорили с симпатией и часто похлопывали его по плечу. Только на вопрос о его освобождении они хранили молчание. Некоторые из них говорили ему, что, по их мнению, он «должен был выкрутиться», и что «это несправедливо», но Джерек не мог понять смысла их замечаний. Он часто встречался с преподобным Лоуденсом и опять подыгрывал ему. Когда они декламировали псалмы, Джерек вспоминал, что скоро увидится с миссис Амелией Андервуд и снова будет петь эти песенки вместе с ней. Он спросил у преподобного Лоуденса, не слышал ли он что-нибудь о миссис Андервуд, но святой отец ничего не знал о ее дальнейшей судьбе. – Она многим рисковала, выступив в вашу защиту, – сказал однажды преподобный Лоуденс, – ведь материал о вас был напечатан во всех газетах. Возможно, она скомпрометировала себя. Она ведь замужняя женщина. – Да, – согласился Джерек. – Полагаю, она ждет меня, чтобы устроить наше возвращение в будущее. – Да-да, – сказал печально святой отец. – Я считаю, что Лорду Джеггеду пора появиться здесь. Хотя не исключено, что его собственная машина времени нуждается в ремонте, – рассудил Джерек. – Да-да, – его преподобие открыл черную книгу и начал читать. Потом он закрыл книгу и поднял голову. – Вы знаете, что это произойдет завтра утром? – О! Вам сказал Лорд Джеггед? – Лорд Джеггер вынес приговор, если вы это имеете ввиду. Он назначил завтрашний день. Я рад, что вы так хорошо держитесь. – Почему нет? Это превосходная новость. – Я уверен, что Господь знает, как судить вас, – преподобный Лоуденс поднял серые глаза к потолку. – Вам нечего бояться. – Конечно, нечего. Хотя дорога может оказаться трудной. – Да, действительно, я понимаю вас. – О! – Джерек откинулся спиной на койку. – Я с нетерпением жду встречи со всеми друзьями. – Я уверен, что они все будут там, – священник встал. – Я приду завтра пораньше. Если вам будет трудно заснуть, охранник побудет с вами в камере. – Я уверен, что буду спать очень хорошо. Итак, мое освобождение назначено на завтра? – В восемь часов утра. – Благодарю вас за новость. Глаза преподобного Лоуденса, казалось, увлажнились, но это не могли быть слезы, потому что на его лице была улыбка. – Вы не представляете, что это значит для меня, мистер Карнелиан. – Я только рад доставить вам удовольствие, преподобный Лоуденс. – Благодарю вас, – с этими словами святой отец удалился. На следующее утро Джерек с трудом съел довольно плотный завтрак, только чтобы не обидеть охранников, которые явно считали, что принесли ему особое угощение. Все они выглядели печальными и продолжали покачивать головами. Преподобный Лоуденс пришел рано, как и обещал. – Вы готовы? – спросил он Джерека. – Более, чем готов, – ответил тот жизнерадостно. – Вы не возражаете, если я присоединюсь к вам в молитве? – Если вы хотите этого, конечно. Джерек встал на колени рядом со святым отцом и стал повторять слова, которые тот произносил. В этот раз молитва продолжалась дольше, чем обычно, голос преподобного Лоуденса частенько прерывался. Джерек терпеливо ждал каждый раз, когда это случалось. В конце концов, что значили несколько минут, когда он скоро вновь увидится с женщиной, которую любит, и со своим лучшим другом? А затем они покинули камеру в обществе охранников и прошли в незнакомый дворик, окруженный со всех сторон высокими стенами. Там находилось какое-то деревянное сооружение, состоящее из помоста и высокого столба, поддерживающего горизонтальную балку. С балки свешивалась толстая веревка с петлей на конце. На помосте стоял мужчина в черном одеянии. С одной стороны помоста имелись ступеньки. Около мужчины в черном торчал рычаг. Во дворе было еще несколько людей. Они тоже выглядели печальными. Без сомнения, они привыкли к Джереку, (хотя он и не мог вспомнить, видел ли некоторых из них прежде), и не хотели, чтобы он покинул их время. – Это машина? – спросил Джерек преподобного Лоуденса. Он не ожидал увидеть машину времени из дерева, но полагал, что они использовали дерево для множества вещей в эпоху Рассвета. Тот молча кивнул в ответ. – Да. Святой отец помог Джереку подняться по ступенькам, а мужчина в черном завел за спину руки Джерека и крепко связал их. – Наверное, это необходимо? – заметил Джерек мужчине в черном, который до сих пор не произнес ни слова. – В последний раз на мне был резиновый костюм. Черный человек не ответил, заметив священника. – Спокойный человек. Обычно иностранцы кричат и лягаются. Преподобный Лоуденс не ответил. Он смотрел, как мужчина в черном связывает Джереку ноги. Джерек засмеялся, когда мужчина в черном накинул ему на голову грубую веревочную петлю и затянул ее вокруг шеи. Волосинки петли щекотали. – Что ж, – сказал он, – я готов. Когда прибудут Лорд Джеггед и миссис Андервуд? Никто не ответил. Священник что-то тихо бормотал. Кое-кто из людей в толпе, внизу, монотонно произнес несколько слов. Джерек зевнул и поглядел вверх на голубое небо и на поднимающееся солнце. Это было прекрасное утро. Ему так недоставало свежего воздуха в последнее время. Преподобный Лоуденс достал свою черную книгу и начал читать. Джерек повернулся, чтобы спросить, не задерживаются ли Лорд Джеггед и миссис Андервуд, но тут мужчина в черном надел ему мешок на голову, и он больше никого не мог видеть. Джерек пожал плечами. Он был уверен, что друзья скоро появятся. Джерек услышал, как его друг священник кончил читать. Раздался щелчок, и пол провалился под его ногами. Ощущение почти не отличалось от того, когда он путешествовал в машине времени. Ему казалось, что он падает, падает, падает, и мгла сомкнулась над ним.Глава четырнадцатая ПОСЛЕДУЮЩАЯ БЕСЕДА С ЖЕЛЕЗНОЙ ОРХИДЕЕЙ
Первое, что почувствовал Джерек, когда пришел в сознание – что у него очень болят голова и горло. Он хотел коснуться шеи, но его руки все еще были связаны за спиной. Джерек распылил веревки и освободил руки и ноги. Его шея была натерта, а в некоторых местах содрана кожа. Он открыл глаза и посмотрел в помятое многоцветное лицо Браннарта Морфейла. Браннарт зло усмехнулся. – Я говорил тебе, Джерек, я говорил тебе это! И машина времени не вернулась вместе с тобой, это означает, что ты потерял ценное оборудование. Джерек огляделся. Лаборатория была точно такой же, какой он оставил ее. – Может быть, она сломалась, – предположил он. – Вы знаете, она была сделана из дерева. – Дерево? Дерево! Чепуха. Почему ты так охрип? – Там была веревка. В принципе, очень примитивная машина. Все же я вернулся. Лорд Джеггед не навещал вас, когда я отправился в прошлое? Он не брал взаймы другую машину времени? – Лорд Джеггед? В комнату вплыла Миледи Шарлотина. На ней была та же самая лиловая накидка, которую она надела раньше. – Лорд Джеггед не был здесь, мой милый Джерек. В конце концов, вы исчезли совсем ненадолго. – Это подтверждает эффект Морфейла, – сказал Браннарт с удовольствием, – если кто-нибудь отправляется в эпоху, которой не принадлежит, создается столько парадоксов, что время просто выплевывает пришельца, как человек выплевывает гранатовое зернышко, застрявшее у него в горле. Джерек снова потрогал свою шею. – Тем не менее, ему потребовалось некоторое время, чтобы выплюнуть меня, – сказал он с чувством. – Я пробыл там около шестидесяти дней. – О, перестаньте, – Браннарт злобно сверкнул на него глазками. – Лорд Джеггед Канари был там тоже. И миссис Амелия. У них, кажется не было никаких трудностей с пребыванием в том времени, – упорствовал Джерек. На нем все еще был надет серый костюм с широкими черными стрелами. – И посмотрите на это! Они дали мне этот костюм. – Прекрасный костюм, Джерек, – сказала Миледи Шарлотина. – Но вы же знаете, что могли сделать его сами. – Кольца Власти не действуют в прошлом. Энергия не передается назад во времени, – объяснил ей Джерек. Браннарт нахмурился. – А что Джеггед делает в прошлом? – Какие-то его собственные дела, я думаю, вряд ли связанные со мной. Я считал, что он уже здесь. Джерек осмотрел лабораторию, заглядывая в каждый уголок. – Они сказали, что миссис Андервуд присоединится ко мне. – Пока ее здесь нет, – кушетка Миледи Шарлотины подплыла ближе. – Вам понравилось в эпохе Рассвета? – Довольно интересно, – признался Джерек, – хотя были моменты изрядно скучные. И даже такие… – Он в третий раз потрогал пальцем свое горло. – Вы знаете, Миледи Шарлотина, что многое в их жизни делается отнюдь не по их желанию? – Что вы имеете в виду? – она наклонилась вперед, рассматривая его шею. – Ну, мне это трудно объяснить, а вам представить. Я сам не сразу понял. Они становятся старыми, разрушаются. У них нет контроля над телом и над мышлением. Словно они вечно грезят, движимые импульсом, о котором не имеют объективного понятия. Конечно, это может быть ложным впечатлением от их культуры, но так мне кажется. Миледи Шарлотина рассмеялась: – Вам никогда не удастся объяснить это мне, Джерек. У меня нет ума. Есть лишь капелька воображения. И, к тому же, хорошее чувство драмы. – Да… – Джерек забыл об участии, которое она принимала в недавних событиях его жизни. Но для него прошло так много времени, что он не мог чувствовать какой-либо обиды на нее. – Интересно, когда появится миссис Амелия Андервуд? – Она сказала, что вернется? – Я понял так, что Лорд Джеггед привезет ее обратно. – Ты уверен, что Лорд Джеггед там? – настойчиво спросил Браннарт. – Приборы не показывают ни прибытия, ни ухода машины времени. – Должна быть запись об одном прибытии, – рассудительно сказал Джерек – Ведь я вернулся, не правда ли? – Тебе не нужно было использовать машину, эффект Морфейла сделал эту работу за нее. – Но я был уверен, что послан в машине, – Джерек нахмурился. Он начал перебирать в уме все последние события своего недавнего пребывания в прошлом. – По крайней мере, я думаю, что это была машина времени. Может быть, я неправильно понял то, что они пытались объяснить мне? – Вполне возможно, – вставила Миледи Шарлотина, – ведь ты сам сказал, как трудно усвоить их концепцию даже в элементарных вопросах. Лицо Джерека приобрело задумчивый вид. – Но одно несомненно, – он достал из кармана письмо миссис Амелии Андервуд, вспоминая слова, прочитанные ему мистером Гриффитсом. – Я люблю вас, мне не хватает вас, я всегда буду помнить о вас, – он приложил смятую бумагу к губам. – Она хочет вернуться ко мне. – Все говорит в пользу ее возвращения, – сказал Браннарт Морфейл, – хочет она этого или нет. Эффект Морфейла, он не делает исключения, – Браннарт засмеялся. – Но она не обязательно снова попадет в наше время. Тебе придется искать ее во всех прошедших миллионоле-тиях. Я, конечно, не советую этого делать. Ты погибнешь. Помни, что тебе очень повезло на сей раз. – Она найдет меня, – сказал с надеждой Джерек. – Я знаю, она найдет меня. И когда она придет, я построю ей красивую копию ее собственного века, чтобы она никогда не грустила о доме, – Джерек продолжал доверительно излагать свои планы Браннарту Морфейлу. – Вы видите, я провел значительное время в эпохе Рассвета, близко познакомился с их архитектурой и многими обычаями. Наш мир никогда не видел того, что я создам. Мои творения увидят все, все! – О, Джерек, – воскликнула с восхищением Миледи Шарлотина. – Ты начинаешь говорить, как раньше. Ура! Через несколько дней Джерек почти завершил свой обширный замысел. Сооружение простиралось на несколько миль через неглубокую долину, по которой бежала сверкающая река, названная им Темзой. Светящиеся белые мосты нависали над водой через равные интервалы. Вода была глубокого синего цвета, одинакового с цветом роз, украшающих колонны мостов. По обеим сторонам реки стояли копии Кухни Джонса, кофейни, тюрем, уголовного суда и отеля. Ряд за рядом они заполняли улицы из сияющего мрамора, золота и хрусталя. На каждом перекрестке стояла высокая статуя, обычно лошадь или кэб. Действительно, все было очень красиво. Джерек решил немного увеличить здания для разнообразия. Таким образом, кофейня в тысячу футов высотой нависала над пятисотфутовым отелем. Чуть поодаль приютился небольшой Центральный Уголовный суд. Джерек добавлял последние штрихи к своему творению, которое он назвал просто «Лондон: 1896 год», когда его окликнул знакомый апатичный голос. – Джерек, ты гений, и это – твое лучшее произведение. Сидя верхом на огромном парящем лебеде, укутанный в одежды голубого и синего цвета, с высоким воротником, обрамляющим длинное бледное лицо, Лорд Джеггед Канари улыбался одной из своих самых умных, самых загадочных улыбок. Джерек стоял на крыше одной из тюрем. Он переместился по воздуху на статую кэба рядом с парящим лебедем Джеггеда. – Красивый лебедь, – сказал Джерек. – Вы привезли с собой миссис Андервуд? – Ты, значит, знаешь, как я назвал ее? Джерек недоуменно нахмурился. – Что? – Лебедь! Я думал, милый Джерек, что ты имеешь в виду лебедя. Я назвал лебедя «миссис Амелия Андервуд». В честь твоего друга. – Лорд Джеггед, – сказал Джерек с усмешкой, – вы обманываете меня. Я знаю вашу склонность к мистификациям. Помните мир, который вы построили и заселили микроскопическими воинами? В этот раз вы играете с любовью, с судьбой… с людьми, которых знаете. Вы поощрили меня к ухаживанию за миссис Амелией Андервуд. И все детали этой авантюры исходили от вас, хотя вы заставили меня поверить, что это были мои собственные идеи. Я уверен, что это вы помогли Миледи Шарлотине осуществить ее месть. Вы, должно быть, как-то связаны и с моим благополучным прибытием в 1896 год. Далее, вполне возможно, что именно вы похитили миссис Андервуд и принесли ее в наш век в самом начале. Лорд Джеггед рассмеялся. Он послал лебедя кружить вокруг самых высоких зданий. Тот парил по небу, и все время Джеггед смеялся. – Джерек, ты умен. Ты – достойнейший из нас. – Но где сейчас миссис Амелия Андервуд? – окликнул его Джерек Карнелиан, следуя за своим другом; его серый костюм с оранжевыми стрелами трепетал во время движения по воздуху. – Я думал, вы сообщите мне, что привезли ее с собой! – Я? Сообщу? Нет. – Тогда где она? – В Бромли, я полагаю. Англия. Кент. 1896 год. – О, Лорд Джеггед, вы безжалостны! – В некоторой степени, – Лорд Джеггед направил лебедя к голове статуи, на которой восседал Джерек. Это была странная статуя – с повязкой на глазах, с мечом в одной руке и золочеными весами – в другой. – Ты чему-нибудь научился во время своего короткого пребывания в прошлом, Джерек? – Я многое испытал и кое-чему научился, Лорд Джеггед. – Что же, я думаю, это лучший способ учебы, – снова улыбнулся Лорд Джеггед. – Это были вы… лорд главный судья… не так ли? – спросил Джерек. Улыбка стала шире. – Вы должны доставить миссис Амелию Андервуд обратно ко мне, Лорд Джеггед, – требовал Джерек. – Хотя бы только для того, чтобы она смогла увидеть это. – Эффект Морфейла, – сказал Лорд Джеггед, – это неоспоримый факт. Браннарт утверждает это. – Вы знаете больше. – Польщен. Ты слышал, между прочим, что случилось с Монгровом и инопланетянином Юшариспом? – Я был занят и не слышал сплетен. – Они построили космический корабль и улетели вместе распространять сообщение по Вселенной. – Итак, Монгров покинул нас, – услышав эту новость, Джерек почувствовал печаль. – Он устанет от миссии и вернется. – Надеюсь. – А твоя мать, Железная Орхидея. Ей надоело увлечение Вертером де Гете. Я слышал, они теперь с Герцогом Квинским удалились от мира и вместе планируют вечеринку. Орхидея будет направляющим ангелом, поэтому вечеринка обещает быть небезынтересной. – Я рад, – сказал Джерек. – Думаю, что скоро отправлюсь повидаться с ней. – Поезжай, она любит тебя. Мы все желаем тебе счастья. – А я люблю миссис Амелию, – многозначительно сказал Джерек. – Увижу ли я ее снова, Лорд Джеггед? Лорд Джеггед похлопал по шее своего грациозного лебедя. Птица взмахнула крыльями, удаляясь от Джерека. – Увижу ли я ее? – закричал Джерек. И Лорд Джеггед бросил через плечо. – Несомненно, ты увидишь ее. Хотя многое еще должно произойти. Во всяком случае, до Конца Времени еще, по крайней мере, тысяча лет! Белый лебедь поднимался все выше и выше в голубое небо. Лорд Джеггед помахал рукой с его пушистой спины. – Прощай, мой преданный друг! Ариведерчи, влекомый ветром времени листик! Мой воришка! Моя печаль! Моя игрушка! Моя радость! До свидания, милый! И Джерек увидел, как белый лебедь повернул голову на длинной шее, чтобы взглянуть на него загадочными глазами, прежде чем исчезнуть за единственным облачком, плывущим по пустому слепому небу.* * *
Разузоренные в тончайшие оттенки зеленого, Железная Орхидея и ее сын возлежали на зеленой лужайке, плавно спускающейся к лазурному озеру. Был вечер. Между Железной Орхидеей и ее сыном покоилась золотисто-зеленая скатерть, уставленная нефритовыми блюдами с остатками ужина. Здесь были зеленые яблоки, зеленый виноград, сердечки артишоков, имелись чеснок, корнишоны и незрелые дыни, сельдерей и авокадо, виноградные листья и груши, в самом центре этого натюрморта в зеленых тонах ярким мазком краснела редиска. Железная Орхидея слегка приоткрыла свои изумрудные губы, когда она потянулась за неочищенным миндалем. Джерек рассказал ей о своих приключениях в эпохе Рассвета. Ее зачаровал рассказ, хотя она не все понимала в нем. – И ты нашел смысл «добродетели», моя плоть? – Она покончила с миндалем и теперь раздумывала, не отведать ли корнишонов. Джерек вздохнул. – Должен признать, что до конца не уверен в этом. Но, полагаю, «добродетель» имеет какую-то связь с «развращенностью», – он засмеялся и вытянулся на прохладной траве. – Одно порождает другое, мама. – Что такое «развращенность», любовь моя? – Я думаю, это что-то, связанное с неспособностью контролировать свои поступки. Что, в свою очередь, имеет какую-то связь с окружением, в котором предпочитаешь жить… если у тебя вообще есть выбор. Возможно, когда миссис Амелия Андервуд вернется, она сможет объяснить точнее. – А она вернется? – безотчетным жестом пальцы Железной Орхидеи опустились на редиску и отправили ее в рот. – Я уверен в этом, – сказал Джерек. – И тогда ты будешь счастлив? Он посмотрел на нее с некоторым удивлением. – Что такое «счастлив», мама?Майкл Муркок Пустые земли
Майку Гаррисону, Диане Бордман и Элджернону Ч. Суинберну
Ночные страхи, уходите прочь! Нахлынул день, и слышен птичий грай. Мы жнем опять печальный урожай: Тоску и смерть. И видим только ночь. Мы – дети сов! Нам не дано постичь Всю радость жизни, наш удел иной - Знать суету и длить любой ценой Миг боли, что несет страданий бич. Ступайте прочь, могильный мрак и хлад, В Пустые Земли, там, где Высший Суд. Прожить остаток жизни каждый рад, Познав любовь и обретя приют. Но мы – в оковах! Молим рай и ад, Чтоб нас спасли… Хоть знаем – не спасут!..Эрнест Доусон, «Остатки», 1899
Глава первая, В КОТОРОЙ ДЖЕРЕК КАРНЕЛИАН ПРОДОЛЖАЕТ ЛЮБИТЬ
– Ты положил начало новой моде, милый, – сказала Железная Орхидея, столкнув своей изящной ножкой соболье покрывало с ложа, – и я горжусь тобой, как гордилась бы любая мать. О, мой гениальный и эстетный! На другом конце алькова бледный и задумчивый Джерек, почти закрытый огромной грудой подушек, тихо произнес: – Благодарю тебя, о чарующий из цветов, о изысканнейший из металлов. – Но ты все еще в плену сплина, – молвила сочувственно Железная Орхидея, – ты все еще тоскуешь по своей миссис Андервуд! – Да, это так. – Немногие смогли бы длить страсть так долго. Весь мир напряженно следит за вашими страданиями и нетерпеливо гадает: ты ли отправишься к ней, она ли явится к тебе? – Насколько я понял, она обещала вернуться, – пробормотал Джерек Карнелиан. – Ты же знаешь, как трудно порой осмыслить речи странника во времени, тем более живущего в 1896-м, – он улыбнулся. – Но там чудесно, мама! Как я желаю, чтобы ты насладилась видами Кофейных палаток, Дворцами джина, Тюрьмами и прочими памятниками. Там так много людей! Непонятно, как им хватает воздуха на всех! – Конечно, дорогой, – ответ ее прозвучал не столь живо, как можно было бы ожидать, ведь она уже не раз слышала все это. – Но здесь мы все экстазно наслаждаемся твоей копией Лондона. И каждый пытается подражать тебе. Догадываясь, что он начинает надоедать ей, Джерек сел на подушки и стал задумчиво разглядывать Кольца Власти, мерцающие на его перстах. Поджав свои губы совершенной формы, он повернул то, которое украшало указательный палец правой руки. Мгновенно на дальней стене залы сотворилось окно, через которое хлынули легковейные лучи померанцевого солнца. – Какое живописное утро! – воскликнула Железная Орхидея, желая воздать хвалу его вкусу. – Как ты намерен его провести? Джерек пожал плечами: – Признаться, я еще не думал об этом. А что предложишь ты? – Ах, Джерек, я думаю, тебе, основавшему фасон ностальгии, придется по вкусу прогулка в один из древних Руинных Городов. – О, мечтательная королева матерей, ты совершенна в своем ностальгическом настроении! – он нежно поцеловал ее в веки цвета черного дерева. Мы были там в последний раз, когда я был совсем ребенком. Ты подумала о Шаналорне, не правда ли? – Шаналорн, или нечто другое… Мы отправимся туда, куда ты пожелаешь. К тому же, если мне не изменяет память, тебя зачали именно в Шаналорне, – она зевнула. – Руинные Города – единственное, что неизменно в нашем зыбком мире. – Некоторые бы сказали – они были миром, – Джерек улыбнулся. – Но им недостает шарма метрополий эпохи Рассвета, несмотря на всю их древность. – А для меня они полны романтики, – воскликнула Железная Орхидея, захваченная воспоминаниями. Она обвила Джерека своими янтарно-черными руками и прикоснулась губами цвета полночной сини к его челу. Платье ее, сплетенное из живых пурпурных маков вздымалось и опадало в такт дыханию. – О, мой искатель приключений, в какой наряд ты облачишься? Неужели ты все еще придерживаешься стиля стрелоносных костюмов? – Я полагаю, нет, мама! – Джерек Карнелиан с трудом скрыл разочарование по поводу ее пристрастия к черным и синим туалетам, оставшегося со времен ее романа с гибельно-мрачным Вертером де Гете. Мгновение он помедлил, а затем поворотом кольца власти соткал струящуюся мантию беловуального меха. – Превосходно, – промурлыкала Железная Орхидея, оценив по достоинству намерение сына подобрать наряд по контрасту с ее собственным. – Пойдем к твоему экипажу! Они покинули ранчо, которое умышленно сохранялось в том же виде, каким было во времена потерянной возлюбленной Джерека, миссис Амелии Андервуд, перед тем, как она отправилась назад в свой девятнадцатый век, и пересекли хорошо ухоженную лужайку с подстриженной травой, где уже не бродили средь кустов его олень и бизон, а о милой Амелии напоминали только беседки из роз и японские садики. Они подошли к его молочно-белому нефритовому ландо, изукрашеному зеленым золотом, которое было обито изнутри шкурами давно исчезнувших зверей – винилов абрикосовой масти. Железная Орхидея непринужденно расположилась на сиденье, Джерек устроился напротив и побарабанил пальцами по перилам ограждения, дав тем самым экипажу сигнал для подъема. Кто-то создал приятное круглое желтое солнце и роскошные голубые облака, под которыми уходили вдаль невысокие, поросшие травой холмы, шелестели леса из сосен и гвоздичных деревьев, струились янтарные и серебряные реки. Ландшафт радовал глаз, простираясь вокруг на мили. Ландо двигалось в южном направлении, к Шаналорну. Они пересекли тягучее белопенное море, гадая, кто создал тех тварей, напоминающих гигантских дождевых червей, что высовывали из воды то ли головы, то ли хвосты, а, может, то и другое одновременно. – Вероятно, это дело рук Вертера, – предположила Железная Орхидея. – Это его протест против банальности в творчестве! Или самовыражение, как ты думаешь? Но, на мой вкус, все это слишком примитивно. Они вздохнули с облегчением, когда белое море осталось позади. Сейчас они плыли над высокими соляными столпами, отражающими свет красноватого шара, который, вероятно, и был настоящим солнцем. В этом ландшафте таилось молчание, влиянию которого они поддались и не разговаривали, пока не миновали его. – Уже недалеко, – нарушила молчание Железная Орхидея, выглядывая через борт ландо, хотя на самом деле она не имела ни малейшего представления о том, где они находились, да ей и не было нужды знать это, ведь Джерек отдал экипажу четкие распоряжения. Джерек улыбнулся, радуясь воодушевлению матери, которой доставляли удовольствие их совместные вылазки. Вдруг порыв ветра вздел его беловуальную мантию, и она, поднявшись, закрыла ему обзор. Он одернул ее столь лихо, что ткань окутала все сидение, и в этот момент, по какой-то неясной причине, Джерек вспомнил о миссис Андервуд, и сердце его застыло. Прошло уже немало времени, но она все не возвращалась. Он подумал, что по прибытии из Шаналорна нелишне будет навестить капризного ученого старика Браннарта Морфейла, и упросить его дать еще одну машину времени. Несмотря на то, что Морфейл и заявил, что миссис Андервуд, подверженная, как и все, эффекту Морфейла, скоро будет вытолкнута из 1896 года и может оказаться в любом периоде времени последнего миллионолетия, Джерек был убежден, что она вернется именно сюда, в его век, где они и заживут в любви и согласии. Иной раз Джерек подумывал о том, что сам Браннарт, исполненный решимости доказать безупречность своей теории, препятствует попыткам миссис Андервуд вернуться. В душе он осознавал, что это маловероятно, но, с другой стороны, ни для кого не было секретом, что Миледи Шарлотина и Лорд Джеггед Канари вели какую-то свою игру с его судьбой и судьбой Амелии. Доселе он добродушно относился к этому, хотя уже начинал подумывать, не зашла ли их шутка слишком далеко. Железная Орхидея, заметив, что он погрустнел, наклонилась вперед и погладила его лоб. – Снова меланхолия, любовь моя? – Прости меня, прекраснейший из цветов, – Джерек придал лицу нарочито беспечное выражение и улыбнулся. Вдруг на горизонте появилось пульсирующее фиолетовое свечение, и он вскрикнул. – Посмотри! Шаналорн! Она повернулась, и лицо ее, словно черное зеркало, отразило нежное сияние. – О, наконец-то! Они вплыли в ландшафт, который никто не хотел изменять – не только потому, что он уже и так был прекрасен, но и потому, что легкомысленные эксперименты с источниками его энергии могли дорого обойтись. Города, подобные Шаналорну, были очень старыми: ведь строили их в течение многих столетий. Говорили, что они способны преобразовывать энергию целого космоса, и что их загадочные механизмы способны воссоздать Вселенную заново, но никто так и не потрудился проверить эти домыслы, а посему мало кто беспокоил себя такими усилиями, по меньшей мере, последнюю пару тысячелетий. Кроме того, подобные занятия считались вульгарными, да и куда легче было заняться созиданием новых звезд и планет. Города, подобные Шаналорну, были вечны, как само время, хотя, если верить Юшариспу – маленькому чужаку, отправившемуся в космическое путешествие вместе с Лордом Монгровом, именно время-то и не является вечным. Шаналорн дремал в зареве фиолетового света, который, казалось, не мог проникнуть в Город. Некоторые из его причудливых зданий, некогда расплавившись, так и оставались в полужидком состоянии; другие строения постепенно разлагались от действия машинной плесени и энергомха, которые волнообразно перемещались по их остовам. Желто-зеленые, желто-голубые и красно-бурые, с шелестом и глухим шуршанием, они искали свежие утечки из резервуаров энергии, а странные маленькие зверьки шныряли взад и вперед из отверстий, бывших когда-то дверями и окнами; сновали сквозь тени бледно-голубых, малиновых и розовато-лиловых оттенков, отбрасываемых чем-то невидимым, переплывали лужи мерцающего золота и бирюзы и лакомились полуметаллическими растениями, которые, в свою очередь, питались радиацией и кристаллами со странной структурой. А все это время Шаналорн сам себе пел тысячи переплетающихся друг с другом песен, с какой-то завораживающей гармонией. Говорили, что когда-то Город был разумен настолько, что считался самым мудрым существом во всей Вселенной, но ныне он одряхлел, и все было в нем расплывчато – даже воспоминания. Там и тут, среди гниющих металло-драгоценностей и причудливых зданий зыбились миражные сцены истории Шаналорна, отражающие величавые судьбы славных обитателей его. Он имел много названий, прежде чем был именован Шаналорном. – Как он мил, Джерек! – воскликнула Железная Орхидея. – Так где же мы устроим наш пикник? Джерек провел рукой по перилам ландо, и экипаж стал медленно снижаться по спирали, паря над крышами блоков, куполами и шарами, мерцающими тысячами неопределенных оттенков, пока не повис между двумя башнями. – Может быть, там? – он показал на заводь рубинового цвета, окруженную старыми деревьями с длинными ржавыми ветвями, которые почти касались поверхности жидкости. Мягкий красно-золотистый мох покрывал берег, а крошечные насекомые, порхая с металлическим звоном, оставляли в воздухе искрящиеся следы янтарно-аметистового цвета. – О да! Превосходно! Едва экипаж коснулся земли, Железная Орхидея царственной походкой вышла из него и поднесла палец к своим губам, оглядываясь вокруг и как-будто что-то припоминая. – Не здесь ли? Очень может быть… Знаешь, Джерек, мне кажется, что именно в этом месте ты и был зачат, о плод моего лона. Твой отец и я прогуливались вон там, – она показала на группу приземистых строений, виднеющихся на другом берегу, но едва различимых сквозь дрейфующий желтый туман, – и беседовали о древних обрядах – такие места навевают подобные темы. Мне кажется, мы спорили о мертвых науках. Как оказалось, мой спутник интересовался некоторыми старинными рукописями по биологическому реконструированию, и это натолкнуло нас на мысль попытаться создать ребенка теми способами, которые практиковали в эпоху Рассвета, – она рассмеялась. – О, сколько мы наделали ошибок! Но постепенно мы разобрались, что к чему, и в результате появился ты – великолепное создание, продукт искусного мастерства. Вероятно, поэтому я так дорожу и горжусь тобой. Джерек взял ее мерцающую нефритовую руку и поцеловал кончики пальцев, а затем нежно погладил ее по спине: он ничего не ответил, да и зачем – его ласковые прикосновения и так выражали все чувства. Джерек знал свою мать достаточно хорошо, чтобы понять, что она взволнована воспоминаниями. И они возлегли на уютный мох, чтобы насладиться музыкой Города, и созерцать металлическую мошкару, порхающую в фиолетовом сиянии. – Именно покой я ценю больше всего, – пробормотала Железная Орхидея, томно положив головку на его плечо, – тот первозданный покой, который сохранился только здесь. Я часто думаю, а не утеряли ли мы то, чем обладали наши предки – умение осмысливать опыт, который давался им жизнью. Хотя Вертер верит, что оно не совсем исчезло в наших душах. Джерек улыбнулся. – По моему разумению, о достославный первоцвет, в былые времена каждый сам накапливал опыт за прожитые годы. Мы же не зависим от прошлого и можем сделать из него все, что нам вздумается. – А из будущего? – поинтересовалась Железная Орхидея сонно и невнятно. – Если верить прорицанию Юшариспа, то будущее весьма туманно. И его почти уже не осталось. Но Железная Орхидея уже потеряла интерес к этой теме. Она встала и подошла к берегу заводи. В глубине, просвечивая сквозь жидкость, переливался теплый свет, и, очарованная, она засмотрелась на эту картину. – Я сожалею… – начала она, но вдруг замолчала, встряхнув темными волосами. – О, эти ароматы, Джерек! Ты чувствуешь, как они великолепны! Джерек встал и подошел к ней, подобный взмывшему облаку пара, и глубоко вдохнул химическую атмосферу, отчего тело его засветилось. Он посмотрел на изломанный силуэт Города и подумал о том, как изменился он с того времени, когда был обитаем. Некогда люди вдыхали жизнь в его машины и заводы, а затем Город перестал нуждаться и в этом. «Страдал ли он когда-нибудь от одиночества, – размышлял Джерек, – скучал ли по неуклюжей заботе своих мастеровых, подаривших ему жизнь? И куда исчезли обитатели Шаналорна: покинули Город, или Город отринул их?» Джерек обнял мать за плечи, чтобы согреть ее, но вдруг понял, что и сам дрожит от невесть откуда взявшегося холода. – Как он грандиозен, – промолвил Джерек. – Но, я полагаю, он мало чем отличается от Лондона, в котором ты побывал?… – Да, они похожи, – согласился он, – все Города похожи друг на друга тем, что они – города, – вспомнив о Лондоне, он почувствовал еще один укол боли, но превозмог его и засмеялся, игриво спросив. – Какого цвета будет наша трапеза сегодня? – Льдисто-белого и ежевичного, – засмеялась в ответ Железная Орхидея. – Ну, скажем, те крохотные моллюски с ажурными раковинами – не помнишь, откуда они? С приправой из слизи! И, пожалуй, аспирин в желе? – Не сегодня. Я нахожу его несколько пресным. Может, лучше снежная форель? – Пусть будет форель, – скинув платье, она встряхнула его над мхом, обернув в серебристую скатерть. И они приступили к еде, расположившись на противоположных сторонах стола. Но откусив кусочек, Джерек понял, что не голоден. Однако, чтобы доставить удовольствие матери, он отведал немного рыбы, чуть пригубил минеральную воду и лизнул героина. Наконец, к большой радости Джерека, Железной Орхидее наскучила еда, и она предложила рассеять остатки. Как Джерек ни пытался заразиться ее воодушевлением, у него ничего не получалось – смутное чувство беспокойства тревожило его душу. Его тянуло куда-то в другое место, но он знал, что в мире нет таких уголков, где он мог забыть о своей печали. Вдруг он заметил улыбку на лице Железной Орхидеи. – Джерек! Ты печален, мой дорогой! Ты в унынии! Возможно, пришло время закончить играть эту роль, заменить ее на другую, более жизнерадостную? – Увы, я не в силах забыть миссис Андервуд. – Я восхищаюсь твоей непреклонностью. Впрочем, кажется, я это уже говорила тебе. Знаешь, дорогой, насколько мне известно, старые классики считают, что страсть должна постепенно увядать, как увядает цветенье розы алой. Может быть, уже пора начать увядать? – Никогда! Она пожала плечами. – В конце концов, это твоя драматическая пьеса, и ты должен доиграть ее до конца. Я первая, кто сомневается в разумности уклонения от намеченного сюжета. Я думаю, мы можем положиться на твой вкус, который безупречен так же, как твой дом и твой стиль жизни. Я больше не буду надоедать тебе своими советами. – Кажется, это нечто большее, чем «стиль жизни», – задумчиво произнес Джерек, оттягивая кусок коры и заставляя ее мелодично звенеть о металлический ствол дерева. – Мне трудно объяснить это словами. – Как трудно объяснить любое подлинное творение искусства. Он кивнул. – Ты, как всегда, права, Железная Орхидея. – Все разрешится само собой, о плод моего семени, – она взяла его под руку. – Пойдем пройдемся немного по этим спокойным улицам. Вдруг это поможет тебе обрести вдохновение. Он позволил провести себя через заводь, рассеянно слушая рассказ матери о любви его отца к этому Городу и том глубоком знании истории Шаналорна, которым он обладал. – Ты так и не узнала, кто мой отец? – Нет. Это нарушило бы все очарование – ведь мы любили друг друга несколько недель, а он так и оставался с измененной внешностью. – И ни разу не намекнул, кто он на самом деле? – О, видишь ли… – она беспечно рассмеялась, – слишком настойчивая попытка отгадать загадку могла все испортить. Прямо под их ногами какой-то захороненный трансформатор вздохнул и заставил задрожать землю.Глава вторая ИГРА В КОРАБЛИКИ
– Порой я недоумеваю, – сказала Железная Орхидея, когда ландо Джерека уносило их прочь от Шаналорна, – куда могут нас завести все эти модные поветрия во всем следовать эпохе Рассвета? – Что значит «завести», моя жизнь? – Я говорю о художественных сторонах этого явления. Ведь в недалеком будущем, в основном из-за той моды, которую, кстати, именно ты предложил, мы рискуем воссоздать ту эпоху до мельчайших подробностей. И наша жизнь будет неотличима от жизни в девятнадцатом столетии. – Неужели, мое металлическое совершенство? – ее сын был учтив, но все еще не понимал, куда она клонит. – Я имею в виду опасность увлечения реализмом, Джерек, который вряд ли приведет к чему-нибудь хорошему. В конце концов, наша фантазия оскудеет. Ты же сам говорил, что странствие в прошлое всегда отражается на восприятии: делает его расплывчатым, сулит безгрезье. – Возможно, – согласился он, – но я отнюдь не уверен, что мой «Лондон» стал хуже оттого, что основывался на реальных впечатлениях, а не на фантазиях. Напротив, наши причуды могут завести чересчур далеко. Вспомни Герцога Квинского! – Я знаю, тебе редко нравятся его работы. Конечно, они порой настолько экстравагантны, что кажутся бессмысленными, но… – Герцог часто впадает в вульгарность, нагромождая эффекты друг на друга. Я полагаю, что непривычная для него сдержанность в «Нью-Иорке-1930» как раз обязана влиянию моего собственного творчества. Что, откровенно говоря, пошло ему на пользу. – Об этом-то я и веду речь, – сказала она, – сам Герцог Квинский впадает в реализм, и это ужасно! – Орхидея пожала плечами. – А когда ты создашь очередную моду, Джерек, и они опять последуют за ней, – тогда, наконец, ты отучишь их от излишеств в творчестве, – последние слова она произнесла почти мечтательно. – О, как ты добра ко мне. – Больше того, – ее лицо цвета вороньего крыла осветила лукавая улыбка. – Я необъективна, мой дорогой! Ведь ты – мой сын! – Я слышал, что Герцог Квинский закончил свой очередной «Нью-Йорк». Неотправиться ли нам взглянуть на него? – Почему бы и нет? И будем надеяться, что застанем самого Герцога. Я буду рада его повидать. – Я тоже, хотя и не разделяю его пристрастий. – Зато он разделяет твои. Ты должен быть более снисходительным, сын мой! Они рассмеялись.* * *
Они заметили Герцога Квинского издалека. Он стоял в некотором отдалении от своего творения, любуясь им с откровенным восхищением. Он был одет в стиле восьмисотого столетия – сплошные кристаллические спирали и причудливые завитушки, глаза зверей, кисейные шишечки, и наконец, перчатки, которые делали его руки невидимыми. Заметив ландо, Герцог Квинский задрал голову вверх, и его чувственное лицо, украшенное роскошной черной бородой, озарилось улыбкой. – Да это сама Железная Орхидея во всей своей темной красе! И Джерек тоже с ней! Я благодарю, мой дорогой, за то, что ты вдохновил меня на создание этого шедевра. Прошу, расценивай эту композицию как символ своего триумфа! У Джерека потеплело на душе при виде Герцога Квинского, что, впрочем, случалось каждый раз. Пусть Герцог не отличался тонким вкусом, зато добродушия ему было не занимать. И Джерек решил похвалить создание, плод трудов Герцога, несмотря на свое истинное мнение об этой работе, которая, честно говоря, была весьма заурядна. – Насколько ты можешь заметить, мой «Нью-Йорк» из того же самого периода, что и твой «Лондон». Мне кажется, получилось очень близко к оригиналу. Когда они выходили из ландо, Железная Орхидея на мгновение сжала свою ладошку в руке Джерека, напоминая о недавней беседе. – Видите ту высокую башню в центре – это Эмпайр Стейт Апартаменте, вся в ляпис-лазури и золоте. Ее возвели для величайшего короля Нью-Йорка – Конга Могущественного, который, как вы знаете, правил городом весь Золотой Век. Кстати, та бронзовая скульптура, которую вы видите на вершине здания – это и есть сам Конг… – Он выглядит впечатляюще, – одобрила Железная Орхидея, – но как-то не по-человечески. – На то она и эпоха Рассвета, – вздохнул Герцог. – Впрочем, продолжим осмотр. Высота следующего здания больше мили с четвертью – размеры я взял из учебника истории. Согласитесь, мои друзья, это великолепный образчик простоты варварской архитектуры Урановых столетий – как некоторые утверждают – один из самых ранних. Джереку показалось, что Герцог Квинский цитирует учебник истории целыми главами: уж больно слова его напоминали знакомый текст. – На мой вкус, здания расположены слишком близко друг к другу, – поджала губы Железная Орхидея. – Это сделано умышленно, – ответил Герцог, ничуть не обидевшись на критику. – В эпосе тех времен прямо сказано об узости улиц, которые вынуждали людей передвигаться по-крабьи. Отсюда, между прочим, в Нью-Йорке и пошел термин «тротуар». – А что это? – поинтересовался Джерек, показывая на коллекцию живописных домиков с черепичными кровлями. – По-моему, они не характерны для этой эпохи. – Это селение Гринвич, своего рода музей, часто посещаемый моряками. Их знаменитый корабль причален в устье реки. Видите его? – он показал на нечто, привязанное к пирсу, и бросающее отблески на темную воду лагуны. – Он напоминает огромную стеклянную бутылку, – удивилась Железная Орхидея. – Вот именно, но они каким-то образом умудрялись на ней плавать. Без сомнения, секрет движения утерян, но я воссоздал корабль, основываясь на рисунке, который отыскал в старинных рукописях. Они именовали его «Катти Сарк». – Герцог Квинский самодовольно усмехнулся. – Теперь мне тоже подражают, мой дорогой Джерек. Миледи Шарлотина была так потрясена этим зрелищем, что занялась воспроизведением других знаменитых кораблей той эпохи. – Да, ваша тщательность достойна подражания, – согласился Джерек. – А кем вы населили город? – он прищурил глаза, чтобы лучше видеть. – Там вроде бы что-то двигается? – Да, каких-то восемь миллионов человек. – А что означают те крошечные вспышки? – спросила Железная Орхидея. – Это щелкунчики, – ответил Герцог Квинский. – В те времена Нью-Йорк привлекал очень много артистов, преимущественно, фотографов. В народе их называли «щелкунчики». Обратите внимание, как они щелкают своими камерами. – У вас несомненно есть талант к доскональному исследованию, – признал Джерек. – Допускаю, что я многим обязан первоисточникам, – согласился Герцог Квинский, – к тому же в своем питомнике я отыскал странника во времени и хорошенько порасспросил его. Правда, он не совсем из того периода, который меня интересует, но довольно близкого, по крайней мере, для того, чтобы иметь представление о том времени. Но не будем отвлекаться. Итак, большинство зданий выполнено из люрекса и разноцветного плексигласа, любимых материалов мастеров эпохи Рассвета. Защитные талисманы, как водится – из неона, чтобы отогнать силы тьмы. – О да, – оживленно воскликнула Железная Орхидея. – У Гэфа Лошади-в-Слезах было что-то подобное в его «Граде Проказы-2215». – Неужели? – тон Герцога стал прохладнее. Ни для кого не секрет, что он недолюбливал творения Гэфа, считая их чересчур ремесленными. – Мне непременно стоит взглянуть. – Он близок по настроению к «Вневременному Съедобному Бирмингему» Эдгаросердного По, – вставил Джерек, чтобы увести разговор от щекотливой темы. – Я вкусил его пару дней назад. Признаться, он был вполне съедобен. – То, чего не достает По в зрелищности, он наверстывает в кулинарном отношении. – Несомненно, «Бирмингем» сделан со вкусом, – согласилась Железная Орхидея. – Но некоторые его здания – всего лишь скверная копия «Рима-1945» Миледи Шарлотины. – Помню, там нелепо вышло со львами, – пробормотал сочувственно Герцог Квинский. – Да, они вышли из-под контроля, – заметила Железная Орхидея. – Я ведь не раз предостерегала ее. А все потому, что не хватило христианских мучеников. Но все равно, не стоило распылять город только потому, что львы сожрали все его население. Зато летающие слоны были хоть куда! – Мне трудно судить, ведь я никогда не видел цирка, – сказал Джерек. – Друзья мои, я как раз собирался наведаться на озеро Билли Кид – поглядеть на корабли. Ходят слухи, что они уже спущены на воду, – Герцог Квинский кивнул в сторону своего нового аэромобиля, вместительной копии одного из марсианских летательных аппаратов, одного из тех, что пытались уничтожить Нью-Йорк во времена, занимающие Герцога. – Не желаете ли присоединиться ко мне? – С удовольствием, – ответили Железная Орхидея и Джерек, полагая, что данный способ времяпрепровождения ничуть не хуже любого другого. – Мы последуем за вами в моем ландо, – сказал Джерек. Герцог Квинский взмахнул своей невидимой рукой. – В моем воздушном экипаже достаточно места, но, как вам будет угодно, – он пошарил в складках своей кристаллической одежды и вытащил летный шлем с очками-консервами. Надев его, он подошел к своей летательной машине, взобрался с некоторым усилием по гладкой поверхности и плюхнулся на сиденье пилота. Джерек с интересом наблюдал за тем, как агрегат оглушительно взревел, выплюнул раскаленный дождь красных искр и дохнул голубым дымом. Наконец, сооружение, пошатываясь, грузно двинулось вверх. Он лишний раз утвердился в своем наблюдении, что Герцог предпочитает не слишком надежные виды транспорта.* * *
Для предстоящей регаты озеро Билли Кид специально расширили, отодвинув берега почти до самых гор, чтобы налить побольше воды. По берегу, там и здесь, фланировали небольшие группки зрителей и глазели на корабли, уже спущенные на воду. И правда, там было на что посмотреть. Джерек и Железная Орхидея приземлились на белый песок пляжа и направились к Герцогу; тот о чем-то уже беседовал с устроительницей зрелища Миледи Шарлотиной, которая по-прежнему предпочитала иметь несколько грудей и лишнюю пару рук. Ее сиреневую кожу оттеняло ожерелье из нескольких длинных полупрозрачных матерчатых крючков разных оттенков. Большие глаза засветились от удовольствия, когда она увидела новых гостей. – О, Железная Орхидея, как я вижу, ты все еще носишь траур. Я уж не чаяла увидеть тебя! О, Джерек Карнелиан, самый знаменитый из исследователей времени! Слегка уязвленная ее репликой, Железная Орхидея попыталась незаметно придать своей коже более естественный оттенок. Но она чуть не рассчитала, и ее платье неожиданно так вспыхнуло белизной, что все прищурились. Бормоча извинения, она убавила его яркость и задиристо спросила. – Дорогая, какая же из этих лодок ваша? Миледи Шарлотина поджала губы в шуточном неодобрении. – Кораблей, о самое привлекательное из растений. Вон тот корабль принадлежит мне, – она кивнула в направлении огромной статуи женщины, лежавшей животом на воде, с раскинутыми симметрично руками и ногами, деревянную голову которой венчала корона из золота, щедро усыпанная бриллиантами. – Ее зовут «Королева Элизабет». Едва они взглянули на корабль, как из ушей макета повалили огромные клубы черного дыма, а изо рта, который почти что касался воды, раздался леденящий душу гудок. – А судно неподалеку – это, кажется, «Монитор», который перевозил девственниц или что-то еще похуже? Это была посудина поменьше «Королевы Элизабет», и являла взору тело мужчины с огромной бычьей головой на плечах, спина которого была прогнута вниз. – Алый О'Кэла не в силах отринуть свою одержимость зверями. Однако корабль весьма мил. – Неужели они все из одного и того же периода? – изумился Герцог Квинский. – И даже вон тот? – он показал в сторону нелепого ковчега, бултыхающегося поблизости. – Он больше напоминает остров. – Это пароход «Франция», – пояснила Миледи Шарлотина. – Принадлежит Гриволю Весеннему Локону. А тот, что под парами спешит к нему, именуется «Водяная Лилия», хотя я уверена, что никогда такого растения не было, – она так и сыпала именами судов. – «Мэри Роу», «Тандебург», «Пэтиа». Скажите, разве не великолепен вон тот, величавый «Ленинград»? – Они куртуазны, – уклоничиво молвила Железная Орхидея. – Что же они будут делать, когда соберутся все? – Сражаться! Сражаться и еще раз сражаться! – распаленно вскричала Миледи Шарлотина. – Именно для этого их и созидали в эпоху Рассвета. Вы только представьте: два корабля маневрируют в тяжелом тумане, который стелется по воде. Ищут друг друга и не могут найти! Скажем, моя «Королева Элизабет» и «Наутилус» Эдгаросердного По. Хотя «Наутилус» рискует растаять задолго до конца зрелища. И вот – «Наутилус», наконец, замечает «Королеву Элизабет», его сирены разгоняют туман, он нацеливает свои дымовые трубы, и – у-у-у-х – на «Королеву Элизабет» обрушиваются тысячи маленьких острых гвоздиков. Она содрогается, но наносит ответный удар из своих передних бортовых отверстий, что скрыты в ее грудях, мне помнится, именно там я их поместила – четырьмя смертоносными смокингами! Они обворачиваются вокруг «Наутилуса» и тянут его на дно. Но «Наутилус» не сдается… Ладно, вы сможете легко домыслить остальное, а я не буду портить вам рассказами предстоящее зрелище. Почти все корабли уже собрались. Я думаю, подождем еще парочку и начнем! – Я не могу ждать, – сказал Джерек рассеянно. – Кстати, Миледи Шарлотина, Браннарт Морфейл все еще обитает подле вас? – Да, его жилище у Нижнего озера. Полагаю, он и сейчас там. Я просила его помочь построить «Королеву Элизабет», но он был слишком занят. – Он все еще сердит на меня? – Еще бы, ведь ты потерял одну из его любимых машин времени! – Значит, она не вернулась? – Нет. А что, ты ждешь ее? – Я надеюсь, что миссис Андервуд воспользуется ей, чтобы возвратиться сюда. Вы сообщите мне, если она все же вернется? – Конечно, конечно! Ты знаешь, твоя связь с этой зверюшкой – весьма любопытна для меня. – Благодарю вас. Вы случайно не встречали Лорда Джеггеда Канари? – Он обещал быть. Лорд намеревался сотворить свой корабль, но скорее всего, поленился или забыл. Вполне возможно, у него очередная стадия ухода в себя? Как ты знаешь, время от времени он избегает общества. О, Миссис Кристия, что это? Неистощимая Наложница захлопала длинными ресницами. Она нарядилась в дымно-розовое платье, а на золотистые волосы приколола розовую шляпку. На ее руках были розовые перчатки, и она прятала что-то в ладонях. – Строго говоря, это не совсем по теме, – сказала она, – но я подумала, что он понравится вам. – Еще бы! Как называется это чудо? – «Приятный Парусник Венеры», – Миссис Кристия улыбнулась Джереку. – Привет, мой дорогой. Пылает пламя твоей страсти столь же пылко, как и прежде? – Без чувства моего я не провел ни дня! – Ты достоин награды. – Я верю, что дождусь, – Джерек поцеловал ее изящный носик. В ответ она погладила его ухо. – Где ты раскопал все эти старинные чудесные чувства? – спросила она. – Ты обязательно должен поговорить с Вертером, ведь у него похожие страдания, хотя он и не щеголяет ими, как некоторые. Он рассказывал тебе о своем «грехопадении»? – Я не встречал его со времен моего возвращения из 1896-го. Миледи Шарлотина прервала их, приобняв бедро Миссис Кристии. – Вертер превзошел сам себя, как и ты, Неистощимая Наложница. Но ты не осуждаешь его? – О, что ты, право! Джерек, я просто обязана поведать тебе о «преступлении» Вертера. Все началось в тот день, когда я случайно сломала его радугу… – И она принялась рассказывать историю, которая показалась Джереку занимательной не только потому, что действительно являлась таковой, но и потому, что она имела касательство к некоторым размышлениям самого Джерека. Он не раз пытался найти общий язык с Вертером, но каждый раз этот мрачный одиночка начинал обвинять его в легкомыслии и бесчувственности. Поэтому весь разговор сводился к нескольким неуместным вопросам Джерека и постоянным упрекам со стороны Вертера. Пока Миссис Кристия и Джерек Карнелиан, взявшись за руки, шли вдоль берега, на озере корабли занимали свои позиции. Солнце сияло над голубой спокойной водой, то там, то тут слышалось чье-то оживленное бормотание, и Джерек почувствовал, как возвращается к нему прежний юмор. Миссис Кристия как раз достигла конца истории. – Я надеюсь, Вертер оценил по достоинству эту шутку, – спросил Карнелиан. – Да. Он ведь такой искренний, правда, по-своему. – Я это знаю! Скажи, он… – Джерек осекся, узнав высокого человека, стоящего у самой воды и поглощенного беседой с Эдгаросердным По, на котором, как обычно, была надета высокая варварская шапчонка. – Прошу прошения, Кристия. Вы не сочтете невежливым с моей стороны, если я скажу пару слов Лорду Джеггеду? – О чем ты говоришь? Ты сама изысканность! – Лорд Джеггед! – закричал Джерек. – Как я рад нашей встрече! Лорд Канари, облаченный в шелковый камзол малинового цвета, повернулся на крик. Он был по-прежнему красив, но тень усталости стерла улыбку с его удлиненного благородного лица, а седины в висках как будто прибавилось. – О, Джерек, пряность моей жизни, это ты? Эдгаросердный По как раз записывал мне рецепт своего корабля. Он уверяет, что, вопреки сплетням, тот не растает, по меньшей мере, еще четыре часа. Я полагаю, тебе будет интересно послушать, как нашему другу удалось совершить этот подвиг. – Приветствую тебя, Эдгаросердный По, – кивнул Джерек толстому и жизнерадостному творцу благоухающего вулкана. – Лорд Джеггед, откровенно говоря, я хотел бы побеседовать с вами… Но Эдгаросердный По уже удалялся, влекомый под руку щепетильной Кристией. – …о миссис Андервуд, – закончил фразу Джерек. – Она вернулась? – Точеное лицо повелителя Канари осталось бесстрастным. – Вы же знаете, что нет. Лорд Джеггед чуть-чуть улыбнулся. – Ты начинаешь приписывать мне способность предугадывать события. Я польщен, но боюсь, что не заслуживаю такой чести. Встревоженный неуловимыми изменениями, омрачившими их старую дружбу, Джерек склонил голову. – Простите меня, неунывающий Джеггед. Я полон предчувствий. Я, выражаясь словами древних, «задыхаюсь от возбуждения». – Возможно, ты подхватил одно из тех древних заболеваний, мое дыхание, которые вызываются словом, попадающим в наш мозг и заставляющим оный атаковать тело… – Наука эпохи Рассвета скорее ваша специальность, чем моя, Лорд Джеггед. Я полагаю, вы обдуманно ставите диагноз. Лорд Джеггед искренне расхохотался, что бывало с ним довольно редко, и обнял Джерека за плечи. – Нет, мой обворожительный, отравленный обожанием озорник, мой золотой гусь, моя печаль, моя молитва. Я уверен, только ты и здоров из всех нас. И, верный своей обычной загадочной манере, он не стал утруждать себя объяснением сказанного, а вместо этого обратил внимание Джерека на начало регаты. Над мерцающим морем навис скверный желтый туман, солнце потускнело, и оттого все стало вокруг мрачным и сырым. Огромные смутные тени в тумане поползли, беспрерывно гудя. Джеггед поправил воротничок, не снимая руки с плеча Джерека. – Мне обещали, что они будут сражаться до победного конца.Глава третья ПРОСИТЕЛЬ ПРИ ДВОРЕ ВРЕМЕНИ
– Все ваше прозябание в подражании прошлому не более, чем упадничество, – нудел Ли Пао. Миледи Шарлотина откровенно скучала. Китаец, как и большинство странников во времени, был крайне утомителен. – Вы бы хоть имитировали добродетели прошлого, – он раздраженно одернул свой потертый костюм из дешевого материала, снял хлопчатобумажную фуражку и отер пот со лба. – Добродетели? – негодующе повторила Железная Орхидея. Ей показалось, что она где-то уже слышала это слово. – Все лучшее, чем обладало прошлое. Обычаи, мораль, принципы, стандарты… – Штандарты – это флаги? – спросил Гэф Лошадь-в-Слезах, на мгновение оторвавшись от созерцания своего нового пениса. – Слова Ли Пао всегда трудны для понимания, – пояснила Миледи Шарлотина, которая была хозяйкой этого вечера. После потопления судов все собрались на ужин в ее обширном палаццо под озером, где она потчевала гостей ромом и корабельными сухарями. – Вы в самом деле имеете в виду флаги, любезный? – До известной степени, да, – ответил Ли Пао, стараясь не потерять внимание аудитории. – Если под флагами мы будем подразумевать верность идеалам, сплоченность, борьбу за светлое будущее. Никто не понимал слов луноликого брата, даже Джерек Карнелиан, знаток философии эпохи Рассвета. Когда Железная Орхидея повернулась к нему за объяснением, Джерек только пожал плечами и улыбнулся. – Я считаю, – немного повысил голос Ли Пао, – вы должны использовать все, что нажили, на благо какой-нибудь великой цели. Чужак Юшарисп… Герцог Квинский смущенно кашлянул. – …принес информацию о неизбежном катаклизме. Надо проверить, насколько достоверна эта информация, и не упустить шанс спасти Вселенную, всемерно использовав ваши научные ресурсы. – Я уже ничего не понимаю, – жеманно пожаловалась Миссис Кристия. Она подошла к Гэфу Лошади-в-Слезах, и внимательно рассмотрела его мужское достоинство. – Он чудесного цвета, – одобрила она. – Здесь немало пленников ваших прихотей, таких, как я, которые, если дать им возможность, могут изучать базис вашего могущества, – продолжал Ли Пао. – Джерек Карнелиан, вы единственный, кто наделен склонностью к воссозданию ранее существовавших добродетелей. Вы наверняка разделяете мою точку зрения? – Не совсем, – возразил Джерек. – Почему вы настаиваете на спасении Вселенной? Не лучше ли предоставить всему идти своим чередом? – В мои дни были мистики, – ответил Ли Пао, – которые считали ненужным, как они говорили, «вмешиваться в природу». Но если бы к ним прислушались, вы бы не обладали такой властью. – Мы все равно были бы счастливы, – проблеял недавно превратившийся в овцу Алый О'Кэла, терпеливо разгрызая твердые сухари. – Чтобы быть счастливым, человеку не нужна власть. – Это не совсем то, что я пытаюсь доказать, – желтоватая кожа Ли Пао порозовела. – Сегодня вы бессмертны, но погибнете, когда планета разрушится. Лет через двести вы, вероятно, умрете. Вы этого добиваетесь? Миледи Шарлотина зевнула. – Многие из нас умирали на какое-то время. Недавно вот Вертер де Гете бросился вниз со скалы. Да, Вертер? Мрачный Вертер вздохнул, подтвердив тем самым ее слова, продолжая угрюмо прихлебывать ром. – Но я говорю о постоянной смерти, смерти без воскрешения, – в голосе Ли Пао зазвенела патетика. – Вы должны понять. Вы умные… – Я не умна, – оскорбленно фыркнула Миссис Кристия. – Как скажете, – не задерживаясь на этом пункте, продолжал Ли Пао. – Вы хотите умереть навсегда, Миссис Кристия? – Я никогда серьезно не задумывалась над этим. Полагаю, нет. Но это не составит никакой разницы, не так ли? – Для кого? – Для меня. Если я буду мертва. Ли Пао нахмурился. – Будет лучше, если мы умрем. Мы – бесполезные пожиратели лотоса! – раздался дребезжащий монотонный голос Вертера де Гете из дальнего угла залы. Он с отвращением уставился на свое отражение в зеркальном полу. – Ваши слова всего лишь поза, Вертер, – пожурил его бывший член правящего комитета Народной Республики двадцать седьмого столетия, – желание потрафить своей безумной музе. Я же говорю о реальности. – Разве не реальна приверженность музе? – Лорд Джеггед Канари прогуливался по комнате, восторгаясь цветами, растущими прямо из потолка. – Не была ли ваша роль поэтической, возвышенной, Ли Пао, когда вы жили в своем собственном времени? – Поэтической? Никогда! Идеалистической, может быть. Но мы имели дело с суровой реальностью. – Насколько мне известно, имеется много форм поэзии. – Вы просто хотите сбить меня с толку, Лорд Джеггед. Я давно вас знаю. – О, что вы, я просто хотел уточнить. Возможно, чересчур метафорически, – согласился он. – Увы, метафора иногда страдает неточностью, зато всегда обладает образностью. – Я думаю, вы стараетесь опровегнуть мои аргументы лишь потому, что во многом согласны с ними, – Ли Пао явно чувствовал свое превосходство в споре. – Я во многом согласен с любыми аргументами, – в улыбке Лорда Джеггеда появилась усталость. – Все реально. Или может стать реальностью. – Да уж, с такими ресурсами, какие имеются в вашем распоряжении… – протянул Ли Пао. – Я не совсем это имел в виду. Скажите, вы в своей Республике сделали мечту реальностью? – Она и была основана на реальности. – Мое слабое знакомство с периодом вашего обитания не позволяет мне сколько-нибудь уверенно судить об этом. Чья же мечта, хотел бы я знать, легла в основу вашей реальности? – Ну, скорее, мечты… – Поэтическое вдохновение? – Вроде того… Лорд Джеггед поправил мантию. – Простите, Ли Пао, я отвлек вас от вашей проповеди. Пожалуйста, продолжайте, я умоляю! Но с Ли Пао уже сошел раж, и он погрузился в угрюмое молчание. – Говорят, величественный Лорд Джеггед, что вы путешествовали во времени. Ваши слова о периоде Ли Пао основаны на прямых впечатлениях? – бросила Миссис Кристия, отвлекшись от созерцания фаллоса Гэфа. – Я расцениваю слухи, как особый род искусства, – мягко ответил Лорд Джеггед, – и посему мне пристало подтверждать или отрицать любую сплетню, сладкая Миссис Кристия. Неистощимая Наложница кивнула и углубилась в изучение анатомии Гэфа. Джерек с трудом поборол в себе желание подробнее порасспросить Лорда Джеггеда по этому поводу. Тем временем Лорд Джеггед продолжил: – Кое-кто считает, что времени не существует в действительности. По их мнению, это наш примитивный ум навязывает событиям определенный порядок. Другие идут дальше и утверждают, что все события в настоящем и прошлом происходят одновременно. Джерек силился не выказать интерес к этой теме и налил себе еще рюмку рома, но все же не удержался и вставил. – Как вы считаете, возможно ли сотворить новую машину времени Шаналорна или другого Города… – Пустое! – раздался ворчливый голос Браннарта Морфейла. С тех пор, как Джерек в последний раз встречался с ним, он добавил дюйм или два к своему горбу. Ученый усиленно хромал, пересекая зал в своем халате в пятнах от лабораторных химикалий. – Бывал я в этих Городах. Они дали нам власть, но утеряли мудрость. Я послушал, что вы тут говорили, Лорд Джеггед, и скажу вам, что эта теория придумана невеждами. Уверяю вас, что никто ничего не сделает со временем, если не будет рассматривать его как некую линейную величину. – Браннарт, это вы! – обрадовался Джерек. – Рад нашей встрече! – Это опять ты, Джерек? Я не забыл, что из-за тебя потерял одну из своих лучших машин времени. – Значит, вы ее так и не обнаружили? – Нет! Мои инструменты слишком грубы, чтобы засечь ее. Я подозреваю, что она попала далеко назад, в какой-нибудь пред-Рассветный период. – А как насчет циклической теории? – спросил Лорд Джеггед. – Как вы к ней относитесь? – Именно так, как она того заслуживает! – А та информация, которую принес Юшарисп? Она помогла вам чем-нибудь? – Я надеялся задать Юшариспу несколько вопросов и сделал бы это, но вмешался Джерек. – Я сожалею, – сказал Джерек, – но… – Ты – живое доказательство неизменности времени, – сказал Браннарт Морфейл. – Если бы ты мог отправиться назад и исправить то, что сам накуролесил… Но ты этого не можешь, так что лучше помолчи! Браннарт Морфейл демонстративно отвернулся от Джерека и, криво улыбаясь, обратился к Лорду Джеггеду: – Так что вы там говорили о циклической природе времени? – Я полагаю, вы несправедливы к Джереку, – ответил Лорд Канари. – Ведь все это затеяла Миледи Шарлотина. – Не будем больше говорить об этом. Вы хотели знать, имеет ли касательство к циклической теории сообщение Юшариспа о смерти космоса, о Вселенной, заканчивающей один цикл и начинающей другой. – Пустое, – в тон ему сказал Лорд Джеггед и, оглянувшись назад, подмигнул Джереку. – Вы, Браннарт, должны быть добрее к мальчику. Он может принести вам сведения, так сказать, из первых рук. Потом, мне кажется, что вы сердитесь на него потому, что его приключения опровергают ваши теории! – Чепуха! То, что он говорит, очень наивно. Никому не дано прохаживаться по времени, как по лужайке. – Нет, Морфейл, – сказал Джерек тихим голосом. – Миссис Андервуд обещала мне, что вернется, вы это знаете. Я уверен, она выполнит свое обещание. – Невозможно, или, по крайней мере, маловероятно. Время не разрешает парадоксов. Теория Морфейла гласит: раз путешественник во времени посетил будущее, он не сможет вернуться в прошлое. И далее: любое пребывание в прошлом ограничено, так как может изменить ход будущего и вызвать хаос. Эффект Морфейла – мой термин для обозначения этого феномена. И то, что твое пребывание в эпохе Рассвета было необычайно долгим, не дает тебе права критиковать мою теорию. Шансы твоей подружки из девятнадцатого века вернуться в эту точку времени ничтожны – миллион к одному. Ты можешь поискать ее и, если повезет, привезти сюда. Учти, у нее нет своей машины времени, и перенестись в будущее она не может. – У них в те времена были примитивные машины времени, – возразил Джерек. – В литературе имеется много ссылок на них. – Возможно, но мы никогда не встречали ни одной из того периода. Непонятно, как вообще она сюда попала. – Вероятно, ее привез какой-нибудь странник из другого времени? – предположил Джерек, обрадовавшись, что наконец привлек внимание Браннарта. – Она однажды упомянула фигуру в капюшоне, которая появилась в ее комнате незадолго перед тем, как она очнулась в нашем веке. – Опять ты за свое, – вспылил Морфейл. – Я сто раз говорил тебе, что у меня нет данных о машине времени, прибывшей в то время. После разговора с тобой, Джерек, я еще раз все проверил. Или ты ошибаешься, или она солгала тебе… – Она не могла солгать мне, так же, как и я ей, – сказал просто Джерек. – Ведь мы любим друг друга. – Да! Да! Играй в любые игры, которые забавляют тебя, Джерек Карнелиан, но не за счет Браннарта Морфейла. – О, мой почтенный создатель чудес, не можете ли вы заставить себя проявить немного больше великодушия к нашему отважному Джереку? Кто еще среди нас посмеет погрузиться в эмоции эпохи Рассвета? – проворковал Лорд Джеггед. – Я посмею, – сказал Вертер де Гете, приблизившись к ним, – и весьма осмысленно, смею вас уверить! – Но твой характер, мрачный Вертер, – улыбнулся Лорд Канари, – не веселит других так, как характер Джерека! – Мне дела нет до мнения толпы, – отрезал Вертер. – Элита поддерживает меня. А Джерек почти не коснулся концепции «греха»! – Я не смог понять его, тщеславный Вертер, даже после твоего объяснения, – извиняющимся тоном произнес Джерек. – Я старался, особенно потому, что миссис Андервуд разделяла твое мнение. – Старался, – презрительно передразнил Вертер. – Если старался бы, то не потерпел бы неудачу. То ли дело – я. Спроси Миссис Кристию. – Она рассказала мне. Я был восхищен… – Ты позавидовал мне? – свет надежды мелькнул в мрачных глазах Вертера. – Конечно. Вертер улыбнулся и вздохнул с удовлетворением. Он великодушно похлопал Джерека по плечу. – Приходи как-нибудь в мою башню. Я постараюсь помочь тебе понять природу греха. – Ты добрый, Вертер. – Надо же сеять разумное, доброе, вечное! – Это нелегкая задача, – сказал злорадно Браннарт Морфейл. – Исправь его манеры, и я буду вечно благодарен тебе. Джерек рассмеялся. – Браннарт, вы не боитесь, что ваш «гнев» зайдет слишком далеко? – он сделал движение по направлению к ученому, который поднял шестипалую руку. – Пожалуйста, избавь меня от просьб. Делай свою собственную машину времени. Думай себе на здоровье, что твоя женщина из эпохи Рассвета вернется. Делай, что хочешь, только меня не трогай! Твое невежество раздражает, и, раз ты не веришь прогрессивным теориям, я больше не хочу иметь с тобой ничего общего. У меня есть своя работа. – Он помолчал немного и продолжил: – Если, конечно, ты вернешь мне назад машину времени, которую ты потерял, я смогу уделить тебе немного времени! – С этими словами, ухмыляясь, он заковылял в свою лабораторию. – Он упорствует в своем заблуждении, – пробормотал Джерек Лорду Канари. – Ведь наши предки имели машину времени уже в 1896 году, и вы знаете это! Именно по вашим инструкциям меня поместили в одну из них и вернули сюда. – Да-да, – рассеянно промолвил Лорд Джеггед, стряхивая пылинку с рукава. – Ты уже говорил это прежде. – Я неутешен! – сказал вдруг Джерек. – Вы не дали мне прямого ответа. Браннарт отказывает в помощи. Что мне делать, Джеггед? – Развлекаться, мой юный друг! – В эти дни я очень быстро устаю от развлечений. Мой мозг устал, воображение утеряно навеки! – А твои приключения в прошлом разве не принесли тебе утешения? – Я уверен, что в 1896 году были вы, Джеггед. Непонятно, почему вы это отрицаете! – О, Джерек, мой дерзкий ребенок, какие интересные намеки! Как мы близки с тобой по темпераменту! Ты должен развить свою теорию! Подумать только, бессознательные похождения во времени! – Лорд Джеггед взял Джерека за руку и повел его обратно к гостям. – Я полагаю, – не унимался Джерек, – что мы хорошие друзья, и вы не станете намеренно… – Позже! Я выслушаю тебя позже, моя любовь, когда наш долг по отношению к гостям будет выполнен! И Джереку показалось, что под беззаботным видом Лорда Джеггеда Канари скрывалось смущение, впрочем, не меньшее, чем у него самого.Глава четвертая К ТЕПЛЫМ СНЕЖНЫМ ГОРАМ
Епископ Тауэр прибыл поздно. Он выглядел величественно в своем огромном головном уборе в три человеческих роста, в форме каменной башни эпохи Рассвета. Длинные красивые волосы недурно сочетались с большими кустистыми красными бровями на лице с медвежьими чертами. Он был одет в платье из золота и серебра, и держал в руках огромный резной магический жезл забытого религиозного ордена двадцать первого века. Приблизившись к Миледи Шарлотине, он поклонился. – Я оставил свой сюрприз наверху, самая прекрасная из хозяек. Там никого нет, только какой-то мусор плавает на поверхности воды. Наверное, я пропустил регату? – Боюсь, что пропустили, – Миледи Шарлотина подошла к нему и взяла за руку. – Но вы должны разделить с нами наш морской паек, – она потянула его к бочонкам с ромом. – Вы предпочитаете горячий или холодный? – спросила она. Пока Епископ Тауэр смаковал ром, Миледи Шарлотина описывала ему битву на озере Билли Кид. – …способ, которым «Бисмарк» Безголосой Леди потопил мою «Королеву Элизабет» был, по меньшей мере, гениальным… – Нашпиговали до нижней палубы! – отчеканила Сладкое Мускатное Око, произнося со вкусом бессмысленные для нее слова. – Загружены все трюмы. Закрепить снасть на носу! Вздернуть на рею! – ее малахитовое мохнатое лицо заметно оживилось. – Пробоина, – добавила она, – ниже ватерлинии. – Да, дорогая. Твое знание морских тонкостей восхитительно. – Адмирал! – хохотнула Сладкое Мускатное Око. – Постарайся меньше налегать на ром и больше – на сухари, дорогая, – посоветовала Миледи Шарлотина, подводя Епископа Тауэра к своему диванчику. Он с трудом уселся рядом, не давая своему головному убору опрокинуть его вверх ногами, и, заметив Джерека, махнул жезлом в дружеском приветствии. – По-прежнему ищешь свою любовь, Джерек? – Делаю все, что в моих силах, могущественный из епископов, – Джерек отошел от Лорда Джеггеда. – Как поживают ваши гигантские совы? – С глубоким прискорбием сообщаю – распылены! Я намеревался создать город Ватикан того же времени, что и твой Лондон – я раб моды, как ты знаешь – но единственные источники, которые мне удалось отыскать, помещали его на Марсе примерно на тысячу лет позднее. Совесть художника заставила меня признать, что он не существовал в девятнадцатом веке. Кстати, из Голливуда, который я начал строить, тоже ничего не получилось. Но когда ты будешь уходить, взгляни на мой корабль, я надеюсь, ты одобришь мои тщательные исследования. – Как он называется? – «Спасжилет»! – ответил Епископ Тауэр. – Я полагаю, ты знаешь, что это такое. – Нет. И это усиливает интерес. К ним присоединилась Железная Орхидея. Ее черты были почти неразличимы в сияющей белизне. – Мы обсуждали пикник в Теплых Снежных горах, Шарлотина. Ты хочешь присоединиться? – Великолепная идея! Конечно, я приду. Я думаю, что мы уже исчерпали сегодняшние развлечения. А ты, Джерек, пойдешь? – Я думаю, да! Если только Лорд Джеггед… – он повернулся к своему другу, но Джеггед исчез. Джерек смиренно пожал плечами. – С удовольствием. Прошли сотни лет с тех пор, как я посещал эти горы. Я не знал, что они все еще существуют. – Это не Монгров ли сделал их, находясь в более легкомысленном состоянии, чем обычно? – спросил Епископ Тауэр. – Между прочим, что с ним стало? – Никто не видел его с тех пор, как он исчез в космосе вместе с Юшариспом, – сообщила Железная Орхидея, оглядывая зал. – Где Герцог Квинский? Я думала, он пожелает отправиться с нами. – Один из его путешественников во времени, он называет их «вассалами», пришел к нему с сообщением, которое взволновало его. Когда он покинул зал, глаза его блестели. Может, еще один странник во времени забрел в наш век? Джерек постарался не подать виду, что заинтересован новостью. – Лорд Джеггед ушел вместе с ним? – А разве он ушел? – подняла изящные брови Миледи Шарлотина. – Странно, что он не попрощался. Вся эта торопливость и загадочность возбуждает мое любопытство. – И мое, – сказал с чувством Джерек, с трудом пытаясь казаться безразличным. Он восхищался собственным самообладанием.* * *
– Разве этот пейзаж не пикантен? – сказала Железная Орхидея, по-хозяйски оглядывая окрестность. Со склона, где они расположились на пикник, открывался великолепный вид. Перед ними раскинулись равнины, озера и реки в пастельных тонах. – Какой первозданный ландшафт! Ничья рука не касалась его с тех пор, как Монгров создал это чудо. – Я должен отметить, что предпочитаю более раннего Монгрова, – сказал Епископ Тауэр, проводя чувствительным пальцем по сверкающему снегу, который покрывал склоны огромных возвышенностей. Снег был почти белый, с изящной бледно-голубой нотой. Несколько маленьких цветков высунули деликатные головки из-под снежного покрова. В основном это были уроженцы подобной же альпийской местности – оранжевые маки и желтые мальвы. Джерек узнал еще одно растение – разновидность рододендрона. Сладкое Мускатное Око, которая увязалась с ними, катилась вниз по склону в лавине теплого снега, смехом и криками нарушая спокойствие пейзажа. Снег прилипал к ее меху, и она, вместо того чтобы подняться, катилась дальше, непрестанно хохоча, пока не повисла над пропастью, по меньшей мере, в тысячу футов глубиной. Мгновение она балансировала на краю, а затем с испуганным воплем рухнула вниз. – Что побудило Монгрова отправиться в космос? – полюбопытствовала Миледи Шарлотина, глядя с деланой улыбкой в сторону исчезнувшей Сладкого Мускатного Ока. – Я не могу поверить, что это существо было твоим отцом, Джерек. Как ни маскируйся, а сущность не изменишь. – Одно время ходили слухи, – согласилась Железная Орхидея, гладя сына по голове. – Ты права, Шарлотина, это было не совсем в стиле Сладкого Мускатного Ока. Как ты думаешь, с ней все в порядке? – О, конечно! Надеюсь, она позабыла использовать свой гравитатор и мы воскресим ее чуть позже. Лично я рада тишине. – Насколько я понял Монгрова, он считает своим предназначением сопровождать Юшариспа, – спросил Епископ Тауэр, – и вещать о грозящей опасности? – Я никогда не могла оценить по достоинству его склонности к подобным развлечениям, – поморщилась Миледи Шарлотина, – это может посеять панику, не так ли? Вспомните-ка тех робких существ, которые посещали нас. Многие из них так пугались вида людей, что улетали обратно, так и не погостив в наших питомниках. Я подозреваю, что Монгрову сильно поднадоела его мрачная роль, но он слишком горд, чтобы поменять ее на более жизнерадостную. – О, как вы проницательны, сирена с шестью конечностями, – сказал Джерек. Он улыбнулся, вспоминая как провел гиганта, когда миссис Амелия Андервуд обитала в питомнике Монгрова. – Тебе не нравится наша прогулка, Джерек? – озабоченно спросила Миледи Шарлотина. – Здесь лучше, чем в любом другом месте, – ответил он тактично. Железная Орхидея прошептала сыну. – Я склонна сожалеть об одновременном появлении Юшариспа из космоса и твоей миссис Андервуд. Может быть, я заблуждаюсь, но мне сдается, что они добавили определенной пикантности нашему обществу, которое порядком мне надоело. Только ты был радостью для всех, Джерек, из-за энтузиазма, который пылал в тебе. – Уверяю тебя, самая заботливая из матерей, что мой энтузиазм все еще пылает во мне. Просто пока нет объекта для его применения, – он погладил ее руку. – Я обещаю быть забавным, как только вернется мое вдохновение. Железная Орхидея легла на снег и вдруг, заметив что-то в небе, воскликнула: – Смотрите, смотрите, это Герцог Квинский! Любой мог узнать аэромобиль, настоящий орнитоптер в форме гигантской курицы, который, бряцая и кудахча в небе, то падал вниз, а то взмывал ввысь так, что становился почти невидимым. Его широкие крылья мощно били по воздуху, механическая голова сверкала глазами то в одном, то в другом направлении. Клюв открывался и закрывался, производя странный клацающий шум. Из летающей машины виднелась голова Герцога в огромной широкополой шляпе с плюмажем. В руке он держал серебряное копье, на плечах развевался малиновый плащ. Герцог, заметив своих друзей, резко спикировал. С трудом приземлившись, он вылез из агрегата и подбежал к ним. Борода его буквально встала дыбом от возбуждения. – Охота, мои дорогие! Мои егеря уже недалеко отсюда. Вы должны присоединиться ко мне! – Охота, дорогой Герцог… на кого? – спросил Епископ Тауэр, поправляя свой головной убор. – Приземлился еще один космический корабль. Мы нашли его, но инопланетянин куда-то ушел. Ничего, мы скоро найдем его! Должны! Где ваш аэромобиль? А… Джерек? Едем! Скорее, погоня близится к концу! Все переглянулись. – Поедем? – спросила Миледи Шарлотина. – А почему бы и нет? Это может оказаться забавным, – ответила Железная Орхидея. – Не так ли, Джерек? – Несомненно! – Джерек побежал к своему ландо, остальные последовали за ним. – Веди нас, упорнейший из охотников. Скорее! В воздух! Герцог Квинский постучал серебряным копьем о металлический гребешок своей курицы. Орнитоптер закудахтал хриплым голосом, и его крылья снова начали бить по воздуху. – Хо-хо! Вот это спорт! Гигантская птица поднялась на несколько футов и рухнула на землю. Снег облаками вздымался вокруг орнитоптера, из метели доносился раздраженный голос Герцога и обескураженное кудахтанье. Ландо Джерека уже кружилась в воздухе, когда Герцог, наконец, управился со взлетом. – Он всегда жалел, что позволил мне забрать Юшариспа, – сказала Миледи Шарлотина. – Можно понять его удовольствие от открытия еще одного. Надеюсь, ему повезет. Мы должны отнестись к охоте серьезно. – Конечно! – согласился Джерек. Он волновался больше остальных. – Интересно, этот тоже станет нас пугать Концом Времени? – сострила Железная Орхидея, которая явно относилась к предстоящему действу весьма скептично.Глава пятая НА ОХОТЕ
Герцог на своей птице упорхал вперед, но когда раздался зов охотничей арфы, неунывающие романтики услышали его тонкий голос. – К западу! Я сказал, поворачивай на запад! – Размахивая копьем, он самоотверженно боролся со стальной курицей, которая не хотела отклоняться от полюбившегося маршрута. Слово Джерека, и ландо прыгнуло вперед, заставив Епископа Тауэра ликующе свистнуть и крепче вцепиться в свою шляпу. Радости обеих леди не было предела, они перегнулись далеко через край, чуть не выпав в азарте поисков неуловимого инопланетянина. – Осторожно, мои дорогие! – крикнул Епископ Тауэр сквозь вой ветра. – Помните, что эти инопланетяне вооружены до зубов, и очень опасны, – он предупреждающе поднял руку. – Вы можете лишиться массы удовольствий, если окажетесь в списках убитых или искалеченных, потому что никто не станет воскрешатьвас, пока не закончится охота! – Мы будем осторожны, Епископ, – хихикнула Железная Орхидея, чуть не потеряв равновесие. – Джерек захватил с собой пистолет, чтобы защищать нас, не так ли, о плод моей страсти? – Железная Орхидея показала на довольно большой предмет на полу ландо. – Мы играли с ним пару дней назад. – Пистолет-имитатор не такое надежное оружие, как вам кажется, – сказал Епископ Тауэр, подняв предмет и заглядывая в его широкий колоколообразный ствол. – Все, что он может сделать – это иллюзии. – Но он похож на настоящий, Епископ. Епископа заинтересовала антикварная вещь. – Пожалуй, самый старинный образчик из всех, что попадались мне на глаза. У него свой собственный независимый источник энергии – вот, сбоку. Не разделяя милитаристских замашек Епископа, остальные притворились, что не слышали его. – Исчез! – донесся издалека голос Герцога. – Исчез! – О чем это он? – удивилась Миледи Шарлотина. – Ты не догадываешься, Джерек? – Наверное, он потерял нас из виду, – предположил Джерек. – Я специально отстал, чтобы доставить ему удовольствие увидеть инопланетянина первым. В конце концов, это его дичь. – Да еще какая! – поддакнула Шарлотина. Они миновали холмы, нагоняя Герцога Квинского. – Его орнитоптер, кажется, на последнем издыхании, – заметил Епископ. – Может, предложим подвезти его? – Я не думаю, что он поблагодарит нас за это, – ответил Джерек. – Лучше подождем, когда он сам грохнется. Они летели над незнакомым ландшафтом, напоминающим что-то съедобное и Джерек подумал, что это творение Эдгаросердного По. – Гм-м, – Железная Орхидея чмокнула губами. – Я что-то снова проголодалась. Не отведать ли кусочек? – Не сейчас, – напомнил ей Джерек. – Кажется, я снова слышу арфу. Небо вдруг потемнело, и какое-то мгновение они летели сквозь абсолютную черноту под шум бушующего моря. – Наверное, мы недалеко от башни Вертера, – предположила Миледи Шарлотина, поглаживая свои многочисленные груди. И верно, когда небо осветила молния, открыв взору кипящие черные облака, там виднелся грандиозный, в милю высотой, монумент его мрачному «эго». – Вот те скалы, – показала на основание башни Миледи Шарлотина, – где мы нашли его тело, разбитое вдребезги. Веками мы собирали кусочки, чтобы Лорд Джеггед воскресил его. Джерек вспомнил Сладкое Мускатное Око. Если она действительно упала в пропасть, нужно поспешить с ее оживлением. Снова засияло солнце, и земля зазеленела внизу. – Это «Токио-1901» Пэра Карболика, – закричала Железная Орхидея. – Какие красивые краски. – Копия подлинных морских раковин, – пробормотал знающе Епископ Тауэр. Ландо, не упускавшее из поля зрения орнитоптер Герцога, внезапно повернуло в сторону и направилось к земле. – Он внизу, – указал Епископ Тауэр. – Около того леса, вон там! – Он жив, Епископ? – Железная Орхидея сидела у дальней стенки ландо. – Да, еще шевелится. Кажется, у него неважное настроение, потому что он дубасит свою курицу. – Бедная птица! – Миледи Шарлотина разинула было рот, когда ландо неожиданно стукнулось о землю. Джерек вылез из машины и направился к Герцогу Квинскому. Шляпа Герцога была сдвинута набекрень, одна из штанин разорвана, но ему удалось взять себя в руки. Вояжер отбросил копье в сторону, сдвинул назад шляпу и, положив руки на бедра, улыбнулся Джереку. – Ну, это была неплохая погоня, а? – Очень стимулирующая. Ваш орнитоптер сломался? – Напрочь! Герцог считал делом чести летать на подлинных воспроизведениях древних машин, не поддаваясь уговорам друзей оставить рискованные полеты. – Может, подбросить вас в замок? – спросила Миледи Шарлотина. – Нет, я не сдамся без сопротивления. Пойду на охоту пешком, – Герцог кивнул головой и направился к ближайшим вязам, кедрам и лиственницам. – Мои загонщики выгонят добычу из этого леса, если нам повезет. Пойдете со мной? Джерек пожал плечами. – С охотой. Они забрались в глубину леса, когда Епископ Тауэр поднял пистолет-имитатор, который все еще держал в руках. – Твое древнее сокровище все еще у меня. Отнести его назад, Джерек? – Оставьте при себе, – разрешил Джерек. – Он может пригодится, когда мы увидим инопланетянина. – Разумно, – одобрил Герцог Квинский. В лесу было тихо и таинственно. Деревья благоухали густым сладким ароматом. – Какая чудесная жуть! – восхитилась Миледи Шарлотина. – Подлинный старомодный волшебный лес. Интересно, кто его придумал? Свет померк, и охотники погрузились во тьму, во мрак позднего летнего вечера. Лес простирался гораздо дальше, чем он сперва предполагал. – Это, должно быть, работа Лорда Джеггеда, – Епископ Тауэр снял свой головной убор и стоял в задумчивости. – Только он мог уложить это особенное качество. – Да, чувствуется вкус Джеггеда, – согласилась Железная Орхидея и взяла под руку своего сына. – Тогда мы должны остерегаться мифических зверей, – предостерег Герцог Квинский. – Кенгуру и тому подобное, насколько я помню фантазию Джеггеда. Железная Орхидея сжала руку Джерека. – Становится тише, – прошептала она. – И темнее.Глава шестая МУЗЫКАНТЫ-РАЗБОЙНИКИ
Листва над их головой становилась все гуще и гуще и уже не пропускала свет. В зловещей тишине они пробирались по мху, осторожно раздвигая ветки, которые все чаще преграждали им путь. Миледи Шарлотина взяла Джерека за руку, возбужденно бормоча. – Мы заблудились, словно дети в лесу, Джерек! – Это было бы здорово, – воскликнула Железная Орхидея, но Джерек промолчал. Загадочный лес действовал на него исцеляюще. Все волнения улеглись, былое спокойствие вернулось к нему, и Джерек, после долгих дней напряжения, расслабился. Его не покидало ощущение, что в этом лесу он уже бывал раньше, вместе с миссис Андервуд. Джерек всматривался в тенистый сумрак, ожидая увидеть знакомую фигурку в сером платье и соломенной шляпке, стоящую около ствола кедра или сосны, улыбающуюся и готовую продолжить его «моральное образование». Только Герцог Квинский не поддавался общему настроению. Он остановился, подергивая себя за черную бороду, и нахмурился. – Загонщики должны были найти что-нибудь. Почему мы их не слышим? – Лес, кажется, намного больше, чем мы сперва предполагали. – Епископ Тауэр постучал пальцами о дуло пистолета-имитатора, – может, мы действительно заблудились? Остальные тоже остановились. Джерек находился в состоянии, близком к трансу. Это был лес, похожий на тот, в котором миссис Андервуд поцеловала его, признавшись, наконец, в своей любви. Из леса, подобного этому, она была коварно похищена и возвращена в свое время. Джерек глубоко вздохнул. Запах земли преобладал над всеми остальными. – Что это? – Герцог приложил руку к уху. – Кажется, арфа? Епископ Тауэр, сняв шляпу, теребил рыжие локоны, поворачиваясь из стороны в сторону. – Я думаю, вы правы, мой Герцог. Прекрасная музыка, хотя это, может статься, просто щебетание птиц. – Или весенняя трель кролика, – выдохнула Миледи Шарлотина, романтически сжимая свои многочисленные руки над скопищем грудей. – Как приятно испытать те же эмоции, что и наши предки миллионы лет назад. – Вы сегодня в лирическом настроении, Миледи, – лениво предположил Епископ Тауэр, но было очевидно, что он тоже поддался очарованию леса. Он поднял руку, в которой держал пистолет-имитатор. – Мне кажется, звук раздался оттуда. – Мы должны соблюдать осторожность, – предупредила Железная Орхидея, – чтобы не потревожить ни инопланетянина, ни какую-нибудь другую живность. Джерек догадывался, что ее не беспокоила судьба ни тех, ни других, – просто она хотела продлить удовольствие. Поэтому он согласно кивнул. Немного погодя они обнаружили впереди дымку танцующего рубинового света и, крадучись, последовали дальше, пока не услышали завораживающую музыку. Спустя несколько мгновений Джерек осознал, что это была самая прекрасная мелодия, которую он когда-либо слышал. Глубокая и трогательная, она намекала на гармонию физической Вселенной, говорила об идеалах и эмоциях, величественных в своем здравомыслии, интенсивности и человечности. Она провела его через отчаяние – и он больше не отчаивался; через боль – и он больше не чувствовал боли; через цинизм – и он познал волнение надежды; она показала ему, что было безобразным – и оно больше не было таким; его протащило через самые глубокие бездны убогости, только чтобы поднять все выше и выше, пока его тело, ум и чувства не слились воедино, и он не познал неизмеримое наслаждение. Завороженный Джерек вместе с остальными вошел в дымку темно-красного света. Их лица купались в нем, их одежда окрасилась им, и они увидели, что свет и музыка исходили от поляны в лесу. Источником света служила кривобоко стоявшая на поляне машина с несимметричным грушеобразным корпусом в маленьких стеклянных выступах, подобных щербинам и трещинам на обломке керамики. Из восьмиугольного предмета наверху изливался красный свет. Около покалеченного агрегата стояли и сидели семь гуманоидных существ, о которых безошибочно можно было сказать, что они – космические путешественники: маленькие, едва в половину роста Джерека, и коренастые, с головами, сходными по форме с их кораблем; с одним длинным глазом, содержащим три зрачка, которые метались в разные стороны, иногда сливаясь, иногда расходясь; с большими, как у слона, ушами и пуговицеообразными носами. Они были усатые, неопрятные, и одеты в разнообразные одежды, ни одна из которых, казалось, не походила на другую. Музыка исходила именно от этих маленьких существ, так как они держали в руках инструменты странной формы, в которые дули, щипали струны или пиликали своими короткими и толстыми пальцами. На поясах у них висели ножи и мечи, на широких косолапых ногах были тяжелые сапоги, головы украшали шапки, шарфы или металлические шлемы. Джерек с трудом мог поверить, что эти головорезы производили музыку исключительной красоты. Все попали под влияние музыки, слушая с благоговением, пока симфонии медленно не достигли разрешения явно столкнувшихся тем, слившихся в гармонии, которая была одновременно невообразимо сложной и предельно простой. На мгновение воцарилась тишина. Джерек почувствовал, что его глаза полны слез, и, взглянув на других, увидел, что все были тронуты не меньше, чем он. Сделав несколько глубоких вдохов, подобно утопающему, вынырнувшему на поверхность, Джерек попытался заговорить, но язык не слушался. Что же касается музыкантов, то они отшвырнули в стороны инструменты и повалились на землю, хохоча во все горло. Они гоготали и визжали, хватаясь за животы, и были почти беспомощны от смеха – хриплого и грубого, будто они развлекались незатейливой мелодией похотливой песенки, а не исполняли самую прекрасную музыку во Вселенной. Бормоча невнятно на резком скрежечущем языке, они высвистывали части симфонии, толкая локтями друг друга, подмигивая и взрываясь новыми приступами веселья, держась за бока и постанывая, трясясь всем телом. Немного озадаченный этим неожиданным продолжением, Герцог Квинский вывел группу на поляну. При его появлении ближайший инопланетянин поднял глаза, показал на него, фыркнул и впал в новую серию конвульсий. Герцог имел при себе громадный, окрашенный орнаментом транслятор (первоначально предназначенный для общения с соратниками Юшариспа). Когда вспышка веселья инопланетян утихла, они уселись прямо ни земле, все еще переговариваясь и хихикая. Герцог поклонился, представляя себя и своих товарищей. – Добро пожаловать на нашу планету, джентльмены. Разрешите поздравить вас с представлением, которое превзошло любое наслаждение. Подвинувшись ближе, Джерек почувствовал знакомый по путешествию в девятнадцатое столетие запах – это был запах застарелого пота. Когда один из инопланетян, наконец, встал и подошел к ним, переваливаясь с ноги на ногу, запах стал сногсшибательным. Ухмыляясь и почесываясь, злодей скопировал поклон Герцога, чем вызвал новый приступ восторга у своих компаньонов. – Мы только немножко позабавились, – сказал инопланетянин, – чтобы скоротать время. На вашем старом замшелом шарике больше нечего делать. – О, я знаю много способов развлечь вас, – кокетливо облизнула губы Миледи Шарлотина. – Вы здесь давно? Инопланетянин поднял кривую ногу и почесал икру. – Да. Рано или поздно нам придется подумать о ремонте нашей развалюхи, – он изобразил что-то вроде подмигивания. Миледи Шарлотина поджала нижнюю губу и вздохнула. В это время Железная Орхидея прошептала Джереку. – Они могли бы стать жемчужиной любого питомника. Герцог тоже понял это. Жаль, что он имеет право первого выбора. – И откуда вы явились? – деликатно поинтересовался Епископ Тауэр. – Вы все равно не знаете, где это. Я и мои молодцы – последние обитатели погибшей планеты. Мы называем себя Латы. Я капитан Мабберс. – И почему вы путешествуете по космосу между звездами? – Железная Орхидея обменялась незаметно взглядами с Миледи Шарлотиной. Их глаза сверкнули. – Вам, должно быть, известно, что эта вселенная почти покрыта траурным крепом. Поэтому мы слоняемся, надеясь найти секрет бессмертия и немного развлечься по пути. Когда мы достигнем своей цели, если нам вообще повезет – мы попробуем убежать в другую вселенную, не подверженную таким изменениям. – Другая вселенная? – сказал Джерек. – Явное противоречие. – Пошел к черту, – капитан Мабберс пожал плечами и зевнул. – Тайны бессмертия и чуточку веселья! – воскликнул Герцог Квинский. – У нас есть и то, и другое. Вы должны остаться у нас! Джерек понял, что хитрый Герцог собирается добавить целый оркестр к своей коллекции. Обладание такими превосходными музыкантами означает настоящее перо в его шляпе и более чем компенсирует его неудачу с Юшариспом. Тем не менее реакция капитана Мабберса оказалась не совсем той, на которую надеялся Герцог. Выражение подозрительной хитрости мелькнуло в его чертах, и он повернулся к своему экипажу. – Что вы думаете, парни? Этот джентельмен говорит, что мы можем остаться у него в гостях. – Ну, – сказал один, – если он в самом деле разгадал тайну бессмертия… – Он не собирается отдать ее просто так, – сказал другой. – Что он будет иметь от этого? – Уверяем вас, наши мотивы бескорыстны, – настаивал Епископ Тауэр. – Став нашими гостями, вы испытаете наслаждение. Мы в восторге от вашей музыки. Если вы сыграете нам еще раз, мы подарим вам бессмертие. Мы все бессмертны, не правда ли? – он повернулся к своим компаньонам, которые хором подтвердили его слова. – В самом деле? – удивился капитан Мабберс, почесав свою челюсть. – Это правда, – выдохнула Железная Орхидея. – Ведь мне самой… – она кашлянула, вдруг осознав нарочитое отсутствие интереса со стороны Миледи Шарлотины к ее замечанию, – ну, несколько сотен лет, – закончила она упавшим голосом. – А мне две или три тысячи лет, не помню, – сказал Герцог Квинский. – И вам не скучно? – спросил один из сидевших инопланетян. – Именно это и беспокоит нас. – О, нет, Нет, нет, нет. У нас есть масса развлечений. Мы создаем вещи, разговариваем, занимаемся любовью, изобретаем игры, иногда засыпаем на несколько лет, может быть и дольше, если устаем от того, что делаем; но вы удивитесь, как быстро идет время, когда ты бессмертен. – Я никогда не думал об этом, – сказал Епископ Тауэр. – Скорее всего потому, что бессмертие вошло в привычку на этой планете. – У меня есть другая идея, – криво усмехнулся капитан Мабберс. – Лучше, если вы станете нашими гостями, когда мы продолжим полет во Вселенной. По пути вы сможете рассказать о секрете бессмертия. Поставленный в тупик Герцог содрогнулся. – В космос! Наши нервы не выдержат этого! К сожалению! – он повернулся со слабой улыбкой к Джереку, все еще обращаясь к инопланетянам. – Спасибо за приглашение, капитан Мабберс, но мы не можем его принять. Только Монгров мог бы пойти на такой риск, но его нет среди нас. – И все-таки, – произнесла Миледи Шарлотина, – наш долг пригласить вас в гости. Мы все отправимся назад к Нижнему озеру и устроим, о, вечеринку. – Мы развлекались до вашего появления, – напомнил капитан Мабберс, – он чихнул и потер свой луковицеобразный нос. – Постойте, я кажется понял, что вы имеете в виду. А? – он бочком подскочил и похлопал ее по бедру. – Мы были в космосе очень долго, леди. – О, бедные мои, – промурлыкала Шарлотина, прикладывая обе руки к его щекам и покручивая за усы. – Там не осталось ни одной женщины вашей расы? – Ни одной, даже старой карги, – он жалобно поднял свой глаз к деревьям. – Это было тяжелое испытание; за три или четыре года скитании я не ущипнул ни одного локотка, – он метнул укоризненный взгляд на своих компаньонов, которые с вожделением посматривали на женщин. Затем, грязно ухмыляясь, он протянул руку и положил на ее бедро. – Почему бы нам вместе не поболтать об этом у меня в корабле? – Там не так уютно, как у нас, – настаивал Герцог. – Вы сможете перекусить, отдохнуть, принять ванну… – Ванну? – вздрогнул и с тревогой проговорил капитан Мабберс. – Сделать что? Перестаньте, Герцог. У нас впереди еще долгий путь. Что вы пытаетесь предложить? – Я имею в виду, что мы можем обеспечить вас всем, что вы желаете. Мы можем даже создать женщин вашего собственного вида для вас, точно воспроизвести вашу собственную окружающую среду. Это вполне в нашей власти. – Ха! – сказал капитан Мабберс подозрительно. – Вы так думаете? – Хотелось бы знать, в чем заключается их игра, – один из арфистов встал, ковыряясь в зубах (которые оказались острыми и желтыми). Три зрачка метнулись в разные стороны, рассматривая пятерых обитателей Земли. – Вы слишком рветесь доставить нам удовольствие, это подозрительно. Герцог растерянно взмахнул руками. – Наш долг – быть радушными хозяевами. Не вижу в этом ничего странного и подозрительного. – Это первая компания, которая думает так, – сказал Лат, запуская пятерню под рубашку и потирая свою грудь. – Но я согласен со шкипером. Полетите с нами. Другие кивнули в знак одобрения. – Но, – начала уговаривать их Железная Орхидея, – мои великолепные маленькие космические флибустьеры, нам чужды и отвратительны эти пустынные пространства. Ведь сейчас вряд ли кто путешествует на ближайшие планеты нашей собственной системы, не говоря уже о выходе в эту холодную пустыню между звездами! – Выражение ее лица смягчилось, она сняла шапочку с одного инопланетянина, который как раз приблизился к ней, и погладила его лысину. – Не в нашей природе покидать планету, мы привыкли к такой жизни. Мы старая, старая раса. Космос скучен нам, другие планеты раздражают и расстраивают, потому что хорошие манеры требуют, чтобы мы не переделывали их по своему вкусу. Что там для нас, в вашей бесконечности? Пусть даже – в нашей бесконечности? Все звезды так похожи. Инопланетянин выхватил свою шапку из ее руки и натянул себе на голову. – Волнения! – гаркнул он. – Приключения! Опасность! Новые ощущения! – Какие там новые ощущения! – сказал Епископ Тауэр, желая услышать хотя бы об одном, которое существует. – Жалкие варианты старых! – Ладно, – решительно сказал капитан Мабберс, нагибаясь, чтобы поднять свой инструмент. – Вы отправляетесь с нами, и баста. Меня не проведешь, я чую ловушку. Герцог Квинский поджал губы. – Что ж, если наши переговоры зашли в тупик, придется вас покинуть… – Что, сдрейфил, приятель, – сказал склонный к полемике коротышка, указывая своим инструментом в направлении Герцога. – Вали их на землю и грузи на корабль! К этому времени остальные Латы подняли свои трубы и смычки с земли. – Я не понял, – спросил Герцог у капитана Мабберса, – что валить на землю? И что грузить на корабль? – Ноги и руки по порядку, – сказал капитан Мабберс и сделал движение своим инструментом. Епископ Тауэр засмеялся. – Не знаю точно, но, по-моему, они угрожают нам! Миледи Шарлотина взвизгнула от восхищения. Железная Орхидея приложила палец к губам, и глаза ее расширились. – Это одновременно оружие и музыкальные инструменты? – спросил Джерек с любопытством. – Не может быть! – Спорим! – загорелся капитан Мабберс. – Смотри, – он повернулся в сторону, направляя устройство странной формы на ближайшие деревья. – Огонь! Воющий, сжигающий ветер вырвался из устройства в его руках. Он пронесся сквозь деревья, превратив их в дымящийся пепел, и провел тоннель света через мрак леса, открыв равнину за ним и гору за равниной. Ветер не остановился, пока не достиг далекой горы, которая взорвалась. Все услышали слабый грохот. – Все в порядке? – сказал капитан Мабберс, вопросительно поворачиваясь к ним. Его воины злобно усмехались. Один из них, в металлическом шлеме, предупредил. – Вы не уйдете далеко, если попытаетесь убежать от этого. – Кто воскресит нас? – задумался Епископ Тауэр. – Как удивительно. Я никогда прежде не видел настоящего оружия. – Значит, вы решили похитить нас? – спросила Миледи Шарлотина. – Мибикс анвью ре? – спросил капитан Мабберс – Круфруди! Лью о тай, хью хотквалс! В отчаянии Герцог Квинский выключил свой транслятор.Глава седьмая КОНФЛИКТ ИЛЛЮЗИЙ
– Да, кто знал, что из этого получится, – сказал с несчастным видом Герцог Квинский. Все сгрудились около космического корабля. Рядом присел Латконвоир, поглощенный азартной игрой, где ставкой были Железная Орхидея и Миледи Шарлотина. Миледи Шарлотина становилась все нетерпеливее. Она вздохнула. – Я хочу, чтобы они поторопились. Они милые, но не очень решительные кавалеры. – Напрасно вы так думаете, – сказал Епископ Тауэр, выдергивая мох. – Нас они похитили довольно быстро и решительно. Джерек упал духом. – Если они возьмут нас в космос, я никогда не увижу миссис Амелию Андервуд. – Попробуйте еще раз рассеять кольцом их оружие, – предложила Железная Орхидея, – мое не работает. Епископ, может, ваше действует. Епископ сосредоточился, возясь со своим кольцом, но ничего не произошло. – Они эффективны только на вещах, созданных нами. Единственное, что мы можем сделать – это избавиться от остальных деревьев. – В этом, кажется, мало смысла, – сказал Джерек, вздохнув. – Ладно, – смирился Герцог Квинский, – мы можем увидеть что-нибудь интересное в космосе. – Наши предки не нашли там ничего интересного, – напомнила ему Железная Орхидея. – Кроме того, как мы попадем назад? – Построим космический корабль. – Герцог был озадачен ее очевидной тупостью. – С помощью Кольца Власти. – Если они действуют в глубине космической бездны. Вы помните какую-либо запись о кольцах, используемых вдали от Земли? – Епископ Тауэр пожал плечами, не ожидая ответа. – Интересно, у них были Кольца Власти все эти тысячи и тысячи лет назад? О, дорогой, я усну, – Миледи Шарлотине было очень скучно. Она целиком оставила идею заняться любовью с Латом, одним или всеми вместе. – Давайте создадим воздушную машину и улетим. Епископ Тауэр усмехнулся. – У меня есть более забавное предложение, – он помахал пистолетом-имитатором. – Это развеселит нас и послужит возбуждающим завершением приключения. Наверное, пистолет заряжен как обычно, Джерек? – О да, – кивнул Джерек с отсутствующим видом. – Значит, он будет выстреливать случайные иллюзии наугад. Я помню моду на эти игрушки. Два игрока стреляют, не зная, какая появится иллюзия, но надеясь, что одна парирует другую. – Правильно, – сказал Джерек. – Однако я долго не мог найти желающего поиграть. Капитан Мабберс оставил своих людей и с важным видом направился к пленникам. – Хьюдаю, ри ферт глеко мин глеко внев! – рявкнул он, угрожая им концом музыкального инструмента. Они притворились, что не имеют ни малейшего понятия, о чем толкует их поработитель (хотя было явно, что он приказывает войти в космический корабль). – Круфруди, – прошипел капитан Мабберс. – Глен мин глекс впел! Миледи Шарлотина изобразила милые ямочки на щеках. – Мой дорогой капитан, мы просто не понимаем вас. А вы нас? – Хрунт! – переложив инструмент в другую руку, капитан Мабберс улыбнулся похотливо и положил руку на ее локоть. – Хрунт глекс, мибикс? – Скотина, – сказала Миледи Шарлотина, покраснела и невинно похлопала ресницами. – Я думаю, вы должны попробовать пистолет сейчас, Епископ. Раздался негромкий хлопок, и все вокруг стало голубым и белым. Голубые и белые птицы и насекомые, изящные и неторопливые, замелькали между ровными и изящными желтыми деревьями. Капитан Мабберс немного удивился, затем тряхнул головой и потянул Миледи Шарлотину к кораблю. – Может, позволить ему совсем коротенькое изнасилование? – Нужно было думать раньше, – сказал Епископ Тауэр и выстрелил снова. – Кто заряжал пистолет, Джерек? Неужели там нет чего-нибудь поинтересней? Вторая иллюзия наложилась на первую. В деликатную бело-голубую сцену вломился чудовищный десятиногий зверь, который напоминал рептилию, с огромными глазами, сверкающими пламенем, когда он поворачивал свою свирепую голову то в одну, то в другую сторону. Капитан Мабберс завопил и схватился за оружие. Он умудрился уничтожить большую часть леса за бело-голубым ландшафтом и огненноглазым чудовищем, но все остальное осталось без изменения. – Ну, теперь нам пора ускользнуть прочь, – сказал Епископ, нажимая на курок еще раз и производя яркий абстрактный узор, который со свистом заметался в воздухе, чудовищно сливаясь с белым и голубым цветом и раздражая рептиллиеподобного зверя. Лат непрерывно стрелял по чудовищу, отступая от него по мере того, как оно двигалось (какое удачное совпадение), навстречу ему. – О, – разочарованно протянула Железная Орхидея, когда Джерек взял ее за руку и потянул в лес, – мы не сможем досмотреть это? – Ты помнишь, где мы оставили твою воздушную машину, Джерек? – Герцог запыхался и был возбужден. – Хорошее развлечение, не правда ли? – Я думаю, там, – ответил Джерек, указав направление. – Хотя лучше сделать другую. – Разве это по-спортивному? – спросила Железная Орхидея. – Тут уж не до спорта, мама… – Ну почему же, – она побежала сквозь деревья и скоро исчезла в сумраке леса. Джерек последовал за ней, Епископ – по пятам. – Мама, я думаю, нам не стоит разделяться. Ее голос донесся уже издалека: – О Джерек, ты становишься безрадостным, мое сердце! Вскоре он совсем потерял ее и остановился в изнеможении у огромного старого дерева. Епископ Тауэр не оставал от него ни на шаг и теперь протянул ему пистолет-имитатор. – Мне тяжело нести его, Джерек, пусть он побудет у тебя! Джерек взял пистолет и засунул его в карман. Он услышал звук чего-то большого, с грохотом несшегося сквозь лес. Деревья падали, сучья трещали, загораясь огнем. – Оно так похоже на настоящее, правда? – Епископ, казалось, почти ощущал себя создателем чудовища. Он поморщился, когда что-то провыло мимо и уничтожило несколько деревьев. – Лат, кажется, догоняет нас, – он нырнул в кусты, оставив Джерека в нерешительности. Паника охватила его при мысли, что он может быть убит прежде, чем увидит Амелию Андервуд. Это была новая эмоция, и часть его ума испытывала объективное любопытство. Он побежал, не обращая внимания на ветки, бьющие по лицу и бежал дальше и дальше, сквозь темноту, прочь от шума и разрушения. Опасности были стеной, которая, казалось, окружала его: избегая одной, он сталкивался с другой. Один раз он наткнулся на кого-то в темноте и почти заговорил с ним, но, услышав: «Феркит!» – рванулся прочь. Раздался чей-то замораживающий кровь крик. Он бежал, падал, карабкался, вставал и бежал снова. Грудь болела, а мозг отказывался повиноваться. Джереку показалось, что он всхлипывает, и он понял, что, когда упадет в следующий раз, то не сможет подняться с земли. Он споткнулся, потерял равновесие и заскользил по склону старой ямы. Кусочки земли и камней падали вместе с ним. Джерек был уже почти готов поздравить себя, что находится, может быть, в конце концов, в относительной безопасности, когда дно ямы раскрылось, и он стал проваливаться вниз по чему-то гладкому и изготовленному явно для этой цели. Он скользил и скользил по металлическому желобу, чувствуя тошноту от скорости спуска, и не мог дотянуться до своих Колец Власти, чтобы замедлить падение, пока не оказался глубоко под землей. Затем, наконец, желоб окончился, и он приземлился, ошеломленный и помятый, на кучу заплесневелых одеял. Свет был тусклый и искусственный. Спустя некоторое время Джерек сел, ощупывая осторожно свое тело в поисках сломанных костей, но таковых не оказалось. Необычайное чувство удовлетворенности наполнило его, и он лег с зевком обратно на одеяла, надеясь, что его друзья смогли добраться до ландо. Он отдохнет, а затем обдумает, как лучше всего присоединиться к ним. Кольцо Власти, без сомнения, просверлит туннель для него вверх, и он сумеет подняться на поверхность с помощью антигравитации. Джерек почувствовал необычайную сонливость и почти заснул, когда негромкий шепелявый голосок произнес. – Добро пожаловать, сэр, в страну Чудес! Он оглянулся и увидел маленькую девочку с большими голубыми глазами. Выражение ее лица было деланно скромным. – Ты очень хорошо скроена, – сказал Джерек с восхищением. – Что ты такое на самом деле? На лице маленькой девочки теперь появилось выражение недовольства. – Я – маленькая девочка!Глава восьмая ДЕТИ ЯМЫ
Джерек встал и, отряхнув пыль со своей одежды, ласково сказал. – Маленькие девочки исчезли тысячи лет назад. Ты, вероятно, робот или игрушка. Что ты делаешь здесь, внизу? – Играю, – ответил робот или игрушка, лягнув Джерека в щиколотку. – Я знаю, что я такое. И я знаю, что ты такое. Няня говорила, чтобы мы остерегались взрослых, – они опасны. – Как и маленькие девочки, – с чувством сказал Джерек, потирая и так уже побитую ногу. – Где твоя няня, дитя мое? Он был удивлен, насколько жизненно достоверным было это создание, но оно не могло быть ребенком, иначе бы он слышал об этом раньше. Кроме него и Вертера де Гете на Земле уже тысячу лет не рождались дети. Люди создавались таким же образом, как, например, Герцог Квинский создал Сладкое Мускатное Око, и переделывали себя, как Король Шулер, ставший Епископом Тауэром. Иметь детей было чрезвычайно ответственно и хлопотно. – Пойдем, – сказало существо, взяв его за руку. Оно повело Джерека по туннелю из розового мрамора, который, на его взгляд, имел что-то общее по стилю и материалу с древними городами, хотя туннель казался построенным относительно недавно. Туннель выходил в большую комнату, забитую прекрасными копиями античных вещей, среди которых Джерек узнал управляемые игрушечные машинки, лошадки-качалки, пушистых куропаток, головоломки и детские настольные конструкции. – Это одна из наших игротек, – объяснила ему девочка. – Учебный класс находится за ней. Няня скоро выйдет с остальными. А я прогуливаю, – похвасталась она. Джерек с восхищением рассматривал все вокруг. Кто-то здорово потрудился, чтобы воссоздать старинную детскую комнату. Он подумал, не заслуга ли это, как и лес наверху, Лорда Джеггеда? Во всем определенно проглядывало его изящество. Неожиданно распахнулась дверь, и в комнату ворвалась группа мальчиков и девочек – ровесников. Мальчики были в рубашках и шортах, девочки – в разукрашенных платьях и передниках. Они кричали и смеялись, но замолчали, когда увидели Джерека. Глаза их расширились, рты открылись. – Это взрослый, – сказало мнимое дитя. – Я поймала его в коридоре. Он свалился с неба. – Ты думаешь, это Продюсер? – спросил один из мальчиков, шагнув ближе к Джереку и оглядывая его сверху донизу. – Он не такой толстый, – оценила гостя другая девочка. – Вот идет Няня. Она знает. Позади детей показалась высокая фигура мрачного вида, укутанная в серую шаль, человекообразная и суровая. Робот, намного больше Джерека, построенный в виде пожилой женщины в костюме Поздних Массовых Культур. Когда она заговорила, голос ее был чуточку ржавым, суставы скрипели при движении. Холодные голубые глаза свирепо сверкали на стальном лице. – Что такое, Мэри Уилди, ты опять прогуливаешь? – стала упрекать Няня. – А кто этот маленький мальчик? По виду не мой. – Мы думаем, это взрослый, Няня, – доложила Мэри. – Чепуха, Мэри. Твое воображение снова подводит тебя. Таких вещей, как взрослые люди, больше не существует. – Именно это он сказал о детях, – Мэри прикрыла ладошкой рот, чтобы подавить смешок. – Успокойся, Мэри, – сказала Няня. – Я могу только сделать вывод, что этот молодой человек тоже прогуливал. Вы оба будете наказаны ужином только из хлеба и молока. – Уверяю вас, что я взрослый, мадам, – настаивал Джерек. – Хотя я был ребенком в свое время. Мое имя – Джерек. – Ну, во всяком случае, ты довольно вежлив, – сказала Няня, лязгнув зубами. – Лучше познакомься с детьми. Не могу понять, зачем они прислали мне еще одного ребенка. У меня уже двое сверх нормы, – робот казался подверженным старческому маразму. У Джерека сложилось впечатление, что эта няня выполняет свои функции так долго, что ее электронный мозг изрядно проржавел. И он решил не злить дородную металлическую женщину. – Это Фредди Бесстрашный, – представила Няня, положив нежную стальную ладонь на коричневые кудри ближайшего мальчика. – Это Дженни Отважный, Мик Стойкий и Виктор Приключение, Гарри Скрипун, Питер Щипок и Бон Смелый. Вон там – Кит Мужество, Дик Древность, Гэвин Галантный. Скажите «хэлло» вашему новому другу, крошки. – Хэлло, – послушно ответили они хором. – Какое, ты сказал, у тебя имя, мальчик? – спросила Няня. – Джерек Карнелиан, Няня. – Странное, непривычное имя. – Имена ваших детей кажутся довольно однообразными… – Чепуха, как бы то ни было, мы будем звать тебя Джерри – Джерри Шутник. Всегда корчишь из себя дурачка? Джерек пожал плечами. – А это девочки. Мэри ты уже знаешь. Бетти Смелая, сестра Бена, Молли Сорванец, Нора Ябеда. – Я доношу на всех, – наябедничала Нора с нескрываемым удовольствием. – Да, дорогая, и у тебя это очень хорошо получается. Это Глория Великолепная, Флора Дружелюбная, Кэти Добрая, Хэрриет Высокомерная, Дженни Общительная. – Для меня большая честь встретить вас всех, – расшаркался Джерек, немного копируя манеры Лорда Джеггеда. – Но, может быть, вы скажете мне, что делаете под землей? – Мы прячемся, – прошептала Молли Сорванец. – Наши родители послали нас сюда, чтобы избежать участия в постановке фильма. – Фильма? – «Великая Резня Перворожденного Пекинского Па Восьмого» – во всяком случае таково было рабочее название, – отчеканил Бен Смелый. – Это воспроизведение рождения Христа, – сказала Флора Дружелюбная. – Пекинский Па собирается сам играть Ирода. Это имя что-то напомнило Джереку. Он встречал однажды путешественника во времени, который бежал от этого самого Пекинского Па, последнего из Тиранов Продюсеров, когда тот был в процессе создания еще одной драмы об извержении Кракатау. – Но это было тысячи лет назад, – сказал Джерек. – Не могли же вы быть здесь все это время? Неужели такое возможно? – Мы живем здесь по недельному циклу, – объяснила Няня. Она повернула глаза к хронометру на стене. – Если мы не поторопимся, я опоздаю с повторением цикла. Ох уж, эти родители! Они не думают обо мне – прислали еще одного ребенка, даже не вспомнив о моем графике. А потом удивляются, почему нарушен порядок. – Вы имеете в виду, что замыкаете время в петлю? – удивился Джерек. – Разве родители тебе не сказали? Мы должны снять с тебя эти глупые наряды. В самом деле, у некоторых матерей странные представления о детской одежде. Ты уже большой мальчик и сам должен понимать, что лучше надеть шорты и рубашечку. – Я не хочу носить рубашку и шорты, Няня! Я не люблю этот стиль! – О, моя доброта! Тебя испортили, Джерри! – Послушай меня, Няня, – сказал Джерек, с отчаянием пятясь назад, – Век Тиранов Продюсеров давно прошел. Опасность миновала. Мы сейчас стоим на Краю Времени. – Успокойся, малыш! Нас это не касается. Теперь мы под защитой продуманной замкнутой системы. Какая разница, что случится с остальной Вселенной, если мы живем снова и снова через один и тот же период. – Вы порядком закоснели в своих привычках, Няня, и разучились думать! – На первый раз я прощаю грубость, Джерек, но если я еще раз услышу от тебя подобные вещи, ты будешь наказан. Я сурова, но справедлива. Огромный робот с громыханием продвинулся вперед на гусеницах и протянул к нему большие металлические руки. – Теперь мы разденем тебя. Джерек поклонился. – Ну, мне пора идти, Няня, но я вернусь, как только смогу. После этого дети смогут по-человечески развиваться. Все самое страшное позади, и им будет интересно увидеть внешний мир. – Придержи язык, пострел! – яростно взревела Няня. – Я не хотел… – Джерек повернулся и кинулся бежать. – Солдаты Гвардии! – рявкнула Няня. Путь Джереку преградили огромные механические игрушки-солдаты. На их лицах не было никакого выражения. Они не выглядели такими угрожающими, как Няня, но их металлические тела эффективно помешали его побегу. Джерек завопил, почувствовав на себе сильные руки Няни. Затем его взметнули в воздух и бросили на холодное стальное колено. Металлическая ладонь поднялась и опустилась шесть раз на мягкое место. Затем его поставили на ноги, и Няня приласкала своевольника. – Мне не нравится наказывать детишек, Джерри, – успокаивала она. – Но они не должны покидать убежище для собственного же блага. Когда ты станешь старше, ты поймешь это. – Но я уже старше, – робко возразил Джерек. – Это невозможно, – Няня начала сдирать с него одежду, и спустя мгновение он стоял перед ней, одетый в такие же шорты и рубашку, как Кит Мужественный, Фредди Бесстрашный и другие. – Вот видишь, – сказала Няня довольно, – теперь ты больше не белая ворона. Дети не любят тех, кто отличается от них. Джерек, который был вдвое выше своих новых товарищей, понял, что находится во власти робота-самодура.Глава девятая НЯНИНО ЧУВСТВО ДОЛГА
Джерек Карнелиан сидел в дальнем конце общей комнаты с чашкой молока и ломтем хлеба на коленях и выражением безнадежного отчаяния на лице, в то время, как Няня, стоя в дверях, прощалась с ними на ночь. – Вы должны понять, Няня, что раз в ваше закрытое окружение вошел посторонний, возможны различные временные парадоксы. Они наверняка нарушают и ваш образ жизни, и мой, намного больше, чем нам этого хотелось бы, – пытался возвать к ее искусственному разуму Джерек. – Сейчас пора спать, – твердо сказала Няня в шестой раз со времени прибытия Джерека. – Выключайте свет, мои малютки! Джерек знал, что бесполезно вставать после того, как он ляжет в постель. Няня немедленно засечет его и уложит снова. Во всяком случае, было легко следить, сколько времени он провел здесь. Каждый день состоял только из двадцати четырех часов, каждый час – из шестидесяти минут – один из старых несгибаемых методов отсчета времени. Век Тиранов Продюсеров одним из последних использовал такие меры отсчета времени, и Няня была на это запрограммирована. Ему оставалось одно: доказывать истину, не требующую доказательств, но на это могли уйти месяцы. Он беспокоился за судьбу Железной Орхидеи и остальных. Если все сложится удачно, и ему удастся сбежать, он нейтрализует оружие Латов, если они еще не покинули планету. – Ты должна подумать о перепрограммировании, Няня! – выкрикнул Джерек в темноту. – Ну, ну, Джерри, ты же знаешь, что я не люблю дерзких детей, – дверь закрылась, и Няня покатилась прочь по коридору. Джерек некоторое время недоумевал, действительно ли ему почудилась некоторая неуверенность в голосе Няни. Фредди Бесстрашный с восхищением проговорил из соседней постели. – Ты так настойчив, Джерек. Странно, почему старушка прощает тебе это. – Она прекрасно понимает, что я взрослый человек, но не хочет признавать это, – предположил Джерек. Его слова вызвали смех у мальчиков. – Молодчага Джерри Шутник, – воскликнул Дик Дредноут, – всегда разыгрываешь из себя дурачка? Жизнь была бы скучной без тебя, Джерри! – Подобно остальным, он сразу же принял Джерека за своего и, казалось, забыл, что тот совсем недавно появился в убежище. Джерек со вздохом отвернулся и попытался привести в действие свои Кольца Власти, как делал это каждую ночь, но, очевидно, какие-то защитные устройства в убежище экранировали источник их энергии. У него все еще оставался пистолет-имитатор, но он не мог придумать для него какого-либо применения в данной ситуации. Джерек пошарил под подушкой, пистолет все еще лежал там. Тогда он со вздохом попытался заснуть. Ему казалось, что он находится в еще более неприятной ситуации, чем во времена пленения Вайна Нюхальщика на Кухне Джонса в 1896 году. Он вспомнил, что там его тоже звали Джерри. Будто все тюремщики предпочитали для него это имя. Джерек проснулся и заметил, что лампы, против обычного, погашены и в воздухе не витает запах завтрака. В дверях не было Няни с колокольчиком в руках, и она не кричала свое привычное: «Просыпайтесь, сони». Вместо этого издалека доносились разнообразные звуки: вопли, удары, крики и шум. Вдруг дверь распахнулась, впустив свет из коридора. – Верчузек, – сказал знакомый голос. – Худи? И капитан Мабберс с торчащими в стороны усами, со своим огнедышащим тромбоном появился в проходе. Он засверкал глазами на Джерека. – Круфруди! – узнал он старого знакомца и неприятная усмешка появилась на его лице. Джерек застонал. Лат нашел его, и теперь дети были в опасности. – Феркит! Джиллир гоф лар кегго хег, мибикс? – Я все равно не понимаю вас, капитан Мабберс, – сказал Джерек музыканту-разбойнику. – Конечно, я составлю вам компанию, если вы так настаиваете. Но вы должны оставить в покое детей, они ни в чем не виноваты. Сохраняя достоинтство, попранное Няней, надевшей на него эту тесную пижаму из яркой полосатой фланели, Джерек встал с постели, поднял руки вверх и подошел к капитану Латов. Капитан Мабберс радостно фыркнул. – Яшаг ак фригдок лист кикл хрунт! – завопил он. Вся шайка собралась вокруг вожака, разделяя его веселье. Один даже уронил оружие, но быстро поднял его снова. Это навело Джерека на мысль, что источник энергии для их инструментов находится на корабле, хотя не исключено существование независимых батарей. Увы, это невозможно было проверить. Джерек мужественно стерпел их смех. Луковицеобразный нос капитана Мабберса почти засветился. – У-у-у-у, к-кру ф-ру! у-у-у-ух к-круфруди! – Это что еще такое? Сразу несколько сорванцов снаружи? – раздался зычный голос Няни из коридора. – Да еще во время сна! Это им не пройдет даром! Капитан Мабберс со своими напарниками с тупым удивлением смотрели, как Няня ровно катилась к ним. – Ах вы, шалопаи! И что вам не сидится дома! Ну-ка отстаньте от моих малышей. – Круфруди, – обругал ее капитан Мабберс. – Феркит, – крепко выразился его коллега. – Что? Безобразие! – рассердилась Няня. – Где вы набрались таких гадостей? Капитан Мабберс шагнул вперед и пригрозил Няне своим тромбоном. Няня, не обращая внимания на этот жест, продолжала отчитывать: – Я видела на своем веку много проказников, но таких грязных, немытых, отъявленных нерях встречаю впервые! Убери немедленно рогатку! Капитан Мабберс направил свои инструмент на Няню и нажал курок. Воющее пламя вырвалось из дула и ударило Няню прямо в грудь. Она на секунду замерла, и, придя в себя, выхватила инструмент у капитана Мабберса. – Ах ты, маленький гаденыш, ты, оказывается, с выкрутасами! Ну погоди, сейчас ты узнаешь, как ведут себя приличные дети. – Олго глекс мибикс? – цинично успокоил ее капитан Мабберс. Однако, как только огромная металлическая голова склонилась над ним, глаза его остекленели и улыбка застыла на губах. – Фрадс колек года сако! – Мне надоели твои гадкие выражения. Я знаю, как научить тебя хорошим манерам, чертов привередник. Джерек давно не испытывал удовольствия, подобного тому, что ему пришлось наблюдать. Капитана Мабберса бросили поперек стального колена и смачно отшлепали по голой противной заднице. Экипаж бросился на помощь к попавшему в беду командиру, лягая Няню ногами, толкая ее и сквернословя, но все усилия были тщетны. Покончив с воспитательной процедурой Мабберса, Няня дала такое же угощение одному за другим всем его компаньонам, конфискуя одновременно их инструменты. Наказанные, они стояли, держась руками за ягодицы, покрасневшие и с полными слез глазами, в то время как Джерек и остальные малыши восхищенно смеялись. Няня покатила по коридору с охапкой инструментов инопланетян. – Вы получите их назад, только когда покинете убежище, – сказала она. – Но вы не покинете его, пока не усвоите некоторые манеры. – Круфруди, – огрызнулся Капитан, злобно сверкая глазами вслед исчезнувшему роботу. Но он произнес это тихо, испуганно, больше из бравады. – Хрунт! Джереку стало немного жалко коротышку Лата, хотя он от души радовался за спасенных детей. – Я все слышала, – сурово откликнулась Няня. – И припомню тебе! Капитан Мабберс с полуслова понял намек, и больше не рискнул открыть рот. Вид униженного и отшлепанного Лата доставил Джереку больше удовольствия, чем он мог ожидать. – Что ж, – сказал он, – теперь мы все в одной тарелке, а? – Мибикс? – скорбным шепотом спросил Капитан Мабберс. – Одна только мысль, что в этой дружной компании Латов, детей и одряхлевшего робота придется провести вечность, приводит в дрожь, – Джерек вновь поддался упадническим настроениям. – Нужно взять себя в руки и серьезно подумать о побеге. Я должен найти Амелию! Капитан Мабберс кивнул. – Гриф, человек, – сказал он подтверждающим тоном. Няня вернулась в комнату. – Я убрала прочь ваши игрушки, – строго сказала она. – А теперь быстро в постель, без всякого ужина. Вы знаете, что сейчас ночь, и дети должны спать! Латы непонимающе уставились на нее. – Моя доброта! Они издеваются надо мной. Сначала прислали переростка, а теперь этих кретинов. Таких спокойно можно было оставить наверху, – она указала на ряд пустых постелей у стены комнаты. – Туда, – сказала она по слогам. – Марш в постель! Латы прошаркали к койкам и стали тупо глядеть на них. Няня вздохнула, подняла ближайшего инопланетянина, сняла с него одежду и запихала его в постель, натянув одеяло поверх дрожащего тельца. Остальные трясущимися руками сами стали срывать одежду и забираться в постели. – Уже лучше, – сказала Няня. – Со временем научитесь, – она перевела взгляд на Джерека. – Джерри, я думаю, тебе лучше пойти в мою комнату. Мне необходимо поговорить с тобой. Джерек робко последовал за ней по коридору в комнату, оклеенную цветными обоями с приятными пейзажами и небольшими орнаментами. Всюду было обилие ситца и кисеи. Комната чем-то напомнила Джереку дом, который он с такой любовью создавал для миссис Амелии Андервуд. Няня проехала в один из углов комнаты. – Чашечку чая, Джерри? – Нет, благодарю вас, Няня. – Тебя не удивляет, зачем я пригласила тебя сюда, когда всем детям давно пора спать? – Немного удивляет. – Тогда слушай, – объявила она. – Мои творчески-думающие цепи начинают снова включаться. Я думаю. Я настолько привыкла к своему образу жизни, так случается со старыми роботами, особенно когда они вовлечены во временные петли. Ты понимаешь меня? – Конечно, Няня. – Ты старше, чем другие дети, поэтому ничего страшного не случится, если я поговорю с тобой. И даже… – Няня произвела смущенный громыхающий звук где-то внутри своей стальной груди, – даже спрошу твоего совета. Ты считаешь, что я вроде как заржавела? – Ну что вы, Няня! – ответил ей мягко Джерек. – У нас в течение тысячелетий возникают привычки, которые мы сами перестаем замечать. – Я много думала над тем, что ты сказал мне на прошлой неделе. И поняла, что ты был на поверхности. – М-м… – Давай, парень, выкладывай правду. Я не накажу тебя. – Да, я был там, Няня. – И Пекинский Па мертв? – И забыт, – Джерек поежился в слишком тесной пижаме. – Прошло несколько тысяч лет со времени Тиранов Продюсеров. В эти дни все гораздо спокойнее. – А эти пришельцы – они из наружной временной фазы? – Да, они из космоса. – Значит, нужно быть осторожней, чтобы избежать парадоксов. – Да, судя по тому, что мне рассказывали о природе Времени. – Тебя правильно информировали, и я должна теперь действовать очень осторожно, чтобы не подвергнуть детей опасности. На мне лежит забота о них. Запомни, дети – все, что у меня есть. Они – будущее. – Не только, Няня, они еще и прошлое, – возразил Джерек. Няня строго посмотрела на него. – Простите, Няня, – сказал он. – Я хотел пошутить. – Мой долг – доставить их в такой век, где они будут в безопасности, – продолжала Няня. – И, кажется, этот момент наступил. – Им пойдет на пользу жизнь в моем обществе, – убеждал ее Джерек. – Я и еще один – единственные люди, которые были детьми. Мой народ любит детей, и я – доказательство этого. – Ваши люди порядочные, Джерри? – Думаю, вполне, хотя мне не совсем понятен смысл этого слова – ты используешь архаичные для меня слова; я думаю, что «порядочные» – правильное описание. – В вашем обществе нет насилия? – Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь, Няня? – Ты не знаешь, что такое «насилие»? – Понятия не имею. – Ладно, пока достаточно, – сказала Няня, – я должна быть благодарна тебе, Джерри Шутник. Несмотря на то, что ты всегда строишь из себя дурачка, внутри ты сделан из приличного материала. Ты пробудил во мне с новой силой чувство ответственности, – Няня жеманно улыбнулась (насколько робот может быть жеманным). – Я была Спящей Красавицей и вот пришел ты – мой Очарованный Принц. Теперь мы должны побеспокоиться о развитии детей. Что там за условия сейчас? Найдут ли дети хорошие дома? – Любые дома, какие пожелают, – с гордостью ответил Джерек. – А климат? Он хороший? – Такой, какой хочет каждый. – Образовательные средства? – Видите ли, – замялся Джерек, – можно сказать, что мы верим в самообразование. Но средства есть превосходные. К их услугам богатейшие библиотеки городов. – Те, другие дети. Они, кажется, знают тебя. Они из твоего времени? – Няня умнела на глазах. – Это «инопланетяне» из другой части галактики, – объяснил Джерек, – они преследуют меня и моих друзей. Он рассказал о лесном происшествии. – Ладно, их можно прогнать, конечно, – сказала Няня, мрачно выслушав его рассказ. – Желательно в такой период времени, где они не смогут наделать много вреда. А тут нормальное время должно прийти на смену замкнутому циклу. – Няня погрузилась в задумчивое молчание. Джерек начал испытывать надежду. – Няня, – спросил он, – простите, что прервал вас, но я правильно понял, что у вас есть возможность посылать людей назад и вперед во Времени? – Назад очень трудно, они не хотят там оставаться, судя по моему опыту. Вперед намного легче. Замыкание Времени, – металлический смешок прозвучал из ее горла. – детская игра, не больше. – Вы можете отослать меня назад, скажем, в девятнадцатое столетие? – Могу. Но у тебя нет шансов оставаться там долго. – Я знаю теории. В наш век это называется эффектом Морфейла. Но вы можете отослать меня назад. – Конечно, могу. Я специально запрограммирована для манипуляций со Временем и знаю об этом больше, чем любое другое существо. – Вам понадобится машина времени? – Не обязательно. Мы отказались как от таких устройств, так и от путешествий во времени, потому что они непредсказуемы и опасны. Мы построили этот приют только для того, чтобы защитить детей. – Вы отправите меня назад, Няня? Няня, казалось, колебалась. – Это очень опасно, Джерек, но я должна тебя отблагодарить за то, что ты напомнил мне о долге перед детьми. Это очень опасное путешествие… – Я знаю, Няня. Мне очень нужно попасть туда. – Верю, юный Джерри Шутник. Ты всегда был шалунишкой, хотя я никогда не наказывала тебя за проделки, смеясь над ними вместе с тобой в этой маленькой комнате… – Няня! Ты опять заговариваешься, – предупредил ее Джерек. – А? Подкинь еще угля в камин, мой мальчик. Джерек оглянулся, но не увидел никакого камина. – Няня? – Да, – продолжала Няня. – Послать тебя в девятнадцатый век? В далекое прошлое. Далеко, далеко, далеко назад. Прежде, чем я была рождена, прежде, чем ты был рожден. В те дни там были океаны света, города в небе, где летали бронзовые птицы. На лугах паслись стада красных зверей, каждый из которых был величиной с замок и громко ревел. Там были… – В 1896 год, если точнее, Няня. Вы сделаете это для меня? Это было бы замечательно. – Магия, – вошла в раж Няня, – фантомы, нестабильная природа, невозможные события, безумные парадоксы, осуществленные мечты, неудавшиеся мечты, кошмары, оказывающиеся реальностью. Это было богатое время, темное время… – 1896 год, Няня. – Ах, иногда, в романтические моменты, я хотела бы быть какой-нибудь купеческой правительницей, великой леди Гонконга, торговой столицы мира, где собирались бы поэты, ученые и искатели приключений. Сотни кораблей бросают якоря в гавани. Корабли с Запада с грузом медвежьих шкур и экзотического мыла; корабли с Юга с экипажами темнокожих андроидов, привезших велосипеды и мешки муки; корабли с Востока… – Очевидно, мы разделяем интерес к одному и тому же столетию, – сказал в отчаянии Джерек. – Не откажите мне в шансе отправиться туда, дорогая Няня. – Как я могу? – ее голос стал почти неслышным, очень мягким от охватившей ее ностальгии. В этот момент Джерек почувствовал глубокую симпатию к старой машине. Редко кому удавалось стать свидетелем мечтаний робота. – Разве я могу отказать моему Джерри Шутнику? Он опять вернул меня к жизни. – О, Няня, – Джерек чуть не заплакал от радости. Он подбежал к ней и обнял жесткое тело. – С твоей помощью я тоже начну жить снова!Глава десятая СНОВА НА ДОРОГЕ В БРОМЛИ
– Произвести временной прыжок относительно легко, – сказала Няня, изучая ряд приборов в своей лаборатории, когда туда примчался Джерек (он возвращался на ранчо, чтобы взять Пилюли, изучить записи и сделать себе комплект одежды, которая не покажется странной гражданам 1896 года). – Вот это я нашла под подушкой, когда прибирала твою постель. Старый робот показал на пистолет-имитатор на одной из полок. Бормоча слова благодарности, Джерек взял пистолет и сунул в карман своего черного плаща. – Проблема заключается, – продолжала Няня, – в правильном фиксировании пространственных координат. Город, именуемый Лондоном, (я никогда не слышала о нем, пока ты не упомянул), находится на острове Англия. Мне пришлось консультироваться с некоторыми очень древними банками данных, смею тебе доложить, но это все уже позади. – И можно отправляться? – Ты всегда был нетерпелив, Джерри, – добродушно засмеялась Няня. Она все еще верила, что воспитывала Джерека с пеленок. – Если ты готов и помнишь об опасности, можно попробовать. – Да, Няня. – Во что ты обрядился, мой мальчик? Это похоже на костюм Дэвида Копперфильда из классической трагедии Пекинского Па. Я и тогда считала ее надуманной. Но Пекинский Па всегда больше стремился к эмоциональной достоверности, чем к исторической точности периода, как мне говорили. По крайней мере, он сам так говорил. Мне приходилось встречаться с ним несколько лет назад, когда еще был жив его отец. Ты бы ни за что не догадался, что они родственники. Отец был таким джентльменом. Он ставил чудесные спектакли, в которых принимало участие все общество. Ты очень молод, и не представляешь, какое это было счастье иметь даже маленькую роль в «Юном Адольфе Гитлере» или в «Любви капитана Марвелла». Когда к власти пришел Пекинский Па VIII, весь романтизм исчез. Стал совершенствоваться реализм. И каждый раз кто-нибудь страдал во время расцвета реализма. В глубине души Джерек был благодарен Пекинскому Па VIII за его излишества во времена реализма. Без них Няня не оказалась бы здесь сейчас. – История, конечно, та же самая, – говорила Няня, возясь с управлением и превращая экран в жидкое золото, – только больше крови. Вот так, годится. Я надеюсь, Лондон находится только в одном месте на этом твоем острове. Он очень мал, Джерри, – она повернула свою большую металлическую голову, чтобы посмотреть на него. – Я бы назвала его кусочком страны с низким бюджетом. Джерек, как обычно, не вполне понимал, о чем она говорит, но улыбнулся и кивнул головой. – Все-таки неразвитая промышленность довольно часто производит интересные фильмы, – сказала Няня с оттенком снисходительности. – Прыгай в ящик, Джерри, вот так, хорошо, мальчик. Мне жалко видеть, как ты уходишь, но, думаю, что привыкну к этому. Интересно, сколько детей вспомнит свою старую Няню через несколько лет? Все же такова жизнь. Молодые актеры со временем становятся звездами. Джерек осторожно вошел в цилиндрическую камеру посреди лаборатории. – До свидания, Джерри, – донесся голос снаружи, прежде чем гудение стало слишком громким. – Постарайся помнить все, чему я тебя учила. Будь вежлив. Жди своей реплики. Держись подальше от логова режиссеров. Камера! Пуск! И цилиндр, казалось, начал вращаться (хотя, может быть, вращался Джерек). Он зажал уши руками, чтобы заглушить шум. Это был трудный путь. Джерек стонал и терял сознание, двигаясь через пространство, состоящее из мягких мелькающих цветных лоскутов, населенное бестелесными людьми, добрыми, со сладкими голосами. Он падал через ткань времени, вниз, к самому началу долгой истории человечества. Он чувствовал боль, как чувствовал ее прежде, но он не возражал против боли. Он испытывал депрессию, какой никогда не испытывал прежде, но это не беспокоило его. Даже радость, которая пришла к нему, была радостью, к которой он остался равнодушным. Ветер Времени нес его навстречу утерянной любви для того, чтобы навсегда соединить с прекрасной миссис Амелией. И, достигнув 1896 года, он не позволит отвлечь себя от великой цели – городка Бромли – как он уже был отвлечен однажды бездельником Вайном. Джерек услышал свой собственный голос, зовущий в экстазе. – Миссис Андервуд! Миссис Андервуд! Я иду! Иду! Иду! Наконец падение прекратилось, и он открыл глаза, ожидая обнаружить себя все еще в цилиндре, однако увидел, что лежит на мягкой траве под большим теплым солнцем. Неподалеку виднелись деревья и блестела вода. Мимо проходили люди, одетые в костюмы конца девятнадцатого столетия. Рядом прогромыхал извозчик. Один из обитателей этого мира стал медленно целенаправленно идти к нему, и Джерек узнал костюм мужчины. Он видел много таких во время своего пребывания в 1896 году. Джерек быстро сунул руку в карман, достал переводильную пилюлю, спешно проглотил ее, а затем медленно поднялся с земли. – Извините, сэр, – начал мужчина грозно, – вы что, не умеете читать? – Само собой, умею, – услужливо ответил Джерек, но мужчина перебил его. – Тогда взгляните вон на ту надпись, не более чем в четырех ярдах от вас, из которой ясно следует, что не стоит ступать ногами на этот участок газона, сэр. Следовательно, если вы соизволите вернуться на пешеходную дорожку, я с радостью сообщу вам, что вы вернулись на путь истинный и больше не нарушаете ни одно из постановлений властей Кенсингтона. Более того, я должен указать, сэр, что если я еще раз поймаю вас за подобным занятием в этом парке, я буду вынужден записать ваше имя и адрес и послать вам повестку явиться в суд в установленное время. Мужчина рассмеялся. – Простите, сэр, – продолжал он более естественным тоном, – но вы действительно должны сойти с травы. – Ага, – сказал Джерек, – я понял, благодарю вас, э… офицер, не так ли? Я не хотел нарушать закон. – Я уверен, в этом, сэр. Вы – француз, судя по вашему акценту, а значит, не понимаете наших обычаев, у вас ведь там посвободней и попроще. Джерек быстро сошел на дорожку и направился к большим мраморным воротам, которые заметил вдали. Полицейский увязался с ним, непринужденно болтая о Франции и других государствах, о которых он читал. В конце концов он распрощался и зашагал по другой дорожке, оставив Джерека, жалевшего о том, что он не догадался спросить, как попасть в Бромли. Джерек радовался, что не привлекал к себе сколько-нибудь значительного внимания, как во время первого паломничества в эпоху Рассвета. Люди все же поглядывали на него время от времени и он чувствовал себя немного стесненно, но мог идти по улице и радоваться окружающему без всяких помех. Конные экипажи, двухколесные кэбы, телеги молочников, фургоны торговцев – все, что ехало мимо, наполняло воздух скрипом осей, цоканьем лошадиных копыт, дребезгом колес. Солнце было ярким и теплым, запахи улицы заметно отличались от тех, которыми Джерек пресытился во время предыдущего визита. Он догадался, что сейчас, должно быть, лето. Даже остановился, чтобы вдохнуть аромат роз, которые росли вдоль ограды парка. Розы были прекрасны в своем благоухании, и Джерек впервые оценил прелесть сотворенного природой. Он потрогал листья кипариса – и обнаружил, что в его собственной работе не хватает определенной тонкости в деталях, которые было трудно описать. Он с удивлением отметил, что восхищается даже больше, чем прежде, красотами 1896 года. Джерек остановился посмотреть на двухэтажный омнибус, который тащили огромные мускулистые кони. На открытой верхней площадке качались соломенные шляпки с ленточками, вертелись солнечные зонтики, блестели яркие спортивные куртки, в то время как внизу, за пыльными окнами и путаницей объявлений, сидели более серьезные путешественники, глаза которых были прикованы к газетам и дешевым журналам. Пару раз мимо пронесся моторный экипаж, и выхлопной дым смешался с уличной пылью. Водители были одеты в длинные пальто и белые шарфы, несмотря на жару, на что Джерек отреагировал с насмешливым удивлением. Он снял свой цилиндр, удивляясь, откуда столько влаги на лице, и вдруг, к своему восхищению, понял, что вспотел. Джерек наблюдал этот феномен и раньше на обитателях этого периода, но никогда и не мечтал испытать его лично. Глядя на лица людей, снующих мимо, Джерек заметил, что многие из них тоже потеют, независимо от степени увядания или расцвета. Это усилило его чувство тождества с ними, Джерек улыбался им, как бы говоря: «Смотрите, я такой же, как вы», – но чопорным гражданам Англии сложно было разделять радость незнакомца, поэтому чаще всего они недоуменно хмурились, а две леди даже покрылись пунцовым румянцем. Джерек продолжал свой путь, пока не заметил, что с левой стороны парк кончился, зато новый парк появился с правой. Мальчишки с пачками газет и плакатов шустро забегали с криками вокруг, мужчины с длинными шестами стали тыкать в фонари, которые стояли на тонких высоких подпорках, через регулярные интервалы вдоль боковых пешеходных дорожек, и воздух стал немного холоднее, а небо потемнело. Приближалась ночь, и Джерек, очарованный атмосферой девятнадцатого века, побоялся сбиться с намеченного пути и решил, что пора отправляться в Бромли. Он вспомнил, как Вайн Нюхальщик рассказывал ему, что необходимо сесть на поезд, в месте, называемом «Виктория», или, возможно, «Ватерлоо». Джерек подошел к прохожему, солидному джентельмену, одетому почти как он сам, который покупал газеты у маленького мальчика. – Простите, сэр, – сказал Джерек, приподняв свою шляпу. – Не будете ли вы любезны помочь мне? – Конечно, сэр, если я смогу, – сердечно ответил полный мужчина, пряча деньги в карман жилета. – Я пытаюсь добраться до города Бромли, который находится в Кенте, и хочу спросить, какая железнодорожная станция мне нужна? – Ну, – сказал солидный джентельмен, нахмурившись. – Это будет или «Виктория», или «Ватерлоо», как я думаю. Или, возможно, «Лондонский мост». Возможно, все три. Я предложил бы вам купить железнодорожный справочник, сэр. Я вижу по вашей внешности, что вы незнакомец на наших берегах – и капиталовложение в железнодорожный справочник окупится прекрасными дивидендами, в конечном счете, если вы намерены путешествовать по этому прекрасному острову. Всего хорошего, сэр, – и солидный джентельмен помчался прочь с криком: – Кэб! Джерек вздохнул и продолжил путь пешком по деловой улице, которая, казалось, становилась все более населенной с каждым последующим моментом. Ему хотелось овладеть логикой чтения, и он жалел, что не сделал этого, когда была возможность. Миссис Амелия Андервуд пыталась научить его, но, к его недоумению, никогда не объясняла принцип. Если полностью понять логику, переводильная пилюля сделает за него остальное, произведя особенный перегруппировочный эффект в клетках мозга. Он пытался остановить нескольких прохожих, но все оказались слишком занятыми, чтобы поговорить с ним, и в конце концов он достиг перекрестка, забитого транспортом всевозможных видов. Джерек снова остановился в нерешительности, глядя поверх двухколесных и четырехколесных экипажей на статую обнаженного лучника с крылышками на ногах. Без сомнения, какой-то герой-авиатор, принимавший участие в спасении Лондона во время одной из периодических войн с другими островными городами-государствами. Оглушительный шум перекрестка и спустившаяся на город темнота усилили смятение Джерека. Некоторые строения показались ему знакомыми по последнему путешествию в прошлое, но он не был уверен в этом. Они походили друг на друга, словно близнецы. Через улицу он заметил малиновое с золотым фронтоном здание, которое казалось по каким-то причинам более похожим на то, какими, он воображал первоначально, дома девятнадцатого столетия. В нем были большие окна с кружевными шторами, из-за которых лился теплый свет газовых светильников. Другие шторы, из красного бархата на шнурах из тканого золота, были раздвинуты, и изнутри доносились вкусные запахи. Джерек решил больше не приставать с расспросами к прохожим, а попросить помощи в одном из домов. Он боязливо нырнул в поток уличного транспорта, и, увернувшись сперва от омнибуса, затем от повозки, был осыпан бранью и проклятьями, пока, наконец, не прибыл, тяжело дыша, на другую сторону. Стряхивая с себя дорожную пыль около красно-золотого здания, Джерек понял, что не знает, с чего начать расспросы. Он увидел, как много людей прошло через двери за то время, пока он наблюдал, и сделал вывод, что там происходит какого-то рода вечеринка. Джерек подошел к одному из окон и всмотрелся, как мог, сквозь кружевные шторы. Мужчины в черных костюмах, очень похожих на его собственный, но с большими белыми передниками вокруг пояса, торопливо расхаживали с подносами, полными яств, в то время как за столами, большими и маленькими, сидели группы мужчин и женщин, которые ели, пили и разговаривали. Да, это была вечеринка. Здесь, конечно, должен найтись человек, который не откажется помочь ему. Джерек заметил, что за столом и дальнем углу сидела компания мужчин, одетых несколько иначе, нежели большинство. Они смеялись, наливали пенящееся вино из больших зеленых бутылок и оживленно болтали. С неожиданным шоком Джерек увидел, что один из мужчин, одетый в светло-желтый бархатный пиджак с малиновым галстуком, закрывающим почти всю грудь, имеет пугающее сходство с его старым другом, Лордом Джеггедом Канари. Он, казалось, находился в приятельских отношениях с остальными мужчинами. Сперва Джерек решил, что это может быть лорд Джеггер, судья, и что он различает черточки на красивом, спокойном лице, которых нет на лице Джеггеда, но понимал, что обманывает себя. Очевидно, совпадение могло быть причиной сходства и в имени, и в чертах лица, но сейчас, когда ему представился случай узнать правду, Джерек отошел от окна и открыл дверь здания. К нему подошел невысокий смуглый человек. – Добрый вечер, сэр. У вас имеется стол? – С собой нет, – ответил Джерек с некоторым удивлением. Улыбка маленького мужчины не была широкой, и Джерек знал достаточно, чтобы понять, что была не особо дружелюбной. Он поспешно добавил. – Мои друзья вон там! – А, – объяснение оказалось исчерпывающим. Маленький мужчина успокоился. – Вашу шляпу и пальто, сэр. Джерек понял, что от него требуется отдать эти предметы одежды мужчине, в качестве некоторой формы залога. Он с готовностью расстался с ними, и как можно быстрее прошел к столу, где видел Джеггеда. Но каким-то образом Джеггед снова умудрился исчезнуть. Мужчина с крупным добродушным лицом, украшенным черными усами, вопросительно взглянул на Джерека. – Как поживаете? – спросил он сердечно. – Вы, должно быть, мистер Фроненталь из Парижа? Я – Гаррис, а это – мистер Уэллс, о котором вы писали мне, – он указал на узколицего мужчину с маленькими усиками и очень блестящими бледно-голубыми глазами. – Уэллс, это агент, про которого упоминал Пинкер. Он хочет иметь дело с вашими произведениями там, у себя. – Боюсь, я… – начал Джерек. – Садитесь, дорогой приятель, и выпейте вина, – мистер Гаррис встал и, тепло пожав руку Джерека, усадил его в кресло. – Как поживают все мои друзья в Париже? Золя? Я очень расстроился, услышав о бедном Гонкуре. А как Доде? С мадам Ретези все хорошо, надеюсь, – он подмигнул. – И не забудьте, когда вернетесь, засвидетельствовать почтение моей старинной знакомой, графине де Лойоме… – Тот джентльмен, – сказал Джерек, – который сидел напротив вас Вы знаете его, мистер Гаррис? – Он публикуется в «Обозрении» время от времени, как и все мы. Его имя Джексон. Делает для нас небольшие обзоры по искусству. – Джексон? – Вы читали его статьи? Если хотите встретиться с ним, буду рад представить вас. Однако, признайтесь, что ваш визит в кафе «Роял» связан с Гербертом Уэллсом. Он довольно крупная дичь в эти дни, а, мистер Уэллс? – Гаррис громко рассмеялся, похлопав польщенного мистера Уэллса по плечу. Тот слабо улыбнулся в ответ, ожидая продолжения разговора. – Жаль, но сегодня здесь немного литераторов из нашего журнала, – сплетничал Гаррис. – Киплинг обещал появиться, но не кажет носа, старый пес. И Ричарде пропадает неделями. Ждали Питт Риди, да, видно, напрасно. Все, что мы можем предложить – это Грегори, один из наших редакторов. – Долговязый молодой мужчина ухмыльнулся, налил себе нетвердой рукой еще один бокал шампанского. – А это – наш театральный критик Шоу. – Мужчина с рыжей бородой и язвительным выражением лица, одетый в костюм из твида, который казался слишком тяжелым для погоды, ответил на представление мрачным кивком с дальнего конца стола, где он сидел, проглядывая пачку печатных листов и иногда делая на них пометки ручкой. – Рад познакомиться, джентельмены, – с отчаянием ответил Джерек Карнелиан. – Но ваш приятель… мистер Джексон… как мне необходимо поговорить с ним. – Вы слышите, Уэллс? – воскликнул мистер Гаррис. Он совсем не интересуется вашими фантастическими полетами. Он хочет Джексона. Джексон… – мистер Гаррис неудомевающе огляделся вокруг. – Куда исчез Джексон? Я уверен, он будет в восторге, узнав, что его читают в Париже. Придется поднять его гонорар до гинеи за статью, если к нему придет популярность. Мистер Уэллс нахмурился, в упор глядя на Джерека. Когда он заговорил, голос его оказался удивительно высоким. – У вас болезненый вид, мистер Фроненталь. Недавно приехали? – Только что, – ответил Джерек. – Я не Фроненталь, меня зовут Карнелиан. – Где же, наконец, Джексон? – сердился мистер Гаррис. – Мы все немного подшофе, – объяснил мистер Уэллс Джереку. – Последний тираж распродан, и Френк любит ходить сюда праздновать это событие, – он повернулся к Гаррису. – Джексон мог вернуться в офис. – Да, я не подумал об этом, – сразу успокоился мистер Гаррис. – Угомонись, Гаррис! Неужели нельзя потише! – сделал замечание рыжебородый мужчина за дальним концом стола. – Я обещал вернуть эти гранки сегодня. И где наш обед, между прочим? Мистер Уэллс наклонился вперед и коснулся руки мистера Гарриса. – Вы уверены, что этот Фроненталь появится сегодня, Гаррис? Мне пора идти по своим делам. – Появится? Разве он еще не появился? – Это какой-то мистер Карнелиан, – сухо отрезал Герберт Уэллс. – Правда? Уверяю вас, Фроненталь надежный человек, он обязательно придет. – Я думал, вы с ним знакомы лично. – Я много слышал о нем, – ответил, не смущаясь, мистер Гаррис. – Он как раз тот человек, который поможет вам, мистер Уэллс. Мистер Уэллс поглядел на него скептически. – Мне пора идти. Разрешите откланяться. – Как? Вы не останетесь на ужин? – мистер Гаррис был разочарован, – есть парочка идеек, которые я хотел обсудить с вами. – Я загляну в офис на неделе, если не возражаете, – ответил мистер Уэллс, поднимаясь. Он вынул часы из кармана жилета. – Если поймаю кэб, то поспею в Чаринг-Кросс вовремя к девятичасововму поезду. – Вы собираетесь назад в Уэлинг? – В Бромли, – уточнил мистер Уэллс. – Я обещал родителям уладить кое-какие дела. – В Бромли? – вскочил с кресла Джерек. – В Бромли, мистер Уэллс? Мистер Уэллс удивился. – Ну, да. Вы бывали там? – Вы отправляетесь сейчас? – Да. – Я пытаюсь попасть в Бромли… ну, очень давно. Не возьмете меня в попутчики? – Пожалуй, – мистер Уэллс засмеялся. – Я никогда не слышал о ком-нибудь, кто так хотел бы посетить Бромли. Большинство людей скорее хотели бы убраться из него. Мы должны поторопиться, мистер Карнелиан, время не терпит.Глава одиннадцатая БЕСЕДЫ О МАШИНАХ ВРЕМЕНИ И НА ДРУГИЕ ТЕМЫ
Хотя настроение мистера Уэллса, казалось, значительно улучшилось после того, как он покинул кафе «Роял», они ни словом не обмолвились в кэбе. Джерек пришел в замешательство, когда у кассы с него потребовали плату за проезд, но Уэллс великодушно заплатил за обоих, предположив, что у мистера Карнелиана нет английских денег. И сейчас они сидели в купе прокуренного вагона второго класса, ожидая, когда поезд тронется. Джерек с любопытством изучал меблировку вагона, которая оказалась совсем не такой, как он представлял. На обивке виднелись пятна, трещины, потеки, и Джерек решил тщательно воспроизвести их при первом же удобном случае. – Спасибо вам, мистер Уэллс. Я уже потерял надежду, что когда-нибудь найду Бромли. – У вас там друзья? – Да, один друг – Леди. Возможно, вы знаете ее. – Я еще помню кое-кого в Бромли. – Миссис Амелия Андервуд. Мистер Уэллс нахмурился, покачал головой и стал набивать табаком свою трубку. – Нет, боюсь, нет. Где она живет? – Коллинз-стрит, 23. – О, да. Одна из новых улиц. Бромли здорово вырос с тех пор, как я был молодым. – Вы знаете, как найти эту улицу? – Конечно. Не беспокойтесь, я покажу вам дорогу, – мистер Уэллс прислонился к спинке сидения, глаза его весело блеснули. – Как это похоже на старину Гарриса; спутать вас с кем-то другим, кого он в глаза не видывал. Почему-то он любит хвастать, что знаком со всеми; люди обижаются и не хотят иметь с ним никаких дел, – голос мистера Уэллса был звонким и оживленным. – Я все-таки слегка благоговею перед ним. Он разорил полдюжины газет, но все же публикует лучший материал в Лондоне. И дает шанс, за что я ему очень благодарен. Вы пишете для французских газет, мистер Карнелиан? – Гм, нет… – ответил Джерек, не желая повторять свой предыдущий эксперимент, когда он рассказал абсолютную правду, и ему не поверили. – Я немного путешествую. – По Англии? – О, да. – И где вы уже побывали? – Только в девятнадцатом столетии – сказал Джерек. Сначала Мистеру Уэллсу показалось, что он не расслышал ответ Джерека, но потом лицо его озарила добродушная улыбка. – Вы читали мою книгу, – воскликнул он с энтузиазмом. – Вы путешествуете во времени, не так ли, сэр? – Да, – сказал Джерек, обрадовавшись, что его хоть раз приняли всерьез. – И у вас есть машина времени? – в глазах мистера Уэллса появился лукавый блеск. – Пока нет, – ответил Джерек. – Но испытываю в ней острую необходимость, не могу вернуться тем способом, с помощью которого оказался здесь. Я не из прошлого, видите ли, а из будущего. – Вижу, – помрачнел мистер Уэллс. Поезд тронулся. Джерек посмотрел на одинаковые, закопченные дымом крыши, освещенные газовыми лампами. – Все дома кажутся очень похожими и перенаселенными, – сказал он. – Они отличаются от тех, что я видел раньше. – Около кафе «Роял»? Вы не знаете, что такое трущобы, потому что их, наверное, нет в вашем времени? – Трущобы? – переспросил Джерек. – Нет, – ему нравилось покачиваться в такт движению поезда. – Интересные ощущения. – Не похоже на ваши монорельсовые дороги? – полюбопытствовал мистер Уэллс. – Абсолютно, – весело ответил Джерек. – Вы знакомы с тем джентльменом, который исчез при моем появлении? – С Джексоном? Мы встречались несколько раз и даже разговаривали на общие темы. Насколько я знаю, он появляется в редакции крайне редко, когда Гаррис на этом настаивает. Он делает это время от времени, чтобы удостовериться в реальности своих сотрудников, – мистер Уэллс улыбнулся в предвидении своего замечания, – или в своей собственной. – А где он живет в Лондоне? – Я не знаю. Вы можете спросить у Гарриса. – Вряд ли у меня будет такая возможность. Лишь только я встречусь с миссис Андервуд, мы займемся поисками машины времени. Вы не знаете, где ее можно найти? Ответ мистера Уэллса был загадочным. – Вот здесь, – сказал он, постучав себя по лбу курительной трубкой. – Там, где я нашел свою. – Вы построили машину? – Можно сказать и так. – Значит, их не так много в эпохе Рассвета? – Их очень мало. Некоторые злопыхатели считают, что мое изобретение – плод больного воображения, настолько оно, по их мнению, оторвано от реальности. – Значит, машины времени появились совсем недавно? – Да, но их внедрение вызывает грандиозный успех. Никто не ожидал столь ошеломляющих результатов. – Вы не могли бы построить для меня машину времени, мистер Уэллс? – Я больше теоретик, чем ученый-практик, – объяснил ему фантаст. – Но если вам удастся построить ее, дайте мне знать. – Та машина, на которой я путешествовал, была изобретена за два тысячелетия до вашей эпохи. К сожалению, она сломалась. Так что вы заново открываете странствия во времени, словно пионер. – Великолепно сказано, мистер Карнелиан! Если вы разовьете эту идею для парижских читателей, мистеру Верну придется потесниться на своем литературном пьедестале. С вашей необузданной фантазией можно писать прекрасные истории. Джерек не совсем понял его. – Я не умею писать, – поделился он, – и читать. – Ни один настоящий Элой не способен читать или писать, – мистер Уэллс пыхнул своей трубкой, всматриваясь в окно. Поезд мчался мимо более просторных домов на более широких улицах, будто некая сила в центре города была способна сжимать здания, как глина сжимается центробежной силой, когда вращается на гончарном кругу. Джерек напрягался в поисках объяснения, но в конце концов, оставил эту проблему. Нельзя же освоить эстетику эпохи Рассвета за один вечер! – Вы могли бы стать прекрасным переводчиком моих книг, мистер Карнелиан. Скажу больше, вы могли бы сделать их лучше! Джерек согласно кивнул головой, хотя опять не уловил смысла в похвалах писателя. – Иногда не стоит заходить слишком далеко, – стал кокетничать мистер Уэллс. – Люди часто спрашивают, откуда я черпаю столь неправдоподобные замыслы, думая, что я намеренно гонюсь за сенсацией. Они не понимают, что для меня это самые обыкновенные, самые рядовые идеи. – Для меня тоже, – с готовностью согласился Джерек. – Вот как? – охладел к нему писатель.* * *
– Мы прибыли, мистер Карнелиан. Это и есть ваш сказочный Бромли. Кажется, мы единственные приезжие в это время, – мистер Уэллс отворил дверь вагона и вышел на платформу. Станция была освещена лампами, мерцавшими на слабом ветру. В конце поезда мужчина в форме поднес свисток к губам и пронзительно свистнул, махая зеленым флажком. Мистер Уэллс закрыл за собой дверь, и поезд начал медленно отходить от станции. Они прошли мимо ящиков, полных цветов, мимо окрашенного в белый цвет забора, и оказались у выхода. Здесь пожилой мужчина взял билеты, которые мистер Уэллс протянул ему. Путники пересекли территорию станции и вышли на улицу, полную двухэтажных домов, залитую светом газовых ламп, под одной из которых играли двое ребятишек. Где-то поблизости процокала лошадка. – Это Верхняя улица, – информировал его мистер Уэллс, свернув за угол. – Она почти не изменилась с тех пор, как я родился, хотя Бромли разросся. – А, – протянул Джерек. – Это Медхерст, – мистер Уэллс показал на темные витрины магазина, – там был Атлас-хауз. Он никогда не пользовался успехом, магазин фарфора моего отца. Там находится старый «Колокол», где тратилась большая часть прибыли. Портные Куперы, кажется, уже не занимаются бизнесом. Рыбный магазин By дала… – он хихикнул. – Знаете ли, некоторое время Бромли был для меня раем. Затем стал адом, а теперь это просто чистилище. – Почему вы приехали сюда, мистер Уэллс? – Уладить дела моего отца. Я остановлюсь в «Розе и Короне» и вернусь в Лондон утром. Писателю иногда полезно окунуться в город детства. Со времени жизни в Бромли я прошел долгий путь, и, на мой взгляд, счастливый. – А мне посчастливилось встретить вас, мистер Уэллс, – Джерек был почти в экстазе. – Бромли! – выдохнул он. – Вы, должно быть, первый турист в этом захолустье, мистер Карнелиан. – Благодарю вас за комплимент, – неуверенно ответил Джерек. – До Коллинз-стрит осталось совсем немного. Я провожу вас и поспешу в «Розу и Корону», прежде чем они начнут гадать, что со мной случилось. Мистер Уэллс проводил его через несколько улочек с чрезвычайно высокими заборами и новенькими добротными домами, пока они не остановились на углу засаженной деревьями и освещенной неоном улицы. – Мы прибыли на сумрачную, наполовину обособленную землю, – с шутливой торжественностью объявил мистер Уэллс. – Коллинз-стрит, сэр. Он показал на табличку, которую Джерек не мог прочитать. – Это номер двадцать три? – Пока нет. Он на противоположной стороне – прямо около той лампы! Видите? – Вы так добры, мистер Уэллс. Через несколько мгновений я снова соединюсь с моей потерянной любовью. Я опроверг теорию Морфейла! Я осмелился переплыть опасные бурные моря Времени! Наконец-то я в конце моего трудного пути в Бромли! – Джерек обнял литератора за плечи и нежно поцеловал в лоб. – А это вам, мистер Уэллс, мой дорогой. Мистер Уэллс с беспокойством отступил назад. – Рад был… э… помочь вам, мистер Карнелиан. Извините, но я тороплюсь, – он повернулся и быстро зашагал в обратном направлении. Джерек был слишком счастлив, чтобы заметить резкие перемены в поведении мистера Уэллса. Он стремительно достиг ворот затейливого чугунного литья и перепрыгнул через них, прошел по мощеной дорожке к двери готического вида виллы из красного кирпича, немного похожей на ту, что миссис Андервуд просила построить для нее в Конце Времени. Не забыв ее уроков, Джерек нашел звонок и дернул за него. Ожидая, когда откроют, он снял шляпу и пожалел, что не догадался принести цветы, о которых ему напомнили красивые стеклянные лилии на верхней половине двери. Внутри дома послышалось движение, и, наконец, дверь открыли, но не миссис Андервуд. Перед ним стояла хорошенькая девушка в черном платье с белым передником и в белой шапочке. Она посмотрела на Джерека со смесью удивления, любопытства и презрения. – Что вам угодно? – Это Коллинз-стрит, 23, Бромли, Кент, Англия, 1896 год? – Совершенно верно. – Место жительства прекрасной миссис Амелии Андервуд? – Вы не ошиблись – это дом Андервудов. – Я хочу видеть миссис Амелию Андервуд. Она дома? – Как о вас доложить? – Карнелиан. Скажите, что Джерек здесь, чтобы забрать ее назад в наше любовное гнездышко. – Чтоб мне провалиться, – сказало юное создание, – если ты не чокнутый! – Извините, я не совсем вас понял? – Лучше убирайся отсюда, пока не поздно! Любовное гнездышко! Да миссис Андервуд заявит в полицию за такие разговоры! – Она попыталась закрыть дверь, но Джерек уже проник в дом. – Миссис Андервуд… уважаемая леди! – Убирайсявон! – Я не могу позволить себе, – мягко возразил Джерек. – Почему вы так переполошились? – ошеломленный таким приемом, он сопротивлялся служанке. – Пожалуйста, скажите, миссис Андервуд, что я здесь. – О, боже! О, боже! – уговаривала девушка. – Имей хоть немного здравого смысла! Ты добьешься того, что тебя арестуют. Будь паинькой, иди своей дорогой, и я никому ничего не скажу о тебе. – Я пришел к миссис Андервуд, – настаивал Джерек. – Я не знаю, почему вы не хотите пустить меня! Мне казалось, я выполнил все ваши обычаи. Но, если я ошибся или забыл какое-нибудь правило, простите великодушно и скажите, что я должен делать. Я не хотел вас обидеть и не испытываю желания быть грубым! – Грубым! Грубым, о господи! – и, повернув голову, она закричала в прихожую. – Мэм! Мэм! Здесь какой-то маньяк, я не могу удержать его! Дверь открылась. В коридоре стало светлее, появилась фигура в платье из коричневого бархата. – Миссис Андервуд! – обрадовался Джерек – Миссис Амелия Андервуд! Это я, Джерек, вернулся за вами! Миссис Андервуд была такой же прекрасной, но, по мере того, как он смотрел на нее, она становилась все бледнее и бледнее. Прислонившись к стене, она подняла руки к лицу и беззвучно шевелила губами. – Помогите мне, мэм! – просила служанка, отступив в прихожую. – Я не могу справиться с ним сама. Вы знаете, какими сильными могут быть эти психи! – Я вернулся, миссис Андервуд! Я вернулся! – Вы… – он едва мог расслышать слова. – Вы… были повешены, мистер Карнелиан. За шею, пока не умерли. – Повешен? В машине времени, вы имеете в виду? Я думал, вы сказали, что отправляетесь со мной. Я ждал. Вы, очевидно, не успели присоединиться ко мне. Поэтому я вернулся. – Вернулись?! Он протиснулся мимо дрожащей служанки и вытянул руки, чтобы обнять женщину, которую любил. Она приложила бледную руку к бледному лбу. В ее глазах было какое-то безумное рассеянное выражение; она, казалось, говорила сама с собой. – Мои переживания… слишком много… знала… я не полностью оправилась… мозговая лихорадка… И прежде, чем он смог обнять ее, Амелия рухнула на красный ковер.Глава двенадцатая УЖАСНАЯ ДИЛЕММА МИССИС АМЕЛИИ АНДЕРВУД
– Теперь смотри, чего ты добился! – перешла в наступление маленькая служанка. – Как не стыдно! – Что с ней происходит? – Это обморок. Ты испугал ее так же, как испугал меня! Весь этот грязный разговор! Джерек встал на колени около миссис Амелии Андервуд, похлопывая ее по безжизненным ладоням. – Обещай, что не сделаешь ничего гадкого, и я пойду за водой и нюхательной солью, – сказала девушка, с тревогой глядя на него. – Гадкое? Я? – Безумец! – в голосе девушки слышалось восхищение. Она покинула прихожую, не особенно опасаясь Джерека, и вернулась очень быстро со стаканом воды и зеленой бутылочкой. – Отойди, – приказала она, и, встав на колени рядом с Джереком, подсунула под голову миссис Андервуд руку и поднесла бутылочку к ее носу. Миссис Андервуд застонала. – Тебе просто повезло, – сказала служанка, – что мистер Андервуд сейчас на собрании, но он скоро вернется, и у тебя будут неприятности. Миссис Андервуд открыла глаза и, увидев Джерека, снова закрыла их со стоном отчаяния. – Не бойтесь, – ласково прошептал Джерек. – Я заберу вас, как только вы поправитесь. Вскоре она смогла заговорить. – Куда же вы исчезли, если вас не повесили? – Я был в Конце Времени, которое вы так полюбили, там, где мы были счастливы вместе. – Я счастлива здесь, с моим мужем, мистером Андервудом. – Конечно. Но не так, как со мной. Она сделала глоток воды из стакана, отвела в сторону нюхательную соль и с помощью Джерека и служанки поднялась с пола. Неуверенной походкой она прошла в гостинную, довольно невзрачное подобие той, которую Джерек создал для нее. Фисгармония не имела столько клавиш, как та, что сделал он, и аспидистра не была такой красивой, да и салфеточки на мебели были какими-то непривлекательными. Зато запах, устоявшийся и разнообразный, был лучше. Она осторожно присела в одно из больших кресел около камина. Джерек остался стоять. Амелия обратилась к девушке. – Вы можете идти, Мауди. – Идти, мэм? – Да, дорогая. Мистер Карнелиан, хотя и не знаком с нашими обычаями, не опасен. Он недавно приехал в Англию. – А-а! – протянула Мауди Эмили, успокоенная тем, что ситуация прояснилась. – Ладно, сожалею об ошибке, сэр, – она сделала что-то вроде реверанса и ушла. – Она добрая девушка, хотя не очень воспитанная, – извинилась миссис Андервуд. – Вы знаете, как трудно найти… но, конечно, вы не знаете. Она у нас только две недели и разбила почти весь фарфор, но она очень старается. Мы взяли ее из Дома, вы знаете? – Дома? – Дом. Дом для девочек. Что-то вроде исправительного заведения для малолетних преступников. Идея заключается в том, чтобы не наказывать их, а обучать какому-нибудь полезному занятию. Обычно, конечно, они идут на службу. Слово имело знакомое значение для Джерека. – Пушечное мясо! – выдал он. – Шиллинг в день! – сын Орхидеи почувствовал что-то вроде потери. – Я забыла, – спохватилась она. – Простите меня. Вы так мало знаете о нашем обществе. – Напротив, – возразил Джерек. – Я знаю больше, чем прежде. Когда мы вернемся, миссис Андервуд, вы будете удивлены моими познаниями. – Я не собираюсь возвращаться в ваш упадочный век, мистер Карнелиан. В ее голосе появились ледяные нотки, что встревожило настойчивого кавалера. – Я была счастлива бежать оттуда, – заявила женщина, добавив более мягко. – Хотя никогда не забуду вашего любезного гостеприимства, сэр. Мне уже стало казаться, что все это приснилось. – Приснилось, что вы полюбили меня? – Я не говорила, что люблю вас, мистер Карнелиан. – Вы намекали… – Нет, просто вы неправильно истолковали… – Я не умею читать, Амелия. Вам придется научить меня этому. – Я говорю не о письме. Тогда, в саду, я была не в себе и могла наговорить всякую чепуху. Счастье, что вихрь унес меня прочь прежде, чем вы… Прежде, чем вы могли совершить поступок, о котором потом пришлось бы пожалеть. Джерек не поверил ее словам. – Вы любите меня. Я знаю это. В вашем письме… – Я люблю мистера Андервуда. Он – мой муж. – Я тоже буду вашем мужем. – Это невозможно. – Нет ничего невозможного. Когда я вернусь, мои Кольца Власти… – Вы неправильно поняли, мистер Карнелиан. – У нас будут дети, – пообещал Джерек. – Мистер Карнелиан! – к ней, наконец, вернулся цвет лица. – Вы прекрасны! – воскликнул влюбленный. – Прошу вас, мистер Карнелиан! Он вздохнул от удовольствия. – Вы просто восхитительны! – Послушайте, мистер Карнелиан. Скоро вернется мой муж, и мне придется объяснять ему, что вы – старый друг моего отца, что он познакомился с вашей семьей, когда был миссионером в Южных морях. Это неправда, и я ненавижу ложь, но не вижу другого выхода спасти свою честь. Постарайтесь не болтать лишнего! – Вы знаете, что любите меня, – упрямствовал он. – Скажите своему супругу, и мы оставим этот дом. – Никогда! У меня и так неприятности с мужем… мое появление в суде… потенциальный скандал. Мистер Андервуд не обладает излишним воображением, но он стал довольно подозрительным. – Подозрительным? – К истории, которую я была вынуждена состряпать, пытаясь спасти вас от петли. – Петли чего? Нотка отчаяния прозвучала в ее голосе. – Вы до сих пор не рассказали, как избежали смерти и пришли сюда? – Мне не угрожала смерть, это было путешествие во времени, несколько более рискованное, чем обычно. Все это время я пытался найти машину времени, чтобы снова соединиться с вами. Мне помогла Няня, чудесный старый робот. А потом счастливый случай привел меня на Коллинз-стрит. Вы знакомы с мистером Уэллсом? – Нет. Он заявляет, что знает меня? – Нет-нет, он приехал уладить дела отца в «Розе и Короне». По пути он сказал, что изобретает машины времени. Это хобби, как я понял. Я хочу узнать у него, кто изготовитель его машин. Это облегчит наше возвращение. – Мистер Карнелиан, я уже вернулась в свой дом! Навсегда! Джерек критически огляделся. – На что вам эта жалкая лачуга? Пусть в ней больше достоверности, но в этом убожестве так безрадостно! Может, это неприлично, говорить о просчетах мистера Андервуда, но мне кажется, он мог бы дать вам намного больше. Джерек потерял интерес к предмету своего разговора и пошарил в карманах, чтобы посмотреть, нет ли в них чего-нибудь, что можно было бы подарить ей, но все, что у него оказалось, был пистолет-имитатор, который Няня вернула накануне путешествия. – Я знаю, что вы любите пучки цветов и ватерклозеты (вы видите, я помню каждую мелочь из ваших рассказов, так вы мне дороги), но я забыл создать цветы перед отправлением, а ватерклозет – слишком громоздкий груз для перевозки сквозь время. – Вдруг его осенило. Он начал снимать свое самое красивое Кольцо Власти с рубином, – я буду счастлив, если вы примете этот скромный подарок. – Это невозможно, мистер Карнелиан! Как я объясню своему мужу, откуда этот перстень? – Разве в этом есть необходимость? – Прошу вас, уходите! – стала умолять Амелия, услышав движение на улице. – Это он! – бедная женщина растерянно огляделась. – Помните, – требовательный шепот срывался с ее губ, – что я сказала вам. – Хорошо, я постараюсь, хотя не понимаю… Дверь открылась, и в гостиную вошел мужчина неопределенного возраста с пенсне на носу. Соломенного цвета волосы были причесаны на пробор. Высокий белый воротник безжалостно врезался в его розовую шею, а узел галстука был очень тугим и маленьким, почти микроскопическим. Мистер Андервуд расстегивал пуговицы своего пиджака с видом человека, снимающего защитный скафандр в среде, которая могла оказаться не совсем безопасной. Положив на стол черную книгу, которую принес с собой, он пригладил волосок, выбившийся из симметричного уса. – Добрый вечер, – в голосе послышался намек на вопрос. Он признал присутствие жены. – Моя дорогая! – Добрый вечер, Гарольд. Познакомься, пожалуйста с мистером Карнелианом. Он только что приехал от Антиподов, где мой и его отцы были миссионерами. – Карнелиан? Какое необычное имя. Я припоминаю что-то вроде этого… Так звали мошенника, который… – Его брат, – пояснила миссис Андервуд. – Я выражала соболезнование, когда ты вошел. – Ужасное дело, – мистер Андервуд бросил взгляд на газету на буфете с видом охотника, который видит ускользающую от выстрела добычу. Он вздохнул, на лице его застыло подобие улыбки. – Вы знаете, моя жена очень решительная, когда нужно выступать в защиту. Огромный риск скандала. Я только сегодня говорил мистеру Григгсу на церковном собрании, что, если бы все имели такое мужество следовать велению нашей совести, мы смогли бы подойти значительно ближе к воротам Царства Небесного. – Кхе, кхе, – поперхнулась миссис Андервуд, – ты слишком добр, Гарольд. Я только выполнила свой долг. – Не все имеют твою силу духа, моя дорогая. Она удивительная женщина, мистер Карнелиан! – Согласен с вами, – с чувством произнес Джерек, который разглядывал соперника с беззастенчивым любопытством. – Самая чудесная женщина в вашем мире, в любом мире, мистер Андервуд. – Гм, да, – продолжил мистер Андервуд. – Вы, конечно, благодарны за те жертвы, которые она принесла. Что ж, мне понятен ваш энтузиазм… – Жертвы? – Джерек повернулся к миссис Андервуд. – Я не знал, что в этом обществе практикуются подобные обряды. Кому вы?… – Вы долго не были в Англии, сэр? – спросил мистер Андервуд. – Это мой второй визит, – ответил Джерек. – Ага, – мистер Андервуд, казалось, наслаждался общением. – В самых темных глубоких джунглях, а? Неся свет дикарскому уму? – Я был в лесу… – начал Джерек. – Он недавно услышал о печальной судьбе своего брата, – вмешалась в разговор миссис Андервуд. Джерек не мог понять, почему она все время прерывала их беседу, которая становилась все интересней. Он сам не ожидал, что так поладит с мистером Андервудом. – Ты предложила мистеру Карнелиану что-нибудь освежающее, моя дорогая? – пенсне мистера Андервуда блеснуло, когда он оглядел комнату. – Мы, нет нужды говорить, трезвенники, мистер Карнелиан. Но если вы хотите чаю… – Какая хорошая идея, – воскликнула миссис Андервуд и с энтузиазмом дернула за шнурок звонка. Перед ними появилась Мауди Эмили и получила указания принести чай и бисквиты на троих. Она перевела многозначительный взгляд с мистера Андервуда на Джерека, чем вызвала панику миссис Андервуд. – Чай? – переспросил Джерек, когда Мауди Эмили ушла. – Я еще ни разу не пробовал его. Или мы… На этот раз невольно мистер Андервуд пришел на выручку жене. – Никогда не пили чай? О, тогда вы не должны пропустить это угощение. Вы, наверное, провели большую часть жизни вдали от цивилизации, мистер Карнелиан? – От этой – да. Мистер Андервуд снял свое пенсне и, достав из кармана большой белый платок, отполировал стекла. – Я понял, что вы имеете в виду, сэр, – сказал он мрачно. – Кто мы такие, чтобы обвинять бедного дикаря в отсутствии культуры, когда мы сами живем в такие безбожные времена? – Безбожные? Я думал, что это Религиозный Век. Вы сейчас упоминали Царствие Безбесное. – Мистер Карнелиан, боюсь, вас неправильно информировали. Вашей вере повезло расцвести без препятствий, без сомнения, когда вы жили в отдаленной туземной хижине в компании Всевышнего и Библии. Но соблазны, с которыми человек вынужден бороться в этой нашей Англии, могут заставить его махнуть рукой и искать утешения у Высшей Церкви, – его голос понизился. – Я знал человека, жителя Бромли, который чуть не свернул с дороги на Рим. – Он не мог найти Бромли? – засмеялся Джерек, обрадовавшись, что он и мистер Андервуд нашли общий язык. – У меня самого из-за этого была куча хлопот. Если бы я не встретил мистера Уэллса в кафе «Роял», я до сих пор искал бы Бромли! – Кафе «Роял»?! – прошипел мистер Андервуд почти тем же тоном, которым он сказал «Рим». Он вернул на место пенсне и в упор посмотрел на Джерека Карнелиана. – Я заблудился… – стал объяснять Джерек. – Кафе «Роял» – врата в преисподнюю! – …и встретил человека, который жил в Бромли. – Надеюсь, он здесь больше не живет? – Нет. Мистер Андервуд вздохнул с облегчением. – Мистер Карнелиан, – наставлял он. – Вы должны помнить о судьбе вашего бедного брата. Без сомнения, он был таким же невинным, как вы, когда впервые оказался в Лондоне. Помните, что он не зря получил название Города Сатаны. – Кто этот мистер Сатана? – небрежно спросил Джерек. – Видите ли, я воссоздал город, и полезно иметь совет человека, который… – Мауди Эмили! – зазвенел голос миссис Андервуд, будто приветствуя вид земли после многих дней в открытом море. – Чай! – она повернулась к ним. – Чай, пожалуйста! – А, чай, – сказал мистер Андервуд, но нахмурился, раздумывая над последними словами Джерека, который уже почувствовал, что сказал что-то лишнее, несмотря на то, что был так осторожен, хотя и не видел большого смысла обманывать мистера Андервуда. Нужно было объяснить мистеру Андервуду, (который явно не питал особой страсти к миссис Андервуд), что Джерек будет намного счастливее с его супругой. Поэтому мистер Андервуд должен отпустить миссис Андервуд с Джереком, а сам может остаться здесь, с Мауди Эмили. Когда Мауди разливала чай, миссис Андервуд стояла около камина, нервно теребя в руках маленький кружевной платочек, а мистер Андервуд выглядывал сквозь пенсне, будто проверял, чтобы Мауди Эмили налила равные порции в каждую чашку, Джерек сказал. – Вы счастливы с мистером Андервудом, Мауди? – Да, сэр, – пропищала она тоненьким голоском. – А вы счастливы с Мауди Эмили, мистер Андервуд? Мистер Андервуд махнул рукой и пошевелил губами, должно быть, демонстрируя свое счастье. – Превосходно, – сказал Джерек. Последовало молчание. Ему протянули чашку с чаем. – Как вы находите чай? – Мистер Андервуд оживился, наблюдая, как Джерек отпивает чай. – Есть такие люди, которые страшатся чая, утверждая, что это возбуждающий напиток, – он печально улыбнулся. – Но я боюсь, мы перестанем быть людьми, если у нас не останется наших маленьких грехов, а? Вам нравится, мистер Карнелиан? – Очень приятный на вкус, – сказал Джерек. – Кажется, я пил его раньше, но название было более длинное. Вы не помните, миссис Андервуд? – Откуда я знаю, мистер Карнелиан, – вспыхнула она, сверкая глазами на Джерека. – «Лап» что-то, – сказал Джерек. – «Су» что-то. – Лап-сан-су-чонг! Да, твой самый любимый чай, моя дорогая. Китайский чай. – Вот-вот, – подтвердил Джерек. – Вы встречали мою жену раньше, мистер Карнелиан? – Когда мы были детьми, – ответила за него миссис Андервуд. – Я же объясняла тебе, Гарольд. – Вам не давали чай, потому что вы были маленькие? – Да, – раздраженно ответила она. – Дети? – ум Джерека был занят другими вещами, но сейчас он заинтересовался. – Дети? Вы собираетесь иметь детей, миссис Андервуд? – К несчастью, – мистер Андервуд прокашлялся, – нас до сих пор не благословило… – Что-нибудь не получается? – Э… нет. – Возможно, вы не умеете делать их прямым старомодным методом? Должен признаться, мне самому пришлось потратить много времени, чтобы разобраться в нем. Вы знаете… – Джерек обернулся, чтобы убедиться, что миссис Андервуд тоже включилась в беседу, – надо было определить, что куда входит, и так далее. – Н-н-н… – задохнулась миссис Андервуд. – Великие Небеса! – чашка с чаем прилипла к губам мистера Андервуда. В первый раз с тех пор, как он вошел в комнату, его глаза, казалось, ожили. Тело Джерека затряслось от смеха. – Потребовались долгие исследования. Моя мать, Железная Орхидея, объяснила все, что знала, и в конце, когда мы собрали всю информацию, помогла мне получить массу практического опыта, так как всегда интересовалась новыми способами любви. Она рассказала, что хотя при моем зачатии и была использована настоящая сперма, в остальном старые методы не соблюдались. Как только она разобралась, что к чему (а это потребовало некоторых незначительных биологических изменений), она призналась мне, что редко так наслаждалась общепринятыми способами любви. Что с вами, миссис Андервуд? Миссис Андервуд? – Сэр, – отчеканил мистер Андервуд, обращаясь к Джереку с холодной брезгливостью. – Вы полоумный. Готов допустить, из жалости к вам, что вы, так же, как и ваш казненный братец поражены одним и тем же заболеванием мозга. – Мой брат? – Джерек нахмурился. Затем он подмигнул миссис Андервуд. – О, да, мой брат… Миссис Андервуд, тяжело дыша, неожиданно опустилась прямо на ковер, в то время, как Мауди, с поджатыми губами и очень красным лицом, издавала странные приглушенные звуки. – Зачем вы пришли сюда? О, зачем вы пришли сюда? – миссис Андервуд была в отчаянии. – Я люблю вас, – объяснил Джерек терпеливо. – Видите ли, мистер Андервуд, – начал он доверительно, – я хочу взять миссис Андервуд в спутницы жизни. – В самом деле? – Мистер Андервуд подарил Джереку безжизненную кривую усмешку. – А что, могу я спросить, вы намерены предложить моей жене, мистер Карнелиан? – Предложить? Подарки? Да, хорошо, – он снова пошарил в карманах, но не нашел ничего, кроме пистолета-имитатора, который тут же извлек наружу. – Это? Мистер Андервуд вскинул руки вверх.Глава тринадцатая СТРАННЫЕ СОБЫТИЯ В БРОМЛИ ОДНОЙ НОЧЬЮ В ЛЕТО 1896 ГОДА
– Пощадите их, – взмолился мистер Андервуд. – Возьмите меня, если надо. – На что вы мне, мистер Андервуд, – сказал рассудительно Джерек, поигрывая пистолетом. – Хотя это благородно с вашей стороны, но я хочу миссис Андервуд. Мы любим друг друга. – Это правда, Амелия? Не произнося ни слова, она покачала головой. – У тебя роман с этим человеком? – Вот слово, которое я пытался вспомнить! – обрадовался Джерек. – Я не верю, что вы – брат этого убийцы, – мистер Андервуд не забывал держать свои руки над головой. – Просто вам удалось избежать виселицы. И ты, Амелия, кажется, сыграла печальную роль, препятствуя торжеству правосудия. Я чувствую, в то время… – Нет, Гарольд, мне нечего стыдиться… о, во всяком случае, очень немногого… Если бы ты выслушал, что случилось со мной той ночью, когда… – Той ночью, да? Когда? – Я была похищена. – Этим человеком. – Нет, этот появился позднее. О, дорогой! Я скрыла от тебя правду из страха, что ты не поверишь. Ты мог не вынести этого. – Бремя лжи – тяжкая ноша, Амелия! Я жду объяснений. – Сама не знаю, как я оказалась в Конце Времени. Это далекое будущее, дорогой, где я встретила мистера Карнелиана, который был очень добр ко мне… Я уже не надеялась, что увижу тебя снова, но вернулась в тот же самый момент, когда исчезла, и подумала, что мне приснился очень яркий сон. Потом я прочитала о появлении мистера Карнелиана в нашем времени – его осудили за убийство. – Итак, он тот же самый человек! – Чтобы спасти его жизнь, я вынуждена была солгать, что он умалишенный. Мои усилия ни к чему не привели, да и мистер Карнелиан настаивал на своем, убеждая присяжных в том, что говорит правду и только правду. Но никто не поверил, и суд приговорил его к смертной казни через повешение. Чуть позже я узнала, что приговор приведен в исполнение. – Это какой-то бред, – не мог оправиться от потрясения мистер Андервуд. – Боже, каким я был глупцом, слепо доверяя этой падшей женщине. Ты коварно обманула меня, богоотступница, – мистера Андервуда бил озноб. Он провел рукой по голове, растрепав волосы, затем ослабил галстук. К счастью, Библия подсказывает мне, что ты должна покинуть мой дом навсегда. И благодари Господа Бога за Новый Завет и его наставления. Во времена Ветхого Завета ты не смогла бы избежать суровой кары. – Гарольд, опомнись! Ты не в себе! Сделай милость, выслушай историю мистера Карнелиана… – Ха! На что мне его бредни, если он собирается убить меня? – Убить вас? – сочувственно спросил Джерек. – Для вас, мистер Андервуд, я с охотой сделаю все, что вы хотите… – О! Джерек заметил, что Мауди Эмили вышла из гостиной и подумал, что ей наскучил разговор. Что-то разладилось в их прежней оживленной беседе, и Джерек силился понять мистера Андервуда, голос которого дрожал и вибрировал так, что искажал слова. – Я не стану чинить вам препятствия, – тараторил мистер Андервуд, выпучив глаза. – Забирайте ее и уходите, если вы этого так хотите. Она сказала, что любит вас? – О, да. В письме. – Письмо? Амелия? – Я написала письмо, но… – Какое вероломное предательство! Какой коварный обман! Подумать только, я пригрел змею на своей груди! Я преклонялся перед добродетельной христианкой, не подозревая, что это всего лишь маска лицемерия. – О, Гарольд, как ты мог подумать обо мне так плохо! Я не запятнала свою честь, потому что дорожу ей… – Честь? Ты что, милочка, считаешь меня законченным идиотом! Хватит морочить мне голову, я не верю ни одному твоему слову! – Отлично, – с энтузиазмом вставил Джерек, не вдаваясь в смысл тирады оскорбленного супруга после того, как понял, что основная проблема благополучно разрешилась. – Нам пора, Амелия! – Угомонитесь, мистер Карнелиан! Ваше появление в этом доме сильно потрясло Гарольда! Я верю, что вы не хотели причинить ему ничего дурного, но, похоже, от горя и страха он лишился рассудка. Прошу вас, мистер Карнелиан, положите оружие обратно в карман! Он сунул пистолет на старое место. – Я собирался предложить его в обмен. Насколько я понял… – Вы ничего не поняли, мистер Карнелиан. Будет лучше, если вы уйдете… – Вместе с тобой, Амелия. Я требую, – мистер Андервуд опустил руки, достал из кармана платок и точными обдуманными движениями, поглядывая временами на белую ткань, отер пот со лба. – Вы оба мечтаете об этом? О твоей свободе! Ты свободна! Мой дом, наконец, очистится от скверны. – Гарольд, откуда такая горячность? Ты всегда проповедовал смирение и прощение! Где твоя рассудительность? – Ты считаешь, я могу быть спокойным после того, что узнал? – Нет, дорогой, но… – Всю сознательную жизнь я жил по принципам, которые, казалось, разделяла и ты. Теперь, когда ты их попрала, я не желаю оставаться с тобой! Твой отец однажды предупредил меня, что ты любишь витать в облаках. Когда мы поженились, я не обнаружил этой черты, поверив, что необходимость быть хорошей женой изгнала ее. Но оказалось, ты скрывала ее от меня всю нашу супружескую жизнь вплоть до грехопадения. – Гарольд, ты сошел с ума! Он отвернулся. – Убирайтесь из моего дома! – Ты пожалеешь об этом, Гарольд. Ты знаешь, что пожалеешь. – Пожалею о жене-прелюбодейке, которая разводит амуры под крышей моего дома с осужденным убийцей? Да? – он издал мрачный смешок. – Да, есть о чем пожалеть! Джерек взял миссис Андервуд за руку. – Нам пора. Она умоляюще смотрела на мужа, но позволила Джереку повести ее к двери. А затем они оказались в тишине Коллинз-стрит. Джерек понял, что миссис Андервуд была расстроена прощанием с мужем. – Кажется, мистер Андервуд вошел в наше положение и прекрасно понял ситуацию. Вот видите, все ваши страхи оказались беспочвенными. Никогда не стоит лгать. И мистер Андервуд говорит то же самое. Он, конечно, был не столь великодушен, но и на том спасибо. – Мистер Карнелиан, я знаю своего мужа. Он явно не в себе, и вы тому причиной. Из-за вас он пережил страшные минуты. В этом есть и моя вина, не спорю. – Почему вы говорите шепотом, миссис Андервуд? – Соседи, – она покачала головой. – Пройдемся немного пешком. У Гарольда будет время обдумать все заново. Библейское собрание отнимает у него много душевных сил. Он из семьи потомственных миссионеров и всегда мечтал последовать по стопам отца, но его здоровью, в целом не такому уж плохому, противопоказан жаркий климат. Его мать рассказывала мне, что это у него с детства, – она замолчала. – Боюсь, я разболталась. – Болтайте дальше, прекрасная миссис Андервуд, – Джерек легко ступал по дорожке. – Скорей бы вернуться в Конец Времени! Я помню каждое слово письма, которое мистер Гриффите прочел мне. Особенно последнюю часть: «…поэтому должна признаться, Джерек, что люблю вас, что мне не хватает вас, что я никогда не забуду вас». О, как я счастлив! Теперь я знаю, что такое счастье! – Мистер Карнелиан, я написала это письмо в спешке, – и, помолчав, добавила нехотя. – Я думала, что вы умрете. – Но почему, я не понимаю? Женщина глубоко вздохнула и ничего не ответила. Они прошли еще несколько улиц, очень похожих на Коллинз-стрит (Джерек удивился, как люди ориентируются в этом сером однообразии домов). На улице похолодало, и продрогшая Амелия не стала возражать, когда Джерек накинул свой плащ на ее хрупкие плечи. – Спасибо, – поблагодарила она. – Не будь я разумной женщиной, мистер Карнелиан, я могла бы в этот момент считать, что вся жизнь разбита. Но Господь вселяет в меня надежду, что Гарольд опомнится и исправит свою ошибку. Мы должны помириться! – Его утешит Мауди Эмили, – сказал ей Джерек. – И они прекрасно заживут вдвоем. – О, дорогой! О, дорогой! – миссис Андервуд покачала головой. Дорога переходила в тропинку, которая бежала сначала между заборами, а затем между кустами, за которыми простирались бескрайние поля. Лунный свет струился с беззвездного неба. – Эта дорога едва ли приведет нас к «Розе и Короне»? – Что вы забыли в публичном доме? – Публичный дом? – Почему вы хотите пойти в «Розу и Корону», мистер Карнелиан? – Там сейчас мистер Уэллс. Он может порекомендовать нам хорошего мастера по изготовлению машин времени. – Ваш знакомый подшутил над вами, потому что в девятнадцатом веке ничего неизвестно о средствах передвижения во времени. – Что вы, наша беседа носила самый серьезный характер. Пожалуй, это единственный человек в вашем мире, который точно знает, о чем говорит. – Да он просто смеялся над вами! Где вы успели побеседовать? – В поезде. Это была незабываемая поездка! Я сделаю массу улучшений, как только вернусь. – Значит, вам не на чем вернуться в Конец Времени? – Пока не на чем, но что вас так беспокоит? – Если Мауди вызовет полицию, и Гарольд расскажет, что скрывшийся от правосудия убийца и его сообщница находятся в окрестностях Бромли, и что этот преступник вооружен, мы с вами не оберемся неприятностей. Кстати, что это за штука, которой вы размахивали у Гарольда перед носом? – Пистолет-имитатор. Хотите покажу? В ночной тишине раздался резкий звук полицейского свистка. – Полиция! – задохнулась миссис Андервуд. – Этого я боялась больше всего, – она схватила его за руку, затем отдернула ладонь. – Если они найдут вас, вы обречены. – Почему? Вы имеете в виду джентльменов в шлемах, которые помогали мне прежде? У них есть доступ к машине времени. В конце концов, благодаря им я смог вернуться в свой собственный век во время предыдущего визита. Не обращая внимания на его слова, Амелия потащила его через ворота в поле, от которого исходило одурманивающее Джерека благоухание. Ее наивный спутник остановился, чтобы вобрать в легкие побольше воздуха. – Куда вы так торопитесь, Амелия? Я хочу запомнить все оттенки запаха. Мне это пригодится при создании копий, которым аромат прибавит шарма, тонкости. Жаль, что нет никакой возможности записать… – Замолчите! – прошипела она настойчиво. – Видите, они идут сюда? – она показала назад, на дорогу. Там появилось несколько пляшущих маленьких огоньков. – Это их «бычьи глаза». Вся полиция Бромли, должно быть, идет по нашим следам. Опять прозвучал свисток. Беглецы притаились за кустами, слушая шелест велосипедных шин по грунтовой дороге. – Не занимайтесь ерундой! Надо быть набитыми дураками, чтобы бежать в открытое поле, – послышался хриплый голос. – Лучше искать их на станции. – Сумасшедшие непредсказуемы, – возразил другой голос. – Я участвовал в поисках Левишамского убийцы три года назад. Его нашли свеженького, как огурчик, на складе, ближе чем за пять улиц от места преступления. Он отсиживался там в течение двух недель, пока мы денно и нощно прочесывали окрестности Кента, не поймав ничего, кроме насморка. – Что-то подсказывает мне, что они отправились к поезду. Тот парень сказал, что он приехал на поезде. – А вы уверены, что это тот, кого мы ищем? Кроме того, он сказал, что с поезда сошли двое мужчин, очевидно, приятели. Где же тогда другой? – Я не верю, что он приехал на поезде. – Между прочим, что он делает в Бромли? – спросил третий голос недовольно. – Вернулся за лакомым кусочком. Бывают женщины, что голова идет кругом. Я не раз уже видел, как совершенно приличная женщина опускается из-за негодяя с хорошо подвешенным языком. Если она неосторожна, то становится его очередной жертвой. – Такое часто бывает, – согласился другой. Они удалились за пределы слышимости. Лицо миссис Андервуд потемнело. – В самом деле! – сказала она – Итак, я уже имею репутацию сожительницы преступника. Любительница грязи, как он сказал. Ну, мистер Карнелиан, вы никогда не осознаете того вреда, который причинили, но сейчас я очень сожалею, что позволила своей добродетельной натуре встать на вашу защиту в Центральном Уголовном суде! Я дала повод для слухов. А теперь… Ладно, мне придется покинуть страну. Но бедный Гарольд – почему он должен страдать? – Покинуть? Хорошо, – Джерек встал, стряхнув кусочки соломы с брюк. – Мы должны разыскать мистера Уэллса. – Мистер Карнелиан, вы что, не понимаете, что нам грозит опасность? Полицейские сказали, что за станцией ведется наблюдение. Они прочесывают Бромли и могут найти нас. Джерек все еще был озадачен. – Почему бы не поговорить с ними? Разве эти славные солдаты порядка могут причинить нам вред? – Поверьте мне на слово, мистер Карнелиан, эта встреча чревата опасностью. Он недоуменно пожал плечами. – Я верю, миссис Андервуд. Но мы должны попасть к мистеру Уэллсу во что бы то ни стало. – Ваш Уэллс – обыкновенный шарлатан со своими небылицами о машине времени. – Он написал книгу. Она нахмурилась, смутно припоминая. – Я читала эту книгу в прошлом году. Игра воображения, сплошная фикция. – Что такое «фикция»? – Придуманная история – о том, чего нет. – Но ведь все реально. – О вещах, которых не существует… – она напряглась в поисках правильного ответа. – Но машины времени существуют. Вы знаете это не хуже меня, миссис Андервуд. – Нет, нет и еще раз нет, – с жаром возразила Амелия. – Их нет в 1896 году. – А мистер Уэллс утверждает обратное. Кому я должен верить? – Вы любите меня? – Конечно, люблю. – Тогда вы должны верить мне, – убежденно сказала она, и, взяв его за руку, повела через поле. Немного погодя они притаились в овраге, разглядывая очертания здания, которое миссис Андервуд назвала фермой. Несколько раз мелькнули огни полицейских фонарей в некотором отдалении, но сейчас казалось, что преследователи потеряли их след. Джерек до сих пор считал, что миссис Андервуд не разобралась в ситуации. – Я отчетливо слышал, что они ищут гусей, – докладывал раб любви. Бедная женщина утомилась, силы ее были на исходе, и она радовалась передышке. – Гусей, а не людей. – Нас может вызволить только какое-нибудь влиятельное лицо. Если бы ему удалось убедить власти поверить нам, – с тех пор, как они покинули дом Андервудов, Амелия оставляла без внимания реплики Джерека. – Мистеру Уэллсу не составит труда опубликовать статью в «Субботнем Обозрении», я, правда, давно не брала его в руки, но раньше это был довольно уважаемый журнал. Если мы продержимся до утра в этом амбаре, полиция решит, что упустила нас, и прекратит преследование. Тогда легче будет найти мистера Уэллса. Идемте, мистер Карнелиан, – устало поднялась Амелия и пустилась в тяжкий путь к амбару. Когда они пересекали скотный двор, раздался громкий лай сторожевых собак. На втором этаже распахнулось окно, и хриплый мужской голос спросил. – Кто здесь? Что вам нужно? – Добрый вечер, – поприветствовал его Джерек, опередив попытку миссис Андервуд зажать ему рот своей маленькой ладошкой. – Мы здесь гуляем, радуемся вашей сельской природе. Должен признаться, здесь чудесно… – Черт возьми, это помешанный, о котором нас предупреждали! – громко предположил хозяин. – Схожу-ка я за ружьем. – Я не вынесу этого, – заплакала миссис Андервуд. – Смотрите! Три или четыре огонька мерцали невдалеке. – Полиция? – А кто же еще? В доме послышался шум, грохот, крики, засветились окна первого этажа. Миссис Андервуд схватила Джерека за рукав и втолкнула в первое попавшееся строение. В темноте что-то фыркнуло и переступило с ноги на ногу. – Лошадь! – обрадовался Джерек. – Я всегда любил четвероногих. Миссис Андервуд ласково погладила лошадиную морду, успокаивая животное. Неожиданно раздался выстрел, и, секундой позже, душераздирающей вопль. – Черт! Я застрелил свинью! – Мы должны воспользоваться этим шансом, – воспряла духом Амелия, поспешно накидывая одеяло на спину лошади, – давайте сюда седло, мистер Карнелиан. Живей! Он не знал, что такое «седло», но догадался, что это, должно быть, странная тяжелая конструкция из кожи, которая висела на стене над его головой. Джерек напрягся и помог ей поднять седло на спину лошади. Джерек с восхищением наблюдал, как она ловкими движениями продела ремешки и затянула кожаную петлю на шее животного. – Садитесь быстро, – прошипела она, – не мешкайте! – Вы хотите покататься? – Быстро забирайтесь на лошадь, и помогите мне. – Я еще ни разу не пробовал… Амелия скороговоркой учила его. – Ставьте вашу ногу сюда. Придерживайте лошадь! Перекиньте другую ногу через седло, найдите другое стремя – вот оно – и возьмите вожжи. У нас нет выбора. – Отлично! Ваши уроки так занимательны. Я счастлив видеть, что любовь к развлечениям возвращается к вам. Забраться на лошадь оказалось немного труднее, чем он думал, но, в конце концов, в тот момент, когда грянул еще один выстрел, он оседлал животное, и его ноги находились в соответствующих металлических петлях. Подоткнув свои юбки, миссис Андервуд умудрилась аккуратно усесться в седло. Она взяла вожжи, приказав: – Держитесь за меня, – а затем лошадь рысцой выбежала из стойла во двор. – Ей-богу, они забрали мою лошадь! – закричал фермер. Он поднял ружье, но не смог выстрелить. Ясно было, что он не собирался рисковать лошадью так же, как уже рискнул свиньей, ради каких-то сумасшедших. В этот момент около полудюжины коренастых полицейских ворвались в ворота и стали хватать за поводья лошадь, в то время, как Джерек заливался веселым смехом, а миссис Андервуд нервно натягивала вожжи с жутким криком. – Ваши пятки, мистер Карнелиан! Не жалейте ваши пятки! – Всегда рад услужить, дорогая, но я не понимаю, что вы от меня хотите! – Джерек был почти беспомощен от смеха. Испуганная смельчаками в полицейских мундирах, лошадь встала на дыбы, заржала, закатила глаза, перепрыгнула через забор и пустилась галопом. Последнее, что Джерек услышал, было восклицание. – И такое происходит в Бромли! Кто бы мог подумать! Прогремел третий выстрел. Скорее всего, у фермера сдали нервы, и он перепутал в темноте стражей порядка с беглыми преступниками. Миссис Андервуд вскрикнула. – Помогите! Я теряю контроль! Подпрыгивая вверх и вниз, чуть не теряя под собой сиденье, одной рукой держась за седло, а другой – за ее талию, Джерек расплылся в блаженной улыбке. – Наконец-то! Как я счастлив слышать это, дорогая!Глава четырнадцатая НЕХВАТКА МАШИН ВРЕМЕНИ
Прохлада рассвета коснулась Бромли. Рано встав, чтобы завершить свои дела и как можно быстрее отправиться в путь, мистер Уэллс покинул «Розу и Корону», и вышел на Верхнюю улицу с видом человека, который всю ночь боролся с дьяволом и полностью одолел его. Этот визит в Бромли был неприятен ему по двум причинам: во-первых, Герберт искренне считал, что во всей Англии не сыскать места более захудалого, скучного и никчемного; во-вторых, его угнетала роль просителя, в которой он появился здесь, чтобы спасти отца от вызова в Суд Графства по поводу незначительного финансового вопроса, который, очевидно, его отец много месяцев не удостаивал вниманием. Несмотря на то, что здесь были его корни, мистер Уэллс не мог снисходительно отнестись к родному Бромли. Отец, если смотреть с точки зрения Бромли, был закоренелым неудачником, но сын добился успеха, опубликовав несколько книг. В другое время он предпочел бы, чтобы его визит приветствовали с большей публичностью, например, короткими интервью в «Новостях Бромли» – и он прибыл бы с большей пышностью, но природа его бизнеса делала это невозможным. На самом деле, он надеялся, что никто не узнает его, поэтому поднялся так рано. Причиной его настроения послужило внутреннее ощущение, что он преодолел Бромли. Город больше не пугал его. Вопросы ничтожных долгов пустяковых скандалов больше не погружали его в бездну отчаяния, как это было когда-то. Он убежал из Бромли, и теперь, вернувшись, избавился от призраков, которые преследовали его. Мистер Уэллс крутанул свою трость, пригладил маленький ус (который никак не вырастал таким густым, как хотелось) и сложил губы трубочкой в молчаливом свисте. Ощущение благополучия переполнило его, и он высокомерно посмотрел на Бромли: на телегу молочника с медленно тащившей ее древней лошадью; на мальчишку-разносчика газет, объезжающего на велосипеде дверь за дверью, чтобы одарить тусклых жителей этого тусклого городка новостями скучных происшествий; на ставни окон еще закрытых знакомых магазинов, включая окно Атлас-хауз, где мать и отец по очереди воспитывали его, и где мать изо всех сил старалась навязать ему постулаты, следуя которым, ее сын мог стать в Бромли порядочным человеком. Он усмехнулся. В те дни плевать он хотел на уважение, следуя своим собственным правилам, выбрав собственный путь и свои идеалы. Вчерашняя встреча с тем чудаковатым иностранцем лишний раз высветила, насколько отличались его жизненные принципы от родительских. Писатель вспомнил разговор в поезде, и с улыбкой подумал, что «машина времени» была принята незнакомцем за буквальную правду. Это был знак успеха, ничто иное! Пели птицы, звякали молочные бидоны, небо над крышами Бромли было чистым и голубым. Мистер Уэллс глубоко вдохнул, наслаждаясь свежестью воздуха. Дыхательные упражнения были прерваны звуком выстрела где-то в отдалении. Писатель помедлил выжидающе, а затем с удивлением увидел, как из-за поворота Верхней улицы появилась галопирующая большая лошадь, обливающаяся потом и бешено вращающая глазами. На лошади было два всадника, ни один из которых, казалось, уверенно не держался в седле. Впереди сидела красивая молодая женщина в коричневом бархатном платье, испачканном кусочками соломы, грязи и листьями; ее темные кудри были в беспорядке. За ней, одной рукой держась за ее талию, другой – за поводья, в одной рубашке (его плащ, кажется, скользнул между ними и болтался, подобно лишней ноге, сбоку лошади), сидел вчерашний знакомец, мистер Карнелиан, гикая и смеясь, ни дать, ни взять – биржевой клерк, радующийся катанию верхом на Бранкорской воскресной ярмарке. Лошадь приостановилась на миг перед телегой молочника, и Джерек увидел мистера Уэллса. Он радостно замахал руками, покачнулся назад, с трудом восстановив равновесие. – Мистер Уэллс! Приветствуем вас! Мы вас искали! Ответ мистера Уэллса был несколько равнодушным, даже для его собственного уха. – Ну, я здесь! – Вы не подскажете, кто может сделать мне машину времени? Мистер Уэллс, подыгрывая веселому иностранцу, со смехом показал своей тростью на велосипед в руках стоявшего с разинутым ртом мальчика-посыльного. – Боюсь, что ближайшая к машине времени вещь, которую вы сможете найти – это скобяное изделие, подобное вот тому. Мистер Карнелиан переключил внимание на велосипед и, казалось, был готов слезть с лошади, когда она поскакала дальше. Молодая женщина причитала при этом: – Увы! Увы! – или, возможно: – Уа!Уа! – А ее спутник прокричал через плечо: – Премного благодарен, мистер Уэллс! Благодарю вас! Тут пять забрызганных грязью полицейских на таких же грязных «машинах времени» появились из-за угла, и офицер, возглавлявший погоню, закричал, указывая на исчезающую пару. – Хватайте их! Это Ярмарочный убийца! Мистер Уэллс наблюдал в молчании, как эскадрон промчался мимо, затем пересек дорогу к месту, где стоял мальчик-рассыльный, челюсть которого грозила отделиться от остальной части лица. Пошарив в кармане жилета, мистер Уэллс вынул монетку. – Ты не продашь мне одну газетку? Его посетила шальная, почти фантастическая мысль. Быть может, подумал он, Бромли перестал быть таким скучным, каким запомнился с детства.* * *
Джерек Карнелиан мечтательно наблюдал за веслом, уплывающим по пронизанной водорослями реке. Миссис Андервуд лежала на другом конце лодки, которую они реквизировали после того, как лошадь при попытке перепрыгнуть через забор в десяти милях от Бромли, избавилась от всадников недалеко от реки. Она еще спала. Как бы то ни было, Джерек не находил большого удовольствия в гребле и не испытывал угрызений совести по поводу исчезающего на глазах последнего весла. Он откинулся на скамейку, держа руку на руле, и зевнул. День выдался теплый и ясный, солнце стояло высоко в небе. До его слуха доносилось мирное жужжание пчел в траве на ближайшем берегу, а на другой стороне леди в белых платьях играли в крикет на зеленой аккуратной лужайке. Их мелодичный смех, стук молоточков о шары негромко звучали в ушах Джерека. Этот мир такой богатый, думал он, снимая пару листьев со своего пиджака и тщательно изучая их. Текстура, детали были восхитительными, и он раздумывал над возможностью их воспроизвести, когда вернется вместе с миссис Андервуд домой. Миссис Андервуд зашевелилась, потирая глаза. – Теперь мне стало немного лучше, – она осмотрелась. – О, дорогой, нас уносит течение. – Я потерял весла, – с легкостью объяснил Джерек. – Одно еще виднеется вон там. Не стоит отчаиваться, ведь течение такое сильное, и мы плывем. Амелия ничего не ответила, но ее губы сложились в улыбку, больше философскую, чем ликующую. – Вот видите, эти машины времени не такая уж редкость, как вы рассказывали, – оживленно произнес Джерек. – Я видел уже несколько с лодки. Люди ехали на них по тропинкам вдоль реки. И у тех полицейских они тоже были. Наверное, они собрались последовать за нами сквозь время. – Это обыкновенные велосипеды, – терпеливо объяснила миссис Андервуд. – На мой взгляд, они совсем не отличаются друг от друга. Ве-ло-си-пе-ды, – по слогам повторила она. – Бог с ними, – сказал Джерек, – главное, все складывается удачно. Ваши страхи беспочвенны, и мы скоро будем дома. – Боюсь, нам придется воспользоваться другим способом, – она огляделась. – Сейчас движемся в западном направлении. Скорее всего, это Суссекс. А, ладно, в конце концов, полиция все равно найдет нас. Я смирилась с судьбой. – В мире, где Временем так дорожат, – наставительно размышлял Джерек, – людям следовало бы иметь больше машин в своем распоряжении. – В этом мире люди – во власти Времени, мистер Карнелиан. – Так и должно быть, согласно Морфейлу. Мою поспешность легко объяснить, потому что рано или поздно мы все равно окажемся в будущем, с той лишь разницей, что, лишенные возможности контролировать полет, мы можем потерять друг друга и оказаться в разных местах. – Ничего не понимаю, – она мечтательно опустила руку в воду. – Если вы хоть раз побывали в будущем, то ваше возвращение в прошлое порождает парадокс, и время само избавляется от тех, чье путешествие в определенный век приводит к путанице, изменению истории или чему-нибудь вроде этого. Мне до сих пор непонятно, почему мы застряли в эпохе Рассвета. Судя по всему, возник уже не один опасный парадокс. Как только они проявятся, мы окажемся на пути в будущее. – Вы утверждаете, что у нас нет выбора? – Да. Поэтому мы должны поторопиться с возвращением в Конец Времени, где вы будете счастливы. Если мы попадем в будущее, где машины времени не такая уж редкость, нам не составит особого труда добраться до цели в несколько прыжков. Однако есть опасность попасть в один из исключительно негостеприимных периодов между 1896 годом и Концом Времени. – Вы хотите сказать, что у меня нет выхода? – Совершенно верно. – Вы никогда не лгали, мистер Карнелиан, – задумчиво улыбнулась Амелия. – Я часто молилась, чтобы вы сделали это хоть раз. Скажу вам откровенно, я смогла бы остаться здесь вечно, если бы не стала опрометчиво болтать о том, что со мной произошло в будущем, и смогла забыть об этом. – Наверное, так оно и есть. Многие паломники во времени предпочитают умалчивать, что видели в будущем. Я слышал о таких, и, похоже, Время великодушно «позволяет» им оставаться там, где они желают. Как бы там ни было, мало кто может устоять перед соблазном поделиться с ближним. Мы так мало знаем о тех, кто ничего не рассказал. Это может объяснить трещину в теории Морфейла. – Значит так… я не буду распускать язык и останусь в 1896 году, – решила она. – Гарольд уже мог прийти в себя, и если он подтвердит, что вы похитили меня, с меня снимут подозрения в соучастии. Вы все равно исчезнете, и они никогда не докопаются до истины. Но сейчас нам крайне необходима помощь. – Амелия нахмурилась, когда из-под лодки раздался скрежещущий звук. – Ага! – воскликнула она. – Какое везение, что нас прибило к берегу. За узкой песчаной полоской, на которой они высадились, поднимался крутой берег, усыпанный многоцветьем луговых растений. Пока миссис Андервуд поправляла прическу, глядя на свое отражение в зеркальной глади реки, Джерек увлекся собиранием букета для нее. Желание сорвать самые красивые цветы привело к белому забору, и Джерек не удержался от соблазна заглянуть через него. В глаза ему бросилась безжизненная равнина, на которой находилось несколько кирпичных строений, украшенных камнем и металлом в стиле рококо. Вдоль зданий струился бурлящий поток, чуть дальше виднелись работающие машины, состоящие из тяжелого центрального цилиндра с десятью очень длинными стержнями. Цилиндры вращались, и вместе с ними вращались и стержни, равно распределяя жидкость над ярко-зеленой равниной. Ясно было, что это сельскохозяйственные роботы. Джерек смутно помнил, что слышал о них в одной из записей, найденной в Руинных Городах. Он вспомнил, что эти роботы существовали во времена Массовой культуры. Поскольку разумные машины были нехарактерны для этой эпохи, Джерек предположил, что нашел экспериментальный полигон для испытания роботов. В зданиях, скорее, всего находилось оборудование для экспериментов. Значит, там были и ученые, сведущие в изготовлении машин времени. Джерек был взволнован, но, торопясь с радостной новостью к своей любимой, ни на минуту не забывал о самом главном. Помедлив с минуту в ожидании, когда она закончит свой туалет и повернется к нему, он протянул ей букет. – Лучше поздно, чем никогда, – молвил он. – Эти цветы я собирал для вас. Амелия колебалась мгновение, потом приняла букет. – О, мистер Карнелиан! – ее губы дрожали. Джерек внимательно посмотрел на свою любимую. – Ваши глаза, – спросил он, – что с ними? Вы плеснули водой себе на лицо? Она кашлянула и приложила пальцы сначала к одному глазу, а затем к другому. – Да. – Мне не терпится обрадовать вас, – он показал на берег. – Скоро мы вернемся в Конец Времени, и вы сможете продолжить мое «моральное образование», я соскучился по этим милым «урокам нравственности». На ее губах заиграла улыбка. – Иногда мне не дает покоя ваша странная наивность. Сколько раз я говорила, что должна вернуться к Гарольду и переубедить его. Подумайте о нем. Он… он негибкий человек, и, должно быть, находится в этот момент в отчаянии. – Ладно, если вы хотите вернуться, мы пойдем вместе, и я постараюсь объяснить ему… – Нет, это невозможно. Для начала мы должны позаботиться о вашей безопасности, а потом я пойду к нему сама… – Но вы вернетесь? – Ни за что. – Даже несмотря на то, что любите меня. – Да, мистер Карнелиан. Я могу повторить вам то, в чем боялась признаться самой себе. Да, я люблю вас, но что из того? Я видела ваш мир: ваши люди играют в жизнь, ваши эмоции – эмоции актеров, искренние лишь в тот момент, когда они разыгрываются на сцене перед публикой. На какие страдания я обрекла бы себя, оставшись с вами. Мысль о том, что ваша любовь ко мне – не что иное, как сентиментальный самообман, поддерживаемый с настойчивостью – не давала бы мне покоя. – О, нет, нет, нет! – его большие глаза затуманились. – Как вы можете так думать? Они стояли в молчании на берегу тихой речки. Амелия с печалью смотрела на букет, осторожно и трепетно поглаживая лепестки. Джерек сделал к ней шаг и остановился, немного подумав, прежде чем заговорить. – Миссис Андервуд? – Да? – Что такое «обман»? Она взглянула на него, с удивлением, затем рассмеялась. – О, дорогой мой Карнелиан! О, дорогой! Что с вами делать? Они взялись за руки, и Джерек повел любимую к обнаруженному им полигону. – Мы должны поговорить с учеными из лаборатории. Они помогут нам. – Какие лаборатории? С чего вы взяли, что это лаборатории? – Я собственными глазами видел роботов. У вас в 1896 году их не так уж много, да? – У нас их нет совсем. – Тогда я прав. Это экспериментальные роботы. Я так надеюсь на ученых. Они не только поймут меня, но будут рады помочь. – Что-то я сомневаюсь, – она дошла до забора и поглядела на сцену за ним. Сперва Амелия покраснела, а затем затряслась в приступе смеха. – О, мистер Карнелиан, я боюсь, ваши надежды не оправдались. Интересно, какой запах может быть там… – Запах? Он необычен? – Немного. О, моя доброта… – Разве это не экспериментальная ферма? – впервые оптимизм угрожал покинуть его. – Нет, это канализационная ферма, – она прислонилась к забору и смеялась, пока слезы не показались у нее на глазах. – Что такое «канализация»? – спросил он. – Боюсь, это не то слово, которое леди может объяснить вам! Джерек рухнул на землю у ее ног и обхватил голову руками, испытывая что-то, очень похожее на отчаяние. – Что нам делать? – причитал он. – Я согласен на старую, потрепанную машину времени, даже на ту, что оставил здесь в прошлый раз – это было бы хоть что-то. Как я раскаиваюсь теперь, что предпринял этот непродуманный вояж. – Именно поэтому я начинаю радоваться ему, – бодро возразила Амелия. – Не падайте духом, Джерек. Мой отец говаривал, что нет ничего лучше добротной, солидной, неразрешимой на первый взгляд проблемы, чтобы отвлечь человека от обычных глупых неприятностей, которые портят жизнь. Наши трудности так велики, что делают любые иные, какие у меня могли бы быть, совсем тривиальными! Еще минуту назад я так жалела себя, но сейчас, слава богу, все позади! – Кажется, я понимаю, о чем вы говорите, – сказал Джерек с чувством. – Сюда входит вера в человекоподобное и злобное существо по имени Судьба? – Боюсь, что да. Он медленно поднялся с земли и надел плащ. Джерек просветлел, когда следующая мысль пришла ему в голову. – Как бы то ни было, это приключение, возможно, продолжает мое «моральное образование»? Они стали спускаться с берега назад на песчаную отмель. В этот раз она сама взяла его за руку. – Скорее, это побочный эффект, хотя я знаю, что не должна говорить так цинично. Мистер Андервуд часто говорил мне, что нет ничего хуже для взора Господа, чем циничная женщина. Я боюсь, их очень много вокруг в такие неспокойные времена, как наше. Пойдемте, просмотрим, куда ведет та тропинка вдоль берега. – Надеюсь, – пробормотал он, – что не в Бромли.Глава пятнадцатая ПУТЬ В СТОЛИЦУ
Невзрачный ювелир с бесцветными волосами вытащил стеклянный предмет из правого глаза и шумно пососал что-то в зубах. – Смешно, – заговорил он. – Я даю вам больше обычной цены, но ваш «рубин» немногим отличается от тех, что идут по шиллингу на рынке. Оправа сделана мастерски, хотя не знаю, что это за металл. Ладно, сколько вы хотите? – Он держал на ладони Кольцо Власти, которое Джерек принес в дар своей возлюбленной. Миссис Андервуд нервничала, стоя рядом с Джереком у прилавка. – Соверен? Он снова посмотрел на кольцо. – Согласен, вещица красивая, диковинная. Но зачем мне рисковать? Пятнадцать шиллингов? По рукам? – По рукам, – удрученно согласилась миссис Андервуд и взяла деньги вместо Джерека, который не совсем понимал суть происходящих событий. Он не жалел об этом перстне, потому что легко было возместить потерю по возвращении и потому, что Кольца Власти были бесполезны здесь, но странный обмен, который затеяла миссис Андервуд, совершенно сбил с толку наивного гостя из будущего. Взяв какие-то бумажки из рук: состоятельного замухрышки, Амелия положила их в карман Джереку. Покинув магазин, они очутились на шумной улице. – К счастью, сегодня базарный день, и мы не бросаемся в глаза в толпе, – сказала миссис Андервуд. – Здесь будут цыгане, бродяги, нищие, убогие. Телеги и экипажи забили узкую мостовую. Пара автомобилей дополняла дорожное столпотворение, вызывая со стороны пешеходов подчеркнутый кашель и нарочито громкие жалобы. – Можно перекусить в станционном буфете, пока ждем поезда. В Лондоне сразу же отправимся в кафе «Роял», может быть, мы встретим кого-нибудь из ваших друзей. Это наш единственный шанс, – она стремительно преодолевала неровности деревенского тротуара, пока не достигла небольшой аллейки, которая переходила в серию каменных ступенек. Беглецы взошли по ним и очутились на более спокойной дороге. – Эта дорога приведет нас к станции, – предположила она довольно уверенно. – Нам повезло, это счастье – оказаться так близко к Орпингтону. Амелия не ошиблась, потому, что вскоре они подошли к красному зданию с надписью «Орпингтон». Вчерашняя домохозяйка из Бромли решительно направилась к кассе и купила два билета второго класса до Ча-ринг-Кросс. – В нашем распоряжении двадцать минут, – сказала она, взглянув на часы над кассой. – Вполне достаточно, чтобы подкрепиться. Вы заметили, – добавила она тише, – здесь нет полиции. Кажется, побег удался.* * *
В станционном буфете Джерек впервые в жизни отведал сандвич с сыром, и даже заставил себя доесть черствое лакомство. Зато чай показался намного вкуснее, чем тот, которым его радушно потчевали в доме Андервудов. Когда, наконец, пришел поезд, наполняя станцию паром, Джерек восхищенно воскликнул. – Амелия, он так похож на мой домашний локомотив! Миссис Андервуд смутилась. Люди смотрели на Джерека и шептались друг с другом. Но Джерек ничего не замечал; он энергично потащил миссис Андервуд через двери на платформу. – Орпингтон! – выкрикнул тонкий человек в темной форме, – Орпингтон! Джерек еле дождался, когда пассажиры выйдут из вагона, и, взобравшись внутрь, приветливо кивал и улыбался всем, кто уже сидел там. – Я наслаждаюсь его великолепием, – не мог угомониться наивный путешественник, когда они уселись. – Древний транспорт всегда был моей слабостью. – Прошу вас, не болтайте лишнего, – взывала она умоляющим шепотом. Ей было досадно, что беспечный Джерек забыл все предупреждения о грозящей им газетной шумихе. Он извинился и замолчал, переключив внимание на мелькающие за окном пейзажи. В Чаринг-Кросс миссис Андервуд приехала в расстроенных чувствах. Прежде, чем покинуть вагон, она выглянула из открытого окна и, дождавшись, когда выйдут все пассажиры, сказала Джереку. – Полиции пока не видно, но мы должны поторопиться. Они слились с толпой, направлявшейся к барьеру на конце платформы, и тут даже Джерек понял, что они выделяются своим живописным видом. Разорванное, помятое и запачканное платье миссис Андервуд привлекало недоброе внимание прохожих; на ней, к тому же, не было шляпки, тогда как все другие леди имели шляпы, вуали, зонтики от солнца и плащи. Черный плащ Джерека смотрелся не лучше одеяния миссис Андервуд, а на левой штанине красовалась большая дыра. Нелестные комментарии и возмущенные возгласы усилились, когда злосчастные путники подошли к воротам и протянули контролеру свои билеты. Везение покинуло их в тот миг, когда Джерек увидел чинно вышагивающего полицейского и пронзительно закричал миссис Андервуд: – Спасайтесь, полиция! Возглас привлек внимание стража порядка, который присмотревшись к ним, вынул свисток с восклицанием: – Черт возьми! Это же они! – и кинулся в погоню. Амелия была бессильна предотвратить случившееся, и ей ничего не оставалось, как пуститься наутек вместе с Джереком. По дороге они налетели на тучную даму с маленькой шавкой на поводке. Дама, едва удержавшись на ногах, завопила: – Осторожнее! Смотреть надо! Затем пришел черед двух старых дев, которые закудахтали, как испуганные курицы, о возмутительных манерах молодежи, и наконец, под ноги им попался коренастый биржевик в шляпе чрезмерной высоты, который буркнул: – Благослови мою душу, – и сел на прилавок торговца фруктами, отчего прилавок сломался, и яблоки, грейфруты, апельсины и ананасы покатились во все стороны, заставив полицейского прервать попытки дунуть в свисток, пока он пробирался через фруктовые барьеры, с грозным предупреждением: – Стой! Именем закона… Снаружи станции Джерек вдруг заметил знакомый предмет, оставленный кем-то у забора. – Смотрите, миссис Андервуд! Мы спасены, машина времени! – Увы, это всего лишь велосипед-тандем. Однако его руки крепко схватили руль, и он пытался оседлать «машину времени», как это делали другие люди. – Лучше взять кэб, – предложила она. – Садитесь быстрее. Где управление? Со вздохом Амелия села на оставшееся свободное сидение. – Поедем на Регент-стрит, она, к счастью, недалеко, на другой стороне Пикадилли. По крайней мере, это докажет вам раз и навсегда, что… Ее голос стал неслышен, как только они очутились в гуще уличного движения, находя путь между трамваями и омнибусами, между лошадьми и автомобилями, заставляя и тех и других внезапно останавливаться посреди дороги, тяжело дыша или сотрясаясь при этом. Джерек ожидал, что вся окружающая сцена может исчезнуть в любой момент и не обращал внимания на столпотворение вокруг. Он с большим трудом сохранял равновесие на странной машине времени. – Это произойдет вот-вот! – кричал он ей на ухо. – С минуты на минуту, – и сильнее жал на педали. Все, что произошло затем – это то, что машина с бешеной скоростью пересекла Трафальгарскую площадь, пролетела мимо рынка и очутилась на Лейстер-сквер, где Джерек потерял управление и свалился с тандема, к изрядному удовольствию толпы уличных мальчишек, слоняющихся у дверей Императорского театра варьете. – Машина, кажется, неисправна, – истолковал он неудачу. Миссис Андервуд напомнила, что предупреждала об этом. После увлекательной прогулки на велосипеде ее платье порвалось в том месте, где попало в цепь. И все-таки на время им удалось ускользнуть от полиции. – Быстрее, – приказала она, – и молите Господа Бога, чтобы в кафе «Роял» оказался хоть кто-нибудь из ваших знакомых. Наконец, они подбежали к кафе, в котором Джерек был почти сутки назад. Миссис Андервуд толкнула дверь, но та не поддалась. – О, господи! – сказала она с отчаянием. – Кафе закрыто. – Разве? – спросил Джерек и, прижав лицо к стеклу, разглядел людей внутри. На все его знаки они лишь качали головами и показывали на часы. – Закрыто, – вздохнула миссис Андервуд и рассмеялась каким-то жутким безжизненным смехом. – Ну что же! С нами покончено! – Эй! – окликнул кто-то. Они повернулись, готовые бежать, но это была не полиция. В потоке уличного движения они различили двухколесный кэб, позади кабины сидел извозчик с бесстрастным лицом. – Привет, – раздался голос из кэба. – Мистер Гаррис, – воскликнул Джерек, узнав человека. – Мы надеялись, что вы будете в кафе «Роял». – Забирайтесь, – прошипел Гаррис. – Быстрее. Миссис Андервуд, не теряя времени, приняла его предложение, и вскоре все трое были втиснуты в кэб и тряслись мимо цирка к Лейстер-сквер. – Вы тот самый молодой человек. Мы с вами встречались вчера, – узнал Джерека Гаррис. – Я так и думал. Какая неудача. – Удача для нас, мистер Гаррис, – поправила миссис Андервуд. – Но неприятности для вас, если узнают о вашем участии. – О, я находил выход из худших ситуаций, – сказал он, легко рассмеявшись. – Кроме того, я прежде всего журналист, и нам, охотникам за новостями, дозволены определенные отклонения от правил при добыче по-настоящему хороших историй. Я помогаю вам не только из альтруизма, как вы можете догадаться. Я читал сегодняшние газеты. Они сообщают, что вы – Ярмарочный убийца, воскресли из мертвых, чтобы соединиться с вашей… гм… любовницей! – глаза мистера Гарриса заблестели. – Что вы на это скажете? Вы определенно похожи на убийцу, я видел рисунок в одной из газет, когда проходил суд. А вы, юная леди, были свидетельницей защиты на суде, не так ли? Она с подозрением посмотрела на мистера Гарриса. Джереку показалось, что ей не понравился грубоватый тон добродушного редактора «Субботнего Обозрения». Гаррис тоже увидел, что она колеблется, и поднял руку. – Вы можете ничего не отвечать. У вас нет, в конце концов, оснований доверять мне, – тростью он открыл крышку люка в кэбе. – Я передумал, кэбмен. Отвези нас на площадь Блумсбери! – крышка захлопнулась, когда Гаррис убрал трость. Повернувшись к беглецам, он продолжил. – Я отвезу вас в безопасное место. – Почему вы помогаете нам, мистер Гаррис? – Во-первых, я хочу получить права на вашу историю, мадам. Во-вторых, мне хотелось бы прояснить некоторые загадочные обстоятельства «Ярмарочного дела». Я хотел бы получить эту информацию из первых рук. – Вы сможете привлечь закон на нашу сторону? – надежда пересилила ее осторожность. – У меня много друзей, – пообещал мистер Гаррис, поглаживая тростью свой подбородок, – в этой сфере. Я в близких отношениях с несколькими судьями Верховного Суда, членами Королевского Совета, маститыми юристами. Думаю, меня можно назвать влиятельным человеком, мадам. – Тогда у нас есть шанс, – сказала миссис Андервуд.Глава шестнадцатая ЗАГАДОЧНЫЙ МИСТЕР ДЖЕКСОН
Поместив миссис Андервуд и Джерека Карнелиана в свои апартаменты на Блумсбери, мистер Гаррис ушел, сказав, что скоро вернется, и что они могут располагаться поудобнее. Миссис Андервуд нашла комнаты мистера Гарриса излишне фривольными, но Джерек был покорен портретами привлекательных молодых людей, толстыми бархатными шторами, и пушистыми турецкими коврами. В глаза бросалась масса фарфоровых статуэток, нефритовых и янтарных побрякушек. Просмотрев книги, Джерек нашел много элегантных рисунков в манере, которую он раньше не встречал, и показал их миссис Андервуд, надеясь, что они развлекут ее, но вместо этого она резко захлопнула книгу, отказавшись объяснить, почему не хочет смотреть на картинки. Надежды на то, что она поможет провести время, читая надписи в книге, рухнули, и он нашел другие книги с желтыми бумажными обложками, без картинок. Протянув одну из них Амелии, он спросил: – Может, почитаете эту? Взглянув на книгу, женщина недовольно фыркнула. – Она на французском. – Книга вам тоже не нравится? – Книга на французском языке, – она заглянула в спальню и увидела широкую постель с дорогими покрывалами. – Все эти комнаты – вертеп разврата. Хотя мистер Гаррис помог нам, я не одобряю его образ жизни. У меня не возникает ни малейших сомнений в отношении его развлечений. – Чем вам не нравится дом, где живет мистер Гаррис? – Живет? О, да. Без сомнения, полной жизнью. Но я подозреваю, что это не то место, где он принимает респектабельных друзей. – Амелия подошла к окну и раскрыла его. – Если они у него есть, – с сомнением добавила она. – Интересно, сколько нам придется сидеть здесь? – Пока мистер Гаррис не поговорит с теми людьми, которых он знает, и не запишет нашу историю, – ответил Джерек, повторяя то, что мистер Гаррис говорил им. – Я чувствую себя в полной безопасности в этой квартире, а вы? – Так и было задумано, чтобы избежать внимания любопытствующей публики, – ответила Амелия и снова фыркнула. Затем она уставилась в одно из высоких зеркал с позолоченной рамой и попыталась, как делала раньше, поправить свои волосы. – Вы не устали? – Джерек прошел в спальню. – Мы можем немного полежать. – Конечно, можем, – раздался резкий ответ. – Подозреваю, что здесь чаще лежат, чем стоят. Всюду модное искусство, лиловые плюмажи и благовония. Здесь мистер Гаррис принимает своих актрис. – А, – ничего не понял Джерек, уловив, однако, что с комнатами не все в порядке. Он хотел бы, чтобы миссис Андервуд побыстрее закончила его «моральное образование», тогда он тоже смог бы наслаждаться фырканьем и поджиманием губ, так как не было сомнений, что она получала определенное удовольствие от такого рода деятельности. На щеках Амелии играл румянец, глаза блестели. – Актрисы? – переспросил Джерек. – Так называемые. – Еды здесь нет, – заметил он, – но зато много бутылок. Не хотите что-нибудь выпить? – Нет, благодарю вас, мистер Карнелиан. Разве что минеральной воды. – Вы лучше посмотрите сами. Я не смогу выбрать то, что нужно. Она, поколебавшись, вошла в спальню и осмотрела обширную коллекцию в маленьком буфете около стены. – Мистер Гаррис, кажется, питает отвращение к минеральной воде. – В это время раздался стук во входную дверь, и Амелия насторожилась. – Кто это может быть? – Наверное, вернулся Гаррис? – Возможно. Откройте дверь, мистер Карнелиан, но будьте осторожны. Ваш мистер Гаррис не вызывает у меня доверия. Джерек довольно долго возился с замком, и легкий стук прозвучал снова, прежде, чем он открыл дверь. Увидев гостя, Джерек вздохнул с облегчением и удовольствием. – О, Джеггед, дорогой Джеггед! Наконец-то это вы! Приятной наружности мужчина в дверях снял шляпу. – Разрешите представиться, – отрекомендовался он, – Джексон! Мне кажется, я видел вас в кафе «Роял». Вы, должно быть, мистер Карнелиан? – Входите, хитрый Джеггед. Галантно поклонившись миссис Андервуд, застывшей в центре гостиной, Лорд Джеггед Канари вошел в дверь. Джерек пожал плечами. – Если вы не Джеггед, а Джеггед не был Джеггером, то я должен допустить, что имеется ряд Джеггедов, играющих свою роль, возможно, через все историю… Мистер Джексон улыбнулся и вытащил записную книжку и карандаш. – Вот это материал, – сказал он. – У нашего друга мистера Уэллса появился опасный конкурент, а, миссис Андервуд? – Мистер Уэллс – не мой друг, – отрезала она. – А вы с ним хорошо знакомы? – спросил Джерек. – Не очень. Нас связывает несколько случайных бесед в прошлом. Хотя я читал почти все его книги. Если ваша история не хуже «Чудесного посещения» и может быть представлена подходящим образом, тогда наше издание гарантировано! Он вальяжно развалился в глубоком кресле, а Джерек и миссис Андервуд робко присели на краешек оттоманки напротив него. – Насколько я понял, вы утверждаете, что являетесь Ярмарочным убийцем, воскрешим из мертвых. – Совсем нет, – воскликнула миссис Андервуд. – Мистер Карнелиан никого не убивал. – Вы, наверное, миссис Андервуд? Меня зовут Джексон! Я работаю для «Субботнего Обозрения». Мистер Гаррис прислал меня сделать некоторые записи. Он присоединится к нам позже. – Вы – судья! – воскликнула она. – Это вы, лорд Джеггер, обрекли мистера Карнелиана на гибель. Мужчина, который представился мистером Джексоном, удивленно приподнял брови, деликатным движением снял плаш и положил его вместе со шляпой, перчатками и тростью на стол. – Мистер Гаррис предупредил меня, что вы, вероятно, еще немного возбуждены. И это понятно, мадам. Я уверяю вас, что не являюсь ни одним из двух упомянутых вами людей. Я просто Джексон, журналист. Моя работа заключается в том, чтобы задать вам несколько вопросов. Мистер Гаррис передает свое почтение и говорит, что он делает все, что в его власти, чтобы связаться с кем-нибудь из высокопоставленных лиц, которых пока не будем упоминать, в надежде, что они смогут помочь вам. – Вы очень похожи на лорда главного судью, – сказала она. – Не вы первая говорите мне это. Увы, но я не обладаю известностью и талантом этого джентльмена. Джерек засмеялся. – Вы только послушайте его! Джеггед, вы, как всегда, великолепны! – Мистер Карнелиан, – упрекнула его Амелия. – Я думаю, вы ошиблись. Мы смущаем мистера Джексона. – Нет-нет, – мистер Джексон отмахнулся от подозрений жестом своей изящной руки. – Мы, журналисты, очень стойкие ребята, если вы знаете. Значит, несправедливо обвинен? Вернулся, чтобы оправдать себя? О, это превосходный материал. – Я не умирал, – ответил Джерек. – В последнее время, во всяком случае. Мне сложно понять то состояние, о котором вы сказали. – Боюсь, вы заблуждаетесь, мистер Джерек, – прямолинейно возразила миссис Андервуд. – Тогда где вы были, мистер Карнелиан? – В моем собственном времени, во времени Джеггеда, в отдаленном будущем, конечно. Я – путешественник во времени, так же, как и миссис Андервуд, – Джерек коснулся ее руки, но благовоспитанная леди быстро отдернула ее. – Таким образом мы встретились. – Вы всерьез верите, что путешествовали сквозь время, мистер Карнелиан? – Конечно. О, Джеггед, есть какой-нибудь смысл в этом? Вы уже однажды играли в эту игру! Мистер Джексон переключил внимание на миссис Андервуд. – Вы утверждаете, что посетили будущее. И встретили там мистера Карнелиана? Вы полюбили друг друга? – Мистер Карнелиан был добр ко мне и он спас меня от заключения. – Ага! И вы хотели сделать то же самое для него здесь? – Нет. Я до сих пор не могу понять, как ему удалось избежать смерти на виселице. Но он остался жив, отправился назад в свое время, а потом вернулся. Неужели это было только вчера? В Бромли? – Ваш муж вызвал полицию? – Непреднамеренно, но, да, полиция была вызвана. Мой муж перенервничал. Между прочим, вы не знаете, как он сейчас? – Я только читал, что написано в газетах. В бульварных листках его цитируют, как заявившего, что вы вели двойную жизнь: днем – как богобоязненная домохозяйка, ночью – как сообщница воров… – О, нет! Значит, моя репутация погублена. Мистер Джексон поправил манжет на своей рубашке. – Похоже, потребуется много труда, миссис Андервуд, чтобы восстановить ваше доброе имя. Вы знаете, как прилипчив запах скандала, он остается надолго после того, как выяснилось, что сам скандал оказался необоснованным. Она распрямила плечи. – Я должна убедить Гарольда, что он заблуждается. Я не распутное существо, как он думает обо мне. – Без сомнения, – пробормотал мистер Джексон, и его перо быстро забегало по странице блокнота. – Теперь вы можете описать будущее? – он повернулся к Джереку. – Анархическая утопия, вероятно? Вы анархист, не так ли, сэр? – Я не знаю, что это такое, – сказал Джерек. – Он, конечно, не знает, – воскликнула миссис Андервуд. – Некоторая анархия, может быть, и является результатом его действий. – Тогда социалистическая утопия? – А, теперь я понимаю, куда вы клоните, мистер Джексон, – выпалила миссис Андервуд. – Вы считаете, что мистер Карнелиан, в некотором роде, сумасшедший политический убийца, утверждающий, что он из идеального будущего в надежде пропагандировать свои убеждения? – Нет, я интересовался… – У вас вначале была такая идея? – Мистер Гаррис предположил… – Я так и подозревала. Он не поверил ни слову из нашей истории! – Он считает ее чуть приукрашенной, миссис Андервуд. Если бы вы услышали ее из моих уст, тоже могли бы так подумать. – Я – нет, – улыбнулся Джерек, – потому что я знаю, кто вы. – Успокойтесь, пожалуйста, мистер Карнелиан, – сказала миссис Андервуд. – Вы можете все запутать. – Боюсь, вы начинаете сбивать меня с толку, – проговорил мистер Джексон уравновешенным тоном. – Тогда мы только в расчете, веселый Джеггед, за путаницу, которую вы вызвали у нас в головах, – Джерек Карнелиан встал и зашагал по комнате. – Вы знаете, что эффект Морфейла приложим ко всем случаям путешествия в прошлое, как к путешественникам, возвращающимся в свое собственное время, так и к тем, кто просто посещает прошлое из какого-нибудь будущего века? – Боюсь, что не слышал об этом «эффекте Морфейла». Какая-нибудь новая теория? Не обращая внимания, Джерек продолжал: – Я сейчас подозреваю, что эффект Морфейла действует только на тех путешественников, кто произвел достаточное число парадоксов, влияющих на ткань Времени. Тем же, кто осторожен в маскировке своего происхождения, не использует никакую информацию, которую они имеют о будущем, позволено существовать в прошлом столько, сколько они пожелают! – Я не уверен, что полностью понимаю вас, мистер Карнелиан. Продолжайте, пожалуйста, – мистер Джексон не отрывался от блокнота. – Если вы расскажете многим, что я рассказал вам, то это вернет нас, вероятно, снова в будущее, – Джерек вперил в мистера Джексона немигающий взгляд. – Не так ли, Джеггед? Мистер Джексон сказал извиняющимся тоном: – Я все еще не вполне с вами согласен, но, тем не менее, продолжайте говорить, а я буду записывать. – Нет, пока я воздержусь от разговоров, – ответил Джерек. – Я должен все обдумать. – Мистер Джексон может помочь, если поверит нам, – предположила миссис Андервуд. – Но если он того же мнения, что и мистер Гаррис… – Я – репортер, – сказал мистер Джексон. – И держу все свои теории при себе, миссис Андервуд. Единственное, чего я хочу, это сделать мою работу. Если у вас есть какие-нибудь доказательства, например… – Покажите ему этот странный пистолет, который у вас есть, мистер Карнелиан. Джерек пошарил в кармане своего плаща и вытащил пистолет-имитатор. – Вряд ли это доказательство, – усомнился он. – Это, определенно, очень причудливая конструкция, – пробормотал мистер Джексон, осматривая пистолет. Он держал оружие в своих руках, когда раздался стук, и голос за дверью проревел. – Откройте! Именем закона! – Полиция! – миссис Андервуд в ужасе схватилась за голову. – Мистер Гаррис предал нас!* * *
Дверь задрожала под тяжестью ударов. Мистер Джексон медленно встал, протягивая пистолет обратно Джереку. – Я думаю, нам лучше впустить их, – сказал он. – Вы знали, что они придут, – закричала миссис Андервуд, обвиняя. – О, мы обмануты всеми! – Я сомневаюсь, что Гаррис знает об этом. С другой стороны, вы приехали сюда в обычном кэбе. Полиция могла узнать адрес от кэбмена. Типично для Гарриса – забыть такую важную деталь. Мистер Джексон крикнул в сторону двери. – Подождите секунду, пожалуйста. Сейчас открою. – Он улыбнулся ободряюще миссис Андервуд, открывая щеколду и широко распахивая дверь. – Добрый день, инспектор! Мужчина в тяжелом пальто и маленькой шляпе котелком, твердо сидящей на макушке глыбоподобной головы, прошел с тяжеловатым достоинством быка в комнату. Он огляделся, презрительно фыркая, как фыркала миссис Андервуд, намеренно не замечая ни Джерека Карнелиана, ни миссис Андервуд. Затем он сказал. – Грм-м… И развернулся, как злобный носорог, выставив палец вперед, подобно угрожающему рогу, пока тот не уперся в нос Джерека. – Это ты? – Кто? – Ярмарочный убийца? – Нет, – Джерек чуточку отодвинулся назад. – Думаешь, нет, – он потрогал пальцем тщательно приглаженный ус. – Я – инспектор Спрингер, – он сдвинул брови над глубоко посаженными мрачными глазами. – Из Скотланд-Ярда, – добавил он. – Слышал обо мне? – Боюсь, что нет, – ответил Джерек. – Я имею дело с политиками, чужаками, беспокойными иностранными элементами, и расследую эти дела исключительно твердо. – Итак, вы тоже в это верите! – встала миссис Андервуд. – Вы ошибаетесь в своих подозрениях, инспектор. – Увидим, – ответил загадочно инспектор Спрингер. Он поднял палец и согнул его, приказывая четырем или шести людям в форме войти в комнату. – Я знаю анархистов, леди. Вы все производите особенное впечатление. Несомненно, мы собираемся провести самое тщательное расследование, очень тщательное. – Вы напали на ложный след, – сказал мистер Джексон. – Я журналист и брал интервью у этих людей, и… – Как вы говорите, сэр, ложный след? Ладно, мы скоро выйдем на правильный, не бойтесь, – он посмотрел на пистолет-имитатор и протянул руку, чтобы взять его. – Отдайте мне это оружие, – сказал он. – Это не английский образец. – Я думаю, тебе лучше выстрелить. – Джерек, – вполголоса посоветовал мистер Джексон. – Больше, кажется, нет выбора. – Вы хотите, чтоб я выстрелил, Джеггед? Мистер Джексон пожал плечами. – У нас нет выхода. Джерек нажал на курок. – В нем остался только один выстрел… В комнате на площади Блумсбери вдруг появилось пятнадцать обнаженных воинов с зелеными треугольными лицами и голубыми телами. Запястья пришельцев из каннибальской империи были украшены браслетами, на шеях позвякивали ожерелья из костей и черепов. В руках древние воины, вернее, воительницы, держали длинные копья с заточенными остриями и дубинки с шипами. Когда чудовища ухмылялись, появлялись желтые, заостренные напильником, зубы. – Я знал, что ты красный анархист, – сказал с триумфом инспектор Спрингер. Полицейские попятились к двери, но инспектор Спрингер не уступал своих позиций. – Арестуйте их, – приказал он сурово. Зелено-голубые леди что-то протараторили и, казалось, стали наступать. При этом они облизывали шершавые губы. – Сюда, – прошептал мистер Джексон, проводя Джерека и миссис Андервуд в спальню. Он открыл окно и вылез на маленький балкон. Затравленные влюбленные присоединились к нему, пока он балансировал мгновение на балюстраде, затем грациозно прыгнул на соседний балкон, к которому была пристроена лестница, с помощью которой не составляло труда спуститься на землю. Мистер Джексон прошел через маленький двор к стене и открыл ворота, выходившие на уединенную тенистую улочку. – Джеггед, только вы знали, что может сделать пистолет-имитатор! Это вы! – Милостивый государь, – оскорбился мистер Джексон. – Я просто понял, что ваше оружие может пригодиться в столь затруднительном положении. – Куда мы идем? – жалобно спросила миссис Андервуд. – О, Джеггед поможет нам вернуться в будущее! – доверительно сообщил ей Джерек. – Правда, Джеггед? Мистер Джексон казался озадаченным. – Даже если бы я и был вашим другом, нет никаких оснований думать, что я всесилен и могу бездумно скакать во времени, когда душе угодно. – Я не подумал об этом, – согласился Джерек. – Значит вы обыкновенный экспериментатор, продвинувшийся в своих исследованиях дальше, чем я? Мистер Джексон ничего не ответил. – А мы – ваши подопытные, Лорд Джеггед? – продолжил Джерек. – Ну и как, вы почерпнули для себя что-то полезное из наших скитаний? Мистер Джексон пожал плечами. – Наша беседа доставила бы мне больше удовольствия, – сменил он тему, – если бы мы оказались в более безопасном месте. Теперь я, как и вы, «в бегах». Давайте отправимся в мои комнаты в Сохо, и там обдумаем ситуацию. Я свяжусь с мистером Гаррисом и получу новые инструкции. Конечно, мы ставим его в неловкое положение. – Они пробирались по боковым улочкам. Солнце начало садиться, и вечер вступал в свои права. Миссис Андервуд отстала на пару шагов и схватила Джерека за руку. – Он водит нас за нос, – прошептала она. – Мы нужны ему или пресловутому мистеру Гаррису для их корыстных целей. Мы должны надеяться только на себя, тем более, что полиция не верит больше, что вы – беглый убийца. – Зато они думают, что я анархист. Разве это не хуже? – К счастью, нет, в глазах закона. – Куда мы пойдем? – Вы знаете, где живет мистер Уэллс? – Да, в кафе «Роял». Я видел его там. – Тогда мы попытаемся добраться до кафе «Роял». Он не живет там в буквальном смысле, мистер Карнелиан, но, будем надеяться, что он проводит там достаточно много времени. – Вы должны объяснить мне разницу, – попросил он. Мистер Джексон махнул рукой кэбмену, но когда он повернулся, чтобы пригласить своих спутников войти в кэб, они были уже на другой улице и бежали так быстро, как могли позволить их уставшие ноги.Глава семнадцатая ОСОБЕННО ПАМЯТНАЯ НОЧЬ В КАФЕ «РОЯЛ»
На улице стемнело, когда изнуренные путники узкими проулками прокрались к кафе «Роял». После того, как миссис Андервуд приобрела в небольшом магазинчике подержанной одежды около Британского музея старую потрепанную шаль для себя и побитый молью реглан, чтобы прикрыть вызывающе обшарпанный костюм Джерека, они не привлекали к себе особого внимания, подобно любой другой парочке, принадлежавшей лондонской голытьбе. Но стоило им подойти к дверям кафе «Роял», как на их пути возникло очередное препятствие, в лице официанта, который, преградив им дорогу, решительно и спокойно потребовал: – Проваливайте отсюда! Клянусь, я никогда не думал, что доживу до того дня, когда эти голодранцы настолько обнаглеют. В ресторане было немного посетителей, но происшествие не оставило равнодушных, и со всех сторон посыпались реплики. – Проваливайте, говорю! – стал терять терпение официант. – Я вызову полицию… Лицо его стало пунцовым от гнева. Джереку было недосуг общаться с бдительным официантом, потому что он увидел Гарриса в компании леди экзотичной наружности, одетой в кричащий пурпур, украшенный черными кружевами и в черную мантилью. На черных, как смоль, волосах было несколько серебряных заколок. Мистер Гаррис беспечно шутил, вызывая визгливый искусственный смех своей дамы. – Мистер Гаррис! – окликнул Джерек Карнелиан. – Мистер Гаррис! – свирепо выпалила миссис Андервуд, оставив за спиной взбудораженного официанта, и надвигаясь на столик редактора. – Мне необходимо поговорить с вами, сэр. – О, мой бог! – простонал мистер Гаррис. – Я думал, что вы еще… Как? О,мой бог! Леди в красном повернулась, чтобы посмотреть, что случилось. Губы ее сливались с пурпуром платья. Довольно холодным тоном она спросила. – Эта леди – ваш друг, мистер Гаррис? Он схватил за руку свою подругу. – Донна Изабелла, поверьте – это люди, которым я оказываю покровительство… – Ваше покровительство, оказывается, ничего не стоит, – миссис Андервуд смерила оценивающим взглядом донну Изабеллу с головы до ног. – Значит, это и есть та высокопоставленная особа, с которой, как я поняла, вы должны были встретиться? Раздался хор жалоб с соседних столиков. Официант схватил Джерека Карнелиана за руку, и тот, наконец, удостоил удивленным взглядом рьяного служителя ресторана. – Что вы хотите? – Вы должны уйти, сэр. Я вижу теперь, что вы джентльмен, но вы одеты несоответственно. – Это все, что у меня осталось – ответил Джерек. – Мои кольца Власти бессильны в эпохе Рассвета. – Извините, я не понимаю. Джерек доброжелательно показал официанту уцелевшие Кольца. – У каждого из них свои функции. Это предназначено для биологических реконструкций. Это… – О, мой бог! – заметался мистер Гаррис. Новый голос прервал его, возбужденный и громкий. – Вот они! Я говорил вам, что мы найдем их в этой помойной яме. Мистер Андервуд выглядел, как будто он не спал долгое время. На нем все еще был костюм, в котором Джерек видел его прошлой ночью. Соломенные волосы растрепались, пенсне криво сидело на носу. Позади мистера Андервуда стоял инспектор Спрингер и ошеломленные предыдущими событиями подчиненные. Несколько посетителей встали, потребовав свои пальто и шляпы. Только мистер Гаррис и донна Изабелла остались на месте. Мистер Гаррис подпирал голову руками, донна Изабелла оживленно осматривалась, улыбаясь теперь каждому, кого встречал ее взгляд. Блестело серебро, шуршало платье. Она, казалось, была довольна вмешательством полиции. – Схватить их, – потребовал мистер Андервуд. – Гарольд! – начала миссис Андервуд. – Произошла ужасная ошибка! Я не та женщина, какой ты меня считаешь. – Конечно, мадам! Конечно! – Я имею в виду, что неповинна в грехах, в которых ты обвиняешь меня, дорогой! – Ха! Инспектор Спрингер и его люди, соблюдая осторожность, начали пробираться, несколько настороженно, к маленькой группке в другом конце ресторана; суровый Гарольд Андервуд замыкал их шествие с тыла. Мистер Гаррис пытался вернуть расположение донны Изабеллы. – У меня нет ничего общего с этими людьми, Изабелла! – Ну и что, я хочу познакомиться с ними поближе, – манерно сказала она. – Представь их, пожалуйста, Френк. В тот момент, когда материализовался оркестр Латов, многие из официантов уже покинули зал вместе с последними посетителями. Капитан Мабберс, с инструментом наготове, ошеломленно огляделся. Зрачки его единственного глаза начали медленно фокусироваться. – Феркит! – рявкнул он воинственно, но ни к кому конкретно не обращаясь. – Круфруди! Инспектор Спрингер застыл посреди зала и задумчиво уставился на семерых маленьких пришельцев. С видом человека, находящегося на пороге открытия глубочайшей истины, он пробормотал. – Ха! – Смаркфруб, глекс мибикс нью! – доложил один из членов экипажа капитану Мабберсу и угрожающе нацелил свой инструмент на ноги инспектора Спрингера. Очевидно, они столкнулись с той же проблемой, что и Джерек, обнаружив, что их оружие не могло работать в таких условиях. Три зрачка Лата тревожно сошлись, а затем разбежались в разные стороны. Он пробормотал что-то себе под нос, повернувшись спиной к инспектору Спрингеру. Уши его повисли. – Остатки твоей анархической банды, да? – язвительно спросил инспектор Спрингер. – У этих еще более отчаянный вид, чем у предыдущих. Что за язык? Какой-то диалект русского? – Это Латы, – дружелюбно объяснил Джерек. – Их, должно быть, захватило полем, которое установила Няня. Обыкновенный парадокс. Они – космические путешественники, – повернулся он к миссис Андервуд, – из моего собственного времени. – Кто из вас говорит по-английски? – строго спросил инспектор Спрингер капитана Мабберса. – Хавтьярд! – хорохорился капитан. – Не бузи, бандюга, – предупредил полицейский, – знаю я вашего брата. Один из его людей показал на полосатые фланелевые костюмы Латов и предположил, что они, должно быть, убежали из тюрьмы (несмотря на то, что костюмы больше напоминали пижамы). – Это не повседневная одежда, – сказал Джерек. – Няня дала им такие, когда… – А вас никто не спрашивает, сэр, если хотите знать, – перебил его инспектор Спрингер высокомерно. – Мы запишем ваши показания позже. – Офицер, вы должны арестовать этих распутников, – настаивал обманутый Гарольд Андервуд, все еще трясясь от ярости. Он показывал на свою жену и Джерека. – Удивительно, – размышляла вслух миссис Андервуд, – как можно прожить с человеком столь долгое время, не предполагая высоты страсти, до которой он способен подняться. Инспектор Спрингер протянул руку к капитану Мабберсу. Луковицеобразный нос Лата, казалось, запульсировал от ярости. Капитан Мабберс поднял голову вверх и засверкал глазами на инспектора Спрингера. Полицейский попытался положить руку на плечо отважного космического флибустьера, но резко одернул ее назад. – У-у! – завыл он, баюкая поврежденную конечность. – Маленький мерзавец укусил меня. Он в отчаянии повернулся к Джереку. – Ты можешь говорить на их языке? – Боюсь, что нет, – ответил Джерек, – переводильные пилюли эффективны лишь для одного языка, а в настоящее время я говорю на вашем… Инспектор Спрингер, казалось, отвлекся от Джерека на какой-то момент. – Другие просто исчезли, – огорчился он, убежденный, что кто-то намеренно обманывает его. – Они были иллюзией, – успокоил его Джерек. – Это – настоящие космические путешественники. Инспектор Спрингер сделал очередное движение по направлению к капитану Мабберсу. – Джиллинп гофф, – предостерег его дерзкий Мабберс и сильно лягнул сотрудника Скотланд-Ярда своей копытообразной ногой. – У-у – завопил снова инспектор Спрингер. – Хорошо. Ты просил этого. – Он стал похож на разъяренного быка. Капитан Мабберс оттолкнул стол. Серебряные приборы рассыпались со звоном по полу. Двое бойцов из его экипажа, увидев ножи и вилки, упали на коленки и стали подбирать холодное оружие, возбужденно тараторя, будто нашли закопанное сокровище. – Не трогайте кухонную утварь, – заорал инспектор Спрингер. – Ладно, ребята. Хватайте их! Констебли достали дубинки и кинулись на Латов, которые отбивались столовыми приборами и музыкальными инструментами. В ресторан вошел мистер Джексон. Он сам повесил пальто и шляпу, поскольку все служащие покинули свои посты. Мало интересуясь столпотворением в центре зала, он прошел к месту, где сидел тихо стонущий Френк Гаррис. Донна Изабелла хлопала в ладоши и хихикала, а Джерек Карнелиан и миссис Андервуд, потрясая кулаками, прыгали по полю сражения, с требованием арестовать Латов (инспектор Спрингер, казалось, не верил, что долгом инспектора может быть такая мелочь, как поимка карликов-музыкантов из отдаленной галактики). – Добрый вечер, – приветливо поздоровался Джексон и, открыв изящный золотой портсигар, достал египетскую сигарету. Вставив ее в мундштук, он прикурил от спички и прислонился к колонне, продолжая наблюдать за битвой… – Я так и думал, что найду вас здесь, – добавил он. Джерек с удовольствием лицезрел побоище. – Я догадывался, что вы придете, Джеггед. Как можно пропустить такое? Оказалось, никто из его друзей не желал пропустить такое зрелище, так как в этот момент появились в своих костюмах, сверкающих и затмевающих пышность кафе, Железная Орхидея, Герцог Квинский, Епископ Тауэр и Миледи Шарлотина. Железная Орхидея пришла в восторг, обнаружив своего сына, но, когда она заговорила, Джерек не понял ни единого слова. Пошарив в кармане, он извлек остатки переводильных пилюль и протянул четыре вновь прибывшим. Они тотчас же поняли ситуацию и каждый проглотил по пилюле. – Я думала сперва, что это еще одна иллюзия из твоего пистолета-имитатора, – сказала ему Железная Орхидея, – но мы находимся в эпохе Рассвета, вместе с тобой? – О, да, нежнейший из цветов. Видишь, я нашел свою миссис Андервуд. – Добрый вечер, – холодно поздоровалась чопорная леди с родительницей Джерека. – Добрый вечер, моя дорогая. На вас прекрасный костюм, – Железная Орхидея повернулась в вихре сверкающей материи. – И Джеггед здесь тоже. Приветствую вас, ленивый Лорд Канари! Мистер Джексон вяло улыбнулся в ответ. Епископ Тауэр подобрал свой голубой халат и уселся рядом с мистером Гаррисом и донной Изабеллой. – Это лучше, чем тот дремучий лес, в котором мы чуть не застряли, – начал он. – Вы жительница этого века или гость, как я? Донна Изабелла кокетливо улыбнулась ему. – Я из Испании, – ответила она. – Танцую экзотические танцы. – Как восхитительно! Латы не очень побеспокоили вас? – Маленькие люди-чудовища? О, нет. Они так весело развлекаются с полицией. Мистер Гаррис трясущейся рукой налил в свой фужер шампанского и залпом выпил, не предложив никому составить компанию. Миледи Шарлотина поцеловала миссис Андервуд в щеку. – О, вы не представляете, сколько волнений причинили нам всем, хорошенький предок. Я убедилась, что в вашем веке тоже масса развлечений, – она присоединилась к Епископу Тауэру. Герцог Квинский восторгался по поводу золоченых украшений ресторана. – Сделаю такой же, как только вернусь, – объявил он. – Как он называется? – Кафе «Роял». – Он заиграет красками в пятикратной величине, затмив оригинал. Дай мне добраться до Конца Времени, – провозгласил Герцог. В середине зала раздавались приглушенные крики «феркит» и «у-у». В битве неустрашимых Латов и отважных полицейских не было победителей. Несколько столов с грохотом упали на пол. Герцог Квинский тщательно изучал форму полицейских. – Такое случается каждый вечер? Я завидую их фантазии. Включить в программу выступление Латов. Какой размах. – Это обычная пьяная драка, – возразил мистер Джексон. – Кафе широко известно, – объяснила донна Изабелла любопытному Епископу Тауэру, – своей богемной клиентурой. Оно не такое чопорное, как рестораны того же класса. Раздался странный воющий звук и вспышка света, ослепившая всех; затем под потолком повис Браннарт Морфейл в упряжке пульсирующего желтого цвета, с двумя быстро вращающимися дисками на горбу, рискуя столкнуться с большой хрустальной люстрой. Его уродливая ступня болталась, а он сам дергал за часть упряжи около плеча, очевидно испытывая трудности в управлении машиной. – Я предупреждал вас! Я предупреждал вас! – вещал он с высоты срывающимся визгливым голосом, будто использовал собственный транслятор. Голос то повышался, то затихал. – Все эти махинации со Временем создадут хаос Ничего хорошего из этого не получится. Остерегайтесь! Остерегайтесь! Даже полиция и Латы прервали свою битву, чтобы посмотреть вверх на привидение. Браннарт Морфейл с воплем перевернулся на спину, болтая руками и ногами. – Эти проклятые пространственные координаты, – пожаловался он, дернул за упряжь еще раз, и перевернулся так, что теперь плавал лицом вниз. Громкий жужжащий звук его дисков становился все выше. – Единственная машина, которую я заставил работать, чтобы попасть сюда. Глупая идея девяносто пятого столетия об экономии… О-о-о… – и он снова оказался на спине. Мистер Андервуд внезапно утихомирился, переключив внимание на Браннарта Морфейла, пенсне застыло на его бледном лице, с губ слетали бессвязные слова. – Это все твоя работа, Джерек Карнелиан! – Один из дисков вышел из строя, и Браннарт Морфейл заскользил боком вдоль потолка, вызывая мелодичный звон хрустальных люстр каждым прикосновением руки, ноги или горба. – Твои бездумные прыжки сквозь время породили ужасающие вихри в мегапотоке. Посмотри, что ты наделал, остановись, пока не поздно. А-а-а-а, – ученый яростно засучил ногами, запутавшись в бархатном ламбрекене над окном. Тихим дрожащим голосом мистер Гаррис изливал душу пресвятой Шарлотине. – Всю жизнь, – жаловался он, – меня обвиняли в сочинительстве неправдоподобных историй. Кто теперь поверит этой! – Браннарт, конечно, прав, – рассудительно сказал мистер Джексон, прислонившись к облюбованной им колонне. – Только стоило ли рисковать из-за этого? – Рисковать? – переспросил Джерек, наблюдая, как миссис Андервуд подошла к своему мужу. – Я не могу понять, почему эффект Морфейла до сих пор не срабатывает! Браннарт Морфейл снова парил в свободном пространстве, тщетно пытаясь наладить второй диск. Заметив мистера Джексона, он встрепенулся. – И вы здесь, Лорд Джеггед? В какой роли выступаете, капризный эгоист? Теперь я понял, кто затеял этот хаос! – Мой дорогой Браннарт, уверяю вас… – Ба! Уф, – диск стал набирать обороты, и ученый забавно задергался в разные стороны. – Ни Джерек, ни эта женщина не должны находиться здесь, так же, как и вы, Джеггед! Кто осмелится пойти против Времени, навлечет рок на всех! – Рок! – шепотом вторил мистер Андервуд, не замечая, как заблудшая жена энергично трясет его за плечи. – Гарольд! Гарольд! Ответь хоть что-нибудь! Он повернул голову и нежно улыбнулся. – Рок! – сказал он. – Я должен был понять, это – Апокалипсис! Не тревожься, моя дорогая, потому что мы будем спасены, – он похлопал ее по руке. Амелия разразилась слезами. Мистер Джексон подошел к Джереку, наблюдавшему эту сцену с тревожным интересом. – Нам нужно уходить, пока не поздно, – предупредил он. – Только с миссис Андервуд! – отчеканил Джерек. Мистер Джексон вздохнул и пожал плечами. – Было бы неплохо, если б вы остались вместе. Вы такая редкая пара… – Редкая? – Просто такое выражение. Мистер Андервуд, равнодушный к мольбам жены, запел удивительно звучным тенором: Иисус, любимец моей души! Позволь мне к Твоей груди припасть, Пока катятся воды, Пока соблазны еще велики, Спрячь меня, о, мой Спаситель, спрячь! Пока не пройдут бури жизни, Направь в безопастную гавань, О, прими, наконец, мою душу! – Какой изыск! – захлопала в ладоши Железная Орхидея. – Такой примитивный ритуал помнят только Руинные Города! – Это больше похоже на колдовское заклинание, – возразил ей Епископ Тауэр, известный пристрастием к древним обрядам. – Мы можем даже сказать, что это своего рода вызов священного призрака, – объяснил он благодушно потрясенной донне Изабелле. – Они потому называются так, что их практически невозможно увидеть. Вы знаете, они почти прозрачны. – Как и мы в таких случаях, – поддержала разговор донна Изабелла, обворожительно улыбнувшись Епископу Тауэру, который наклонился вперед и поцеловал ее в губы. – Берегитесь! – каркал с потолка Браннарт Морфейл, но все уже потеряли интерес к нему. Латы и констебли возобновили битву. – Я без ума от вашего маленького столетия! – признался Герцог Квинский Джереку. – Теперь я понимаю, почему вы здесь. Джерек был польщен, несмотря на свой обычный скепсис относительно вкуса Герцога. – Благодарю вас, дорогой Герцог. Хотя, строго говоря, оно не мое. – Как бы там ни было, вы открыли его. Я должен побывать здесь еще раз, если все остальное похоже на это место. – Что вы, этот мир гораздо разнообразней! – рассеянно отвечал Джерек, не отрывая взгляда от богомольной четы Андервудов. Миссис Андервуд, все еще плача, держала руку мужа и подпевала ему: Прикрой мою беззащитную голову Тенью своего крыла… Ее дискант гармонировал с тенором обманутого супруга. Джерек нахмурился, в нем шевельнулось незнакомое доселе чувство. – Здесь есть листья, лошади и канализационные фермы. – Как им удается выращивать канализационные отходы? – Долго объяснять, – Джереку не хотелось признавать свое невежество перед старым соперником. – Джерек, если у тебя будет время, покажи мне канализационную ферму, пожалуйста, – униженно просил Герцог Квинский, и Джерек понял, что Герцог сложил оружие, признав изысканность его вкуса. Он снисходительно улыбнулся. – Как только появится время, мы обязательно отправимся туда, – благосклонно ответил он поверженному современнику. Мистер Гаррис уронил голову на скатерть стола и заливисто захрапел. Джерек шагнул было к дуэту Андервудов, но почему-то остановился в нерешительности. Епископ Тауэр поднял голову. – Присоединяйся к нам, бойкий Джерек! В конце концов, ты – наш хозяин. – Не совсем, – скромно ответил Джерек, занимая стул рядом с донной Изабеллой. Латов загнали в дальний угол кафе «Роял», но они продолжали мужественно отбиваться. Ни один полицейский не вышел из этой потасовки без синяка или укуса. Джерек обнаружил, что совсем не обращает внимания на застольную беседу. Он удивлялся, почему миссис Андервуд так плачет, когда поет. Мистера Андервуда, напротив, переполняло блаженство. Донна Изабелла подвинулась к Джереку, и он уловил смешанный запах фиалок и египетских сигарет. Епископ Тауэр прикоснулся губами к ее нежной холеной руке с пурпурными ногтями. Над их головами зажужжал пропеллер Браннарта Морфейла, и они услышали страстные призывы горбуна. – Возвращайтесь в свое собственное время, пока можете. Иначе вы останетесь здесь навсегда, вы будете покинуты! Слышите! Вы слыши-и-ите! С этими словами он исчез, к радости Джерека. Донна Изабелла повернула голову, адресовав Джереку обворожительную улыбку и внимательно слушая красноречивого Епископа Тауэра. – Любовь, любовь, моя любовь, – пропела она, – остерегайтесь полюбить сами. Тогда вы испытаете все прелести любви и избежите горечи предательства. Лучше, если полюбят вас, нежели, если полюбите вы! Джерек улыбнулся. – Вы говорите, как Лорд Джеггед. Боюсь, я уже попал в ловушку. – Кроме того, – произнес Епископ Тауэр, настойчиво удерживая руку донны, – кто скажет, что слаще – меланхолия или безумный экстаз? Оба посмотрели на Епископа с некоторым удивлением. – Каждый выбирает по себе, – загадочно изрекла она и обратилась к Джереку хрипловатым голосом. – Но… вы… намного моложе, чем я. – Разве? – заинтересовался Джерек. Он понял, что жизнь этих людей была коротка, вопреки их воле. – Тогда вам, должно быть, лет пятьсот? В глазах донны Изабеллы появился недобрый огонек, губы сжались, и она с гримасой на лице повернулась спиной к Джереку, засмеявшись довольно делано на что-то, сказанное Епископом Тауэром. Джерек заметил у дальней стены зала расплывчатую фигуру, которую не мог узнать. Фигура была одета в какие-то доспехи и озиралась вокруг в недоумении. Лорд Джеггед тоже заметил ее. Он сдвинул красивые брови и задумчиво пыхнул сигаретой. Фигура исчезла почти немедленно. – Кто бы это мог быть, Джеггед? – спросил Джерек. – Воин из двенадцатого столетия, – ответил Лорд Джеггед. – Я не мог ошибиться! А вот еще! Маленькое дитя, с немного мерцающими контурами тела, озиралось по сторонам в недоумении, но исчезло через несколько секунд. – Семнадцатый век, – установил Джеггед. – Я начинаю принимать всерьез предупреждения Браннарта Морфейла. Вся ткань времени под угрозой полной диффузии. Я должен был проявить осторожность. А, ладно… – Вы чем-то встревожены, Джеггед? – У меня есть на это причина, – ответил Лорд Джеггед. – Немедленно уводи отсюда миссис Андервуд. – Но она так увлеченно поет. – Я вижу. С улицы донеслась трель свистков, и в ресторан ворвался отряд полицейских с дубинками наготове. Их начальник представился инспектору Спрингеру. – Сержант Шервуд, сэр! – Почти вовремя, сержант, – инспектор поправил пальто и водрузил помятую шляпу на голову. – Мы расчищаем берлогу иностранных анархистов. Фургоны снаружи? – Фургонов достаточно для всей этой шайки, инспектор, – сержант Шервуд бросил презрительный взгляд на разношерстную компанию. – Я всегда знал: все, что говорят про этот вертеп – правда. – И даже хуже. Взгляните на них, – инспектор Спрингер показал на Латов, которые уже махнули рукой на борьбу и сидели мрачно в углу, зализывая раны. – Вы вряд ли поверите, что они – наши сородичи! – Безобразные клиенты, это правда. Конечно, не англичане. – Нет! Литовцы. Типичные восточноевропейские смутьяны. Они там таких выращивают. – Как? Специально? – Да, по какой-то там диете, – уверенно ответил инспектор, – творог и тому подобное. – Я не хотел бы оказаться на вашем месте ни за какие деньги. – Да, моя работа бывает противной, – согласился Спрингер. – Ладно, пора брать под стражу эту братию. – Гм… крашенных женщин тоже? – Конечно, сержант. Всех до единого. Мы разберемся с ними в Скотланд-Ярде. Мистер Джексон слышал этот разговор и повернулся к Джереку, пожимая плечами. – Боюсь, что теперь нам ничто не поможет, – сказал он философски. – Сейчас нас заберут в тюрьму. – Правда? – оживился Джерек. – Я так соскучился по камере, – мечтательно произнес он, отождествляя темницу с одним из самых счастливых моментов в жизни, когда адвокат, мистер Гриффите, прочитал ему признание миссис Андервуд. – Там могут быть машины времени. Лорд Джеггед не разделял радости своего друга. – Нам очень бы пригодилась одна, – сказал он, – если наши проблемы еще больше не усложнятся. Я сказал бы, что наше время истекает, и во многих смыслах. Раздался неожиданный щелчок, и Джерек Карнелиан посмотрел на свои запястья. Вновь прибывший констебль защелкнул пару наручников на них. – Надеюсь, вам нравятся браслеты, сэр, – сказал он с ироничной усмешкой. Джерек засмеялся и поднял руки. – Да, они прекрасны! – оценил злостный правонарушитель. В общем шуме возбужденного веселья вся компания вывалилась из кафе «Роял» и погрузилась в ожидающие полицейские фургоны. Мистер Гаррис остался храпеть в полном одиночестве. Железная Орхидея хихикнула. – И часто это с вами случается? – спросила она донну Изабеллу и, не ожидая ответа, продолжила. – Для меня это пикантное угощение. Мистер Андервуд с просветленным взором повернулся к полицейскому, когда миссис Андервуд вывела его из дверей. – Не падайте духом, – ободрил он инспектора Спрингера, – Господь с нами. Инспектор покачал головой и вздохнул. – Говорите за себя, – сказал он, зная, что впереди его ждет нелегкая ночь.Глава восемнадцатая НАКОНЕЦ, К МАШИНЕ ВРЕМЕНИ
– Премьер поставлен в известность, – внушительно объявил он, уперев руки в бока, в центре большой камеры, глядя на заключенных с самодовольным выражением фермера, купившего хорошую скотину. – Я не удивлюсь, – вошел он в раж, – если окажется, что мы раскрыли самую крупную шайку бунтовщиков против Короны со времен Порохового заговора. Думаю, за пару дней мы выкурим их всех из потайных нор, – он уделил особое внимание капитану Мабберсу и его экипажу. – Мы еще узнаем, как подобные вам ублюдки проникают в наше государство. – Грунек вертедас, – задабривающе пробормотал капитан Мабберс, надеясь уладить конфликт. – Фрег нашер, тьюнайтли, мибикс? – Это я уже слышал, парень. Скажешь это английскому суду! Пусть он решает вашу участь. Капитан Мабберс оставил свои попытки договориться с инспектором, чертыхаясь, вернулся к соумышленникам. – Нам нужен переводчик, инспектор, – сказал сержант Шервуд, составлявший протокол. – Я не могу понять их имена. Эти проклятые иностранцы. – У меня осталась пилюля, – услужливо предложил Джерек. – Вы можете принять ее и побеседовать с ними, как на своем родном языке. – Пилюля? Вы стоите здесь и предлагаете мне, офицеру полиции, наркотики? – Спрингер повернулся к сержанту Шервуду. – Наркотики! – Это многое объясняет, – кивнул сурово сержант Шервуд. – Интересно, что случилось с теми, на летающей машине? – Их местонахождение будет выяснено со временем, – пообещал инспектор Спрингер. – Надеюсь, они уже в Конце Времени, – сказал Джерек. – Искажения, кажется, прекратились, Джеггед? – Джексон, – поправил Джеггед без настойчивости. – Да, но они начнутся снова, если мы не поторопимся. Мистер Андервуд перестал петь и теперь качал головой из стороны в сторону. – Напряжение, – говорил он, – перегрузка, как ты говоришь, моя дорогая. Миссис Андервуд успокаивала его. – Прости за резкость, за все, это было не по-христиански. Я должен был выслушать тебя… если ты любишь этого мужчину. – О, Гарольд! – Нет-нет. Лучше, если ты останешься с ним. Мне нужен отдых… в деревне. Возможно, я поживу у моей сестры, в доме Милосердия в Уайтхевене. Развод… – О, Гарольд! – Амелия сжала его руку. – Никогда! Все давно решено, я остаюсь с тобой! – Что?! – возмутился Джерек, в котором проснулся собственник. – Не слушайте ее, мистер Андервуд. Хотя, нет… – он тут же раскаялся в своих словах, – вы должны ее выслушать. Мистер Андервуд сказал более твердо. – Это не только ради тебя, Амелия. Скандал… – О, Гарольд! Прости… – Ты не виновата, я уверен. – Ты подашь в суд на меня? – Конечно, это естественно. Ты не сможешь… – Гарольд! – на этот раз ее слезы, казалось, были другими. – Куда я пойду? – К мистеру Карнелиану. – Разве ты не понимаешь, что это значит, Гарольд! – Тебе не привыкать к зарубежному климату, и ты, покинув Англию, совьешь теплое гнездышко в другом месте. Она вытерла глаза и бросила на Джерека испепеляющий взгляд. – Во всем виноваты вы, мистер Карнелиан. Видите, что случилось? – Не совсем, – начал он, но махнул рукой, потому что она снова переключилась на мистера Андервуда. В камеру вошел еще один полицейский. – Ага, – сказал инспектор. – Простите, что поднял вас с постели, констебль. Я только хотел кое-что прояснить. Вы, кажется, присутствовали при казни Ярмарочного убийцы? – Да, сэр. – Это тот парень, которого повесили? – он показал на Джерека. – Похож, сэр. Но я видел, как убийца умер. С определенным достоинством, что отмечалось в свое время. Нет, этот парень не может быть убийцей. – Вы видели тело… после? – Нет, сэр. В самом деле, сэр, был слух… ну… Нет, сэр, он выглядел несколько иначе… волосы другого цвета и цвет лица… – Я изменил их с того времени, как… – начал Джерек, желая помочь следствию добровольным признанием, но инспектор Спрингрер гаркнул. – Молчать, ты! – он был доволен показаниями констебля. – Благодарю вас! – Рад служить, сэр, – констебль покинул комнату. Инспектор Спрингер подошел к мистеру Андервуду. – Вам получше? – Да, – с осторожностью согласился мистер Андервуд. – Я надеюсь, я имею в виду, вы не думаете, что я… – Я думаю, что вы ошиблись, вот и все. Имея шанс, э… увидеть вас в других обстоятельствах, я сказал бы, что… э… вы были немного перенапряжены… не совсем в себе… хм… – Он начал снова почти добродушно, – с вашей сбежавшей миссис и все такое. Кроме того, я благодарен вам, мистер Андервуд. Вы невольно помогли нам разоблачить эту злодейскую шайку. Мы знали, что на ее величество готовилось покушение, но не располагали уликами. Теперь их больше чем достаточно, чтобы раскрыть заговор. – Вы имеете в виду… эти люди?… Амелия, ты знала? – Гарольд, – она умоляюще взглянула на Джерека. – Мы рассказали тебе правду. Я уверена, что никто из присутствующих здесь ничего не знает о таком ужасном заговоре. Это люди из будущего! Инспектор Спрингер недоверчиво покачал головой и повернулся к сержанту Шервуду. – Как мы будем отделять психов от рецидивистов? Железная Орхидея зевнула. – Слушай, сынок, – пробормотала она Джереку, – я не ожидала, что в эпохе Рассвета могут быть такие скучные места. – Не везде, мама, – извиняющимся тоном сказал он. – Следовательно, сэр, – продолжал беседу с мистером Андервудом энергичный инспектор, – вы можете идти. Конечно, вы понадобитесь нам как свидетель, но я не вижу необходимости задерживать вас. – А моя жена? – Боюсь, она должна остаться. Мистер Андервуд вышел вслед за сержантом Шервудом. – Прощай, моя дорогая, – сказал он. – Прощай, Гарольд, – теперь она не казалась очень расстроенной. Герцог снял свою роскошную охотничью шляпу и начал стряхивать грязь с ее плюмажа. – Что это за вещество? – полюбопытствовал он у Джексона. – Пыль, – ответил Джексон, – мусор. – Как интересно. Из чего вы делаете ее? – В эпохе Рассвета много способов производить ее, – сообщил мистер Джексон. – Ты должен показать мне какой-нибудь, Джерек. – Герцог Квинский снова надел шляпу. Его голос упал до шепота. – Чего мы ждем? – Не знаю, – ответил Джерек, – но вам следует наслаждаться этим. Мне лично нравится здесь все. – И нам тоже, о изгонитель скуки! – Герцог Квинский посмотрел благосклонно на инспектора Спрингера. – Мне нравится твой характер, Джерек. В нем столько подлинного. Сержант Шервуд вернулся с величественным человеком средних лет, в черном сюртуке и высокой черной шляпе. Узнав его, инспектор Спрингер с рвением доложил. – Они все здесь, сэр. Хочу отметить, что мы поймали их, несмотря на все трудности! Сановный гость скользнул безразличным взглядом по колоритным ликам жизнерадостных потомков, среди которых оказались донна Изабелла и миссис Андервуд, и тяжело вздохнул при виде Джерека и капитана Мабберса. Однако, когда он перевел глаза на мистера Джексона, из груди его вырвалось сдавленное. – О, великие небеса! – Добрый вечер, Мунрой, или, может, уже утро? – Джеггед, казалось, забавлялся. – Как поживает премьер? – Глазам своим не верю. Это вы, Джеггер? – Боюсь, что да, сэр. – Но как вы попали сюда?… – Спросите инспектора, старина. – Инспектора? – Вы знакомы, сэр? – Разве вы не узнали лорда Чарльза Джеггера? – Но… – начал оправдываться Спрингер. – Я же говорил вам, что это он, – с триумфом сказал Джерек миссис Андервуд, но она жестом приказала ему замолчать. – Вы говорили инспектору кто вы, Джеггер? – Он был занят поимкой анархистов, и я не хотел мешать своими объяснениями. Мне казалось, что лучше подождать. Мунрой кисло улыбнулся. – И поднять меня с постели. – Здесь есть эстонцы, сэр, – сказал инспектор Спрингер нетерпеливо, – по крайней мере, мы поймали их. Мунрой с достоинством повернулся и сурово посмотрел на Латов. – А, да. Это не ваши, друзья, Джеггер? – Отнюдь. Инспектор Спрингер отлично справился с захватом этих злоумышленников. Остальные – мои гости. Мы обедали в кафе «Роял». Вы знаете о моем пристрастии к искусству… – Конечно, я думаю инцидент исчерпан. – Подумать только, вы даже не чертов анархист? – сокрушался инспектор Спрингер, буравя Джерека непримиримым взглядом. – Всего-навсего псих с хорошими связями, – и он горько вздохнул. – Инспектор, – пожурил его величавый Мунрой. – Простите, сэр. – Феркит, – воззвал капитан Мабберс из своего угла. Он, казалось, обращался к Мунрою. – Глу, мибикс? – Гм, – сказал Мунрой. Латы плохо переносили тяготы тюремного заключения. Маленькой сплоченной кучкой они сидели на полу камеры, ковыряясь в своих сопливых носах и почесывая шелудивые головы. – У вас есть какие-нибудь основания подозревать лорда Джеггера и его друзей, инспектор? – спросил сухо Мунрой. – Нет, сэр, кроме… Нет, даже эти зеленые и грубые женщины, сэр… – инспектор Спрингер покорился неизбежности. – Нет, сэр. – Им предъявлено обвинение? – Нет еще… э, нет, сэр. – Они могут быть свободны? – Да, сэр. – Слышите, Джеггер? Другие дела, – сказал Мунрой, махнув тростью на неутешных инопланетян, – подождут до утра. Надеюсь, у вас есть улики, инспектор? – О да, сэр, – ответил инспектор Спрингер, хотя в его глазах и голосе пропала уверенность в будущем. Он беспомощно уставился на Латов. – Ну, во-первых, это чужеземцы, сэр. Когда они вышли на широкий бульвар Уайтхолла, друг лорда Джеггера Мунрой приподнял свою шляпу, обращаясь к леди. – Примите мои поздравления по поводу ваших костюмов, – сказал он. – Получился бы чудесный бал-маскарад, если бы все костюмы были такими прекрасными. До встречи в клубе, Джеггер? – Возможно, завтра, – ответил Джеггер. Мунрой степенно удалился в направлении Уайтхолла. Утренние лучи коснулись высотных зданий. – Какое чудо! – воскликнула Миледи Шарлотина. – Старомодный рассвет. Настоящий! Герцог Квинский хлопнул Джерека по плечу. – Великолепно! Джерек все же чувствовал, что заработал уважение Герцога несколько дешево, учитывая, что он совсем ничего не делал, чтобы вызвать восход солнца, но не смог отказать себе в глубоком удовольствии быть приобщенным к творцам чудес девятнадцатого столетия, поэтому он снова скромно покачал головой и позволил Герцогу лить бальзам на душевные раны. – Что за воздух! – воскликнул Герцог Квинский. – Что за благоухание! Ах! – Он обогнал всех и повернул на набережную, восхищаясь мусором, не тонущим в реке, баржами и пленкой нефти. – Все серого цвета при раннем рассвете! Джерек донимал миссис Андервуд. – Ну хоть теперь вы скажете, что отвечаете мне взаимностью, Амелия? Ваша связь с мистером Андервудом завершилась. – Он того же мнения, что и вы, – вздохнула она. – Я сделала все, что могла. – Я знал, что он настоящий джентльмен. Недаром мы нашли общий язык. – Он потерял рассудок, – сказала она. – Я виновата в том, что случилось. Она, казалось, не желала продолжать разговор, и Джерек тактично разделил ее молчание. На реке прогудел буксир. Несколько чаек поднялись в небо, залитое мягким сверкающим золотом, деревья вдоль набережной шелестели, как бы пробуждаясь к новому дню. Все, кроме выясняющих отношения влюбленных, увлеклись обсуждением городского пейзажа. – Нам будет что вспомнить об этом пикнике, – поделилась Железная Орхидея с Лордом Джеггедом. – Когда мы отправляемся назад? – Скоро, – просто ответил он. В конце концов, они покинули набережную и свернули на улицу, которую Джерек узнал. Он коснулся руки миссис Андервуд. – Вы узнаете здание? – Ха, – пробормотала она, хотя ее мысли были заняты другим. – Это Центральный Уголовный суд, где вас приговорили к смертной казни. – Смотрите, Джеггед! – окликнул Джерек. – Помните? Лорд Джеггед тоже, казалось, думал о чем-то другом. Он кивнул головой. Смеясь и болтая, дружная компания прошла Центральный Уголовный суд и остановилась перед объектом, который привлек их внимание. – Собор Святого Павла, – сказала донна Изабелла, цепляясь за руку Епископа Тауэра. – Вы не видели его раньше? – О, мы должны зайти внутрь! Именно в этот момент Лорд Джеггед, вскинув свою благородную голову, остановился, словно лиса, уловившая запах своих преследователей. Он поднял руку, и Джерек с миссис Андервуд заколебались, наблюдая, как остальные взбежали вверх по ступенькам. Весельчак Епископ исчез первым, за ним последовали Железная Орхидея и Миледи Шарлотина. Последним рассеялся Герцог Квинский с удивлением на лице. Донна Изабелла села на ступеньки и закричала. Крики не стихали еше какое-то время, пока Джеггед вел их по лабиринту маленьких мощеных улиц. – Мы были бы следующими, если бы нам не повезло, – объяснил он. – Эффект Морфейла должен был сработать. Моя вина… Целиком моя вина… Быстрее… – Куда мы идем, Джеггед? – К машине времени, той, в которой ты прибыл сюда впервые. Ее привели в порядок и мы можем отправляться. Но флюктуации, вызванные последними приходами и уходами, могли привести к серьезным последствиям. Браннарт знал, о чем говорил. Торопитесь! – Я не уверена, что хочу сопровождать кого-нибудь из вас, – упиралась миссис Андервуд. – Вы разбили мне жизнь! – Миссис Андервуд, – мягко напомнил Лорд Джеггед, – у вас нет выбора. Альтернатива ужасна, уверяю вас. Убежденная его тоном, Амелия не стала возражать. В конце улочки, застроенной выцветшими облупившимися зданиями, несколько человек загружали телегу. – Я устала, – пожаловалась миссис Андервуд, – и не могу идти так быстро, мистер Джексон. Я не спала почти две ночи. – Мы уже на месте, – ответил он и, вынув из кармана ключ, вставил его в замок двери из потемневшего дуба. Дверь скрипнула, когда он толкнул ее. Лорд Джеггед закрыл дверь и протянул руку за керосиновой лампой. Чиркнув спичкой, он зажег лампу. Когда свет стал ярче, Джерек увидел, что они стояли на каменном полу огромной комнаты, пропитанной запахом плесени. Он заметил крыс, быстро бегающих по стропилам крыши. Джеггед подошел к большой куче всякого хлама и начал растаскивать ее в стороны, потеряв в спешке часть своего хладнокровия. – Кто вы, зловещий мистер Джексон? – с упреком спросила Амелия. – Вы играли нашими судьбами, превратив нас в кукол для своих забав! Я знаю, что не ошибаюсь! – Может быть, мадам, – ответил Джеггед, все еще растаскивая кучу. – У меня нет времени, чтобы объясниться с вами сейчас, мы обязательно вернемся к этой теме. Я должен был соблюдать осторожность, поэтому у меня два основных псевдонима в этом мире. Моя жизнь – прошлое и будущее. Мне было известно о «Конце Света» еще до того, как Юшарисп принес эту весть на нашу планету. Я совершил открытие, узнав о существовании людей с особенным подбором генов, препятствующих эффекту Морфейла, и решил предотвратить катастрофу, хотя бы для некоторых из нас… – Катастрофу, Джеггед? – Конец для всех нас, дорогой Джерек. Я не могу вынести мысли, что, достигнув такого совершенства, мы должны погибнуть. Ты видишь, мы узнали, как жить. И все зря. Такая ирония была невыносима для меня, любителя иронии. Я прошел много-много лет в этом столетии – в самом дальнем прошлом, в которое я мог попасть в моей собственной машине, произведя сложные проверки, посылая различных людей и будущее и наблюдая, как их «принимало» время, когда они возвращались в свой собственный век. Никто не выжил, я скорблю об их судьбе. Только миссис Андервуд осталась, очевидно, неподверженной эффекту Морфейла. – Значит, это вы похитили меня! – воскликнула Амелия. – Увы! – он стащил последнюю тряпку, открывая сферическую машину времени, которую Браннарт Морфейл дал взаймы Джереку для его первого путешествия в эпоху Рассвета. – Я надеюсь, – продолжал он, – что некоторые из нас переживут Конец Времени. И вы можете помочь мне. Эту машину времени можно контролировать. Она перенесет вас в Конец Времени, Джерек, где мы сможем продолжать наши эксперименты. По крайней мере, – добавил он, – она должна. Нестабильность мегапотока в настоящий момент тревожит меня, но мы будем надеяться на лучшее. Теперь вы, двое, входите в машину. Вот дыхательные маски для вас. – Мистер Джексон, – вспылила миссис Андервуд. – Я больше не позволю помыкать мной, – она сложила руки на груди. – Я не поддамся гипнозу ваших псевдонаучных лекций! – Я думаю, он прав, миссис Андервуд, – сказал Джерек неуверенно. – И причина, по которой я пришел к вам, была той, что вы не подвержены эффекту Морфейла. По крайней мере, в машине времени у нас есть шанс попасть в любой век по нашему выбору. – Вспомните, как Джерек избежал повешения, – убеждал ее Лорд Джеггед. Он уже открыл круглую дверь машины времени. – Это был эффект Морфейла. Его смерть могла вызвать парадокс. Я знал об этом и способствовал тому, что казалось вам, миссис Андервуд, его уничтожением. Вот доказательство моей доброжелательности – он жив! С неохотой она пошла к машине времени. – Я смогу вернуться? – Почти наверняка. Но, я надеюсь, что вы не захотите, когда выслушаете меня. – Вы едете с нами? – Моя собственная машина времени в четверти мили отсюда. Я не могу оставить ее в вашем веке. Это очень усовершенствованная модель. Она не регистрируется даже приборами Браннарта. Я последую за вами. Обещаю, миссис Андервуд, что не обману вас и открою все, что знаю, когда мы вернемся в Конец Времени. – Прекрасно. – Здесь не очень удобно, – предупредил Джерек, помогая войти в люк. – Вы должны задержать дыхание на мгновение, – они втиснулись в камеру. Он протянул даже дыхательную маску. – Наденьте ее на голову, вот так… – он улыбнулся, уловив ее приглушенные жалобы. – Не бойтесь, миссис Андервуд. Наши великие странствия приближаются к концу. Скоро мы вернемся на нашу милую виллу с розами, обвивающими дверь, тапочками и ватерклозетами, – остальная часть его излияний утонула в дыхательной маске, которую он натянул на голову. Цилиндр стал заполняться молочно-белым газом, и Джереку захотелось облачиться в резиновый костюм, чтобы одежда не пропиталась этим веществом. В глазах миссис Андервуд появилось выражение негодующего отвращения. Шлюз быстро наполнился, и их понесло течением в основную камеру. Здесь некоторые приборы попеременно мигали зеленым и красным светом. Они плыли, неспособные контролировать свои движения, в густой жидкости. Когда его тело медленно повернулось, Джерек увидел, что глаза миссис Андервуд закрыты. Начали мигать зеленые и желтые огоньки. Жидкость становилась все темнее. Цифры, которые он не мог прочитать, начали мелькать на экране. Запульсировал белый свет, и Джерек понял, что машина сейчас стартует в будущее. Он расслабился, предчувствие скорого возвращения захлестнуло его. Желтый свет обжигал глаза, кружилась голова, боль пронзила его члены, но он удержался от крика, боясь испугать миссис Андервуд. Жидкость приобрела кровавый оттенок. Джерек лишился чувств. Когда он очнулся, первым ощущением его была радость, что путешествие закончилось. Джерек повернулся, чтобы посмотреть, пришла ли в себя его любимая. Но вдруг все началось сначала. Зеленые огоньки уступили место красным, голубым и желтым. Запульсировал белый свет, боль усилилась, жидкость опять стала кровавой. И снова он потерял сознание. Он очнулся и увидел бледное лицо миссис Андервуд. Он попытался дотронуться до нее рукой, и, как будто этого действия оказалось достаточно, чтобы процесс начался снова. Зеленые и красные цвета уступили место голубым и желтым. Ослепляющая белизна, боль, потеря сознания. Он снова очнулся. Машина содрогалась, и откуда-то доносился скрежечущий вой. На этот раз он закричал помимосвоей воли и подумал, что миссис Андервуд тоже кричит. Белый свет пульсировал. Вдруг стало совершенно темно. Затем мигнул зеленый огонек и пропал. Мигнул красный огонек и пропал. Вспыхнули голубой и желтый. И тогда Джерек Карнелиан понял, что страхи Лорда Джеггеда оправдались. Время воспротивилось столь откровенному вмешательству людей, и сейчас беспощадно карало злосчастных мучеников, швыряя их в прошлое и будущее. Они стали жертвами эффекта Морфейла, будто и не входили никогда в машину времени. Время метило тех, кто пытался завоевать его. Прежде, чем потерять сознание в очередной раз, Джерек утешил себя тем, что они вместе.Глава девятнадцатая, В КОТОРОЙ ДЖЕРЕК КАРНЕЛИАН И МИССИС АМЕЛИЯ АНДЕРВУД ОБСУЖДАЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МОРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
– Мистер Карнелиан! Проснитесь, пожалуйста! Я вас умоляю! – Я не сплю, – простонал Джерек, не открывая глаз. Его кожа была приятно теплой. Ноздри улавливали восхитительный аромат. Стояла тишина. – Тогда откройте глаза, – потребовала она. – Мне нужен ваш совет. Он подчинился и открыл глаза. – Какая глубокая голубизна. Мы вернулись, в конце концов. Должен признать, я почти отчаялся, когда машина забарахлила. Как мы выбрались наружу? – Я вытащила вас, и правильно сделала, – она показала жестом на машину времени, которая совсем развалилась. Миссис Андервуд стряхивала песок со своего потрепанного бархатного платья. – Какая-то дрянь, – ворчала Амелия. – Когда она высыхает, одежда становится жесткой. Он сел, улыбаясь. – Не стоит волноваться по пустякам. Кольца Власти при мне, и сейчас у вас будет новая одежда. Интересно, кто придумал этот потрясающий пейзаж? Ландшафт простирался на мили: заросли папортниковых растений разных размеров, от маленьких, покрывающих землю ковром, до очень больших, вышиной с тополь. Недалеко от пляжа, на котором они оказались, раскинулось спокойное море. – Замечательная копия, – согласилась она. – Правдоподобней, чем все, что обычно делают ваши современники. – Вы знаете оригинал? – Я изучала такие вещи прежде. Мой отец принадлежал к современной школе. Он не отвергал Дарвина. – Дарвин любил его? – мысли Джерека вернулись к излюбленной теме. – Дарвин был ученым, мистер Карнелиан, – в голосе ее слышалось раздражение. – Так это он придумал все это? – Нет-нет, тот мир не имеет ничего общего с ним. Фактически, просто риторическое выражение. – Что такое «риторическое выражение»? – Я объясню это позже. Просто этот ландшафт напоминает землю в очень ранней стадии ее геологического развития. Тропический климат, наличие типичных папоротников и растений. Это, вероятно, ордовикский период палеозоя, возможно, и силурийский. Если это полная копия, то море, которое вы видите, должно кишеть съедобными моллюсками. В этом периоде нет больших зверей. Все возможное для поддержания жизни, и ничего, что бы угрожало ей. – Не могу представить, кто создал это, – гадал Джерек, – если только не Безголосая Леди. Она в свое время строила серию ранних миров, Египет ей особенно удался. – Этот мир процветал за миллионы лет до Египта, – впала в лирическое настроение миссис Андервуд. – До появления человека и даже динозавров оставались миллионы лет. О, это рай! Вы видите, здесь ничто не напоминает о той жизни, которую мы знаем. – Да, такой жизни не было очень долго, – подтвердил Джерек. – Только та, которую мы создали для себя сами. – Вы не понимаете меня, мистер Карнелиан. – Простите, я постараюсь. Мечтаю продолжить мое моральное образование как можно скорее. Есть много вещей, которым вы можете обучить меня. – Да, это мой долг, – с упоением сказала Амелия. – Иначе нет оправдания моему появлению в этих краях, – она улыбнулась себе. – В конце концов, я вышла из семьи миссионеров. – Новое платье? – спросил он. – Если вас не затруднит. Он коснулся кольца с изумрудом. Ничего не произошло. Он прикоснулся к алмазу, потом к аметисту. Ничего не случилось. Джерек был озадачен. – Кольца Власти никогда не подводили меня прежде, – сказал он. Миссис Андервуд кашлянула. – Становится жарко. Давайте скроемся в тени папоротников. Он согласился. По дороге Джерек испробовал все свои Кольца Власти снова, с удивлением качая головой. – Странно, возможно, когда машина времени забарахлила… – Машина времени работала с перебоями? – Да, она двигалась хаотично взад и вперед во времени. Я совершенно отчаялся вернуться сюда. – Куда сюда? – О, дорогая. – Итак, – рассуждала она, усаживаясь на рыжий камень и рассматривая мили и мили силурийских папоротников, – мы могли попасть в прошлое, не так ли, мистер Карнелиан? – Да, есть такая вероятность. – Несмотря на заверения вашего друга Лорда Джеггеда, – не упустила возможность уколоть Лорда Канари язвительная женщина. – Да, – Джерек прикусил губу. – Но он боялся, что мы отправляемся слишком поздно, вы помните? – И был прав. – Если это тот век, про который вы думаете, то здесь совсем нет людей? – Ни одного. Даже примитивных. – Мы в Начале Времени? – За неимением лучшего определения – да, – ее изящные пальцы барабанили по камню. Амелию не вдохновляла подобная ситуация. – О, дорогая, – расстроился он. – Неужели мы никогда не увидим Железую Орхидею? Она немного приободрилась при этих словах. – Мы попытаемся не падать духом и будем ждать спасения. – Наши шансы невелики. Никто еще не забирался так далеко назад. Даже Лорд Джеггед не проникал в прошлое дальше вашего века. Миссис Андервуд взяла себя в руки и стала обдумывать дальнейшее житье. – Сначала нужно построить хижину. Желательно две. Мы должны отыскать съедобных моллюсков. Да, не забудьте взять из машины времени все, что может пригодиться. Хотя, там не так уж много полезного. – Вы уверены, что этот период? – Мистер Карнелиан! Единственное доказательство того, что мы в силурийском периоде, – полное бессилие ваших Колец Власти. – Эффект Морфейла должен был послать нас в будущее, – упрямствовал Джерек, – а не в прошлое. – Уверяю вас, что после 1896 года невозможно подобное будущее. Вы можете понять это? – Нет, – осенило вдруг Джерека. – Я обсуждал возможность циклической природы времени с Браннартом Морфейлом и Лордом Джеггедом совсем недавно. А мы не могли забраться в будущее так далеко, что оказались снова на старте? – Все это пустословие, – отмахнулась она, – при теперешних обстоятельствах. – Согласен, но это поможет понять, почему мы оказались в этой ситуации. Амелия сорвала лист папоротника у себя над головой и стала обмахиваться, выказывая полное пренебрежение к его словам. Джерек удобно улегся на земле и наслаждался прелестями силурийского (или ордовикского) климата. – Вы приняли этот мир за рай, миссис Андервуд. Где, как не в раю, можно предаваться любви? – Надеюсь, вы говорите не о присутствующих, мистер Карнелиан? – Я говорю о нас, Амелия! – произнес он мечтательно. – Мы сможем дать жизнь новой человеческой расе! Новому циклу времени! Мы можем расцвести до эпохи динозавров. Это рай, а мы Адольф и Ева! Или, я имею в виду, Алан и Эдна? – Вы хотели сказать – Адам и Ева, мистер Карнелиан. Если это так, то вы богохульствуете, и я не могу, не желаю слышать ничего больше. – Бого… что? – …хульствуете. – Это относится к морали? – Полагаю, что да. – Тогда объясните подробнее, – попросил он возбужденно. – Вы совершаете проступок против Божества. Это богохульство – отождествлять себя с Адамом подобным образом. – А вас с Евой? – С Евой тоже. – Простите. – Вы не знали, – она продолжала обмахивать себя веткой. – Нам лучше приступить к поискам пищи. Вы не голодны? – Я голоден по вашим поцелуям, – ответил он романтически и поднялся на ноги. – Мистер Карнелиан! – Ведь мы, – сказал он, – можем «пожениться» теперь, не так ли? Мистер Андервуд сказал то же самое. – Мы не разведены с ним. Кроме того, даже если бы я была разведена с мистером Андервудом, нет причины полагать, что я желаю выйти замуж за вас Более того, здесь, в силурийском периоде, нет никого, чтобы поженить нас, – казалось, она выложила неопровержимые и исчерпывающие аргументы, но Джерек не внял ее словам. – Если я получу моральное образование, – спросил он, – вы выйдете за меня замуж? – Возможно… если все остальное будет разрешено должным образом… что сейчас маловероятно… Джерек вернулся на пляж и глубоко задумался, глядя на бескрайнее море. У ног зашевелился маленький моллюск. Джерек наблюдал за ним некоторое время, а затем, услышав движение позади себя, обернулся. В шляпке из папоротников, которая придавала ее личику еще большую привлекательность, стояла миссис Андервуд. – Простите, если расстроила вас, мистер Карнелиан, – примирительным тоном молвила она. – Видите ли, вы несколько более прямолинейны, чем я привыкла. Я знаю о вашей невинности и неискушенности. Но вы наделены способностью переворачивать все с ног на голову. Он пожал плечами. – Поэтому я должен получить моральное образование. Я люблю вас, миссис Амелия Андервуд. Вполне возможно, что Лорд Джеггед подтолкнул меня к этим чувствам вначале, но с тех пор они овладели мной. Я – раб любви! Конечно, я могу утешать себя, но не в силах разлюбить вас. – Спасибо, я польщена. – Вы тоже говорили, что любите меня, но сейчас пытаетесь отрицать свои же слова, свои чувства. – Я все еще госпожа Андервуд, – мягко напомнила она. Маленький моллюск начал осторожно взбираться по его ноге. – А я все еще Джерек Карнелиан, – парировал наивный кавалер. Миссис Андервуд заметила моллюска. – Ага! Он может быть съедобным. – Пускай себе ползет. Она выпрямилась, ласково улыбаясь Джереку. – Не время быть сентиментальными, мистер Карнелиан, если вы хотите выжить. Его рука задержалась на мгновение на ее плече. Потрепанный бархат снова становился мягким. – Влюбленные должны быть сентиментальными. Ее глаза на миг посерьезнели, затем женщина рассмеялась. – Ну что ж, хорошо. Тогда подождем, пока не проголодаемся. Бодрой походкой, взметая чистый песок первозданного пляжа черными сапожками на кнопках, она зашагала вдоль соленого моря. – Все кругом сверкает и прекрасно, – запела Амелия, – все создания, большие и маленькие, все вещи – мудрые и чудесные. Господь создал их все! В ее поведении чувствовался определенный вызов, какое-то сопротивление неизбежности, которое заставило сердце Джерека сжаться от обожания. – Самоотречение, в конце концов, – бросила она через плечо, – полезно для души. – Ах! – он побежал следом, затем замер на мгновение. Джерек проникся спокойствием силурийского мира, неожиданно пораженный его свежестью! Они были единственными млекопитающими на целой планете. Огромное золотое солнце щедро рассыпало сияние лучей. Мир был полон чудес. Немного погодя, задыхаясь, потея и смеясь, он догнал Амелию и увидел нежность и умиление на ее лице. Джерек предложил ей свою руку. После секундного колебания она взяла ее. Влюбленные шли под горячим полуденным силурийским солнцем. – А теперь, миссис Андервуд, – приступил он к урокам морали, – что такое «самоотречение»?Муркок Майкл Конец всех песен
Потух огонь, растрачено тепло. (Таков конец всех песен на земле.) Вино златое выпито. На дне Лишь капли, что полыни горше мне. Здоровье и надежду унесло Вслед за любовью канули во мгле. Лишь призраки со мною до конца Из тех, что без души и без лица. И скучно и тоскливо ждать нам всем, Когда опустят занавес совсем… Таков конец всех песен на Земле.Эрнест Доусон, «Остатки!», 1899 г.
1. ДЖЕРЕК КОРНЕЛИАН И МИССИС АМЕЛИЯ УНДЕРВУД ОБЩАЮТСЯ В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ С ПРИРОДОЙ
— Я действительно считаю, мистер Корнелиан, что мы должны хотя бы попытаться есть их сырыми. Миссис Амелия Ундервуд поправила тыльной стороной ладони левой руки густые золотисто-каштановые волосы над ухом, а правой рукой сдернула превратившуюся в лохмотья юбку. Жест получился почти раздраженным, блеск ее серых глаз, вероятно, не уступил бы волчьему. Чувствовалось что-то, еле сдерживаемое в манере, в которой она чопорно расположилась на глыбе девственного известняка, наблюдая за Джереком Корнелианом, скорчившимся на четвереньках на песке палеозойского пляжа и потеющего под лучами силурийского (или девонского) солнца. Вероятно уже в тысячный раз он пытался ударом друг о друга двух своих колец власти высечь искру, чтобы зажечь кучу высохшего мха, которую он в порыве энтузиазма, давно рассеявшегося, собрал несколькими часами раньше. — Но вы говорили мне, — пробормотал Джерек, — что даже подумать не можете… Вот! Это была искра? Или только отблеск? — Отблеск, — сказала она, — я думаю. — Мы не должны отчаиваться, миссис Ундервуд. — Но оптимизм его уже почти истощился. Снова он ударил кольцом о кольцо. Вокруг Джерека были раскиданы измочаленные и сломанные ветки папоротника, которые он пытался до этого тереть друг о друга по ее совету. Миссис Ундервуд поморщилась, когда кольцо стукнуло о другое кольцо. В тишине силурийского дня звук оказывал на ее нервы эффект, о котором она раньше не подозревала, никогда не рассматривая себя одной из тех сверхчувствительных женщин, заполняющих дамские романы. Она всегда считала себя крепкой и чрезвычайно здоровой. Миссис Ундервуд вздохнула. Без сомнений, скука внесла свою лепту в ее психологическое состояние. Джерек вздохнул в ответ. — Вероятно для этого нужно умение, — признался он. — Где трилобиты? он рассеянно оглядел землю вокруг себя. — Большинство уползло обратно в море, я думаю, холодно ответила она ему. — Два брахиопода заползли на ваш сюртук, — показала она. — Ага! — он чуть ли не с нежностью снял моллюсков с запачканной темной ткани и с сомнением уставился внутрь раковины. Миссис Ундервуд облизнула губы. — Дайте мне их, — приказала она, доставая заколку для шляпы. Опустив голову — Пилат перед фарисеями — он уступил ей. — В конце концов, — говорила она ему, направляя заколку, — нам не хватает только чеснока и масла для блюда, достойного французской кухни, эти слова, казалось, не приободрили ее. Она заколебалась. — Миссис Ундервуд? — Я думаю, не принести ли нам благодарственную молитву? — она нахмурилась. — Это может помочь. Наверное, этот цвет… — Слишком красивый, — с готовностью подтвердил он. — Я понимаю вас. Кто может уничтожить такую прелесть? — Этот зеленовато-пурпурный цвет нравится вам? — А вам нет? — Только не в пище, мистер Корнелиан. — Тогда в чем? — Ну… — неопределенным тоном, — нет, даже в картинках. Он вызывает в памяти излишества до-рафаэльцев. Зловещий цвет. — А-а… — Это возможно, объясняет ваши склонности… — она оставила тему, если бы я смогла преодолеть… — А желтый цвет? — он попытался соблазнить ее существом в мягком панцире, которое только что обнаружил в своем заднем кармане. Оно прицепилось к его пальцу, и ощущение напоминало поцелуй. Миссис Ундервуд уронила моллюсков и шляпную заколку, закрыла лицо руками и начала плакать. — Миссис Ундервуд! — растерялся Джерек. Он пошевелил ногой кучу веток. — Может быть, если я использую кольцо, как призму и направлю лучи солнца через него, мы сможем… Послышался громкий скрипучий звук, и Джерек сперва подумал, что это протестует одно из созданий в панцире. Затем — еще один скрип позади него. Миссис Ундервуд отняла руки, открыв красные глаза, которые сейчас расширились в удивлении. — Эй! Я говорю — эй, вы, там! Джерек обернулся. Шлепая по мелководью, явно безразличный к влаге, шел мужчина, одетый в матросскую нательную фуфайку, твидовый пиджак и брюки гольф. Толстые шерстяные чулки и крепкие башмаки из недубленой кожи. В одной руке он сжимал странно скрученный стержень из хрусталя. В остальном он выглядел современником миссис Ундервуд. Он улыбался. — Я спрашиваю вы говорите по-английски? Он имел загорелую внешность, пышные усы и признаки пробивающейся бороды. Мужчина остановился, уперев руки в бедра, и сияя улыбкой. — Ну? Миссис Ундервуд растерянно ответила: — Мы говорим по-английски, сэр. Мы и в самом деле, по крайней мере я, англичане. Как, должно быть, и вы. — Прекрасный денек, не правда ли? — незнакомец кивнул на море. Тихий и приятный. Должно быть, ранний девонский период, а? Вы долго здесь находитесь? — Достаточно долго, сэр. — Мы потерпели аварию, — пояснил Джерек. Неисправность нашей машины времени. Парадоксы оказались ей не по силам, я думаю. Незнакомец мрачно кивнул. — Я иногда встречал подобные затруднения, хотя, к счастью, без таких трагических результатов. Вы из девятнадцатого столетия, как я понимаю? — Миссис Ундервуд — да. Я прибыл из Конца времени. — Ага! — улыбнулся незнакомец. — Я только что оттуда. Мне повезло наблюдать полный распад Вселенной — очень не долго, конечно. Я тоже отбыл сначала из девятнадцатого столетия. Здесь моя обычная обстановка, когда я путешествую в прошлое. Странным является то, что у меня сложилось впечатление, что я направляюсь вперед — за Конец Времени. Мои приборы показывали это, хотя я здесь, — он поскреб соломенного цвета волосы, добавив с некоторым разочарованием: — Я надеялся на какое-нибудь разъяснение. — Вы, значит, находитесь на пути в будущее? — спросила мисс Ундервуд. — В девятнадцатое столетие? — Кажется так оно и есть. Когда вы отправились в путешествие во времени? — 1896 год, — ответила ему мисс Ундервуд. — Я из 1894 года. Я не знал, что кто-то еще наткнется на мое открытие в этом веке… — Вот! — воскликнул Джерек. — Мистер Уэллс был прав. — Наша машина происходила из периода времени мистера Корнелиана, сказала она. — В начале я была похищена и перенесена в Конец Времени при обстоятельствах, остающихся загадочными. Также остаются неясными мотивы моего похитителя. Я… — она спохватившись, замолчала. — Это не представляет для вас интереса, конечно, — она облизнула губы. — У вас нет, наверное, средств зажечь огонь, сэр? Незнакомец похлопал по оттопыривающимся карманам своего пиджака. — Где-то есть спички. Я склонен носить на себе как можно больше нужных вещей. На случай аварии… Вот они где, — он вытащил большой коробок восковых спичек. — Я бы дал вам весь коробок, но… — Несколько штук хватит. Вы сказали, что знакомы с ранним девоном… — Знаком насколько это возможно. — Тогда пригодится ваш совет. Например, насчет съедобности этих моллюсков? — Я думаю, вы найдете миалинус аб квадрата наименее приятной. Очень немногие из них ядовиты, хотя определенного расстройства желудка не избежать. Я и сам подвержен таким расстройствам. — А как эти миалины выглядят? — спросил Джерек. — О, как двухстворчатые раковины. Их лучше всего выкапывать. Мисс Ундервуд взяла пять спичек из коробки и протянула ее назад. — Ваш экипаж, сэр, функционирует хорошо? — спросил Джерек. — О, да, превосходно. — И вы возвращаетесь в девятнадцатое столетие? — В 1895 год, я надеюсь. — Значит вы можете взять нас с собой? Незнакомец покачал головой. — Это одноместная машина. Седло едва вмещает меня с тех пор, как я стал прибавлять в весе. Идемте я покажу вам, — он повернулся и потопал по песку, в направлении, откуда пришел. Они последовали за ним. — К тому же, — добавил незнакомец, — было бы ошибкой с моей стороны пытаться перенести людей из 1896 года в 1895 год. Вы встретились бы сами с собой, что привело бы к значительной путанице. Допустимо чуть-чуть вмешиваться в Логику Времени, но мне страшно представить, что случится, если пойти на такой явный парадокс. Мне кажется, что если вы обращаетесь с этой логикой так легко, неудивительно, — поймите, я не читаю вам мораль что вы оказались в таком положении. — Значит вы подтверждаете теорию Морфейла, — сказал Джерек, с трудом тащившийся рядом с путешественником во времени. — Время сопротивляться парадоксу, соответственно регулируя. Можно сказать, отказываясь допустить чужеродное тело в период, которому оно не принадлежит. — Если есть вероятность парадокса, да. Я подозреваю, что все это связано с сознанием и пониманием нашей группы того, что составляет Прошлое, Настоящее и Будущее. То есть, Время, как таковое не существует… У мисс Ундервуд вырвалось негромкое восклицание при виде экипажа незнакомца. Экипаж состоял из открытой рамы, собранной из обрезков бронзовых трубок и черного дерева. То там, то тут виднелась слоновая кость, наряду с одной или двумя посеребренными частями и медной катушкой, установленной наверху рамы, прямо под подпружиненным кожаным сидением, обычно устанавливаемым на велосипедах. Перед сидением находилась маленькая панель с приборами и бронзовый полукруг с отверстием для рычагов. В остальном машина состояла из никеля и стекла. И имела изношенный вид, с потертостями, вмятинами и трещинами во многих местах. Позади седла был укреплен большой сундук, к которому сразу же направился незнакомец, расстегивая бронзовые пряжки и откинув крышку. Первым предметом, вытащенным из сундука оказался двуствольный пистолет, который он положил на седло, затем извлек тюк кисеи и тропический шлем от солнца, и, наконец, обеими руками незнакомец вытащил большую соломенную корзину и поставил ее на песок к их ногам. — Это может пригодиться вам, — сказал он, убрав остальные предметы назад в сундук и вновь закрепив застежки. — Это все, что я могу сделать для вас. И я уже объяснил, что не могу вас взять с собой и почему это невозможно. Вы же не хотите встретиться с самими собой посреди площади Ватерлоо? — засмеялся он. — Вы имеете в виду площадь Пикадилли, сэр? — нахмурившись спросила мисс Ундервуд. — Никогда не слышал о ней, — ответил путешественник во времени. — А я никогда не слышала о площади Ватерлоо, — сказала ему. — Вы уверены, что вы из 1894 года? Незнакомец почесал щетину на подбородке, выглядя немного обеспокоенным. — Я думал, что прошел полный круг, — пробормотал он. — Хм, вероятно, эта вселенная не совсем такая же, как та, что я покинул. Может быть для каждого нового путешественника во времени возникает новая хронология? Может, существует бесконечное число вселенных? — его лицо оживилось. Должен сказать, что это прекрасное приключение. Вы не голодны? Мисс Амелия Ундервуд подняла вверх прекрасные брови. Незнакомец показал на корзину. — Моя провизия, — сказал он, — пользуйтесь ей, как угодно. Я рискую отправиться без запасов еды до моей следующей остановки — надеюсь, в 1895 году. Ну, мне пора отправляться в путь. Он поклонился и поднял на изготовку свой хрустальный стержень. Взобравшись в седло, он вставил стержень в бронзовую панель и проделал какие-то регулировки с другими приборами. Мисс Ундервуд уже поднимала крышку корзины. Ее лица не было видно, но Джереку показалось, что она еле слышно напевает себе под нос. — Желаю удачи вам обоим, — бодро сказал незнакомец, — уверен, что вы не застрянете здесь навечно. Это маловероятно, не так ли? Я имею в виду, какая бы была находка для археологов, ха, ха! Ваши кости… Раздался резкий щелчок, когда незнакомец сдвинул свой рычаг, и почти сразу же машина времени начала становиться все менее и менее отчетливой. Медь заблестела, стекло замерцало, что-то, казалось, быстро начало вращаться над головой незнакомца, и вскоре он и машина стали полупрозрачными. В лицо Джерека ударил неожиданный порыв ветра, возникшего ниоткуда, а затем путешественник во времени исчез. — О, смотрите, мистер Корнелиан! — воскликнула мисс Амелия Ундервуд, извлекая свой трофей. — Цыпленок!
2. ИНСПЕКТОР СПРИНГЕР ВКУШАЕТ ПРЕЛЕСТИ ПРОСТОЙ ЖИЗНИ
В последующие два дня и две ночи определенная напряженность в отношениях, исчезнувшая было перед появлением путешественника во времени, но затем вновь появившаяся, все еще существовала между влюбленными (потому что они были влюбленными — только ее воспитание отрицало это), и они беспокойно спали, вместе, на постели из веток папоротника, где им ничто не угрожало, кроме любознательного внимания маленьких моллюсков и трилобитов, которым теперь в свою очередь, нечего было бояться благодаря корзине, набитой консервами бутылками в количестве, достаточном для поддержания сил целой экспедиции в течении месяца. Ни крупные звери, ни неожиданные перемены погоды не угрожали нашему Адаму и Еве. И только одну Еву мучил один внутренний конфликт, а Адам испытывал только простое недоумение, но он был привычен к этому, а неожиданные перемены и капризы судьбы составляли суть его существования до недавнего времени — все же его настроения, не быть такими, как раньше. Они пробудились, эти настроения, где-то на рассвете в то утро, и красота, которая по своей утонченности превосходила любое произведение искусства. Огромная половинка солнца так заполняла линию горизонта, что окружающее небо сверкало тысячами оттенков цвета меди, а солнечные лучи, распростертые над морем, казались индивидуально раскрашенными — голубые, желтые, серые, розовые — пока не сливались снова, вместе в вышине над пляжем, заставляя желтый песок сверкать белым светом, превращая известняк в мерцающее серебро, а отдельные листья и стебли папоротников в зелень, кажущуюся почти разумной, настолько она была живой. И в центре этой панорамы находилась человеческая фигура, вырисовываясь на фоне пульсирующего малинового цвета полукруга в бархатном платье цвета темного янтаря, с горячими, как пламя, золотисто-каштановыми волосами, белые руки и шея отражались нежнейшими оттенками самого бледного мака. И там была музыка — ее звонкий голос, декламирующий любимое стихотворение, содержание которого слегка не соответствовало окружению:3. ЧАЙ В ПОЗДНЕМ ДЕВОНСКОМ ПЕРИОДЕ
Переваливаясь с ноги на ногу, в разодранных полосатых пижамах, гуманоиды в три фута ростом, с пуговицеобразными носами, грушевидной головой, большими ушами, длинными усами, с обеденной вилкой из серебра и серебряным ножом в руках появился из папоротников. Джерек однажды носил пижаму в Детском Убежище, страдая от режима робота, выжившего со времен поздних Множественных Культур. Он узнал капитана Мабберса, вожака латов, музыкантов-разбойников. Он видел его дважды со времени Убежища — в кафе «Ройял» и позднее в совместном заключении в Скотланд-ярде. При виде Джерека капитан Мабберс хрюкнул что-то недовольное, но нейтральное, но когда его три зрачка сфокусировались на инспекторе Спрингере, он издал неприятный смешок. На инспектора Спрингера это не произвело никакого впечатления, даже когда еще пять латов присоединились к своему вожаку, разделяя его веселье. — Именем Ее Величества Королевы, — начал он, но заколебался, не зная, что делать дальше. — Олд джа шет ок гонгонг пши? — презрительным тоном сказал капитан Мабберс. — Клишкешат ифанг! Инспектор Спрингер, привычный к таким вещам, оставался внешне невозмутимым, внушительно говоря: — Это оскорбительное поведение по отношению к офицеру полиции. Ты зарабатываешь себе неприятности, парень. Чем скорее ты поймешь, что английский закон… — внезапно он замолк в смятении. — Это все еще Англия, не правда ли? — сказал он, обращаясь к Джереку и миссис Ундервуд. — Я не уверена, инспектор, — ответила она без симпатии, почти со злорадством. — Мне вообще не известно что-либо. Возможно я нахожусь вне своих полномочий, — инспектор Спрингер почувствовал выход из создавшейся ситуации. Записная книжка которую он стад вытаскивать на свое место. Под растрепанными усами появилась напряженная улыбка. Это была слабость, он проиграл Латам. Неуклюже инспектор продолжил: — Тебе повезло парень. Если ты когда-либо ступишь ногой на землю Метрополии… — Хрунг! — капитан Мабберс махнул рукой своему отставшему подчиненному. Тот осторожно вышел из кустов, его зрачки метались оценивая силы Спрингера. Джерек немного расслабился, поняв, чтоЛаты воздержатся от активных действий, пока не убедятся, что у троих их противников нет союзников. Инспектор Спрингер все еще не знал, что делать с его самозваным дипломатическим статусом. — Видимо, — говорил он лату, — мы все в одной лодке. Не время растравливать старые болячки, ребята. Вы, конечно, это понимаете? Капитан Мабберс вопросительно взглянул на Джерека и миссис Ундервуд. — Каприм ул шим мибикс клом? — спросил он, кивая головой в сторону полицейского. Джерек пожал плечами. — Я склонен согласиться с инспектором, капитан Мабберс. — Феркит! — воскликнул один из латов. — Поткап меф рим чоккам! Шет Угга!? — он двинулся вперед выставив вилку. — Серк! — скомандовал капитан Мабберс. Он с масляным выражением глаза уставился на миссис Ундервуд, затем предложил ей короткий поклон и шагнул ближе, бормоча: — Двар кер пикнур, фаззи? — В самом деле! — потеряла все свое самообладание миссис Ундервуд. Мистер Корнелиан! Инспектор Спрингер! Как можно… такие предложения… О! — Круфруди, — капитан Мабберс гнул свою линию. Он со значением похлопал по своему локтю. — Квот! Квот? — показал он взглядом на заросли папоротника. — Низза ук? Чувство приличия инспектора Спрингера было оскорблено. Он было двинулся вперед, с ботинком в одной руке. — Закон или не закон… — Фвик, хрунг! — рявкнул капитан Мабберс. Остальные Латы засмеялись, повторяя шутку друг другу, но возражение полицейского ослабило напряжение. Миссис Ундервуд сказала твердо: — Они вероятно голодные. В нашем лагере есть немного бисквитов. Если мы отведем их туда… — Пошли, — сказал Джерек и пошагал. Она взяла его под руку движением смутившим и Джерека, и капитана Мабберса. Инспектор Спрингер догнал их. — Должен сказать, я бы не отказался бы от чая! — Не знаю, есть ли он у нас, — с сожалением сказал Джерек. — Но там имеется целый ящик галет. — Хо, хо! — инспектор Спрингер загадочно подмигнул. — Мы отдадим галеты им, а? — Озадаченные, но внезапно пассивные Латы потащились сзади. Наслаждаясь деликатным прикосновением ее руки к ребрам, Джерек раздумывал, составляют ли инспектор и семь инопланетян «Общество», которое, как заявила миссис Ундервуд, оказывает влиянием на «мораль» и «совесть», препятствующие полному выражению его любви к ней. Он чувствовал в своем сердце, что она так и определит их группу. Покорность Судьбе снова вернулась на место, только что покинутое предчувствием исполнения его желаний. Они достигли скалы и корзины — своего дома. С чайником в руке Джерек отправился к ручью, найденному ими. Миссис Ундервуд приготавливала примус. Оставшись на момент в одиночестве, Джерек подумал, что провизия скоро исчезнет с появлением восьми ртов. Он предвидел спор, в котором Латы попытаются овладеть пищей. По крайней мере, это будет хоть какая-то разрядка. Он улыбнулся. Может, даже начнется война. Немного позднее, когда примус был накачен и затоплен, а чайник поставлен на огонь, он пригляделся к Латам. Ему показалось, что их отношение к миссис Ундервуд немного изменилось с того времени, как они в первый раз встретили ее в папоротниковом лесу. Они сидели полукругом на песке недалеко от скалы, в тени которой разместились три человека. Их манера все еще характеризуемая миссис Ундервуд, как «оскорбительная», отдавала осторожностью, даже уважением, их поразила легкость, с которой она взяла команду над событиями. Не может ли быть так, что она напомнила им о неуязвимом старом роботе, Няне? Они научились бояться Няни! Определенная их поза — со скрещенными ногами, руки на коленях — напоминала требования Няни к своим подопечным. Чайник закипел. Инспектор Спрингер в качестве жеста вежливости по отношению к миссис Ундервуд потянулся к ручке. Приняв металлический чайник от хозяйки, он налил воды. Латы, будто присутствуя при религиозном ритуале (так как инспектор Спрингер определенно создавал такое впечатление он священник, миссис Ундервуд жрица), были мрачные и осторожные. Джерек сам разделял в чем-то их чувства, когда церемония продолжалась с официальной торжественностью. Имелось три жестяные кружки и жестяная миска. Их поставили на крышку корзины (которая содержала много таких удобств). Рядом были поставлены банка молока и пачка сахара с ложечкой. — Минута или две, чтобы дать ему завариться, — приговаривал инспектор Спрингер, обращаясь к Джереку. — Это то, чего мне не хватало больше всего. Джерек не понял имел ли он в виду сам чай или связанный с ним ритуал. Из ящичка рядом с ней миссис Ундервуд достала набор бисквитов и разложила их на жестяном подносе. Наконец, чай был разлит, добавлено молоко и сахар. Инспектор Спрингер первым сделал глоток. — О! — чувство ритуала оставалось. — Превосходно, не так ли? Миссис Ундервуд протянула большую чашу капитану Мабберсу. Он понюхал ее, затем всосал половину содержимого на одном дыхании. — Гурп? — спросил он. — Чай, — ответила она ему. — Надеюсь, по вашему вкусу, у нас нет ничего покрепче. — Ч-а-а-ай! — пренебрежительно скопировал капитан Мабберс, глядя на своих компаньонов. Они фыркнули от смеха. — Круфруди, — протянул он чашку за добавкой. — Это на всех вас, — сказала твердо миссис Ундервуд, махнув рукой на его подчиненных. — Для всех. — Фрит хрунти? — он казался сбитым с толку. Она забрала у него чашку и отдала гуманоиду рядом с ним. — Трочит шарт, — фыркнул капитан Мабберс и подтолкнул локтем своего товарища. — Нуутчу? Латов это развеселило. Чай расплескался, когда они взорвались смехом. Инспектор Спрингер прочистил горло. Миссис Ундервуд отвела глаза в сторону. Джерек, чувствуя необходимость завязать своего рода дружбу с Латами, засмеялся вместе с ними, пустив пузыри в чай. — Не надо, мистер Корнелиан, — сказала она. — Вы, ведь конечно, можете вести себя лучше, вы ведь не дикарь. — Они обидели вашу мораль? — Нет, не мораль. Просто мои чувства. — Это произвело на вас неэстетическое впечатление? — Ваш анализ правильный. Она снова отдалилась от него. Он допил чай, ему показался этот чай грубым по вкусу и качеству. Но он принял ее стандарты, чтобы услужить им и завоевать ее одобрение — все, что он хотел. Бисквиты один за другим исчезли. Инспектор Спрингер закончил первым, он вытащил из кармана большой платок и промокнул им усы. Затем, подумав некоторое время, он выразил опасения Джерека. — Конечно, — сказал он. — Этого запаса теперь хватит ненадолго, не так ли? — Он кончится очень быстро, — сказала миссис Ундервуд. — И Латы постараются украсть его, — добавил Джерек. — Им придется для этого поработать, — сказал инспектор Спрингер с уверенностью профессионального защитника собственности. — Будучи англичанами, мы справедливы и не дадим им помереть с голоду, но будем держать строгий контроль над запасами. Мы должны научиться кормиться с земли. Рыба и все такое… — Рыба? — неуверенно произнесла миссис Ундервуд. — Здесь есть рыба? — Чудовища! — сказал он ей. — Разве вы их не видели? Похожие на акул, но немного меньше. Поймать одного из этих типов, и у нас будет что есть несколько дней. Я займусь этим, он снова просветлел и, казалось, радовался вызову, предложенному поздним девоном. — Мне показалось, что я видел кусок веревки в корзине. Мы можем попытаться использовать улиток, как приманку. Капитан Мабберс показал, что его чашка пуста. — Гротчнук, — сказал он с чувством. — Больше нет, — ответила твердо миссис Ундервуд. — Чаепитие закончилось, капитан Мабберс. — Гротчнук мибикс? — Все кончилось, — сказала она, словно ребенку. Сняв крышку с чайника, она показала ему мокрые листья. — Видите? Быстрой рукой он схватил чайник, другая нырнула в отверстие, схватила горсть листьев чая и запихала их в рот. — Глоп-бип! — прошепелявил он одобрительно. — Дрекси глоп-бип!4. НОВЫЙ ПОИСК — ПО СЛЕДУ КОРЗИНЫ
— Но, инспектор, вы говорили нам, что корзину нельзя сдвинуть с места, не разбудив мгновенно вас! — миссис Амелия Ундервуд чуть топнула своей ногой, в ее голосе прозвучала нотка, которую Джерек узнал. Инспектор Спрингер также узнал ее. Он покраснел, глядя на свое запястье, к которому был прикреплен разрезанный ремешок. — Я привязал его к корзине, — начал неуклюже оправдываться он. — Они должно быть обрезали его. — Сколько времени вы спали, инспектор? — спросил Джерек. — Почти совсем не спал. Только прикрыл глаза. Не стоит и говорить об этом. — Вы прикрыли глаза очень крепко! — она возбужденно оглянулась вокруг в сером предрассветном сумраке. — Судя по вашему храпу, который я слышала всю ночь. — Ну что вы, мадам… — Они могут быть уже в нескольких милях, — сказал Джерек. — Они хорошо бегают, когда захотят. Вы тоже плохо спали, миссис Ундервуд? — Только инспектор, кажется, основательно отдохнул, — сверкнула она глазами на инспектора. — Если вы хотите чтобы ваш дом ограбили, скажите полиции, что вы уезжаете на выходной. Так всегда говорил мой брат. — Это вряд ли справедливо, мадам… — начал он, но понял, что находится на зыбкой почве. — Я принял все меры предосторожности. Но эти иностранцы с ножками, — он снова показал на обрезанные ремешки. — Этого нельзя было предвидеть. Она осмотрела окружающий песок, сказав с огорчением: — Поглядите на эти следы. Вы помните, мистер Корнелиан, когда мы вставали утром и шли к морю, и на пляже не было ни следа. Никаких признаков чужого предчувствия! Все теперь испорчено, — она показала под ноги. — Вот свежий след ведет от моря. Песок определенно был потревожен. Джерек обнаружил широкие отпечатки ног исчезнувших латов. — Они несут корзину, — предположил инспектор Спрингер. — Поэтому не могут идти очень быстро, — он похлопал себя по животу. — О-о, я ненавижу начинать день на пустой желудок. — В этом, — сказала она с удовлетворением, — целиком ваша вина, инспектор! Она пошла вперед, в то время как Джерек и инспектор Спрингер, натягивая свои пиджаки, старались не отстать от нее. Еще до того, как они углубились в большой каменный папоротниковый лес, поднялось солнце, золотое и великолепное, и начало слать вниз жаркие лучи. Инспектор Спрингер использовал свой платок, вытирая лоб и шею, но миссис Ундервуд, быстрым взглядом находя сломанную ветку или смятый лист на пути воров, не позволяла им остановиться. Холм, по которому они шли, становился все круче и круче, но она все еще не разрешала им отдохнуть. Они тяжело дышали: Джерек с удовольствием, а инспектор с явным возмущением. Джерек слышал произнесенное на двух выдохах слово «женщины» в отчаянной, драматической манере, затем инспектор добавил еще одно хорошо слышимым голосом. Джерек, напротив радовался тяжелой нагрузке, чувствуя приключения, хотя и не верил, что они поймают капитана Мабберса и его подчиненных. Она была впереди них на несколько ярдов и немного выше их. — Почти на вершине, — объявила она. Инспектора Спрингера это не приободрило. Он остановился, прислонившись к стволу папоротника, поднимающегося на высоту в пятнадцать футов над его головой и зашелестевшего, когда он принял на себя громадный вес инспектора. — Лучше всего, — сказал Джерек, проходя мимо, — если мы будем держаться как можно ближе друг к другу. Мы можем легко потеряться. — Она совершенно сошла с ума, — мрачно ответил инспектор. — Я знал это все время, — но он последовал за Джереком и даже догнал его, когда тот перебирался через упавший ствол. Джерек принюхался. — Ваш запах! Удивительно… я не нюхал ничего подобного прежде. Это вы. Очень странный запах, но, полагаю, приятный. — Гр-р! — сказал инспектор Спрингер. Джерек принюхался снова и продолжал подъем, используя теперь и руки, и ноги, фактически на четвереньках. — Определенно, едкий… — Ты, вредный маленький него… — Изумительно! — послышался голос миссис Ундервуд, хотя ее саму не было видно. — Это великолепно! Инспектор Спрингер схватил Джерека за руку. — Если у вас есть личные комментарии, буду благодарен если вы их оставите при себе. — Извините инспектор, — Джерек попытался освободить свою руку. Он нахмурился. — Я конечно не хотел вас обидеть. Просто этот запах — пот, не так ли? — необычен в Конце Времени. И он, правда, нравится мне. — Г-м, — инспектор Спрингер отпустил руку Джерека. — Я приметил тебя с самого начала. Ты слишком важничаешь. — Я вижу их! — раздался снова голос миссис Ундервуд. — Они близко! Джерек обогнул низко висевшую ветку и увидел ее через просвет в папоротниках. — Уф! — сказал инспектор Спрингер позади него. — Проклятье! Если я когда-нибудь доберусь до Лондона и если ты попадешь мне там… Воинственность, казалось, придала ему энергии, чтобы еще раз догнать Джерека. Они прибыли плечом к плечу к месту, где стояла миссис Ундервуд. Она раскраснелась, глаза ее сияли. Она показывала рукой. Они стояли на краю отвесного утеса, склоны которого усеивали кучки растительности. В нескольких сотнях футах под ними утес выравнивался в широкий каменистый пляж, окаймляющий спокойные воды реки, чей ярко-голубой цвет отраженного неба представлял собой красивый, гармоничный контраст коричневым, зеленым и желтым расцветками прибрежных скал. — Это великолепно, — сказала она, — Поглядите, мистер Корнелиан! Он уходит в бесконечность, этот мир! Его так много. Все девственно, Швейцария не идет ни в какое сравнение… — Она улыбнулась Джереку. — О, мистер Корнелиан, это Рай! — Хм, — сказал инспектор Спрингер, — Довольно приятный вид. Но где наши маленькие друзья? Вы сказали… — Там! На пляже можно было разглядеть маленькие фигуры. Они двигались, они были заняты работой. — Что-то делают, судя по их виду, — пробормотал инспектор. — Но что? — Лодку вероятно. — Она протянула руку. — Видите, здесь имеется только небольшой участок пляжа. Единственный путь дальше — через реку. Они не повернут назад, потому что боятся погони. — Ага! — потер пуками инспектор Спрингер. — Итак, мы застукаем их готовенькими. Мы схватим их прежде, чем они смогут… — Их семь, — напомнила она ему. — А нас трое, и одна из нас женщина. — Да, — сказал он. — Это правда. — Он поднял котелок двумя пальцами и почесал голову мизинцем. — Но мы крупнее их, и у нас есть преимущество внезапности. Внезапность чаще стоит больше, чем любое количество тяжелой артиллерии… — Я читала об этом в приключенческих романах, — сказала она кисло, но я много дала бы в этот момент за единственный револьвер. — Их не разрешено носить просто так, — сказал он внушительно, — если бы мы получили информацию… — О, в самом деле, инспектор! — воскликнула она раздраженно. — Мистер Корнелиан! У вас есть предложение? — Мы можем отпугнуть их, миссис Ундервуд, на время достаточное, чтобы забрать корзину. — И чтобы они догнали и одолели нас? Нет. Капитан Мабберс должен быть взят в плен. С заложником мы можем надеяться вернуться в наш лагерь и заключить с ними сделку. Я хотела придерживаться цивилизованного поведения. Тем не менее… Она осмотрела край утеса. — Они спустились здесь. Мы сделаем тоже самое. — Я всегда плохо переносил высоту, — инспектор Спрингер с сомнением наблюдал, как она спустилась через край утеса и, цепляясь за пучки листвы и выступы скал, начала спускаться вниз. Джерек озабоченный ее безопасностью, но признавая ее руководство, внимательно наблюдал за ней, а затем последовал вторым. Инспектор Спрингер, ворча, неуклюже спускался последним. Небольшие лавины камней и земли падали на голову Джерека. Утес оказался не таким крутым, как воображал Джерек, и спуск стал заметно легче после первых тридцати футов, так что временами они могли вставать и идти. Джереку, казалось, что латы заметили их, так как их деятельность стала более активной. Они строили большой плот из стволов папоротника, росшего около воды, используя полоски своих разорванных пижам, чтобы связать довольно толстые бревна вместе. Джерек мало понимал в таких вопросах, но ему показалось, что плот быстро намокнет и потонет. Он подумал, могут ли Латы плавать. Он сам определенно не умел этого делать. — О! Мы слишком опоздали! — миссис Ундервуд заскользила вниз по склону, разрывая свое уже и так изорванное в некоторых местах платье, забыв о скромности, когда увидела как капитан Мабберс приказал установить их корзину посередине плота. Шесть латов под руководством своего капитана подняли плот и понесли его к воде. Джерек стараясь держаться как можно ближе к миссис Ундервуд, последовал ее примеру. И вскоре бесконтрольно скользил вслед за ней. — Сейчас! — кричала она, забыв о своем платье и желая только одного, схватить в плен капитана Мабберса. — Мы хотим только договориться с вами! Вероятно испуганные безумным спуском Латы побежали быстрее вместе с плотом, пока не оказались по пояс в воде. Капитан Мабберс вспрыгнул на плот. Плот наклонился, и он кинулся на корзину, чтобы спасти ее. Плот поплыл, и Латы забарахтались в воде, стараясь залезть в него, но двое остались сзади. Их крики были слышны людям, почти достигшим подножия утеса. — Феркит! — Круфруди! — Никгиурм! Капитан Мабберс и его подчиненные оставили весла на пляже. Руками они пытались направить плот обратно к земле. — Быстрее! — закричала миссис Ундервуд, все еще командуя. — Хватайте их! Они наши заложники! Плот уже находился в нескольких ярдах от берега, хотя капитан Мабберс, казалось не хотел оставлять своих людей. Джерек и инспектор Спрингер вошли в воду и схватили двух латов, находившихся почти по шею в воде реки. Те забарахтались, пытаясь лягаться ногами, но постепенно были подтащены к месту, где стояла миссис Ундервуд, воинственная и решительная (Латы явно больше боялись миссис Ундервуд, чем тех, в ком они признавали ее подчиненных). — Книксфелп! — закричал капитан Мабберс своим людям. — Груу хрунг Буукра!… - его голос отдалился. Двое латов, достигнув пляжа, проскочили мимо миссис Ундервуд и кинулись к утесу. Они находились в состоянии паники. — Блет мибикс гурп! — истерически завопил один из латов, споткнувшись о камень. Его товарищ помог ему встать на ноги, оглядываясь на плывущий по воде плот. Вдруг он оцепенел — все три зрачка сфокусировались на плоту. Он не обращал внимания на Джерека и инспектора Спрингера, подбежавших к нему и схвативших его. Джерек первым догадался оглянуться назад. Позади плота в воде находилось что-то мерцающе-зеленое с насекомоподобным телом и двигающееся очень быстро. — О, господи! — выдохнул инспектор Спрингер. — Оно, должно быть, больше шести футов длиной. Джерек заметил усы, серо-белые клешни, сильный извивающийся хвост, вооруженный коричневыми шипами, веслообразные задние ноги, наполовину выпирающие из воды — тело, атакующее плот. Послышалось два громко щелкающих звука, когда передние клешни схватили двух Латов. Те отчаянно вырывались и кричали. Шипастый хвост взметнулся и ударил по ним, лишив их сознания. Затем гигантский скорпион (так как чудовище ни на что больше не было похоже) вернулся на глубину, оставив на поверхности воды обломки плота, зеленые размочаленные бревна, за которые цеплялись уцелевшие Латы. Джерек увидел, что это, должно быть, еще один такой же зверь. Он зашел в воду, протягивая руки Латам и крича: — О, какое в конце концов интересное приключение! Герцог Королев не мог бы устоять более сенсационного развлечения! Только подумайте миссис Ундервуд: из этого ничего не было подстроено. Все случилось само собой, совсем естественно. Скорпионы! Разве они не особенно зловещи, эти милые собратья Сфинкса? — Мистер Корнелиан, — ее голос стал более чем настойчивым. Спасайтесь. Эти существа появились со всех сторон! Это было правдой. Окружающие воды кишели гигантскими скорпионами, приближающихся к ним. Джерек вытащил капитана Мабберса и еще одного лата на берег, но третий был слишком медлителен. У него оставалось время только вскрикнуть напоследок: «Феркит!» — перед тем, как клешни сомкнулись, огромный хвост шлепнул по воде, и он стал предметом спора между скорпионом, поймавшим его и товарищами этого скорпиона, разочарованными своей собственной неудачи. Миссис Ундервуд подошла к Джереку. На ее лице была тревога и неудовольствие. — Мистер Корнелиан, вы меня так напугали. Но ваша храбрость… Он вопросительно поднял брови. — Была великолепна! — сказала она. Ее голос смягчился, но только на мгновение. Она вспомнила про корзину, которая осталась на плаву, очевидно не представляя интереса для скорпионов, продолжающих бороться за обладание быстро распадающимися на куски трупами, показывающимися иногда на поверхности реки в пене и крови. Корзина подпрыгивала на волнах, образованных воющими скорпионами, она уже почти достигла середины реки. — Мы должны последовать за течением, — сказала миссис Ундервуд, — и надеяться поймать ее позже. Куда направляется течение? К морю? — Нужно понаблюдать, — сказал Джерек. — Если нам повезет: мы сможем проследить ее курс. Что-то похожее на рыбу появилось на поверхности воды около корзины. Коричневая блестящая спина с плавниками исчезла из виду почти мгновенно. — Акулы, — сказал инспектор Спрингер. — Я говорил вам про них. Корзина, которая делала этот мир настоящим раем, поднялась на спине по меньшей мере одного из существ с плавниками и перевернулась вверх дном. — О! — закричала миссис Ундервуд. Они увидели, что корзина начала тонуть, затем поднялась вверх снова. Крышка ее была распахнута, но корзина все еще держалась на воде. Неожиданно миссис Ундервуд села на обломок ствола и заплакала. Для Джерека этот звук заглушил все остальные, все еще слышимые со стороны реки позднего Девона. Он подошел к ней, присел рядом и обнял рукой за печально опущенные плечи. В этот момент маленькая моторная лодка, завывая мотором обогнула мыс. В ней находились две, одетое в черное, фигуры, одна сидела за рулем, другая стояла с багром в руках. Суденышко целеустремленно направлялось к корзине.5. В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕНИ
Миссис Ундервуд прекратила плакать и стала моргать глазами. — Это начинает смахивать на чертов Брайтон, — сказал неодобрительно инспектор Спрингер. — Сначала все казалось таким девственным. Что за шум создает эта лодка? — Они спели корзину. — сказала она. Две фигуры поднимали корзину на борт. Несколько предметов выпало из нее. Оба человека казались ненормально возбужденными, старались вернуть предметы, не жалея усилий, догнали и подхватили жестяную кружку. Закончив спасательные работы, лодка направилась к ним. Джерек никогда не видел ничего похожего на костюмы пришельцев, хотя они напоминали одежду, носимую иногда космическими путешественниками, всю из одного куска, блестящую и черную, подпоясанную широким ремнем, содержащим вероятно какие-то инструменты. На них были плотно обтягивающие шлемы из того же материала с очками и наушниками, и перчатки на каждой руке. — Мне не нравится их вид, — пробормотал инспектор. — Наверное ныряльщики? Он бросил взгляд назад на холмы. — Может не к добру то, что они не показывались раньше. — Возможно они не знали, что мы здесь, — ответил Джерек рассудительно. — У них необычный интерес к старой корзине. Может быть, мы больше не увидим ее. — Они подъехали, — сказала спокойно миссис Ундервуд. — Давайте не судить их, или их мотивы, раньше времени. Будем надеяться, они говорят по-английски, или хотя бы по-французски. Дно лодки заскрипело по гальке, мотор замолк, два пассажира вылезли на берег, вытащили маленькое судно их воды, подняли корзину и поднесли ее миссис Ундервуд. Джерек Корнелиан, инспектор Спрингер, капитан Мабберс и три уцелевших Лата поджидали их. Джерек заметил, что это были мужчина и женщина, и почти одинакового роста. Их лица почти не были видны из-за высоких воротников и очков. Приблизившись на пару ярдов, они остановились и опустили корзину. Женщина передвинула на лоб очки, открыв овальное лицо, большие серо-голубые глаза и полные губы рта. Неудивительно, что миссис Ундервуд приняла ее за француженку. — Бон жур… — начала она. — Эй, — сказала женщина, — вы же англичане. — Некоторые из нас, да, — сказал внушительно мистер Спрингер. — Те, маленькие, латовцы. — Я — миссис Персон. Представляю вам капитана Вестейбла, — мужчина отдал салют, затем поднял очки. Его лицо было загорелым и приятным. — Я — миссис Ундервуд. Это мистер Корнелиан, инспектор Спрингер, капитан Мабберс, боюсь, что не знаю других имен. Они не говорят по-английски. Думаю, что они космические путешественники из далекого будущего. Не правда ли, мистер Корнелиан? — Латы, — сказал Джерек. — Мы никогда не были уверены в их происхождении. Но они появились на космическом корабле в Конце Времени. — Вы с Конца Времени, сэр? — капитан Вестейбл говорил легкими, резко оканчивающимися звуками, знакомыми Джереку по девятнадцатому столетию. — Да. — Конечно, Джерек Корнелиан, — сказала миссис Персон, — друг Герцога Королев, не так ли? И лорда Джеггета? — Вы их знаете? — пришел в восторг Джерек. — Я знаю немного лорда Джеггета. О, я вспомнила, вы любите эту леди, вашу Амелию… — Мою Амелию! — Я не ваша Амелия, мистер Корнелиан, — твердо заявила миссис Ундервуд и с подозрением посмотрела на миссис Персон. Миссис Персон заговорила извиняющимся тоном: — Вы из 1896 года, я забыла. Надеюсь, вы простите меня, миссис Ундервуд. Я так много слышала о вас. Ваша история — одна из самых великих легенд нашего времени. Уверяю вас, это честь для меня — встретить вас во плоти. Миссис Ундервуд нахмурилась, подозревая сарказм, но не находя его. — Вы слышали?… — Нас очень немного, и мы сплетничаем. Мы обмениваемся опытом и историями как все путешественники, в редких случаях, когда мы встречаемся. И центр, конечно, является местом, куда сходимся все мы. Молодой мужчина засмеялся. — Не думаю, что они понимают тебя, Уна. — Я заболталась. Вы будете нашими гостями? — У вас есть здесь машина? — спросила миссис Ундервуд с пробуждающейся надеждой. — Здесь у нас база. Вы не слышали о ней? Значит вы члены гильдии? — Гильдия? — сдвинула брови миссис Ундервуд. — Нет. — Гильдия искателей приключений во Времени, — объяснил капитан Вестейбл. — Никогда о ней не слышала. — И я тоже, — сказал Джерек. — Почему вы объединились? Миссис Персон пожала плечами. — В основном мы обмениваемся информацией. Информация является значительной помощью для тех из нас, кого вы можете знать или называть «профессиональными путешественниками во времени», — она улыбнулась застенчиво. — Во всяком случае, это очень рискованное дело. — Действительно, — согласился он. — Мы с удовольствием примем ваше предложение, не правда ли миссис Ундервуд? — Благодарю вас, миссис Персон, — ответила миссис Ундервуд, все еще настороженная. — Нам придется сделать две поездки. Я предлагаю, Освальд, чтобы ты взял Латов и инспектора Спрингера с собой, а затем вернулся назад за нами троими. Капитан Вестейбл кивнул головой. — А вы пока проверьте корзину. — Конечно. Не проверите ли миссис Ундервуд, может что-нибудь пропало? — Это не имеет значения. Я думаю… — Это крайне важно. Если что-нибудь потеряно, мы будем искать до тех пор, пока не найдем. У нас есть приборы для обнаружения почти любой вещи. Миссис Ундервуд заглянула в корзину и рассортировала ее содержимое. — Я думаю здесь все. — Прекрасно. Время терпит нас, как вы знаете. Мы не должны обижать его. Капитан Вестейбл, Латы и инспектор Спрингер были уже в лодке. Снова завыл мотор, вода закипела и они уехали. Миссис Персон наблюдала как они исчезли из виду, прежде чем повернуться к Джереку и миссис Ундервуд. — Приятный денек. Вы здесь находитесь уже некоторое время? — Около недели, я думаю, — миссис Ундервуд пригладила свое испорченное платье. — Пока вы избегаете воды, все прекрасно. Многие забираются в поздний Девон просто для отдыха. Если бы не эриптериды — водяные скорпионы — этот период был бы самым совершенным. Из всех периодов Палеозоя я считаю его самым приятным. И, конечно, это самый дружественный век, позволяющий больше анахронизмов чем все остальные. Это ваш первый визит? — Первый, — сказала миссис Ундервуд. — Выражение ее лица выдавало, что она надеялась, он будет и последним. — Здесь может быть скучно, — признала намек миссис Персон. — Но если кто-нибудь хочет расслабиться, обдумать заново свою жизнь, взять направление — немногие периоды лучше на этом конце Времени. — Она зевнула. — Капитан Вестейбл и я будем рады снова отправиться в путь, как только закончатся наши дежурные обязанности и нас сменят. Через несколько дней мы окажемся где-нибудь в двадцатом столетии, или каком-нибудь другом… — Вы, кажется, намекаете, что имеется более чем одно двадцатое столетие? — сказал Джерек. — Вы имеете в виду, что существуют различные методы исторического исчисления, или… — Имеется столько вариантов истории, сколько путешественников во времени, — улыбнулась миссис Персон. — Трудность заключается в том, чтобы оставаться в постоянном цикле. Если путешественник не может сделать этого, вероятно любые виды шоков, и приспособление к окружающей среде становится почти невозможным, что в результате приводит к безумию. Как вы думаете, среди безумцев много искателей приключений во Времени? Мы никогда не узнаем. — Она рассмеялась. — Капитан Вестейбл, например, был невнимательным путешественником (это иногда случается), и оказался на грани сумасшествия, прежде чем мы смогли спасти его. Первое, что человек обнаруживает в таких случаях, — то, что будущее не соответствует прошлому, и это достаточно страшно… А еще хуже, когда вы возвращаетесь и обнаруживаете, что ваше прошлое изменилось. Вы двое, как я понимаю, связаны единственным вариантом. Считайте себя счастливыми, раз вы избавлены от многовариантного путешествия во времени. Джерек едва ли мог понять значение ее слов, а миссис Ундервуд не понимала ничего, хотя неуверенно заметила: — Вы имеете в виду, что путешественник во времени, которого мы встретили, который ссылаясь на площадь Ватерлоо, был совсем не моего времени, а из времени, которое соответствует?… — она покачала головой. Вы считаете, что моего времени больше не существует, потому что?… — Ваше время существует. Ничто никогда не погибнет, миссис Ундервуд. Простите что я говорю так, но вы кажется особенно неподходящей для временных похождений. Как же вы выбрали, например, поздний Девон? — Мы никогда его не выбирали, — сказал Джерек. — Мы направлялись к Концу Времени. Наша машина была в довольно плохом состоянии. Она высадила нас здесь, хотя мы были убеждены, что двигаемся вперед. — Возможно, так оно и было. — Как это может быть? — Если вы следуете по циклу до конца, вы прибываете на его конец и продолжаете путь дальше к его началу… — Значит Время циклично? — Так может быть, — улыбнулась она. — Но есть так же и спирали. Никто из нас не понимает этого очень хорошо, мистер Корнелиан. Мы вместе собираем информацию, которая у нас есть. Мы оказались способными создать некоторые основные методы защиты для себя. Но мало кто может надеяться понять все о природе Времени, потому что эта природа не является постоянной. Теория Хроноса, например, являющаяся очень популярной в определенных культурах была почти целиком дискредитирована — хотя, кажется, применима к обществам, которые разделяют эту теорию. Ваша собственная теория Морфейла имеет много достоинств, хотя не позволяет усложнений. Она утверждает, что время имеет только одно измерение — как если бы пространство имело только одно. Вы понимаете меня, мистер Корнелиан? — До некоторой степени. Она улыбнулась. — До некоторой степени — это все, что я сама понимаю. Не существует экспертов в вопросе того, что называется Временем — такова единственная аксиома, которой учит Гильдия новых членов. Все что мы ищем — это способы, как выжить, как исследовать, как сделать случайные открытия. Хотя есть отдельные теории, которые предполагают, что с каждым новым открытием о Времени мы создаем две новые загадки. Для Времени никогда не может быть составлен свод законов как и для пространства, потому что сами наши мысли, наша информация о нем, наши действия, основанные на нашей информации — все вносит свой вклад в расширение границы возможного, производить новые аномалии, новые аспекты природы Времени. Не слишком ли абстрактно я говорю. Если так, то это потому, что я обсуждаю нечто непознаваемое, возможно, по-настоящему метафизическое. Время — это сон или кошмар, из которого никогда нельзя очнуться. Мы, которые путешествуем во времени, мечтатели, случайно разделяющие общие переживания… Чтобы сохранить свою личность, сохранить какое-то ощущение смысла в собственной жизни — все на что может надеяться путешественник во времени — сот для чего существует Гильдия. Вам повезло, что вы не дрейфуете по полипространству, как пришлось капитану Вестейблу, иначе бы вы стали похожи на тонущего человека, который отказывается плыть по течению и барахтается, а каждая волна, которую вы создаете в Море Времени, имеет привычку становиться целым Океаном. Миссис Ундервуд выслушала ее с беспокойством. Она подняла крышку корзины и открыла фляжку, предложив миссис Персон глоток Бренди. — Восхитительно, — сказала миссис Персон. — После двадцатого, девятнадцатое столетие является самым моим любимым. — Из какое вы столетия вы первоначально? — спросил Джерек, чтобы замять паузу. — Из двадцатого, из середины двадцатого. Я имею отношение к этому вашему предку, и к его сестре, так как она одна из моих лучших подруг, миссис Персон заметила, что это озадачило его. — Вы не знаете ее? Странно. Хотя Джеггет… ваши гены, — она пожала плечами. Он тем не менее, был заинтересован. Здесь, возможно, был ответ, который он искал у Джеггета. — Джеггет отказался откровенно ответить мне, — сказал он ей, — по этому предмету. Я буду благодарен, если вы просветите меня. Он обещал сделать это, когда я вернусь. Но она прикусила свой язык, как если бы невольно предала доверие. — Я не могу, — сказала она. — У него должно быть, имелись причины… Я не могу говорить без его разрешения. — Но тут есть мотив, — резко сказала миссис Ундервуд, — кажется, что он намеренно свел нас вместе. Мы имеем больше, чем намек, что он, возможно, причина некоторых наших несчастий. — И наш спаситель от других, — сказал Джерек, чтобы быть справедливым. — Он настаивает на нейтралитете, но я уверен… — Я не могу помочь вам в ваших рассуждениях, — сказала миссис Персон. — А вот и капитан Вестейбл с лодкой. Маленькое судно прыгало на волнах, быстро приближаясь к ним. Мотор выл и след был из белой пены. Вестейбл развернул лодку, прежде чем она ударилась о пляж и выключил мотор. — Вы не возражаете, если немного промочите ноги? Скорпионов нет поблизости. Они по воде подошли к лодке и влезли на борт, поставив корзину на дно лодки. Миссис Ундервуд осмотрела воду. — Я не имела представления, что существуют твари, подобные этим по размерам. Динозавры возможно, но не насекомое… Я знаю, что они не настоящие насекомые, но… — Они не выживут, — сказал капитан Вестейбл, вновь заводя мотор. — В конце концов рыбы вытеснят их. Они достигают все больших размеров, эти рыбы. Через миллион лет в этой реке будет много перемен, — он улыбнулся. От нас зависит чтобы мы сами не вызвали никаких изменений, — он показал назад на воду, — Мы не оставляем масляные следы за собой, которые не были бы обнаружены и удалены одним из наших приборов. — Таким образом вы сопротивляетесь эффекту Морфейла, — сказал Джерек. — Мы используем не это название, — прервала его миссис Персон. — Но, да… Время позволяет нам оставаться здесь так долго, насколько это не возбуждает анахронизмы. И это включает следы которые могут быть обнаружены будущими исследователями. Вот почему мы так старались спасти вашу жестяную кружку. Все наше оборудование из очень нестойких материалов. Они служат нам, но не выстоят ни в каком случае больше столетия. Наше существование непрочно — нас может вышвырнуть из этого века в любой момент, и мы можем оказаться не только разделенными, возможно навечно, но и в окружении, неспособном поддерживать человеческую жизнь даже в самом элементарном. — Вы сильно рискуете, — сказала миссис Ундервуд. — Почему? — Миссис Персон засмеялась. — Человек приобретает вкус к этому, как и вы сами знаете. Река начала сужаться между покрытыми мхом берегами, и вдали показалась деревянная пристань. К ней были причалены еще две лодки. Позади пристани, в тени густой листвы угадывалась какая-то темная масса. Светловолосый юноша одетый в костюм, идентичный тем, который носили миссис Персон и капитан Вестейбл, принял веревку, кинутую миссис Персон. Он приветливо кивнул Джереку и миссис Ундервуд, когда они выпрыгнули на пристань. — Ваши друзья уже внутри, — сказал он. Все четверо прошли по заросшей мхом скале к черным ровным стенам, обладающим теплым резиновым запахом. Миссис Ундервуд сняла свою шляпку и встряхнула короткими темными волосами, придающими ей мальчишеский вид. Грациозными движениями она коснулась стены в двух местах, заставив секцию скользнуть в сторону, чтобы впустить их. Они прошли внутрь. Перед ними находились несколько похожих на коробки зданий. Миссис Персон повела их к самому большому. Внутрь проникало немного света, но по всей окружности стены бежала постоянная полоска искусственного освещения. Земля была покрыта тем же самым слегка прогибающимся темным материалом, и у Джерека сложилось впечатление, что весь лагерь может быть сложен за несколько секунд и транспортирован как единый груз. Он представил себе Центр, как большой корабль времени, так как тот имел определенное сходство с машиной, в которой Джерек путешествовал в девятнадцатое столетие. Капитан Вестейбл встал сбоку от входа, пропустив сначала миссис Персон, затем миссис Ундервуд. Джерек был следующим. Там находились панели с приборами, экранами, мигающими индикаторами, — все примитивного очаровывающего вида, который Джерек ассоциировал с отдаленным прошлым. — Превосходно, — сказал он, — вы сделали его сливающимся с ландшафтом. — Благодарю вас, — сказала миссис Персон. — Гильдия хранит здесь информацию. Мы так же можем обнаруживать движение машины времени вдоль Мегапотока, как его иногда называют. Между прочим мы не засекли вашу. Вы прибыли сюда на машине? — Да. Она где-то на пляже, я думаю. — Мы ее не нашли. Капитан Вестейбл расстегнул молнию своего костюма. Под ним была надета простая военная форма серого цвета. — Возможно она была настроена на автоматическое возвращение, предложил он. — Или, если это была неисправность, она могла продолжить движение вперед, двигаясь хаотично, и тогда она находится сейчас где угодно. — Машина работала плохо, — информировала его миссис Ундервуд. — Мы, например, не собирались быть здесь совсем. Я буду более чем благодарна, капитан Вестейбл, если вы сможете найти какие-нибудь средства вернуть нас — по крайней мере меня — в девятнадцатое столетие. — Это было бы не трудно, — сказал он. — Останетесь ли вы там, или нет, — это другой вопрос. Если человек один раз путешествовал во времени, он всегда останется путешественником, как вы уже, наверное, знаете. Это наша судьба, не правда ли? — Я не имела представления… Миссис Персон положила руку на плечо миссис Ундервуд. — Среди нас имеются такие, кто обнаруживает, что ему легче оставаться в определенном столетии, чем во всех остальных. И есть века близкие к началу или конце времени, которые редко отвергают тех, кто хочет поселиться там. Пены, я считаю, имеют мало отношения к этому. Но разве это специальность Джеггета, и он, без сомнения, наскучил вам так же, как и нам, своими рассуждениями. — Никогда! — воскликнул Джерек. Миссис Персон поджала Губы. — Может вы хотите кофе? — сказал она. Джерек повернулся к миссис Ундервуд. Он знал, что она не откажется. — Великолепно, миссис Ундервуд. У нас здесь есть буфет. Теперь мы по-настоящему почувствуем себя дома!6. БЕСЕДЫ И РЕШЕНИЯ
Капитан Мабберс и его люди сидели в ряд на скамейке, пытаясь спрятать локти и коленки, выставленные напоказ с тех пор, как они уничтожили пижамы. Когда миссис Персон и миссис Ундервуд вместе с остальными вошли в комнату, они покраснели особенно сливовым цветом и отвели в сторону глаза. Инспектор Спрингер сидел сам по себе в шарообразном кресле, в котором его колени почти касались лица. Он попытался встать, когда вошли леди, и пролил кофе на свои брюки из бумажной чашки. Проворчав полупротест полуизвинение, он уселся снова. Капитан Вестейбл подошел к черной машине. — С молоком и сахаром? — спросил он миссис Ундервуд. — Благодарю, капитан Вестейбл. — Мистер Корнелиан? — капитан Вестейбл нажал какие-то кнопки. — Для вас? — Тоже самое, пожалуйста. — Джерек оглядел маленькую комнату отдыха. — Она не похожа на буфет в Лондоне, не так ли, капитан Вестейбл? — Буфеты? — Мистер Корнелиан имеет в виду ларьки с кофе, — объяснила миссис Ундервуд. — Я думаю, это его единственный опыт в отношении кофе в девятнадцатом столетии. — Его пьют везде? — Как чай, — сказала она. — Как несовершенно мое понимание вашего утонченного века, — Джерек принял бумажную чашку от капитана Вестейбла, который уже отдал миссис Ундервуд заказанную ею. Он отхлебнул с ожиданием. Вероятно они заметили его выражение разочарования. — Может вы предпочтете чай, мистер Корнелиан? — спросила миссис Персон. — Или лимонад? Или бульон? Он покачал головой, но улыбка его была слабой. — Я подожду пока с новыми экспериментами. Так много свежих впечатлений… Конечно, я знаю, все это кажется знакомым и скучным вам но для меня это чудесно. Погоня! Скорпионы! А теперь эти хижины! — он посмотрел на Латов. — Остальные трое, значит, еще не вернулись? — Остальные? — озадаченно спросил капитан Вестейбл. — Он имеет в виду тех, когосожрали скорпионы, — начала миссис Ундервуд. — Он верит… — Что они будут восстановлены! — и просветлела миссис Персон. Конечно. В конце Времени нет смерти, как таковой, — она сказала Джереку извиняющимся тоном. — Боюсь, у нас нет необходимой технологии, чтобы вернуть Латов к жизни, мистер Корнелиан. Кроме того, мы не обладаем мастерством. Если бы мисс Браннер или один из ее людей были на дежурстве но нет, даже тогда это было бы невозможно. Вы должны рассматривать своих Латов, как потерянных навечно. Как бы там ни было, вы можете найти утешение в том, что они, вероятно, отравили несколько скорпионов. К счастью, их так много, что равновесие природы не изменится заметно, и мы, таким образом, сохраним свои корни в Позднем Девоне. — Бедный капитан Мабберс, — сказал Джерек. — Он так старается и вечно терпит неудачу в своих планах. Возможно мы сможем создать ситуацию, в которой ему будет сопутствовать успех. Это поможет его моральному духу. Нет ли здесь чего-нибудь, что он может украсть, капитан Вестейбл? Или кого-нибудь, чтобы изнасиловать? — Боюсь здесь такого нет, — покраснел капитан Вестейбл. Миссис Персон улыбнулась и сказала: — Мы не очень хорошо оборудованы для развлечения космических путешественников, мистер Корнелиан. Но мы постараемся отправить их туда, откуда они пришли в ваш век, как можно ближе к их кораблю. И они снова в полное удовольствие будут грабить и насиловать! Капитан Вестейбл прочистил горло, Миссис Ундервуд изучала кушетку. Миссис Персон сказала: — Я забылась. Между прочим, капитан Вестейбл, миссис Ундервуд является почти вашей современницей. Он из 19О1 года. Не так ли, Освальд? Он кивнул. — Приблизительно. — Что озадачивает меня больше всего, — продолжала миссис Персон, это как много людей прибыло сюда в одно и то же время. Самое плотное движение во времени на моей памяти. И две партии без всяких машин какого-либо рода. Жалко, что мы не можем разговаривать с Латами. — Мы можем, если вы пожелаете, — сказал Джерек. — Вы знаете их язык? — Проще. У меня есть трансляционные пилюли. Я предлагал их прежде, но никто не заинтересовался. В кафе «Ройял», помните, инспектор? Инспектор Спрингер был так же мрачен, как и капитан Мабберс. Он, казалось, потерял интерес к беседе. Иногда особенное, полное жалости к себе хмыкание срывалось с его губ. — Я знаю эти пилюли, — сказала миссис Персон. — Они действуют независимо от ваших городов? — О, вполне. Я использовал их всюду. Они производят особого рода воздействия как я понимаю, на части мозга, имеющие дело с языком. Пилюля содержит в себе какие-то ингредиенты, но они целиком биологические, я уверен. Видите, как хорошо я говорю на вашем языке? Миссис Персон повернула взгляд к Латам. — Они могут дать нам больше информации, чем инспектор Спрингер? — Вероятно нет, — сказал Джерек. — Они все были перенесены сюда в одно и то же время. — Я думаю мы сохраним пилюли на крайний случай. — Простите меня, — сказала миссис Ундервуд, — если я кажусь назойливой, но я хотела бы знать наши шансы на возвращение в собственный период истории. — В вашем случае очень незначительные, миссис Ундервуд, — ответил капитан Вестейбл. — Я говорю от своего опыта. У вас есть выбор поселиться в каком-нибудь периоде своего будущего или «вернуться» в настоящее которое может оказаться радикально измененным, фактически неузнаваемым. Наши приборы воспринимают все виды разрывов флюктуаций, случайных всплесков в Мегапотоке, которые предлагают, что происходит более сильное, чем обычно искажение. Плоскости многообразия движутся в какую-то точку пересечения… — Это Слияние Миллиона Сфер, — сказала миссис Персон. — Вы слышали о нем? Джерек и миссис Ундервуд покачали головами. — Есть теория, что пересечение случаются, когда в многообразии происходит слишком много активности. Она предполагает, что Многообразие является конечным — что оно может содержать конечное число континуумов, и когда в перемещении во Времени вовлечены слишком много континуумов, происходит полная переорганизация. Многообразие приводит себя в порядок, если можно так выразиться. Миссис Персон направилась к выходу из комнаты. — Не хотите ли посмотреть какую-нибудь из наших операций? Инспектор Спрингер продолжал угрюмо размышлять о чем-то, а Латы были еще слишком смущены, чтобы двигаться, поэтому Амелия Ундервуд и Джерек Корнелиан последовали за хозяевами через короткий соединительный туннель в комнату, наполненную особенно большими экранами, на которых ярко раскрашенные демонстрационные модели двигались в трех измерениях. Самым замечательным было колесо с восемью стрелками, постоянно изменяющее свои размеры и форму. За консолью под этим экраном сидел низкий смуглый бородатый мужчина, иногда он протягивал руку и что-то регулировал. — Добрый вечер, сержант Глогер, — капитан Вестейбл наклонился над плечом мужчины и всмотрелся в приборы. — Какие изменения? — Хронопотоки три, четыре и пять показывают значительную аномальную активность, — сказал сержант. — Это соответствует информации Фаустафа, но противоречит его автовосстановительной теории. Посмотрите на зубец номер пять! — показал он на экран. — И это только грубое измерение. Мы не можем рассчитать факторы парадокса на этой машине, хотя это и не имеет смысла из-за скорости, с которой они увеличиваются. Такого рода всплески происходят повсюду. Это чудо, что мы не затронуты. Активности больше, чем мне бы хотелось. Я предложил бы общее предупредительное сообщение — чтобы каждый член Гильдии вернулся в сферу, место и столетие своего происхождения. Это может помочь стабилизации. Если только все происходящее имеет к нам вообще отношение. — Слишком поздно выяснять, — сказала миссис Персон. — Я все еще придерживаюсь теории пересечения. Но как затронет это нас, можно только гадать, — она пожала плечами. — Полагаю это может помочь поверить в перевоплощение. — Мне очень не нравится ощущение неуверенности, — сказал Глогер. Джерек внес в беседу свой вклад: — Они очень красивые. Напоминают мне о некоторых вещах, которые все еще могут делать гниющие города. Миссис Персон отвернулась от экрана. — Ваши города, мистер Корнелиан, почти так же недостижимы, как и само Время. Джерек согласился. — Они почти также стары, и как оно. Капитан Вестейбл оживился. — Что доказывает, что время само приближается к старости. Интересное сравнение. — Мы можем обойтись без метафор, — строго сказал ему сержант Глогер. — Это все что нам остается, — капитан Вестейбл позволил себе небольшой зевок. — Какие есть шансы доставить миссис Ундервуд и мистера Корнелиана в девятнадцатое столетие? — Стандартная линия? Капитан Вестейбл кивнул. — Почти нулевые в настоящий момент. Если они не возражают подождать… — Мы оба не хотим оставаться, — сказала миссис Ундервуд за них обоих. — Как насчет Конца Времени? — спросил Глогера капитан Вестейбл. — В точку отправления? — Более или менее. Сержант нахмурился, изучая окружающие экраны. — Очень хорошие. — Это подходит вам? — повернулся капитан Вестейбл к своим гостям. — Именно туда мы направлялись с самого начала, — сказал Джерек. — Тогда мы попытаемся сделать это. — А инспектор Спрингер? — совесть миссис Ундервуд заставила ее спросить об случайном попутчике. — А Латы? — Я думаю, мы будем иметь с ними дело по-отдельности. В конце концов они прибыли раздельно. Уна Персон потерла глаза. — Если бы были какие-нибудь средства связаться с Джеггетом, Освальд. Мы могли бы посовещаться. — Есть все шансы за то, что он вернулся в Конец Времени, — сказал Джерек. — Я охотно передам сообщение. — Да, — сказала она, — возможно, мы так и сделаем. Ладно, я предлагаю вам лечь спать сейчас, когда вы перекусили. Мы сделаем приготовления. Если все пойдет хорошо, вы сможете отправиться утром. Посмотрим, какая будет ситуация с энергией. Мы немного лимитированы, конечно. В сущности, это только наблюдательный пост и место встречи для членов Гильдии. Мы имеем очень мало лишнего оборудования или энергии. Но мы сделаем все, что можем. Покинув контрольную комнату, капитан Вестейбл предложил миссис Ундервуд свою руку. Она приняла предложение. — Полагаю, все кажется вам несколько прозаичным, — сказал он. — Я имею в виду, после чудес Конца Времени. — Вряд ли, — пробормотала она. — Я нахожу все здесь скорее обескураживающим. В Бромли моя жизнь казалась такой устроенной всего месяцев назад. Напряжение… — Вы выглядите усталой, дорогая Амелия, — сказал Джерек позади них. Его беспокоили знаки внимания, оказываемые капитаном Вестейблом. Она проигнорировала его. — Все эти передвижения во времени не могут быть полезными для здоровья, — сказала она. — Я восхищаюсь теми, кто выглядит таким спокойным, как вы, например, капитан. — Знаете, человек привыкает к этому, — он погладил ее ладонь. — Но вы переносите все тяготы просто чудесно, миссис Ундервуд, хотя это ваше первое путешествие в Палеозой. Она была польщена. — У меня есть утешение, — сказала она. — Мои молитвы и тому подобное. И мой Уэлдрейк. Вы знакомы с поэмами Уэлдрейка, капитан Вестейбл? — Когда я был юношей, и их только и читал. Он может быть очень подходящим, я понимаю вас. Она подняла голову и, когда они пошли по этому черному упругому коридору, начала читать медленно, плавным голосом:7. НА ПУТИ К КОНЦУ ВРЕМЕНИ
— Капсула не имеет своего источника энергии, — объясняла Уна Персон. Утренний свет проникал через отверстие в стене над ними, когда все четверо стояли перед прямоугольным предметом, достаточно большим для двух человек и напоминающим, как отметила перед этим миссис Ундервуд, паланкин. — Мы будем управлять ею отсюда. Она в самом деле, безопаснее чем любой другой вид машины времени, так как мы можем наблюдать за Мегапотоком и избегать больших разрывов. Мы удержим вас на курсе, не бойтесь. — И обязательно напомните лорду Джеггету, что мы будем рады его совету, — добавил капитан Вестейбл. Это было большим удовольствием, мадам, — он отдал салют. — Для меня тоже было удовольствием встретить джентльмена, — ответила она. — Благодарю вас, сэр, за вашу доброту. — Не пора ли отправляться? — оживленность Джерека была напускной. Уна Персон казалось, радовалась чему-то своему. Она взяла за руку Освальда Вестейбла и прошептала ему в ухо. Он покраснел. Джерек забрался в ящик со своей стороны. — Если есть что-нибудь, что я могу послать вам с Конца Времени, дайте мне знать, — окликнул он. — Мы должны поддерживать контакт. — В самом деле, — сказала она, — в конце концов, все, что мы, путешественники во времени, имеем, это друг друга… Расспроси Джеггета о Гильдии. — Я думаю, мистер Корнелиан удовлетворен своими путешествиями во Времени, миссис Персон, — улыбнулась Амелия Ундервуд, и ее отношение к Джереку было каким-то собственническим, что еще больше сбивало с толку Джерека. — Иногда, раз мы начали заниматься этим, нам не позволено остановиться, — сказала уна Персон, — Надеюсь, вам повезет устроиться на одном месте, если вы хотите этого. Им пришлось повышать голос, так как громкий гул наполнил воздух. — Мы лучше отойдем, — сказал капитан Вестейбл. — Иногда бывает шоковая волна из-за вакуума, знаете ли, — он повел миссис Персон к большой хижине. — Капсула сама найдет нужный уровень, не бойтесь на этот счет. Вы не утонете, не сгорите и не задохнетесь. Джерек смотрел как они удаляются. Гул становился все громче и громче. Его спина прижималась к спине миссис Ундервуд. Он повернулся, чтобы спросить удобно ли ей, но прежде чем спросить, наступила полная тишина. Голова вдруг стала легкой. Он посмотрел на миссис Персон и капитана Вестейбла, но они куда-то исчезли, и смутный мерцающий призрак черной стены можно было заметить еле-еле. Наконец он тоже исчез, и его заменила листва. Что-то огромное, тяжелое и живое двигалось к ним, проплыло сквозь них и исчезло. Жара и холод стали невыносимыми и слились в одно ощущение. Сотни цветов возникали и исчезали, но они были бледными и размытыми. В воздухе, которым он дышал, чувствовалась сырость, легкие уколы боли пробежали по всему телу, и прошли прежде, чем его мозг сигнализировал о их присутствии. Гулкие звуки медленные, глубокие, возникали в его ушах. Он раскачивался вверх и вниз, он качался в бок, как если бы капсула была подвешена на проволоке подобно маятнику. Он чувствовал ее теплое тело, прижатое к его плечам, но не мог услышать ее голос и не мог повернуться, чтобы увидеть ее, так как движение требовало вечности, чтобы обдумать и совершить его будто он весил тонны, будто его масса была распростерта на мили пространства и годы времени. Капсула наклонилась вперед, но он не упал с кресла, что-то вдавливало его в него, держало его. Серые волны омывали его, красные лучи перекатывались от пальцев ног до головы. Кресло начало вращаться. Он услышал свое имя или что-то вроде этого, произнесенное высоким насмешливым голосом. Слова зазвучали над ним, все слова его жизни. Он вздохнул и будто Ниагара проглотила его. Он вздохнул и раздался гром Везувия. Чешуя скользила по его щеке, и мех наполнил его ноздри, и плоть трепетала близко от его губ, и трепетали нежные крылья, и дули великие ветры. Он был пропитан соленым дождем (он стал Историей Человека, он стал тысячью теплокровных зверей, он познал невыносимое спокойствие). Он стал чистой болью и был Вселенной полной большими танцующими звездами. Его тело начало петь в отдалении: — Мой дорогой… мой дорогой… мой самый дорогой… Это Амелия? Его глаза были закрыты, он открыл их. — Мой дорогой! Но нет, он мог двигаться, он мог повернуться и увидеть, что она уронила голову, на грудь бесчувственная. Вокруг все еще плавали бледные цветы, постепенно исчезая. Зеленые дубы окружали покрытую травой поляну, холодный солнечный свет касался листьев. Он услышал звук. Она вывалилась из капсулы и лежала, растянувшись лицом вверх, на земле. Он выбрался со своего сидения, его ноги дрожали. Он подошел к ней. В этот момент капсула издала пронзительный звук и исчезла. — Амелия, — он коснулся мягких волос, погладил милую шею, поцеловал рубашку из-под разорванного рукава платья. — О, Амелия! Ее голос был еле разборчив. — Даже такие обстоятельства, мистер Корнелиан, не дают вам права на вольности. Я не без сознания, — она повернула голову, чтобы ее спокойные серые глаза могли видеть его. — Просто обморок. Где е мы? — Почти определенно, в Конце Времени. Это деревья знакомой работы, он помог встать ей на ноги. — Я думаю, это место где мы в первый раз встретили Латов. Было бы логично вернуть меня сюда, так как убежище Няни находится недалеко отсюда, — он уже рассказывал ей о своих приключениях. Корабль Латов, вероятно так же неподалеку. Она занервничала. — Не поискать ли нам ваших друзей? — Если они вернулись. Помните в прошлый раз мы видели их в Лондоне в 1896 году? Они исчезли, но вернулись ли сюда? Почти наверняка Эффект Морфейла послал их домой — но мы знаем, что теория Браннарта неприменима ко всем феноменам, связанным со временем. — Дальнейшие рассуждения не помогут нам, — указала она. — У нас еще остались кольца власти? Он был впечатлен ее здравым смыслом. — Конечно! — он погладил рубин, обратив три дуба в большую копию моторной лодки Палеозоя, но из прозрачного нефрита. — Мое ранчо ждет нас, отдых или еда, все, что мы пожелаем! — он поклонился когда она направилась к лодке. — Вы не считаете винт из драгоценного камня вульгарным? — ему хотелось заслужить похвалу. — Он милый, — ответила она сдержанно. Со значительным достоинством она вошла в экипаж. Там имелись скамейки, обитые золоченой тканью. Она выбрала одну в центре судна. Джерек устроился на корме. Взмах руки и лодка начала подниматься. Он засмеялся, снова став самим собой. Он был Джерек Корнелиан, сын женщины, любимец этого Мира, и с ним была его любовь. — Наконец-то! — воскликнул он, — наши напасти и приключения подошли к концу. Дорога была утомительной и долгой, но все же в конце мы найдем наш маленький коттедж с котом и чайником, сливками, печеньем и сладостями. О, моя дорогая Амелия, ты будешь счастлива! Все еще сидя в напряженной позе, она была скорее позабавлена, чем оскорблена его словами. Ей, казалось, доставляло удовольствие узнавать ландшафты, проносящиеся внизу, и она не упрекала его за использование своего христианского имени, ни за его предложения, которые были, конечно, несообразными. — Я знал это! — пел он. — Вы научитесь любить Конец Времени. — Он имеет определенную привлекательность, — признала она, — после Позднего Девона.8. ВСЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ВЕРНУЛИСЬ; ПРАЗДНИК
Нефритовый аэрокар достиг ранчо и парил в воздухе. — Вы видите, — сказал Джерек, — оно почти такое, каким вы в последний раз видели его, когда вас оторвало от меня и унесло назад сквозь время. Оно сохраняет все черты, которое предложили вы, знакомый комфорт вашего собственного дорогого времени Рассвета. Вы будете счастливы, Амелия. И все, что вы пожелаете, будет вашим. Помните — мое знание ваших нужд, вашего века намного глубже теперь. Вы не будете считать меня таким наивным, как когда я ухаживал за вами. Кажется это было так давно! — Он такой же, — сказала она, и ее голос был печален. — Но мы — нет. — Я более зрелый, — согласился он, — лучший партнер для вас. — О! — улыбнулась она. Он почувствовал двусмысленность. — Ведь вы не любите другого? Капитан Вестейбл… Она сделала лукавое выражение на лице. — Он джентльмен с превосходными манерами. И его осанка — такая военная… — но ее глаза смеялись при этих словах. — Пара, которую одобрила бы любая мать. Не будь я уже замужем, мне позавидовали бы в Бромли — но я уже замужем, конечно, за мистером Ундервудом. Джерек заставил опуститься аэрокар по спирали к розовым клумбам, которые он создал для нее, и сказал с некоторой нервозностью: — Он сказал, что… «разделит» вас! — Даст развод. Я должна появиться в суде — за миллион лет отсюда. Кажется (отвернувшись, чтобы он не мог увидеть ее лицо), я никогда не буду счастливой. — Свободной? Свободной? Ни одна женщина не была когда-либо более свободной. Здесь триумф человечества — завоеванная природа — все желания могут быть исполнены, и врагов никаких. Вы можете жить как хотите. Я буду служить вам. Ваши капризы будут моими, дражайшая Амелия! — Но моя совесть, — сказала она. — Могу я быть свободной от этого? Его лицо помрачнело. — О, да, конечно, ваша совесть. Я забыл про нее. Вы, значит не оставили ее в раю? — Там? Где я имела самую большую нужду в ней? — Я думал вы полагали иначе. — Тогда прокляните меня как лицемерку. Все женщины таковы. — Вы противоречите себе и явно без какого-либо удовольствия. — Ха! — она первая покинула экипаж. — Вы отказываетесь обвинить меня, мистер Корнелиан? Не хотите играть в эту старую игру? — Я не знал, что это была игра, Амелия. Вы встревожены? Ваши плечи говорят об этом. Я сконфужен. Она обернулась к нему, ее лицо смягчилось. Недоверие в глазах быстро исчезало. — Не обвиняете ли вы меня в женственности? — Все это бессмысленно. — Тогда, возможно, здесь есть какая-то степень свободы, связанная со всеми вашими жестокостями в Конце Времени. — Жестокостями? — Вы держите рабов. Походя уничтожаете все, что наскучило вам. Разве у вас нет сочувствия к этим путешественникам во времени, которых вы пленили. Разве я так же не была захвачена… и помещена в зверинец? И Юшарисп хотел купить меня. Даже в моем веке такое варварство запрещено! Он принимал ее упреки склонив голову. — Тогда вы должны научить меня, как будет лучше, — сказал он. — Это и есть «мораль»? Она вдруг была ошеломлена величиной своей ответственности. Спасение она принесла в Парадиз, или просто вину? Она колебалась. — Мы обсудим это со временем, — сказала она ему. Они направились по извилистой мощеной тропе между низкими заборчиками из кустарников. Ранчо-репродукция в готическом виде ее идеала библейской виллы — ждало их. Пара попугаев примостилась на дымовых трубах, они, казалось, высвистывали приветствие. — Он такой, каким вы оставили его, — сказал Джерек с гордым видом. Но в другом месте я построил для вас «Лондон», чтобы вы не тосковали по дому. Вам нравится ранчо? — Оно такое, каким я помню его. Он понял, что в ее тоне слышалось разочарование. — Вы сравниваете его сейчас с оригиналом, полагаю. — Он, в основном, соответствует оригиналу. — Но остается «просто кожей», да? Покажите мне… Она достигла крыльца, провела рукой по крашенным доскам, приласкала цветущую розу (из которых ни одна не завяла с тех пор, как она исчезла). — Это было так давно, — пробормотала она. — Я тогда нуждалась в чем-то знакомом. — Вы не нуждаетесь в этом теперь? — О, да. Я человек. Я женщина. Но, возможно имеются другие вещи, которые значат больше. Я чувствовала, в те дни, что была в аду мучимая, презираемая, гонимая — в компании безумца. У меня не было перспективы. Он открыл дверь с цветными стеклянными панелями. Горшки с цветами, картины, персидские ковры открылись в сумерках холла. — Если имеются дополнения… — начал он. — Дополнения! — она немного оживилась, осматривая холл недовольным взглядом. — Не нужно, я думаю. — Слишком загромождено? — он закрыл дверь и приказал зажечься свету. — Дом мог быть больше. Больше окон, может быть, больше солнца, больше воздуха. Он улыбнулся. — Я могу убрать крышу… — Вы в самом деле можете! — она принюхалась. — Хотя здесь не так затхло, как я предполагала. Сколько времени вас здесь не было? — Трудно сказать. Это можно узнать только поговорив с нашими друзьями. Они узнают. Мой диапазон запахов сильно расширился, с тех пор как я посетил 1896 год. Я согласен, что был слаб в этой области. — О, все в порядке, мистер Корнелиан. Пока, во всяком случае. — Вы не можете сказать, что вас тревожит? Она ласково посмотрела на него. — Вы обладаете чувствительностью, о которой я никогда не подозревала по вашему поведению. — Я люблю вас, — сказал Джерек просто, — Я живу для вас. Она покраснела. — Мои комнаты такие же, как я оставила их? Мой гардероб остался нетронутым? — Все там. — Тогда мы увидимся за ленчем, — она начала подниматься по лестнице. — Он будет готов для вас, — пообещал Джерек. Он вошел в переднюю гостиную, смотря через окно на приятные зеленые холмы, механических коров и овец с механическими ковбоями и пастухами, все тщательно воспроизведенное, чтобы она чувствовала себя как дома. Он признавал в душе, что ее реакция обескураживала его. Будто она потеряла вкус к выбранному ею самой окружению. Он вздохнул. Казалось, было так легко, когда ее идеи были определенными. Сейчас, когда она сама не могла их конкретизировать, он был в растерянности. Салфетки, тяжеловесная мебель, красные, черные и желтые коврики с геометрическими узорами, фотографии в рамках, растение с толстыми листьями, гармония, с помощью которого она облегчала свое сердце — все теперь (потому что казалось, она не одобрила это) обвиняло его, как грубияна, не могущего доставить удовольствие какой-либо женщине, не говоря уже о самой прекрасной из когда-либо живших. Все еще в запачканных лохмотьях своего костюма девятнадцатого века, он опустился в кресло, положил голову на руки и задумался над иронией ситуации. Не так давно он сидел в этом доме с миссис Ундервуд и предлагал различные улучшения. Она запретила различные изменения. Потом она исчезла, и все, что осталось от нее — был сам дом. Как заменитель ей он полюбил этот дом. Теперь она предложила улучшения (почти такие же, как, в свое время, предлагал он) и Джерек почувствовал глубокое нежелание изменять даже один пальмовый горшок, даже один буфет. Ностальгия по тем временам, когда он ухаживал за ней, а она пыталась учить его смыслу положительных достоинств человека, когда они вместе пели гимны по вечерам (именно она настояла на часовом распорядке дня и ночи, которые знали в Бромли) заполнила его — и вместе с ностальгией пришло ощущение, что его надежды обречены. На любой стадии, когда она была близка к признанию своей любви к нему, готова была отдать себя ему, ей что-нибудь мешало. Почти как если бы Джеггет наблюдал за ними, намеренно манипулируя каждой деталью их жизни. Легче думать так, чем принять идею о настроенной против них Вселенной. Он поднялся с кресла и с выражением покорности судьбе (она всегда настаивала, чтобы он следовал ее удобствам) создал дыру в потолке, через которую мог попасть в свою собственную комнату, оазис белого, золотого и серебряного цветов. Он восстановил пол и с помощью рубинового кольца очистил свое тело от грязи Палеозоя, поместил на себя вздымающуюся накидку из меха паутинки, повеселел, когда осознал, что его старое могущество (и, следовательно, старая невинность) вновь вернулись к нему. Он потянулся и засмеялся. Многое можно было сделать и сказать в пользу жизни во власти элементов природы, подчиняться обстоятельствам, которые нельзя контролировать, но было приятно вернуться, почувствовать свою личность ничем не стесненной. Он знал, что он может создать еще лучшие развлечения, чем он уже дал своему миру. Он почувствовал потребность в компании, в старых друзьях, которым мог рассказать о своих приключениях. Вернулась ли его мать, величественная Железная Орхидея, в Конец Времени? Был ли герцог Королев таким же вульгарным, как всегда, или опыт научил его вкусу? Джерек захотел узнать все новости. Он покинул комнату и начал пересекать лестничную площадку, загроможденную китайскими розами, фарфоровыми фигурками и цветами. Его изумрудное кольцо власти создало для него нежные запахи папоротников Позднего Девона, улиц девятнадцатого столетия, океана и лугов. Его шаг становился все легче, когда он спустился по лестнице в столовую. — Все вещи яркие и красивые, — пел он, — все создания, большие и малые… Поворот его янтарного кольца, и ему начал аккомпанировать невидимый оркестр. Аметиста-и павлин за шагал сзади него, полностью раскинув перья. Он прошел мимо вы шитого изречения, которое все еще не мог прочитать, но она говорила ему, что смысл его (если это был смысл!): «Что значат эти камушки?» Его накидка из меха паутинки начала цепляться за орнаменты по сторонам лестницы. Не чувствуя никакой вины, он чуть-чуть расширил ступеньки, чтобы проходить более спокойно. Столовая, темная, с тяжелыми шторами и коричневой, мрачной мебелью помогла его настроению только на секунду. Он знал, что она однажды заказала частично обожженную плоть животного, почти безвкусные овощи, но решил пренебречь этим. Раз она больше не диктовала своих желаний, он предложил ей снова что-нибудь по своему выбору. Стол расцвел экзотическими блюдами. Память об их недавних приключениях — сахарный скорпион, мерцающий в центре стола, пара прозрачных малиновых желе в виде двухфунтового инспектора Спрингера. Несколько оживленных марципановых коров и овец (чтобы удовлетворить ее потребности в фауне), пасущихся, в миниатюре, у ног инспектора. И повсюду желтые, липовые и пурпурные заросли из печенья. Нетипичный стол, так как Джерек всегда ограничивался двумя-тремя расцветками, но веселый по виду, что, он надеялся, она оценит. Золотистые горки горчицы, дымящиеся сосиски, пироги дюжины расцветок, хрустальные чаши — кокаин в голубой, героин в серебряной, сахар в черной пирамиды овсяной каши — блюда для любого настроения, удовлетворяющие любой аппетит. Он отошел назад, довольно ухмыляясь. Все было незапланированным, стол был переполнен, но он имел определенный размах, и Джерек чувствовал, что миссис Ундервуд оценит его старания. Он ударил в висящий поблизости гонг. Она уже стояла почти на лестнице. Войдя в комнату она воскликнула: — О! — Леди, моя милая Амелия. Боюсь, все свалено в кучу, но вполне съедобно. Она разглядела маленьких марципановых животных. Джерек просиял. — Я знал, что они понравятся вам. А инспектор Спрингер, он забавляет вас? Ее пальцы прижались к губам, подавляя восклицание. Грудь поднялась и медленно опустилась, она покраснела почти так же как желе. — Вы недовольны? Она согнулась, задыхаясь. Он дико огляделся вокруг. — Что нибудь ядовитое? — О, ха, ха… — она выпрямилась, держа руки на бедрах. О, ха, ха, ха! Он расслабился. — Вы смеетесь, — Джерек отодвинул назад ее кресло, как она раньше учила его делать. Миссис Ундервуд опустилась в него, все еще трясясь от смеха. — О, ха, ха… Он присоединился к ней. — Ха, ха, ха, ха… Именно в этот момент, прежде, чем они положили хотя бы кусочек в рот, их застала Железная Орхидея. Они увидели ее в дверях спустя некоторое время. Она улыбалась. — Дорогой Джерек, чудо моего чрева! Удивительная Амелия, несравненная предшественница! Вы прячетесь от нас? Или только что вернулись? Если так, то вы последние. Все путешественники уже здесь, даже Монгров. Он возвратился из космоса мрачнее чем прежде. Мы разговаривали, ожидая вашего возвращения. Джеггет был здесь, сказал, что послал вас сюда, но прибыла только машина без пассажиров. Некоторые считали — Браннарт Морфейл в частности — что вы затерялись в каком-нибудь примитивном веке и погибли. Я не верила, естественно. Был разговор сперва об экспедиции, но из этого ничего не вышло. Сегодня миледи Шарлотина распустила слух о флуктуации приборами Браннарта была зарегистрирована машина времени на секунду или две. Я знала, что это должны быть вы! В качестве своего основного цвета она выбрала красный. Ее малиновые глаза сияли материнской радостью по поводу возвращения ее сына. Колечки красных волос обрамляли ее лицо, макового цвета плоть, казалось, вибрировала от удовольствия. Когда она двигалась, ее пластиковая накидка цвета пурпура немного потрескивала. — Вы знаете, мы должны устроить праздник. Этакую вечеринку, чтобы услышать новости Монгрова. Он согласился придти. И Герцог Королев, Епископ Касл, миледи Шарлотина — мы все будем там, чтобы рассказать свои истории. А теперь ты и миссис Ундервуд? Где вы были бродяги? Где вы прятались здесь или искали приключений через всю историю? Миссис Ундервуд сказала: — у нас были утомительные переживания, миссис Корнелиан, и я думаю… — утомительно? Миссис Что? Утомительное? Я не вполне понимаю значения этого слова. Но миссис Корнелиан — это великолепно. Я никогда не думала… да, великолепно. Я должна сказать Герцогу Королев, — она направилась к двери, — Не буду прерывать вас дальше. Темой праздника будет, конечно, 1896 год, жест в сторону миссис Ундервуд. — И я знаю, что вы оба превзойдете себя! Прощайте! Миссис Ундервуд с мольбой обратилась к Джереку: — Мы не пойдем? — Мы должны! — От нас ждут этого? Он познал тайную радость от собственного хитроумия. — О, действительно, ждут, — сказал он. — Тогда, конечно, я пойду с вами. Он оглядел ее накрахмаленное белое платье, заколотые каштановые волосы. — И самое замечательное, — сказал он, — если вы пойдете как есть, чистота вашего облика затмит всех остальных. Она отломила веточку от сахарного кустика.9. ПРОШЛОМУ ОТДАНО ПРЕДПОЧТЕНИЕ, БУДУЩЕЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
Сперва нефритовый аэрокар низко летел над широкой зеленой равниной, затем появились просеки, размещенные, чтобы их входы образовывали полукруг, каждая просека вела к центру. Аэрокар выбрал одну из них. Кипарисы, пальмы, клены, сосны, деревья необычной формы мелькали по обеим сторонам — их разнообразие говорило о том, что Герцог Королев не потерял своего вульгарного вкуса (сделал ли теперь он по другому, подумал Джерек). Впереди появилось сооружение, но прежде они услышали музыку, а потом уже смогли различить детали. — Вальс? — закричала миссис Ундервуд (она отвергла голубое платье ради красивого голубого шелка, белых кружев пары оборочек вокруг бюста и шляпы диаметром в два фута по кромкам полей, на руках кружевные перчатки, а в них — бело-голубой солнечный зонтик). — Это Штраус, мистер Корнелиан. В твидовом костюме, который она помогла ему соорудить, Джерек сидел откинувшись, на сидении с лицом, наполовину затененным кепи. Одной рукой он перебирал цепочку часов, другой поддерживал пеньковую трубку, которую она сочла подходящей для него. («Более мужественный, более зрелый вид», пробормотала она с удовольствием после того, как башмаки оказались на его ногах и был подыскан жилет. — «Вашей фигуре позавидовали бы всюду». И тут она немного смутилась.) Он покачал головой. — Я никогда не был знаком с ранним примитивизмом. Лорд Джеггет оценил бы. Надеюсь, он там. — Он был довольно ворчлив при нашем отъезде, — сказала она. Возможно он жалеет об этом сейчас, как никогда. Я помню как однажды, брат девушки, которую я знала по школе, составил нам компанию все каникулы… Я думала, что не понравлюсь ему. Он казался недовольным. Под конец он отвез меня на станцию, был молчалив, даже мрачен. Я чувствовала себя неловко, что являюсь обузой для него. Я вошла в поезд, он остался на платформе. Когда поезд тронулся, он побежал рядом с ним. Он знал, что, вероятно, никогда больше не увидит меня снова. Он был красным, как малина, когда выкрикнул прощальные слова, — она стала изучать серебряный кончик своего зонтика. Джерек видел на ее губах мягкую улыбку — все, что он мог видеть на ее лице, закрытом полями шляпы. — Его слова? — О! — она взглянула на него мгновенными веселыми глазами. — Он сказал: «я люблю вас, мисс Орегонт!» — вот и все. Он мог открыться только когда знал, что я не предстану перед ним снова. Джерек засмеялся. — И, конечно, шутка состояла в том, что вы не были этой мисс Орегонт. Он перепутал вас с кем-то другим? Его удивило, почему и тон, и выражение ее лица вдруг изменились, хотя она казалось оставалась веселой. Она обратила свое внимание к зонтику. — Моя девичья фамилия была Орегонт, — сказала она. — Когда мы выходим замуж, мы берем фамилию нашего суженного. — Великолепно! Тогда я могу однажды стать Джереком Ундервуд? — Вы дьявольски хитры в методах преследования своих целей, мистер Корнелиан. Но меня не поймать так легко. Нет, вы не станете Джереком Ундервуд. — Орегонт? — Мысль забавная, даже приятная, — она оборвала себя, — даже самый ярый радикал никогда не предлагал, к моему сожаленью, такие изменения! улыбаясь, она проговорила: — О дорогой! Какие опасные мысли вы внушаете в своей невинности! — Я не обидел вас? — Когда-то вы могли сделать такое. Меня шокирует то, что я не шокирована. Какой плохой женщиной я оказалась бы сейчас в Бромли! Он с трудом понимал ее, но не беспокоился об этом. О кинувшись на спинку кресла, он заставил трубку светиться (она не могла объяснить ему, как сделать, чтобы трубка дымилась). Джерек радовался солнечному сиянию, которое устроил Герцог, небу, соответствующему цвету платья его возлюбленной. В других просеках виднелись аэрокары, тоже спешившие к центру. Джерек коснулся ее руки. — Вы узнаете это, Амелия? — Оно невероятно огромное, — край ее шляпы поднимался все выше и выше, кружевная перчатка коснулась подбородка. — Смотрите, оно исчезает в облаках! Она не узнавала. Джерек намекнул: — Но если бы пропорции были меньше… Она склонила голову к плечу, все еще всматриваясь ввысь. — Какое-то американское здание? — Вы были там. — Я? — Оригинал находится в Лондоне. — Не кафе «Ройял»? — Разве вы не видите? Он взял декор от кафе «Ройял» и добавил его к вашему Скотланд-Ярду. — Штаб-квартира полиции с красными плюшевыми стенами!… — Герцог почти приблизился к простоте. Не кажется ли вам оно невыразительным? — Тысяча футов высотой! Это самый длинный отрез плюша, мистер Корнелиан, который я когда-либо могла видеть! А что там, на крыше, облака сейчас разошлись, — более темная масса? — Черная? — Голубая, я думаю. — Купол. Да, шляпа, какую носят полицейские. Она, казалось, задохнулась от изумления. — Конечно… Музыка становилась все громче. Миссис Ундервуд была озадачена. — Не слишком ли медленно, немного растянуто для вальса? Как если бы его играли на тех индийских инструментах, или это арабские инструменты? Во всяком случае, очень похоже на восток. К тому же, слишком высокие звуки. — Записи взяты в одном из городов, несомненно, — сказал Джерек. — Они старые, вероятно, испорченные. Значит, они не подлинные? — Нет, они не из моего времени. — Вы лучше не говорите это Герцогу. Это разочарует его, не не так ли? Она пожатием плеч согласилась. — Музыка имеет довольно раздражающий эффект. Надеюсь она не будет продолжаться весь вечер? Вы не знаете, какие инструменты использованы? — Электроника, или тому подобные разные методы воспроизведения звука. Вам лучше знать… — Не думаю. — А-а… Возникла некоторая неловкость и, какое-то время, оба старались найти новый предмет для разговора и восстановить настроение расслабленности, которыми они наслаждались до этого момента. Впереди в основании здания находился широкий темный проход, и в него влетали другие аэрокары причудливые экипажи различного вида, большинство основаны на технологии и мифологии Эпохи Рассвета: Джерек видел лошадь с медными ногами, делающую механическое галопирование в воздухе модель в виде буквы «Т», ее владелец сидел в месте пересечения длинного вертикального бруса с коротким горизонтальным. Некоторые экипажи двигались со значительной скоростью. другие летели более тихо, как, например, большой серо-белый экипаж — ничто иное, как автомобиль, девятнадцатого века. — Кажется присутствует весь свет, — сказал Джерек. Она поправила кружева на своем платье. Музыка изменилась, их окружили звуки медленных взрывов и чего-то, ползущего по песку, когда их аэрокар влетел в огромный холл с арочным потолком. Разодетые фигуры плыли от своих экипажей к дверям в холл выше этажом. Их голоса вызывали громкое эхо в зале. — Королевский вокзал просто карлик перед этим залом! — воскликнула миссис Ундервуд. Она восхищалась разноцветной мозаикой на стенах и арках потолка. — Трудно поверить, что это здание не существовало столетия. — В некотором смысле, да, — сказал Джерек. — В памяти Городов. — Оно было сделано одним из ваших городов? — Нет, но совет городов спрашивается в таких случаях. Хотя они сильно одряхлели, они, все же, помнят еще многое из истории нашей расы. Вам знаком внутренний интерьер? — Больше всего он напоминает свод готического собора, увеличенного во много раз. Не думаю, чтобы я знала оригинал, если он существует. Вы не должны забывать, мистер Корнелиан что я не эксперт. Многие аспекты моего собственного мира, большинство его районов неизвестны для меня. Я вела в Бромли спокойную жизнь, и мир там очень мал, — она вздохнула, когда они покинули аэрокар. — Очень мал, — повторила она почти неслышно. Она поправила шляпу и вскинула голову в манере, восхищающей Джерека. В этот момент она казалась более полной жизни и меланхолии, чем он когда либо видел ее. Джерек поколебался долю секунды, прежде чем предложил ей свою руку, но она взяла ее с готовностью, улыбаясь, ее печаль прошла, и вместе они поднялись к дверям наверху. — Вы рады теперь, что пришли? — пробормотал он. — Я решила веселиться, — сказала она ему. Тут она судорожно вздохнула от изумления, не ожидая той сцены, которую увидела, когда они во шли. Все здание было заполнено нераздельными этажами, а плавающими платформами и галереями, поднимающимися все выше и выше, и в этих галереях и на платформах стояли группы людей, беседуя, танцуя, ужиная, а другие группы или отдельные люди плыли по воздуху от одной платформы до другой. Высоко высоко над ними самые далекие фигурки были настолько крошечными, что фактически их нельзя было увидеть. Свет искусно обеспечивал и яркость, и тень, почти неуловимо изменяясь все время, цвета были насыщенными, любого возможного оттенка и тона, дополняя костюмы гостей, диапазон которых простирался от самых простейших, до самого гротескного. Возможно, благодаря какой-то искусной манипуляции акустикой зала, звуки голосов понижались и повышались волнообразно, но никогда не были настолько громкими, чтобы заглушить какую-либо отдельную беседу, и миссис Ундервуд они казались оркестрированными, гармонично сведенными в общий, бесконечно разнообразный хор. Здесь и там вдоль стен стояли леди, и их тела были расположены под прямым углом к телам большинства остальных, так как они использовали кольца власти, чтобы отрегулировать собственное поле тяготения по своему вкусу, изменив измерение зала таким образом (по крайней мере для собственного восприятия), что высота его стала длиной. — Все это напоминает мне средневековую живопись, — сказала она. Итальянскую, наверно? О небесах?… хотя перспектива лучше, — она поняла что лепечет что-то невразумительное и умолкла со вздохом, глядя на Джерека с выражением удивления собственной растерянностью. — Значит вам нравится? — он видел, что ей не скучно. — Это чудесно! — Ваша мораль не обижена? — Сегодня мистер Корнелиан, я решила оставить всю свою мораль дома,она снова засмеялась над собой. — Вы красивее чем когда-либо, — сказал он ей. — Вы просто прелестны. — Тише, мистер Корнелиан. Вы делаете меня самодовольной. Наконец-то я чувствую себя сама собой. Дайте порадоваться этому. Я разрешу, улыбнулась она, — случайный комплимент, но буду благодарна, если вы отложите страстные выражения на этот вечер. Он поклонился, разделяя ее веселое настроение. — Очень хорошо. Но она стала богиней, и он не мог не удивляться. Она всегда была прекрасной в его глазах и достойной восхищения. Он обожал ее за ее мужество, за ее сопротивление влиянию его собственного мира. Сейчас она, казалось, выступает в единственном числе против общества, которое несколькими месяцами прежде угрожало проглотить и уничтожить ее личность. В ее позе была решимость, легкость, чувство уверенности, объявляющее любому то, что всегда чувствовал в ней — и он гордился, что его мир увидит в ней женщину, какой он ее знал, в полном командовании собой и ситуацией. И, так же, между ними существовало взаимное понимание, тайное знание ресурсов характера, из которых она черпала силы, чтобы достичь этой власти. В первый раз он осознал силу любви к ней и, хотя он всегда знал, что она любит его, он был уверен, что ее эмоции так же сильны, как и его собственные. Подобно ей, ему не требовалось никаких деклараций — ее поза сама по себе была достаточной декларацией. Вместе они поднимались вверх. — Джерек! Это была госпожа Кристия, Вечная Содержанка, одетая почти в прозрачные шелка. Она позволила своему телу пополнеть, ее конечности округлились, и она казалась чуточку, но приятно, пухлой. — Это наверно Амелия? — с просила она о миссис Ундервуд и посмотрела на них обоих для подтверждения. Миссис Ундервуд улыбнулась в знак согласия. — Я слышала о всех ваших приключениях в девятнадцатом столетии. Я, конечно, очень завидую вам, так как этот век кажется чудесным и как раз такой, какой бы я хотела посетить. Этот костюм не мое изобретение. Миледи Шарлотина собиралась использовать его но подумала, что он больше подходит мне. Он подлинный, Амелия? — она крутанулась в воздухе как раз над их головами. — Греческий?… — заколебалась Амелия Ундервуд, не желая возражать. Он превосходно поможет вам. Вы выглядите милой. — Меня приветствовали бы в вашем мире? — О, определенно. Во многих слоях общества вы были бы центром внимания. Госпожа Кристия просияла и наклонилась, чтобы мягкими губами поцеловать щечку миссис Ундервуд, бормоча негромко: — Вы конечно, сами выглядите чудесно. Вы сделали это платье или перенесли его с собой из Эпохи Рассвета? Это, должно быть, оригинально. — Оно было сделано здесь. — Все равно оно прекрасно. У вас есть преимущество перед нами всеми. И ты, Джерек, тоже выглядишь настоящим Джентльменом, героем Эпохи Рассвета. Такой мужественный, такой желанный. Рука миссис Ундервуд чуть сжалась на локте Джерека. Тот пришел почти в экстаз. Но госпожа Кристия тоже была чувствительна. — Я не одна завидую вам, Амелия, сегодня, — она позволила себе подмигнуть, — Или Джереку, — она взглянула поверх них. Вот наш хозяин! Герцог Королев был солдатом во время своего короткого пребывания в 1896 году. Но никогда еще не было туники настолько глубоко красной, как та, которая была надета на него, и пуговицы были самыми золочеными, и эполеты самыми яркими, и пояс и сапоги настолько зеркально-блестящими. Его перчатки были белыми, а одна рука покоилась на эфесе шпаги, украшенной шнурком. Он отдал салют и поклонился. — Вы оказали мне честь своим присутствием, — сказал он. Джерек обнял его. — Дорогой друг, вы выглядите таким красивым! — Все натуральное, — объяснил Герцог с гордостью. — Созданное с помощью некоторых путешественников во времени с военными познаниями. Вы слышали о моей дуэли с лордом Шарком? — Лорд Шарк? Я считал его мизантропом. Что выманило его из своей серой крепости? — Дело чести. — В самом деле? — сказала Амелия Ундервуд. Оскорбление и пистолеты на рассвете? — Я обидел его. Я забыл, как меня мучили угрызения совести. Мы уладили дело шпагами. Я тренировался целую вечность. Ирония, тем не менее, заключалась в том… Его прервал епископ Касл в полной вечерней одежде, скопированной с мистера Гарриса, без сомнения, его красивое немного аскетическое лицо обрамлял воротник, возможно, более высокий, чем было принято в 1896 году. Ему не нравился черный цвет, и поэтому пиджак и брюки были зеленого цвета, жилет коричневого, рубашка — кремового. Его галстук по цвету соответствовал пиджаку и преувеличенно высокой шляпе — цилиндру на голове. — Веселый Джерек, ты прятался слишком долго! — его голос был слегка приглушен воротником, почти закрывающим рот. — И ваша миссис Ундервуд! Мрак исчез. Мы все снова вместе! — Прилично ли похвалить ваш костюм, епископ Касл? — последовало движение ее зонтика. — Комплименты это цвет нашей беседы, дорогая миссис Ундервуд. Мы получаем удовлетворение от лести, мы питаемся похвалой, мы проводим наши дни в поисках комплимента, который заставит павлина в нас распустить перья и сказать: «Смотрите, я украшаю мир!» Короче, роскошная бабочка в голубом, вы можете сказать мне комплимент, вы его уже сказали. Могу я в свою очередь почтить вашу внешность, она имеет детали, с которыми, к сожалению немногие из нас могут сравниться. Они не просто привлекают глаз — они не отпускают его. Вы — самое красивое создание здесь. Следовательно, нет никаких вопросов, что вы должны просветить нас всех в моде. Джерек свергнут со своего места. Она одобрительно приподняла бровь. Его поклон чуть не стоил ему шляпы. Он выпрямился, увидел знакомого и снова поклонился отплыв прочь. — Позднее, — сказал он им, — мы поговорим! Джерек увидел изумление в ее глазах, наблюдавших, как епископ Касл поднялся к ближайшей галерее. — Он разговорчивый священник, — сказала она. — У нас в 1896 году, есть епископы, похожие на него. — Вы должны были сказать ему это, Амелия. Самый лучший комплимент для него. — Мне не пришло в голову, — она поколебалась, ее самоуверенность исчезла на секунду. — Вы не находите меня развязной? — Ха! Вы уже правите здесь. Ваше доброе мнение ждут все. у вас есть власть и по рождению и по воспитанию. Епископ Касл сказал только правду. Ваша похвала согрела его. Он приготовился сопровождать ее выше, когда Герцог Королев, беседовавший с госпожой Кристией, повернулся к ним. — Вы давно вернулись в Конец Времени, Джерек и Амелия? — Всего несколько часов назад, — ответила она. — Итак вы остались в 1896 году. Вы можете рассказать нам, что случилось с Джеггетом? — Значит он еще не вернулся? — Она посмотрела на Джерека с некоторой тревогой. — Мы слышали… — Вы не встретили его еще раз в 1896 году? Я полагал, что он направляется туда, — нахмурился герцог Королев. — Он может быть там, — сказал Джерек — так как мы находимся совсем в другом месте. В самом начале Времени. — Лорд Джеггет Канарии скрывается все чаще и чаще, — пожаловался Герцог Королев. — Его загадки перестают развлекать, потому что он их сильно запутывает. — Возможно, — сказала Амелия Ундервуд, — что он затерялся во времени, что он не планировал это исчезновение. Если бы нам не повезло, мы бы до сих пор были бы там. Герцог Королев сочувственно воскликнул: — Конечно, о, дорогая. Время стало такой обычной темой разговора, но, я боюсь, которая не очень сильно интересует меня. Я никогда не имел пристрастия Лорда Джеггета к абстрактному. Вы знаете, каким скучным я могу быть. — Никогда, — сказал дружелюбно Джерек. — Даже ваша грубоватость превосходна. — Надеюсь, — ответил он со скромностью, — тебе понравилось здание, Джерек? — Это произведение искусства. — Более сдержанное, чем обычно. — Намного. Глаза Герцога засияли. — Какого арбитра мы сделали из тебя Джерек! Это из-за твоих последних нововведений или потому, что мы уважаем и твой опыт тоже. Джерек пожал плечами. — Я не думал над этим. Но Епископ Касл заявляет, что искусство имеет своего лидера, — он поклонился миссис Ундервуд. — Вам понравился мой Скотланд-Ярд, миссис Ундервуд? — серьезно спросил Герцог. — Я сильно впечатлена, Герцог Королев, — казалось ей доставляет удовольствие ее новое положение. Он был удовлетворен. — Но что тут говорилось о Начале Времени? Вы принесли нам новые идеи, хотя мы только усвоили старые? — Возможно, — сказал Джерек. — Знаете, моллюски, и папоротники, скалы, водяные скорпионы. Центры Времени. Да, здесь хватит для скромного развлечения. — У вас тоже есть история для нас! — вернулась госпожа Кристия. Приключения, да? Сейчас другие гости заметили их и начали двигаться ближе. — Я думаю, по крайней мере, несколько развлекут вас, сказала Амелия Ундервуд. Джерек заметил более твердой тон в ее голосе, когда она приготовилась встретить приближающуюся толпу, но тон исчез при ее следующих словах. — Мы обнаружили там много сюрпризов. — О, это восхитительно! — закричала госпожа Кристия. Какая вы завидная пара! — И храбрая к тому же, чтобы не испугаться ловушек и мести времени, сказал Герцог Королев. Гэф Лошадь в Слезах наклонился вперед. — Браннарт сказал нам, что вы были обречены. Пропали навечно. Даже уничтожены. Худощавый доктор Велоспион в черном колышущемся плаще и черной широкополой шляпе с глазами, мерцаю ими в тени, сказал мягко: — Конечно, мы не верили ему. — Хотя путешественники во Времени исчезли, пропали из нашего зверинца с удивительной быстротой. Совсем недавно я потерял четырех Адольфов Гитлеров, — Сладкое Мускатное Око был великолепен в рубашке и панталонах и высоких, узорчатых сапогах. — И один из них, я уверен, был настоящий. Правда довольно старый… — Браннарт утверждает, что эти исчезновения — доказательство того, что время разорвано. — Вертер де Гете, мрачноватый сицилийский разбойник, внешности которого слегка противоречили завивающиеся усы, поправил свой капюшон. — Он предупреждает, что мы стоим на пороге, за которым волей-неволей, ныряем в беспорядочную хронологическую пропасть. В беседе наступила пауза, так как мрачный тон Вертера часто оказывал такой эффект, пока Амелия не сказала: — Как кажется, его предупреждения имеют некоторые основания. — Что? — добродушно рассмеялся Герцог Королев. — Вы — живое отрицание эффекта Морфейла! — Я думаю, нет, — она сначала скромно посмотрела на Джерека, чтобы он сказал что-то, потом подытожила: — Как я понимаю это, объяснения Браннарта Морфейла лишь частично. Они не должны. Многие теории описывают Время — и все подкреплены доказательствами. — Превосходный вывод, — сказал Джерек. — Моя Амелия имеет в виду, что мы узнали в Начале Времени. Многие ученые, кроме Браннарта, занимаются исследованием природы Времени. Я думаю, он будет рад информации, которую я доставил. Он не один в своих поисках, и будет рад узнать это. — Вы уверены в этом? — спросила Амелия, сверкнув глазами на его недавнее «мы» (хотя без явного недовольствия). — Почему бы и нет? Она пожала плечами. — Я встречалась с этим человеком только один раз и при драматических обстоятельствах. Конечно… — Он придет? — спросил Джерек Герцога. — Приглашен как и весь свет. Ты знаешь его. Он явится поздно, утверждая, что мы вынудили его против воли. — Значит он может знать место положение Джеггета, — он осмотрел зал, как если бы упоминание имени заставит появиться одного из тех, кого он больше всего желал видеть. Многих он узнал, даже лорд Шарк был здесь (или один из его автоматов, посланных вместо него), даже Вертер де Гете, который поклялся никогда не посещать вечера. Хотя последний член Триумвирата Мизантропов, Лорд Монгров, мрачный гигант, в честь которого был устроен этот праздник, не показался до сих пор. Рука Амелии все лежала в его руке. Она потянула ее, привлекая его внимание. — Вы озабочены безопасностью Джеггета? — спросила она. — Он мой самый ближайший друг, хотя и кажется дьявольски хитрым. Не могла ли его постигнуть та же участь, что и нас? Или еще более трагическая? — Если это так, мы никогда больше не узнаем. Джерек выкинул эту мысль из головы, считая, что, как гость не должен выглядеть мрачным. — Смотрите! — сказал он. — Там миледи Шарлотина. Она заметила их сверху и теперь плыла вниз, чтобы приветствовать их. Наш герой и героиня счастливо вернулись к нам. Это финальная сцена? Пора ли звонить в колокола, петь песни о вновь обретенном спокойствии? Я пропустила так много из пьесы. Расскажите мне все. О, говорите, мои красавцы. Миссис Ундервуд сухо заметила: — История еще не закончена, миледи Шарлотина. Многие загадки остаются еще не открытыми, многие нити не сплетены вместе, на ткани явно не виден узор… и, возможно, никогда не будет виден. Недоверчивый смех миледи Шарлотины не содержал обиды. — Чепуха! Это ваш долг — найти разгадку как можно скорее. Жестоко держать нас так долго в неведении. Если вы будете тянуть время, то потеряете аудиторию, мои дорогие. Сперва появится критика отдельных моментов, а затем — вы не можете так рисковать — потеря интереса. Но вы должны рассказать все мне, чтобы я могла судить. Дайте только общие детали, если хотите, и пусть сплетни приукрасят историю за вас. Широко улыбаясь, Амелия Ундервуд начала рассказывать об их приключениях в Начале Времени.10. ЖЕЛЕЗНАЯ ОРХИДЕЯ НЕ СОВСЕМ В СЕБЕ
Джерек все еще искал Джеггета. Оставив Амелию прясть пряжу («вешать шерсть на уши»), он проплыл большое расстояние к крыше, откуда его возлюбленная и окружающие ее казались просто точками внизу. Джеггет единственный мог помочь ему сейчас, думал Джерек. Он вернулся, ожидая раскрытия тайны. Если Джеггет сыграл с ним шутку, то она должна быть объяснена; если он создал эту историю для развлечения, то, как сказала миледи Шарлотина, мир имеет права ждать финала. Но, казалось спектакль продолжался, хотя автор был не в состоянии написать финальные сцены. Джерек вспомнил с некоторым гневом, что Джеггет подбил его начать мелодраму (или это был фарс, а он — печальный глупец в глазах всего мира?) Или, возможна, трагедия. И Джеггет, следовательно, должен обеспечить ему помощь. Хотя, если Джеггет исчез навечно, что тогда? — Ладно, — сказал Джерек сам себе. — Будьте осторожны, Джерек Корнелиан. Жизнь становится серьезной для вас, что не приведет ни к чему хорошему. Вы — член совершенно аморального общества, капризного, бездумного, но обладающего абсолютной властью. Ваши поступки угрожают вашему образу жизни. Я вижу тучу, называемую самоуничтожение, поднимающуюся над горизонтом. Что это Джерек? Неужели в конце, концов ваша любовь подлинная? — Да, Ли Пао. Насмехайтесь надо мной, если хотите, но я не отрицаю правды в том, что вы сказали. Вы думаете, я подкапываюсь под спокойствие своей души? — Вы подкапываетесь под все общество. То, что ваши товарищи видят, как ваш интерес к морали фактически угрожает статус-кво, которое существовало, по крайней мере, миллион лет в этой единственной форме! — Ли Пао засмеялся, его приятное желтое лицо сияло, как маленькое солнце. — Вы знаете мое неодобрение вашего мира и его развлечений? — Вы надоедали мне достаточно часто… — Джерек был настроен дружелюбно. — Я признаю, что огорчился бы, увидев его уничтоженным. Помните то убежище для детей, которое вы открыли, прежде чем исчезнуть? Мне очень не хотелось бы, чтобы эти дети столкнулись бы лицом к лицу с реальностью. — Все это, — взмах руки, — не «реальность»? Я должен буду завершить пьесу, как смогу. Я докажу, что я не только актер, следующий по дороге, проложенной другим. Я докажу, что я тоже драматург! Ли Пао из двадцать седьмого столетия услышал его слова. Постоянно одетые в голубые одежды бывший член правящего Комитета Китая коснулся Джерека, заставив его обернуться. — Вы рассматриваете себя, как актера в пьесе, Джерек Корнелиан? — Привет, Ли Пао. Я высказывал некоторые мысли вслух, вот и все. Но Ли Пао жаждал побеседовать и не позволил свернуть в сторону. — Я думал, что вы сами управляете своей судьбой. Вся эта любовная история, которая так волнует женщин, началась с привязанности? — Я забыл, — он говорил правду. Эмоции кипели внутри его, каждая в конфликте с другой, каждая стремилась выразить себя. Он не позволил ни одной овладеть им. — Конечно, — улыбнулся Ли Пао, — вы не поверили в свою роль, как случалось, говорили, с древними актерами, и не стали считать чувства персонажа своими собственными? — Ли Пао прислонился к перилам плывущей галереи. Она чуть наклонилась и начала тонуть. Он вернул ее назад пока она не оказалась на одном уровне с Джереком. — Тем не менее, это кажется случилось, — сказал ему Джерек. — Иллюзия, каждая мелочь. Что случиться с вами всеми, если ваши города рухнут одновременно, если ваше тепло и ваш свет — простейшие из естественных потребностей — будут взяты от вас? — Что вы будете делать? Джерек видел мало смысла в таком вопросе. — Дрожать и спотыкаться, — сказал он, — пока не придет смерть. Почему вы спрашиваете? — Вы не боитесь такой перспективы? — Она не более реальна, чем все, что я испытал или ожидаю испытать. Я не скажу, что это самая желанная судьба. Я попытаюсь избежать ее, конечно, но если она станет неизбежной, я надеюсь погибнуть с достоинством! Ли Пао удивленно покачал головой. — Вы несгибаемы. Я надеялся убедить вас, сейчас, когда единственный из всех здесь, вновь открыл свою человечность. Хотя, возможно, страх уже не такая хорошая вещь. Вероятно, только мы, пугливые, пытаемся внушить наше собственное чувство тревоги тем, кто избегает реальности. Мы обманываем их, заставляя поверить, что только конфликт и несчастье ведут нас к правде. — Этот взгляд разделяют даже в Конце Времени, — присоединилась к ним Железная Орхидея, одетая в странное металлическое и жесткое, испускающее сияние одежда. Оно обрамляло ее тело, которое было обнаженным и обычной женской формы. — Вы слышали его от Вертера Гете, от Лорда Шарка и, конечно, от самого Монгрова. — Они развращенные личности, занимающие такую позицию только для контраста. — А вы Ли Пао, — спросил Джерек. — Почему вы занимаете ее? — Она была внушена мне в детстве. Я кондиционирован, если хотите, делать ассоциации, которые вы описываете. — Значит никакие инстинкты не управляют вами? — спросила Железная Орхидея. Она положила руку на плечо сына и рассеянным движением погладила его щеку. — Вы говорите об инстинктах? У вас их нет, кроме поиска удовольствий, — пожал плечами маленький китаец. — Можно сказать, они не нужны вам. — Вы не ответили на ее вопрос, — Джереку стало немного неуютно от выражения привязанности к его матери. Он поискал глазами Амелию, но ее не было видно. — Я утверждаю, что вопрос бессмысленный, без понимания его значения. Все же?… пробормотала Железная Орхидея, и ее палец пощекотал уход Джерека. — Мои инстинкты и мой здравый смысл — одно и то же, сказал Ли Пао. Оба говорят мне, что раса, которая борется и выживает. — Мы упорно боремся против скуки, — сказала она. — Мы не достаточно изобретательны для вас, Ли Пао? — Я не убежден. Пленники в ваших зверинцах — путешественники во времени и космические странники — они проклинают вас. Вы эксплуатируете их. Вы эксплуатируете вселенную. Эта планета и, возможно, звезда, вокруг которой они вращаются, вытягивают энергию из галактики, которая сама умирает. Она пьет кровь своих товарищей. Это справедливо? Джерек внимательно слушал. — Моя Амелия говорила что-то похожее. Я мог понять ее немного лучше, Ли Пао. Ваш и ее миры кажутся близкими в некоторых аспектах, и из того, что я знаю, там тоже есть зверинцы. — Вы имеете в виду тюрьмы? Это просто совпадения, Джерек. Мы содержим тюрьмы для тех, кто совершает поступки против общества. Те, кто находится там, оказались в них, потому что рисковали — поставили свою личную свободу против какой-либо формы личной выгоды. — Путешественники во времени так же, как и в космосе, часто верят, что рискуют своей жизнью. Мы не наказываем их, мы ухаживаем за ними. — Вы не уважаете их, — сказал Ли Пао. Железная Орхидея поджала губы в своего рода улыбке. — Некоторые слишком озадачены, бедняги, чтобы понять свою судьбу, а те, кто не озадачен, быстро успокаиваются. Разве вы не устроились, Ли Пао? Вы редко пропускаете вечеринки. Я знаю многих других путешественников, которые живут среди нас, почти не бывая на своих местах в зверинце. Разве мы используем силу, чтобы содержать их там, мой дорогой? Разве мы обманываем их? — Иногда. — Только таким же образом, каким мы обманываем друг друга ради извлечения удовольствия из этого. Ли Пао снова предпочел изменить направление беседы. Он ткнул пухлым пальцем в Джерека. — А как «ваша Амелия»? Ей доставляет удовольствие быть марионеткой в ваших играх? Ей нравится быть пешкой? Джерек был удивлен. — Что вы, Ли Пао. Она никогда не была изменена физически. Ли Пао вздохнул. Железная Орхидея потащила Джерека в сторону, все еще держа руку на его плечах. — Идем, плод моего лона. Вы извините нас, Ли Пао? Ли Пао коротко наклонил голову. — Я видела миссис Ундервуд, — сказала Железная Орхидея Джереку, когда они поплыли выше, где было совсем мало людей. — Она выглядит красивее, чем когда либо. Она была достаточно добра похвалить мой костюм. Ты узнал его? — Думаю нет. — Миссис Ундервуд узнала когда я напомнила ей о красивой истории, которую мне рассказал один из городов. Я знаю не всю историю, так как город многое забыл, но достаточно чтобы сделать костюм. Эта история о старой Флоренции и Леди в Лампе, которой требовалось пятьсот солдат в день! Вообрази! Пятьсот! — она облизнула пурпурные губы и ухмыльнулась. Эти древние! Я намерена воспроизвести всю легенду. Знаешь, здесь есть солдаты. Они прибыли совсем недавно и находятся в зверинце Герцога Королев. Но их только двадцать или около того. — Ты можешь сделать собственных. — Я знаю, плоть от моей плоти, но это не будет тем же самым. Это твоя вина. — Каким образом, вечный цветок? — В эти дни требуется подлинность. Репродукции без оригиналов являются абсолютной анафемой. А их становится все меньше, они исчезают так быстро. — Путешественники во времени? — Естественно. Космические путешественники остаются. Но какая от них польза? — Морфейл говорил с тобой, красивейшая из цветов? — О, немного, мое семя, и все только предупреждения, все пророчества. Мы не должны слушать его. Я полагаю, что скоро исчезнет и миссис Ундервуд. Возможно, тогда вещи вернутся к более приемлемому порядку. — Амелия останется со мной, — сказал Джерек, заметив, как он думал, печальную нотку в голосе матери. — Ты проводишь время только с ней, — сказала Железная Орхидея. — Ты одержим ею. Почему? — Любовь, — ответил он ей. — Но, как я понимаю, она не делает никаких выражений любви. Вы едва прикасаетесь друг к другу! — Ее обычаи не такие как наши. — Тогда ее обычаи примитивны! — Отличны. — А! — ее тон стал недовольным. — Она занимает все твои мысли, она влияет на твой вкус. Пускай она идет своим путем, а ты — своим. Кто знает, позже эти курсы смогут снова пересечься. Я слышала кое-что о твоих приключениях. Они были ошеломляющими. Вы оба нуждаетесь в отдыхе, в более легкой компании. Но ты ли, цвет моего чрева, держишь ее около себя, когда ей лучше быть свободной? — Она свободна, она любит меня. — Я снова повторяю — нет никаких признаков любви. — Мне известны признаки. — Ты не можешь описать их? — Они выражаются в жестах, в тоне голоса, в выражениях глаз. — Хо, хо! Такая телепатия слишком тонка для меня! Любовь — это прикосновение плоти к плоти, произнесенные шепотом слова, кончик пальца, проведенный нежно вдоль позвоночника, сжатие бедра. В твоей любви, Джерек нет страсти. Она бледная, она слабая. — Нет, дарительница жизни. Ты притворяешься, что не понимаешь. Но зачем? Ее взгляд был пристальным и загадочным. — Мама? Сильнейшая из Орхидей? Но она повернула кольцо власти и упала вниз, как камень, не сказав ни слова в ответ. Он видел как она исчезла в большой толпе, кишевшей внизу около середины здания. Ему показалось странным поведение матери. Она выказывала настроение, которое он никогда не встречал прежде. Она, казалось, потеряла часть своей мудрости и заменила ее злостью (к которой она всегда имела склонность, но злость требовала ума, чтобы сделать ее занимательной), она выказывала неприязнь к Амелии Ундервуд, которой в ней не наблюдалось раньше. Джерек покачал головой. Как могло быть, что она не находила удовольствия, как всегда делала в прошлом, в его удовольствии? Пожав плечами, он направился к нижнему уровню. Незнакомец приветствуя его, показался из ближайшей галереи. Он был одет в сомбреро, причудливый жилет, сапоги и красные штаны. — Джерек, моя кровь! Зачем ты летишь так быстро? Только глаза выдавали личность владельца, и даже это сбивало его с толку почти секунду, прежде чем он осознал правду. — Железная Орхидея! Как ты многочисленна! — Ты уже встретил других? — Одну из них. Которая является оригиналом? — Мы все можем заявлять право на это, но есть программа. В определенное время несколько исчезнут, останется одна. Не имеет значения, какая, не правда ли? Этот метод позволяет мне всюду успеть. — Ты еще не встречала Амелию Ундервуд? — Нет, с тех пор, как я посетила вас на ранчо, моя любовь. Она все еще с тобой? Он решил избежать повторения. — Твой маскарад очень впечатляет. — Я представляю великого героя времен миссис Ундервуд. Король бандитов, любимый всеми бродягами, который стал править нацией и был убит в расцвете сил. Это цикл легенд, с которыми ты должен быть знаком. — Имя? — Руби Джек Кеннеди. Где-то… — она бросила взгляд вокруг. — Ты найдешь меня в костюме вероломной женщины, которая в конце концов предала его. Ее имя было Роза Ли, — Железная Орхидея понизила голос, — Она вступила в связь с итальянцем по имени Маузер, знаменитому по хитрости способу, которым он ловил своих жертв. Джерек счел эту беседу более подходящей и был доволен слушать ее в то время, как она продолжала свое восторженное изложение старой легенды на тему о крови, убийстве, мести и проклятии, наложенное на клан из-за ложной гордости его патриарха. Он почти не вникал в ее слова, пока не услышал знакомую фразу (раскрывающую ее пристрастие к ней, так как она не могла знать, что одна из ее «Я» уже использовало эту фразу: — В эти дни требуется подлинность. Ты не чувствуешь Джерек, что изобретение тормозится опытом? Вспомни, как мы обычно ограждали Ли Пао от сообщения нам подробностей и деталей тех веков, которые мы воссоздаем? Разве мы поступали не мудро? Она овладела только половиной его внимания. — Я допускаю, что нашим развлечениям не хватает чего-то по моему вкусу, с тех пор, как я путешествовал сквозь время. И, конечно, я сам, можно сказать, являюсь причиной моды, которую ты находишь такой неудобной. Она, в свою очередь невнимательно выслушала его заявление, беспокойно осматривая зал. — Я думаю, они называют это «социалистический реализм», пробормотала она. — Мой «Лондон» начал определенную тенденцию к восстановлению наблюдаемой реальности… — продолжал он, но она махнула ему рукой, не потому что не согласилась, а потому что он прервал ее монолог. — Это дух, мой щенок, а не выражение, изменилось. Мы кажется потеряли легкость нашей жизни. Где наша любовь к контрасту? Или мы все стали антикварами и ничем больше? Что происходит с нами, Джерек? Настроение этой Железной Орхидеи сильно отличалось от настроения другой матери, уже встреченной им. Если она просто хотела аудиторию, пока болтала, он с удовольствием выполнил эту роль, хотя не испытывал интереса к спору. Возможно, эта тема являлась единственной, которую могло поддерживать факсимиле, подумал он. В конце концов, самым большим преимуществом саморепродукции была возможность отстаивать столько различных мнений, сколько хочешь, в одно и то же время. Мальчиком, вспомнил Джерек, он был свидетелем жаркого спора полудюжины Железных Орхидей. Она находила, что ей гораздо легче разделиться спорить лицом к лицу, чем пытаться привести в порядок свои мысли в общепринятых манерах. Это факсимиле, тем не менее, оказалось несколько скучным, хотя обладало пафосом. Пафос, думал Джерек, нормально не появляется в характере матери. Заметил ли он его в копии, которую встретил первой? Возможно… — Я, конечно, обожаю сюрпризы, — продолжала она. — Я приветствую разнообразие. Это соль существования, как говорили древние. Следовательно я должна бы радоваться всем этим новым событиям. Этим «изложениям Времени» Браннарта, этим исчезновениям, всем этим приходам и уходам. Я удивляюсь, почему я чувствую… как это… «Беспокойство»? Встревожена? Ты когда-нибудь видел меня «встревоженной», мое яйцо? Он пробормотал. — Никогда. — Да я встревожена. Но в чем причина? Я не могу определить ее. Должна ли я обвинить себя, Джерек? — Конечно нет. — Почему? Почему? Веселье Уходит. Спокойствие покидает меня… а на их месте встревоженность. Ха! Заболевание путешественников во времени и в космосе, к которому мы, в Конце Времени всегда имели иммунитет. До сих пор, Джерек… — Нежнейшая из матерей, я не совсем… — Если становится модным вновь открывать и заражаться древними психозами, тогда я против моды. Безумие пройдет. Что может поддерживать его? Новости Монгрова? Какие-нибудь махинации Джеггета? Эксперименты Браннарта? — Последние два, — предложил он. — Если вселенная умирает… Но она уже переключилась на новую тему и снова высказала одержимость оригинала. Ее тон стал легче, но не обманул его. — Можно, конечно, взглянуть на твою миссис Ундервуд, как на зачинщика… Заявление было сказано с подчеркнутой интонацией. Перед именем и позади него были очень короткие паузы. Она ждала от него или защиты или отрицания миссис Ундервуд, но он избежал ловушки. Джерек ответил. — Великолепнейший из бутонов, Ли Пао сказал бы, что источник нашего смятения лежит внутри нас самих. Он уверен что мы держим правду взаперти, а обнимаем иллюзию. И иллюзия, намекает он, начинает раскрывать, как таковая, себя. Вот почему, говорит Ли Пао, мы обеспокоены. Но это была непримиримая копия. — А ты, Джерек! Когда-то веселое дитя! Умнейший из мужчин! Самый изобретательный из художников! Блестящий мальчик, как мне кажется, ты стал тусклым. И почему? Потому что Джеггет подбил тебя сыграть любовника! Как это примитивно… — Мама! Где твоя мудрость? Ладно, зная, я уверен, что мы скоро будем женаты. Я заметил изменения в ее отношении ко мне. — Что из этого? Я в восхищении! Отсутствие у нее доброго юмора удивило Джерека. — Твердейший из металлов я умоляю, не делай из меня просителя! Разве я должен удовлетворять мегеру, когда я был уверен в добром расположении друга? — Надеюсь, я больше чем друг, частица моей крови! Ему пришла в голову мысль, что если он вновь раскрыл Любовь, она раскрыла Ревность. Неужели одно не может существовать без другого? — Мама, я прошу тебя подумать… Из-под сомбреро послышалось фырканье. — Я вижу она поднимается. Значит она имеет свои собственные кольца? — Конечно. — Ты думаешь, это умно, давать дикарю… Амелия уже проплыла в пределах слышимости. Фальшивая улыбка покрывала губы этого несовершенного двойника. — Ага! Миссис Ундервуд. Какая восхитительная простота вкуса — голубое с белым! Амелия Ундервуд не сразу узнала Железную Орхидею. Ее кивок был вежливым, но она отказалась игнорировать вызов. — Совершенно ошеломлена сверкающим экзотизмом вашего малинового цвета, миссис Корнелиан. Наклон сомбреро. — А какую роль, моя дорогая, вы приняли сегодня? — Сожалею, мы пришли сами собой. Но разве я не видела вас прежде в том ящикообразном костюме, затем попозже в желтом плаще оригинального вида? Так много превосходных костюмов. — Да, здесь есть одна в желтом, я забыла. Иногда меня одолевают столько интересных идей. Вы, должно быть, думаете, что я грубовата, дорогой предок? — Никогда, пышнейшая из орхидей. Джерек удивился. Он в первый раз услышал, как миссис Ундервуд использует подобный язык. Его начала веселить эта встреча, но Железная Орхидея отказалась продолжать разговор. Она наклонилась вперед и благословила сына показным поцелуем, чтобы уколоть Амелию Ундервуд. — Браннарт прибыл. Я обещала ему отчитаться за 1896 год. Иногда, но редко, он бывает скучным. Пока дорогие дети. Она использовала пирует вниз. Джерек заинтересовался, где она увидела Браннарта Морфейла, так как горбатый хромоногий ученый нигде не был виден. Амелия Ундервуд снова взяла его за руку. — Ваша мать кажется расстроенной. Не самодовольной как обычно. — Это потому, что она слишком сильно разделила себя. Сущность каждой копии оказалась немного слабоватой, — объяснил Джерек. — Хотя ясно, что она рассматривает меня, как врага. — Вряд ли. Она, как вы видите, не полностью в себе… — Я польщена, мистер Корнелиан. Это удовольствие, когда тебя принимают всерьез. — Но я озабочен ею. Она никогда не была серьезной в своей жизни прежде. — И вы хотите сказать, что виновата я? — Я думаю она обеспокоена, ощущая потерю контроля над своей судьбой, подобную той, какую испытали мы в Начале Времени? Это тревожное ощущение. — Достаточно мне знакомое, мистер Корнелиан. — Возможно она привыкнет к нему. Сопротивляться — это на нее не похоже. — Я была бы рада посоветовать ей, как бороться с этим. Он, наконец, ощутил иронию в ее словах и бросил на нее вопросительный взгляд. Ее глаза смеялись. Он подавил желание обнять ее и лишь коснулся руки, очень нежно. — Вы развлекали их всем, — сказал он, — там внизу. — Надеюсь, что так. Язык, благодаря вашим пилюлям, не составил проблем. Я чувствую, будто говорю на своем собственном. Но идеи иногда трудно передать. Ваши представления очень отличаются. — Хотя вы больше не проклинаете их. — Не делайте ошибок, я продолжаю не одобрять их, но ничего не добьешься голым отрицанием и опровержением. — Мне кажется вы берете вверх. Именно это и не нравится Железной Орхидеи. — Кажется, я имею небольшой общественный успех, но это, в свою очередь, приводит к осложнениям. — Осложнения? — Джерек поклонился О'Кале Инкардиналу в образе королевы Британии, который отдал ему салют. — Они спрашивают меня мое мнение. О подлинности их костюмов. — Бедное воображение. — Не совсем. Но ни один не является подлинным, хотя большая часть очень красивые. Знания ваших людей о моем времени очень отличные, по крайней мере поверхностны. Они постепенно опускались все ниже и ниже. — Хотя это век, о котором мы знаем больше всего, — сказал Джерек. — В основном потому, что я его изучил и сделал новый модным. А что неправильного в костюмах? — Как костюмы они ничего. Но очень немногие отвечают теме 1869 года. Между некоторыми костюмами лежит расстояние в тысячу лет. Мужчина, одетый в лиловые парусиновые брюки и несущий поджаренный пирог с мясом (должна сказать, аппетитно выглядевший) на голове, объявил, что он — Гарольд Хардред. — Первый министр? — Нет, мистер Корнелиан. Костюм невозможен в любом случае. — А не может ли он быть этим самым Гарольдом Хардредом. Как выдумаете? У нас есть ряд переодетых путешественников во времени в зверинцах. — Это маловероятно. — В конце концов прошло несколько миллионов лет, и так много сейчас полагаются на слухи. Мы полностью зависим от гниющих городов в получении информации. Когда города были моложе, они были более надежными. Миллион лет назад на вечеринке подобной этой было бы намного меньше анахронизмов. Я слышал о вечеринках наших предков (ваших потомков, то есть), которые использовали все ресурсы городов, когда те были в расцвете. Эти маски покажутся невыразительными в сравнении. К тому же чьему-то воображению доставляет удовольствие изобрести прошлое. — Я нахожу это чудесным. Я не отрицаю, что одновременно и возбуждена, и сконфужена этим. Вы, должно быть, сочтете меня ограниченной… — Вы слишком много хвалите нас. Я очень рад. что вы находите, наконец, мой мир приемлемым, так как это приводит меня к надежде, что вы скоро согласитесь быть моей… — О! — воскликнула она неожиданно, показывая рукой. — Там Браннарт Морфейл. Мы должны сообщить ему наши новости.11. НЕСКОЛЬКО СПОКОЙНЫХ МОМЕНТОВ В ЗВЕРИНЦЕ
— …И таким образом мы вернулись, — заключил Джерек, протягивая руку к дереву, проплывающему мимо. Он сорвал два фрукта, один для себя другой для миссис Ундервуд, стоявшей рядом с ним. — Достаточно ли эта информация, чтобы компенсировать потерю вашей машины? — Вряд ли! — Браннарт добавил еще пару футов к своему горбу со времени их предыдущей встречи. Теперь горб возвышался выше его тела, грозя опрокинуть его. Возможно для компенсации Браннарт увеличил размер уродливой ступни. — Фабрикация. Твоя история противоречит логике. Ты показал невежество в реальной теории Времени. — Я думал, мы принесли новое знание, профессор, — сказала она, наблюдая в тоже время за процессией из двадцати мальчиков и девочек в одинаковых комбинезонах, проплывающих мимо, сопровождаемой еще одной Железной Орхидеей в наряде арлекина. За ними следовал огромный веселый Аргонхерт По в высокой белой поварской шляпе, раздавая съедобные револьверы. — Оно, например, предполагает, что для меня теперь возможно вернуться в девятнадцатое столетие без затруднений. — Вы все еще хотите вернуться, Амелия? — Почему нет? — Я полагал что вы довольны. — Я принимаю неизбежное спокойно, мистер Корнелиан — это не обязательно довольство. Браннарт Морфейл фыркнул. Его горб закачался, начал наклоняться, по затем выправился. — Почему вы двое намерены уничтожить работу столетий? Джеггет всегда завидовал моим открытиям. Он сговорился с тобой, Джерек Корнелиан, сконфузить меня. — Но мы не отрицаем ваших открытий, дорогой Браннарт. Мы просто узнали, что они частичны, что существует не один закон времени, а много! — Но вы не принесли доказательства. — Вы слепы к ним, Браннарт. Мы являемся доказательством. Мы стоим здесь не подверженные вашему изрядному но непогрешимому эффекту. Он приложим к миллионам случаев, но иногда… Большая зеленая слеза покатилась по щеке ученого. — Тысячу лет я старался нести факел истинного знания, в то время, как все вы остальные посвящали свою энергию фантазиям и капризам. Я тяжело трудился, в то время, как вы просто эксплуатировали плоды труда наших предков. Я старался продолжить их работу, пожалуй, самую великую работу в познании тайны. — Но это всегда справедливо оценивалось, Браннарт, самый упорный из исследователей, членами гильдии, которую я упоминал. — …Но вы препятствуете мне даже в этом, с вашими придуманными историями, этими ужасными анекдотами, этими явно состряпанными рассказами о зонах, свободных от влияния моего дорогого эффекта, о группе индивидуалистов, которые утверждают, что время имеет не одну природу, а несколько… О, Джерек! Разве заслуживает такой жестокости тот, кто только искал знания, который никогда не вмешивался — критиковал немного, но никогда не вмешивался в действия других людей? — Я хотел просто рассказать… Мимо проходила миледи Шарлотина в огромной корзине лаванды, из которой виднелась только ее голова. Она окликнула на ходу: — Джерек! Амелия! Удачи вам! Удачи! Не надоедайте им слишком много, Браннарт! Браннарт злобно сверкнул глазами. — Смерть приближается, но вы все танцуете насмехаясь над немногими, кто может помочь вам. Миссис Ундервуд поняла. Она пробормотала: — Уэлдрейк знал об этом профессор Морфейл, когда писал одну из своих последних поэм:12. ЛОРД МОНГРОВ НАПОМИНАЕТ НАМ О НЕИЗБЕЖНОЙ КАТАСТРОФЕ
— По-правде, мои дорогие друзья, я тоже не верил, как и вы… стонал Монгров в середине зала. — …Но Юшарисп показал мне увядшие планеты, истощенные звезды — материя рушится, распадается, исчезает в ничто… О, там пусто. Невообразимо пусто, — его большая тяжелая голова упала на широкую массивную грудь, на которой вырвался чудовищный вздох. Огромные руки сцепились вместе как раз над мощным желудком. — Все, что осталось — это призраки, и те исчезают. Цивилизации, что недавно простирались на тысячи звездных систем, стали просто шорохом помех на экране детектора. Исчезли без следа. И мы исчезнем, мои друзья. — Взгляд Монгрова был смесью симпатии и обвинения. — Но пусть мой проводник Юшарисп, который рискнул своей жизнью, прилетев к нам, чтобы предупредить о нашей судьбе, и которого никто, кроме меня, не стал слушать, расскажет вам все своими словами. — Почти никакой (скр-р-р) жизни не осталось во вселенной, — сказал шарообразный инопланетянин, — процесс разрушения продолжается быстрее, чем (скр-р-р) я предсказывал. В этом частично (скр-р-р) вина людей этой планеты. Ваши города вытягивают энергию из наиболее (скр-р-р) доступного источника. Сейчас они сосут энергию из распадающейся Новой звезды, из уже умирающих солнц (скр-р-р). В этом единственная причина, почему вы до сих пор живы! Епископ Касл стоял слева от Джерека. Он наклонился ему бормоча. — По-правде, мне редко надоедает скука. Попытки Герцога Королев сделать развлечение из этого инопланетянина явно бесполезны, как он сейчас может увидеть. — Но подняв голову, он закричал: Ура! Ура! — и зааплодировал. Монгров поднял руку. — Смысл слов Юшариспа в том, что мы отвечаем за скорость распада вселенной. Если мы будем меньше использовать энергии на цели, вроде этой вечеринки — мы уменьшим скорость разрушения. Все кончается, дорогие друзья! Миледи Шарлотина сказала громким шепотом: — Я считала, что Монгров сторонится того, что он называет «материализмом». Но этот разговор попахивает им, если я не ошибаюсь, — она улыбнулась себе. Но Ли Пао сказал твердо: — Он повторяет только то, что я говорил годами. Железная Орхидея в красно-белом клетчатом одеянии взяла под руку Епископа Касла. — Я согласна, мир становится скучным. Каждый, кажется, повторяет сам себя, — она хихикнула. — Особенно я! — В нашей власти, благодаря городам, сохранить эту планету продолжал Монгров, повышая голос над общим шумом. — Раса Юшариспа послала нам свои лучшие умы на помощь. Они должны были уже прилететь. Тем не менее, когда они появятся, есть только маленький шанс, что времени хватит, чтобы спасти наш мир. — Он, должно быть ссылается на тех, которых мы только что видели в зверинце Герцога, — сказала миссис Ундервуд. Она сжала руку Джерека. — Мы должны рассказать лорду Монгрову где они находятся! Джерек погладил ее руку. — Мы не можем. Это будет очень плохим поступком и испортит сюрприз Герцога. — Плохим поступком? — Конечно. Она умолкла, нахмурившись. Мимо прошла Мило де Маре, оставляя за собой след симметричных золотых шестиконечных звезд. — Простите меня, лорд Монгров, — пропела она, когда гигант с раздражением отпихнул в сторону металлические штучки. — О, что вы за самодовольные глупцы! — вскричал Монгров. — Почему мы не должны быть ими? Это кажется превосходным, — ответила с удивлением госпожа Кристия. — Разве не за это, как нам говорили, человеческая раса боролась миллионы лет? — Вы не заработали это, — сказал Ли Пао. — Я думаю, поэтому вы силитесь защититься. Амелия улыбнулась одобрительно, но Джерек был озадачен. — Что он имеет в виду? — Он говорит о практическом базисе морали, которую вы так жаждете понять, мистер Корнелиан. Джерек просветлел при упоминании о предмете его интересов. — В самом деле? И что это за практический базис? — В сущности, что ничего не стоит обладания, что досталось без труда. Он сказал с некоторой робостью. — Я тяжко трудился чтобы получить вас, дорогая Амелия. Снова на ее лице отразилась борьба чувств. — Почему, мистер Корнелиан, вы всегда стремились запутать разговор вопросами личных интересов? — Разве эти вопросы менее важны? — Они имеют свое место. Наша беседа, я думала, была несколько более абстрактной. Мы обсудили мораль и ее полезность в жизни. Это был предмет, дорогой сердцу моего отца, и существо многих его проповедей. — Хотя ваша цивилизация, если вы простите меня за эти слова, не выжила сколько нибудь значительный период времени. Через пару сотен лет она была полностью уничтожена. Ей это не понравилось, но вскоре она нашла ответ. — Мораль не имеет ничего общего с выживанием цивилизации, как таковая, а служит для персонального удовлетворения. Если человек ведет моральную жизнь, полезную жизнь, он счастлив. Джерек почесал голову под кепи. — Мне кажется, тем не менее, что почти любой в Конце Времени, счастливее, чем те, которых я встречал в вашей Эпохе Рассвета. А мораль тайна для нас, как вы знаете. — Это бездумное счастье, как она может выжить в катастрофе, о которой предупреждает нас Лорд Монгров? — Катастрофой считается только то, во что человек верит. Сколько людей здесь, как выдумаете, верит в катастрофу Монгрова? — Но они поверят. — Вы уверены? Она бросила взгляд вокруг себя и не смогла сказать что уверена. — Но вы не боитесь, даже чуть-чуть? — спросила она его. — Боюсь? Ну мне жалко, если все это великолепие исчезнет. Но оно существовало. Без сомнения, что-нибудь вроде этого будет существовать снова. Она засмеялась и взяла его за руку. — Если бы я хорошо не знала вас, мистер Корнелиан, я бы ошибочно приняла вас за самого мудрого и самого глубокого из философов. — Вы льстите мне, Амелия. Голос Монгрова продолжал громыхать в шуме болтовни, но слова были неразличимы. — Если вы не спасете себя, подумайте о знаниях, которые можете спасти — знания унаследованные от миллионов поколений! Железная Орхидея в платье из зеленого бархата скользила рядом с Браннартом Морфейлом, рассуждения которого были очень похожи на то, что говорил Монгров, хотя он явно не слышал главного, мрачного гиганта. С некоторой тревогой Джерек услышал ее слова: — Конечно, вы полностью правы, Браннарт. Фактически, я намерена совершить путешествие сквозь время сама. Я знаю, вы одобрите это, я буду полезна вам… Джерек не слышал дальнейших слов матери. Он пожал плечами, выбросив их из головы, как выражение мимолетного каприза. Сладкое мускатное Око занимался любовью с госпожой Кристией, Вечной Содержанкой, в довольно оригинальной манере. Их переплетенные тела плыли среди других гостей. В другом месте Орландо Чемби, Кимик Рентбрейн и О'Кала Инкардинал сцепились за руки в сложном воздушном танце, в то время как Графиня Монте Карло растягивала свое тело, пока не оказалась тридцати футов высотой и почти невидимой. Все это как оказалось для развлечения детей из Убежища, собравшихся вокруг нее и смеявшихся от восхищения. — У нас есть долг перед нашими предками! — стонал Монгров, на некоторое время загороженный от взглядов слушавших его. Джерек подумал, что тот похоронен где-то под неожиданной лавиной из голубых и зеленых роз, свалившихся с влекомой Пегасом платформы доктора Велоспиона. — И для тех, кто (скр-р-р) последует за нами… — добавил пронзительный, но чем-то заглушенный голосок. Джерек вздохнул. — Если бы только вернулся Джеггет. Тогда, я уверен, вся суматоха кончится. — Он должно быть мертв, — сказала она. — Трудно было бы перенести эту потерю. Он был моим лучшим другом. Я прежде никого не знал, кого нельзя было бы воскресить. — Смысл слов Монгрова в том, что никто не будет воскрешен после апокалипсиса. — Тогда никто не будет чувствовать себя в проигрыше, — они плыли вниз, к полу, все еще полному слабыми трепыхающимися птенцами ястреба, но многие уже сдохли, так как Вакака Накоока забыл накормить их. Джерек рассеянно уничтожил всех птиц, чтобы они могли опуститься и встать там, глядя вверх, на гостей, становившихся все менее спокойными в своем веселии. — Я думал, вы считаете, что мы будем жить вечно, Амелия? — сказал он, все еще глядя вверх. — Это мое убеждение, а не мнение. Он не смог заметить разницу. — В посмертной жизни, — сказала она, пытаясь говорить с убеждением, но ее голос дрогнул. — Ладно, возможно, существует Посмертная Жизнь, хотя и трудно вообразимая. О, так нелегко сохранить обычную веру… — Это конец Всего! — Продолжал Монгров откуда-то из-за горы роз. — Вы проиграли! Вы не слушаете! Вы не понимаете! Остерегайтесь! О, остерегайтесь! — Мистер Корнелиан, мы должны попытаться заставить их выслушать Лорда Монгрова! Джерек покачал головой. — У него нет ничего интересного сказать, Амелия, чего он не говорил прежде. Разве информация Юшариспа не идентична той, которую он принес в первый раз во время вечеринки Герцога Африканского. Она мало значит… — Для меня она значит много. — Каким образом? — Лорд Монгров подобен пророку, которого никто не слушает. Библия полна таких историй. — Тогда нам не нужно новых. — Вы намеренно бестолковы. — Уверяю вас, что нет. — Тогда помогите Монгрову. — Его темперамент и мой слишком различны. Браннарт утешил бы его вместе с Вертером де Гете. у него много друзей, которых он будет слушать. Они соберутся вместе и договорятся, что все, кроме них, дураки, что только они знают правду, имеют право контролировать события и так далее. Это подбодрит их и не испортит никому удовольствия. Насколько мы знаем, их выходки всегда забавны. — «Забавны» — это ваш единственный критерий? — Амелия, если это заставит вас удовлетвориться, я пойду сейчас к Монгрову и буду стонать вместе с ним, но мое сердце будет против этого, любовь моей жизни, радость моего существования. Она вздохнула. — Я не хочу заставлять вас лгать, мистер Корнелиан, подталкивать вас к лицемерию было бы грехом. — Вы стали чуточку рассудительней, дорогая Амелия. — Я извиняюсь. Здесь явно нельзя ничего сделать. Вы считаете Монгров позирует? — Как делаем мы все. Не то, чтобы он был неискренен, просто он выбрал эту роль, хотя знает, что много других мнений также интересных и так же ценных как и его собственное. — За несколько коротких лет, которые остались… — донесся голос Монгрова сейчас более отдаленный. — Он не верит полностью в том, что говорит? — И да, и нет. Но он склонен верить полностью. Это сознательное решение. Завтра он примет совершенно другое решение, если ему наскучит эта роль (а я подозреваю, что она ему наскучит, насколько он скучен другим). — Но Юшарисп искренен. — Да? Бедняга. — Значит для мира нет надежды? — Юшарисп верит этому. — А вы нет? — Я верю всему и ничему. — Я никогда прежде не понимала этой философии Конца Времени. — Полагаю да, — он огляделся вокруг себя. — Я не думаю, что мы увидим здесь, Лорда Джеггета. Он мог бы объяснить вам эти вещи, так как любит обсуждать абстрактные вопросы. Я никогда не имел к этому склонностей, предпочитая делать вещи. Я — человек действия, как вы смогли заметить. Без сомнения, это связано как-то с тем, что я — продукт естественного деторождения. Ее глаза, когда она посмотрела на него, были полны тепла.13. ЧЕСТЬ УНДЕРВУДА
— Я все еще не уверена. Возможно нам начать снова? Джерек послушно уничтожил западное крыло. Они перестраивали ранчо. Вилла из красного кирпича исчезла. На ее месте стояло что-то значительно больших размеров и одновременно более легкое, имеющее сходное с готикой средневековой Франции или Бельгии строение, с узкими башенками и изящных очертаний окнами. — Это все слишком величественно, — сказала она, трогая подбородок пальцем. — И хотя оно показалось бы грандиозным, только в Бромли, здесь же оно почти примитивно. — Если вы используете свое собственное аметистовое кольцо власти… пробормотал он. — Я все еще не доверяю этим вещам, но она повернула кольцо и подумала о том одновременно, что хочет получить. Сказочная башня, идеал ее детства, возвысилась перед ними. Она не смогла заставить себя уничтожить ее. Джерек был восхищен удивляясь изяществу ее ста двадцати футов, увенчанных двумя башенками с красными коническими крышами. — Такой элегантный пример типичной архитектуры Эпохи Рассвета, сказал он ей комплимент. — Вы не находите ее чересчур причудливой? Ей было неловко, но приятно задело своего воображения. — Модель полезности! — Вряд ли, — она покраснела. Ее собственное воображение, ставшее конкретным, удивило ее. — Еще! Вы должны сделать еще! Кольцо было повернуто снова, и еще одна башня поднялась вверх, связанная со своей товаркой маленьким мраморным мостиком. С некоторым колебанием она уничтожила первое здание, сделанное Джереком по ее просьбе, и обратила внимание на окружающий ландшафт. Появился ров, наполненный водой из сверкающей речки. Искусственные сады геометрической формы, полные ее любимых цветов, с волнистыми лужайками, с озером, кипарисами, тополями и ивами. Небо было изменено на бледно-голубое и маленькие белоснежные облака. Затем она добавила нежные цвета — розовые и желтые, как в начале рассвета. Все было таким, каким ей приснилось однажды, не респектабельной домашней хозяйке, а маленькой девочке, которая читала сказки с чувством, что она разглядывает запрещенные книжки. Ее лицо сияло, когда она рассматривала свою работу. Джерек наблюдал с наслаждением и удовольствием. — О, я не должна была… На лужайке сейчас пасся единорог. Он поднял голову, его глаза были мягкими и разумными. На золотом роге блестело солнце. — Мне говорили, что все это не существует. Моя мать упрекала меня за глупые фантазии. Она говорила, что из этого не выйдет ничего хорошего. — И вы все еще так думаете? Она посмотрела на него. — Полагаю, что я должна так думать. Он ничего не сказал. — Моя мать утверждала, что маленькие девочки, верящие в сказки, вырастают пустыми и разочарованными. Мне говорили, что мир, в конце концов, суров и ужасен, и мы помещены в него для испытания нашей пригодности к жизни на Небесах. — Это разумное верование, хотя, я думаю, и не приносящее удовольствия. — И все же здесь не меньше жестокости, я думаю, чем в моем мире. — Жестокости? — Ваши зверинцы. — Конечно. — Но, теперь я поняла, вы не осознаете, что вы жестоки. В этом смысле вы не лицемеры. Джерека радовало слушать ее голос, как он мог бы радоваться мирному жужжанию насекомого. Он говорил только чтобы поощрить ее к продолжению. — Мы держим в нашем обществе больше пленников, — сказала она. Сколько жен являются пленниками в своих домах, у своих мужей? — она помолчала. — Я не посмела бы думать о таких радикальных вещах дома, не говоря уже о том, чтобы высказать их. — Почему? — Потому что я обидела бы других. Потревожила бы моих друзей. Имеются общественные рамки поведения, намного более прочные, чем моральные рамки или рамки закона. Вы поняли это уже в моем мире, мистер Корнелиан? — Я узнал кое-что, но не так много. Вы должны продолжать учить меня. — Я видела тюрьму, где вы были в заключении. Сколько там пленников не по своей вине? Жертвы бедности. И бедность порабощает столько миллионов людей, намного больше, чем вы могли когда-либо созерцать в своих зверинцах. О, я знаю, знаю. Вы могли бы поспорить, и я не смогла бы отрицать. — Да? — Вы добры ко мне, мистер Корнелиан, — ее голос затих, когда она снова посмотрела на свое творение. — О, оно так прекрасно! Он шагнул к ней и положил руку на плечо. Она не воспротивилась. Прошло какое-то время. Она обставила их дворец простой комфортабельной мебелью, не желая загромождать комнаты. Она вновь установила строгий порядок дня и ночи. Она создала двух больших черно-белых котов, и парки вокруг дворца были заселены оленями и единорогами. Ей хотелось книг, но Джерек не смог найти ни одной, поэтому, в конце концов, она начала писать книгу сама и нашла это занятие почти таким же удовлетворительным, как чтение. И все-таки он должен был продолжать ухаживать за ней, она все еще отказывала ему в полном выражении своих привязанностей. Когда он предложил жениться и продолжал часто делать это, она отвечала, что дала церемониальную клятву быть верной мистеру Ундервуду, пока смерть не разлучит их. Джерек возвращался время от времени к убедительной логике, что мистер Ундервуд мертв, много тысячелетий, и что она свободна. Он начал подозревать, что ей важна не клятва мистера Ундервуда, а она играет с ним или ждет от него каких-то действий. Но какими должны быть эти действия, она не давала ни малейшего намека. Эта идиллия, хотя и приятная, омрачалась не только его разочарованием, но также его тревогой за своего друга, Лорда Джеггета Канарии. Джерек начал сознавать, до какой степени он полагался на руководство Джеггета в своих действиях на объяснение ему мира, на помощь в формировании его судьбы. Юмора друга, его совета, самой его мудрости очень не хватало Джереку. Каждое утро после пробуждения, он надеялся увидеть аэрокар Лорда Джеггета на горизонте, и каждый раз его ждало разочарование. Тем не менее однажды утром, когда он отдыхал один на балконе, в то время как миссис Ундервуд работала над своей книгой, он заметил прибытие гостя в посудине, напоминающее египетское судно из эбонита и золота. Это был Епископ Касл в своей высокой короне на красивой голове, высоким жезлом в левой руке, степенно шествовавший от аэрокара на балкон и легонько поцеловавший его в лоб, похвалив белый костюм Джерека, сотворенный ему миссис Ундервуд. — Все успокоились после вечеринки Герцога, — информировал его Епископ. — Мы вернулись к нашим старым жизням с некоторым облегчением. Монгров показался больным, разочарованным, не правда ли? — Почему? Герцог Королев не принял во внимание вкусы гостей, что вряд ли является достоинством человека, желающим быть самым популярным хозяином. — К тому же, — добавил Джерек, — сам Герцог не интересуется пророчествами этого инопланетянина. Он, вероятно, надеялся что Монгров испытает какие-нибудь приключения во время путешествия во вселенной что-нибудь с разумной долей сенсации. Хотя на Монгрова можно положиться в том, что он испортит любое начинание. — По этому мы любим его. — Конечно. Миссис Ундервуд в розово-желтом платье вошла в комнату позади балкона. Она протянула руку. — Дорогой Епископ Касл. Как приятно видеть вас. Вы останетесь на завтрак? — Если не стесню вас, миссис Ундервуд. Было ясно что он много узнал об обычаях Эпохи Рассвета. — Конечно нет. — А как моя мать. Железная Орхидея? — спросил Джерек. — вы видели ее? Епископ Касл почесал нос. — Значит ты не слышал? Она стала твоим конкурентом, Джерек. Она как-то уговорила Браннарта Морфейла позволить ей взять одну из его драгоценных машин времени. Она исчезла! — Сквозь время? — Да. Она говорила Браннарту, что вернется с доказательствами его теории свидетельством… что ты сфабриковал историю, рассказанную ему! Я удивлен, что никто до сих пор не информировал тебя, — Епископ Касл рассмеялся. — Она настолько оригинальна, твоя прекрасная мать. — Но она может погибнуть, — сказала миссис Ундервуд. — Она осознает риск? — Я думаю, полностью. — О! — воскликнул Джерек. — Мама! — он прикусил нижнюю губу. — Это ты, Амелия, чьим конкурентом она хочет быть. Она думает, что ты превзошла ее! — Она говорила, когда вернется? — спросила миссис Ундервуд Епископа Касла. — Нет, но Браннарт может знать. Он управляет экспериментом. — Управляет! Ха! — Джерек сжал свою голову руками. — Мы можем только молиться и надеяться, что она вернется невредимой сказала миссис Ундервуд. — Время не сможет победить Железную Орхидею! — засмеялся Епископ Касл. — Ты слишком мрачен, она скоро вернется, и без сомнений, с новостями, не хуже твоих. На это, я уверен, она и надеется. — Это было бы просто счастьем, если она вернется невредимой, сказала ему миссис Ундервуд. — Тогда то же самое счастье должно хранить ее. — Вы, вероятно, правы, — сказал Джерек. Он был удручен. Сначала пропал его лучший друг, а теперь — его мать. Он посмотрел на миссис Ундервуд, как если бы она могла снова исчезнуть на его глазах как было однажды, когда он попытался поцеловать ее. Это было так давно. Миссис Ундервуд заговорила довольно бодро, более, чем требовала в данном случае ситуация. — Ваша мать не из тех, кто погибает, мистер Корнелиан. Может быть, это ее факсимиле, что было послано сквозь время. Оригинал может все еще находиться здесь. — Я не уверен, что это возможно, — ответил он, — что-то связанное с сущностью жизни. Я никогда полностью не понимал теории, касающейся трансплантации. Но я не думаю, что можно послать двойника сквозь время, не сопровождая его. — Она вернется, — сказал Епископ Касл с улыбкой. Но Джерек, беспокоясь за Лорда Джеггета и склоняясь к мысли, что он погиб, погрузился в молчание и был плохим хозяином во время завтрака. Прошло еще несколько дней без всяких происшествий, со случайными визитами Миледи Шарлотины, Герцога Королев или снова Епископа Касла. Беседа часто оканчивалась на размышлениях о судьбе Железной Орхидеи, но если Браннарт Морфейл имел новости о ней, он не передавал их даже Миледи Шарлотине, которая играла роль его покровительницы и предоставляла ему лаборатории в своем обширном помещении, над озером. Также никому не говорил Браннарт и о месте нахождения Железной Орхидеи. Между тем Джерек продолжал ухаживать за Амелией Ундервуд. Он изучил поэму Уэлдрейка (по крайней мере те, которые она могла вспомнить) и нашел, что их можно интерпретировать по отношению к их собственной ситуации: «Так близко любовники были, но их объединению препятствует мир», «Жестокая судьба диктует им, чтобы одинокими шли они по этому пути», и тому подобное — пока она не потеряла интерес к своему любимому поэту. Но Джереку показалось, что Амелия Ундервуд стала чуть теплее к нему. Случайные дружеские поцелуи стали чаще, пожатия руки, улыбки — все говорило о смягчении ее решимости. Он смирился. В самом деле, настолько установившимся стал их домашний уклад жизни, что был почти таким, как если бы они поженились. Джерек надеялся, что она поскользнется случайно, к завершению их романа, дай только время. Жизнь текла гладко и, кроме колючего спасения в глубине его души за мать и Лорда Джеггета, он испытывал спокойствие, которым не наслаждался с тех пор, как миссис Ундервуд и он впервые разделили вместе дом. Он отказывался вспоминать, что всякий раз, когда приходил к какому-то мирному существованию, оно всегда нарушалось какой-нибудь новой драмой. Но, по мере того, как продолжались дни без событий, в нем росло ощущение неизбежного ожидания, пока он не начал желать, чтобы то, что случится случилось скорее. Он даже определил источник следующего удара — он будет нанесен Железной Орхидеей, вернувшейся с сенсационной информацией, или Джеггетом, который прикажет им вернуться в Палеозой, чтобы завершить какую-нибудь пропущенную задачу. И удар был нанесен. Он произошел одним утром, примерно три недели спустя после того, как она поселилась в новом доме. Сперва раздался громкий стук в парадную дверь. Джерек встал с постели и вышел на балкон, чтобы посмотреть, кто беспокоит их таким образом (никто, кого он знал, не пользуется таким образом дверью). На подъемном мосту через ров столпилась группа людей, хорошо знакомых ему. Человеком, стучавшим в дверь, был инспектор Спрингер в новом костюме и новой шляпе, неотличимых от предыдущей его одежды: вокруг него столпились несколько дюжин полицейских, десять или двенадцать человек, позади их всех важный, но с немного безумными глазами, стоял никто иной, как мистер Ундервуд со своим пенсне на носу, аккуратно причесанный на пробор с соломенного цвета волосами, в темном костюме, исключительно жестком воротничке и манжетах, с туго перевязанном галстуком и в черных блестящих ботинках. В руке он держал шляпу, такую же как у инспектора Спрингера. Позади этой компании на небольшом расстоянии жужжала огромная конструкция, состоящая из ряда взаимосвязанных колес и храповиков, стеклянных стержней и обитых скамеек открытая ящикоподобная машина, очень похожая на ту, которую Джерек видел в Палеозое. За управлением сидел бородатый мужчина, который дал им корзину с едой. Он первым заметил Джерека и помахал ему приветственно рукой. С ближайшего балкона послышался приглушенный крик: — Гарольд! Мистер Ундервуд поднял глаза и холодно уставился на свою жену, стоявшую в неглиже и тапочках, не ассоциирующуюся с домохозяйкой из Бромли. — Ха! — сказал он, находя подтверждение своим самым худшим опасениям. Затем он заметил Джерека, смотрящего сверху на него. — Ха! — Почему вы здесь? — прохрипел Джерек прежде чем осознал, что они не понимают его слов. Инспектор Спрингер начал прочищать свое горло, но Гарольд Ундервуд заговорил первым: — Игри Гэйзе, — казалось, сказал он. — Риджика баттероб онэ! — Нам лучше впустить их, мистер Корнелиан, — сказала миссис Ундервуд слабым голосом.14. РАЗЛИЧНЫЕ СТРАХИ, МНОГО СУТОЛОКИ, ПОСПЕШНАЯ ЭКСКУРСИЯ
— Я, сэр, — сказал инспектор Спрингер с большим удовлетворением, наделен специальными полномочиями. Сам канцлер приказал мне разобраться в этом деле. — Моя новая машина… э… мой хронобус был реквизирован, — сказал извиняющимся голосом путешественник во времени. — Как патриот, хотя, строго говоря, не из этой вселенной… — В условиях крайней секретности, — продолжал инспектор, мы отправились с нашей миссией… Джерек и миссис Ундервуд стояли на пороге и рассматривали своих гостей. — Какая миссия? — миссис Ундервуд недовольно нахмурилась на мужа. — Поместить главарей этого заговора под арест и вернуть в наше столетие, чтобы они — между прочим, среди них и вы — были допрошены об их мотивах и намерениях, — инспектор Спрингер явно цитировал выдержку из приказа. — А мистер Ундервуд? — спросил вежливо Джерек. — Почему он здесь? — Он один из немногих, кто может опознать людей, которых мы ищем. Как бы то ни было, он согласился добровольно. Она сказала с удивлением: — Ты прилетел забрать меня назад, Гарольд? — Ха! — ответил ее муж. Сержант Шервуд, потея, и, казалось, не владея собой, теребил тугой темно-голубой воротничок. Он вышел из рядов констеблей (которые, подобно ему, казалось, страдали от шока), и, отдав салют, встал рядом со своим начальником. — Нам арестовать этих двоих, сэр? Инспектор Спрингер задумчиво облизнул губы. — Подождите немного, сержант, прежде чем засунуть их в фургон. Он вынул из кармана пиджака документ и повернулся к Джереку. — Вы владелец этого места? — Не совсем, — ответил Джерек, подумав, правильно ли делают свою работу трансляционные пилюли, принятые им и Амелией. — То есть, если вы объясните значение этого термина, возможно, я смогу… — Вы владелец или нет? — Вы имеете в виду, не я ли создал этот дом? — Если вы построили его, то вполне достаточно. Все, что я хотел узнать… — Миссис Амелия Ундервуд создала его. Не так ли, Амелия? — Ха! — сказал мистер Ундервуд, как если бы подтвердились его худшие опасения. Он холодно сверкнул глазами на сказочный дворец. — Эта леди построила его? — инспектор Спрингер нахмурился. — Э, послушайте… — Я думаю, вы не знакомы с методами строительства домов в Конце Времени, инспектор, — сказала миссис Ундервуд, делая усилие спасти ситуацию. — У нас есть кольца власти, они дают возможность… Инспектор Спрингер сурово поднял руку. — Позвольте мне сказать это по-другому. У меня есть ордер на обыск этого места или любого другого, которое я сочту важным для следствия по этому делу и содержащим подозреваемых преступников. Поэтому, если вы позволите мне и моим людям войти… — Конечно, — Джерек и Амелия шагнули в стороны, когда инспектор Спрингер провел своих людей в холл. Гарольд Ундервуд поколебался момент, но, в конце концов, пересек порог, как если бы дорога вела в преисподнюю, а путешественник во времени держался сзади с кепкой в руках, бормоча бессвязные фразы. — Ужасно неловко… не имел представления… какая-то шутка в самом деле… извините за неудобства… Канцлер уверял меня… не вижу причины для вторжения… никогда бы не согласился… — но при приглашающем жесте Джерека присоединился к остальным. — Восхитительный дом… очень похож на сооружения, встречаемые в э… пятьдесят восьмом столетии… Рад видеть, что вы благополучно вернулись назад… — Я никогда не видел такой большой машины времени, — сказал Джерек, надеясь вернуть ему непринужденность. — Разве? — просиял путешественник во времени. — Она необычна, да? Конечно, коммерческие возможности приходили мне на ум, хотя с тех пор, как правительство проявило интерес, все окутала секретность, как вы сами можете представить. Это была моя первая возможность проверить экипаж в подходящих условиях. — Лучше, сэр, — предостерег инспектор Спрингер, — не говорите ничего больше этим людям. Они, кроме всего прочего, подозреваемые иностранные агенты. — О, мы встречались прежде. Когда я согласился помочь, то не имел представления, что имеют в виду эти люди. Поверьте мне, инспектор, что они, почти несомненно, не замешаны ни в каком преступлении. — Это буду решать я, сэр, — упрекнул полицейский. — улики, которые я предоставил канцлеру по моему возвращению оказались достаточными, чтобы убедить его в заговоре против Короны. — Он казался несколько сбитым с толку всем этим делом. Его вопросы ко мне не были ясными… — О, все это достаточно обескураживает. Дела такого рода часто запутаны. Но я доберусь до сути, дайте время, — инспектор Спрингер покрутил цепочку от часов. — Вот для чего существует полиция: решать запутанные дела. — Вы уверены, что находитесь в пределах своей юрисдикции, инспектор?… — начала миссис Ундервуд. — Как меня уверил этот джентльмен, — инспектор Спрингер показал на путешественника во времени — мы все еще на английской почве. Следовательно… — В самом деле? — воскликнул Джерек. — Как чудесно! — Думал, что не попадешься, парень, да? пробормотал сержант Шервуд, злобно глядя на него. — Немного ошибся! — Сколько еще человек живет здесь? — спросил инспектор Спрингер, когда он и его люди протопали в основной зал. Он с отвращением оглядел корзины с цветами, висящие всюду, картины, ковры и мебель, явно легкомысленного вида. — Только мы сами, — миссис Ундервуд отвела глаза от мрачного взора своего мужа. — Ха! — сказал мистер Ундервуд. — У нас отдельные комнаты, — объяснила она инспектору, на чьих губах появилась плотоядная усмешка. — Сэр, — сказал сержант Шервуд. — На забрать ли нам сперва эту пару? — В девятнадцатое столетие? — спросил Джерек. — Именно это он и имел в виду, — ответил за сержанта путешественник во времени. — Это для вас удобный случай, Амелия, — упавшим голосом сказал Джерек. — Вы говорили, что все еще хотите вернуться. — Это правда… — начала она. — Значит?… — Обстоятельства… — Вы двое лучше оставайтесь здесь, — говорил инспектор Спрингер двум констеблям, — чтобы не спускать с них глаз, он повел своих людей по лестнице. Джерек и Амелия сели на мягкую скамейку. — Не хотите ли чаю? — спросила Амелия своего мужа, путешественника во времени и двух констеблей. — Ну… — сказал один из констеблей. — Я думаю, это было бы неплохо, — сказал другой. Джерек был рад услужить. Он повернул кольцо власти и произвел серебряный чайник, шесть фарфоровых чашек и блюдец, кувшины с молоком и горячей водой, серебряный чайник для заварки, шесть серебряных ложек и примус. — Нужен сахар, я думаю, — пробормотала она, — а не примус. Он исправил ошибку. Оба полицейских от неожиданности сели, уставившись выпученными глазами на чай. Мистер Ундервуд остался стоять, но казался более неподвижным, чем раньше, что-то бормоча про себя. Только путешественник во времени реагировал совершенно нормально. Миссис Ундервуд, казалось, подавила усмешку, наливая чай и подавая чашки. Констебли взяли чашки, но только один пригубил. Другой просто сказал: «Боже!» — и поставил чашку на стол, а его товарищ вымученно улыбаясь сказал: — Очень хорошо, очень хорошо, — и снова и снова повторял эти слова. Сверху раздался неожиданно громкий треск и вопль. Озадаченный Джерек и Амелия посмотрели вверх. — Надеюсь, они не ломают… — начал путешественник во времени. Послышался топот сапог, и инспектор Спрингер, сержант Шервуд и их люди, спотыкаясь и тяжело дыша, ввалились назад в залу. — Они атакуют! — закричал сержант Шервуд двум другим полицейским. — Кто-о? — Враг, конечно, — ответил инспектор Спрингер подбежав чтобы выглянуть в окно. Они, должно быть, знают, что мы находимся в доме. Это хитрые бестии, будьте уверены! — Что случилось инспектор? — спросил Джерек, поднося чашку чая гостю. — Что-то снесло вверху башни, вот и все! — инспектор автоматически принял чай. — Начисто. Какое-то мощное морское орудие, вероятно. Здесь рядом есть море? — Нет. Интересно кто мог сделать это? — Джерек вопросительно посмотрел на Амелию. Она пожала плечами. — Божий гнев! — объявил с надеждой мистер Ундервуд, но никто не обратил внимания на его предложение. — Я помню, как-то раз летающая машина Герцога Королев врезалась в мое ранчо, — сказал Джерек. — Вы не заметили летающей машины, инспектор? Инспектор Спрингер продолжал всматриваться в окно. — Это было, как молния с неба, — сказал он. — Крыша была на месте, — добавил сержант Шервуд, а в следующий момент она исчезла. Раздался взрыв-бац и на секунду стало очень жарко. — Похоже на какой-то луч, — сказал путешественник во времени, наливая себе еще чашку чая. Инспектор Спрингер проявил себя читателем популярных еженедельников, судя по быстроте, с которой он воспринял замечание. — Вы имеете в виду луч смерти? — Если хотите. Инспектор потрогал свой ус. — Мы сделали ошибку, явившись невооруженными, — размышлял он. — А! — Джерек вспомнил свою первую встречу с разбойниками-музыкантами в лесу. — Это вероятно вернулись латы. У них есть оружие. Они демонстрировали его. Очень мощное, к тому же. — Это литовцы. Я мог догадаться! — инспектор Спрингер нагнулся ниже. — у вас есть возможность сообщить им, что вы наши пленники? — Боюсь никакой. Я мог бы пойти и найти их, но они могут быть на сотни миль отсюда. — Сотни? О, Боже! — воскликнул сержант Шервуд. Он посмотрел на потолок, будто ожидая, что тот упадет на него. — Вы правы, инспектор. Мы должны были прихватить пистолеты. — Судный день пришел! — пропел Гарольд Ундервуд, поднимая палец. — Мы должны представить его Лорду Монгрову, — сказал Джерек, вдохновленный пришедшей мыслью. — Они хорошо поладят. Не правда ли, Амелия? Но она не ответила, смотря со смесью симпатии и покорности на своего бедного безумного мужа. —Я виновата, — сказала она. — Это все моих рук дело. О, Гарольд, Гарольд! Раздался еще один громкий треск. На стенах и потолке появились трещины. Джерек повернул кольцо власти и восстановил дворец. — Я думаю, что вы найдете крышу на месте, инспектор. Если захотите продолжить свое турне. — Я получу медаль за это, если когда-нибудь вернусь назад, — сказал сам себе инспектор Спрингер. Он вздохнул. — Я предлагаю сэр, — сказал сержант, — что мы сделаем все что можем, и вернемся с этими двумя. — Вы вероятно правы. Поспешим. Им лучше надеть браслеты, а? Двое констеблей достали наручники и приблизились к Джереку и Амелии. В этот момент в окне появилось ужасное видение проплыло внутрь зала. Это был Епископ Касл, задыхавшийся и выглядевший крайне возбужденным в съехавшей на бок огромной митре. — О, мои дорогие любители приключений! Латы вернулись и разрушают все! Убийства, грабежи, насилие! Это чудесно! А, у вас есть компания… — Думаю вы встречались с большинством из них, — сказал Джерек. — Это инспектор Спрингер, сержант Шервуд… Епископ Касл медленно опустился на пол, кивая и улыбаясь. Моргая глазами, констебли попятились назад. — Они взяли пленников! Как вы в свое время взяли нас! О, наконец скука исчезла! И там была битва, величественный Герцог Королев, командовавший нашим воздушным флотом (к несчастью, он не продержался и секунды, но выглядел превосходно), и миледи Шарлотина в качестве амазонки в колеснице. Веселье вернулось в на скучный мир! Дюжина, по крайней мере, мертвы! — Он сделал извиняющийся жест компании. — Вы должны простить мне вмешательство, извините меня! Я забыл манеры… — Я знаю вас, — сказал со значением инспектор Спрингер. — Я арестовывал уже вас в кафе «Ройял»! — Рад видеть вас снова, инспектор, — было ясно что Епископ Касл не понял слов, которые сказал инспектор Спрингер. Он кинул трансляционную пилюлю в рот. — Значит вы решили продолжить свою вечеринку в Конце Времени? — Конец Времени? — спросил Гарольд Ундервуд, выказывая интерес. Армагеддон? Амелия Ундервуд подошла к нему. Она попыталась успокоить его, но он оттолкнул ее. Ха! — сказал он. — Гарольд, ты ведешь себя по-детски! — Ха! Удрученная, она осталась стоять рядом с ним. — Вы должны увидеть разрушения! — продолжал епископ Касл. Он засмеялся. — Ничего не осталось от замка над озером, если только лаборатория Браннарта еще там. Но зверинец полностью исчез, и все апартаменты Миледи Шарлотины, и само озеро — все исчезло! Ей понадобятся часы, чтобы восстановить их, — он потянул Джерека за рукав. — Ты должен встретиться со мной и посмотреть этот спектакль, Джерек. затем и пришел, чтобы ты всего не пропустил. — Ваши друзья никуда не пойдут, сэр. И, должен добавить, вы тоже, инспектор Спрингер сделал знак своим констеблям. — Как чудесно! Вы берете нас в плен! У вас есть какое-нибудь оружие, как у Латов? Вы должны показать что-нибудь, инспектор, если не хотите, чтобы они превзошли вас! — Я думал, эти литовцы на вашей стороне, — сказал сержант Шервуд. — Конечно нет! Какое было удовольствие бы от этого? — Вы сказали, что они уничтожают все? Насилие, грабеж, убийство? — Точно. — Ну, я никогда… — инспектор Спрингер почесал затылок. — Итак, мы просто жертвы этих людей, а не наоборот? — Я думаю, что произошло недоразумение, инспектор, — сказала миссис Ундервуд. — Видите ли… — Недоразумение! — неожиданно Гарольд Ундервуд наклонился к ней. Распутная женщина! — Гарольд! — Ха! Раздался грохот громче, чем предыдущие, и потолок исчез, открывая небо. — Это Латы, — сказал Епископ Касл с видом эксперта. — Вы действительно должны пойти со мной, если не хотите быть уничтоженными прежде, чем получите какое-нибудь удовольствие, — он шагнул к своему аэрокару около окна. — От нашего мира ничего не останется, и это будет конец! — Они на самом деле намерены уничтожить вас всех? — спросил путешественник во времени. — Я думаю нет. Они пришли за пленниками. Госпожа Кристия, — сказал он Джереку, — сейчас в плену. Я думаю, это их привычка рыскать по галактике, убивая мужчин и похищая женщин. — Вы позволили им? — спросила миссис Ундервуд. — Что вы имеете в виду? — Вы не помешали этому? — О, в конце, концов, мы должны будем сделать это. Госпоже Кристии не понравится в космосе, особенно, если он стал таким пустым, как сообщил Монгров. — Что вы скажите, Амелия? Не пойти ли нам взглянуть? поинтересовался Джерек. — Конечно нет. Он подавил свое разочарование. — Возможно вы желаете, чтобы и меня похитили эти существа? — спросила она. — Конечно нет? — Возможно, лучше вернуться в мой хронобус, — предложил путешественник во времени. — По крайней мере, до тех пор… — Амелия? Она покачала головой. — Обстоятельства слишком постыдны для меня. Теперь для меня закрыто респектабельное общество. — Тогда вы останетесь, дорогая Амелия? — Мистер Корнелиан, сейчас не время продолжать вашу назойливость. Я признаю, что я отверженная, но у меня все еще остаются определенные нормы поведения. Кроме того, я тревожусь за Гарольда. Он не в себе. И в этом виноваты мы. Ну, возможно, не вы, фактически — но я должна принять на себя большую часть вины. Я должна быть тверже. Я не должна была признаваться в моей любви… Она расплакалась. — Значит вы признаетесь в ней, Амелия? — Вы бессердечны, мистер Корнелиан, — всхлипнула она, — и нетактичны… — Ха! — сказал Гарольд Ундервуд. — Хорошо, что я уже начал бракоразводный процесс… — Превосходно! — воскликнул Джерек. Снова послышался грохот. — Моя машина! — вскричал путешественник во времени, выбежав наружу. — В укрытие всем! — раздался голос инспектора Спрингера. Все его люди легли на пол. Епископ Касл уже сидел в своем аэробусе, окруженный облаком пыли. — Ты идешь, Джерек? — Думаю, нет. Надеюсь, вы повеселитесь, Епископ Касл! — Обязательно, обязательно, — аэрокар стал подниматься в небо. Только мистер и миссис Ундервуд и Джерек Корнелиан остались стоять среди руин дворца. — Пойдемте, — сказал Джерек им обоим. — Думаю, я знаю, где мы найдем безопасность, — он повернул кольцо власти, материализовался его старый аэрокар в виде локомотива, пыхтящего белым дымом из трубы. — Простите за отсутствие изобретательности, — сказал Джерек им, — но так как мы спешим… — Вы спасете и Гарольда тоже? — спросила она, когда Джерек подсаживал ее мужа на борт. — Почему нет? Вы сказали, что тревожитесь за него, — он весело улыбнулся, в то время как над головами проревел обжигающий малиновый сгусток чистой энергии. — Кроме того, я хочу услышать подробности этого развода, который он планирует. Разве это не та церемония, которая должна произойти прежде, чем мы сможем пожениться? Она не ответила на это, но встала рядом с ним на подножке. — Куда мы направляемся, мистер Корнелиан? Локомотив запыхтел, направляясь вверх. — Я полон дыма, — запел он. — Я покрыт копотью и чихаю углем! Мистер Ундервуд схватился за перила и уставился вниз, на руины, оставшиеся на месте дворца. Его колени затряслись. — Это старая железнодорожная песня из вашего времени, — объяснил Джерек. — Вы не хотели бы быть кочегаром? Он предложил мистеру Ундервуду платиновую лопату. Мистер Ундервуд без слов принял лопату и механически начал подкидывать уголь в топку. — Мистер Корнелиан! Куда мы направляемся? — В безопасное место, дорогая Амелия, уверяю вас.15. ДЖЕРЕК КОРНЕЛИАН И МИССИС УНДЕРВУД НАХОДЯТ УБЕЖИЩЕ, А МИСТЕР УНДЕРВУД — НОВОГО ДРУГА
— Вам нравится, дорогая Амелия, этот город? — Я нахожу это место невероятным. Я не осознавала, слыша только разговоры о таких поселениях, насколько обширными и какими непохожими на наши города они являются. Мистер Ундервуд стоял невдалеке, на другой стороне небольшой площади. Зеленые шары из нерезкого света размером примерно с теннисный мяч бегали вверх и вниз по его вытянутым рукам, он наблюдал за ними с детским восхищением. Воздух над ним был черным, пурпурным, темно-зеленым, с малиновыми прожилками, в котором составные части расширялись и сужались в симуляции дыхания, выпуская испарения, бронзового цвета искры сыпались дождем поблизости, энергия дугой перебегала от одной башни к другой, сталь пела. Город бормотал что-то приглушенно, почти сонно. Даже узкие ручейки ртути, пересекающие землю у их ног, казались бегущими медленно. — Город защищает себя, — объяснил Джерек, — я видел это прежде. Никакое оружие не может действовать внутри них, никакое оружие не может нанести им вред извне, потому что в их распоряжении всегда больше энергии, чем может обрушить на них любое оружие. Это часть их первоначального назначения. — Он больше напоминает завод, чем город, — пробормотала она. — Его природа, на самом деле, ближе к музею. На планете несколько таких городов, они содержат все, что осталось от наших знаний. — Эти испарения — они не ядовиты? — Для человека — нет. Она приняла его утверждение, но осталась осторожной, когда он повел их с площадки через аркаду бледно-желтых и розовато-голубых папоротников, немного напоминающие те, что они видели в Палеозое. Странный сероватый свет падал через папоротники и искажал их тени. Мистер Ундервуд шел на некотором расстоянии сзади них, тихо напевая. — Мы должны обсудить, — прошептала она, — как спасти Гарольда. — Спасти от чего? — От его безумия. — В городе он кажется счастливее. — Без сомнения, он верит, что находится в аду, как когда-то думала я. Инспектор Спрингер не должен был приводить его. — Я не вполне уверен, что инспектор сам в здравом уме. — Согласна, мистер Корнелиан. Все это попахивает политической паникой. Известно о значительном интересе к спиритизму и масонству среди определенных членов кабинета в настоящий момент. Идут разговоры, что даже принц Уэльский… Она продолжала в том же духе, полностью озадачив его. Ее информация, как он понял, была извлечена из листа бумаги, который миссис Ундервуд как-то раз приобрела. Аркада уступила место оврагу между двумя высокими одинаковыми зданиями, стены которых были покрыты химическими пятнами и полубиологическими наростами, некоторые из которых пульсировали. Впереди них было что-то шарообразное и сверкающее, которое укатилось, когда они приблизились. В конце оврага открылась панорама, загроможденная полусгнившими металлическими реликвиями и где, в отдалении, сердитые языки пламени лизали невидимую стену. — Вот! — сказал он. — Это, должно быть, действие оружия латов. Город защищает себя. Видите, я говорил, что мы будем в безопасности, дорогая Амелия? Она оглянулась через плечо, туда, где сидел ее муж, на конструкции, кажущейся состоящей частично из камня, частично из какого-то вида отвердевшей резины. — Хотелось чтобы вы попытались быть более тактичным, мистер Корнелиан. Помните, что мой муж может услышать. Пожалейте его чувства, если вы не жалеете свои и мои! — Но он оставил вас мне. Он сказал это. По вашим обычаям этого достаточно, не так ли? — Он разводится со мной, вот и все. У меня есть право выбирать или отвергнуть любого мужа, какого я захочу. Конечно, но вы выбрали меня. Я знаю. — Я не говорила вам этого. — Вы говорили, Амелия. Вы забыли. Вы упоминали более чем один раз, что любите меня. — Это не должно означать, что я непременно выйду за вас замуж, мистер Корнелиан. Еще есть шанс, что я смогу вернуться в Бромли, или, по крайней мере, в мое собственное время. — Где вы будете отверженной. Вы говорили так. — В Бромли, но не всюду, — она нахмурилась. — Могу представить скандал. Газеты опубликуют что-нибудь, будьте уверены. — Мне кажется Вам понравилась жизнь в Конце Времени. — Возможно. Я осталась бы здесь мистер Корнелиан, если бы меня очень настойчиво не преследовали призраки прошлого. — Еще один взгляд через плечо. — Как можно тут расслабиться? — Это случайность. Впервые, чтобы что-то подобное произошло здесь. — Кроме того я напомню вам, что согласно Епископу Каслу (не говоря уже об увиденном собственными глазами) ваш мир уничтожается прямо сейчас. — Только на момент, все скоро будет восстановлено. — Лорд Монгров и Юшарисп уверяли нас в обратном. — Трудно принимать их всерьез. — Вам, возможно. Но не мне, мистер Корнелиан. То, что они говорят, имеет значительный смысл. — Следовательно, возможностей для спасения должно быть немного в тех обстоятельствах, которые вы описали, — сказал еще один голос, низкий, мелодичный, чуть сонный. — Никаких, — объявил мистер Ундервуд. — По крайней мере, что я знаю! — Это интересно. Я, кажется вспоминаю, кое-что из теории, но большая часть информации, которая мне требуется, хранится где-то в другом месте, в другом городе, чьи координаты я не могу вспомнить. Тем не менее, я склонен верить, что вы — или проявление заблуждения этого города, или заблуждаетесь сами, жертва слишком сильного увлечения древней мифологией. Я могу ошибаться. Были времена, когда я был непогрешим. Я был уверен, что ваши описания этого города совпадают с фактами, которые находятся в моем распоряжении. Вы можете спорить, я знаю, что я сам заблуждаюсь, хотя мои ощущения совпадают с моими инстинктами, тогда как вы, сами, делаете скоро интеллектуальные, чем инстинктивные заключения; это, по крайней мере, я понял из нелогичности, которые вы допустили в своем анализе. Вы противоречили себе, по меньшей мере, три раза с тех пор, как сели на мою оболочку. — Говорил сплав камня и резины — один из видов банков памяти, пробормотал Джерек. — Существует столько видов, не всегда сразу узнаваемых. — Я думаю, — продолжал банк, — что мы все еще сконфужены и не привели свои мысли в порядок, достаточный, чтобы отвечать мне. уверяю вас что я буду функционировать намного удовлетворительнее, если вы лучше сформулируете свои замечания. Мистер Ундервуд, казалось, не обиделся на критику. — Я думаю, вы правы, — сказал он. — Я сконфужен. Ладно, я сошел с ума, если сказать прямо. — Безумие может быть только отражением обычного эмоционального смятения. Страх сумасшествия может вызвать, я считаю, уход в то самое безумие, которого боятся. Это только поверхностный парадокс. Безумие, можно сказать, является тенденцией упрощения, к легко понятным метафорам, природы мира. В вашем случае вы явно окружены неожиданной сложностью следовательно, вы склонны к упрощению — этот разговор о проклятье и Аде, например, — чтобы создать мир, ценности которого недвусмысленны, непротиворечивы. Жалко что так мало моих предков выжило, так как они, по самой своей природе, лучше бы отвечали вашим взглядам. С другой стороны, может быть так что вы недовольны своим безумием, что вы скорее бы встретились бы со сложностями, разобрались бы в них. Если так, уверен, что я мог бы помочь каким-нибудь способом. — Вы очень добры, — сказал Мистер Ундервуд. — Чепуха. Рад быть полезным. Мне нечего было делать большую часть миллиона лет. Мне грозила опасность «заржаветь». К счастью не имея механических частей я могу оставаться спящим долгое время без каких-либо отрицательных эффектов. Хотя, как часть очень сложной системы, имеется много информации, которую я не могу больше полагать. — Значит, вы думаете, что это — не посмертная жизнь, что я здесь не в наказании за мои грехи, что я буду находиться здесь вечно, что я, выходит, не мертв? — Вы определенно не мертвы, так как все еще можете беседовать, чувствовать, думать и испытывать физические нужды и дискомфорт… Банк имел склонность к абстрактным рассуждениям, которые, казалось, подходили мистеру Ундервуду, хотя Джереку и Амелии быстро наскучило слушать их. — Он напоминает мне учителя, который был у меня когда-то, прошептала она и ухмыльнулась. — Но это именно то, что Гарольду сейчас нужно. Всплески света не простирались больше на горизонте, и сцена потемнела. На мрачном небе не было солнца, только пыль и облака, причудливо окрашенных газов. Позади них город, казалось, шевелился, содрогаясь от возраста и напряжения и постанывал почти жалобно. — Что случится с вами, если ваши города рухнут? — спросила она Джерека. — Это невозможно. Они самовосстанавливающиеся. — Непохоже на это, — пока она говорила две металлические конструкции упали в пыль и сами рассыпались. — Это правда, — сказал он ей. — Частично. Они в таком виде находятся тысячелетия, как-то выживая. Мы видим только поверхность. Сущность городов не так очевидна и жива вечно. Она восприняла это с пожатием плеч. — Как долго мы должны оставаться здесь? — Мы ищем убежища от Латов, не так ли? Мы останемся здесь пока Латы не покинут планету. — Вы не знаете, когда это произойдет? — Это будет скоро, я уверен. Или им наскучит эта игра, или нам. Тогда игре придет конец. — И сколько умрет человек? — Ни одного, надеюсь. — Вы можете воскресить любого? — Конечно. — Даже граждан из ваших зверинцев? — Не всех. Это зависит от того, какое впечатление они оставили в нашей памяти. Кольца памяти работают на основе нашей памяти при воссоздании. Она не стала расспрашивать дальше. — Мы, кажется, тоже находимся в изоляции здесь, в Конце Времени, как это с нами было в Начале, — сказала она мрачно, — как мало у нас моментов обычной жизни… — Все изменится. Это особенно беспокойные дни, как объяснил Браннарт, являются результатом хронологических флюктуаций. Мы все должны прекратить путешествовать во времени ненадолго, тогда все придет в норму. — Я восхищаюсь вашим оптимизмом, мистер Корнелиан. — Благодарю, Амелия, — он снова стал ходить туда-сюда. — Это тот самый город, где я был зачат, говорила мне Железная Орхидея. Кажется это произошло с некоторыми трудностями. Она оглянулась назад. Мистер Ундервуд все еще сидел на банке памяти, погруженный в беседу. — Мы оставим его? — Мы можем вернуться за ним позже. — Очень хорошо. Они ступили на серебряные поверхности, которые потрескивали при их шагах, но не ломались. Они поднялись по черным ступенькам к причудливому мосту. — Наверное это будет подходящим, — сказал Джерек, — если я вам сделаю здесь предложение, Амелия, как мой отец сделал предложение моей матери. — Ваш отец? — Загадка которую моя мать предпочитает не разглашать. — И вы не знаете, кто… — Не знаю. Она поджала губы. — В Бромли, такого факта было бы достаточно, чтобы полностью исключить женитьбу, знаете ли. — В самом деле? — О, да. — Но мы не в Бромли, — добавила она. Он улыбнулся. — Конечно нет. — Тем не менее… — Я понимаю. — Пожалуйста продолжайте… — Я говорил, что прошу здесь, в этом городе, где я был зачат, вашей руки. — Если я буду когда-нибудь свободна отдать вам ее, имеете вы в виду? — Точно. — Что ж, мистер Корнелиан, не могу сказать, что это неожиданно, но… — Мибикс даг фриши хрунг! — сказал знакомый голос, и через мост промаршировал капитан Мабберс и его люди, вооруженные до зубов.16. ЧЕРЕП ПОД КРАСКОЙ
Когда капитан Мабберс увидел их, он резко остановился, направив свой инструмент — оружие на Джерека. Джерек почти с удовольствием смотрел на него. — Мой дорогой капитан Мабберс… — начал он. — Мистер Корнелиан! Он вооружен! Джерек не понял ее волнения. — Да, музыка, которую они производят, самая прекрасная, которую я когда-либо слышал. Капитан Мабберс тронул струну. Из колоколообразного дула его оружия раздался скрежещущий звук, вокруг ободка появилось несколько слабых голубых искр. Капитан Мабберс глубоко вздохнул и бросил инструмент на камни моста. Похожие звуки и искры получились и у других инструментов, которые держали его люди. Кинув трансляционную пилюлю в рот (с недавних пор он носил их повсюду), Джерек сказал: — Что привело вас в город, капитан Мабберс? — Занимайся своим вонючим делом, сынок, — сказал вожак космических пришельцев. — Все что мы, бравые ребята, сейчас хотим — это найти поскорее путь наружу! — Я не могу понять, зачем вы вошли в город, хотя… — он извиняюще посмотрел на миссис Ундервуд, которая не понимала ничего из разговоров, и предложил ей пилюлю. Она отказалась сложив руки на груди. — Не получилось, — сказал один из латов. — Заткнись, Рокфрут, — приказал капитан Мабберс. Но Рокфрут продолжал: — Проклятое место оказалось так хорошо защищено, что мы подумали, что тут должно быть что-то ценное. Такое наше счастье. — Я сказал, заткнись, тухлая башка! Но люди капитана Мабберса, казалось, теряли веру в своего капитана. Они скрещивали свои три глаза в самой обидной манере и делали грубые жесты локтями. — Разве у вас недостаточно успешно идут дела в других местах? спросил Джерек Рокфрута. — Я думал, вы прекрасно разрушали, насиловали и так далее… — Так и было, пока… — Заткни свою дыру, тупица! — закричал вожак. — О, отвяжись, — огрызнулся Рокфрут, но, казалось, понял, что зашел слишком далеко. Его голос стал тише, когда капитан Мабберс неодобрительно уставился на него. Даже его товарищи явно считали, что язык Рокфрута явно подвел его. — Мы немного нервничаем, — сказал один из них извиняющимся тоном. — Еще бы! — капитан Мабберс пнул ногой свое брошенное оружие. — Все проклятые мучения которые мы прошли, чтобы добраться до нашего корабля сначала… — …и все, что мы уничтожили, появлялось снова, — пожаловался Рокфрут, явно довольный, что нашел общую с капитаном тему. — …и все наши вонючие пленники вдруг исчезали, — добавил другой. — Где тут смысл? — добавил жалобно капитан Мабберс. — Когда мы сели на эту планету, мы думали, что грабеж будет легким, что вытереть твой нос… — С тех пор, — сказал Рокфрут, — нас преследуют неприятности. Никакого смысла. Как вы можете терроризировать людей, которые смеются над вами? Кроме того, все меняется вокруг все время… — Это планета иллюзий, — сказал капитан Мабберс внушительно. Его зрачки разбежались в стороны. — Здесь вероятно, еще одна из их ловушек, он сфокусировал глаз на Джереке. — Это так? Ты, кажется приличный парень. Это правда? — Не думаю, чтобы кто-то непременно намеренно преследовал вас, сказал ему Джерек. — На самом деле мы хотели принять вас как гостей. Что произошло в точности? Кто остановил вас? — Ну, это была ничья. Мы бежали от проклятого пара, — сказал Рокфрут. — Затем появились эти маленькие чертовые круглые ребята. Они… Миссис Ундервуд оттянула Джерека за рукав. Он повернулся к ней. Топая по ступенькам лестницы, поднимались инспектор Спрингер, сержант Шервуд и команда полицейских. — Джи плу фиг тендей вага? — сказал инспектор Спрингер. — Флу хард! — воскликнула миссис Ундервуд. Джереку подошло время проглотить очередную пилюлю. — Пора взять их, — инспектор Спрингер махнул своим людям. — Надеть наручники! Констебли, двигаясь, как автоматы, шагнули вперед, чтобы арестовать несопротивляющихся Латов. — Я знал что вы соберетесь где-нибудь рано или поздно, — сказал инспектор Спрингер Джереку. — Поэтому я позволил вам уйти. — Но как вы могли последовать за нами, инспектор? — спросила миссис Ундервуд. — Реквизировали экипаж, — важно ответил ей сержант Шервуд. — Чей? — О… его, — сержант ткнул пальцем назад. Джерек и Амелия обернулись и посмотрели вниз. Там стоял Герцог Королев в ярко-голубой униформе, похожей на форму сержанта Шервуда. Когда они встретились с ним глазами, он приветливо помахал им желтой дубинкой и дунул в серебряный свисток. — О, небеса! — воскликнула она. — Мы сделали его почетным Констеблем, не правда ли, инспектор? сказал сержант Шервуд. — Чтобы посмеяться немного, не будет никакого вреда, — улыбнулся сам себе инспектор Спрингер. — Если нам от этого будет польза. — Круфруди, хрунг! — сказал капитан Мабберс, когда его повели прочь. Город содрогнулся и застонал. Наступила и прошла неожиданная темнота. Джерек заметил, что кожа у всех показалась призрачно-белой, почти голубой, и глаза их стали похожи на глаза статуй. — Проклятье! — сказал сержант Шервуд. — Что это было? — Город… — прошептала миссис Ундервуд. — Он такой спокойный, такой молчаливый, — она пододвинулась к Джереку и вжала его руку. Он был рад подбодрить ее. — Это часто случается? — Насколько я знаю, нет… Все замерли, даже Герцог Королев внизу. Латы нервно огрызались один на другого. Рты большинства констеблей раскрылись. Еще одна судорога. Где-то вдали задребезжал кусок металла, и затем этот кусок с грохотом упал, но это был естественный звук. Джерек подтолкнул ее к лестнице. — Нам, я думаю, лучше спуститься на землю. Если это земля. — Землетрясение? — Мир слишком стар для землетрясений, Амелия. Они поспешили вниз по ступенькам, и их движение заставило других последовать за ними. — Надо найти Гарольда, — сказала миссис Ундервуд. — Это опасно, мистер Корнелиан? — Не знаю. — Вы сказали, что город безопасен. — От Латов, — Джерек с трудом смотрел на ее смертельно бледную кожу. Он моргнул, как будто мог убрать сцену, но сцена осталась. Они достигли Герцога Королев. Герцог погладил свою бороду. — Я остановился около твоего дворца, Джерек, но тебя там не было. Инспектор Спрингер сказал, что он тоже ищет тебя, поэтому мы последовали за тобой. Пришлось тебя поискать. Ты знаешь на что похожи эти города, — он покрутил в пальцах свисток. — Не кажется тебе, что этот ведет себя странно? — Умирает? — Возможно, или подвергается какому-то радикальному изменению. Города, говорят, способны восстанавливать себя. Может быть, это? — Не похоже… Герцог кивнул… — Хотя он не может сломаться. Города бессмертны. — Сломаться внешне, возможно. — Будем надеяться, что этим все ограничится. Ты выглядишь больным, Джерек, мой дорогой. — Я думаю, мы все так выглядим. Свет. — Действительно, — Герцог сунул свисток в карман. — Ты знаешь мои инопланетяне исчезли. Пока Латы буйствовали. Они добрались до своего корабля вместе с Юшариспом и Монгровом. — Они улетели? — О, нет. Они все испортили. Латы, должно быть, недовольны. Они выглядят немного сердитыми, не правда ли? Юшарисп и компания одолели их! Герцог засмеялся, но звук показался таким неприятным, даже для его собственных ушей, что он замолчал. — Ха, ха… Город, казалось, накренился, как если бы все структуры скользнули вниз со склона. Они восстановили свое равновесие. — Нам лучше пройти к ближайшему выходу, — сказал один из констеблей гулким голосом. — Идти, а не бежать. Если никто не будет паниковать, мы всех быстро эвакуируем. — Мы получили то, за чем при шли, — согласился сержант Шервуд. Его униформа окрасилась в серый цвет. Он продолжал обмахивать ее, будто считал цвет пылью, пристав шей к материалу. — Где мы оставили штуку, на которой прибыли? — инспектор Спрингер снял шляпу и вытер ее изнутри платком. Он посмотрел вопросительно на Герцога Королев. — Внимание специальный констебль! — его усмешка была фальшивой и ужасной. — Где летающая машина? Некоторое мгновение Герцог Королев был настолько озадачен манерами инспектора, что просто смотрел на него. — Воздушный корабль, хо-хо-хо, который принес нас сюда! — инспектор Спрингер вернул на место свою шляпу и быстро сглотнул два или три раза. Герцог Неопределенно ответил: — Вон там, я думаю, — он медленно развернулся, покачивая своей дубинкой (ставшей коричневой). — Или в этом направлении! — Проклятье! — сказал инспектор с отвращением. — Мибикс? — произнес рассеянно капитан Мабберс, как будто думая о чем-то другом. Земля издала стонущий звук и содрогнулась. — Гарольд! — Миссис Ундервуд дернула Джерека за рукав. Он заметил что белая ткань его костюма стала пятнисто-зеленой. Вы должны найти его, мистер Корнелиан. Когда Джерек и Амелия побежали назад, туда, где они оставили ее мужа, инспектор Спрингер так же кинулся за ними рысцой, потом его люди, неся между собой ворчащих, но не сопротивляющихся Латов, а за ними следовал Герцог Королев, немного повеселевший от перспективы действий. Действия, события, были его жизнью, без них он увядал. На бегу Джерек и Амелия слышали пронзительный звук свистка Герцога, и его голос, кричащий: — Эй! Эге-гей. От земли доносились шепчущие звуки при каждом сделанном шаге. Что-то горячее и органическое запульсировало казалось, в одном месте под их ногами. Они достигли площадки из гниющего металла. Сквозь сумрак можно было различить Гарольда Ундервуда, все еще погруженного в беседу со своим другом. Он поднял голову. — Ха! — тон его был добрее. — Так, вы все здесь. Это говорит кое-о-чем, не правда ли, в нашем низменном мире? — по всей видимости, собеседник не произвел глубокого впечатления на его убеждения. Равнина судорожно вздохнула, подалась и стала ямой в милю шириной. — Я думаю, нам лучше сделать новый аэрокар, — сказал Герцог Королев, резко останавливаясь. Гарольд Ундервуд подошел к краю ямы и заглянул вниз. Он? почесал соломенного цвета волосы, нарушив пробор… — Итак, по крайней мере, имеется еще один уровень, — задумчиво произнес он. — Полагаю это к лучшему, — он не сделал попыток к сопротивлению, когда жена мягко оттащила его назад. Герцог Королев крутил все свои кольца власти. — Наши кольца не работают в самом городе? — спросил он у Джерека. — Я не помню. За их спинами молча взорвалось здание. Они смотрели как обломки пыли плыли над их головами. Джерек заметил что кожа у них всех теперь имела пятнистый, мерцающий оттенок цвета жемчуга. Он пододвинулся ближе к Амелии, все еще вцепившись в своего мужа, единственного из их компании, выглядевшего спокойным. Они по шли прочь от ямы, огибая город. — Редкий случай, когда энергии города не хватает, — сказал неподвижный собеседник Гарольда Ундервуда. — Кому могла понадобиться такая мощность? — Значит вы знаете, что является причиной такого беспорядка? Нет. Нет, кто может сказать? Вы должны связаться с центральным философским отделом, хотя я думаю, что я — все что от него осталось. Если я только не составляю его целиком. Кто скажет, что является частью, а что — целым? И если целое содержится в каждой части или часть в целом, или целое и часть различны, не в терминах размера или емкости, а в существенных свойствах… Сожалея о своей невежливости, Джерек продолжал путь мимо камня. Было бы чудесно обсудить эти вопросы — сказал он, — но мои друзья… — Круг — это круг, — сказал Гарольд Ундервуд. — Мы без сомнения, вернемся назад. Прощайте, пока — бормоча про себя, он позволил Джереку и Амелии увести себя. — Несомненно, несомненно. Природа реальности такова, что ничто не может, по определению, быть нереальным, если оно существует, а так как все может существовать, если его можно представить, тогда все, о чем мы говорим, как о нереальном, следовательно реально… — Его аргументы довольно слабые, — сказал негромко Гарольд Ундервуд, как бы извиняясь. — Я не верю, что оно имеет то значение, о котором заявляет. Ладно. Кто мог бы поверить, что Данте-католик, оказался таким точным, в конце концов! — Он улыбнулся им. — Но теперь я полагаю мы можем забыть эти сектантские развлечения. Проклятия, определенно, расширяют кругозор! Миссис Ундервуд судорожно вздохнула. — Что это за штука, Гарольд? Он просиял. — Что-то живое, возможно, животное перебежало им путь и скрылось в недрах города. — Мы на краю, — сказал Герцог Королев. — Хотя ничего, кроме черноты, дальше не существует. Неисправность силового экрана? — Нет, — сказал Джерек, который находился впереди него. — Город все еще испускает немного света. Я могу видеть, но там только пустыня. — Там нет солнца, — всмотрелась вперед Амелия. — Нет звезд. — Планета мертва? Вы это имеете в виду? — присоединился к ним Герцог Королев. — Да, там пустыня. Что стало с нашими друзьями? — Полагаю, слишком поздно говорить, что я, конечно, прощаю тебе все, Амелия, — сказал вдруг Гарольд Ундервуд. — Что, Гарольд? — Это не имеет значения теперь. Ты была, конечно, любовницей этого человека. Ты совершила измену. Вот почему вы оба здесь. С некоторой неохотой Амелия оторвала взгляд от безжизненного пейзажа. Она нахмурилась. — Я был прав, не так ли? Ошеломленная, она переводила взгляд от Джерека Корнелиана к Гарольду Ундервуду и обратно. На губах Джерека появилась удивленная полуулыбка. Она сделала беспомощный жест. — Гарольд, разве сейчас время?… — Она любит меня, — сказал Джерек. — Мистер Корнелиан! — И ты его любовница? — Гарольд Ундервуд протянул ласково руку к ее лицу. — Я не обвиняю тебя, Амелия. Она глубоко вздохнула и коснулась руки мужа. — Очень хорошо, — Гарольд. В душе, да. И я люблю его. — Ура! — закричал Джерек. — Я знал, я знал! О, Амелия, это счастливейший день в моей жизни! Остальные повернулись, смотря на них. Даже Герцог Королев казался шокированным. А откуда-то с неба над их головами гулкий голос, полный мрачного удовлетворения, закричал: — Я говорил вам это! Я говорил вам всем это! Глядите — это конец мира!17. НЕКОТОРАЯ ПУТАНИЦА, КАСАЮЩАЯСЯ ПРИРОДЫ КАТАСТРОФЫ
Лорд Монгров посадил на землю большой черный яйцеобразный воздушный корабль с вмятиной на самом верху. На чертах гиганта лежало выражение глубокого меланхолического удовлетворения, когда он вышел из судна, показывая правой рукой на опустение за городом, где даже ветерок не шевелил бесплодную пыль в подобие присутствия жизни. — Все исчезло, — вещал Монгров. — Города больше не поддерживают наши забавы. Они едва поддерживают себя. Мы — последние выжившие из человечества. И еще вопрос, как долго мы будем существовать? Что ж, по крайней мере, большая часть путешественников во времени была возвращена, а космическим путешественникам отданы их корабли, хотя от них мало пользы теперь. Юшарисп и его люди сделали все, что могли, но они могли бы сделать больше, Герцог Королев, если бы вы не были так глупы, что посадили их в свой зверинец. — Я хотел удивить вас, — сказал как-то неловко Герцог, не в силах оторвать глаз от пустыни. — Вы имеете в виду, что там совершенно нет жизни? — Города — это оазисы в пустыне, которой является наша Земля, подтвердил Монгров. — Планета сама неминуемо развалится. Джерек почувствовал руку миссис Ундервуд, ищущую его. Он твердо сжал ее. Она храбро улыбнулась ему. Герцог продолжал крутить бесполезные теперь кольца власти. — Должен сказать, что ощущается определенное чувство потери, — сказал он наполовину себе. — И Миледи Шарлотина исчезла? И Епископ Касл? И Сладкое Мускатное Око? И По Аргонхерт? — Все кроме тех, кто здесь. — Вертер де Гете? — Вертер тоже. — Позор! Он очень порадовался бы этой сцене. — Вертер больше не флиртует со смертью. Смерть потеряла терпение и забрала его, — лорд Монгров вздохнул. — Скоро я встречаюсь с Юшариспом и остальными здесь. Тогда мы узнаем, сколько времени у нас осталось. — Значит, наше время ограничено? — спросила миссис Ундервуд. — Вероятно. — Черт, — сказал инспектор Спрингер, до которого начало доходить значение слов Монгрова. — Просто невезение! — он снова снял шляпу. Полагаю, теперь нет никаких шансов вернуться? Вы не видели здесь больших машин времени, а? Мы прибыли сюда по официальному делу… — Ничто не существует за пределами городов, — повторил Монгров. — Я думаю, ваш коллега, путешественник во времени, помогал в общем бегстве отсюда. Мы считали вас мертвыми. На мгновение за их спинами город пронзительно вскрикнул, но быстро затих. Красные облака, словно кровь в воде, поднялись клубами в атмосферу. Город будто был ранен. — Итак, он вернулся… — продолжал инспектор Спрингер. — Вы уверены, а? — Сожалею, но факты говорят об этом. Если ему не повезло, он, возможно, оказался пойманным в общем хаосе уничтожения. Все произошло очень быстро. Атомы как вы знаете распадаются. Как и наши атомы, без сомнения, распадутся в конце концов. И атомы города и планеты присоединятся к вселенной. — О, господи! — сержант Шервуд скривил лицо. — Хм, — инспектор Спрингер пощипал усы. — Не знаю, что скажет Канцлер, но никого, чтобы объяснить… — И мы тоже никогда не узнаем, — добавил сержант Шервуд. — Все прекрасно обернулось, — он, казалось, обвинял инспектора. — Зачем нам теперь повышение? — Я думаю, сейчас время примириться со своей судьбой, — предложил Гарольд Ундервуд. — Земные амбиции должны быть отодвинуты в сторону. Мы оказались здесь, и перед нами вечность. Мы должны покаяться. — Успокойтесь, мистер Ундервуд, — плечи инспектора Спрингера поникли. — Вот так. — Может еще есть шанс на спасение, инспектор? — Что вы имеете в виду, сэр, — спросил сержант Шервуд, под спасением? — Я рассматривал возможность, что человеку может быть даровано царство Небесное, даже после того, как он был помещен сюда, если тот, поймет, почему он оказался здесь… — Здесь? — В Аду. — Вы думаете это… — Я знаю, это, — улыбка Гарольда Ундервуда стала сияющей, он никогда не выглядел таким расслабленным. Стало ясно, что он абсолютно счастлив. Амелия Ундервуд смотрела на него с некоторой привязанностью и облегчением. — Все это напомнило мне одну историю о путешествии пилигрима, — начал мистер Ундервуд, дружески обхватив плечи сержанта Шервуда. — Если вы помните рассказ… Они пошли вместе вдоль периметра города. — Есть хоть какой-нибудь шанс на спасение, Лорд Монгров? — спросила миссис Ундервуд. — Юшарисп и его люди сейчас занимаются этой проблемой. Может быть, при тщательном использовании ресурсов, имеющихся в нашем распоряжении, мы сможем поддерживать небольшой искусственный сосуд в исправности несколько сотен лет. Может даже оказаться, что все смогут поместиться в нем, и потребуется выбор из тех, кто, наиболее вероятно, выживет… — Значит что-то вроде нового Ковчега? — предложила она. Ссылка на ковчег ничего не значила для Лорда Монгрова, но он был вежлив. — Если хотите, это означает жизнь в самых суровых и некомфортабельных условиях. Самодисциплина будет всего важней, конечно, и там не будет места для развлечений любого рода. Мы используем все, что можем, из городов, всю информацию, какую сможем собрать, и будем ждать. — Чего? — спросил ужаснувшись Герцог Королев. Ну, какой-нибудь счастливой случайности… — Какого рода? — Нельзя быть уверенным, Никто не знает, что случится после разрушения. Возможно начнут формироваться новые солнца и планеты. О, я знаю, это маловероятно, Герцог Королев, но это лучше, чем полное вымирание, не так ли? — Действительно, — ответил с некоторым достоинством Герцог Королев, надеюсь, у вас нет намерения выбрать меня для этого — этого зверинца! — Выбор будет сделан справедливо. Не я буду судьей. полагаю, мы будем тянуть жребий. — Это ваш план, лорд Монгров? — спросил Джерек. — Ну, мой и Юшариспа. — Он нравится вам? — Вопрос не может быть поставлен так, что нравится, Джерек Корнелиан, так как это вопрос реальности. Больше нет выбора! Поймите вы! Больше нет выбора! — голос Монгрова стал почти дружелюбным, — Джерек, твое детство кончилось. Настало время тебе стать взрослым, понять, что мир больше не твоя игрушка. Он посмотрел вверх. — А вот наши спасители. С пронзительным шумом знакомая асимметричная куча, которая была космическим кораблем Юшариспа, начала опускаться рядом с яйцом Монгрова. Почти немедленно послышалось негромкое потрескивание, и в боку корабля открылась дверь. Из нее показался Юшарисп (по крайней мере, это вероятно был он), а за ним его коллеги. — Так много (скр-р-р) уцелевших! — воскликнул Юшарисп. Полагаю, что (скр-р-р) мы должны быть (скр-р-р) благодарны! Мы выжившие с Пупли, приветствуем вас и рады крии ели мяук… — Юшарисп поднял одну из своих ног и начал возиться с чем-то на боку своего тела. Другой пуплианец (вероятно, ГНС Шашурп), сказал: — Я надеюсь (скр-р-р), что Лорд Монгров информировал вас (скр-р-р), что вы должны теперь подчиниться (скр-р-р) нашей дисциплине, если хотите увеличить свои шансы на жизнь (скр-р-р-р)… — Очень неприятная идея, сказал Герцог Королев. Пуплианец сказал с нотой удовлетворения в голосе: — Прошло не очень много времени (скр-р-р-р), Герцог Королев, когда мы были вынуждены (скр-р-р-р) подчиняться вашей воле без всяких оправданий (скр-р-р) к этому! — Тогда все было совсем иначе. — Конечно (скр-р-р). Герцог Королев погрузился в мрачное молчание. — Насколько (скр-р-р-р) мы можем установить, — продолжал Юшарисп, Ваши города все еще продолжают функционировать (скр-р-р-р), и похоже что они (скр-р-р) будут действовать достаточно долго (скр-р-р-р), чтобы дать нам время подготовить эвакуацию (скр-р-р). Если найти средства использовать их энергию… Джерек поднял руку, на которой сверкали кольца власти. — Вот что управляет энергией города, Юшарисп. Мы пользовались ими много миллионов лет, я думаю. — Эти игрушки (скр-р-р) не нужны нам сейчас, Джерек Корнелиан. — Эта встреча становится скучной, — сказал Джерек на ухо Амелии. Можно нам уйти? у меня есть многое, что я хотел сказать. — Мистер Корнелиан. Пуплианцы хотят помочь нам? — Но таким скучным образом, Амелия. Вы хотите жить еще в одном зверинце? — Это не совсем тоже самое. Как они говорят, у нас нет выбора. — Он у нас есть. Если города живы мы сможем жить в них по крайней мере какое-то время. Мы будем свободны, Мы будем одни. — Вы значит не боитесь уничтожения? Несмотря на то, что вы видели пустыню — вон там? — Я все еще не вполне уверен, что такое «страх». Пойдемте, прогуляемся, и вы сможете попытаться объяснить мне это. — Что ж… недалеко, ее рука все еще лежала в его. Они пошли. — Куда вы (скр-р-р) направились? — завопил удивленный Юшарисп. — Возможно мы присоединимся к вам позже, — сказал ему Джерек. — Нам нужно кое что. — На это нет времени! (скр-р-р). Не осталось времени… Но Джерек не обращал на него внимания. Они отправились к городу, где уже исчезли незадолго до этого ГарольдУндервуд и сержант Шервуд. — Это (скр-р-р) безумие! — кричал Юшарисп. — Вы отвергаете (скр-р-р) нашу помощь после всех наших усилий? После того, как мы простили вас (скр-р-р)! Мы все еще немного не в ясности, — ответил Джерек, вспомнив свои манеры, — насчет такой природы катастрофы. Поэтому… — В неясности? Разве это (скр-р-р) не очевидно? — Вы, кажется, настаиваете, что здесь один ответ? — Я предупреждал тебя, Джерек, — сказал Монгров, — Больше нет выбора! — Ага! — Джерек продолжал тянуть Амелию к городу. — Это и есть Конец Времени. Конец Материи! — Монгров окрасился в очень странный цвет. — Может быть, осталось только несколько секунд! — Тогда мне, кажется, мы можем провести их как можно спокойнее, ответил ему Джерек. Он обнял Амелию за плечи. Она прижалась к нему улыбаясь… Он наклонился чтобы поцеловать ее, и они завернули за угол разрушенного здания. — О, вот вы где, наконец-то, раздался дружеский голос. — К счастью, я не опоздал. На этот раз Джерек не повернулся к вновь прибывшему, пока не поцеловал губы Амелии Ундервуд.18. ОТКРЫВАЕТСЯ ПРАВДА И НАМЕЧАЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Вспышка красного мерцающего света обратила фигуру путешественника во времени (так как это был он) в силуэт. Город забормотал что-то на момент, будто бы в своей дряхлости, только сейчас осознал опасность. Голоса доносились из разных мест, где были активизированы банки памяти. Чуть ли не истеричная болтовня производила довольно тревожные впечатления, пока не затихла. Амелия осознала присутствие наблюдателя. Ее губы удалились, она улыбнулась Джереку, а затем они оба повернули головы к путешественнику во времени, который ждал, рассеянно изучая какие-то детали покрытой мхом конструкции, пока они не закончили. — Простите нас, — сказал Джерек, — но в связи с неопределенностью будущего… — Конечно, конечно, — путешественник не слышал Джерека. Он махнул рукой. — Должен признаться я не знал, что это будет такой дьявольской работой — доставить пассажира назад прежде, чем вернуться сюда. Я отсутствовал не более пары часов, да? Очень хороший баланс. Кто-нибудь еще обнаружился? Джерек мог прочесть по выражению лица Амелии, что она не одобряет легкомыслия путешественника. — Вы знаете, сэр, мир заканчивает существование? Я думаю, через несколько минут. — Гм, — он кивнул в подтверждении, но не счел заявление интересным. — Здесь Герцог Королев? — Джерек удивился неожиданному ветерку, несущему запах гиацинтов. Он поискал источник, но ветерок утих. — И Юшарисп из космоса и инспектор Спрингер, и Лорд Монгров, и капитан Мабберс, и остальные. Путешественник нахмурился. — Нет, нет, я имею в виду людей из Общества! — Общество? — переспросила миссис Ундервуд, на мгновение перенесшись в Бромли. Затем она поняла смысл вопроса. — Гильдия — Они должны быть здесь? Он и надеются спасти кого-нибудь? — Мы договорились о встрече. Это казалось самым удобным местом. В конце концов дальше идти некуда! — путешественник во времени прошел несколько ярдов к месту, где стояла его немного потрепанная машина, с хрустальными частями, тлеющими изменяющимися цветами, латунь которой отражала красный цвет от города. — Одни небеса знают, какой вред нанесла моей машине наша поездка. Она не была проверена соответствующим образом, знаете ли. Моя основная причина для пребывания здесь. — получить информацию от Членов Гильдии о том, где достать запасные части и как я могу, если повезет, вернуться в свою собственную вселенную, — он похлопал по эбонитовой раме. — Тут в ней трещина, и ее хватит не более, чем на пару длинных путешествий. — Значит вы пришли не наблюдать конец мира? — Джереку хотелось, чтобы его кольца власти работали, и он смог бы сделать себе теплое пальто. Он чувствовал холод каждой костью. — О, нет, мистер Корнелиан! Я видел это не один раз! — путешественник улыбнулся. — Это просто удобное во времени место. — Но вы могли бы спасти инспектора Спрингера и моего мужа и его людей — взять их обратно, — сказала миссис Ундервуд. — Вы, в конце концов, привезли их сюда. — Вы что, полагаете, что я морально виноват в их затруднениях. Тем не менее, Канцлер реквизировал мою машину, хотя я не хотел использовать ее. Фактически, миссис Ундервуд, я был запуган. Я никогда не думал услышать такие угрозы из губ слуг английского общества! И Лорд Джеггет выдал меня. Я работал в тайне. Конечно узнав его, я доверил кое-что из своих исследований ему. — Вы узнали Лорда Джеггета? — Как товарища по путешествиям во времени. — Итак, он все еще в девятнадцатом столетии! — Он был, но исчез вскоре после того, как со мной вступил в контакт Канцлер. Я думаю он вначале хотел реквизировать мою машину для своей собственной пользы, и использовал свои знакомства с различными членами правительства. Видите ли, его машина сломалась. — Значит его больше не было в 1896 году, когда вы отбыли оттуда? Джерек хотел услышать новости о своем друге. Вы знаете куда он отправился? — У него была какая-то теория, которую он хотел проверить. Путешествие во времени без машины. Я считал это опасным и сказал ему об этом. Я не знал, что он задумал. Должен сказать, меня не заботит его судьба. Неприятный человек. Слишком занят собой. И он подвел меня, втянув в свои сложные интриги. Джерек не слушал критические рассуждения путешественника во времени. — Вы плохо знаете его. Он очень помог мне не единожды. — Я уверен, у него есть свои достоинства, но они слишком эгоистичны. Он играет в Бога, а я не люблю этого. Встречаются подобные путешественники во времени, но все они плохо кончают. — Вы думаете, лорд Джеггет мертв? — спросила его миссис Ундервуд. — Более, чем вероятно. Джерек был благодарен за руку, которую она подала ему. — Я считаю, что это ощущение очень близко к «страху», о котором ты говорила, Амелия. Или, может быть, к «горю»? Она почувствовала угрызения совести: — О, это моя вина. Я не научила тебя ничему, кроме боли. Я лишила тебя твоей жизнерадостности! Он был удивлен. — Если радость исчезает, Амелия, то перед лицом опыта. Я люблю тебя. И, кажется, нужна плата за этот экстаз, который я чувствую. — Плата! Ты никогда не упоминал о подобной вещи прежде! Ты принимал доброе и не понимал злое, — она говорила тихо, помня о присутствии путешественника во времени. Джерек поднял ее руку к своим губам, целуя сжатые пальцы. — Амелия, я скорблю о Джеггете и, возможно, о моей матери тоже… — Я стала эмоциональной, — сказала она. — Трудно знать, подходит ли такое состояние ума к ситуации… — и она засмеялась, хотя на ее глазах выступили слезы. — Да это просто истерика. Тем не менее, не зная, ждет ли нас скорая смерть или спасение… Он притянул ее к себе и поцеловал глаза. Очень быстро после этого она взяла себя в руки, рассматривая город тревожным, несчастным взглядом. Город имел все признаки упадка, и Джерек сам больше не верил тем заверениям, которые он дал ей, что изменения в городе были просто поверхностными. Там, где раньше возможно было видеть почти на милю панораму конструкций и зданий, теперь света было достаточно только чтобы видеть на сотню ярдов или около того. Он? начал обдумывать мысль, не попросить ли путешественника во времени спасти их, взять их назад в 1896 год, рискнуть опасностями эффекта Морфейла (который, чтобы там не говорили, кажется, не действовал на них так, как на остальных). — Все то солнечное сияние, — сказала она, — оно было фальшивым, как я тебе уже говорила. В вашем небе никогда не было настоящего солнца, только то, которое города создали для вас. Весь твой мир, Джерек, был ложью! — Ты слишком критична, Амелия. У человека, есть инстинкт поддерживать свое окружение. Города были созданы в соответствии с этими инстинктами. Они служили ему хорошо. Ее настроение изменилось. Она отодвинулась от него. — Так жестоко, что они подвели нас сейчас. — Амелия… — он пододвинулся к ней. Именно в этот момент рядом с хронобусом путешественника во времени появилась сфера, без предупреждения. Она была черной, и в ее мерцающем корпусе отражались искаженные образы окружающего города. Джерек и Амелия наблюдали, как повернулась крышка люка и появились две одетые в черное фигуры, сдвигая назад дыхательные аппараты и очки. Их сразу узнали — это были миссис Уна Персон и капитан Освальд Вестейбл. Капитан Вестейбл улыбнулся, когда увидел их. — Итак вы прибыли невредимыми. Превосходно. Подошел путешественник во времени, пожав руку молодому капитану. — Рад что вы прибыли на рандеву, старина. Как поживаете миссис Персон? Рад снова видеть вас. Капитан Вестейбл был в хорошем настроении. — Это стоит посмотреть, а? — Вы не присутствовали при Конце раньше? — Нет. Я надеялся, что вы сможете дать мне какой-нибудь совет. — Конечно, если мы сможем помочь. Но человек, который вам нужен, это Лорд Джеггет. Именно он… — Его нет здесь, — путешественник сунул обе руки в карманы куртки. Есть сомнения относительно того, что он выжил в катаклизме. Уна Персон отряхнула свои короткие волосы. Она рассеянно огляделась вокруг, когда здание, казалось, протанцевало несколько фунтов по направлению к ней, сложившись как гармошка. — Меня никогда не привлекали подобные места. Это Танелорп? — Танелорм, я думаю, — Джерек держался в стороне, хотя отчаянно хотел узнать новости о своем друге. Даже имена перепутались. Это долго продлится? Считая, что он правильно понял ее вопрос, Джерек ответил. — Монгров считает, что несколько минут. Он говорит, что сама планета распадается. Миссис Персон вздохнула и устало потерла глаза. — Мы должны уточнить координаты, капитан Вестейбл. условия такие подходящие. Жалко терять возможность… Капитан Вестейбл извиняюще пожал плечами. — Не каждый день у нас есть шанс увидеть что-нибудь такое интересное… — Я стараюсь попасть назад в мою собственную вселенную, — начал путешественник во времени. — Мне сказали, что вы можете помочь, что у вас есть опыт в решении подобных проблем. — Это вопрос пересечений, — ответила миссис Персон. — Вот почему я хочу сосредоточиться на координатах. Условия превосходные. — Вы сможете помочь? — Надеюсь, — она не казалась готовой обнаружить незнание или обсудить вопрос. Вежливо, хотя и с неохотой, путешественник во времени замолчал. — Вы все воспринимаете эту ситуацию очень легко, Амелия Ундервуд бросила критический взгляд на маленькую группу. — Даже эгоистично. Есть возможность эвакуировать хотя бы часть из находящихся здесь людей, взять их назад сквозь время. У вас нет чувства… катастрофы, имеющей место. Все чаяния нашей расы исчезли, как будто никогда не существовали! Уна Персон ответила с определенной усталой добротой. — Это, миссис Ундервуд, мелодраматическая интерпретация… — Миссис Персон, ситуация кажется более чем «мелодраматической». Это уничтожение! — Для некоторых, возможно. — Но не для вас путешественников во времени. Вы не сделаете даже усилий, чтобы помочь другим? Миссис Персон с трудом подавила зевок. — Я думаю, наши перспективы совсем другие, миссис Ундервуд. Уверяю вас, что я не без общественной сознательности, но когда вы испытали так много, для нас все это обретает другую окраску. Кроме того, я не думаю… О, небеса! Что это? Все последовали ее взгляду к низкой линии руин, недавно обрушившихся. Там, в полутьме, скакала, очевидно, по верхушкам обломков, процессия из дюжины объектов приблизительно куполообразной формы. Джерек и Амелия сразу же узнали в объектах шлемы констеблей и инспектора Спрингера. Они услышали слабый звук свистка. Через несколько секунд, когда в руинах появился просвет, всем стало ясно, что это погоня. Латы пытались убежать от своих пленителей. Их маленькие грушевидные тела быстро двигались по упавшим стенам, но люди инспектора Спрингера отстали ненамного. Крики Латов и полицейских были ясно слышны теперь. — Хрунт мибикс феркит! — Стой! Стой! Именем закона! Хватай его, Уич! Латы спотыкались и падали, но умудрялись ускользнуть от преследователей, несмотря на то, что большинство из них, кроме капитана Мабберса и, возможно, Рокфрута, были все еще в наручниках. Снова заверещали свистки. Латы исчезли из виду, но вскоре появились недалеко от сферы времени миссис Персон, увидели группу людей и поколебались, прежде чем броситься в другую сторону. Полицейские, остающиеся верными своему долгу, пока не прозвучит трубный Глас, и сама Земля не исчезнет из-под их ног, продолжали неутомимо преследовать свою добычу. Вскоре и Латы и полицейские удалились за пределы видимости и слышимости, и беседа могла продолжаться. Миссис Персон, казалось, потеряла часть своих усталых манер. — Я не имела представления, что здесь находятся другие люди! Это не те инопланетяне, которых мы посылали сквозь время? Я думала, что они к этому времени покинули планету. — Они сперва захотели ограбить и уничтожить все, что можно, объяснил Джерек. — Но пуплианцы оставили их. Пуплианцы кажется испытывают удовольствие в том, чтобы бросать все, начатое! Я полагаю, это их глас триумфа. Они ждали его, конечно, долго, поэтому не стоит критиковать… — Вы имеете в виду, что в городе находится еще одна раса космических путешественников? — спросил капитан Вестейбл. — Да, Пуплианцы, как я сказал. У них есть план для выживания, но я не согласен с ними. Герцог Королев… — Он здесь! — просветлела миссис Персон. Капитан Вестейбл немного нахмурился. Вы знаете Герцога? — О, мы старые друзья. — И Лорда Монгрова? — Я слышала о нем, — сказала миссис Персон, — но никогда не имела удовольствие встретиться с ним. Тем не менее, если есть такая возможность… — Я буду рад представить вас. Конечно, предполагается, что этот маленький оазис не развалится прежде, чем у меня появится шанс. — Мистер Корнелиан! — Амелия потянула его за руку. — Я хочу напомнить вам, что сейчас не время для приятной беседы. Мы должны убедить этих людей спасти столько жизней, сколько возможно! — Я забылся. Так приятно было узнать, что миссис Персон — друг Герцога Королев. Ты не считаешь, дорогая Амелия, что мы должны попытаться найти его. Он будет рад возобновить знакомство, я уверен! Миссис Ундервуд пожала своими милыми плечиками, вздохнула. Она, казалось, начала терять интерес ко всему происходящему.19. ИЗЛАГАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ РАЗВИВАЮТСЯ ДАЛЬШЕ
Уловив недовольство Амелии и стараясь реагировать на события, как она желает, Джерек припомнил кое-что из Уэлдрейка:20. ЛОРД ДЖЕГГЕТ КАНАРИИ ВЫКАЗЫВАЕТ ПРАВДИВОСТЬ, КОТОРОЙ ИЗБЕГАЛ РАНЬШЕ
— Я полагаю мои дорогие, что мне лучше начать с признания, что я не был первоначально, из Конца Времени, — сказал Лорд Джеггет. — Мое происхождение недалеко от вашего, Амелия (если я могу звать вас Амелией) двадцать первое столетие, если быть точным. После ряда приключений я прибыл сюда около тысячи лет назад и, не желаю провести всю свою жизнь в зверинце, я представил себя как созданную мною личность. Таким образом, хотя и подверженный эффекту Морфейла, я смог продолжать свои исследования и эксперименты по природе времени, открыв между прочим, что я могу, соблюдая определенные правила, оставаться долгие периоды в одной и той же эре. Стало даже очевидным, что я мог, если пожелаю, устроиться в одном из ненаселенных периодов времени. Во время этих экспериментов я встречался с другими путешественниками во времени, включаю миссис Персон (возможно, самого опытного хрононавта, который у нас есть) и мог обмениваться информацией, сделав в конце концов, вывод что я являюсь чем то вроде исключения, так как ни один путешественник во времени не был так мало подвержен влиянию Эффекта Морфейла. Наконец, я решил, что при определенных условиях я могу не страшиться эффекта, если приму определенные предосторожности (которые включали тщательное внедрение в один из периодов и соответственно избежание всяческих анахронизмов). Дальнейшие исследования показали, что моя способность зависит не столько от моей самодисциплины, сколько от особенности моих генов. — Ага! — сказал Джерек. — Нам уже говорили о генах. — Вполне вероятно. Ладно, в течении моих различных экспедиций по тысячелетию мне стало известно, задолго до того, как инопланетянин принес нам эти известия, что конец Времени близок. Узнав это, мне казалось что я могу спасти что-то из нашей культуры и обеспечу выживание нашей расы, сделав своего рода временную петлю. Для вас должно быть очевидным, что я надеялся сделать — взять определенных людей с конца Времени и поместить их в начало со всеми знаниями, какие можно взять и со всей их цивилизацией. Наука построила бы нам новые города, думал я, у нас будут впереди миллиарды лет. Как бы то ни было, один факт стал ясен очень рано, и он касался эффекта Морфейла. Он не позволил бы осуществиться моему плану, без разницы как бы далеко во времени я не вернулся. Только люди с Генами, как у меня, могли бы колонизировать прошлое. Следовательно я модифицировал схему. Я найду нового: Адама и Еву, которые дадут потомство и произведут расу, неподвластную времени (или по крайней мере, раздражающему эффекту Морфейла). Чтобы сделать это, я должен бы найти мужчину и женщину, имеющих такие же характеристики, как и я сам. В конце концов, я махнул рукой на поиски открыв через эксперимент, что твоя мать Джерек, Железная Орхидея, была единственным существом, которое я нашел, гены которые напоминали мои. Тогда я предложил ей, не говоря о моих намерениях, чтобы мы вместе зачали ребенка. — Мне это показалось такой забавной идеей, — сказала Железная Орхидея. И никто не делал ничего подобного тысячелетия! — Таким образом через некоторые трудности, был рожден ты, мой мальчик. Но я все еще нуждался в жене для тебя, чтобы ты мог остаться, скажем в Палеозое (где существует как ты уже знаешь) станция, без того, чтобы быть неожиданно выкинутым из того снова. Я искал с начала истории, испытывая субъекта за субъектом, пока наконец в Амелии Ундервуд не нашел свою Еву! — Если бы вы спросили меня, сэр… — Я ничего не мог рассказать. Я объяснил, что должен был работать в секрете, что мой метод борьбы с эффектом Морфейла был настолько деликатным, что я не мог позволить себе ни малейшего анахронизма. Консультироваться с вами значит что-нибудь открыть о себе. В то время мне это казалось невозможной, опасной мыслью! Я должен был похитить вас и привести сюда. Затем я представил вас Джереку, надеясь, что вы привлечете друг друга. Все, казалось, шло хорошо. Но как ты помнишь, вмешалась миледи Шарлотина, обиженная манерой, в которой мы ввели ее в заблуждение. — И когда я пришел к вам за помощью вас не было, Джеггет. Вы тогда снова искали приключений во времени. — Точно, Джерек. По несчастью, я не смог предвидеть, что ты пойдешь к Браннарту, займешь у него машину времени и вернешься в девятнадцатое столетие. Уверяю тебя, я был так же как и ты удивлен увидев тебя там. К счастью, в одной из своих ролей, как судья Верховного Суда, я представительствовал на твоем процессе… — …И вы не могли признать меня из-за эффекта Морфейла! — Да, но я устроил, чтобы эффект сработал в момент твоей казни. Это привело меня к еще одному открытию в природе времени, но я не мог тогда позволить раскрыть тебе мои планы. Миссис Ундервуд должна была оставаться там, где она была (что считалось невозможным Браннартом), в то время, как я работал. Я вернулся сюда, как можно скорее, отчаянно пытаясь исправить дело, но постепенно узнавая все больше и больше фактов, противоречащих теории Браннарта. Я связался с миссис Персон, и она оказала мне значительную помощь. Я договорился встретиться с ней здесь между прочим… — Она прибыла, — сказала ему Амелия Ундервуд. — Я очень рад. Но я отвлекся. Следующей вещью, что я узнал по моему возвращению, было то, что исчез снова Джерек. Но ты сделал открытие, которое изменило все мои исследования. Я слышал о методах рециклирования Времени, но отверг их. Убежище для детей, которое ты открыл, не только доказывало, что это возможно, но показывало, как это сделать. Это означало, что многое из того, что я делал было больше не нужно. Но ты, конечно, все еще был где-то во времени. Я рискнул вернуться в девятнадцатое столетие и спасти тебя, подвергая себя эффекту Морфейла. Я сам оказался оставленным в этом столетии, и если бы не путешественник во времени, не знаю, как его зовут, я никогда не нашел бы решения своей проблемы. Он сообщил мне много информации о временных циклах — он сам был из одного из них — и я сожалел, что для того чтобы избавить себя от недоразумений (так как я слишком много рассказал о себе, и моя маскировка становилась слишком опасной) я согласился на план Канцлера о реквизировании машины времени, и посылки его за тобой. Я не воображал себе тех осложнений, свидетелем которых стал. — не кажется, Лорд Джеггет, — пробормотала миссис Ундервуд, — что ваши проблемы не возникли бы совсем, предвидьте вы обыкновенные человеческие факторы… — Согласен с вашей критикой, Амелия. Я заслужил ее, но я был одержим и считал необходимым действовать срочно. Все разнообразные флюктуации возникшие в мегапотоке — в основном благодаря мне, должен признаться, фактически увеличивали общую путаницу. Настоящее состояние Вселенной не наступило бы так быстро, если бы не энергия, затраченная городами — на наши различныепроекты. Но все это изменится теперь если повезет. — Измениться? Вы сказали, что слишком поздно. Разве я произвел такое впечатление? Простите. Мне хотелось бы, чтобы вам не пришлось страдать так много, особенно, раз оказалось, что весь мой эксперимент в целом бессмыслен. — Значит, мы не можем поселиться в прошлом, как вы планировали? спросил Джерек. — Бессмыслен? — с негодованием воскликнула Амелия. — Ну, и да, и нет. — Вы не умышленно поместили нас в Палеозое, как часть вашего эксперимента, Лорд Джеггет? — Нет, Амелия. Я не обманывал вас, я считал, что послал вас сюда. — Вместо этого мы отправились назад. — Именно это я и хочу сказать. Вы не отправились строго говоря назад. Вы отправились вперед, и таким образом нейтрализовали эффект Морфейла. — Каким образом? — Потому что вы завершили круг. Если время — это круг (а так единственно правильно рассматривать его), и мы путешествуем по кругу, то проходим, конечно, от Конца к Началу очень быстро, не правда ли? Вы проскочили Конец и оказались в Начале. — И обманули Эффект Морфейла! — сказал Джерек, хлопнув в восторге ладонями. — В каком-то смысле да. Это означает что мы можем, если хотим, все избежать Конца Времени просто прыгнув вперед в начало. Недостатки этого метода, тем не менее, значительны. У нас не будет, например, мощи городов… Но возбуждение Джерека отмело все эти мысли. И таким образом, как Овидий, вы вернулись, чтобы отвести нас из плена времени на обетованную землю — вперед, как можно выразиться, в прошлое! — Не так, — засмеялся его отец. — Нет необходимости покидать эту планету или этот период. — Но нам грозит окончательное разрушение, если оно не происходит прямо сейчас. — Чепуха! Почему ты так думаешь? — Идемте, — сказал Джерек, начиная подниматься. — Я вам покажу. — Но у меня много есть чего сказать тебе, сын мой. — Позднее, когда мы все увидим. — Очень хорошо, — Лорд Джеггет помог подняться сперва Амелии, потом своей жене. — Возможно это неплохая идея — найти миссис Персон и других. Но, Джерек, вряд ли твоя нехарактерная встревоженность оправдана. Капитан Мабберс и Рокфрут подняли головы от еды. — Орф? — сказал капитан Латов ртом полным кекса. Но лейтенант успокоил его: — Груш фоллс, хрунг фреша, — они снова повернулись к еде и не обращали внимания, как четверо людей осторожно сошли с маленькой пасторальной полянки в мертвенно-бледный мерцающий свет на обширном пространстве руин, где сама атмосфера как теперь казалось Джереку, отдают слабым леденящим запахом смерти.21. ВОПРОС ПОЗИЦИИ
— Я должен сказать, — говорил Джеггет на ходу, — город страдает определенной вялостью. — О, Джеггет, ты недооцениваешь! — его сын шел рядом, а леди, переговариваясь друг с другом немного позади. Подтеки полуметаллической, полуорганической материи цвета пыльной травы извивались поперек их тропинки. — Но он оживает, — сказал Джеггет. — Взгляни Туда, разве это не вновь воссозданная цепь? Труба, на которую он указывал, тянулась слева на право от них и выглядела новой, хотя и очень обыкновенно. — Это не призрак, Джеггет. Труба может быть иллюзией. Его отец не стал спорить. — Если ты так думаешь, — глаза его блеснули. — Юность всегда была упрямой. Джерек уловил иронию в голосе отца, его друга. — О насмешливый Джеггет, так хорошо быть снова в твоей компании! Все тревоги исчезли! — Твое доверие согревает меня, — сказал Джеггет. Для чего, своим детям. — Детям? Небрежный взмах рукой. — Человек заводит привязанности то здесь то там во времени. Но ты, Джерек, мой единственный наследник. Пока они шли сквозь мерцающий сумрак, Джерек, заразившись явным беззаботным оптимизмом Джеггета, искал знаки, указывающие, что город возвращается к жизни. Возможно, такие знаки действительно были: свет, который все время его наблюдения, мерцал голубоватым, жизнерадостным оттенком, регулярный ритм, пульсирующий под его ногами, вызывал в сознании образ оживающего сердца. Но нет, как это могло быть? Лорд Джеггет закатал рукава, чтобы они не коснулись тонкой ржавчины, лежавшей всюду на земле. — Мы можем положиться на города, — сказал он, — даже если у нас нет надежды когда-либо понять их. — Вы теоретизируете, Джеггет. Очевидность противоречит вам. Источники мощи городов исчезли. — Инстинкты существуют. Источники тоже. Города нашли их. — Даже вы, Джеггет, не можете быть так уверены, — но сейчас Джерек хотел, чтобы его опровергли. Джеггет остановился, так как впереди них была темнота. — Мы достигли окраины города? — Кажется, да. Они подождали Железную Орхидею и Амелию Ундервуд, которые немного отстали от них. К удивлению Джерека, обе женщины кажется хорошо чувствовали себя в компании. Они больше не сверкали глазами и не предпринимали замаскированных атак друг на друга. Они выглядели старинными подругами. Джерек подумал, начнет ли он когда-нибудь понимать эти тончайшие сдвиги в отношениях между женщинами, но был доволен. Если все должны погибнуть, пусть это произойдет при хороших отношениях. Он подозвал их к себе. Здесь город отбрасывал более широкий отблеск света на нарушенный ландшафт. Бесплодная, покрытая трещинами пустыня, не заслуживающая более названия «земля», оболочка, которая может обратиться в пыль при одном прикосновении. Железная Орхидея поправила складку на платье. — Все мертво. — И в последней стадии разложения, — сочувственно сказала Амелия Ундервуд. — Я не могу поверить, — сказала ровным голосом Орхидея, что это мой мир. Он был таким жизнерадостным. — Его жизнерадостность была украдена как сказал Монгров, — Джерек рассматривал темноту за городом. — Ну, по крайней мере, сердцевина осталась, — сказал Лорд Джеггет, коснувшись на секунду плеча жены. — Разве они еще не загнили, лорд Джеггет? — сказала Амелия и пожалела о своей безжалостности, когда взглянула на лицо Орхидеи. — Оно может быть оживлено. — Холодно, — пожаловалась Железная Орхидея, отодвинувшись дальше от границы города. — Мы плывем в вечной темноте, — сказал Джерек. — Где нет Солнца, нет звезд, ни одного метеорита. И эта темнота, дорогие родители, скоро поглотит нас тоже! — Ты слишком драматичен, мой мальчик. — Возможно, и нет, — в голосе Орхидеи пропали чувства. Они пошли следом за ней и почти тут же наткнулись на машины, используемые путешественником во времени и миссис Персон с капитаном Вестейблом. — Но где наши друзья? — удивился Лорд Джеггет. — Они были здесь недавно, — сказал ему Джерек. — Эффект Морфейла? — Здесь? — взгляд Лорда Джеггета был откровенно скептическим. — Может, они с Юшариспом и остальными? Джерек чуть улыбнулся при виде Амелии и своей матери, взявшихся за руки. Его все еще озадачивала перемена в них. Он чувствовал, что это как-то связано с женитьбой Лорда Джеггета на Железной Орхидее. — Не поискать ли нам их, предприимчивый Джеггет? — Ты знаешь, где искать? — Вон там. — Тогда веди нас! — он встал рядом с Джереком. Свет от города мигнул на мгновение резче, чем раньше, и здание, которое лежало в руинах, теперь стало целым перед Джереком, но отовсюду слышались трески, стоны, бормотание, предполагающие сильнейшие ухудшение состояния города. Снова они подошли к краю города, где свет был очень тусклым. Джерек не знал, куда идти дальше, пока не услышал знакомый голос: — Если (скр-р-р) вы возьмете назад в их собственное (скр-р-р) время ту группу, это, по крайней мере, уменьшит (скр-р-р) проблему, миссис Персон. Все собрались сейчас у космического корабля пуплианцев — инспектор Спрингер и его констебли, Герцог Королев, огромный мрачный Монгров, путешественник во времени, миссис Персон и капитан Вестейбл в своей черной униформе, мерцающей, как тюленья кожа. Отсутствовали только Гарольд Ундервуд, сержант Шервуд и Латы. На фоне своего корабля пуплианцы были трудноразличимы. Позади группы лежала уже знакомая чернота бесконечной бездны. Они услышали голос миссис Персон: — Мы не подготовлены для перевозки пассажиров. Кроме того, мы спешим вернуться на нашу базу, чтобы начать определенные эксперименты, необходимые для подтверждения наших представлений о пересечении вселенных… Лорд Джеггет, бледно-желтые одежды которого контрастировали с общей темной расцветкой, подошел к группе, оставив позади Джерека и двух женщин. — Вы как всегда о ком-то беспокоитесь, мой дорогой Юшарисп, — хотя прошло довольно много времени с тех пор как он видел инопланетянина. Лорд Джеггет без труда узнал его. — И по-прежнему настаиваете на своей точке зрения. Многочисленные глаза маленького существа с неудовольствием сверкнули на вновь пришедшего. — Я считаю (скр-р-р-р), Лорд Джеггет, что она самая правильная! — Он стал подозрительным. — Вы были здесь все время? — Только недавно вернулся. — Лорд Джеггет коротко поклонился. Я извиняюсь, были некоторые трудности. Потребовалось точная настройка, чтобы попасть так близко к концу всех вещей, иначе можно было оказаться в абсолютном вакууме! — По-крайней мере (скр-р-р) вы признаете… — О, я не думаю, что мы нуждаемся в несогласии, мистер Юшарисп. Давайте примем как факт, что мы всегда останемся противоположны по темпераменту. Сейчас настал момент для реализма? Юшарисп оставаясь подозрительным, умолк. ГНС Шашурп вмешался в разговор. — Все решено (скр-р-р). Мы намерены реквизировать все, что возможно, спасти из города (скр-р-р), для того, чтобы подкрепить наши планы выживания. Если вы желаете (скр-р-р) помочь и разделить дальнейшие выгоды (скр-р-р) нашей работы… — Реквизиция? — Лорд Джеггет поднял брови. Казалось его высокий воротник задрожал. — Почему это необходимо? — У нас нет времени (скр-р-р) объяснять все сначала! Лорд Монгров поднял голову, посмотрел на Джеггета угрюмым взглядом. Голос его был по прежнему зловещим и мрачным, хотя он говорил, будто никогда себя не ассоциировал с инопланетянами. — У них есть план, красноречивый Джеггет, построить закрытое помещение с замкнутым циклом окружающей среды, которое переживет окончательное разрушение городов, он, как колокол, вещал о тщетности борьбы. — План имеет определенные достоинства. Лорд Джеггет был открыто против. Он говорил сухо и презрительно. — Я уверен, что это отвечает предпочтению пуплианцев к мелочности, так как упрощение для них лучше, чем множественность выборов, — черты лица Джеггета выражали суровое неодобрение. — Но они не имеют права, Лорд Монгров, вмешиваться в функционирование наших городов (которое, я уверен, они плохо понимают). — Разве кто-нибудь из нас… — но пыл Монгрова уже погас. — Кроме того, — продолжал хрононавт, — я только недавно установил здесь собственное оборудование. Я был бы более, чем немного расстроен, если они, даже невольно испортят его. — Что? — Герцог Королев очнулся от апатии. Он осмотрелся вокруг как будто ища это оборудование, с ожиданием и полным надежд лицом. — Ваше собственное оборудование хитроумный Джеггет? Ого! — он погладил бороду на его лице появилась улыбка. — Ага! Все образовали аудиторию для Лорда в желтых одеждах. Он помолчал немного насмешливо, достаточно, чтобы завоевать полное внимание даже недоверчивого путешественника во времени. — Установленное не так давно с помощью твоего друга, Джерек, который помог тебе достичь девятнадцатого столетия во время последнего визита. — Няня? — теплое чувство наполнило его. — Она самая. Ее помощь была неоценимой. Ее программа содержит всю нужную информацию. Требовалось только освежить ее память. Она — самый сложный из древних автоматов, которые я когда-либо встречал. Я изложил ей нашу проблему и предложил решение. Большую часть остальной работы она проделала сама. Железная Орхидея явно ничего не знала об этом. — Работы — героический муж? — Необходимой для установки оборудования, которое я упомянул. Вы заметили, что, с недавнего времени, город запасал энергию вместе с другими городами. — Запасал! Ба! (скр-р-р) трансляционный ящик Юшариспа издал нечто, напоминающее горький смех. — Протрачивал (скр-р-р) последнюю, вы это имеете в виду? Лорд Джеггет игнорировал пуплианца, повернувшись к Герцогу Королев. — Нам повезло, что когда я вернулся в конец Времени, разыскивая Джерека и Амелию, я услышал об открытии убежища и смог пригласить Няню в свой замок. — Вот куда она исчезла, в ваш зверинец! — сказал Герцог Королев. Хитрый Джеггет! — Не совсем. Сомневаюсь, что мой зверинец уцелел таким, каким он был. Няня сейчас в одном из других городов. Она должно быть, заканчивает последние незначительные регулировки. — Значит вы задумали спасти целый город! — Лорд Монгров бросил взгляд через плечо. — Конечно не этот. Видите, как он гибнет, даже пока мы разговариваем? — Это ненужный пессимизм, Лорд Монгров. Город преобразует себя, вот и все. — Но свет, — начал Герцог Королев. — Экономия энергии как я сказал. — А там? — Монгров жестом показал на бездну. — Вы можете заселить те места. Там есть, где разместить солнце средних размеров. — Видите ли Джеггет, — объяснил Герцог Королев, — наши кольца власти не работают. Это означает что город не может дать нам энергию, которая нам требуется. — Вы пытались? — Да. — Но не последние пару часов, — сказала Амелия Ундервуд. — Они не будут действовать Лорд Джеггет, — Лорд Монгров погладил камни на своих пальцах, — наше наследство растрачено навеки. — О, вы все слишком приуныли. Это просто вопрос позиции, — Лорд Джеггет вытянул перед собой левую руку, и правой начал крутить рубин, пристально смотря в небо, все еще неспособный отвлечься от своей аудитории. Над его головой появилось нечто, похожее на маленькую мерцающую звезду, но уже растущую. Она превратилась в огненную ко мету, а затем в солнце, освещающее безжизненный мир так далеко, насколько могли видеть их мигающие от яркого света глаза. — Этого достаточно, я думаю, — со спокойным удовлетворением сказал Джеггет. — Обычная орбита и вращающийся мир. Амелия пробормотала: Вы настоящий Мефистофель, дорогой Лорд Джеггет. Это солнце такого же размера, что и старое? — Немного меньше, но нам достаточно. — Скр-р-р, — сказал с тревогой Юшарисп, все его глаза сощурились от яркого света. — Скр-р-р, скр-р-р, скр-р-р! Джеггет решил принять это как комплимент. — Всего лишь первый шаг, — скромно сказал он, одернув желтую накидку вокруг себя. Он коснулся другого кольца, и свет стал менее ослепительным, рассеянный теперь мерцающей атмосферой, существующей за пределами города. Небо стало зелено-голубым, а пейзаж — тускло-серым, усеянный коричневыми трещинами. — Какой неприглядной стала наша земля, — с отвращением сказала Железная Орхидея. Будто извиняясь за это, Джеггет ответил: — Это очень старая планета, моя дорогая. Но вы все можете рассматривать ее как новый холст. Все что вы хотите, можно воспроизвести. Можно создать новые сцены, как это было всегда. Отдыхайте уверенными, что наши города не подведут нас. — Итак, Судный день отложен наконец-то, — путешественник во времени, склонив голову на бок, смотрел новыми глазами на Лорда Джеггета Канарии. Я поздравляю вас, сэр. Как видно, вы повелеваете огромной энергией. — Я занимаю энергию, — сказал ему Лорд Джеггет. — Она приходит из городов. ГНС Шашурп закричал: — Это не может быть реальным! Этот человек окружил нас иллюзией (скр-р-р). Джеггет решил не слушать его и повернулся к миссис Персон, которая наблюдала за ним с аналитическим выражением лица. — Города запасли энергию, потому, что я нуждался в них для того, что, я уверен, будет успешным экспериментом. Конечно, никто не сочтет мой план совершенным, но это начало. Именно об этом я говорил вам миссис Персон. Поэтому мы здесь, — ее улыбка адресовалась капитану Вестейблу. — Поглядеть сработает ли это. Но я определенно убеждена предварительными событиями. Огромное сияющее солнце заливало светом город, отбрасывая большие мягкие тени. Город продолжал спокойно пульсировать — машина, ожидающая, когда ее запустят: — Это крайне впечатляет, сэр, — сказал Вестейбл. — Когда вы намерены закинуть петлю? — В течении месяца. — Вы не сможете поддерживать такое состояние бесконечно. — Конечно, это было бы предпочтительно, но не экономично. Они удивленно посмотрели на него. Подковылял ГНС Шашурп и помахал ногой. — Не давайте убедить себя этой (скр-р-р) иллюзией. Это всего лишь иллюзия! Лорд Джеггет мягко улыбнулся. — Не правда ли это зависит от вашей интерпретации слова «иллюзия»? Теплое солнце, подходящая для дыхания атмосфера, планета, вращающаяся по орбите вокруг солнца. Юшарисп присоединился к Главному Народному Слуге. Яркий солнечный свет подчеркивал бородавки и пятна на его маленьком круглом теле. — Это иллюзия (скр-р-р), Лорд Джеггет, потому что она не может пережить распад вселенной! — Я думаю, она переживет, мистер Юшарисп. Джеггет хотел обратиться к сыну, но пуплианцы казались удовлетворенными его ответом. — Нужна (скр-р-р) энергия, чтобы произвести такое чудо. Вы согласны с этим? Лорд Джеггет наклонил голову. — Следовательно, должен быть (скр-р-р) источник. Возможно, планета или две, которые избежали катастрофы. Этот источник (скр-р-р) скоро будет использован до конца. Казалось, что Лорд Джеггет говорит не с инопланетянами, а с кем угодно. Он сохранял тоже самое мягкое, но чуть холодное выражение лица. — Боюсь, что вы не получите удовлетворение даже от этой мысли, мой дорогой Юшарисп. Мораль может быть истощена, но не более свободный разум! — Мораль (скр-р-р)! Вы ничего не знаете о таких вещах! Лорд Джеггет продолжал говорить, обращаясь теперь более прямо ко всем: — Таков характер любого, кто склонен более к мрачной встревоженности, что он лучше испытывает самое худшее, чем будет надеяться на лучшее. Это пуританский склад ума, к которому я отношусь с очень малой симпатией. Почему появляются подобные выводы. Потому, что такая точка зрения предпочитает скорее вызвать катастрофу, чем жить вечно под страхом ее возможности. Самоубийство лучше, чем неопределенность. — Вы не имеете в виду (скр-р-р), что эта проблема была просто (скр-р-р-р) в наших умах, Лорд Джеггет? — последовал странный металлический смех ГНС Шашурпа. — Разве не раса пупли взяла на себя задачу распространить во вселенной плохие новости? Разве не вы вопили о своем отчаянии везде, где только могли найти слушателей? Факты были достаточно ясны всем, но ваша реакция на них была вряд ли позитивной. Следовательно, в некотором смысле, проблема была только в на их умах. Вы не исследовали все возможности. Ваши выводы основаны на твердой вере в конечную вселенную с конечными ресурсами. Тем не менее, как может рассказать вам путешественник во времени, а миссис Персон и капитан Вестейбл подтвердят, вселенная не конечна. — Слова (скр-р-р) и ничего больше… Путешественник во времени заговорил серьезным тоном. — Я могу не согласиться с Лордом Джеггетом по многим вещам, но он говорит правду. Имеется множество измерений, которые вы, миссис Персон предпочитаете называть многообразием. Это просто одно измерение, и хотя, фактически, всех их ожидает одна и та же судьба, что и этот мир, но не одновременно… Лорд Джеггет кивком поблагодарил путешественника во времени за поддержку. — Следовательно пользуясь ресурсами любой части многообразия в любой момент времени, эта планета может сохраняться вечно, если нужно. — Вывод сделан (скр-р-р) без всякого основания, — сказал уклончиво Юшарисп. Лорд Джеггет поправил свой высокий воротник и протянул элегантную руку к солнцу! — Там мое доказательство, джентльмены. — Иллюзия, — сказал угрюмо Юшарисп. — Псевдонаука (скр-р-р), — согласился Шашурп. Лорд Джеггет сделал безразличный жест и ничего не ответил, но миссис Персон сохраняла симпатию к инопланетянам и их проблемам. — Мы открыли, — сказала она мягким голосом, — что реальная «вселенная» бесконечна. Бесконечна, безвременна и спокойна. Это тихий пруд, который отражает любой образ, пришедший нам в голову. — Мета (скр-р-р-р) физическая чепуха (скр-р-р)! Капитан Вестейбл пришел к ней на помощь. — Это мы населяем вселенную тем, что называем Время и Материя. Наш разум лепит их, наша деятельность дает им детали. Если мы иногда становимся пленниками, то, потому, что виновата наша человеческая природа или наша логика… — Как можем (скр-р-р) всерьез принимать эти рассуждения? презрительно сверкнули многочисленные глаза Юшариспа. — Вы, люди, делаете площадку для игр из вселенной и оправдываете свои действия аргументами, настолько самонадеянными, что (скр-р-р) никакое разумное существо не поверит им ни на мгновение (скр-р-р). Вы обманываете себя (скр-р-р), чтобы оставаться безразличными к любой морали… Лорд Джеггет казался более апатичным, чем обычно, и голос его был сонным. — Бесконечная Вселенная, Юшарисп — именно она площадка для игр, — он помолчал. — Понимать ее «всерьез», значит отрицать это? — Вы не уважаете (скр-р-р) саму сущность жизни! — уважать ее — совсем другое дело, чем принимать всерьез. — О, — сказал Лорд Джеггет, чуть улыбаясь, — вы подчеркиваете только разницу в наших взглядах, настаивая на этой разнице. — Гм (скр-р-р)! — злобно сверкнул глазами Юшарисп. Будто извиняясь за своего бывшего друга, Лорд Монгров прогудел: — Я считаю, что он сбит с толку, потому что придавал такую большую важность гибели Вселенной. Ее конец подтверждает его моральное поведение и понимание вещей. Я чувствовал себя так же как и он, на одной стадии, но сейчас устал от этих идей. — Изменник (скр-р-р)! — сказал ГНС Шашурп. — По вашему приглашению, лорд Монгров, мы явились сюда! — Больше некуда было идти, — немного удивился Монгров. — Это в конце концов единственный кусочек материи, оставшейся во вселенной. ГНС Шашурп с достоинством сделал жест рукой (или ногой). — Пойдем, Юшарисп, брат пуплианец. Нет больше пользы пытаться делать что-нибудь для этих глупцов! Вся делегация последних пуплианцев начала ковылять друг за другом в свой неказистый космический экипаж. Монгров испытывая угрызение совести, последовал за ними. — Дорогие друзья, братья по разуму, пожалуйста, не делайте ничего поспешного… Но люк захлопнулся перед его меланхолическим лицом, и он мрачно вздохнул, но корабль не поднялся, оставаясь точно там же, где приземлился, молчаливым обвинением. Монгров угрюмо похлопал ладонью по его поверхности. — О, это действительно ад для серьезных умов! Инспектор Спрингер снял свою шляпу, чтобы вытереть лоб характерным жестом. — Становится довольно тепло, сэр. Приятно снова видеть солнце, — он повернулся к своим людям. — Вы можете ослабить воротники, ребята, если хотите. Он вполне прав, жарко, как в жару. Я сам начинаю верить в это! Констебли начали расстегивать верх своих кителей. Двое зашли даже так далеко, что сняли свои шлемы и не были наказаны. Моментом позже инспектор Спрингер снял свой пиджак. — И предварительная часть теперь завершена. Есть солнце, атмосфера, планета вращается, — слова Уны Персон звучали отрывисто, когда она говорила с Лордом Джеггетом. Лорд Джеггет был погружен в мысли. Он поднял глаза, и улыбнулся. — О, да. Как я сказал. Остальное может подождать, когда я приведу в действие свое оборудование. — Вы сказали, что уверены в успехе, — путешественник во времени все еще был скептически настроен. — Эксперимент кажется мне грандиозным. Лорд Джеггет согласился с критикой. — Я не предписываю себе все заслуги, сэр. Технология — не мое изобретение, как я уже говорил, но она сделает свое дело с помощью Няни. — Вы рециклируете время! — воскликнул капитан Вестейбл. — Надеюсь, мы сможем вернуться, чтобы быть свидетелями этой стадии эксперимента. — Будет достаточно безопасно в течении первой недели, — сказал Джеггет. — Таким образом, вы намерены сохранить планету, Джеггет? — спросил возбужденно Джерек. — Использовать оборудование, которое я нашел в убежище? — Мое оборудование похоже на то, хотя более сложное. Оно сохранит наш мир вечно. Я сделаю петлю из семидневного периода. Однажды сделанная она будет неразрушимой. Города станут самовосстанавливаться, исчезнет угроза и Времени, и Пространству, так как мир будет закрыт, повторяя вновь и вновь то же самое семь дней. — Мы будем повторять один и тот же короткий период вечно? — Герцог Королев покачал головой. — Должен сказать, Джеггет, что ваша схема не более привлекательна, чем план Юшариспа. Лорд Джеггет помрачнел. — Если вы будете осознавать, что происходит, тогда ваши действия не будут повторяться в течении этого периода. Но время останется то же самое, хотя оно будет казаться изменяющимся. — Мы не окажемся в ловушке, проклятыми на одну и ту же недельную активность, которую не сможем изменить? — Думаю нет, — Лорд Джеггет поглядел через мили и мили пустыни. Обычная жизнь, которую мы ведем в конце времени, может продолжаться как всегда. Само убежище было намеренно ограниченно — своего рода темпоральное замораживание, чтобы сохранить детей. — Как быстро все может наскучить, если человек будет иметь хотя бы малейший намек на то, что происходит. — Железная Орхидея с трудом скрывала свое раздражение. — Опять, это вопрос позиции, моя дорогая. Является ли пленник пленником, потому что он живет в клетке, или потому, что он знает что живет в клетке? — О, я не буду пытаться обсуждать такие вещи! Он сказал нежно: — И тут, моя дорогая, лежит мое спасение, — он обнял ее. — А сейчас есть еще одно дело, которое я должен сделать здесь. Оборудование должно быть снабжено энергией. Они наблюдали как он пошел немного в город и остановился, глядя вокруг себя. Его поза была одновременно изучающей и расслабленной. Затем он, казалось, пришел к решению и положил ладонь правой руки на кольца левой. Город издал высокий, почти торжествующий рев. Донесся грохот обвала, когда содрогнулось каждое здание. Голубой и малиновый свет слились в яркое свечение над головами, затмив солнце. Затем глубокий звук, мягкий и мощный, вышел из самого ядра планеты. Из города доносилось шуршание, знакомое бормотание, крики какого-то полуавтоматического существа. Затем свечение начало тускнеть, и Джеггет стал напряженным, будто боялся, что город не сможет после всего, обеспечить энергию для эксперимента. Раздался воющий шум. Свечение снова стало сильнее и образовало куполообразную чашу на высоте ста или более футов над всем городом. Тогда Лорд Джеггет Канарии, казалось, успокоился, а когда он повернулся назад к ним, в его чертах угадывался намек на гордость собой. Амелия Ундервуд заговорила первой, когда он вернулся: — О, Мефистофель! Вы способны теперь творить? На этот раз сравнение польстило ему. Он посмотрел на нее: — Что это миссис Ундервуд. Механизм? — Возможно. Он добавил: — Я не могу создать мир, Амелия, но я могу оживить существующий, сделать мертвое живым. И возможно, я когда-то надеялся населить другой мир. О, вправе считать меня гордым. Это может быть мой недостаток. Справа от Джеггета из-за мерцающих руин из золота и стали вышли Гарольд Ундервуд и сержант Шервуд… Они оба вспотели, но, казалось, не замечали жары. Мистер Ундервуд показал на голубое небо. — Видите, сержант Шервуд, — как они соблазняют нас теперь, — он надвинул пенсне на нос более твердо, приблизился к Лорду Джеггету, который возвышался над ним и высота которого подчеркивалась обрамляющим лицо воротником. — Я правильно услышал сэр? — сказал мистер Ундервуд. — Как моя жена, возможно, моя бывшая жена, я не уверен, — называла вас определенным именем? Лорд Джеггет, улыбаясь, кивнул. — Ха! — сказал Гарольд Ундервуд удовлетворенный. Полагаю, я должен поздравить вас с качественно новым качеством ваших иллюзий, разнообразием соблазнов, изощренностью пыток. Эта последняя иллюзия, например, может обмануть любого. То, что казалось, было домом, теперь напоминает небеса. Вы так соблазняли в свое время Юшариспа. Даже Лорду Джеггету это не понравилось. — Ссылка была шуточной, мистер Ундервуд… — Шутки Сатаны всегда умные, к счастью у меня есть пример моего Спасителя. Следовательно, я желаю вам приятного времяпровождения, Сын Утра. Вы можете забрать мою душу, но вы никогда не будете владеть ею. Думаю, вам часто не везет в ваших махинациях. — Гм… — сказал Лорд Джеггет. Гарольд Ундервуд и сержант Шервуд направились дальше, но перед этим Гарольд обратился к своей жене. — Ты, без сомнения, уже раб Сатаны, Амелия. Хотя я знаю, что еще можем быть спасены, если действительно раскаемся и поверим в спасение Христа. Всего здесь остерегайся, Амелия. Это просто подобие жизни. — Очень убедительное, на первый взгляд, не правда ли, сэр? — сказал сержант Шервуд. — Он — мастер обмана, сержант. — Полагаю, что да, сэр. — По… — Гарольд взял под руку своего ученика, — я был прав в одном. Я говорил, что мы встретим его в конце концов. Амелия закусила нижнюю губу. — Он совсем сошел с ума, Джерек. Что мы можем сделать для него? Его можно послать назад в Бромли? — Ему, кажется, совсем неплохо здесь, Амелия. Возможно, пока он получает регулярное питание, которое может обеспечить город, ему лучше оставаться здесь с сержантом Шервудом. — Мне не нравится оставлять его. — Мы сможем приходить и навещать его время от времени. Она пребывала в сомнении. — До меня не совсем еще дошло, — сказала она, что это не Конец Мира. — Ты видела его более расслабленным? — Никогда. Очень хорошо, пусть он остается здесь, пока во всяком случае, в своем Вечном проклятии, — она издала короткий смешок. Инспектор Спрингер приблизился к Лорду Джеггету с просительным видом. — Итак, более или менее, дела снова идут нормально, не так ли сэр? — Более или менее, инспектор. — Тогда, я полагаю, нам лучше продолжить работу, сэр. Собрать подозреваемых и… — Большинство из них вне подозрения, инспектор. — А литовцы, Лорд Джеггет? — Да, полагаю, вы можете арестовать их. — Очень хорошо, сэр, — инспектор Спрингер отдал салют и вернул свое внимание двенадцати констеблям. — Все в порядке, парни. Возвращайтесь к своим обязанностям. Чем это занят сержант Шервуд? Лучше свистни ему свистком, Вейли, может, он услышит, — инспектор вытер лоб. — Очень странное место. Будто во сне я вижу его, в каком-то кошмаре. — Ха, ха! — ответный смех некоторых из его людей, топавших за ним, был почти безжизненным. Уна Персон взглянула на один из нескольких приборов, прикрепленных на ее руке. — Поздравляю вас, Лорд Джеггет. Первая стадия закончилась успешно. Мы надеемся вернуться, чтобы увидеть завершение. — Буду польщен, миссис Персон. — Вы простите меня теперь, если я вернусь к своей машине. Капитан Вестейбл. Капитан Вестейбл помялся, очевидно не желая уходить. — Капитан Вестейбл, мы действительно должны… Он расправил плечи. — Конечно, миссис Персон. Пересечение и тому подобное, — он приветливо махнул всем рукой. — Было огромным удовольствием, благодарю вас, Лорд Джеггет, за привилегию… — Не стоит… — Полагаю, что если мы не вернемся прежде, чем замкнется петля, мы никогда не сможем встретиться. — О, не знаю, — Лорд Джеггет помахал в ответ, — приятного путешествия, вам. — Еще раз благодарю. — Капитан Вестейбл! Капитан Вестейбл побежал догонять Уну Персон. Когда они исчезли из виду, Амелия Ундервуд взглянула почти подозрительно на человека, который, как надеялся Джерек, мог однажды стать ее тестем. — Мир определенно спасен, не так ли, Лорд Джеггет. — О, определенно. Города запаслись соответствующей энергией. Временная петля, когда она замкнется, будет возобновлять эту энергию. Джерек рассказывал вам о своих приключениях в убежище для детей. Вы поняли принцип? — Надеюсь достаточно. Но капитан Вестейбл упоминал о недостатках этого метода. — Да, — Лорд Джеггет натянул капюшон. Сейчас от его аудитории остались только Лорд Монгров, Герцог Королев, путешественник во времени, Железная Орхидея и Джерек с Амелией. Он заговорил более естественным тоном. — Они недостатки не для всех Амелия. После короткого периода регулировки, в течении которого Няня и я будем проверять наше оборудование, пока не удовлетворимся его работой, мир окажется в навечно замкнутой петле, где нет прошлого и будущего. Единственная планета, вращающаяся вокруг единственного солнца — все, что останется от этой вселенной. Это будет означать, следовательно, что путешествия во времени и в пространстве станут невозможными. Недостатком для многих из нас является то, что не будет больше никакой связи между нашим миром Конца времени и другими мирами. — Это все? — Для некоторых это много. — Для меня! — простонал Герцог Королев. — Если бы ты рассказал мне раньше, Джеггет, я пополнил бы зверинец, — он задумчиво посмотрел на космический корабль пуплианцев, трогая пальцем кольцо власти. — Несколько путешественников во времени еще могут прибыть, прежде чем замкнется кольцо времени, утешил его Джеггет. — Кроме того, печальный герцог, ваш творческий инстинкт будет удовлетворен некоторое время, я уверен, воссозданием всех старых друзей. Аргонхерт По… — Епископ Касл, миледи Шарлотина, госпожа Кристия, Сладкое Мускатное Око, — Герцог Королев просветлел. — Давние путешественники во времени, такие как Нао, могут все еще быть здесь… или появиться вновь благодаря эффекту Морфейла. — Я думал вы доказали его ошибочность, Лорд Джеггет, — сказал с интересом Лорд Монгров. — Я доказал только, что это не единственный закон времени. — Мы оживим Браннарта и расскажем ему, — сказала Железная Орхидея. Амелия нахмурилась. — Итак, планета будет изолирована навечно, во времени и в пространстве. — Точно так, — согласился Джеггет. — Жизнь, как всегда будет продолжаться, — сказал Герцог Королев. Кого вы оживите первым, Монгров? — Вертера де Гете, я полагаю. Он не совсем мне товарищ по духу, но временами вполне меня забавляет, — гигант бросил взгляд назад, на корабль пуплианцев, — хотя конечно это будет пародия. — Что ты имеешь в виду меланхоличный Монгров? — Герцог Королев повернул кольцо власти, чтобы освободить себя от униформы и заменить ее яркими многоцветными перьями с головы до ног, с гребешком вместо волос. — Подобие жизни. Это будет затхлая планета, вечно кружащая вокруг затхлого солнца. Затхлое общество без прогресса и прошлого. Разве вы не видите этого, Герцог Королев? Мы избежали смерти только для того, чтобы стать живыми мертвецами, вечно танцующими одни и те же па. Герцог Королев удивился. — Я поздравляю вас, Лорд Монгров, вы нашли образ, которым можете омрачить себя. Я восхищаюсь вашим рвением. Лорд Монгров облизнул большие губы и сморщил огромный нос. — О, вы насмехаетесь надо мной, вы всегда надо мной насмехаетесь. И почему бы и нет. Я глупец! Я должен был остаться там, в космосе, пока солнца мигали и тускнели, пока планеты взрывались и превращались в пыль. Зачем жить здесь, чудаком среди чудаков? — О, Монгров, твоя скорбь прекрасна! — Поздравил его Лорд Джеггет. Пойдемте, вы все будете моими гостями в замке Канарии. Ваш замок уцелел, Джеггет? — спросил Джерек обнимая рукой талию Амелии. — Как память быстро восстановленная в действительность, так будет восстановлено все общество Конца Времени. Вот что я имел в виду, Амелия, когда говорил, что воспоминаний достаточно. Она улыбнулась немного скованно. В ее ушах все еще звучали мрачные предсказания Монгрова. Ей потребовалось усилие, чтобы освободиться от этих мыслей и засмеяться вместе с остальными, которые прощались с путешественником во времени, собирающимся теперь имея определенную информацию от миссис Персон, починить свой экипаж и вернуться в свой собственный мир, если это возможно. Герцог Королев стоял на серой, покрытой трещинами равнине и восхищался своей работой. Это было огромное квадратное чудовище — экипаж, и оно слегка подпрыгивало от ветерка, который шевелил пыль у его ног. — Тело взято от газового контейнера, — объяснил он Джереку. Перед, я думаю, называется кабиной. — А в целом? — Из двадцатого столетия. Коленчатый грузовик. Железная Орхидея вздохнула и пошла спотыкаясь по направлению к ним, подобрав полы своего подвенечного платья. — Он выглядит очень неудобным. — Он не так плох, как выдумаете, — уверял ее Герцог. — Внутри газового баллона находятся дыхательные приспособления.22. ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОЖИВЛЕНИЯ
Скоро все будет как было всегда, перед тем, как ветры бездны сдули их мир прочь. Плоть, кровь и кость, трава, деревья и камень наполнят мир под новорожденным солнцем, и красота, простая и загадочная, расцветет на лице этой иссохшей древней планете. Будто вселенная никогда не умирала, и за это мир должен благодарить свои полуодряхлевшие города и нахальную настойчивость этого одержимого исследователя времени из двадцать первого столетия, из Эпохи Рассвета, который назвал себя именем маленькой певчей птички, модной за двести лет до его рождения. кто представляется актером, хотя замаскировал себя и свои мотивы со всем хитроумием придворного Медичи, этот эксцентрик в желтом, этот апатичный вечный спасатель судеб, Лорд Джеггет Канарии. Они уже были свидетелями возведения нового замка Канарии, сперва мерцающий туман, окутывающий проволочную клетку в семьдесят пять метров высотой, а затем ее прутья стали светло-золотистыми и внутри можно было рассмотреть плавающие апартаменты, комнаты, где Джеггет предпочитал жить в определенном настроении (хотя у него были и другие настроения и другие замки). Они наблюдали как Лорд Джеггет окрасил небо розовым янтарем, так что круглое пятно солнца стало ярко-красным и отбрасывало решетчатые тени сквозь прутья клетки на окружающую пыль, но потом пыль сама исчезла, замененная почвой с кустами, деревьями, прудом с чистой водой — все в контрасте с окружающим пейзажем, тысячами и тысячами миль бесплодной пустыни. И тут они сами загорелись желанием создавать творения, и Монгров отправился строить черные горы, свои холодные, наполненные клубящимся туманом залы, а Герцог Королев отправился в другом направлении воздвигать первые мозаичные пирамиды, золотистые купола, океан размером со Средиземноморье, в котором плавали чудовищные рыбы. Между тем Железная Орхидея, согласная на время разделить с мужем его дом, вызвала к жизни заросли несколько металлических цветов на полях серебряного снега, где холодные птицы, блестящие, как сталь, щелкали клювами, хлопали крыльями и пели человеческие песни механическими голосами, где прятались лисицы-роботы и автоматы в малинового цвета камзолах, сидя на механических лошадях, охотились за ними — акр за акром хитроумной оживленной механики. Джерек Корнелиан и Амелия Ундервуд были самыми скромными в своем творчестве. Сначала они выбрали место для этого и окружили его лесами из тополей, кипарисов и ив, чтобы не было видно пустыни вокруг. Ее фантастический дворец был забыт: она пожелала низенький беленький домик с черепицей и стропилами. В некоторые окна она вставила цветные стекла, но остальные были огромными, насколько это возможно, из цветного стекла без переплета. Дом окружали клумбы с цветами. Имелся огород, пруд с фонтаном в центре, и кругом высокие заборы из кустов, как если бы она хотела отгородить дом от остального мира. Джерек восхищался домиком, но почти не принимал участия в его создании. Внутри были дубовые столы, кресла, книжные полки (хотя сами книжки не поддались ее власти творчества: так же кончились неудачей ее попытки воссоздать картины — Джерек утешил ее: никто не мог в Конце Времени создать таких вещей) там были ковры, полированные буфеты, вазы цветов, шторы, статуэтки, подсвечники, лампы: имелась большая кухня с кранами с водой и любой современной утварью, включая точилку для ножей и газовую плиту, хотя она знала что редко будет пользоваться ими. Из кухни выходила дверь в огород, где уже наливались соком овощи. На втором этаже дома она создала две отдельные комнаты для них со спальнями, гардеробами, кабинетом и гостиной в каждом помещении. И когда она закончила, то поглядела на Джерека, ища его одобрения, которое он, всегда восторженный, не преминул выразить. Всюду продолжалось созидание: апофеоз изобретательности. Обращение к определенным свойствам памяти Железной Орхидеи — и Епископ Касл был рожден снова, присоединившись к ней, чтобы воссоздать сперва Миледи Шарлотину, немного сбитую с толку и но с той памятью, что была раньше, а затем госпожу Кристию, Вечную Содержанку, Доктора Велоспиона, Аргонхерта По, Сладкое Мускатное Око, все, возвращенные к жизни и готовые добавить собственные темы к реконструируемому миру, воссоздать их близких друзей. И Монгров в своих дождливых скалах позволил снова мрачному романтичному Вертеру де Гете глядеть на мир и скорбеть в то время, как Лорд Шарк, недовольный, неверящий, презрительный, оставался во владениях Монгрова только несколько мгновений, прежде чем броситься вниз с утеса, чтобы быть вновь воссозданным сочувствующим Монгровом и признать, что он был не совсем в себе, вызвать свой простой серый аэрокар и улететь прочь, чтобы построить себе жилье с квадратными комнатами и населить их автоматами, каждый в точности похожий на него самого (не для того, что бы насытить свое это, а потому что Лорд Шарк был лишен всякого воображения). Лорд Шарк, когда его резиденция и его слуги были восстановлены, больше ничего не создавал, оставив серую, покрытую трещинами землю своим единственным пейзажем, а во всех уголках планеты поднимались целые горные хребты, великие реки катились по плодородным равнинам, вздымались моря, изобилие леса, холмы, луга, наполненные жизнью. Аргонхерт По сделал, возможно, свой самый величественный вклад в мир, детальную копию одного из древних городов, каждая разрушенная башня, каждый шепчущий купол восхитительного вкуса и запаха, каждое химическое озеро — суп из неописуемых лакомств, каждый камешек,вызывающий слюнки, деликатес, Герцог Королев построил флот летающих грузовиков, заставив их проделывать сложную акробатику в небе над своим домом, где он готовил вечеринку на тему о Смерти и Разрушении, обыскивая банки памяти городов в поисках пятидесяти самых знаменитых руин в истории: Помпея снова существовала на склонах Кракатау. Александрия, построенная из книг, сгорела заново: каждые несколько минут новый гриб распускался над Хиросимой, проливая дождем грибы, почти сравнимые с кулинарными чудесами Аргонхерта По. Могильные ямы Брайтона, уменьшенные копии, потому что для них требовались огромные пространства, были завалены крошечными телами, некоторые все еще двигающиеся, стонущими и взывающими к жалости. Но, возможно самым его эффективным созданием был расплавленный Миннеаполис, замороженный, жестокий, все еще узнаваемый, с его обитателями, превращенными в полупрозрачное желе, все еще пытающимися убежать от ужаса Как и предсказывал Епископ Касл, это был Ренессанс. Лорд Джеггет Канарии стал героем, его подвиги чествовались. Только Браннарт Морфейл считал вмешательство Джеггета нежелательным Действительно Браннарт оставался скептиком по поводу всей теории, связанной с методом спасения Он глядел неодобрительным взглядом на резвящиеся скульптуры. окружающие зеленый дворец миледи Шарлотины (она отказалась от своего подводного мира, помня о наводнении, которое застигло ее в доме), на розовые пагоды госпожи Кристии и эбеновую крепость Вертера де Гете, предостерегая всех, что разрушение просто отодвинуто ненадолго, но никто не слушал его. Доктор Велоспион, пугало в черных лохмотьях с черным телом и красными глазами, сделал марсианский саркофаг в тысячу футов высотой с репродукцией на его колышке безумцев Чезара, где четыре тысячи юношей и девушек умирали от истощения, а семь тысяч мужчин и женщин засекли друг друга кнутами до смерти. Доктор Велоспион счел своим дом «тихим», и наполнил его лунатиками-манекенами, пытающимися укусить его или подстроить ему жестокую ловушку, когда могли. Все это он находил забавным. Собор Епископа Касла в виде луча лазера, двойной шпиль которого исчезал в небе, казался непритязательным по сравнению, хотя музыка, которую создавали лучи, была эйфорической и трогательной. Даже Вертер де Гете, впечатленный, но не одобривший жилище доктора Велоспиона, поздравил Епископа Касла с его творением, а Сладкое Мускатное Око фактически скопировал идею для его Старого Нового Старого Старого Нового Нового Нового Старого Нового Старого Нового Нового Нового Нового Старого Нового Нового Версаля из голубого Кварца, который процветал в его любимый период (седьмое Интегральное Поклонение) на Сорке, планете Бета, давно исчезнувшей, вся структура была основана на примитивных музыкальных формах пятнадцатого столетия. О'Кала Инкардинал просто стал козлом и гулял там, где осталась пустыня, блеял о том, что он предпочитает всему чтение. И оно доставляет ему значительное удовольствие, но он не создал моды. Фактически единственным положительным откликом, который он получил, был от Ли Пао, который как выяснилось не обрадовался короткому возвращению в 2648 год, назвавший его роль тонкой метафорой, и от Гэфа Лошадь в Слезах, получившего бессмысленное удовольствие от блеяния на него, когда он летал над козлом в своем воздушном сампане и бросал в него фруктами. Путешественник во времени стал расстроенным, так как обнаружилось, что он все еще нуждается в ком-то, кто мог бы помочь ему в ремонте машины, прежде чем он сможет рискнуть временным прыжком через измерения. Лорд Джеггет был слишком занят своими экспериментами, а Браннарт Морфейл отказывался говорить с любым, выслушав много упреков в первые дни возрождения. На короткое время он сошелся с другим путешественником во времени, возвращенным как и Ли Пао, эффектом Морфейла, зовущим себя Ратом Осаприком, но оказалось, что он бежавший преступник из тридцать восьмого столетия и ничего не знал о принципах перемещения во времени. Он просто попытался украсть машину и был остановлен удачным прибытием Миледи Шарлотины, которая заморозила его кольцом власти и послала плавать в верхние слои атмосферы Миледи Шарлотина лишившись Браннарта Морфейла, пыталась уговорить путешественника во времени, что она должна быть его покровителем, а он стать ее новым ученым. Путешественник во времени обдумал идею, но нашел ее условия слишком стеснительными Именно миледи Шарлотина, вернувшись из старого города, принесла новости, что Гарольд Ундервуд, инспектор Спрингер, сержант Шервуд, двенадцать констеблей и все Латы оказались здоровыми и относительно жизнерадостными, но что космический корабль пуплианцев исчез. Это заставило герцога Королева открыть секрет несколько раньше, чем он планировал — Он вновь, завел зверинец, и пуплианцы оказались там, хотя они не знали этого. Он разрешил им построить собственное окружение — закрытое помещение, в котором они планировали избежать Конца Времени. и сейчас они верили, что являются единственными живыми существами во всей вселенной. Все кто хотел могли посетить зверинец Герцога и понаблюдать за ними, двигающимися в огромной сфере, совершенно не сознающими, что за ними наблюдают, занятыми своей загадочной деятельностью. Даже Амелия Ундервуд хотела увидеть их и согласилась с Герцогом Королев, что они выглядят довольно счастливее чем раньше. Этот визит к Герцогу, был первым случаем. когда Джерек и Амелия появились в обществе с тех пор, как построили себе новый дом. Амелия была удивлена быстрыми переменами, остались неизменными только маленькие районы, и на всем лежала определенная свежесть, что придавало очарование даже самым причудливым изобретениям. Сам воздух сказала она, приобрел сладкую свежесть весеннего утра. По пути домой они увидели Лорда Джеггета Канарии в его огромном летающем лебеде с другой высокой фигурой рядом с ним. Джерек подвел свой локомотив поближе и окликнул их, сразу узнав второго пассажира лебедя. — Моя дорогая Няня! Какое удовольствие встретить вас снова. Как дети? Няня была значительно в более здравом уме, чем когда Джерек в последний раз видел ее. Она покачала старой стальной головой и вздохнула. — Боюсь они исчезли. Назад, к ранней точке во времени, где я все еще управляю петлей времени, где они все играют, как, без сомнения будут играть всегда. — Вы послали их назад? — Да. Я решила что этот мир слишком опасен для моих маленьких подопечных, юный Джерек. Что ж я должна сказать что ты выглядишь хорошо. Вполне взрослый мужчина сейчас, а? А это должно быть, Амелия, на которой ты хочешь жениться. О, я полна гордости ты показал себя прекрасным мальчиком, Джерек, — казалось что она все еще пребывает в смутной уверенности, что Джерек был одним из ее воспитанников. — Я думаю, что отец тоже гордится тобой! — она повернула голову на девяносто градусов, чтобы нежно поглядеть на Лорда Джеггета, который скривил губы в смущенной улыбке. — О! очень рад, — сказал он. — Доброе утро, Амелия. Джерек. — Доброе утро, сэр Макиавелли, — Амелия порадовалась его смущению. Как продвигается ваш план? Лорд Джеггет расслабился засмеявшись. — Очень хорошо, я думаю. Няня и я сделали пару модификаций, чтобы получить петлю. А вы? Как вы живете? — Все хорошо, — ответила она ему. — Все еще… обручены? — Не женаты, лорд Джеггет, если вы это имеете в виду. — Мистер Ундервуд все еще в городе? — Так говорит миледи Шарлотина. — Ага. Амелия с подозрением посмотрела на Лорда Джеггета. но на его лице ничего нельзя было прочитать. — Мы должны лететь дальше, — лебедь начал отплывать от локомотива. Время не ждет людей, ты знаешь. Во всяком случае. пока. Прощайте! Они помахали ему, а лебедь поплыл дальше. — Он дьявольски хитер, — сказала Амелия. но без злости — Как могут быть отец и сын такими разными? — Ты так думаешь? — локомотив запыхтел по направлению к дому. — Хотя я подражал ему так долго, насколько я помню. Он всегда был моим героем. Она задумалась. — Можно искать признаки упадка в сыне, если видишь их в отце, хотя не справедливее ли смотреть на сына, как на отца, не раненого миром? Он мигнул, но не попросил ее объяснить подробнее. — Но, полагаю, я завидую ему, — сказала она. — Завидуешь Джеггету? Его разуму? — Его работе. Он единственный, на ком лежит задача спасения планеты, кто делает полезное дело. — Мы снова сделали планету красивой. Разве это не «полезное» дело, Амелия? — Во всяком случае оно не удовлетворяет меня. — Ты почти еще не начала выражать свое творчество. Завтра возможно, мы изобретем что-нибудь вместе, чтобы восхитить наших друзей. Она попыталась стать веселой. — Полагаю, что ты прав. Это вопрос позиции, как говорил твой отец. — Точно, — он обнял ее. Они поцеловались, но ему показалось, что ее поцелуй не был таким сердечным, как раньше. Со следующего утра будто странная лихорадка поразила Амелию Ундервуд. Ее появление в столовой было впечатляющим. Она была одета в малиновый шелк, украшенный золотом и серебром — напоминающим восточные наряды. На ее ногах были загнутые вверх туфли, голову украшали перья страусов и попугаев, и она покрасила или как-то изменила свое лицо, так как веки ее были ярко-голубыми, брови выщипаны, и их длина увеличена, губы полнее и удивительной красоты, щеки пылали румянами. Ее улыбка была необычайно широка, поцелуй неожиданно теплыми, объятия почти чувственными, от нее пахло духами, когда она заняла свое место на другом конце стола. — Доброе утро, Джерек, мой дорогой! Он проглотил маленький кусочек сэндвича, но тот, казалось, застрял у него в горле. Негромким голосом он сказал: — Доброе утро, Амелия. Ты хорошо спала? — О, да! Я проснулась новой женщиной. Совершенно новой. ха! ха! Он постарался проглотить кусочек, застрявший в горле. — Ты кажешься необычной. И изменение во внешности радикальное. — Я вряд ли назвала его таким дорогой Джерек. Просто аспект моей личности, который я не показывала тебе прежде. Я решила быть менее чопорной, принять более позитивный взгляд на мир и мое место в нем Сегодня, моя любовь, мы творим! — Творим? — То что ты предлагал делать. — О, да конечно. Что мы создадим, Амелия? — Уже так много всего. — По правде говоря, я не намеревался… — Джерек, ты славился своими изобретениями. Ты создаешь моду за модой. Твоя репутация требует, чтобы ты снова выразил себя. Мы построим сцену, превосходящую все, чему были свидетелями до сих пор. И мы устроим вечеринку. Мы слишком часто пользовались гостеприимством и ничего не предлагали сами! — Это правда, но… Она засмеялась над ним, отодвинув в сторону тарелку. Она отхлебнула кофе, посмотрев через окно на свой сад. — Ты можешь предложить что-нибудь, Джерек? — Ну… маленький «Лондон», мы можем сделать его вместе… Подлинный как он есть. — Лондон? Ты определенно не повторишь прошлый успех. — Это было просто предложением, ничего более. — Я вижу ты восхищен моим новым платьем? — Шикарное и красивое, — он вспомнил гимн который они однажды пели вместе. Он набрал побольше воздуха и приготовился запеть, но она опередила его. — Платье в основе имеет картину, которую я видела в иллюстрированном журнале. Я думаю, опера, или, возможно, концертный зал. Мне хотелось бы узнать некоторые оперные арии. Города могут помочь? — Сомневаюсь, что они помнят их. — Они заняты более скучными вещами в эти дни, я полагаю, работой Джеггета. — Ну, не совсем. Она встала из-за стола, напевая про себя: — Торопитесь Джерек. Утро кончиться прежде чем мы начнем. Он с неохотой встал, смущенный своей ролью, почти с отчаянием пытаясь вернуть настроение, которое всегда было нормальным для него, кроме, как оказалось, сегодняшнего дня. Она взяла его под руку, шаг ее был более упругий, чем обычно, возможно, из-за необычных туфель, одетых на ноги, и они вышли из дома в сад. — Я считаю теперь, что мы должны были сохранить мой дворец, — сказала она. — ты не находишь коттедж скучным? — Скучным? О, нет. Он был удивлен, что она выглядела разочарованной его ответом. Он задумчиво взглянул на небо, повернул кольцо власти и сделал яркий голубой оттенок там, где моментом раньше преобладали розовато-желтые тона. — Вот так! За ивами и кипарисами находились остатки пустыни. — Это, — сказала она, — то, что по выражению Джеггета должно быть нашим холстом. Он может содержать что угодно — любую причуду, которую сможет изобрести человеческий ум. Сделаем великолепную причуду, Джерек. Обширную причуду. — Что? — он повеселел, хотя дурные предчувствия остались. — Ты хочешь превзойти Герцога Королев? — Всеми средствами! Он был сегодня одет во фрак, брюки серого цвета, жилет и рубашку. Джерек сделал цилиндр и поместил его торжественно на голову. Рука его легла на кольца. Колонны воды казалось выпрыгнули из земли, толстые, как деревья, и такие же высокие, образовав арку, которая, в свою очередь, стала крышей, мерцающей на солнце. — О, ты слишком осторожен, Джерек! — она использовала собственные кольца. Их окружили огромные скалы, и из каждой изливалась река крови, образуя море, на котором плавали обсидиановые острова, наполненные пышной темной растительностью. Солнце горело почти черным цветом над ними, и из океана крови и с островов доносились страшные звуки. — Это очень величественно, — сказал Джерек тихим голосом, — но я не поверил бы… — Сцена основана на кошмаре, который я однажды видела во сне. Что-то темное поднималось из моря. Сверкнули зубы напоминающие о тварях, которых они встречали в палеозое, змееподобное нежное тело снова погрузилось с неприятным шумом обвала. Джерек обратился к ней за объяснением. — Впечатление, — ответила она, — о картине, которую я видела девочкой. О, ты не поверишь, какие кошмары меня мучили тогда. До сегодняшнего дня я забыла их почти полностью. Эта сцена нравится тебе, Джерек? Она понравится нашим друзьям? — Думаю, да. — Ты не так полон энтузиазма, как я надеялась. — Я полон энтузиазма, Амелия. И, тем не менее, удивлен. — Я рада, что удивляю тебя, дорогой Джерек. Значит наша вечеринка будет иметь шансы на успех, не так ли? — О, да. — Я кое-что добавлю. Но отложим это пока. Давай отправимся в мир сейчас. — Куда? — Приглашать друзей. Он молча кивнул и вызвал свой локомотив. Они сели в него и направились в Замок Канарии, где надеялись найти Железную Орхидею.23. АМЕЛИЯ УНДЕРВУД ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
— Латы все еще с нами? — госпожа Кристия, Вечная Содержанка, облизнула полные губы и распахнула свои огромные голубые глаза, чтобы принять тот особенный вид зрелой невинности, очень привлекательный для тех, кто любил ее (а кто нет?). — О какие превосходные новости, Железная Орхидея! Они изнасиловали меня, вы, знаете огромное количество раз. Я не могу вам показать сейчас из-за моего воскрешения, но мои локти были ярко-красными! — ее платье из жидкого кристалла переливалось огнями, когда она подняла руки. Они вместе шли через стеклянный проход в одном из обсидиановых островов миссис Ундервуд. Туннель светился красноватым светом, отраженным морем крови вокруг. — Здесь атмосфера довольно приятна, не правда ли? — Что-то от Вертера… — Но не хуже, дорогая Орхидея. — Вы всегда находили его работу более приятной, чем я, они когда-то были конкурентами за вздыхания де Гете. Кто-то появился в туннеле, загородив свет. К ним спешила Миледи Шарлотина. Она отшатнулась на секунду, когда волны ударили в остров и накренили его, затем остров выправился. — Вы видели зверей? Один из них съел бедного О'Кала, — она хихикнула. — Кажется, они любят козлов. — Я думаю, звери хороши, — согласилась ее подруга. Орхидея оставалась белой, таков был ее постоянный наряд, но добавила немного светло-желтого (цвета Джеггета) там и здесь. Желтый цвет выглядел приятно на ее губах, на фоне бледной кожи. — И запах такой тяжелый. — Не слишком приторный? — спросила госпожа Кристия. — Для меня нет. — И ваше замужество, сиятельная Орхидея, — вздохнула миледи Шарлотина, ущипнув себя за ухо, чтобы увеличить размеры мочек. Она добавила серьги. — Я только что услышала. Но должны ли мы называть вас все еще Орхидеей? Разве вы теперь не леди Джеггет? Она направилась назад к выходу из коридора. — Я не думала над этим, — Железная Орхидея первая вышла наружу. Ее сын был там, прислонившись к темно-зеленой пальме, уставившись в глубину красного океана. — Вместе с Джереком, — сказала завистливо миледи Шарлотина, — вы начнете династию. Представьте это! Все три женщины вышли из коридора и увидели его. Он поднял голову. — Мы прервали раздумья?… — мягко сказала госпожа Кристия. — О, нет… — На нем все еще была одежда, которую Амелия сочла подходящей — белая рубашка, белые фланелевые брюки и соломенная шляпа. — Ну, Джерек? — его мать подошла ближе. — Вы подарите нам сына? Ты и твоя Амелия? — А? — Мальчика, мой мальчик! — О, я, пожалуй, сомневаюсь в этом. Видишь ли, мы не можем пожениться. — Твой отец и я, Джерек, не были формально женаты, когда… — Но она отказывается, — сказал он угрюмо. — Ее муж, который все еще находится в городе, мешает вам? — Но, возможно, она меняется… — Ее создания указывают на это. — Да, — вздохнул Джерек. — Ты не находишь это озеро, этих зверей, эти утесы великолепно сделанными? — Конечно, нахожу, — он поднял голову, глядя на кровь, струящуюся из каждой скалы. — Хотя я встревожен, мама. — Недоволен ее скрытым талантом, ты имеешь в виду! — Железная Орхидея поддразнивала его. — Где она? — Миледи Шарлотина огляделась вокруг. — Я должна поздравить ее. Ведь это все ее работа, Джерек? Ничего твоего? — Ничего. — Великолепно. — Она была с Ли Пао, когда я в последний раз видела ее, — сказал Джерек. — На одном из дальних островов. — Я рада, что Ли Пао вернулся вовремя, — сказала Железная Орхидея. Мне не хватало бы его. Но сколько других исчезло! — Ничего больше для зверинца, кроме того, что мы сделали сами, пожаловалась миледи Шарлотина. Она сделала себе солнечный загар (мода, которую ввела Амелия). — Мы живем в трудные времена, энергичная Орхидея. — Но интересные! — О, да! — У Герцога Королев есть эти труднопонимаемые круглые инопланетяне, сказала госпожа Кристия. — По праву, — ответила ей с горечью миледи Шарлотина. — По крайней мере, один из них мой. Все-таки, они — великое приобретение по любым стандартам. — Он очень гордится ими, — госпожа Кристия подошла обнять Джерека. Ты кажешься печальным, самый красивый из героев. — Печальным? Это эмоции? Я не уверен, что радуюсь ей, госпожа Кристия. — Почему ты грустишь? — Я не знаю. — Ты хочешь состязаться в грусти с Вертером, вот и все. — Я не думал о Вертере. — Он здесь! — Железная Орхидея и миледи Шарлотина показали одновременно. Вертер увидел ее сверху и спустился кругами вниз в своем громоподобном аэрокаре. Его шапка была черной, и он снял всю плоть со своего лица, так что открылся череп, и только темные глаза во впадинах глазниц мерцали жизнью. — Где миссис Ундервуд. Джерек? — спросил Вертер. — Я должен почтить это ее самое красивое творение, какое я видел за тысячелетия! Все молчали. Только Джерек показал на дальний остров. — Ого! — сказала госпожа Кристия и подмигнула Железной Орхидее. Амелия сделала еще одно завоевание. Джерек лягнул ногой кусок скалы и снова вздохнул. Его шляпа упала с головы. Он наклонился и поднял ее. Женщины сплели руки и вместе поднялись в воздух. — Мы летим к Амелии, — крикнула через плечо Железная Орхидея. — Ты присоединишься к нам, Джерек? — Скоро. Он только недавно избежал натиска гостей, толпящихся вокруг его невесты, так как она была в центре внимания, и все поздравляли ее с произведением, с ее костюмом, с внешностью, и, если они говорили с ним, то для того, чтобы похвалить Амелию. А там на другом острове, она болтала, была остроумной, развлекала их, но он не мог найти лучшего определения она была не его Амелией. Джерек повернулся на звук шагов. Это был путешественник во времени с руками, засунутыми в карманы, такой же угрюмый как и он сам. — Добрый день, Джерек Корнелиан. Миледи Шарлотина передала мне ваше приглашение. Лорд Монгров подвез меня. Все это очень причудливо. Вы, должно быть, путешествовали дальше на материк во время вашего пребывания в Палеозое, чем я думал. — До реки? — За рекой есть ландшафты, очень похожие на этот, дикие и прекрасные. Я полагаю, что это извращенная версия. О, увидеть бы снова дождь, падающий сквозь солнечное сияние палеозойским утром, папоротники, колышущиеся под легким ветерком, морщащим воды озера. — Вы делаете меня завистливым, — Джерек уставился на свое отражение, искаженное в крови. — Я никогда не жалею о нашем возвращении, хотя знаю, что мы умерли бы с голода. — Чепуха. С приличным оборудованием и умом можно хорошо прожить в палеозое, — путешественник во времени улыбнулся, — до тех пор пока не захочешь поплавать в реке. Та рыба, между прочим, очень вкусная. — Гм! — сказал Джерек, глядя на остров, где находилась Амелия Ундервуд с гостями. — Мне кажется, — пробормотал путешественник во времени, — что вся романтика исчезла от путешествий во времени с тех пор, как я начинал это дело. Я был одним из первых, знаете ли. Возможно, самым первым. — Пионером, — подсказал Джерек. — Можно сказать и так. Будет злой иронией, если я застряну здесь, когда ваш Лорд Джеггет пустит в ход свой план с петлей времени. Я пересек эпохи, пересек барьеры между мирами, и теперь мне угрожает заключение навечно в одной и той же недели, повторяющейся снова и снова в бесконечности, — он издал звук, напоминающий стон. — Нет, я не позволю этого. Если я не получу помощь в ремонте моего экипажа, я рискну вернуться назад и попрошу поддержки Британского правительства. Так будет лучше, чем то положение, в котором я нахожусь. — Браннарт отказывается помочь? — Он занят, я думаю, строительством собственной машины. Он отказывается принять теории Лорда Джеггета и его решение проблемы. Джерек чуть улыбнулся. — Тысячи лет Браннарт был Лордом Времени. Его эффект был одним из немногих законов, извечной этой несовершенной науки. И вдруг он лишился трона. Неудивительно, что он стал таким возбужденным, что все еще делает предупреждения. Хотя он мог бы многое еще сделать. Гильдия приветствовала бы его знания, не так ли? — Возможно. Он не является тем, что я подразумеваю под истинным ученым. Он навязывает свое воображение фактам, а не использует его для исследования. Вероятно, он не виноват в этом, так как все вы делаете подобным образом. В большинстве случаев мы можем изменить все законы Природы, которые, в мое собственное время, считались неизменными. — Полагаю, так и есть, — Джерек увидел, как еще несколько вновь прибывших гостей направились к острову Амелии. — Завидно, конечно. Но вы утратили научный метод. Вы решаете проблемы, изменяя факты. — Очень приятно, — рассеяно сказал Джерек. — Фундаментально различные позиции. Даже ваш Лорд Джеггет заражен до некоторой степени. — Заражен? — Джерек заметил корабль аргонхерта По, двигающегося по спирали над утесами. Он тоже направлялся к острову, к которому было приковано его внимание. — Я использовал это слово без всякой критики. Но для любого, вроде меня, привыкшего бороться с проблемой аналитическим методом… — Естественно… — Естественно для меня. Я был научен отвергать любой другой метод. — Ага, — было бесполезно сдерживать себя больше, — Джерек повернул кольцо власти и поднялся в воздух. — Простите меня… общественные обязанности… возможно, нам удастся поговорить позже. — Послушайте, — сказал поспешно путешественник во времени. — Вы не могли бы подбросить меня? Я не обладаю средствами пересечь… Но Джерек был уже за пределами слышимости, оставив путешественника во времени растерянно смотреть на розовую пену, смывающую скалистый обсидиановый берег, в ожидании, когда какой-нибудь другой гость поможет ему попасть на материк. Нечто черное и длинное появилось над поверхностью малинового моря, и, взглянув на него почмокало губами, прежде чем потерять интерес и поплыть дальше в направлении, в котором улетел Джерек. Путешественник во времени повернулся и пошел искать более высокую точку острова, где, если повезет, он будет в безопасности от зверей и сможет подать сигнал о помощи. Амелия была окружена. Джерек мог видеть только ее голову и плечи в центре толпы, она боролась с сигаретой. Подражая ей, Сладкое Мускатное Око пыхал дымом из ушей. Железная Орхидея, госпожа Кристия, миледи Шарлотина и Вертер де Гете находились ближе всех к ней, и их слова доносились до Джерека через общий шум. — Даже вы, Амелия, должны признать, что девятнадцатый век, скорее всего, не в моде. — О, моя любовь, вы всем этим доказали противоположное. Все так чудесно и оригинально… — И хотя такое простое… — Лучшие идеи, госпожа Кристия, всегда просты… — Правильно, сладчайшая Орхидея. Из того что хочешь придумать сам, но не можешь… — Ну а серьезные? Если человек все еще смертен, то что он теряет? Какие могут быть комментарии по этому поводу! — Я считаю это просто красивым, Вертер, и ничего больше. В самом деле, Амелия, произведение не предназначено… — Тут не было сознательных намерений. — Вы должно быть, распланировали все на много дней? — Все вышло непроизвольно. — Я знала это! Оно такое жизненное… — А чудовища! Бедный О'Кала… — Мы должны не забыть оживить его. — В конце, не раньше. — Наше первое оживление после Возрождения. А вот и Герцог Королев. — Пришел принести свои комплименты. Кланяясь мастеру, хозяйке моего сердца! — В самом деле, вы смущаете меня. Последовал взрыв смеха, который она никогда не употребляла прежде. Джерек протолкнулся вперед. — О, Амелия… — Джерек, ты наконец здесь. — Здесь, — сказал он. Молчание охватило его, угрожая распространиться на всех присутствующих, так как оно было именно такого рода, но Епископ Касл тряхнул своим жезлом. — Ну, Вертер. Мы слышали твои признания. Означают ли они дуэль, интересно знать? — Дуэль! — Герцог Королев увидел возможность принять позу. — Я буду советовать вам. Мое собственное мастерство во владении шпагой значительно, но не выдающееся. Я уверен, что Лорд Шарк согласится… — Хвастливый Герцог! — Железная Орхидея положила светло-желтую руку на голое плечо Амелии, а белую руку на рубашку Джерека. — Я уверена, что мы уже устали от моды на дуэли, как и на девятнадцатый век. Амелия, должно быть, видела достаточно дуэлей в своем родном Бромли. — Бромли, — сказал Джерек. — Простите меня, Бромли. — О, но идея интересная! — прокаркал доктор Велоспион, заостренный подбородок которого высовывался из-под полей его шляпы. Он скосил глаза сперва на Джерека, затем на Вертера. — Один такой свежий и здоровый, другой такой затхлый и почти мертвец. Вас устроило бы это, Вертер, а? С вашей склонностью к гиперболам. Дуэль между жизнью и смертью. Кто пойдет, будет решать судьбу планеты если победит. — Я не могу взять на себя такую ответственность, доктор Велоспион, невозможно было судить по тону Вертера или по выражению его лица (череп не позволял этого), шутит он или говорит серьезно. Джерек, который никогда не питал большой симпатии к доктору Велоспиону (ревность доктора к Лорду Джеггету была широко известна) сделал вид, что не расслышал его слова. Его подозрение о мотивах Велоспиона подтвердилось следующим замечанием: — Значит, только Джеггету позволено решать судьбу человечества? — Мы сами выбрали ее! — Джерек защищал отсутствующего отца. — Лорд Джеггет просто обеспечил нас средствами выбора. Без него их у нас не было бы! — Итак, за старого отца лает его щенок, — злобно сказал доктор Велоспион. — Вы забыли, доктор Велоспион, — сказала Железная Орхидея сладким голосом. — Что сука тоже находится здесь! Велоспион поклонился ей и отошел в сторону. Громким голосом Амелия Ундервуд предложила: — Не отправиться ли нам на самый большой остров? Угощение ждет нас. — Я предвижу вдохновение, — сказал Аргонхерт По с тяжеловесной галантностью. Гости поднялись в воздух. На секунду Джерек и Амелия остались одни, стоя друг перед другом. Его лицо выражало вопрос, который она игнорировала. Он сделал движение к ней, уверенный, что увидел боль и смятение в этих накрашенных, немигающих глазах. — Амелия… Она уже поднималась. — Ты наказываешь меня! — его рука потянулась вверх, как если бы в порыве поймать край ее одежды. — Не тебя, моя любовь.24. ВИДЕНИЕ В ГОРОДЕ
— Я слышал вы владеете многими древними искусствами, миссис Ундервуд. Вы читаете, как я понимаю? — Гэф Лошадь в слезах, весь состоящий из листвы, кроме лица, держал сладкую булочку на конце своей левой ветки. — И пишите, да? — Не много, — ответила Амелия. — И играете на инструментах? — Гармоника. Гости в костюмах, один экстравагантнее другого, стояли по обеим сторонам длинных плетеных столов, угощаясь чаем, сэндвичами с огурцами, поджаренной ветчиной, холодными сосисками, имбирными кексами — все в тени высокого тента в красно-белую полоску. Джерек в углу откусывал понемногу от печенья, игнорируемый всеми, кроме Ли Пао, который жаловался на обращение с ним во время короткого визита домой. — Знаете ли, они называли меня декадентом… — А вы шьете? Вышивальщица, не так ли? — Епископский замок осторожно поставил дребезжащую, чуть отпитую чашку на стол. — Я научена этому, но теперь в этом мало смысла… — Но вы можете демонстрировать эти искусства! — Железная Орхидея сделала сигнал Джереку. — Джерек, ты говорил нам что Амелия поет, не так ли? — Я говорил тебе это? — Да, она поет. — Ты должен уговорить ее спеть нам. Он поглядел с несчастным видом туда, где жестикулировала Амелия, смеясь вместе с доктором Велоспионом. — Ты не споешь нам гимн, Амелия? Ее ответная улыбка заморозила его. — Не сейчас я думаю, — она расставила руки в малиновых рукавах. — Вам хватило чаю? Гул удовлетворения. Вертер снова подошел к ней, держа в белой руке серебряную чашку с печеньем и кидая время от времени по штучке в клацающие челюсти. — Королева Меланхолии, вы нуждаетесь во мне, моя дорогая, в мой замок? Она попыталась флиртовать. — О, мужественный Рыцарь Смерти, в чьих руках вечный отдых, я пошла бы, если бы была свободна. — Ее веки затрепетали. Она бросила взгляд на Джерека, возможно, чтобы проверить его реакцию. Джерек не мог больше вынести этого. Он поклонился и покинул тент. Оказавшись снаружи он заколебался. Красные каскады продолжали падать со всех сторон в озеро. Обсидиановые острова медленно дрейфовали к центру, некоторые из них уже касались друг друга. Джерек увидел путешественника во времени, осторожно прыгающего с одного острова на другой. Он почувствовал желание поискать решение в старом городе, где находил их еще ребенком. Возможно, он встретит отца и сможет получить совет. — Джерек! Амелия стояла позади его. На ее щеках были слезы. — Куда ты собрался? Ты плохой хозяин сегодня. — Меня игнорировали. Я лишний, — он говорил небрежно, как только мог. — Я действительно никому не нужен, все гости сопровождали тебя. — Ты обиделся? — Я просто хотел посетить город. — Разве это не плохие манеры? — Я не понимаю тебя полностью, Амелия. — Ты отправишься сейчас? — Да. Она немного помолчала, затем сказала: — Я поеду вместе с тобой. — Ты кажешься довольной, — он оглянулся назад, на тент, — всем этим. — Я делаю все, чтобы доставить тебе удовольствие. Все было как ты хотел, — но она обвиняла его. Слезы прошли, других не последовало. — Я вижу. — И ты находишь мою новую роль непривлекательной? — Она очень красива и это впечатляет. В одно мгновение ты встала в ряд с признанными законодателями мод. Все общество празднует твои таланты, твою красоту. Вертер ухаживает за тобой, скоро это начнут делать другие. Разве не так проводят время на Конце Времени — с развлечением и флиртом? — Полагаю, что так. — Тогда я должна научиться заниматься этими вещами, если хочу, чтобы меня признали, — снова эта замороженная улыбка. — Госпожа Кристия возьмет тебя в любовники. Ты хочешь этого? — Я хочу только тебя. Ты уже принята в общество, ты видела это сегодня. — Поэтому что я играю соответствующую роль. — Если ты хочешь этого. Тогда ты останешься здесь? — Разреши мне, и я поеду с тобой. Я не привыкла к общему вниманию, оно действует на нервы. И я Удовлетворю себя тем, что Гарольду живется хорошо. — О, ты тревожишься о нем. — Конечно, — добавила она. — Я должна еще узнать эту нехарактерную особенность для вашего мира. Лебедь Лорда Джеггета опустился на землю. Они услышали его голос. — Мои дорогие, как кстати. Я не хотел участвовать в вашей вечеринке, но хотел нанести короткий визит и поздравить вас с ней. Красивый мир, Амелия. Конечно, он ваш. Она кивнула, лебедь, начал подниматься, лицо Лорда Джеггета глядело на них с верху. — Я гляжу, вы освоились, Амелия, в Конце Времени. — Я начинаю понимать, как человек, вроде меня, может научиться жить здесь, Мефистофель. Упоминание как всегда вызвало смех. — Итак вы не полностью уступили себя. Пока никакой женитьбы? — c Джереком? — она не взглянула на Джерека, который оставался молчаливым. — Нет еще. — По тем же самым причинам? — Я делаю, что могу, чтобы забыть их. — Немного больше времени, все, что вам нужно, моя дорогая, — взгляд Джеггета стал пристальней, но ирония осталась. Мне кажется, что осталось очень мало. — Зависит от вашего отношения, как я сказал. Жизнь будет продолжаться, как всегда. Никаких изменений не будет. — Никаких изменений, — сказала она упавшим голосом. — Именно так. — Ладно, я должен продолжать свою работу. Желаю вам всего хорошего, Амелия — и небо, мой сын. Вам следует все еще отдыхать после ваших приключений. Ваше настроение улучшиться, я уверен. — Будем надеяться, Лорд Джеггет. — Эй! Там, эй! — это был путешественник во времени на ближайшем острове. Он махал лебедю Джеггета. — Это вы, Джеггет? Лорд Джеггет Канарии повернул красивую голову, чтобы посмотреть на источник беспокойства. — О, мой приятель. Я искал вас. Кажется, вам нужна помощь? — Выбраться с этого проклятого острова. — И покинуть эту проклятую эру, не так ли? — Если бы вы б и на моем месте… — Вы должны простить меня за мою невежливость. Сложные проблемы, но теперь решенные, — лебедь поплыл к путешественнику во времени и сел на каменистом берегу, чтобы тот мог забраться на борт. Они слышали, как путешественник во времени сказал: — Ваша помощь будет неоценимой Лорд Джеггет. Один из кварцевых стержней требует замены, так же два или три прибора нужно отрегулировать… — Хорошо, — донесся голос Джеггета. — Я направляюсь сейчас в замок Канарии, где мы обсудим все эти вопросы. Лебедь поднялся высоко в небо и исчез над одним из утесов, оставив Джерека и Амелию смотрящими ему вслед. — Это был Джеггет? — у входа под тент стояла Железная Орхидея. — Он говорил, что может быть придет, Амелия. Все заметили твое отсутствие. Амелия подошла к ней. — Дорогая Орхидея, побудь хозяйкой за меня. Я еще неопытна и устала. Джерек и я отдохнем от волнений. — Хорошо. Джерек уже вызвал локомотив. Он ожидал, из трубы вился бело-голубой дымок, изумруды и сапфиры мерцали. Поднявшись в воздух, они поглядели вниз на первое творение Амелии. На фоне окружающего пейзажа оно походило на обширную и ужасную рану, как будто земля была живой плотью, и в ее бок было воткнуто огромное копье. Вскоре на горизонте показался город со своими странной формы полуразрушенными башнями, слои многоцветными ореолом, облаками химических испарений, ворчанием и приглушенным бормотанием, особенными полуорганическими — полуметаллическими запахами, наполняя их обоих чувством ностальгии, будто по более счастливым, более простым дням. Во время полета они не разговаривали, даже казалось неспособными начать беседу, ни один из них не мог справиться с чувством, которые были, по крайней мере, Джереку совершенно незнакомыми. Он думал, что несмотря на все ее новые украшения, он никогда не видел ее более отчаявшейся. Она намекала на это отчаяние, но отрицала его, когда ее спрашивали. Привычный к парадоксам, считал их частью существования, он нашел этот парадокс крайне нежелательным. — Ты будешь искать мистера Ундервуда? — спросил он, когда локомотив приблизился к городу. — А ты? Он узнал дурное предчувствие. Ему хотелось сопровождать ее, но этому мешал необычный и, вероятно, ненужный приступ тактичности. — О, я ищу призраки моего детства. — Это не Браннарт? — Где? — всмотрелся он. Она показала на путаницу древней уже сгнившей техники. — Я думала, там. Но он исчез. Я даже мельком видела одного из этих Латов. — Что надо! Браннарту от Латов? — Конечно ничего. Они пролетели мимо, но хотя он оглянулся назад, он не увидел признаков ни Браннарта Морфейла, ни Латов. — Понятно, почему его не было на вечеринке. — Я полагаю, только из чувства неприязни. — Он никогда в прошлом не упускал возможности изложить свое патентованное мнение, сказал Джерек. — Я считаю, что он все еще старается помешать Лорду Джеггету, но что ему не везет в этом путешественник во времени объяснял мне, почему методы Браннарта не годятся. — Итак, Браннарт в немилости, — сказала она. — Он много помог тебе в начале, — упрекнула она его. — Послав тебя обратно в Бромли? Он забывает, когда негодует на нас за наши путешествия во времени, что большая часть вины в том, что произошло, лежит на нем и на миледи Шарлотине. Не трать симпатии на Браннарта, Амелия. — Симпатии? О, у меня теперь их мало, — она вернулась к своей холодной иронической манере. Эта новая размолвка вызвала дальнейший уход в свои мысли. Джерек удивлялся своему критицизму, фактически не имея намерения нападать на Браннарта. Он был неопытен в деле обвинения и уступок, новичок в выражении эмоциональной боли, в то время, как она, казалось, теперь была бывалой в таких делах. Он, испытавший только радость, невинную любовь, барахтался в болоте, которое она создала для них обоих своей двойственностью. Возможно, было бы лучше, если бы она никогда не признавалась в своей любви и осталась суровой сторонницей Бромли, его морали, оставив ему роль галантного ухажера в его экстравагантном мире. Были ли его обвинения направлены на нее, или, фактически, на себя? Или же она, пытаясь переломить свою психику, всю агрессивность направляла на себя и только случайно на него. Все это было слишком для Джерека, и он искал облегчения во внешнем мире. Они плыли над озером поверхность которого представляла круговорот из цветов радуги, кипящий пузырями, затем над лазурным полем, усеянным резными каменными колоннами, остатками загадочной технологией двухтысячного века. Он увидел впереди яму в милю шириной, на краю которой они ждали конца мира. Локомотив сделал круг и приземлился посередине группы руин. Джерек помог ей встать на подножку, и они секунду стояли в застывших позах, прежде чем он намеренно заглянул ей в глаза, чтобы узнать, догадалась ли она о его мыслях, так как у него не было слов выразить их; словарь Конца Времени был богат только гиперболами. Он подумал, что именно его первоначальный импульс расширит словарь, и, соответственно, опыт привел его к настоящему положению. Он улыбнулся. — Что-то забавляет тебя? — спросила она. — О, нет, Амелия. Я только не могу высказать, что мне хотелось бы… — Не связывай себя хорошими манерами. Ты разочарован во мне. Ты не любишь меня больше. — Ты хочешь чтобы я это сказал? — Это ведь, правда? Ты выяснил, что я такое. — О, Амелия, я все еще люблю тебя, но видеть тебя в таком расстройстве чувств мне невыносимо. Амелия, которую я вижу, не та, которая ты есть! — Я учусь радоваться забавам Конца Времени. Ты должен понять это. — Ты не радуешься им. Ты используешь их чтобы уничтожить себя. — Уничтожить не себя, а мои старомодные принципы. — Возможно, эти принципы существенно необходимы. Возможно, именно они являются Амелией Ундервуд, которую я люблю, или, по крайней мере, часть ее… — Думаю, ты ошибаешься, — не намеренно ли она держалась на расстоянии от него? Возможно, она жалеет о своем признании в любви, чувствует себя связанным им. — Ты все еще любишь меня? Она засмеялась. — Все любят всех в Конце Времени. Решительно сломав последнюю тишину, она сказала: — Я поищу Гарольда. Он показал ей на дорожку из желто-коричневого металла. — Она приведет тебя к месту, где мы оставили его. На момент внимание Джерека было отвлечено тремя маленькими яйцеобразными роботами на гусеницах, пробирающимися через кучу обломков и увлеченными беседой на совершенно непонятном языке. Когда он снова посмотрел на дорогу, она исчезла. Джерек был один в городе, но одиночество больше его не привлекало. Он хотел догнать ее, потребовать отчет о ее настроении, но, возможно, она была так же неспособна выразить себя, как и он. Предоставлял ли Бромли средства для интерпретирования эмоций с той же готовностью, как стандарты социального поведения? Он начал подозревать, что ни общество Амелии, ни его общество не вникало глубже поверхности в суть дела. Теперь когда он находился в городе, он мог найти какой-нибудь все еще функционирует банк данных памяти, способный припомнить мудрость одной из тех эр, вроде Простой Конфуцианской и Дзэн-общества, которые придавали слишком преувеличенное значение самопознания и его выражения. Даже странные нейротические изощренности того периода, с которым он был немного знаком, Диктатуры Святого Клавдия (при которой от каждого гражданина требовалось обеспечить три отчетливо различных объяснения их психических мотивов даже для самых мелких поступков) могло дать ему ключ для понимания поведения Амелии и к его собственным реакциям. Емупришло в голову, что она могла действовать странно, потому что, каким-то образом, ему не удалось утешить ее. Джерек направился через руины в противоположную сторону, пытаясь вспомнить что-нибудь, об Обществе Эпохи Рассвета. Может быть, от него требовалось убить кого-нибудь, или еще что-то?.. Ни общество Амелии, ни его общество не вникало глубже поверхности в суть дела. Теперь когда он находился в городе, он мог найти какой-нибудь все еще функционирующий банк данных памяти, способный припомнить мудрость одной из тех эпох, вроде Простой Конфуцианской или Дзэн-общества, которые придавали слишком преувеличенное значение самопознанию и его выражению. Даже странные нейротические изощренности того периода, с которым он был немного знаком — Диктатуры Святого Клавдия (при которой от каждого гражданина требовалось обеспечить три отчетливо различных объяснения их психических мотивов даже для самых мелких поступков) могло дать ему ключ для понимания поведения Амелии и к его собственным реакциям. Ему пришло в голову, что она могла действовать странно, потому что, каким-то образом, ему не удалось утешить ее. Джерек направился через руины в противоположную сторону, пытаясь вспомнить что-нибудь, ба Обществе Эпохи Рассвета. Может быть, от него требовалось убить мистера Ундервуда? Это можно было бы легко сделать. И разрешит ли она оживление ее мужа? Не должен ли он, Джерек, изменить свою внешность чтобы выглядеть как можно похоже на Гарольда Ундервуда? Не потому ли она отвергла его предложения изменить свое имя на его из-за того, что этого было недостаточно? Он прислонился к резному нефритовому столбу, чья верхушка терялась в химическом тумане высоко над его головой. Ему казалось, что он вспомнил какой-то ритуал, формализующий передачи себя другому человеку. Может быть она сердится, что он не исполнил его? Или нужно было сделать наоборот? Имеет ли коленопреклонение какое-нибудь отношение к этому, и, если да, то кто перед кем становится на колени? — Гм! — сказал нефритовый столб. — А? — вздрогнул от неожиданности Джерек. — Гм! — повторил столб. — Ты засек мои мысли, столб? — Я просто помогаю размышлениям, брат. Я не интерпретирую. — Мне как раз нужна интерпретация. Если ты можешь направить меня… — Все есть все, — сказал ему столб. — Все есть ничто, и ничто есть все. Разум человека — вселенная и вселенная это разум человека. Мы все персонажи снов Бога. Мы все — Бог. — Легко сказать, столб. — То, что вещь легка, не означает, что она трудна. — Разве это не тавтология? — Вселенная — это одна большая тавтология, брат, хотя ни одна вещь в ней не похожа на другую. — Ты не очень полезен. Я ищу информацию. — Нет такой вещи как информация. Есть только знания. — Несомненно, — сказал с сомнением Джерек. Он попрощался со столбом и удалился. Столб, подобно многим субъектам города, не обладал чувством юмора, хотя, вероятно, если спросить его, как делали это другие — заявит о своем космическом чувстве юмора (которое включало обычные иронические замечания о вещах, доступные простейшему разуму). В отношениях обычной легкой беседы машины, включая самые сложные, были широко известны, как плохие компаньоны, более педантичные, чем, например, Ли Пао. Эта мысль привела его, пока он шел, к выводам о различии между человеком и машиной. Когда-то это были большие различия, но в эти дни их осталось немного, только в поверхностных терминах. Что отличало самостоятельную машину, способную почти к любому виду творчества, от человеческого существа равных способностей? Здесь были различия возможно, эмоциональные. Может быть, тогда правда, что чем меньше эмоций имеет личность, чем беднее ее чувства юмора? Или, чем больше она подавляет эмоции, тем слабее ее способность к оригинальной иронии? Эти идеи вряд ли вели его в направлении, каком ему хотелось, но он уже начал терять надежду найти какое-то либо решение своей дилеммы в городе и, по крайней мере ему, казалось, что теперь он лучше понимал нефритовый столб. Хромированное дерево хихикнуло, когда он вошел на мощеную площадку. Он был здесь несколько раз мальчиком и сильно привязался к хихикающему дереву. — Добрый день, — сказал он. Дерево хихикнуло, как оно исправно хихикало по меньшей мере, миллион лет, кто бы не обращался или не приближался к нему. Его функцией, казалось, было просто развлекать. Джерек улыбнулся, несмотря на тяжесть своих мыслей. — Приятный денек. Дерево хихикнуло, его хромированные ветки звонко соприкасались друг с другом. — Слишком робкое, чтобы говорить, как обычно. — Хи-хи-хи! Очарование дерева было очень трудно объяснить, но оно было неоспоримо. — Я думаю, что сам я, старый друг, «несчастен»… или хуже! — Хи… хи… хи… — дерево, казалось, зашлось от смеха. Джерек тоже стал смеяться. Смеясь он покинул площадь, чувствуя себя значительно более расслабленным. Он приблизился к путанице металла, где Амелии сверху показалось, что она видела Браннарта Морфейла. Дальше его вело любопытство, так как там, за массой искореженных решеток, двигались огоньки, прячась в сплетении подпорок, труб, проводов, хотя они, вероятно, не были, человеческого происхождения. Он подошел ближе, он осторожно всмотрелся, думая что видит фигуры. А затем когда вспыхнул свет, Джерек безошибочно узнал форму тела Браннарта Морфейла, правда, только контуры, так как свет наполовину ослепил его. Он узнал голос ученого, но тот не использовал свой обычный язык. Прислушавшись, Джерек понял, что Браннарт Морфейл, тем не менее, использовал язык, знакомый ему. — Герфикс лортоода мибикс? — сказал Ученый. Другой голос ответил ровно безошибочно. Он принадлежал капитану Мабберсу. — Хрунг! Врагак флузи, гродоник Морфейл. Джерек пожалел что больше не носил с собой трансляционных пилюль, так как ему было любопытно узнать, почему Браннарт вступил в заговор с Латами. Почему это был именно заговор — от всего дела веяло значительной секретностью. Он решил упомянуть про это открытие Лорду Джеггету как можно скорее. Джерек хотел бы увидеть побольше из того, что происходит, он решил не рисковать обнаружением своего присутствия. Вместо этого он повернулся и нашел укрытие в ближайшем куполе с треснувшей, как скорлупа яйца, крышей. Внутри купола он с восторгом обнаружил яркие цветные картины, свежие, как в день, когда они были сделаны, и рассказывающие какую-то историю, хотя голоса аккомпанирующие им, были искажены. Он наблюдал древнюю программу, пока она не началась снова. Программа описывала метод производства машин того же рода, как та, на которой Джерек наблюдал картины, и были еще фрагменты, вероятно, представляющие другие программы из сцен, показывающих разнообразные события — в одной молодая женщина, одетая в какую-то светящуюся сетку, занималась любовью под водой с огромной рыбой странной формы; в другой двое мужчин подожгли себя, и, вбежав в шлюз космического корабля вызвали его взрыв; а еще в одной, большое количество людей, одетых в металл и пластик, боролись в невесомости за обладание маленькой трубкой, которую, когда один из них умудрился захватить ее, швыряли в один из нескольких круглых предметов на стене здания, в котором они плавали. Если трубка ударялась об определенное место круглого объекта, половина людей приходила в восторг, а другая демонстрировала уныние; но Джерека больше заинтересовал фрагмент, в котором, казалось, показывалось, как мужчина и женщина могут совокупляться в невесомости. Он нашел изобретательность, проявленную при этом, крайне трогательной, и покинул купол в более позитивном и обнадеживающем настроении, чем когда вошел в него. Он решил найти Амелию и попытаться объяснить свои мучения из-за ее поведения, а так же, может быть, своего собственного. Джерек поискал путь которым пришел, но уже заблудился, хотя хорошо знал город. Но он имел представление об общем направлении и начал пересекать хрустящие лужайки из сладко пахнущих красно-зеленых кристаллов, почти немедленно заметив ориентир впереди себя полурасплавленную часть ансамбля, висящую без всякой видимой поддержки над механической фигурой, протягивающей к ней сначала умаляющие руки, затем берущей с земли маленькие золотые диски и швыряющей их в воздух, повторяя эти движения снова и снова, с тех пор, как Джерек стал себя помнить. Он прошел фигуру и углубился в плохо освещенную аллею, где из отверстий по обеим сторонам высовывались маленькие металлические морды, глазки машин всматривались пристально в него и шевелили серебряные усики. Джерек никогда не знал функции этих платиновых грызунов, хотя догадывался, что они являлись сборщиками информации какого-либо рода для машин, помещенных за высокими, обожженными радиацией стенами аллеи. Две или три иллюзии только наполовину ощутимые появились и исчезли впереди него — тонкий мужчина восьми футов роста, слепой и агрессивно выглядевший, собака в большой бутылке на колесах, желтоволосый, похожий на свинью инопланетянин в разноцветных одеждах. Джерек вышел из аллеи и пошел дальше по колено в мягкой черной пыли, пока земля не стала подниматься, и он оказался на холмике над прудами из какой-то стеклянной субстанции, правильной круглой формы, подобно выброшенным линзам гигантского оптического инструмента. Он обогнул их, так как знал из прошлого опыта, что они способны двигаться и проглотить его, а затем повергнуть галлюцинациям, которые, хотя и интересные, отнимали много времени. Вскоре он увидел впереди себя пасторальную иллюзию, где они встретили Джеггета по его возвращении. Джерек пересек иллюзию, заметив что там был разложен свежий пикник и нет следов пребывания Латов (которые обычно оставляли кучу мусора после себя), и продолжал бы свой путь дальше к яме в милю шириной, если бы не услышал слева от себя голоса, поющие песню:25. ПРИЗЫВ ДОЛГА
В первый раз в своей длинной жизни Джерек Корнелиан, чье тело всегда могло быть модифицировано, чтобы не нуждаться во сне, познал бессонницу. Он хотел только забвения, но оно не приходило. Мысль за мыслью проносились в его голове, и каждая никуда не вела. Он подумал, не поискать ли Джеггета, хотя что-то остановило его. Это была Амелия, только Амелия единственная компания которую он хотел, и хотя (он должен был признать себе здесь, в темноте) в настоящее время он боялся ее. В своем уме он сделал шаг вперед, чтобы немедленно после этого отступить назад-вперед, назад, — жуткий танец нерешительности, приведший к его первому ощущению самоотвращения. Он всегда следовал своим импульсам, без всякого предположения, вопроса, без грамма стеснительности, как поступали все в Конце Времени. Но теперь он, казалось, имел два импульса, он был пойман как стальной шарик, между двумя магнитами. Его личность и его поступки до последнего момента были одним — поэтому сейчас его личность оказалась в осаде. Если у него два импульса, значит, он должен быть двумя людьми. И если он был двумя людьми, какой был более ценным, а какой следовало оставить как можно скорее. Таким образом, Джерек открыл старую ночную игру, качели, в которой третий Джерек, тоже не слишком твердый в своей решимости, пытался судить двух других, колеблясь то в одну сторону то в другую — «Я должен потребовать от нее…» и «Она заслуживает лучшего, чем я…» — были двумя началами мыслей, новых для Джерека, хотя, несомненно, знакомых многим современникам миссис Ундервуд, особенно тем, у которых расстроились отношения с объектом их привязанности, или они находились в положении выбора между старыми лояльностями и новыми, скажем, между занемогшим отцом и прекрасным кавалером, или, на самом деле, между любимым мужем и любовником, предлагающим женитьбу. Именно на полпути через эти мысленные упражнения Джерек открыл трюк с постановкой себя на место другого — что если она испытывает те же муки, какие испытывает он? И немедленно жалость к себе исчезла. Он должен пойти к ней и утешить ее. Но нет — он обманывает себя, просто желает повлиять на нее, сфокусировать ее внимание на его дилемме. И качели начинали раскачиваться снова с выносящим решение Джереком, пытающимся сохранить равновесие на точке опоры. И так могло продолжаться до утра, не открой она тихо дверь с приглушенным вопросом не спит ли он. — О, Амелия! — он тотчас сел на кровати. — Я причинила тебе боль, — прошептала она, хотя поблизости не было никого, кто мог бы подслушать. — Мое самообладание покинуло меня сегодня. — Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, — сказал он ей, поворачивая лампу около своей постели так, чтобы она давала чуть больше света, и он мог видеть ее изможденное лицо с красными от слез глазами. Но ты не сделала никакого вреда. Это я потерпел неудачу. Я бесполезен для тебя. — Ты храбр и великолепен, и невинен. Я говорила это прежде, Джерек. Я лишила тебя невинности. — Я люблю тебя, — сказал он. — Я глупец недостойный тебя. — Нет, нет мой дорогой. Я рабыня моего воспитания, и я знаю, что это воспитание было ограниченным, лишенным воображения, даже жестоким о, и оно в сущности цинично, хотя я никогда не могла признать этого. Но ты, дорогой, без всякого следа цинизма, хотя я считала сперва, что ты и твой мир — сплошной цинизм. И теперь я вижу, что нахожусь на грани передачи тебе моих привычек — цинизма, лицемерия, страха эмоционального участия, замаскированного под самоотрицание — о, их чудовищное количество… — Я просил тебя научить меня этим вещам. — Ты не знал, что просишь. Он протянул к ней руку, и она взяла ее, хотя и осталась стоять. Ее рука была холодной и немного дрожала. — Я все еще не могу понять, что ты говоришь, — сказал он ей. — Я молю, чтобы никогда не понял, мой дорогой. — Ты любишь меня? Боялся, что сделал что-то, уничтожившее твою любовь. — Я люблю тебя, Джерек. — Я хочу только измениться, ради тебя, стать тем, кем ты желаешь, я должен быть… — Я не хотела бы, чтобы ты изменился, Джерек Корнелиан, — на ее лице появилась слабая улыбка. — Хотя ты сказала… — Ты обвинил меня ранее, что ты не похожа на себя, — вздохнув, она присела на край его постели. На ней все еще было одето истрепанное восточное платье, но она убрала перья из своих волос, которым был возвращен их первоначальный вид. Большая часть краски исчезла с ее лица. Ему было очевидно, что она спала не больше, чем он. Он сжал ее руку, и она вздохнула во второй раз. — Не обвинил… но я был сбит с толку… — Я пыталась, полагаю, доставить тебе удовольствие, но не смогла доставить его себе. Все казалось таким ненужным… — ее улыбка стала шире. — Я очень старалась, Джерек, порадоваться твоему миру, каким он есть. Хотя меня постоянно преследовало сначала мое собственное чувство долга, которое я не имела средств выразить, а потом сознание, что твой мир — это пародия, искусственно поддерживаемая, отрицающая мораль и, следовательно, противопоставляющая себя судьбе. — Это явно только одна его сторона, Амелия. — Я полностью согласна. Я описала мою эмоциональную реакцию. Разумом я могу видеть много сторон, много аргументов. Но я, Джерек, прежде всего дитя Бромли. Ты дал мне эти кольца власти и научил, как пользоваться ими хотя я полна желания выращивать цветы, испечь пирог, сшить платье — о, я чувствую, что я запуталась. Кажется, просто глупо, если я имею власть бога с Олимпа в своем распоряжении. Мои слова звучат просто сентиментально для моих собственных ушей. Я не могу думать, что ты должен чувствовать… — Я не уверен, что такое сентиментальность, Амелия. Я хочу, чтобы ты была счастлива, вот и все. Если тебе хочется, делай эти вещи. Они восхитят меня. Ты можешь научить меня этим искусствам. — Они вряд ли искусства. В действительности они желанны только когда ты лишен возможности использовать их, — ее смех был сейчас более естественным, хотя голос иногда подрагивал. — Ты можешь присоединиться, если хочешь, но лучше, если ты продолжишь выражать себя, как тебе нравиться, теми путями, которые отвечают твоим инстинктам. — Пока я могу выражать себя, средства не имеют значения, Амелия. Я боюсь того замораживающего чувства. Это правда, что я живу для тебя, поэтому — то, что доставляет удовольствие тебе, радует и меня. — Я слишком много требую, — сказала она, отодвигаясь дальше. — Я ничего не предлагаю. — Снова ты ставишь меня в тупик. — Это плохая сделка, Джерек, мой дорогой. — Я не уверен, что мы меняем, Амелия. На что? — О… — она казалась неспособной ответить, — возможно, на саму жизнь. На что-нибудь… — она задохнулась, будто от боли, но затем снова улыбнулась, сжав сильнее его ладонь. — Как если бы портной пришел в рай и увидел возможность для своего ремесла. Нет, я слишком сурова к себе. У меня не хватает слов… — Как и мне, Амелия. Если бы только я мог найти подходящие фразы и рассказать тебе, что я чувствую. Но в одном ты можешь быть уверена. Я люблю тебя абсолютно, — он откинул одеяло и вскочил на ноги, прижав ее руку к своей груди. — Амелия, в этом ты можешь быть уверена! Он заметил, что она покраснела, попыталась заговорить и проглотила слова. — Что с тобой, моя дорогая? — Мистер Корнелиан… Джерек… вы… вы… — Да, моя любовь, — сочувственно произнес он. Она вырвалась направившись к двери. — Вы кажется не осознаете, что… О, небеса! — Амелия! — Ты совсем голый, мой дорогой, — она достигла двери и быстро вышла, — я люблю тебя, Джерек, я люблю тебя! Увидимся утром. Спокойной ночи! Он сел на постель, почесал колено и покачал головой, улыбаясь (но несколько рассеянно), потом лег снова, натянул на себя одеяло и глубоко заснул. Утром они завтракали и были счастливы. Оба спали хорошо, оба решили не обсуждать события предыдущего дня, хотя Амелия выразила желание попытаться выяснить, есть ли в каком-нибудь старом музее в городах сохранившиеся семена, которые она могла бы посадить. Джерек считал, что имеется пара мест, где они могли бы поискать. Сразу после завтрака, когда она вскипятила воду, чтобы вымыть посуду, прибыло двое гостей. Железная Орхидея — в удивительно скромном платье из темно-голубого шелка, на котором хлопали крыльями живые бабочки, — под руку с бородатым путешественником во времени, одетым, как обычно, в свой костюм из твида. То, что Амелия ввела более чем одну моду, было очевидно из того, как Железная Орхидея с серьезным видом постучала в дверь и подождала, пока Амелия быстро вытерев руки, улыбаясь впустила их в гостиную. — Я так сожалею Железная Орхидея, за вчерашнюю нетактичность, начала Амелия. — Инстинкт, я полагаю. Я беспокоилась о Гарольде. Мы посетили город и задержались дольше чем рассчитывали. Железная Орхидея слушала терпеливо, с видом иронического удовольствия. — Мои дорогие, я ничего им не сказала. Твое таинственное исчезновение только придало больше пряности чудесному творению. Я смотрю, ты еще не уничтожила его… — О, дорогая, я сделаю это скоро. — Возможно, его следует оставить? Вроде памятника… — Так близко к саду? Я считаю, нет. — Твой вкус выше вопросов. Я просто предложила… — Вы очень добры. Не хотите ли чаю? — Прекрасно! — сказал путешественник во времени. Он казался в прекрасном настроении, потирая рука об руку. — Приличная чашка английского чая будет очень кстати, милая леди. — Я поставлю чайник на огонь. — Чайник? — Железная Орхидея вопросительно посмотрела на путешественника во времени. — Чайник! — вздохнул он, будто это слово имело для него мистическое значение. — Великолепно! С плохо скрытым удивлением (так как она ожидала, что чай появиться немедленно). Железная Орхидея наблюдала, как Амелия Ундервуд удалилась в кухню. Как раз в этот момент вошел Джерек. — Ты выглядишь менее хмурым сегодня, мой мальчик. — Самый ласковый из цветов, я совершенно беззаботен! Какое удовольствие видеть тебя. Доброе утро, сэр. — Доброе утро, — сказал путешественник во времени. — Я временно остановился в замке Канарии. Железная Орхидея предложила сопровождать ее. Надеюсь, что я не помешал. — Конечно нет, — Джерек жестом пригласил их сесть и сам сел на ближайший диванчик. — Ремонт вашего экипажа продвигается хорошо? — Очень хорошо. Должен сказать, ваш Лорд Джеггет, — ваш отец замечательный ученый. Точно понял, что необходимо. Мы, фактически, закончили, и как раз вовремя, кажется, — осталось только проверить регулировку, вот почему я решил приехать. У меня могло не оказаться другого шанса попрощаться с вами. — Вы продолжите путешествие? — Это превратилось в поиск. Капитан Вестейбл сделал мне несколько намеков, и, если я смогу вернуться в Палеозой, где у них есть база, думаю, смогу попасть на определенный след, — путешественник во времени начал описывать сложные теории, большинство из них совершенно гипотетические и абсолютно бессмысленные для Джерека. Но он вежливо слушал, пока не вернулась Амелия с чайным подносом. Он встал, чтобы принять его у нее и поставить на низкий столик между собой и гостями. — Нам еще нужно разрешить проблему слуг, — сказала Амелия, наливая чай. Железная Орхидея, к ее достоинству, прониклась духом чайной церемонии. — У Джерека были — как ты их называл, дорогой — сербы? — Сервы. Механические слуги в виде людей. Но они были древней конструкции. — Ладно, — сказала Амелия, протягивая чашечки, — мы справимся сами, по крайней мере, некоторое время. Все, кого мы имели в Бромли — это служанка и повар и нам хватало, — когда путешественник во времени взял чашку, она добавила: — Для меня было бы большим удовольствием отблагодарить вас за вашу доброту, когда мы были в Палеозое. Вы должны, по крайней мере, пообедать у нас. — Благодарю вас, милая леди. Для меня большое утешение знать, что в этом особенном мире есть, по крайней мере, несколько людей, которые поддерживают старомодные традиции. Тем не менее, как я уже сказал мистеру Корнелиану, я скоро буду в пути. — Сегодня? — Вероятно, завтра утром. Я боюсь это необходимо, так как Лорд Джеггет скоро завершит временную цепь, и тогда этот мир будет невозможно ни покинуть, ни вернуться в него. Она сделала глоток и задумалась. — Итак последний камень эшафота скоро будет положен на место, пробормотала она. — Не стоит характеризовать это в подобных терминах, милая леди. Если вы должны провести вечность здесь… Она глубоко вздохнула. Джерека встревожило возвращение ее вчерашнего настроения. — Давайте поговорим на другую тему, — предложила она жизнерадостно. — Это вряд ли похоже на тюрьму, дорогая, — сказала Железная Орхидея, отрывая крыло бабочке, щекотавшей ей подбородок. — Некоторые назвали бы это Небесами, — тактично сказал путешественник во времени. — Нирвана. — О, конечно, подходящая награда для мертвого индуса! Но я живая христианка, — ее улыбка была попыткой разрядить атмосферу. — Говоря об этом, — сказал путешественник во времени, я готов оказать последнюю услугу для лорда Джеггета и для вас всех, смею сказать, — он засмеялся. — Что это? — спросил Джерек, благодарный за смену предмета разговора. — Я согласился взять мистера Ундервуда и полицейских назад в 1896 год прежде, чем продолжу свое путешествие. — Что? — чуть слышно произнесла Амелия. — Вы вероятно не знаете, что кое-что произошло в городе совсем недавно. Они верят, что им явился Бог, и жаждут вернуться, чтобы… — Мы видели их, — сказал ему Джерек взволнованно. — Ага. Что же, раз я ответственен за доставку их сюда, когда лорд Джеггет предложил, чтобы я взял их назад… — Джеггет! — воскликнула Амелия Ундервуд, приподнимаясь с кресла. Это все его заговор. — Почему Джеггет должен делать «заговор»? — удивилась Железная Орхидея. — Какой интерес у него к твоему мужу, моя дорогая? — Никакого, кроме тех сторон, которые касаются меня, — она повернулась к расстроенному Джереку. — И тебя, Джерек. Это продолжение его планов на наш счет. Он думает, что когда Гарольд исчезнет, я соглашусь… — она помедлила, — принять тебя. — Но он оставил свои планы относительно нас. Он сам сказал нам об этом Амелия. — В одном аспекте. Железная Орхидея мягко вмешалась: — Я думаю, ты подозреваешь Джеггета в слишком большой хитрости, Амелия. В конце концов, он целиком занят гораздо большим делом. Почему он должен себя вести как ты предполагаешь? — Это единственный вопрос, на который у меня нет готового ответа, Амелия приложила ладонь ко лбу. Раздался стук в переднюю дверь. Джерек вскочил, чтобы ответить, обрадовавшись отсрочки, но это был его отец, весь в пышных одеждах лимонно-желтого цвета, со спокойными и ироничными чертами лица. — Доброе утро, мой мальчик. Лорд Джеггет Канарии вошел в гостиную и, казалось, заполнил ее всю. Он поклонился всем присутствующим, которые уставились на него. — Я помешал? Я пришел сказать вам сэр, — обратился он к путешественнику во времени, — что кристалл затвердел удовлетворительно. Вы можете отправиться утром как хотели. — С Гарольдом, инспектором Спрингером и всеми остальными! — почти выкрикнула Амелия. — А, вы знаете. — Мы знаем все… — она раскраснелась, глаза сверкнули, — кроме того, почему вы организовали это! — Путешественник во времени любезно предложил транспортировать джентльменов назад в их собственное время. Это их последний шанс. Другого не появиться. — Вы сделали наверняка, Лорд Джеггет, чтобы они захотели уехать. Это возмутительное видение! — Боюсь, что я не понимаю вас, прекрасная Амелия, — Лорд Джеггет вопросительно посмотрел на Джерека. Амелия села на диванчик сжав зубы. — Нам кажется, — лояльно ответил Джерек своему отцу, — что вы имеете отношение к недавнему видению Гарольда Ундервуда, в котором ему явился Бог в горящем шаре и приказал вернуться в 1896 год с миссией предостеречь мир от грядущего ужаса. — Видение? — улыбнулся Джеггет. — Но его сочтут сумасшедшим, если он попытается сделать это. И они все так настроены? — Все! — со злостью пробормотала Амелия. — Ему не поверят, конечно, — Джеггет рассуждал, как если бы известие было новым для него. — Конечно, — сказала Амелия. — И, таким образом, они не смогут повлиять на будущее. Или, если на них подействует эффект Морфейла, будет слишком поздно возвращаться сюда. Этот мир будет закрыт для них. Вы все рассчитали превосходно, Лорд Джеггет. — Почему я должен был сделать это? — Может быть, для того, чтобы я наверняка осталась с Джереком? — Но вы уже с ним, моя дорогая, — последовало невинное удивление. — Вы знаете, что я имею в виду, Лорд Джеггет. — Вы тревожитесь за безопасность вашего мужа, если он вернется? — Я думаю, его жизнь вряд ли измениться. То же самое нельзя сказать для бедного инспектора Спрингера и его людей, но даже тогда, учитывая, что уже произошло с ними, я не особенно боюсь. Вполне вероятно, это лучшее, что могло случиться. Но я возражаю против вашего вмешательства в вопросы… такие деликатные. — Вы слишком много мне приписываете, Амелия. — Думаю, нет. — Тем не менее, если вы считаете, что лучше держать Гарольда Ундервуда и полицейских в городе, я уверен, что путешественника во времени можно отговорить… — Вы знаете, что слишком поздно. Гарольд и остальные не хотят ничего другого, кроме возвращения. — Тогда почему вы так расстроены? — Вмешался Джерек. — Двуличный родитель, если вы автор всего этого… если вы сыграли Бога, как предполагает Амелия… тогда будьте откровенны с нами… — Вы моя семья. Вы все мои доверенные. Правдивость, допускаю, не является моим достоинством. Я не склонен хвастаться или отрицать обвинение. Боюсь, это не в моей натуре. И привычка старого путешественника во времени тоже. Если Гарольд Ундервуд испытал видение в городе, и это была не их галлюцинация, — а вы должны согласиться, что город нашпигован ими — тогда кто оспаривает, что он видел Бога! — О, это явное богохульство! — Не совсем так, — пробормотал путешественник во времени, — в словах Лорда Джеггета есть смысл. — Это были вы, сэр, кто первый обвинил его в игре в Бога! — О, я был расстроен. Позднее Лорд Джеггет оказал мне значительную помощь. — Это вы говорили. Только Железная Орхидея сидела молча на своем месте, наблюдая происходящее со спокойным интересом. — Джеггет, — сказал Джерек с отчаянием, — вы категорически отрицаете… — Я сказал тебе, мой мальчик, я категорически отрицаю, я не способен на такое. Думаю, что это своего рода гордость, — Лорд в желтом пожал плечами. — Мы все люди. — Вы кажетесь более, чем, — обвинила Амелия. — Перестаньте милая леди. Вы перевозбуждены. Вопрос явно не стоит… — путешественник во времени беспомощно помахал руками. — Мой приход, кажется, создал некоторое напряжение, — сказал Лорд Джеггет. — Я остановился только длятого, чтобы забрать свою жену и путешественника во времени, а также посмотреть, как вы устроились, Амелия… — Со мной будет все в порядке, сэр, если я буду идти своим собственным путем, без вашей помощи! — Амелия! — взмолился Джерек, — не нужно так! — Вы успокойте меня, так? — ее глаза сверкнули на всех них. Они отступили назад. Лорд Джеггет Канарии заскользил к двери, сопровождаемый женой и его гостем. — Макиавелли! — закричала она ему вслед. — Всюду суете свой нос! О, чудовище, принарядившийся Тьмы! Он дошел до двери и огляделся, его глаза стали серьезными на мгновение. — Вы оказываете слишком большую честь, мадам. Я только поправляю равновесие, где могу. — Вы признаете свое участие в этом? Но он уже отвернулся, и воротник спрятал его лицо. Выйдя наружу, он поплыл к поджидавшему его огромному лебедю. Она наблюдала из окна, тяжело дыша, даже Джереку не давая своей руки. Он попытался извинить своего отца. — Таков путь Джеггета. Он хочет только добра… — Он может судить? — Я думаю, ты обидела его чувства, Амелия. — Я обидела его? Ого! — она сложила руки под вздымающейся грудью. Он из всех делает глупцов! — Зачем ему это? Зачем ему, как ты говоришь, играть Бога? Она наблюдала за лебедем, пока он не исчез в бледно-голубом небе. — Возможно он не знает сам, — сказала она мягко. — Гарольда можно остановить, так сказал Джеггет. Она покачала головой и двинулась назад в комнату. Автоматически она стала собирать чашки и ставить их на поднос. — Он будет счастлив в 1896 году, никаких сомнений. Теперь, во всяком случае, и у него есть миссия, есть долг, требующий исполнения, как считает он. Я завидую ему. Джерек понял ее мысль. — Мы отправимся искать семена сегодня. Как планировали. Какие-нибудь цветы? Она пожала плечами. — Гарольд верит, что спасает мир. Джеггет верит в то же самое. Боюсь, что выращивание цветов не удовлетворит мои импульсы. Я не могу жить, Джерек, если не чувствую, что моя жизнь приносит пользу. — Я люблю тебя! — это было все, что он мог ответить. — Но ты не нуждаешься во мне, мой дорогой, она поставила поднос и подошла к нему. Он обнял ее. — Нуждаетесь? — сказал он. — В каком смысле? — Я женщина. Я старалась измениться, но безуспешно. Я просто замаскировала себя, и ты сразу же понял это. Гарольд нуждается во мне. Мой мир нуждается во мне. Ты знаешь, миссионерская работа. Я не была бездеятельной в Бромли, Джерек! — Уверен, что не была, Амелия, дорогая. — Если только у меня нет чего-нибудь важного, чтобы оправдать свое существование… — Ничего нет более важного, чем ты сама, Амелия. — О, я понимаю философию, которая утверждает это, Джерек… — Я не говорил философски, я констатировал факт, Амелия. Ты — все, что мне дорого в моей жизни. — Ты очень добр. — Добр? Это правда! — Я чувствую то же самое к тебе, как ты знаешь, мой дорогой. Я не люблю Гарольда. Я вижу, что нет. Но у него есть определенные слабости, которые могут быть уравновешены моей силой. Что-то во мне было удовлетворено раньше, что не удовлетворяется больше. По-своему, в самой твоей уверенности, твоей невинности, ты сильный… — У тебя есть… как это… характер?… который отсутствует у меня. — Ты свободен. У тебя есть концепция свободы настолько огромной, что я едва начинаю ощущать ее. Ты был воспитан в убеждении, что нет ничего невозможного, и твой опыт подтверждает это. Я была воспитана, что почти все невозможно, что жизнь — это страдание, а не радость. — Но если я имею свободу, Амелия, ты имеешь совесть. Я даю тебе мою свободу. В обмен ты даешь мне свою совесть, — он говорил серьезно. — Разве это не так? Она посмотрела ему в лицо. — Возможно, — она вернулась к своим чашкам, подняв поднос. Джерек вскочил, чтобы открыть дверь. — Но хочет ли этот мир того, что мы вместе сможем дать ему? — Он может нуждаться в нас больше, чем осознает. Она взглянула на него, когда он последовал за ней в кухню. — Тогда, Джерек Корнелиан, я подозреваю, что ты унаследовал хитроумие своего отца. — Я не понимаю этого. — Ты способен состряпать самые убедительные аргументы применительно к случаю. Ты намеренно пытаешься успокоить меня. — Я изложил только то, что было у меня на уме. Она задумчиво мыла чайные чашки, протягивая чистые ему. Не зная что делать с ними, он лишал их веса, так что они и поплыли к потолку и колыхались под ним. — Возможно, мой дорогой. — Особенно это с самого начала я искал в тебе, ты помнишь. Она улыбнулась. — Правда. — Значит в сочетании мы что-то даем миру. — Нет, — сказала она, — этот мир не нуждается во мне. Зачем я ему? — Давать ему содержание. — Ты говоришь только об искусстве. — Содержание очень важно для него, без этого внешняя сторона быстро теряет смысл. — Ты видишь мораль только в искусстве? — она поискала чашки, заметила их у потолка и вздохнула. — Содержание картины заключается в ее значении. — А не в предмете изображения? — Думаю нет. Мораль дает смысл жизни. Во всяком случае форму. — Содержание это не форма? — Без содержания форма пуста. — Я не понял тебя. Я не привык спорить в таких терминах. Они вернулись в гостиную, но она направилась в сад. Он пошел за ней. Воздух наполнял сладкий запах множества цветов. Она недавно добавила насекомых, нескольких птиц, поющих на деревьях и кустах. Было тепло, солнце расслабило их обоих. Они пошли, держась за руки, по тропинке между розовыми клумбами, как гуляли в их первые дни вместе. Он вспомнил как она исчезла из его рук, когда он был готов поцеловать ее. Он выкинул из головы дурные предчувствия. — Что, если бы эти кусты были без листьев, — сказал он, — если у роз не было бы запаха, у насекомых цвета. Они были бы неудовлетворительными, а? — Они были бы незаконченными. Хотя есть современная школа живописи… была такая школа, в мое время… которая делала из этого достоинство. Они, кажется, назывались флейтистами, я не уверена… — Возможно, отсутствие чего-то, должно было тоже что-то говорить, Амелия. — Не думаю, чтобы художники, стремились к этому. Они утверждали, что нужно рисовать только то, что видит глаз. И, я уверена, это невротическая теория в искусстве. — Вот! Неужели ты лишишь этот мир своего здравого смысла? Позволишь ему стать невротическим? — Я считала его таким, когда впервые пришла сюда. Теперь я поняла что-то, и что является невротическим в сложном обществе, может абсолютно здоровым в примитивном. И во многих аспектах, должна сказать, твое общество имеет много общего с теми, которые наши путешественники встретили, когда впервые высадились на островах южного моря. Чтобы быть грешником, человек должен знать, что это такое. Это моя ноша, Джерек, а не твоя. Хотя ты, кажется, просишь возложить ее на себя. Ты видишь, я не совсем эгоистка, я немного делаю добро. — Ты придаешь смысл моей жизни. Она не имела бы его без тебя, — они стояли у фонтана, наблюдая за золотыми рыбками. На поверхности воды были даже насекомые, чтобы кормить их. Он издал короткий смешок. — Ты можешь великолепно спорить, когда хочешь, но ты не можешь изменить мои чувства так быстро. Я уже сама пыталась изменить их за тебя. Ничего не получилось. Я должна тщательно обдумать мои намерения. — Ты считаешь меня нахальным из-за моих ухаживаний за тобой, в то время как твой муж все еще в нашем мире? — Я не смотрела на это подобным образом, — она нахмурилась отодвинулась от него и пошла вокруг пруда, по ее платью бегали солнечные зайчики, отраженные от воды. — Я считаю тебя серьезным, насколько это возможно для тебя. Они стояли на противоположных сторонах пруда, рассматривая друг друга. Ее красота, ее каштановые волосы, ее серые глаза, твердый рот — все казалось более желанным, чем когда-либо. — Я хочу только почитать тебя, — сказал он опуская глаза. — Ты уже делаешь это, мой дорогой. — Я привязан к тебе, только к тебе. Если хочешь, мы можем попытаться вернуться в 1896 год. — Ты будешь там несчастен. — Нет, если ты будешь рядом, Амелия. — Ты не знаешь мой мир, Джерек. Он способен исказить самое благородное намерение, неправильно истолковать прекраснейшие эмоции. Ты будешь разрушен и я тоже, видя такого, как ты, преобразованным. — Тогда, какой будет ответ? — Я должна подумать, — сказала она. — Дай мне поразмышлять одной, некоторое время, мой дорогой. Он согласился с ее желанием и зашагал к дому, подавляя мысль о том, что он никогда не увидит ее снова, отбрасывая страх, что ее отберут у него, как было однажды, говоря себе, что это просто ассоциация, и что обстоятельства изменились. «Но насколько радикально, — подумал он, изменились они?» Он достиг дома, закрыл за собой дверь и начал бродить из комнаты в комнату, избегая только ее апартаментов, в которых он никогда не бывал, хотя испытывал глубокое любопытство и часто подавлял чувство исследовать их. Ему пришла в голову мысль, когда он вошел в свою спальню и лег на постель в одежде, что, возможно, эти новые чувства были новыми только для него. Джерек был уверен, что Джеггет знал подобные чувства в прошлом, они сделали его таким, какой он есть. Он смутно припомнил слова Амелии о том, что сын это отец, не раненый миром. Не стал ли он более похож на Джеггета? Мысли от предыдущей ночи вернулись к нему, но он прогнал их прочь. Вскоре он уснул. Джерек проснулся от звука ее шагов, когда она медленно поднималась вверх по лестнице. Ему показалось, что она помедлила перед ее дверью, прежде чем открыть свою дверь и войти в свою комнату. Он полежал еще немного, возможно надеясь что она вернется, затем встал и сделал себе новую одежду: свободную блузу и длинную темно-зеленую куртку. Он покинул комнату и встал на площадке, слушая, как она движется по ту сторону стенки. — Амелия? Ответа не было. — Я скоро вернусь, дорогая, — окликнул он. Ее голос был приглушенным. — Куда ты направился? — Никуда. Он опустился и пошел через кухню в сад, в дальнем конце которого обычно он держал свой локомотив. Он забрался в него, чувствуя некоторую тоску по более простым дням до того, как он встретил Амелию на вечеринке у Герцога Королев. Не жалел ли он о встречи? Нет. Локомотив, пыхтя, поднялся в небо. Джерек заметил, как странно выглядят две соседствующие сцены — домик под черепичной крышей с садом и озером крови. Они скорее противостояли друг другу, чем контрастировали. Джерек подумал, не будет ли она возражать, если он уничтожит озеро, но решил не вмешиваться. Он плыл над прозрачными пурпурными дворцами и башнями, над колышущимися горами непонятного назначения, над коллекцией лежащих гигантских фигур, явно целиком из мела, над полузаконченным лесом и под грозовой тучей, молнии которой, по его мнению, были явно преувеличены. Мысли Джерека постоянно возвращались к городу, возможно, потому, что там работал Лорд Джеггет и Няня или потому, что там находился человек, остающийся его соперником, по крайней мере, до следующего утра. У него не было желания посетить кого-либо из друзей, чья компания обычно доставляла ему удовольствие. Джерек подумал было отправиться к дождливым скалам Монгрова, но тот ничем не мог помочь ему. Возможно, подумал он, ему надо выбрать место и сделать что-нибудь, в обычной манере, чем позволять ему продолжать создавать неразрешимые эмоциональные дилеммы. Он как раз решил, что попытается построить репродукцию морского берега Палеозоя, и нашел подходящее место, когда услышал над собой голос Епископа Касла. Епископ летел в колеснице, колеса которой вращались, сверкая пламенем, но в остальном сделанной из обыкновенной бронзы, золота и платины. Его шапка возвышалась над краем колесницы. — Я так рад видеть тебя, Джерек. Я хотел поздравить тебя — то есть Амелию, фактически — с вчерашней вечеринкой. — Я скажу ей, полный энтузиазма Епископ! — Амелия не с тобой? — Амелия осталась дома. — Жалко. Но ты должен посмотреть это, Джерек. Я не знаю, это затевает Браннарт, но скажу, ничего хорошего в этом нет для него. Ты не хочешь ненадолго развлечься? — Очень хочу. — Тогда следуй за мной. Колесница повернула на север, и Джерек послушно направил локомотив ей вслед. Через некоторое время Епископ Касл засмеялся и закричал, показывая на землю. — Смотри, смотри! Джерек не увидел ничего, кроме участка иссохшей, неиспользованной земли. Затем закружилась пыль, и появился конический объект с вращающейся наружной оболочкой. Вращение прекратилось и из корпуса вылез человек. Несмотря на то, что на нем было одето дыхательное оборудование и он нес большой мешок, в человеке легко можно было узнать Браннарта Морфейла по его горбу и деформированной ноге. Он повернулся, как если бы хотел приказать другим пассажирам конуса не выходить, но ряд маленьких фигур уже выскочил оттуда и стояли, держа руки на бедрах и оглядываясь вокруг через поблескивающие очки. Это был капитан Мабберс и останки его экипажа. Он жестикулировал Браннарту, дергая его за локоть несколько раз. Мокрые шлепающие звуки, слышны были даже там, где парили над ними Джерек и Епископ Касл. Наконец, после спора, все забрались назад в конус. Оболочка стала вращаться, и конус исчез. Епископ Касл был вне себя от смеха. Но Джерек не видел, что его так развеселило. — Они делают это уже четыре часа, насколько я знаю! — хрипел Епископ. — Машина появляется, останавливается. Они вылезают, спорят и снова залезают назад. Все то же самое. Подожди. Джерек подошел и, точно взметнулась пыль, вновь появился конус. Браннарт и затем капитан Мабберс и его люди вышли из него, поискали глазами, поспорили и вернулись в корабль. Каждое движение повторилось вновь. — Что происходит, Епископ? — спросил Джерек, когда утихла следующая волна смеха. — Очевидно, какая-то петля времени. Я удивился, что задумал Браннарт. Он работал вместе с Латами… Предложив взять их назад в период, когда космический корабль и они сами… и сам космос — все еще существовали, если они помогут ему. Он взял с меня клятву, никому не говорить, но сейчас это не имеет значения… — Что он задумал? — в смятении Джерек осознал, что не предупредил Джеггета о том, что видел. — О, он говорил не очень определенно. Хотел каким-то образом помешать Джеггету. Вернуться назад во времени и изменить события. — Тогда что случилось с ними теперь? — Разве это не очевидно? Хо-хо-хо! — Не для меня. — Он стал жертвой своего же закона, пойман какой-то особенно неприятной версией эффекта Морфейла. Он определенно прибывает в прошлое, но только затем, чтобы сейчас же вернуться в настоящее. Я полагаю, так будет продолжаться вечно. Замкнутый круг… — Мы не должны попытаться спасти его? — Только Джеггет достаточно квалифицирован сделать это, Джерек. Если мы попытаемся помочь, мы тоже сможем оказаться в петле. Джерек понаблюдал как конус появился в третий раз, и фигуры выполнили установившийся ритуал. Он попытался засмеяться, но не смог найти картину такой же забавной, какой ее нашел его друг. — Интересно, знал ли Джеггет об этом? — продолжал Епископ Касл. — И поймал ли он Браннарта в такую ситуацию? Что за красивая месть, а? Все, казалось, подозревали его отца в каких-то кознях. Тем не менее Джерек был не в настроении защищать сегодня Джеггета снова. Епископ Касл подвел колесницу ближе к локомотиву Джерека. — Между прочим, Джерек, ты видел последнее произведение Доктора Велоспиона? Оно называется «История мира в миниатюре» — вся история человечества от начала до конца, все делается крошечными репродукциями на невероятной скорости, которая может быть снижена, чтобы рассмотреть детали любого тысячелетия. Весь цикл длится целую неделю! — Это напоминает работу Джеггета, не правда ли? — Разве? Что ж, Велоспион всегда считал себя соперником Джеггета и, возможно, надеется занять его место сейчас, Инкардинал, между прочим, был оживлен и потерял интерес к внешности козла. Он стал своего рода левиафаном в собственном озере, копии озера Амелии. Ладно, прости меня, мне нужно поторопиться. Другие захотят посмотреть на это. Вращающийся конус появился в четвертый раз, из него вышел Браннарт и латы. Епископ Касл улетел, Джерек спустился ближе. Он все еще не мог понять их. — Хрунг! — кричал капитан Мабберс. — Феркит! — отвечал Браннарт Морфейл. Произошел обмен ударами, затем они исчезли в машине. Джерек подумал не отправиться ли ему в замок Канарии и не рассказать ли Лорду Джеггету, что случилось, но зрелище произвело на него слишком гнетущее впечатление, и он не захотел второй встречи с отцом и матерью сегодня. Он решил вернуться с новостями к Амелии. Были уже почти сумерки, когда он направил локомотив домой. Темнота наступила казалось быстрее, чем обычно, и ему пришлось искать дом уже под беззвездным и безлунным небом по единственному огоньку, горевшему в единственном окошке. К его удивлению, когда он приземлился, окно оказалось его собственным, а не Амелии. Он не помнил, чтобы оставлял там свет. Он чувствовал тревогу, когда вошел в дом и взбежал вверх по лестнице. — Амелия! Амелия! — ответа не было. Озадаченный, он открыл свою дверь и вошел. Лампа горела тускло, но света было достаточно, чтобы видеть Амелию, занявшую постель, ее лицо было отвернуто от него, большое соболиное покрывало было плотно обернуто вокруг ее тела так, что виднелась только голова. — Амелия? Она повернулась, хотя он понял, что она не спит. Ему ничего не оставалось, как только ждать. В конце концов, она заговорила тихим дрожащим голосом: — Как женщина, я всегда буду твоя. — Мы… Это женитьба? Она посмотрела на него, в ее глазах были слезы, выражение лица серьезное. Он встал коленями на постель, взял в руки ее голову и по целовал глаза. Она конвульсивно дернулась, и он подумал, что потревожил ее, пока не догадался, что она хочет освободиться от покрывала, обнять и прижать его руками, будто боясь упасть. Он обнял ее голые плечи, погладил щеку, испытывая ощущение одновременно неистовое и нежное — ощущение, которого никогда не испытывал раньше. Запах ее тела был теплым и сладким. — Я люблю тебя, — сказал он. — Я буду любить тебя вечность, мой дорогой, — ответила она. — Верь мне. — Я верю. Ее слова казались несколько странными, и старое предчувствие беды возникло и исчезло в нем. Он поцеловал ее. Она судорожно вздохнула, и ее руки оказались у него под блузой, он почувствовал ее ногти на своем теле. Джерек поцеловал ее в плечо. Она прижала его к себе. — Это все, что я могу дать тебе… — казалось, она плакала. Коснувшись кольца власти, он уничтожил свою одежду, вытирая слезы на ее глазах и целуя дрожащее плечо, пока, наконец, не откинул покрывало и не прижался к ней телом. — Лампа, — сказала она. Он заставил лампу исчезнуть, и они оказались в полной темноте. — Всегда, Джерек… — О, моя дорогая. Она обняла его. Он коснулся ее талии. — Вы так это делаете? — спросил он. — Или так? Потом они любили друг друга и заснули в полноте чувств. Солнце поднялось. Джерек почувствовал его на веках и улыбнулся. Наконец-то будущее с его неясностью и страхами было изгнано, ничто не разделяло их. Он повернулся, чтобы она была его первым зрелищем этого утра, но даже при движении предчувствие беды вернулось к нему. Ее не было в постели, которая хранила остатки ее тепла. Ее не было в комнате. Он понял, что ее нет и в доме. — Амелия! Значит вот что она решила. Он вспомнил ее рассказ о молодом человеке, который осмелился признаться в своей любви только когда знал, что никогда не увидит ее снова. Все его инстинкты говорили ему, с того момента у фонтана, что ее намерением было уступить своей викторианской совести, вернуться с Гарольдом Ундервудом в 1896 год и выполнить свой долг. Вот почему она так говорила с ним этой ночью. Как женщина, она всегда будет принадлежать ему, но как жена, она последует за своим мужем. Он выскочил из постели, открыл окно и, обнаженным взлетел в небо. Каждое ощущение, каждая мысль повторилась в его голове, а воздух обжигал его тело скоростью полета. Он уже рассчитывал, как будет искать ее в Бромли. Он достиг города. Город казался спящим — таким он был спокойным. И около края ямы, Джерек увидел большую открытую машину времени, хронобус. И на ее борту уже находились путешественники во времени, сам хозяин машины за рукоятками управления, полицейские, все в белых робах и со шлемами на головах, инспектор Спрингер, тоже в белом и в своей шляпе котелком, и Гарольд Ундервуд в пенсне, мерцавшем на раннем солнце. И он увидел Амелию в сером костюме, борющуюся со своим мужем. Затем очертания машины стали расплывчатыми, послышался резкий вскрик, и машина исчезла. Джерек опустился на землю, спотыкаясь. — Амелия, — он едва видел из-за слез на глазах, судорожно дыша и дрожа всем телом, его тело гулко билось. Джерек услышал всхлипывание, и они не были его собственными. Он поднял голову. Она лежала в черной пыли города, закрыв лицо руками, и плакала. Наполовину уверенный что это ужасная иллюзия, просто воспоминание из памяти города, он приблизился к ней и опустился на колени рядом. Он коснулся ее серого рукава. Она подняла на него глаза. — О, Джерек, он сказал, что я больше ему не жена. — Он говорил тоже самое прежде. — Он назвал меня «нечистой». Он сказал, что мое присутствие запачкает высокую цель его миссии, что даже сейчас я соблазняю его… Он, он сказал много вещей. Он вытолкнул меня из машины. Он ненавидит меня. — Он ненавидит здравый смысл, Амелия. Я думаю, это относится ко всем подобным людям. Он ненавидит правду. Вот почему он принимает приятную ложь. Ты была бы бесполезна ему. — Я была полна решимости. Я любила тебя очень сильно и боролась с желанием остаться с тобой. — Ты хотела стать мученицей в ответ на голос Бромли? По причине являющейся в лучшем случае глупой? — Джерек удивился своим словам, и было ясно, что удивил ее тоже. — Этому миру, тоже нет никакой пользы от таких как я! — Хотя ты любишь меня. Ты веришь мне? — Я верю тебе. Джерек, но я не верю твоему окружению, твоему обществу — всему этому… — она оглянулась на город. — Он ценит личность, и все же невозможно чувствовать себя личностью в нем. Ты понимаешь? Он не понимал, но продолжал утешать ее. Он помог встать ей на ноги. — Я не вижу для нас будущего здесь, — сказала она ему усталым голосом. Он вызвал свой локомотив. — Нет будущего, — согласился он, — только настоящее. Именно этого всегда хотели влюбленные. — Если они только влюбленные, и больше ничего, Джерек, мой дорогой, она глубоко вздохнула. — Ладно, вряд ли есть смысл в моих жалобах, — она храбро улыбнулась. — Это мой мир, и я должна любить его. — Ты полюбишь его, Амелия. Появился локомотив, пыхтя между высокими полуразрушенными башнями. — Мое чувство долга, — начала она. — … — Мой мир ценит тебя, как никогда бы ни смог оценить Бромли! Прими это уважение без оговорок, оно дано тебе так же без оговорок. — Тем не менее, слепо, как делают дети. Человек хочет уважения за… благородные дела. Он, наконец, понял. — Твой уход к Гарольду — это было «благородно»? — Полагаю, да. Самопожертвование… — «Самопожертвование» другое. И это «достойно»? — Считается, да. — И «скромно»? — Скромность часто имеет место. — Твое мнение о собственных поступках скромно? — Надеюсь. — И если ты ничего не делаешь, кроме того, что хочет твоя душа — это «лень», да? Даже «зло»? — Вряд ли зло на деле, но определенно недостойно… Локомотив опустился рядом с ними на место, где недавно стоял хронобус. — Я просвещен наконец! — сказал он. — И быть «бедным» — значит, вызвать недовольство Бромли. Она начала улыбаться. — Действительно, так и есть. Но мне не нравится это. В моей благотворительной работе я стараюсь помочь бедным столько, сколько могла. У нас было миссионерское общество, и мы собирали деньги, чтобы купить определенные основные блага… — А эти «бедные», они существуют для того, чтобы вы могли удовлетворять свои инстинкты по отношению к «благородству» и «самопожертвованию». Я понял? — Не совсем, Джерек. Бедные… ну, они просто есть. Я и другие, подобные мне, пытались облегчить их условия, пытались найти работу для безработных, лекарства для больных. — А если бы их не было? Как тогда вы выразили себя? — О, имеется много других возможностей, по всему миру язычники, чтобы быть обращенными в веру, тираны, чтобы быть наученными справедливости, и тому подобное. Конечно, бедность — главный источник всех проблем… — Я мог бы, возможно, создать «бедных» для тебя. — Это было бы ужасно. Нет, нет! Я была разочарована в твоем мире прежде, чем поняла его. Сейчас я по-другому отношусь к нему. Я не могу изменить его. Я сама должна измениться, — она снова заплакала. — Тот, кто должен понять, что вещи останутся такими, как есть, вечно, что тот же самый танец будут танцевать снова и снова, и что только партнеры будут другими… — У нас есть наша любовь, Амелия. Выражение ее лица изменилось. — Ты разве не видишь, Джерек, что именно этого я боюсь больше всего! Что такое любовь без времени, без смерти? — Это, конечно, любовь без печали. — Любовь без цели? — Любовь — это любовь. — Тогда ты должен научить меня верить этому, мой дорогой.26. СВАДЕБНЫЕ КОЛОКОЛА В КОНЦЕ ВРЕМЕНИ
Она должна быть Амелией Ундервуд, она настаивала на этом. Они нашли семена и луковицы, сохраненные городами, и посадили их в саду. Они начали новую жизнь. Жизнь как муж и жена. Она снова учила его читать и писать, и, если Джерек чувствовал себя довольным, она, по крайней мере, чувствовала себя чуточку спокойнее, ее взгляды на супружескую измену стали приемлемее ей. Но хотя солнце сияло, дни и ночи сменяли друг друга с регулярностью, необычной в конце Времени, смены времен года не было. Амелия боялась за свой урожай. Хотя она заботливо поливала рассаду, ростки не появлялись, и однажды она решила раскопать кусочек земли, чтобы посмотреть как поживают ее картофелины. Она обнаружила, что они загнили. Ни одно семечко, которое она посадила, не дало даже ростка. Джерек подошел к ней, когда она лихорадочно раскапывала огород, ища хотя бы признаки жизни. Она показала на испорченные клубни. — Я полагаю, они плохо сохранились, — предположил он. — Нет, мы пробовали их. Эти точно такие же. Это земля портит их. Это не настоящая почва, она бесплодна. Джерек, как и все, в основе бесплодно в этом мире. — она бросила лопату и пошла в дом. С Джереком по пятам она подошла к окну, глядя на свой сад. Он присоединился к ней, чувствуя ее боль, но неспособный найти средства облегчить ее. — Иллюзия, — сказала она. — Мы можем экспериментировать, Амелия, чтобы сделать Землю, которая позволит вырасти урожаю. — О, возможно… — она сделала усилие переломить свое настроение, но ее лицо снова омрачилось. — Здесь твой отец подобный Ангелу Смерти, пришедший, чтобы присутствовать на похоронах моих надежд. Это был Лорд Джеггет, шагавший упругой походкой по извилистой дорожке и махавший ей рукой. Джерек впустил его. Он оказался в веселом настроении. — Время пришло. Цепь закончена. Я дал миру прожить еще неделю, чтобы установить период петли, затем мы спасены навечно. Мои новости расстроили вас? Джерек ответил за Амелию. Нам не нужно напоминать о способе которым поддерживается мир, отец. — Вы не заметите никаких эффектов. — У нас будет знание о том, что произошло, — пробормотала она. Иллюзии прекращают удовлетворять, Лорд Джеггет. — Зовите меня отцом тоже, — он уселся на краю, вытянув ноги. — Я считал, вы счастливы теперь. Жалко. — Если человеку предлагают вечную иллюзию, а он знал настоящую жизнь, то он склонен немного поворчать, — сказала она с показной иронией… — Мой урожай погиб. — Я понимаю тебя, Амелия, — ответил он. — Если она счастлива, значит, буду счастлив я. — Он улыбнулся. — Я — простое создание отец, как мне часто говорили. — Гм, — сказал Лорд Джеггет. Он наклонился вперед и хотел сказать что-то еще, когда, в отдалении через раскрытое окно раздался звук. Они прислушались. — О, — сказала Амелия. — Это оркестр! — Что? — спросил Джерек. — Музыкальный оркестр, — сказал его отец. Он выскочил из дома. Пойдемте посмотрим. Они все побежали по дорожке сада, пока не достигли белых ворот в заборе который Амелия воздвигла вокруг деревьев. Озеро крови давно исчезло, и невысокие зеленые холмы заменили его. Они увидели колонну людей вдали, марширующих по направлению к ним. Даже отсюда музыка была отчетливо слышна. — Медные инструменты! — воскликнула Амелия. — Трубы, тромбоны, трубы! — И серебряные инструменты! — объявил Лорд Джеггет с неподдельным энтузиазмом. — Кларнеты, флейты, саксофоны! — Барабаны, слышите! — на мгновения ее несчастья были забыты. — Явное обилие ударов! — прибавил Джерек, желаю присоединиться к обсуждению событий, — та-та-та-та! Ура! — он сделал шапочку для себя, чтобы можно было бросать ее в воздух. — Ура! — О, смотрите! — Амелия полностью забыла ее горе, на время, по крайней мере. — Так много! А это не Герцог Королев? — Он самый. — Оркестр, — или, скорее, сводный оркестр, — так как там было по крайней мере, тысяча механических музыкантов маршировали вверх по холмам. Развевались флаги, кивали плюмажи, сапоги сияли. Отец, сын и его жена перевешивались через забор, как дети махая Герцогу Королеву, марширующему впереди с жезлом в руке и огромными усами на лице, на голове чудовищная медвежья шапка. Оркестр стал настолько громким, что было бесполезно разговаривать с Герцогом или кем-нибудь другим. Все дальше и дальше маршировал оркестр, пока не дошел до ворот. Затем он остановился. — Гайдн, да? — сказал со значением Лорд Джеггет, когда гордый Герцог приблизился. — «Желтая собака Чарли» — соответственно наименованию записи, — лицо Герцога Королев сияло, — но вы знаете, какая путаница в городах. Снова что-то из вашего периода миссис Ундер… — Корнелиан — пробормотала она. — …вуд. Такие оркестры были тогда в моде. — Ваш энтузиазм не превзойден никем самый великолепный из весельчаков! — поздравил его Лорд Джеггет. — Вы идете издалека? — Парад знаменует мою первую авантюру с брачной гармонией. — Музыка? — переспросил Джерек? — Женитьбы, — последовал подмигивание отцу Джерека. — Лорд Джеггет знает что я имею в виду. — Свадьба, — лаконично сообщил Джеггет. — Да, свадьба! Невероятно, сегодня — я думаю, сегодня — я соединился священными узами (отметьте мой словарь) с самой приятной из всех леди, прекрасной Сладкое Мускатное Око. — И кто совершает обряды? — спросила Амелия. — Епископ Касл. Кто же еще? Вы придете, будете моими гостями? — Что ж… — Конечно, мы придем, роскошный жених — Лорд Джеггет вышел за ворота, чтобы обнять Герцога, прежде чем тот уйдет. — И также принесем дары. Зеленые для жениха и голубые для невесты! — Другой обычай! — Да. Амелия поджала губы и сердито взглянула на Лорда Джеггета Канарии. — Удивительно, сколько наших старых обычаев припомнили, сэр. Их глаза встретились, он чуть улыбнулся. — О, ты не знала? В общей путанице, с трансляционными пилюлями и тому подобным, мы все, кажется, начали говорить на английском девятнадцатого столетия. Это сказывается. — Вы устроили это? Он ласково ответил: — Ты постоянно льстишь мне своими предположениями, Амелия. Боясь дальнейшего напряжения между ними, Джерек сказал: — Итак, мы опять будем гостями Герцога Королев. Ты не обеспокоена перспективой, Амелия? Мы были приглашены, мы пойдем. Если это будет шуточная свадьба, то определенно экстравагантная. Лорд Джеггет Канарии посмотрел на нее непонимающими глазами, и на момент с его лица будто упала маска. Ее сбила с толку эта неожиданная искренность, она отвела глаза в сторону. — Очень хорошо, — сказал отец Джерека. — Мы, значит, снова скоро встретимся? — Скоро, — сказала она. — Прощайте, — сказал он. — Вы оба. — Он зашагал к своему лебедю, плавающему в крошечном пруду, сделанным Джеггетом для стоянки. Скоро он был в воздухе. Взмах руки и он исчез. — Итак женитьбы сейчас в моде, — сказала она, когда они возвращались обратно к дому. Он взял ее за руку. — Мы уже женаты, — сказал он. — В глазах Бога, как мы привыкли говорить. Но Бог больше не глядит на этот мир. У нас есть только жалкая замена. Самозванец. Они вошли в дом. — Ты снова говоришь о Джеггете, Амелия? — Он продолжает сбивать меня с толку. Казалось бы он удовлетворен. Все планы его выполнены. Хотя я все еще остерегаюсь его. Полагаю, я всегда буду остерегаться всю вечность. Я боюсь его скуки. — А не своей ли собственной? — У меня нет его власти. Он решил оставить эту тему. В полдень Джерек и Амелия отправились на свадьбу Герцога Королев. Епископ Касл специально построил собор для церемоний в классическом стиле, с большими окнами с цветными стеклами. Готические шпили и башенки, массивные но дающие впечатление легкости, и декоративные снаружи преимущественно в оранжевых, пурпурных и желтых тонах. Собор окружал оркестр Герцога Королев, автоматы пока отдыхали. На высоких флагштоках развивались все мыслимые штандарты, которые все еще существовали в архивах. Там имелись палатки и ларьки, раздающие напитки и сладости, игры, выставки забавных древностей, через которые двигались гости, смеясь и разговаривая, полные веселья. — Приятная сцена, — сказал Джерек, когда он и Амелия вышли из локомотива, — прекрасный фон для свадьбы. — Хотя все равно это только сцена, — сказала она. — Я никогда не смогу освободиться от мысли, что играю роль в драме. — Значит церемонии отличались в твои дни? Она помолчала мгновение. — Ты, должно быть, считаешь меня безрадостным созданием. — Я видел тебя счастливее, Амелия. — Меня никогда не учили этому трюку ума. В самом деле, я была приучена подозревать открытую улыбку, подавлять свою собственную. Я попытаюсь, Джерек, быть беззаботной. — Это твой долг, — говорил он ей, когда они присоединились к толпе и встретились тут же со своими друзьями. — Госпожа Кристия! Последний раз, когда я видел ваших компаньонов, они находились в особенно неприятной ловушке вместе с Браннартом. Госпожа Кристия, Вечная Содержанка, засмеялась звенящим смехом, всегда приносящим ей успех. Ее окружали капитан Мабберс со своими людьми, все одетые в те же цвета, что и она, кроме странных баллонообразных объектов, охватывающих ее локти и колени. — Лорд Джеггет спас их, и я настояла чтобы они были моими специальными гостями. Мы тоже сегодня женимся! — Вы выходите замуж за всех! — сказала удивленно Амелия. Она покраснела. — Они учат меня своим обычаям, — госпожа Кристия показала на охваченные баллонами локти. Это соответствует замужней женщине Латов. Причина их поведения в отношении женщин заключалась в том убеждении, что если мы не носим баллонов на коленях и локтях, мы… э? — она вопросительно посмотрела на ближайшего супруга, который скрестил три свои зрачка и погладил усы в смятении. Джереку показалось, что это был Рокфрут. — Дорогой?… — Публичная девка, — сказал Рокфрут почти неслышно. — Они так раскаиваются! — сказала госпожа Кристия. — Она пододвинулась ближе к Амелии, бормоча. — На публике, по крайней мере, дорогая. — Поздравляю, капитан Мабберс, — сказал Джерек. — Надеюсь, вы и ваши люди будете счастливы с вашей женой. — Кончай это, болтун, — сказал капитан Мабберс мягким голосом, пожимая ему руку. — Всякая проклятая вонючка… — Я не хотел обидеть… — Тогда заткнись и отваливай, тупица… — Вы оставили всякие намерения снова отправиться в космос? — спросила Амелия. Капитан Мабберс пожал скошенными плечами. — Там нет ничего для нас, — он бросил на нее похотливый взгляд, который заставил ее отодвинуться назад. — Ну… — она набрала в грудь воздуха. — …Я уверена, раз вы теперь женаты… — Она умолкла, потерпев поражение в своих усилиях. Капитан Мабберс хмыкнул, пожирая глазами ее локти, видимые сквозь тонкий шелк платья. Флимпоук! — заметила госпожа Кристия. — Извини, моя дорогая, — он уставился в пол. — Флимпоук? — переспросил Джерек. — Извини, моя дорогая, — он уставился. — Флимпоук Мабберс, — ответила ему госпожа Кристия с лживой гордостью. — Я буду миссис Мабберс, миссис Рокфрут, миссис Глопгну… — А мы будем мистер и мистер Монгров де Гете! Это был Вертер в голубом с ног до головы. Темно голубые глаза смотрели с голубого лица. Его трудно было узнать. Рядом с ним в позе мрачного удовлетворения возвышался монарх плачущих гор. — Что? Вы женитесь? О, это превосходно. — Мы тоже так думаем, — сказал Вертер. — Вы рассматривали кого-нибудь еще? — Мы мало с кем имеем что-либо общее — прогудел Монгров. — Кроме того, кто еще согласится на меня? Кто проведет остаток жизни с таким бесформенным телом, с такой бесцветной личностью, с таким бесполезным умом… — Вы хорошая пара, — поспешно сказал Джерек. Монгров имел склонность раз начав, набирать инерционный ход и проводить час или более, перечисляя собственные недостатки. — Мы решили, находясь во дворце чудес Доктора Велоспиона, когда в месте свалились с карусели, что может так же разделить все остальные наши несчастья… — Превосходный план… — от одежды Монгрова при каждом движении доносился запах сырости. — Джереку это не понравилось, — надеюсь вы найдете удовлетворение… — Примирение по крайней мере, — сказала Амелия. Они пошли дальше. — Итак, — сказал Джерек, предлагая ей руку. — Мы будем свидетелями трех свадеб. — Они слишком нелепые, чтобы их принимать всерьез, — сказала она, будто давая благословение происходящему. — Хотя я думаю, они дают удовлетворение принимающим в них участие. — Мне трудно поверить в это. Наконец они нашли Браннарта Морфейла в необычной одежде горчичного цвета плащ, свивающий складками с его горба, с кисточками, болтающимися в самых неожиданных местах, ортопедический ботинок блестел пряжками. Он казался в почти веселом настроении, ковыляя рядом с миледи Шарлотиной. — Ага! — закричал Браннарт, увидев их. — Моя Немезида, юный Джерек Корнелиан! — шутка хотя и неуклюжа, была по крайней мере, беззлобной. — И причина всех наших проблем — прекрасная Амелия Ундервуд. — Теперь Корнелиан, — сказала она. — Поздравляю! Значит, вы предприняли такой же шаг? — Как герцог Королев, — согласился Джерек дружелюбно, — и госпожа Кристия. И Вертер с Монгровом. — Нет, нет, нет! Как миледи Шарлотина и я! — О! Миледи Шарлотина похлопала двухдюймовыми ресницами и произвела обаятельную улыбку. — Вы быстро сделали предложение! — сказал Джерек ученому. — Это предложила она, — ворчливо ответил Браннарт, возвращаясь к своему обычному настроению. — Я обязан своим спасением ей. — Не Джеггету? — Она позвала Джеггета на помощь. — Вы хотели сделать прыжок обратно во времени? — спросил Джерек. — Я сделал все, что мог, остальное зависело от случая. Я мог улучшить эту катастрофическую ситуацию. Но я пытался переместиться в слишком ограниченном периоде и оказался пойманным в петлю. Доказав неопровержимо, конечно, истинность эффекта Морфейла. — Конечно, — согласились оба его слушателя. — Полагаю, что эффект все еще применим в настоящее время, предложила Амелия. — Сейчас и всегда. — Всегда? — Ну… — Браннарт потер свой бородавчатый нос, — в основном. Если Джеггет рециклирует семидневный период, тогда эффект будет приложим ко времени, содержащемуся внутри этого промежутка. — Ага, — Амелия была разочарована, хотя Джерек не знал, почему. — Нет никакого способа покинуть этот мир, когда будет замкнута цепь? — Никакого. Хронологическая изоляция вместе с пространственной. По праву эта планета не должна существовать вообще. — Мы знаем, — сказал Джерек. — Это противоречит логике. Это будет означать смерть науки, — сказал Браннарт жизнерадостно. — О, да. Больше не будет исследований, не будет анализа, не будет истолкования явлений. Мне нечего будет делать. — У городов есть функции, которые можно возобновить, — сказала сочувственно Амелия. — Функции? — Старые науки могут быть открыты вновь. Имеются различные возможности я думаю. — Гм! — сказал Браннарт. Его скрюченные пальцы потерли вогнутый подбородок. — Действительно. — Банки памяти нуждаются в том, чтобы с них стряхнули ржавчину, говорил ему Джерек. — Требуется исключительный ученый, чтобы восстановить их… — Действительно, — повторил Браннарт. — Ладно, возможно, я смогу сделать что-нибудь в этом направлении. Миледи Шарлотина похлопала его по горбу. — Я буду так гордиться тобой, Браннарт. А какой вклад ты сможешь сделать в общественную жизнь, если заставишь некоторые из этих машин раскрыть свои секреты. — Джеггет так будет завидовать! — добавила Амелия. — Завидовать? — Браннарт просветлел еще больше. — Полагаю, он будет. — Ужасно, — сказал Джерек. — Что ж, уж вы то должны знать это, Джерек, — ученый, казалось, даже заплясал на своей изуродованной ноге. — Вы так думаете? — Без сомнения! — Гм… — Ага! Вот ты где, я искал тебя — раздался раздраженный голос позади Джерека. Это был Рокфрут. Он продолжил угрожающе: — Если леди извинят нас, я хотел бы перекинуться словечком с тобой, осадок из ноздрей. — Я уже извинился, лейтенант Рокфрут, сказал ему Браннарт Морфейл. Не вижу причины продолжать это… — Ты предлагал мне насилие, грабеж, мошенничество, поджог, а все, что я получил, — это стал членом вонючего мужского гарема… — Моей вины здесь нет. Вы не должны были соглашаться на женитьбу! Браннарт начал отступать назад. — Если это был единственный способ получить кусочек женской задницы, что мне еще оставалось делать!? Иди сюда! Браннарт кинулся ковыляя бежать, преследуемый лейтенантом Рокфрутом, которого тут же поймал подходящий Лорд Джеггет, поднял в воздух, отряхнул пыль, направил в другую сторону и продолжил свой путь к нам. Браннарт с сопровождающей его будущей женой исчез позадископления ларьков. Рокфрут исчез в палатке со сладостями. Лорд Джеггет казался довольным. — Итак мир сохранен, — улыбнулся он Джереку и Амелии. — Возможно, я должна назвать вас «Соломоном», — язвительно сказала Амелия. — Ты должна звать меня «отец», моя дорогая, — кивок проходящему мимо О" Кала Инкардиналу, узнаваемому только по лицу на вершине шеи жирафа. По причине, известной только ему самому, Лорд Джеггет сменил свои обычные пышные одеяния и воротники на простой серый утренний костюм, как у Джерека, и серую шелковую шляпу, на благородной голове. Единственным желтым цветом на нем была примула в петлице. — А вот и моя собственная супруга, Железная Орхидея, восхитительная, какой только она может быть! Железная Орхидея улыбнулась комплименту. Она носила сегодня свой именной цветок — орхидеи любой возможной формы и цвета облепили все ее тело, прижимаясь к ней, будто она осталась единственной материальной вещью во вселенной. Их совместный запах был таким сильным, что ошеломляя каждого в радиусе двадцати футов. — Мой муж! И дорогие дети! Вы снова вместе и по такому прекрасному случаю! Сколько свадеб будет сегодня? — ее вопрос был обращен к Джереку. — Свадеб, мама? Три… нет, четыре… насколько я знаю. — Всего около двадцати, — сказал Джеггет. — Вы знаете как быстро подобные вещи подхватываются. — Кто еще? — спросил Джерек. — Доктор Велоспион женится на Плановом Маке. — Такое приятное пустое создание, — фыркнула Железная Орхидея, — по крайней мере до того, как она сменила имя. — Капитан Мрамор уступает Суле Сен Сен, и леди Безголосая, я слышал, отдает себя Ли Пао. Железной Орхидеи, кажется, не понравились эти известия, но она не сказала ничего. — И как долго, мне интересно, продлятся эти браки? — поинтересовалась Амелия. — О, я считаю, сколько захотят различные пары, — пробормотал Лорд Джеггет. — Мода может длиться у нас до тысячи, или, иногда, до двух тысяч лет. Трудно сказать. Все зависит от самих участников. Может, появиться что-нибудь еще, что воспламенит общественное воображение… — Конечно, — сказала она, помрачнев. Заметив это, Джерек, снял ее руку, но она не повеселела. — Мне казалось, Амелия, что вам должно было бы понравиться это изменение, — губы Лорда Джеггета чуть-чуть скривились. — Тенденция к социальной стабильности, не так ли? — Я не могу откликаться на ваши шутки сегодня, Лорд Джеггет. — Вы все еще, значит, горюете по погибшей картошке? — Потому что она символизирует своей гибелью. — Позднее мы подумаем об этом вместе. Должно быть решение проблемы… — Сэр, не может быть решения проблемы человека, который не хочет быть трутнем в мире трутней. — Вы слишком суровы к себе и к нам. Смотрите на это, как на награду человеческой расе за миллионы лет борьбы. — Ну в некотором аспекте… — Я не участвовала в этой борьбе. — В некотором аспекте, сэр, мы все принимали участие, в другом нет. Это, как я знаю, вы согласитесь, зависит от точки зрения. — Вы изменились. — Боюсь, что да. — Вы боитесь цинизма в себе. — Возможно именно этого. — Некоторым ваша позиция показалась бы трусливой. — считаю ее трусливой, Лорд Джеггет, можете быть уверенными. Давайте прекратим беседу. Она исключает остальных. Мои проблемы никого не касаются. — Вы не правы, Амелия. Разве я не имею отношения к созданию этих проблем? — Полагаю, что вы обиделись бы, если я не соглашусь в этом с вами? Его голос был спокойным, и только для ее ушей. — У меня тоже есть совесть, Амелия. Все что я сделал, может быть рассмотрено как результат преувеличенного чувства долга. Ее губы приоткрылись, подбородок чуть поднялся. — Если бы я могла поверить в это, я примирилась бы с моей ситуацией. — Тогда вы должны поверить в это. — О, Джеггет! Амелия права. Нам наскучил весь этот неинтересный разговор. — Железная Орхидея пододвинулась ближе к мужу. Лорд Джеггет приподнял шляпу. — Возможно мы сможем продолжить его позднее, Амелия. У меня есть предложение, которое, наверное, удовлетворит вас. — Вы не должны тревожить себя, — сказала она, — нашими делами. Джерек хотел заговорить, но вдруг со всех сторон раздались душераздирающие звуки фанфар, и неестественно громкий, искаженный голос Королевского Герцога закричал из воздуха: — Свадьбы начинаются! Они присоединились к толпе, двинулись к собору.27. БЕСЕДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Пыльный разноцветный свет падал из окон через обширный сумрак собора, радужные пятна усеивали мраморный пол, сиденья из темного дуба прохладные сводчатые галереи, золоченые кафедры, играли на экстравагантных костюмах невест, женихов и празднующих, вместе составляющих все население этого мира в Конце Времени и которые останутся его гражданами вечно. На огромном алтаре напротив сияния из круглого цветного стекла позади, в одеждах из черного и красного шелка, украшенного вплетенными ленточками белого цвета, с величественной митрой на голове, алюминиевым жезлом в руке, другая рука поднята для благословения, стоял Епископ Касл, впечатляющий и суровый, а через высокие двери звал трубный звук тысячи инструментов, издающих одну ноту. Затем наступила тишина, во время которой еще звук отдавался некоторое время внутри собора. Епископ Касл дал ему затихнуть, после чего дал знак Сладкому Мускатному Оку пройти к алтарю, затем подошел Герцог Королев все еще в униформе, встал рядом со своей невестой, которая одела все белое — волосы, брови, ресницы, губы, платье и сапожки. Сам алтарь был уже завален разнообразными голубыми и зелеными дарами. Джерек, Амелия и Железная Орхидея наблюдали из галереи, как Епископ Касл согласно церемонии протянул Герцогу Королев черный лук и одну стрелу, давая возможность жениху «показать себя достойным этой женщины». Железная Орхидея прошептала, что Амелия, наверно, знакома с ритуалом и, без сомнения, ей не очень интересно, но она, Орхидея, очень возбуждена. Епископ Касл сделал движение, и на основном алтаре появилось двадцать пальм, стоящих одна за другой по совершенно прямой линии. Герцог Королев положил стрелу на тетиву, натянул ее и выстрелил в первую пальму. Стрела проткнула дерево насквозь, вошла в следующее, проткнула его и так далее, пока не проткнула все двадцать деревьев. Раздался вопль (оказалось, что за последним деревом стоял Ли Пао, который получил стрелу прямо в глаз и был убит, с как можно меньшим шумом он был оживлен — между тем церемония продолжалась) Герцог Королев протянул лук назад Епископу Каслу и поклялся Диснеем Разрушителем и Буддой, что пусть его поразит облысение, если он когда-либо разлюбит Сладкое Мускатное Око. Ритуал продолжался еще некоторое время, принося большое удовлетворение основным участникам, в чем и заключалась природа ритуала, но становясь немного затянутым по мнению аудитории, хотя многие соглашались, что произносимые речи были трогательными. Епископ Касл постепенно подошел к концу бракосочетания. …До того момента времени, когда вышеупомянутые партии сочтут этот союз исчерпанным, — церемониальная железная цепь была замкнута на шее Сладкого Мускатного Ока, а к Нижней части торса Герцога Королев приложили косичку из драгоценных камней, отрезаны большие пальцы рук и смешана кровь, убиты две козы, и звук фанфар объявил женитьбу соответственно священной. Следующими следовали Вертер де Гете и Лорд Монгров, которые выбрали более короткую и мрачную церемонию, за ними следом госпожа Кристия, Вечная Содержанка и ее группа женихов. Затем доктор Велоспион и Плановый Мак (копия Железной Орхидеи до мельчайших деталей). Как раз в это время Лорд Джеггет тихонько исчез. Вероятно, подумал Джерек, потому, что его отцу быстро надоедали подобные вещи, и так же потому (ходил слух), что ему не нравится завистливый Велоспион. Довольно многие из остальных выбрали групповую женитьбу, церемонии которых, кроме перечисления имен, отняли меньше времени. Амелия и Железная Орхидея шептались друг с другом, и иногда делали замечания, вызывающие у обоих подавленный смех, а иногда в определенных случаях под прикрытием громкого шума, например, от Свадебной Пушки, или пронзительный крик Клары Цирато, когда ей протыкали нижнюю губу, или бычий рев Пэра Карболки из 900 столетия, позволяли себе откровенно хихикать. Джерек не чувствовал себя отстраненным, он радовался, что их дружба укрепляется, хотя замечал неодобрение на лице Амелии как если бы она находила свое собственное поведение предосудительным. Несколько раз они присоединились к аплодисментам, заполняющим собор, когда все больше и больше людей, увлеченных моментом, кидались к алтарю и женились один на другом. Процедура стала крайне хаотичной и Епископ Касл потеряв свой важный вид, раскачивал митрой и производил все более и более экстравагантные ритуалы, так что смех теперь звучал из каждого угла, огромного собора, взрыв аплодисментов приветствовал необычные управления, например, когда четыре леди настояли, чтобы их женили, пока они стояли на руках вниз головой. Как отметила Железная Орхидея: — Самые умные из нас уже женились — эти же только ломают для нас дешевую комедию. Они приготовились уйти. — Епископ Касл не должен был заниматься подобным спортом, — сказала Орхидея. — Я заметила, что многие из них, в основном эмигранты, возвращенные недавно эффектом Морфейла. Разве это не грубый Перег Траволок — вон там, в пламенной короне с теми маленькими девочками. Но что Гэф Лошадь в Слезах делает с тем другим путешественником во времени, наклонившись вниз — вон там? Амелия отвернулась. Железная Орхидея похлопала ее по плечу. — Я согласна, моя дорогая, это отвратительно. Оставшиеся люди уже танцевали, построившись в длинную линию, изгибающуюся через альковы, вверх вниз по лестницам вдоль высоких галерей сквозь глубокие тени и неожиданный солнечный свет, а Епископ Касл подгонял их, его митра раскачивалась в такт музыке оркестра Герцога Королев, доносившийся из-за дверей. — Благословляю вас! — кричал он. — Благословляю. Вспыхнул огонь по настоянию, кажется Трикситрокси Ро, низложенной Королевы, изгнанной успешной революцией в будущее и которая вот уже сотни лет имела только одно представление об удачной вечеринке — поджечь все, что можно. Железная Орхидея, Джерек и Амелия начали пробираться к двери, двигаясь навстречу толпе. — Это худшее проявление мирового безумия, — протестовала Орхидея, которую толкнул несущий факел, с кошачьей маской на лице, Святой Электрик из периода, который процветал, по крайней мере миллион лет назад. — Вы стали снобом, Железная Орхидея! — с насмешливым добродушием сказала Амелия. — О, возможно, я становлюсь старой. Или жизнь в конце Времени теряет какое-то качество. Мне трудно объяснить. Двери находились все еще на приличном расстоянии от них. Танцующая толпа разделилась на несколько взаимопересекающихся потоков. Крики и смех смешивались с обрывками песен, со звуком топающих ног, блестела желтая, зеленая, черная, коричневая, красная, голубая и оранжевая кожа, всюду горели глаза; тела, крашенные и нет, извивались на ступеньках, хорах, кафедрах и в исповедальнях, украшенные драгоценностями одежды и туфли отражали свет факелов и, казалось, вспыхивали сами. Из троих только Джерек смеялся. — Они веселятся, мама. Это фестиваль! — Танцевальный ужас, — бормотала Амелия, — проклятые, мертвые, обреченные — они танцуют чтобы забыть свою судьбу. Все происходящее было немного слишком дико даже для Орхидеи. — Это определенно вульгарно, — сказала она, если не больше. Конечно виноват Герцог Королев. Типично для него — позволить прекрасные развлекательные события превратить в… а-а! — она упала на копошащуюся пару, о которую споткнулась. Джерек помог ей встать, улыбаясь. — Ты привыкла упрекать меня за мой критицизм вкусов Герцога. Что ж наконец я отомщен. Она фыркнула, заметив лицо одного из людей на земле. — Гэф, как вы могли докатиться до этого? — А? — сказал Гэф Лошадь в Слезах. Он выпутался из-под своего партнера. — Железная Орхидея! О, ваш запах, ваши лепестки, ваше изящное тело — позвольте им соединиться со мной. — Мы уходим, — сказала она подчеркнуто, бросив на него суровый взгляд. — Мы находим происходящее скучным. — Скучным, дорогая Орхидея? Это опыт, а опыт любого вида достаточен сам по себе! — Гэф подумал, что она пошутила, и протянул ей руку. Идемте, присоединяйтесь к нам. Мы… — Возможно в другой раз, унылый жеребец, — она заметила проход в толпе и двинулась туда, но проход закрылся прежде, чем кто-нибудь успел достичь его. — Они кажется, пьяны от перспективы своей судьбы… — начала Амелия, но ее голос исчез в вопле толпы. Она так же удержала себя, как тогда, когда Джерек впервые увидел ее: рот сжат, глаза презрительны — и вновь любовь целиком наполнила его так, что он был вынужден поцеловать ее. Но ее щека была холодной. Она отшатнулась от него и столкнулась с толпой, которая поймала ее и начала уносить вместе с собой. Она как будто упала в поток и боролась, чтобы не утонуть. Джерек кинулся спасать ее и вытащил на свободное место, она судорожно вздыхала и всхлипывала рядом с ним. Они находились на краю пятна солнечного света из дверей, спасение было близко. Оркестр все еще играл на улице. Амелия что-то кричала ему, но слова были неразличимы. Железная Орхидея схватила Джерека за руку, чтобы выйти с ним из собора и в этот момент наступила темнота. Солнце исчезло, свет больше не падал через окна и двери, музыка смолкла. Снаружи была тишина и холод. Хотя многие из пирующих продолжали танцевать, освещая себе путь факелами в руках, многие еще смеялись или кричали. Но затем сам собор стал дрожать. Метал и стекло задребезжали, камень застонал. Черное пятно дверей все еще было видно, и к нему подбежали все трое. Железная Орхидея кричала в удивлении: — Джеггет подвел нас! Мир все же кончается! Они кинулись в холод. Позади них во многих окнах здания мерцали огни факелов, но они были слишком слабые, чтобы осветить окружающую землю, хотя было возможно определить расположение ларьков, будок и палаток, из которых доносились недоуменные голоса. Джерек ожидал что воздух уступит место вакууму в любой момент. Он обнял Амелию, и в этот раз она с охотой прижалась к нему. — Если бы был хоть какой-нибудь способ жить, — сказала она. — И хотя я думаю, что рада этому, я никогда не смогла бы измениться. Я стала бы лицемеркой, и ты перестал бы любить меня. — Никогда, — сказал он и поцеловал ее. Возможно из-за того, что окружающий воздух был таким холодным, она показалась ему теплой, почти лихорадочно горячей. — Какой неудовлетворительный конец, — раздался голос Железной Орхидеи. На этот раз, кажется, Джеггет потерял свое чувство времени! Но скоро не останется никого, чтобы критиковать его… Под их ногами задрожала земля. Внутри собора раздался высокий протяжный крик. Что-то с грохотом упало на землю, некоторые из колоколов собора зазвенели, беспорядочно и безумно. Две или три фигуры, один почти с потухшим факелом, подошли к двери и остановились в нерешительности. Джерек подумал, что услышал завывание вдалеке, как будто далекий ураган, но оно не приблизилось, а удалилось вместо этого в другом направлении. Они все ждали смерти с применением, с волнением, удивлением, с облегчением или недоверчивостью, соответственно темпераментам. Там и тут было слышно, как люди беззаботно болтают, в то время, как другие стонали и плакали. — По крайней мере, Гарольд в безопасности, — сказала Амелия. Джеггет знал, что это могло случиться, как ты думаешь? — Если он знал, то сделал так, чтобы не подозревали. — Он определенно ничего не сказал мне, — сказала Железная Орхидея с нескрываемым раздражением. — Я его жена, в конце концов. — Он не мог бороться со своей таинственной натурой, мама, — сказал Джерек в защиту отца. — Так же, как ты не виноват, что у тебя открытая душа, мое дитя. Где вы? — Здесь, — ответила Амелия. Шарящая рука нашла ее. — Его так легко обмануть, — говорила Орхидея своей невестке. Конечно, это делало его забавным, прежде чем началось все это… но сейчас… я виню себя, что не предвидела… — Он — ваша заслуга, мама, — Амелия хотела утешить ее. — Я люблю его таким, каким вы его сделали… Джерек был удивлен. — Я открыл, что женщины всегда рассматривают мужчин, как своего рода пустое существо, в которое одна женщина или другая вложила определенные характеристики. Эта женщина сделала его робким, эта женщина сделала его сильным, другая оказала такое и такое влияние (всегда женское, конечно)… Неужели я не более, чем сплав творческого воображения женщин? Неужели у меня нет собственной личности? — Конечно, дорогой, — ответила Амелия. — Конечно, ты полностью сам собой! Я говорила только фигурально. Снова послышался голос Железной Орхидеи. — Не позволяй ему давить на себя, Амелия. В этом влияние его отца! — Мама, ты остаешься твердой, как всегда! — сказал с привязанностью Джерек. — Цветок, который не сможет согнуть даже самый сильный ветер! — Надеюсь, ты только шутишь, Джерек. Нет никого более уступчивого, чем я. — В самом деле! Амелия присоединилась к смеху Джерека. Железная Орхидея, казалось, помрачнела. Джерек заговорил было снова, когда земля под его ногами начала неистово качаться крошечными волнами. Они держались друг за друга, чтобы не упасть. В воздухе появился острый запах, и на секунду вспыхнул фиолетовый свет на горизонте. — Это города! — сказала Железная Орхидея. — Они уничтожены! — она пододвинулась ближе к Амелии. — Кажется стало холоднее? — сказала Железная Орхидея. — Да, — сказала Амелия. — Определенно, — сказал Джерек. — Интересно, как долго… — Уже прошло больше времени, чем я ожидал, — сказал ей Джерек. — Я хочу, чтобы все кончилось. По крайней мере, это Джеггет мог бы сделать для нас… — Возможно, он борется со своей техникой, все еще пытаясь что-нибудь сделать, — предположил Джерек. — Бедный человек, — пробормотала Амелия. — Все его планы рухнули. — Ты симпатизируешь ему сейчас? — удивился Джерек. — О, я всегда симпатизирую неудачникам, знаешь ли… Джерек взял ее плечо и сжал. Появилась еще одна вспышка на некотором расстоянии от первой и продолжилась чуть дольше. — Да, — сказала Железная Орхидея. — Это определенно города. Я узнаю месторасположение. Они взрываются. — Странно, что воздух все еще с нами, — сказал Джерек. — Один город должен функционировать, по крайней мере, чтобы создавать кислород. — Если только мы не дышим тем, что осталось — предположила Амелия. — Я совсем не уверен, что это конец, — объявил Джерек. И как будто в ответ ему начало подниматься солнце, сначала тускло-красное, затем все ярче, пока оно не наполнило голубое небо лучами желтого, розового и малинового цветов. Везде было ликование, и жизнь возобновилась. Только Амелия оказалась недовольной этой отсрочкой. — Это безумие, — сказала она, — и я сама скоро сойду с ума, если уже не сумасшедшая. Я ничего не хотела, кроме смерти, а теперь даже эта надежда исчезла. На нее упала тень огромного лебедя, и она подняла вверх покрасневшие, сердитые глаза. — О Лорд Джеггет! Как вы должно быть радуетесь всем этим манипуляциям. Лорд Джеггет все еще был в своем утреннем костюме и в высокой шляпе на голове! — Простите меня за темноту и тому подобное, — сказал он. — Необходимо было начать цикл первой недели полегоньку, сейчас все идет гладко, и будет идти вечно. — Вы не допускаете даже малейшей возможности, что все рухнет? Амелия не была вежливой, она казалась отчаявшейся. — Ни малейшей, Амелия. Это заложено в природе мира — правильно функционировать. Он не существовал, если бы не был совершенен, уверяю вас. — Я вижу… — она пошла прочь, несчастная фигура, безразличная куда ей идти. — Имеется альтернатива, — тем не менее, — сказал лаконично Лорд Джеггет. — Как я упоминал, — он элегантно выскочил из лебедя и приземлился около нее, держа руки в карманах и ожидая, когда его слова дойдут до ее сознания, Она медленно обернулась, переведя взгляд с Джеггета на Джерека, который приблизился к своему отцу. — Альтернатива? — Да, Амелия. Но она может тебе не понравиться, а Джерек, вероятно, сочтет ее совершенно неприемлемой. — Скажите мне, что это! — Ее голос был напряжен. — Не здесь, — он бросил взгляд вокруг себя, вытащил руку из кармана, чтобы дать сигнал лебедю. Аэрокар послушно приблизился к нему. — Я приготовил простой обед в приятном окружении. Будьте моими гостями. Она поколебалась. — Я не могу больше терпеть ваши загадки, Лорд Джеггет. — Если нужно будет принять решение, лучше это сделать там, где вам никто не помешает. Из собора вышел, немного покачиваясь под тяжестью своей митры и опираясь на жезл, Епископ Касл. — Джеггет, это было ваших рук дело? — озадачено спросил он. Лорд Джеггет Канарии поклонился своему другу. — Это было необходимо. Сожалею, что причинил вам беспокойство. — Беспокойство! Это было великолепно. Каким превосходным чувством драмы вы обладаете! Хотя Епископ Касл был бледен, шутливый тон давался ему с трудом. Знакомая полуулыбка мелькнула на красивых губах Джеггета. — Все свадьбы освещены должным образом? — Я думаю, да. Я признаюсь, что увлекся… хорошая аудитория, знаете ли, легко завоевывается… мы потеряли голову. Из-за скопления будок появился Герцог Королев. Он дал сигнал своему оркестру играть, но после нескольких секунд грохота передумал и заставил оркестр остановиться. Он шел со Сладким Мускатным Оком, изящно цепляющимся за его руку. — Ну, по крайней мере, моя свадьба не была прервана, ускользающий Лорд Времени, хотя я считаю такие вмешательства были когда-то традиционными, — он хихикнул. — Что за шутка! Я был убежден, что вы сделали глубокую ошибку. — У меня было больше веры, — сказала Сладкое Мускатное Око, смахивая назад черные кудряшки с маленького лица. — Я знала, что вы не хотите испортить самый чудесный день нашей жизни, дорогой Джеггет. Она получила сухой поклон от отца Джерека. — Ну, — энергично сказал Герцог, — мы отправляемся теперь на нашу медовую луну (фактически, небольшой астероид) и поэтому должны сказать «прощайте». Амелия почти шокировавшим Джерека жестом, настолько он был нетипичным, обняла Герцога и поцеловала в бородатую щеку. — Прощайте, дорогой Герцог Королев. Вы, я знаю, всегда будете счастливы, — Сладкое Мускатное Око тоже в свою очередь была расцелована. И пусть ваш брак продлиться долго, долго… Герцог казался почти смущенным, но довольным ее порывом. — И вы будете счастливы, миссис Ундер… — Корнелиан! — …вуд. Ага! Вот наши крылья, моя дорогая. Два автомата несли две пары больших покрытых белыми перьями крыльев. Герцог помог своей жене надеть упряжь, затем натянул свою собственную. — Теперь, Сладкое Мускатное Око, секрет лежит в хорошем быстром разбеге, прежде чем начать махать. Гляди! — он начал разбег сопровождаемый своей супругой. Один раз споткнувшись он выпрямился, начал хлопать огромными крыльями и в конце концов, неровными толчками поднялся в воздух. Его жена, подражая ему тоже, вскоре оказалась на высоте нескольких футов в воздухе, раскачиваясь и хлопая крыльями. Таким образом, рыская, они исчезли из виду — два огромных пьяных голубя. — Надеюсь, — сказала Амелия мрачно, — им эти крылья не натрут мозоли, — она улыбнулась Джереку и подмигнула ему. Он был рад, что она восстановила душевное равновесие. Мимо пробежала госпожа Кристия, лепеча что-то от восторга, преследуемая четырьмя Латами, включая капитана Мабберса, который счастливо ворчал: — Сними свои баллоны, ты, прекрасный кусок задницы! Она уже позволила коленным баллонам дразняще соскользнуть вниз до лодыжки. — Черт! — подхватил лейтенант Рокфрут. — Что за милая пара! — Оставьте нам кусочек! — молил Лат, оставшийся дальше всех. Они все исчезли в соборе и больше не показывались. Сейчас, маленькими группами, женихи, невесты и гости, начали расходиться, прощаясь друг с другом. Миледи Шарлотина и Браннарт Морфейл проплыли над всеми в бело-голубом судне в форме рыбы. Шарлотина не обращала ни на кого внимания, а единственный признак присутствия Браннарта была его деформированная нога, беспомощно торчащая над бортом аэрокара. — Что ты скажешь, Амелия? — мягко спросил Джеггет. — Ты принимаешь мое приглашение? Она пожала плечами. — Я доверяю вам, Лорд Джеггет, в последний раз. — Может быть, тебе приходится делать это в последний раз, моя дорогая. Первой забралась на лебедя Железная Орхидея затем Амелия с Джереком и последний Джеггет. Они начали подниматься. Под ними около собора и среди палаток и будок продолжали танцевать несколько упрямых весельчаков. Их голоса доносились до четырех людей, кружащихся сверху. Амелия Корнелиан начала цитировать Уэлдрейка, его самую длинную, но незаконченную предсмертную поэму:
Майкл МУРКОК
ГОРОД ЗВЕРЯ
Посвящается памяти Эдгара Райса Берроуза и Герберта Уэллса, с восхищением и благодарностью
Пролог к первому изданию
В тот год я неплохо зарабатывал и на лето смог приехать в Ниццу. Тогда, в 1964-м, народу там было так много, что для того, чтобы побыть одному, мне приходилось совершать долгие прогулки вдоль берега или наоборот, уходить далеко от моря. Сейчас я вспоминаю о толпах, наводнивших в тот год Ниццу, с благодарностью: если бы не они, мне не нужно было бы искать уединения вдали от шумного центра и я никогда не встретил бы Майкла Кейна, этого странного, загадочного человека, чья жизнь волей судьбы так тесно переплелась с моей. Я открыл для себя Лемонтань несколько лет назад. Эта маленькая живописная деревушка у края обрыва расположена на побережье в двенадцати милях от Ниццы. Сидя на террасе в одном из кафе, где варили отличный кофе, можно было любоваться синью Средиземного моря. Мне казалось, в Лемонтане, который пощадило время и вездесущие туристы, я нашел рай земной. Я хорошо помню тот день, 15 июля, один из лучших дней в году, теплый, солнечный, дышащий покоем. Я сидел на своем обычном месте и, потягивая прохладный перно, смотрел на синее-синее море. И тут я заметил этого человека. Он вошел, сел за соседний столик и заказал некрепкое пиво. В его тихом голосе явственно сквозил американский акцент. В обстановке деревенского кафе он казался похожим на юного бога - высокий, с узкими бедрами, загорелый, красивый и, если судить по внешности, способный на решительные действия. Но глаз его не покидало странное выражение, свидетельство трагедии - или тайны? - его прошлого. Я пробую писать - совсем немного, по-любительски - в свое время даже выпустил книгу воспоминаний и рассказов о путешествиях, - и во мне проснулся писательский инстинкт. Мое любопытство оказалось сильнее традиционных представлений о хороших манерах, и я решил попробовать разговорить незнакомца. - Хороший денек, - сказал я. - Очень хороший. - Своим тоном и улыбкой - хотя и вполне дружелюбными - он держал меня на расстоянии. - Вы американец? Остановились в деревне? Он рассеянно кивнул и перевел взгляд на море. Возможно, с моей стороны было бестактностью продолжать разговор, возможно, я был навязчивым. Но если бы я был вежливым и оставил его в покое, то пропустил бы самую невероятную историю из всех, какие мне только приходилось слышать. Когда официант подошел получить мой очередной заказ, я велел принести американцу еще пива и, взяв свой перно, попросил разрешения перебраться за его столик. - Простите, - сказал он, вдруг взглянув на меня и улыбнувшись своей дружелюбной, немного грустной, загадочной улыбкой, которую я потом часто видел на его лице. - Я замечтался. Конечно, присаживайтесь. Мне хочется с кем-нибудь поговорить. - Вы давно здесь? - спросил я. - Где - на Земле? Потрясающий ответ! Я засмеялся: - Нет, конечно, нет! В деревне. - Нет, - сказал он, - недавно. Хотя, - он тяжело вздохнул, - к сожалению, уже слишком давно. Вы англичанин? - Вообще-то я родился в Америке, на побережье Атлантики, - сказал я, - но вырос в Англии, а вы где живете в Америке? - В Америке? А-а, родился я в Огайо. Я был озадачен его туманными ответами и отрешенной манерой говорить. Почему он решил, что я имею в виду планету, когда я хотел узнать, давно ли он в деревне? Этот вопрос еще больше раздразнил мое любопытство. - Вы работаете в Америке? - Мои вопросы становились все настойчивее. - Да, работал когда-то. - Вдруг он устремил на меня взгляд своих прозрачных голубых глаз, который, казалось, проникал в самый мой мозг. Я почувствовал, как по телу прошло что-то вроде электрического разряда. Он продолжал: - Наверное, с этого все и началось. Знаете, я мог бы вам такого порассказать, что вы помчались бы к телефону требовать, чтобы меня забрали в ближайшую психушку. - Вы меня заинтриговали. Судя по всему, в вашей жизни произошла какая-то трагедия. Несчастная любовь? - Я уже сам чувствовал, что мое все усиливающееся любопытство было просто оскорбительным, но незнакомец, казалось, не обижался. - В каком-то смысле, да. Меня зовут Майкл Кейн. Вам это имя ни о чем не говорит? - Да-да-да, что-то припоминаю, - согласился я. - Профессор Майкл Кейн, Специальный исследовательский институт в Чикаго. - Он снова задумчиво вздохнул. - Мы проводили сверхсекретные опыты с транслятором вещества. - С транслятором вещества? - Мне, конечно, не следовало бы вам этого говорить, но, кажется, сейчас это уже неважно. Ну да, мы работали над транслятором вещества. Этот аппарат, созданный на основе принципов электроники и нуклеоники, мог преобразовывать атомы какого-либо объекта в волны, которые можно было передавать на большие расстояния, как радиоволны. Мы также пытались создать приемник, чтобы принимать эти волны и снова преобразовывать их в вещество. - Вы имеете в виду, что можно разобрать яблоко на мельчайшие частицы, передать их, как телевизионную картинку, а потом через специальный приемник снова получить настоящее яблоко? Теперь я припоминаю, что где-то читал об этом. Но я думал, что такие аппараты только разрабатываются. - Их создали совсем недавно, то есть в вашем недавнем прошлом. - Что значит "в моем недавнем прошлом"? Разве нельзя сказать "в нашем недавнем прошлом"? - Я удивлялся все больше и больше. - Сейчас я до этого дойду, - сказал Кейн. - Усовершенствованный аппарат этого типа мог бы даже передавать на любые расстояния живые существа, разложив их на волны и собрав их затем снова с помощью приемника. - Поразительно. Как вы этого добились? - Такой аппарат стал возможен, когда были завершены некоторые исследования в области лазеров и мазеров. Не буду утомлять вас формулами - они вам все равно ничего не объяснят, - скажу только, что нам очень помогли эксперименты со световыми и радиоволнами. Я возглавлял эти работы. Я был просто одержим этой идеей… - Его голос дрогнул; он сидел, задумчиво глядя вниз, на стол, крепко сжав кулаки. - Что случилось? - нетерпеливо спросил я. - Мы наладили этот аппарат. Переместили в пространстве несколько крыс и мышей. Все шло нормально, опыты удавались. Нужно было попробовать передать человека. Это, конечно, опасно, мы не имели права вербовать добровольцев. - И вы решились испытать аппарат на себе? Он улыбнулся: - Верно. Понимаете, мне очень хотелось доказать, что все получится, я был в этом просто уверен. - Он помедлил и добавил: - Не получилось. - Но вы же живы! - возразил я. - Или я разговариваю с привидением? - Вы ближе к истине, чем думаете. Как вы полагаете, куда я попал, когда мы включили транслятор вещества? - Ну, наверное, в виде волн вы попали в приемник, который… гм… собрал вас обратно. - Скажите, вы считаете меня нормальным? - вырвалось у моего странного собеседника. - Безусловно! - И вам не кажется, что я выгляжу или веду себя как лжец? - Отнюдь. А к чему вы клоните? Куда вы попали? - Прошу вас, поверьте мне, - сказал Кейн серьезно. - Я покинул Землю. Совсем покинул, понимаете? Я только ахнул. На какое-то мгновение мне показалось, что я несколько поспешно объявил, что верю ему и считаю его нормальным, но потом я понял, что был прав. По всему было видно, что он говорил чистую правду. - Вы попали в космос? - спросил я. - Нет, я пролетел через космос. Думаю, это было путешествие через пространство и время. Представляете, я оказался на Марсе. - На Марсе? - переспросил я недоверчиво. - Но как же вы остались живы? На Марсе же нет жизни - это бесплодная пустыня, там ведь ничего не растет, кроме лишайника! - Нет, не на этот Марс. - А что, есть еще один Марс? - Я не мог сдержать изумления. - В известном смысле, да. Я убежден, что та планета, на которую я попал, мало чем похожа на Марс, видимый сегодня в телескоп. Это был более древний Марс, Марс, каким он был целую вечность тому назад. Я даже думаю, что наши предки - родом с Марса, они пришли на Землю миллионы лет назад, когда Марс погибал. - Вы хотите сказать, на Красной планете вы встретили людей? - Людей, очень похожих на нас. Я там встретил непонятную, романтическую цивилизацию, на Земле никогда не было ничего подобного. Может быть, об этих племенах и рассказывают наши самые древние легенды, которые предки землян принесли с собой с Марса, когда бежали оттуда на Землю. Уже здесь эти племена снова оказались в первобытном состоянии, и им еще раз пришлось пройти долгий путь к цивилизации. - Я попал в прекрасное, восхитительное, бесподобное место, - продолжал Майкл Кейн свой рассказ. - Там было проще быть человеком, сохранить свои лучшие качества; там мужчина был мужественным и отважным, и за это его ценили. И наконец, там была Шизала… На этот раз я понял, что означал его взгляд. - Итак, там была женщина, - сказал я тихо. - Да, там была женщина. Очаровательная молодая девушка, высокая марсианка, аристократка из рода настолько великого и древнего, что по сравнению с ним все династии Египта покажутся не стоящими внимания. Она была принцессой Варнала, Города Зеленых Туманов, в котором все вызывает восхищение: шпили и колоннады, невиданные башни и купола, сильные, прекрасно сложенные люди - и воины, самые храбрые из всех, кто когда-либо брал в руки оружие… - Продолжайте, прошу вас, - выдохнул я, совершенно зачарованный. - Сейчас это все кажется сказочным сном, - он грустно улыбнулся. - Да, это сон, который я все же попытаюсь вернуть. - Его губы сжались, в прозрачных голубых глазах появилась решимость: - Я должен его вернуть. - А я должен услышать ваш рассказ до конца, - воскликнул я. Хотя умом я понимал, что все, что он рассказывал, было выдумкой, фантастической сказкой, душа моя принимала каждое его слово. Он говорил правду, я в этом почти не сомневался. - Может, поедем ко мне в гостиницу? У меня там есть магнитофон. Я бы хотел услышать все о ваших странствиях - и записать, если можно. - А вы верите, что я не сумасшедший, не фантазер и не лжец? - В общем-то, верю, - сказал я с улыбкой, как бы извиняясь. - Хотя, может, и не на все сто процентов. Я смогу разобраться, когда услышу весь ваш рассказ целиком. - Ну что же, поедем в гостиницу, - он резко встал. Ни по каким меркам меня нельзя назвать коротышкой, но Майклу Кейну я был по плечо! - Я бы очень хотел, чтобы вы мне поверили, - сказал он. - И еще… - Он запнулся. Очевидно, он хотел сказать что-то чертовски для него важное, но почему-то колебался. Я принялся настаивать: - Ну, же! Что вы еще хотели сказать? Мы заплатили по счету и пошли к ближайшей стоянке такси, на которой стояла одна-единственная машина, и та - какая-то развалюха. - Понимаете, я не могу вернуться в лабораторию, - сказал он. - А построить еще один транслятор - дело дорогое. Мне… мне нужна помощь. - У меня есть деньги. - Попутно я объяснил водителю, как доехать до гостиницы. - Может быть, я смогу быть вам чем-нибудь полезен? - Вы не поверите, - сказал Майкл Кейн с улыбкой, - но я боялся, что меня даже слушать никто не станет. Мы приехали в гостиницу - это была "Гостиница у моря" - Hotel de la Mer. В номере я заказал обед. Как всегда, еда была превосходной, и она нас немного подбодрила. После обеда я включил магнитофон, и Майкл Кейн начал говорить. Как я уже заметил раньше, сначала я не мог безоговорочно поверить его странному рассказу. Но по мере того, как он говорил - а магнитофон записывал, - я все больше и больше убеждался, что передо мной не сумасшедший и не лжец. Он пережил все, о чем мне рассказывал. Когда глубокой ночью он закончил рассказ, я почувствовал, будто и сам участвовал во всех невероятных приключениях вместе с Майклом Кейном, американским физиком, на Марсе оказавшимся воином! Ниже вы можете прочитать то, что он мне рассказал в тот день. Я оставил в его рассказе все как есть, лишь сделал небольшие пояснения, чтобы было легче разобраться в технической стороне происходящего, а также опустил ряд деталей, которые можно отнести к научным секретам - их публикация противоречила бы законам Великобритании и США. Судите о Кейне, как о нем судил я. Что бы вы ни думали, не спешите обвинять его во лжи. Если бы вы слышали, как сдержанно и уверенно он рассказывает о своем путешествии, если бы вы видели, как он сидит, не отрывая взгляда от потолка, - словно пытаясь сквозь него разглядеть Марс, если бы вы поняли тогда, что, рассказывая тот или иной эпизод, он переживает его заново и испытывает те же самые чувства, что испытывал тогда, - словом, если бы вы были в тот день с нами в гостиничном номере в Ницце, вы бы поверили безоговорочно, как поверил ему я.Эдвард П. Брэдбери Честер-Сквер Лондон, Ю-З 1 Апрель 1965
I. Чем я обязан месье Кларше
- Транслятор вещества принес мне безграничное счастье и величайшее горе, - начал Кейн свой рассказ. - Этот аппарат отправил меня в мир, где я чувствовал себя увереннее и свободнее, чем где бы то ни было на Земле. Он подарил мне встречу с замечательной девушкой, которую я полюбил и которая полюбила меня. Но он же и лишил меня всего этого счастья. Но лучше я начну с самого начала.Родился я, как уже было сказано, в Огайо, в маленьком тихом городке Винсвилле. Он с тех пор почти не изменился. Вскоре после первой мировой войны на окраине Винсвилла поселился один чудак - месье Кларше. Это был типичный француз - невысокого роста, с роскошными усами, с осанкой и походкой, в которых чувствовалась военная выправка. Если говорить честно, мы не воспринимали месье Кларше всерьез; в нашем представлении своим внешним видом и поведением он подтверждал все то, что мы читали о французах в дешевых романах и комиксах. И все же именно месье Кларше я обязан жизнью, хотя мне было суждено это понять лишь много лет спустя после смерти старика, когда я вдруг оказался на Марсе… Но я опять забегаю вперед. Кларше всегда был для меня загадкой, хотя в детстве и юности я знал его, наверное, лучше других. Он говорил, что был учителем фехтования при дворе русского царя, и после революции, когда к власти пришли большевики, ему пришлось бежать. Его решение обосноваться в Винсвилле как раз и объяснялось тем, что ему пришлось много пережить. В то время ему казалось, что весь мир перевернулся и в нем царит хаос. Он нашел городок, в котором время словно остановилось, и ему это понравилось. Его новый образ жизни резко отличался от привычного для него уклада, но казалось, и это его тоже устраивало. Однажды я поспорил с приятелями, что заберусь на забор дома месье Кларше и посмотрю, чем он там занимается: в то время мы все были уверены, что он шпион. Он поймал меня и вместо того, чтобы застрелить, как я опасался, добродушно рассмеялся и велел идти своей дорогой. Так я впервые встретился с месье Кларше лицом к лицу, и он мне сразу понравился. Вскоре после этого все мы, ребятишки, буквально заболели фильмом "Узник Зенды" с Рональдом Коуманом. Мы на время стали Рупертами и Рудольфами и до изнеможения сражались длинными палками, вполне заменявшими мечи. Может быть, нам не хватало умения, но энтузиазма было хоть отбавляй. Случилось так, что в один солнечный день в начале лета мы с одним мальчишкой - Джонни Вальмером - сражались один на один за трон Руритании как раз у дома месье Кларше. Вдруг мы услышали дикий вопль и в изумлении опустили наше импровизированное оружие. - Non! Non! Non! - кричал француз изо всех сил. - Это неправильно! Неправильно! Так джентльмены не дерутся! Он бросился к нам из сада, выхватил у меня палку и занял позицию напротив перепуганного Джонни, смотревшего на все происходящее с открытым ртом. - Теперь повторяй за мной, - сказал он Джонни. - Oui? Джонни встал в ту же позицию, но по сравнению со стариком он казался неуклюжим медвежонком. - Теперь - удар, - палка метнулась вперед и в какую-то долю секунды остановилась как раз перед грудью Джонни. Джонни повторил это движение, но его удар был мгновенно отражен. Мы смотрели на месье Кларше с изумлением и восхищением. Да, такой человек был бы достойным соперником Руперта из Хенцау. Через некоторое время месье Кларше остановился и покачал головой: - Не годится, этими палками - нельзя, нужны настоящие клинки, non? Пошли! Мы прошли со стариком в дом, обставленный красиво, но без роскоши. Одна комната заставила нас ахнуть. Мы и вообразить себе не могли такого обилия всевозможных клинков. Теперь я знаю, что там были рапиры, и шпаги, и сабли, и коллекция великолепного древнего оружия - палаши шотландских горцев, ятаганы - кривые турецкие сабли, мечи самураев, римские короткие клинки - gladius - и много-много всяких других видов. Месье Кларше обвел рукой свои сокровища: - Вот. Моя коллекция. Какое славное оружие, non? Он взял в руки две небольшие рапиры, одну протянул мне, другую - Джонни. Мне было очень приятно держать это хорошо сбалансированное оружие. Я повел рукой, пытаясь найти для рапиры правильное положение, и месье Кларше показал, как ее нужно держать. - Хотите научиться сражаться как следует? - подмигнул нам старик. - Я мог бы многому вас научить. Неужели это было возможно? Неужели нам разрешат коснуться этих великолепных клинков, подержать их в руках? Неужели нас научат владеть этим чудесным оружием? Я не мог поверить своему счастью. Но вдруг я кое-что вспомнил и нахмурился. - Знаете, сэр, ничего не получится. Мы не сможем вам платить, да и у родителей наших вряд ли найдутся на это деньги - нам и так едва хватает на жизнь. - Мне не нужны деньги. Если вы научитесь хорошо владеть шпагой, это и будет для меня лучшей наградой. Ну, давайте, сначала я покажу вам простейший прием защиты. Так он стал нас учить. Благодаря его урокам мы могли сражаться не только на обычных современных рапирах, шпагах и саблях. Он показал нам, как обращаться со старинным и заграничным оружием, самым различным по размерам, пропорциям, форме и весу. Он научил нас всему, что умел сам. При каждом удобном случае мы с Джонни спешили в оружейную комнату месье Кларше. Казалось, он был нам по-своему благодарен за то, что ему было кому передать свое мастерство; мы уже были счастливы, что так многому могли у него научиться. К пятнадцати годам у нас обоих уже неплохо получалось, может, у меня чуть лучше, хотя мне и приходится самому об этом говорить. Как раз в это время Джонни с родителями переехал в Чикаго, и я стал единственным учеником месье Кларше. Когда я не занимался физикой в школе и университете, меня можно было найти у месье Кларше. Я жадно ловил все, чему мог меня научить старик. И вот пришел день, когда он закричал от радости: я победил его в долгой и сложной дуэли. - Майк, ты лучше всех, кого я когда-либо видел! Это была самая важная для меня похвала. Я продолжал заниматься фехтованием и в университете, меня даже пригласили в национальную сборную для участия в Олимпиаде. Но в последний момент пришлось отказаться, так как я должен был вплотную заняться физикой. В общем, так я научился владеть шпагой. Иногда в трудную минуту я ворчал, сожалея о бесцельно, как мне тогда казалось, потраченном времени - фехтованием почти никто не занимался, оно устарело, не приносило никакой ощутимой пользы. Однако следует признать, именно фехтование помогло мне выработать мгновенную реакцию, стать сильным и поддерживать мышцы в форме. Кроме того, я с благодарностью вспомнил свои занятия, когда оказался в армии, так как многочисленные физические упражнения и интенсивные тренировки, выматывавшие многих моих товарищей, уже были для меня делом привычным. Мне повезло. Я хорошо закончил университет и вернулся живым из армии, хотя мне и пришлось воевать с коммунистами в джунглях Вьетнама. К тридцати годам я был уже достаточно известен в мире физики, и начал работать в Специальном исследовательском институте в Чикаго. Уже тогда я занимался транслятором вещества и был назначен заведующим лабораторией, работавшей над его созданием. Помню, как мы трудились над этим аппаратом день и ночь, пытаясь добиться, чтобы он смог передать человека. И вот настал день, когда все было готово для первого опыта. Неоновый свет в лаборатории падал на блестящие металлические детали транслятора, и на его пластмассовый корпус - огромный конус, обращенный острием вниз, - и на другое оборудование и инструменты, заполнившие всю комнату. Нас там было пятеро - три техника, доктор Логан, мой главный ассистент, и я. Я проверил все инструменты, доктор Логан - аппарат. Вскоре все датчики показывали, что транслятор к передаче готов. Я повернулся к доктору Логану. Мы молча посмотрели друг на друга и пожали руки. Так мы простились. Я устроился в аппарате. Мои коллеги много сил потратили на то, чтобы отговорить меня, но к тому времени уже поняли, что это бесполезно, и уступили. Логан связался по телефону с группой, работавшей у приемника в лаборатории в другом конце здания. Логан сказал, что мы готовы, и спросил, как дела у них. Они тоже были готовы. Логан подошел к главной кнопке. Через стеклянное окошечко в кабине я видел, как он с суровым видом нажал на нее. Трудно описать непонятное ощущение, появившееся, как только включили транслятор. По всему телу прошло легкое приятное покалывание. Я чувствовал, как меня разделяли на части, вынимая атом за атомом. Потом начала кружиться голова и появился страх, меня всего словно распирало, и это давление изнутри все усиливалось, пока я не почувствовал, что разрываюсь на мелкие кусочки. Я не видел ничего, кроме зеленого света вокруг; мое тело как бы распылялось во все стороны. Потом мир вспыхнул всеми возможными и невозможными оттенками красного, желтого, лилового, синего. Мной овладело ощущение отсутствия веса, даже отсутствия массы. Я струился через темноту и вскоре перестал о чем-либо думать. Мне казалось, что я преодолеваю невероятные расстояния, вырываясь за пределы пространства и времени; за несколько секунд я распространился во все стороны, захватывая немыслимо огромную часть Вселенной. Потом я отключился. Когда я пришел в себя - в себя ли? - надо мной было темно-синее, почти фиолетовое небо, на котором светило лимонно-желтое солнце. Все краски были такие яркие, интенсивные, каких я никогда раньше не видел. Неужели в результате этого эксперимента я стал резче воспринимать цвета? Но оглядевшись, я понял, что изменилось не только это. Вокруг слегка покачивались ветки папоротника с каким-то сладковатым запахом. Такого папоротника я в своей жизни еще не видел, он был невообразимо алого цвета. Я протер глаза. Неужели транслятор или, скорее, приемник сломался, и я был "собран" с нарушенным чувством цвета? Я поднялся и ахнул - я был посреди целого моря алого папоротника. Похоже, действительно что-то случилось с моим восприятием, но не только цвета, а всего мира, его форм и пропорций. Вдали, где заканчивалось алое поле папоротника, я увидел желтые гребни невысоких гор, а на их фоне особенно четко выделялся невиданный зверь, который спокойно жевал папоротник. Этот зверь был размером со слона, но по форме больше напоминал лошадь. На этом, однако, его сходство с известными мне животными заканчивалось. Непонятное существо было какое-то пестрое - зеленовато-розовато-лиловое. На плоской, как у кошки, голове росли три длинных крученых белых рога, единственный глаз, состоявший из множества сверкавших на солнце граней, закрывал пол-лица. У зверя был длинный хвост, раздваивавшийся на конце, как у пресмыкающихся. Диковинное существо с интересом взглянуло на меня, подняло голову и пошло мне навстречу. Как мне сейчас представляется, я, должно быть, дико закричал и побежал. Я был уверен, что этот зверь был плодом моего бреда или галлюцинации, наступивших у меня в результате поломки транслятора или приемника. Я слышал, как за моей спиной, издавая что-то вроде мычания, громыхал страшный зверь. Я помчался еще быстрее, если это вообще было возможно, чувствуя при этом, что бежать мне очень легко, словно я весил меньше, чем обычно. Вдруг справа от меня я услышал смех, одновременно веселый и сочувствующий. Затем нежный голос сказал что-то на непонятном для меня языке, и речь эта струилась, как волшебная мелодия, которую хотелось слушать бесконечно, не задумываясь над тем, что она обозначала. - Kahsaaa manherra vosu! Я замедлил бег и обернулся, чтобы посмотреть, кому принадлежит голос. Я увидел девушку, самую прекрасную из всех, кого я встречал в жизни: овальное лицо, чистая и нежная кожа, золото распущенных длинных волос. На ней не было никакой одежды, кроме легкого плаща на плечах и широкого кожаного пояса на талии, к нему был привязан короткий меч и что-то типа кобуры, из которой, видимо, торчала рукоятка пистолета. Девушка была высокой и стройной. Ее нагота не бросалась в глаза, и я сразу принял ее как должное - так относилась к ней и сама девушка. Я остановился, как вкопанный, начисто забыв о звере позади меня. Что там зверь, только бы вот так стоять и смотреть на нее! Девушка тряхнула головой и снова рассмеялась. Вдруг я почувствовал на шее что-то влажное. Решив, что это насекомое, я поднял руку, чтобы его согнать. Но это было не насекомое. Я обернулся. Мою шею осторожно лизало странное зеленовато-розовато-лиловое существо с одним глазом - то ли как у мухи, то ли как у циклопа, - с двумя хвостами и тремя рогами - то самое, от которого я в ужасе бежал. "Оно дразнят меня?" - промелькнуло у меня в голове. Судя по тому, как смеялась девушка, от которой я все еще не мог оторвать взгляда, наверное, нет. Я не знал, снилось мне все это, или я находился в каком-то затерянном мире, но было очевидно, что в панике я стал спасаться от ручного, дружелюбного домашнего животного. Я покраснел и засмеялся вместе с девушкой. Посмеявшись, я решил, что настало время спросить: - Простите, мисс, если я покажусь вам грубияном, но не скажите ли вы, где мы с вами находимся? Она подняла свои чудесные брови, когда услышала мой вопрос, и медленно покачала головой: - Uhoi merrash? Civinnee norshasa? Я попытался спросить то же самое по-французски, но это не помогло. С немецким и испанским мне повезло не больше. Я даже попробовал латынь и греческий, которые чуть-чуть знал. У меня, видимо, есть способности к языкам, они мне легко даются. В университете я изучал диалекты племен краснокожих индейцев сиу и апачей, но и эти языки девушка не понимала. Общения не получалось. Девушка сказала еще несколько слов на своем языке, в который я теперь внимательно вслушивался. Из всех известных мне языков он, пожалуй, отдаленно напоминал классический санскрит. - Кажется, мы оба не знаем, как быть, - заметил я. Странный зверь продолжал лизать мою шею. Девушка протянула мне руку. Мое сердце забилось так сильно, что я не мог пошевелиться. - Phoresha, - произнесла девушка. Она явно хотела, чтобы я куда-то пошел с ней; она показывала рукой на далекие горы. Я пожал плечами, взял ее за руку и пошел за ней. Вот так, рука об руку с самой прекрасной его жительницей, я вошел в Варнал, Город Зеленых Туманов, самый величественный из всех марсианских городов. И было это целую вечность тому назад.
II. Истина, в которую трудно поверить
Даже в воспоминаниях Варнал представляется мне более реальным, чем Чикаго и Нью-Йорк. Он лежит в тихой долине, окруженной невысокими горами, Зовущими горами, как их называют марсиане. Эти зеленовато-золотистые горы покрыты стройными деревьями, и когда дует ветер, деревья словно зовут кого-то своими нежными тихими голосами. Варнал построен в этой ровной и просторной долине вокруг большого озера с горячей водой, над которым поднимается зеленоватый пар; из-за него кажется, что шпили города утопают в зелени. Большинство зданий здесь - высокие изящные белые дома, есть также дома, построенные из редкого голубого мрамора, который добывают неподалеку. Некоторые постройки отделаны золотом, ярко сверкающим на солнце. Варнал окружен стеной из того же голубого мрамора, украшенной золотым узором. В ней устроены башни и террасы. Над башнями развеваются яркие разноцветные флаги, а террасы всегда заполнены варнальцами, которые так привлекательны, что самые обычные, ничем не выделяющиеся юноши и девушки не имели бы отбоя от поклонников и поклонниц в Винсвилле, Огайо или даже в Чикаго и любом другом крупном городе мира. Когда, следуя за прекрасной девушкой, я впервые вступил в Варнал, я потерял дар речи. Она восприняла мое молчание как комплимент, разгадав в нем благоговение и восхищение, и, гордо улыбнувшись, сказала что-то на своем непонятном языке. Я решил, что происходящее не могло быть сном, потому что моего воображения явно не хватило бы, чтобы придумать такое величие и красоту. Но где я был? Этого я не знал. Как я сюда попал? И об этом я мог только догадываться. Я ломал себе голову, пытаясь найти ответы на эти вопросы. Очевидно, при создании транслятора вещества был допущен просчет. Вместо того, чтобы отправить меня в лабораторию в другом конце здания, он перенес меня через пространство - да наверное, и через время тоже - в другой мир. Не может быть, чтобы это была Земля, по крайней мере Земля XX века. Почему-то мне не верилось, что Земля вообще могла бы так выглядеть в прошлом или в будущем. С другой стороны, трудно было представить, чтобы это был Марс - наиболее вероятная из всех планет Солнечной системы, - так как Марс был безжизненной пустыней, покрытой красным песком, на котором рос только лишайник. И все же размер Солнца и меньшее, чем на Земле, притяжение указывали на Марс. Теряясь в догадках, я покорно вошел в золотые ворота города и проследовал за девушкой по улицам с рядами деревьев вдоль них. На протяжении всего пути до дворца из белого блестящего камня нам встречались люди, мужчины и женщины, одетые - или точнее, раздетые - так же, как и моя спутница. Они смотрели с вежливым любопытством на мой белый халат и серые брюки - одежду, в которой я сел в кабину транслятора. Мы поднялись по ступеням дворца и вошли в огромный зал, вдоль стен которого висели пестрые знамена, расшитые странными узорами с изображениями фантастических существ и буквами причудливого шрифта, напоминавшего мне санскрит. В зале было пять галерей, в центре бил фонтан, возле него стояли люди в простой одежде; когда мы вошли, они в знак приветствия помахали моей спутнице, а на меня посмотрели с тем же вежливым любопытством, какое я уже видел в глазах горожан на улицах. Мы пересекли зал, вышли через одну из дверей и поднялись по спирали белой мраморной лестницы. На верхней площадке девушка остановилась и открыла дверь. Сначала я принял дверь за железную, но она оказалась сделанной из невероятно твердого полированного дерева. Мы вошли в довольно маленькую комнату. Мебели почти не было - лишь пара шкафов вдоль стен да на полу несколько ковриков из ярко раскрашенных шкур животных. Девушка подошла к одному из шкафов и достала оттуда два металлических обруча, украшенных сверкающими драгоценными камнями, совершенно мне не известными. Один из обручей она надела себе на голову и показала, что второй должен надеть я. Когда я сделал, как она просила, я вдруг услышал в голове, в самом черепе, голос. На секунду я был ошеломлен, но потом понял, что обруч был средством телепатической связи, о котором мы, физики, столько лет мечтали. - Приветствую тебя, чужестранец, - услышал я голос девушки и увидел, как ее губы двигаются, образуя непривычные для нее звуки. - Из каких земель ты пришел? - Я родился в Иллинойсе, недалеко от города Чикаго, - сказал я, больше для того, чтобы проверить, будет ли связь. Как я и думал, эти слова для нее ничего не значили. Она нахмурилась: - Звуки мягкие и очень приятные. Но я не знаю этого места. В какой части Вашу оно расположено? - Вашу? Так называется твоя страна? - Нет, Вашу - планета. А город называется Варнал, это столица страны карналов, моего народа. - Вы занимаетесь астрономией? - спросил я. - Изучаете звезды? - Изучаем. А почему ты спрашиваешь? - Какая это по счету планета от Солнца? - Четвертая. - Марс! Это же Марс! - закричал я. - Я тебя не понимаю. - Извини. Понимаешь, я каким-то образом попал сюда с третьей планеты, которую мы называем Землей. И Чикаго там - на Земле. - Но на Негалу, на третьей планете, нет людей! Там только джунгли, над которыми стоит туман, и ужасные звери. - Откуда вы знаете так много об этой планете? - Мы посылали туда воздушный корабль - этеркрафт - и получили фотографии. - У вас есть космические корабли… - Я был растерян. Слишком это было невероятно, трудно было сразу все осознать. Я продолжал расспрашивать ее и скоро понял, что Земля, которую сфотографировал этеркрафт марсиан, не была той Землей, которую я покинул. Должно быть, это была Земля, существовавшая миллионы лет назад, в эпоху пресмыкающихся. Получается, я пересек не только пространство, но и время. А мы и не подозревали, что может вытворять транслятор вещества! Меня заинтересовало и другое: в городе я не увидел ничего такого, что заставило бы предположить высокий уровень развития техники на Вашу, между тем у них были космические корабли. - Как же так? - спросил я девушку. - Мы не сами построили этеркрафты, а получили их от шивов, так же как и эти короны для мозга. У нас развивается наука, но карналам еще далеко до мудрости и знаний шивов. - А кто такие шивы? - спросил я. - О, это был великий народ, самый древний на Вашу. Сейчас те, что остались, - небольшая горстка людей - живут вдали ото всех. Наши философы строят различные догадки об их происхождении, но достоверных фактов у нас почти нет. Я решил, что эту тему можно на время оставить, пора было познакомиться. - Меня зовут Майкл Кейн, - сказал я. - А меня - Шизала, брадхинака племени карналов, их правительница в отсутствие брадхи. Я узнал, что слово "брадхи" соответствует понятию "король", хотя человек, носивший этот титул, не имел абсолютной власти. Может быть, лучше назвать его не королем, а правителем или покровителем племени. Брадхинака была как бы принцессой, дочерью короля. - А где брадхи? - спросил я. Лицо девушки стало печальным, она опустила голову. - Отец исчез два года назад, во время похода, предпринятого для наказания аргзунов. Должно быть, его убили или он сам убил себя, чтобы не попасть в плен. Лучше умереть, чем попасть в плен к синим великанам. Я выразил ей свое сочувствие; время было явно неподходящим для расспросов об аргзунах и синих великанах. Очевидно, она очень болезненно переживала смерть отца, но прекрасно владела собой, усилием воли не давая своему горю тревожить окружающих. Мне очень хотелось утешить ее, но я не решался: ничего не зная об обычаях и нравах ее народа, я мог причинить ей боль. Она коснулась своего обруча: - Нам не придется носить их все время. Шивы оставили нам еще один аппарат, который научит тебя нашему разговорному языку. Мы поговорили еще немного, и я узнал массу интересного о Марсе, или Вашу, как я уже начинал мысленно называть эту планету. На Марсе жило много народов, с одними карналы дружили, с другими - воевали. Все они говорили на похожих наречиях, развившихся из одного языка, и поэтому понимали друг друга. Возможно, поначалу так было и на Земле: наши далекие предки говорили на одном общем языке. Но на нашей планете наречия одного языка разошлись настолько, что превратились в разные, сильно отличающиеся друг от друга, языки. На Вашу все было иначе. Шизала сказала, что на Марсе существовали моря и океаны, но, видимо, не такие обширные, как на Земле. Карналия, страна карналов со столицей в Варнале, была одной из нескольких стран, занимавших территорию, которую по расположению можно было сравнить с Америкой, но которая была немного больше по размерам. Между этими странами существовали приблизительные границы. Карналы могли путешествовать двумя способами. Во-первых, на дахарах, животных огромной силы и выносливости, на них можно было ездить верхом и перевозить грузы. Но у некоторых народов были также самолеты. Насколько я мог понять из объяснений Шизалы, они работали на атомном топливе, совершенно непонятном для жителей Вашу. Самолеты не были даром шивов, но когда-то, думаю, именно шивы владели секретом такого топлива. Эти самолеты были очень старыми, и когда выходили из строя, починить их было уже нельзя, поэтому их использовали только в крайнем случае. У карналов были также корабли, сочетавшие в себе парусники и атомные суда. Они курсировали по немногим оставшимся на Вашу рекам, которые с каждым годом становились все более мелкими. Что касается оружия, воины Вашу привыкли иметь дело с мечом. У них были также пистолеты, Шизала показала мне один из них. Это был длинноствольный, прекрасно сделанный пистолет с удобной рукояткой. Сначала я не сообразил, какими патронами можно было из него стрелять и по какому принципу он работал, но из того, что Шизала пыталась объяснить, я понял, что это было что-то вроде лазерного пистолета. Какой невероятный запас энергии хранился в его патронниках, подумал я, ведь мы, физики, с пеной у рта доказывали, что ручное лазерное оружие было невозможно, так как для того, чтобы получить лазерный луч - луч света, сфокусированный так, что мог даже резать металл, - нужен был генератор огромной мощности. Пораженный, я отдал Шизале пистолет. Это оружие не было подарено шивами, но наверное, было захвачено в их разрушенных или оставленных городах далекими предками Шизалы. Как и самолеты, их очень берегли и использовали редко, так как перезарядить их было невозможно. У карналов было три akashasaard - этеркрафта, и по одному - у их соседей, с которыми они дружили, у ирадалов и валавалов; всего пять. Хотя были специальные пилоты, умевшие управлять этеркрафтами, простые люди на Вашу не имели ни малейшего представления о том, как они работают. Немногие избранные народы, пользовавшиеся благами цивилизации шивов, получили от них также эликсир жизни; выпив его один раз, можно было продлить свою жизнь на две тысячи лет. Его разрешалось принимать всем. На Вашу рождалось мало детей, и население почти не росло. Неплохо, подумал я. Рассказы Шизалы я мог слушать часами, но наконец она остановила мои расспросы улыбкой: - Сначала поедим. Скоро подадут ужин. Пойдем. Вслед за Шизалой я вышел из комнаты и спустился в большой зал, где уже были расставлены столы, за которыми сидели, оживленно разговаривая, варнальцы, мужчины и женщины, все необыкновенно привлекательные. Когда Шизала вошла в зал, чтобы занять место во главе одного из столов, они все встали вежливо, если не сказать подобострастно. Она указала мне на место слева от себя. Пища выглядела непривычно, но пахла хорошо. Напротив меня, справа от Шизалы, сидел темноволосый молодой человек с крепкими мускулами. На запястье правой руки у него был простой золотой браслет, и онпоставил локоть на стол, как бы демонстрируя его всем. Очевидно, он очень гордился этим браслетом и хотел, чтобы я его непременно увидел. Я решил, что это просто какое-то украшение, и вскоре забыл о нем. Этот молодой человек был брадхинак - принц Телем Фас Огдай, как представила его Шизала. Мне показалось, что его имя не было карнальским, и вскоре выяснилось, что брадхинак Телем Фас Огдай был из Мишим Тепа, дружественной страны, находящейся в двух тысячах миль на юг. По-моему, он был остроумным собеседником, хотя я, конечно, не понял ни слова из того, что он говорил. Со мной мог общаться только человек с обручем на голове. Слева от меня сидел молодой человек с приятным лицом и длинными светлыми, почти белыми волосами. Он очень старался, чтобы я чувствовал себя как дома: предлагал мне еду и напитки и задавал мне много вопросов через Шизалу, которая их переводила. Это был Дарнад, младший брат Шизалы. Вероятно, наследником трона в Варнале был старший в роду, независимо от пола. Дарнад был главным пьюкан-нара в Варнале. Словом "пьюкан" называли воина, а "пьюкан-нара" был военачальником. Главный пьюкан-нара выбирался всем народом - и военным, и гражданским населением. Из этого я заключил, что положение свое Дарнад занимал благодаря уму и отваге. Хотя он был милым и общительным, только этим он не смог бы заслужить уважение карналов, ибо они судят о людях не по их внешности, а по поступкам. К концу обеда я уже понимал и пытался произнести некоторые слова языка Вашу. Мы перешли в другую комнату, чтобы выпить басу - сладкого напитка, который мне в общем-то понравился, хотя и не мог, как мне тогда показалось, сравниться с нашим старым добрым кофе. Но потом я понял, что басу надо только распробовать, и тогда он превратится в любимый напиток. Когда я к нему привык, он мне стал нравиться даже больше кофе. Несмотря на басу, который обычно, как и кофе, действует возбуждающе, после ужина мне сразу же захотелось спать, и Шизала, чуткая к настроению и желаниям гостей, это почувствовала. - Я велю приготовить тебе комнату, - мысленно сказала она мне. - Ты, наверное, хочешь отдохнуть. Надо признать, невероятные происшествия этого дня меня очень измотали. Шизала позвала слугу и вместе с нами поднялась на третий этаж дворца. В комнате, в которую мы вошли, горела тусклая лампа. Шизала показала мне звонок для вызова слуг. Он был очень похож на старинные звонки, которые можно еще увидеть на Земле. Прежде чем уйти, Шизала оставила свой обруч, пояснив, что им может пользоваться любой, и с его помощью слуги будут знать, если мне что-нибудь понадобится. Кроватью мне служила широкая жесткая скамья с тощим матрацем, на котором лежало большое меховое одеяло, слишком тяжелое для такого теплого дня. Для некоторых, возможно, такая кровать была бы удобной, но не для меня. Я уснул сразу, едва скинув с себя одежду, и проснулся только один раз за ночь (марсианская ночь, конечно, длиннее нашей, земной) от холода. Я и не подозревал, что температура так сильно меняется в пределах суток. Я натянул на себя одеяло и через минуту уже опять спал.III. Вторжение
Утром раздался легкий стук в дверь, и в комнату вошла служанка. Она принесла мне завтрак - фрукты и басу. Я уже проснулся и стоял у окна, разглядывая улицы и дома Варнала. Я был не одет и сначала немного смутился, но потом вспомнил, что здесь, наоборот, неестественным казалось носить много одежды, которой варнальцы пользовались исключительно как украшением. Смущение мое, однако, не проходило, так как женщина смотрела на меня с нескрываемым восхищением. Когда она ушла, я принялся за еду. Фрукты, которые принесла служанка, были похожи на грейпфруты, только они были больше и не такие горькие на вкус. Я уже заканчивал завтрак, когда в дверь снова постучали. - Войдите! - отозвался я по-английски, полагая что в данном случае сойдет и он, и оказался прав. Улыбаясь, в комнату вошла Шизала. Увидев ее снова, я понял, что она мне снилась всю ночь. Она была такой же прекрасной, какой я ее запомнил, а может, и еще прекрасней. Ее светлые волосы были убраны назад. Она была одета в черный прозрачный плащ, на талии был широкий пояс, за которым торчали короткий меч и кобура с пистолетом. Я решил, что она носила это оружие по этикету, как принцесса, так как не мог себе представить, чтобы такая милая девушка умела обращаться с предметами, являвшимися чисто мужскими атрибутами. На ногах у нее были надеты мягкие сандалии, зашнурованные до самых колен. Это была вся одежда, но ее было достаточно. Она снова надела на голову обруч, который носила накануне. - Я подумала, что тебе будет интересно проехать по городу и все посмотреть, - раздался в голове ее голос. - Хочешь, поедем? - Обязательно! - ответил я. - Конечно, если у тебя есть время. - Мне и самой хочется поехать, - тепло улыбнулась она мне. Я никак не мог решить, что означала эта улыбка: разделяла ли она мое мгновенно вспыхнувшее чувство, или она просто была вежливой и радушной хозяйкой. Этот вопрос не давал мне покоя. - Но сначала, - сказала она, - тебя нужно отвести к машине шивов, чтобы ты смог научиться общаться на нашем языке без помощи этих не очень удобных приспособлений. Пока мы шли, я спросил ее, кому пришло в голову создать машину, обучающую местному языку, если все народы Вашу говорят на очень похожих наречиях. Она ответила, что машина была сделана для визитов на другие планеты, но так и не была использована, потому что на других планетах Солнечной системы людей не оказалось. Мы с Шизалой спускались все ниже и ниже под землю, где одна над другой располагались множество подземных комнат; наконец, мы добрались до места, освещенного такой же тусклой лампой, что и моя спальня. Шизала сказала, что лампы также были придуманы шивами, и когда-то давно они горели намного ярче. Комната, куда мы попали, оказалась совсем маленькой, и в ней, кроме одного-единственного предмета, ничего не было; этим предметом был блестящий шкаф, сделанный из неизвестного мне сплава, с устроенным в нем сидением для человека. Я бы дорого дал за то, чтобы снять с этого аппарата корпус и покопаться внутри, но мне пришлось умерить свое любопытство. - Пожалуйста, сядь туда, - сказала Шизала, указывая на сидение в корпусе машины. - Насколько я знаю, аппарат начнет работать, как только ты займешь это место. Возможно, ты потеряешь сознание, но тебя это не должно беспокоить. Я сделал, как она сказала, и действительно, как только я сел, аппарат тихонько загудел. Сверху на голову опустилось что-то вроде колпака. Перед глазами все поплыло, и я потерял сознание. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я очнулся. Я все еще сидел в аппарате, но он уже не работал. Я с удивлением посмотрел на Шизалу. - Как ты себя чувствуешь? - спросила она. - Отлично, - ответил я, хотя у меня побаливала голова. Однако я обнаружил, что сказал вовсе не "отлично", a "vrazha" - сходное по значению слово марсианского языка. Я говорил по-марсиански! - Действует! - закричал я. - Что же эта за машина, которая может так быстро обучать языкам? - Не знаю, мы довольствуемся тем, что пользуемся изобретениями шивов. В далеком прошлом нас предупредили, чтобы мы не пытались копаться в их подарках, потому что это может навлечь на нас беду, какую пережила когда-то их могущественная цивилизация. Правда, мы знаем об этой беде только из легенд, а они твердят о сверхъестественных силах, в которые мы уже не верим. Я не стал больше расспрашивать, подчиняясь обычаю карналов не пытаться докопаться до принципа действия изобретений шивов, но мне было трудно контролировать мой инстинкт ученого, который, будь его воля, заставил бы меня разобраться в этой хитроумной машине; наверное, это был очень сложный компьютер с приспособлением для гипноза. К тому времени, как мы вышли из подземелий дворца и по ступеням спустились в город, моя головная боль прошла. У ворот нас ждали два странных зверя, размером с наших тяжеловозов - знаменитых английских лошадей, когда-то используемых рыцарями в сражениях. Но эти звери не были лошадьми. Казалось, у них были общие предки с человеком! Эти обезьяноподобные существа с широкими хвостами немного напоминали кенгуру: их задние ноги были длиннее передних. Они стояли оседланные на всех четырех лапах. Когда мы спустились вниз, они повернули к нам свои большие головы со спокойными умными мордами. Мне было трудно заставить себя забраться на спину предназначенной для меня дахары, так как эти животные еще не окончательно утратили сходство с людьми. Но оказавшись верхом, я перестал об этом думать. Спины дахар были шире, чем у лошадей, и сидеть верхом нужно было, вытягивая ноги вперед, где к упряжи были приделаны шпоры. У седла была спинка, чтобы спокойно откидываться назад; сидеть в этом устойчивом седле было удобно, как в спортивной машине. За поясом у меня было несколько пик, но я не имел ни малейшего представления об их назначении. Я обнаружил, что дахара мгновенно откликалась на малейшую мою команду. Мы с Шизалой проехали через рыночную площадь, вдоль по главной улице Варнала. Освещенный ярким желтым солнцем на безоблачном небе, город показался мне еще красивее, чем накануне. Я почувствовал, что мог бы провести в Варнале всю оставшуюся жизнь. Вот луч света упал на купол, и он ярко вспыхнул. А вот между изящной башенкой и величественным дворцом с колоннадой мелькнул небольшой белый домик. Люди спокойно шли по своим делам. На рынке царило оживление, но здесь не было шума и бестолковой суеты, как на рынках Земли. Во время нашей прогулки по улицам Варнала Шизала рассказала мне много интересного о своем народе и об их стране. Карналы всегда занимались в основном торговлей. По своему происхождению они не отличаются от других племен, обитающих по соседству. Их предки жили разбойничьими набегами, пока не решили осесть в понравившемся им краю. Однако и тогда они не стали заниматься земледелием, а продолжали путешествовать, на этот раз уже не как грабители, а как торговцы. Они разбогатели, успешно осуществив чрезвычайно опасные экспедиции в дальние страны, где продали произведенные на юге товары в обмен на драгоценные металлы севера. Карналы были также искусными художниками и музыкантами, но что было еще важнее для их торговли, они делали самые прекрасные книги на Вашу. Вместо более быстрых ротационных печатных машин, используемых на Земле, они применяли ручные печатные станки, которые, казалось, давали более четкую печать. Шизала провела меня к небольшому станку и показала, какие замечательные книги на нем делали. Я еще плохо разбирал буквы их похожего на санскрит алфавита, но уже стал узнавать, как выглядят некоторые слова, когда Шизала читала мне их из книги. Книги карналов пользовались огромной популярностью на Вашу и принесли заслуженное уважение всем, кто их создавал: печатникам, художникам, писателям. В Карналии процветали и другие ремесла, например, оружейное дело, также прославившее город. Оружейники действовали старыми методами, используя печи и наковальни, как и мастера на Земле, на той Земле, которая еще только будет. Начало развиваться земледелие, но частных хозяйств было мало. Карналы собирались все вместе, чтобы засеять большие площади зерна и потом также сообща собрать урожай. Они делали запасы на черный день, потому что знали, что в случае голода нации торговцев негде будет купить еду и она погибнет, если не обеспечит себя своим продовольствием. Бросалось в глаза отсутствие в городе каких-либо храмов или церквей. В ответ на мой вопрос Шизала объяснила, что в стране нет официальной религии, но если люди верят в какое-то высшее начало, то им лучше искать его не в словах других, а в собственной душе. Итак, церквей не было, зато было много школ, библиотек, поликлиник, клубов, гостиниц и всего такого, и никто в Варнале не чувствовал себя забытым, обиженным или несчастным. В политике карналы придерживались принципа вооруженного нейтралитета. Они были людьми сильными и готовыми к любому нападению. Кроме того, здесь еще действовал старинный военный устав, запрещавший нападать без заблаговременного предупреждения. - Правда, этого устава не придерживаются более дикие племена, но они для нас угрозы не представляют. Они, и еще синие великаны, - добавила Шизала. - А кто такие синие великаны? - спросил я. - Аргзуны. Это существа жестокие, не признающие ни уставов, ни голоса совести. Они живут далеко на севере и иногда совершают грабительские набеги в разные страны. Сюда они приходили только однажды - мы живем от них довольно далеко. Тогда отец со своей армией прогнал их… - Она опустила голову и крепче сжала поводья. - И не вернулся? - продолжил я, чувствуя, что должен что-то сказать. - Да. Она пришпорила дахару, и та поскакала быстрее. Я сделал то же самое, и вскоре мы уже неслись во весь опор сквозь нежную зеленую дымку по широким улицам в сторону золотистых гор вдали - Зовущих гор. Мы покинули город и скакали теперь между причудливыми деревьями, со всех сторон окликавшими нас. Через некоторое время Шизала придержала поводья, и я последовал ее примеру. Она повернулась ко мне с улыбкой. - Я вела себя, как своенравная девчонка. Надеюсь, ты мне это простишь. - Я тебе простил бы все что угодно, - вырвалось у меня. Она посмотрела на меня, и в ее взгляде было что-то, что я не мог разгадать. - Послушай, - начала она, - наверное, мне следует тебе сказать… И снова я действовал, повинуясь какому-то импульсу. - Не надо. Давай не будем ничего говорить, не будем перебивать деревья. Поедем молча и послушаем их. Она улыбнулась: - Хорошо. Мы продолжали нашу чудесную прогулку, и я вдруг подумал, как я собираюсь жить на Марсе. Я уже знал, что хотел бы остаться в райском городе Варнале, ибо по собственной воле я бы ни за что не покинул место, освященное присутствием такой красавицы, как та, что ехала сейчас рядом со мной. Но на какие средства я буду здесь жить? Как ученый я, наверное, мог бы оказаться полезным для карналов. Мне очень понравилась мысль о том, чтобы предложить Шизале назначить меня главным придворным советником по науке. Это позволило бы мне приносить пользу ее народу и в то же время быть рядом и часто с ней видеться. Конечно, это были лишь мечты. А вдруг обычаи этой страны вообще не позволят мне сделать Шизале предложение? Вдруг сама Шизала не захочет даже смотреть на меня? И в самом деле, зачем я ей нужен? Хотя она не спрашивала, кто я такой и как попал на ее планету, она вполне могла решить, что я помешанный. Во время прогулки я много думал об этом. Наконец мы решили, что пора возвращаться во дворец, и я повернул дахару назад с большой неохотой. Принц Телем Фас Огдай, гость карналов из страны Мишим Теп, ждал нас на ступенях дворца. Он стоял, широко расставив ноги и держа руку на рукоятке длинного меча с широким лезвием. На нем был надет тяжелый темный плащ, на ногах - мягкие сапоги. Он был рассержен и с трудом сдерживал себя. Дважды за то время, пока я спешился и пошел по ступеням ему навстречу, он снимал руку с эфеса меча и показывал на золотой браслет у себя на запястье. На меня он ни разу не посмотрел, но бросил сердитый взгляд на Шизалу и, повернувшись к нам обоим спиной, быстро зашагал вверх по ступеням во дворец. Шизала посмотрела на меня как бы оправдываясь: - Извини, Майкл Кейн, но мне нужно поговорить с брадхинаком. Не сердись. Обед ты найдешь в зале. - Конечно, - поклонился я. - Надеюсь, позднее мы еще увидимся. Она улыбнулась как-то неуверенно и заспешила вслед за брадхинаком. Дипломатические проблемы, решил я. Видно, принц здесь не только как гость, но и по делам, как представитель своей страны. Возможно, силы карналов были подорваны в сражениях и, в частности, в последней экспедиции, стоившей им короля. Возможно, им приходилось полагаться на более сильных союзников, пока их армия снова не окрепнет. И возможно, Мишим Теп и был одной из стран-союзниц. Все эти предположения были вполне вероятны, и, как выяснилось впоследствии, во многом я был прав. Я вошел в большой зал. Там был накрыт стол - холодное мясо, фрукты, непременный басу, много всего сладкого. Я пробовал всего понемножку, и почти все мне понравилось. Во время еды я поболтал с мужчинами и женщинами, собравшимися за столом. Очевидно, им всем хотелось узнать, кто я такой, но они были слишком вежливы, чтобы задавать много прямых вопросов, на которые, к тому же, в тот момент я был вовсе не расположен отвечать. Я только взял в рот особенно вкусный кусок мяса, завернутый в зеленый лист чего-то типа салата, как вдруг услышал странный звук. Я не был уверен, что это было, но прислушался, чтобы не пропустить, если он повторится. Придворные замолчали и тоже стали прислушиваться. Звук раздался снова. Это был сдавленный крик. Придворные в ужасе переглянулись, но не сделали ни единого движения в ту сторону, откуда он раздавался. Когда я услышал этот звук в третий раз, я узнал его. Это был голос Шизалы! Хотя у всех дверей зала стояли стражники, ни один из них не пошевелился, чтобы ей помочь. В отчаянии я обвел глазами придворных. - Это же голос вашей брадхинаки! Почему вы ей не поможете? Где она? Один из придворных, выглядевший очень расстроенным, показал рукой на дверь. - Она там. Но мы не можем войти, пока она нас не позовет. Понимаете, дело очень деликатное, оно касается брадхинака Телем Фас Огдая… - Вы хотите сказать, она кричит, потому что это ОН причиняет ей боль? Я этого не допущу! Я думал, вы люди решительные, а вы сидите тут, как… - Я же сказал, дело деликатное. Мы очень переживаем… Но этикет… - К черту этикет, - сказал я по-английски. - Не время соблюдать приличия, Шизала может быть в опасности. С этими словами я направился к двери, на которую мне показали. Она сказалась незапертой, и я ее распахнул. Телем Фас Огдай крепко сжимал запястье Шизалы, она пыталась вырваться. Он говорил ей что-то тихим, твердым голосом. Когда она меня увидела, она вскрикнула. - Нет, Майкл Кейн, уходи! Из-за этого всем будет хуже! - Я уйду, только когда буду знать, что эта скотина больше не мучает тебя, - сказал я, бросая на брадхинака свирепый взгляд. Он нахмурился, потом злобно усмехнулся, обнажив зубы. Он все еще держал ее за запястье! - Пусти ее! - сказал я с угрозой, сделав шаг в его сторону. - Нет, Майкл Кейн! - сказала она. - Телем Фас Огдай не желает мне зла. Мы просто спорим, вот и все. Но я уже положил руку принцу на плечо и слегка сжал пальцы. - Отпусти ее! - приказал я. Ему пришлось подчиниться, но в тот момент, когда он отпустил руки Шизалы, он со всей силы ударил меня кулаком по голове. Перед глазами у меня все поплыло. Ах вот оно что! Ярость придала мне силы. От моего удара в грудь он покачнулся, а последовавший затем удар в челюсть сбил его с ног. Он поднялся и попытался броситься на меня. Пришлось ударить его еще раз. Он упал и больше не пытался вставать. - Что ты наделал, Майкл Кейн! - закричала Шизала. - Я наказал животное, жестоко обращавшееся с прекрасной девушкой, - сказал я, потирая кулаки. - Мне очень жаль, что все так получилось, но он этого заслуживал. - Иногда он бывает в плохом настроении, но вообще он человек незлой. Я понимаю, ты хотел как лучше, Майкл Кейн, но ты все испортил. Теперь мне придется плохо. - Если он здесь по делам дипломатическим, ему придется вести себя как дипломату, с достоинством, - возразил я Шизале. - Дипломат? Нет, он не дипломат из Мишим Тепа. Он мой жених. Ты что, не видел браслета у него на запястье? - Браслета? Ах вот что это такое! Твой жених! Но… но этого не может быть! Как же ты согласилась выйти за такого человека замуж? - С ужасом я подумал: "Она никогда не будет моей!" Но я не мог с этим смириться: - Ты же не любишь его! Она нахмурилась, и я вздрогнул от мысли, что обидел ее. Но она овладела собой и дернула за шнурок звонка. - Ты ведешь себя не так, как следует чужестранцу и гостю, - сказала Шизала холодно. - Ты вмешиваешься в то, что тебя не касается. - Прости, я не должен был этого делать, мне следует сдерживать свои порывы. Но понимаешь… Тем же бесстрастным голосом она перебила: - Мой отец хотел, чтобы, когда он умрет и я займу престол, я вышла замуж за сына его давнего союзника. Это нужно для безопасности карналов. Я уважаю желания отца и сделаю, как он хотел. С твоей стороны довольно бесцеремонно и самонадеянно вмешиваться в мои отношения с брадхинаком из страны Мишим Теп. Передо мной была Шизала, которую я не знал - будущая королева. Я, должно быть, очень сильно ее обидел; раньше я не видел ее такой и не слышал от нее такого тона. - Прости, прошу тебя. - Я принимаю твои извинения. Ты никогда больше не будешь вмешиваться в наши отношения. А сейчас, пожалуйста, уйди. Я повернулся и вышел из комнаты. В каком-то оцепенении я прошел через зал, спустился по ступеням дворца и увидел, что слуга собирается расседлать дахару, на которой я ездил до обеда. Я что-то буркнул слуге, вскочив на спину дахара и, дернув за поводья, послал ее галопом по главной улице к воротам, ведущим из города. На время мне нужно было покинуть Варнал, нужно было побыть одному, чтобы разобраться в своих мыслях и попытаться успокоиться. Шизала была обручена. Девушка, которую я полюбил с того самого момента, как увидел ее, была обручена! Эта мысль была невыносима! Сердце бешено стучало, в мыслях был хаос, все мое существо изнывало от невыносимой душевной боли. Не разбирая дороги, я гнал дахару из города, мимо Зеленого озера, в лес на Зовущих горах. О Шизала, Шизала! Ты могла бы сделать меня таким счастливым! Я чувствовал: еще чуть-чуть, и я расплачусь. Я, Майкл Кейн, который всегда гордился своим самообладанием. Прошло какое-то время, прежде чем мне удалось овладеть собой. Я замедлил бешеный галоп дахары. Не знаю, сколько я проехал, наверное, много миль. Я был в незнакомом месте и ничего не узнавал вокруг. Вот тогда я и заметил какое-то движение на севере. Сначала я подумал, что смотрю на стадо зверей, движущихся мне навстречу, но, заслонив глаза от солнца, разглядел, что это были всадники, скачущие на животных, похожих на мою дахару. Много всадников. Целая орда! Не зная марсианскую географию и политику, что в данном случае было важнее, я не мог решить, представляет это войско угрозу или нет. Со спины своей дахары я наблюдал, как всадники с невероятной скоростью приближались. Даже на таком значительном расстоянии я чувствовал, как содрогается земля под копытами гигантских животных. Когда они немного приблизились, что-то в их облике показалось мне странным. Я продолжал их рассматривать; думаю, они еще не видели мою одинокую фигуру, сами же были как на ладони. И тут я все понял. Было что-то не так с масштабом. Сравнивая средний рост человека верхом со средними размерами деревьев и кустарников, я понял, что всадники и звери, на которых они ехали, были великанами: их дахары были по меньшей мере в два раза крупнее моей, а люди были не ниже восьми футов! Я быстро перебрал в памяти все варианты, но возможным представлялся только один. Это было вторжение! И более того, я знал нападавших. Ими могли быть только те жестокие разбойники с севера, о которых говорила Шизала. Синие великаны! Аргзуны! Почему же город ничего не знал о приближении врага? Каким образом смогли они так далеко зайти, оставаясь незамеченными? Эти вопросы сразу же возникли в моей голове, едва я узнал врагов, но я их отбросил. От них сейчас не было никакого толка. Важно было лишь то, что туча всадников - не меньше тысячи - сейчас, обгоняя ветер, неслась к Варналу. Я забыл свое горе. Все прежние переживания вытеснила мысль об опасности. Я должен предупредить горожан, чтобы у них было хоть чуть-чуть времени. Я повернул свою быструю дахару обратно в город, проверив по солнцу направление движения. Я не принял в расчет разведчиков аргзунов. В то время, как я наблюдал за основным войском, меня заметили высланные вперед лазутчики. Пригнувшись, чтобы проехать под низкими ветками деревьев, я услышал, как кто-то фыркнул и хрипло расхохотался. Надо мной навис гигантский всадник на своем огромном звере. В одной руке он держал невероятных размеров меч, а в другой - дубинку. Я был безоружен, если не считать тонкие пики, все еще торчавшие у меня за поясом.IV. Штурм
Мой мозг лихорадочно заработал. На какое-то мгновение я оцепенел, глядя в глаза существа, представлявшегося мне таким же невероятным, как единорог или крылатый конь. У него была темная, отливавшая синим кожа. Как и варнальцы, он не носил того, что можно было бы назвать одеждой. Его тело было покрыто кожаными доспехами; голову, на которой не было видно волос, защищал такой же кожаный шлем, но с металлическими пластинками, а запястья - плотно прилегавшие кожаные браслеты с прикрепленным к ним оружием. У страшного существа было широкое, чуть сужающееся к подбородку лицо с глазами-щелочками. Огромная безобразная пасть сейчас была открыта в предвкушении скорой победы. Обнажился неровный ряд редких черных зубов. Из-под шлема торчали большие уши. Пальцы были покрыты - усыпаны! - перстнями с грубо отделанными драгоценными камнями. По всему телу играли крепкие мускулы. Его дахара не была похожа на мирное и безобидное животное, на котором ехал я. Она казалась такой же свирепой, как и ее всадник, когда так нетерпеливо топтала нежный зеленый мох полянки. На ее теле также были кожаные доспехи, а на голове - покрытый шипами шлем. Аргзун прорычал что-то невнятное, хотя было очевидно, что он говорил на том языке, который я уже неплохо понимал. Потянувшись за прикрепленными к поясу пиками, я и не надеялся на успех. Просто я подумал - с изрядной долей фатализма, - что если мне суждено умереть, то сделаю я это с оружием в руках. Аргзунский воин захохотал, явно издеваясь надо мной, и махнул мечом, одновременно пришпорив дахару, чтобы послать ее вперед. Тут меня спасла моя реакция. В мгновение ока одним движением я выхватил пику и сразу же швырнул ее прямо в лицо великану. Увидев это, он злобно зарычал, но с быстротой, невероятной в таком грузном человеке, отбил мою пику мечом. К тому времени у меня в руке была уже вторая пика. Моя дахара заметно нервничала, видя, как великан стремительно приближался, размахивая мечом. Я пригнулся, и вовремя - меч прошел в дюйме от моей головы. Великан разогнался так, что пронесся мимо, и когда он пытался придержать свою дахару, которая была гораздо хуже обучена, чем моя, я развернулся и метнул в него еще одну пику. Она попала ему в руку. Великан вскрикнул от боли и ярости, и когда он на этот раз направил на меня свою дахару, она, казалось, не бежала, а летела по воздуху. У меня оставались только две пики. Одну из них я кинул, когда он подскакал ко мне, размахивая перед собой мечом так же, как это делали всадники на Земле. Я промахнулся. Что ж, по крайней мере, он был ранен в руку, державшую дубинку, и мог теперь орудовать только мечом. Великан замахнулся - не увернуться! Но что делать? Считанные секунды, чтобы спастись! Схватив оставшуюся пику, я спрыгнул с дахары и коснулся земли как раз в тот момент, когда его меч рассек воздух в том месте, где я только что был. Несмотря на боль от ушибов, я вскочил, все еще сжимая в руке последнюю пику. Нужно было пользоваться ею наверняка, иначе - смерть. В ожидании его возвращения я согнулся, приняв устойчивую позу. Мой противник хрипло бранился, пытаясь развернуть непокорную дахару. Увидев меня, он приостановился, и его грудь под доспехами затряслась: он разразился своим диким животным смехом, откинув назад голову. Это было его ошибкой. Благодаря провидение, я швырнул пику, вложив в это движение всю силу и все умение, и попал в шею, на миг оказавшуюся незащищенной. Пика вошла в тело на несколько дюймов, и какую-то секунду из смертельной раны в горле еще раздавался смех. Он перешел потом в сдавленный хрип, после чего гигантское чудовище вздохнуло в последний раз и замертво рухнуло на землю. Освободившись от седока, дахара поскакала в глубь леса. Я едва дышал и никак не мог прийти в себя, но я был жив, и к тому же невредим, хотя должен был уже лежать мертвым. Я благодарил небо за ниспосланную мне удачу. Да, я приготовился было к смерти. Я никак не рассчитывал на глупость врага. Настолько уверенного в победе, что он не заметил, как открыл для смертельного удара место, которое только и можно было поразить тем оружием, что у меня было. И вот эта громадина лежала у моих ног, растянувшись во весь рост. Меч и дубинка все еще были пристегнуты к кожаным браслетам на запястьях. От тела исходил резкий противный запах, еще не смерти, а просто грязи. Щелочки глаз были открыты, на губах застыла насмешка, но это была насмешка мертвеца. Я посмотрел на меч. Конечно, он был очень большим, под стать его огромному владельцу. Но для великана оружие было явно коротко - всего пяти футов в длину. Я нагнулся, отцепил меч от руки гиганта, и недоверчиво поднял. Да, он был длинный, очень тяжелый, но хорошо сбалансированный. Разумеется, я не смог бы действовать им одной рукой, как аргзун, но двумя руками, думаю, вполне бы управился. Рукоятка была вполне подходящей. Я взвесил меч в руках, чувствуя себя все более уверенно и благословляя в душе месье Кларше, своего старого учителя фехтования, научившего меня приспосабливаться к любому оружию, каким бы странным и неудобным оно ни казалось. Держа меч за рукоятку, я сел на дахару и положил клинок на колени; сидеть верхом, откинувшись на спинку и вытянув вперед ноги, все еще было для меня непривычным. Путь был долгим, а мне надо было торопиться - особенно теперь, - чтобы предупредить город о неминуемом штурме. Однако прошла целая вечность, пока я ехал по горам и спускался в долину, и за это время мне суждено было еще раз повстречаться с одним из аргзунов; он выехал ко мне откуда-то справа, когда я преодолевал последнюю гору на пути в Варнал. Этот не смеялся. Он вообще не проронил ни звука, когда приближался ко мне. Очевидно, он не хотел привлекать внимания тех, кто мог оказаться рядом, ведь до города было уже близко. Дубинки у него не было, только меч. Его первый удар я встретил своим недавно приобретенным оружием. Он с удивлением уставился на мой меч, очевидно, узнав его и соображая, как он мог ко мне попасть. Его удивление было мне на руку. Для своих размеров аргзуны двигались очень быстро, но вот загвоздка - соображали они медленно, это было для меня ясно. Таращась на мой меч, он уже заносил руку для следующего удара. На этот раз я не стал прыгать, чтобы защититься. Я ударил его туда, где должно было быть сердце, молясь в душе, чтобы доспехи оказались не очень крепкими. Не так быстро, как я рассчитывал, но меч пробил кожу доспехов и, задев кость, вошел в тело. В этот момент его рука с мечом дернулась, и он поцарапал мое правое предплечье. Рана была неопасной, но я мгновенно почувствовал острую боль. Меч выпал из его неверных пальцев и повис на цепи, прикреплявшей его к браслету на запястье. Он все еще сидел в седле, в оцепенении раскачиваясь из стороны в сторону и не сводя с меня глаз. Рана была глубокой, хотя и не смертельной. Тут он начал сползать с седла, и я попытался поддержать его, что было очень трудно, учитывая его вес и мою рану, но все-таки я смог предотвратить падение. Я осмотрел рану: благодаря кожаным доспехам лезвие прошло чуть ниже сердца. Каким-то образом мне удалось спешиться, снять его с седла и положить на мох. Он заговорил. Казалось, он был озадачен. - Что… - сказал он с сильным неприятным акцентом. - Я спешу. Слушай, кровотечение я остановил. Похоже, рана несмертельная. Пусть теперь о тебе позаботятся твои друзья. - И ты не… не убьешь меня? - Не в моих правилах убивать, если меня к этому не вынуждают. - Но я же проиграл. Аргзуны замучают меня до смерти, если узнают. Убей меня, победитель! - Я же сказал, это не в моих правилах, - повторил я. - Тогда… - он с усилием потянулся к поясу, где у него был нож. Я оттолкнул его лапищу, и, совершенно обессиленный, он опять повалился на мох. - Я помогу тебе устроиться в кустах. - Я показал на густые заросли неподалеку. - Там ты сможешь спрятаться, и они тебя не найдут. Я понял, что проявлял к нему больше милосердия, чем он мог ожидать от варнальцев. К тому же, помогая ему, я задерживался еще больше. Но человек есть человек, подумал я, и он не может сделать то, что противоречит его правилам и принципам. Если у него есть принципы, он должен им подчиняться. Когда он их нарушает, все пропало, ибо даже если он забывает их всего на одну минуту, - это начало конца. Потом он будет пытаться скорректировать свои взгляды, оправдывая каждую уступку, до тех пор, пока совсем не перестанет быть человеком. Поэтому я и помогал этому странному существу, которое победил. Я должен был сделать то немногое, что от меня требовалось. Как я ему сказал, поступить иначе было не в моих правилах. Следование своим принципам может показаться старомодным, даже совершенно неуместным в наш современный век, когда истинными ценностями пренебрегают, но хотя я понимаю, что многие мои современники назовут меня ограниченным или даже не от мира сего, тогда, в той мирной долине на древнем Марсе, так же как и сейчас на Земле, я исповедовал определенные принципы, верил в определенные правила, - называйте это, как хотите, - и я знал, что не могу их нарушить. Как только я помог великану спрятаться и прогнал его дахару, я вскочил на свою и направил ее галопом в город. Через несколько минут я достиг ворот города и бешено пронесся по улицам, выкрикивая слова предупреждения: - Нападение! Войско аргзунов! Люди сначала смотрели на меня с недоверием, но потом, видимо, узнавали меч. Ворота города закрыли. Я домчался до дворца, спрыгнул с дахары и, изнемогая от боли, усталости и тяжести меча, который должен был подтвердить мои слова, побежал вверх по ступеням. Шизала вбежала в главный зал. Она была немного растрепана, и ее лицо еще хранило следы недавнего гнева. - В чем дело? Майкл Кейн, что означает весь этот шум? - Аргзуны! - выдохнул я. - Синие великаны… ваши враги… на город идет их войско! Целая туча! - Невозможно! Почему нас не предупредили? На каждой горе у нас есть посты, которые с помощью зеркал извещают нас об опасности. Они должны были нас предупредить. Хотя… Она задумчиво нахмурилась. - Что хотя? - спросил я. - Уже какое-то время с постов не поступало никаких известий. Возможно, они разрушены коварными аргзунами. - Если они уже сюда однажды приходили, они должны были знать о постах. - Но откуда у них взялось войско? Мы-то думали, что они разгромлены и не смогут оправиться от поражения по меньшей мере лет десять. Отец и его армия, вместе с союзниками, изрядно их потрепали. Отец как раз был во главе войск, преследовавших тех, кто остался в живых после битвы. - Наверное, армия, разгромленная твоим отцом, была только частью войска аргзунов, - предположил я. - Может быть, у синих великанов есть целый последовательный план ослабить вас неожиданными мелкими набегами, и эта атака - одна из многих, которые они собираются предпринять. - Ну что же, если у них действительно такой план, - вздохнула Шизала, пожав плечами, - то нужно признать, что он довольно-таки удачен, так как мы и в самом деле не готовы к битве. - Сейчас не время заниматься самобичеванием, - сказал я. - Где твой брат Дарнад? Как главный пьюкан-нара Варнала, он должен заниматься подготовкой к обороне города. А где другие отряды войска карналов? - Охраняют границы и сдерживают грабительские набеги бандитов. Наша армия разбросана по стране, но даже если собрать ее в Варнале, она все равно будет слишком малочисленной, чтобы противостоять орде аргзунов. - Трудно объяснить то, что вас никто не предупредил. Почему не было хотя бы какого-нибудь беглеца из другого города, уже атакованного аргзунами? Как смогли они пробраться так далеко на юг, и вы ничего об этом не знали? - Даже не могу себе представить! Как ты говоришь, они могли готовиться к вторжению годами. Должно быть, у них были шпионы не только среди аргзунов, которые путешествовали переодетыми, маленькими группами, по ночам, и собирались в каком-нибудь условленном месте, чтобы передать то, что они узнали. И вот теперь на нас мчится целая туча аргзунов, и никто из наших союзников не знает, что нам нужна помощь. - Стена города должна выдержать самый серьезный штурм, - заметил я. - Ты говоришь, у вас есть еще самолеты, значит, можно стрелять в аргзунов с воздуха, используя оружие шивов. Это большое преимущество. - Наши три самолета вряд ли помогут против такого полчища, - возразила Шизала. - Тогда нужно послать один из них к ближайшим союзникам. Пошли своего… своего… - Я запнулся, вспомнив, почему я оказался за городом. - Пошли брадхинака из Мишим Тепа за помощью к его отцу. Ищи помощи и у других, пусть и менее сильных, союзников. Она задумчиво нахмурилась, посмотрела на меня странным удивленным взглядом и сжала губы. - Я сделаю, как ты предлагаешь, - сказала она наконец. - Но даже в лучшем случае нашему самолету потребуется несколько дней, чтобы попасть в Мишим Теп, а их армия будет добираться сюда еще дольше. Как мы будем сдерживать такую долгую осаду? - Но мы должны оказать сопротивление и продержаться - ради Варнала и ради безопасности ваших соседей, - сказал я. - Если аргзуны завоюют карналов, их будет не остановить. Мы не можем отдать им Варнал, иначе погибнет вся ваша цивилизация. - Похоже, ты лучше меня понимаешь, что поставлено на карту, - слегка улыбнулась Шизала. - А ведь ты здесь совсем недавно. - Войны везде одинаковы, - сказал я тихо, думая о том, что мне пришлось испытать в жизни. - Всегда нужно помнить о главном - о целях, о стратегии. Я уже имел дело с двумя синими великанами. Не хотел бы я, чтобы они здесь хозяйничали. Я не стал добавлять, что боялся не только за город, но и за жизнь Шизалы. Как ни старался, я не мог забыть, какое чувство я к ней испытывал. Я знал, что она обручена и что бы я или она ни чувствовали, из этого не могло бы ничего получиться. Видимо, ее принципы были так же тверды, как и мои, и так же нерушимы. Мы посмотрели друг на друга долгим взглядом, в котором было все: боль, понимание, решимость. Неужели я ей небезразличен? В любом случае я не должен был об этом думать. Сейчас нужно было защищать Варнал. - У вас найдется для меня более подходящее оружие, чем это? - спросил я, указывая на меч аргзунов. - Конечно. Я позову стражника, он отведет тебя в оружейную комнату, где ты сможешь выбрать оружие, которое тебе подходит. По ее команде появился стражник, которому она приказала отвести меня в оружейную комнату. Он повел меня вниз по лестнице глубоко в подземелье, где я еще не был. Наконец он остановился перед двумя огромными, обитыми железом дверями и закричал: - Стражник десятого поста! Идет ино-пьюкан Хара с гостем брадхинаки! Открывай! - Ино-пьюкан, как я уже знал, был воином в чине нашего сержанта. Двери медленно открылись, и я вошел в длинный зал, освещенный тусклым голубым светом. Впустивший нас стражник был стариком с длинной бородой. За его поясом торчали два пистолета, другого оружия у него не было. Он посмотрел на меня вопросительно. Ино-пьюкан сказал: - Брадхинака хочет, чтобы ее гость выбрал себе то оружие, которое он только пожелает. Аргзуны надвигаются! - Снова? Я думал, с ними покончено. - Да нет, - грустно сказал ино-пьюкан. - Наш гость говорит, что они уже почти у стен города. - Значит, брадхи зря пролил свою кровь - нам суждено быть побежденными! - В голосе старика не было никакой надежды. Он безучастно смотрел, как я ходил по залу, восхищаясь прекрасным выбором оружия. - Мы же еще не разбиты! - напомнил я ему, не отрывая глаз от великолепных мечей. Я брал в руки один за другим, проверяя их на вес, длину и устойчивость. Наконец я выбрал себе меч - длинный, довольно тонкий, как сабля, с лезвием таким же длинным, как у меча, отобранного у аргзуна. Он был очень хорошо сбалансирован. Эфес был удобным и привычным, как у мечей на Земле, его крестовина проходила между средним и безымянным пальцами. Кому-то может показаться, что так держать меч было неудобно, но на самом деле это был очень надежный захват, так как в этом случае меч было трудно выбить. Я нашел себе широкий пояс с кожаной петлей для меча. В Варнале холодное оружие носили с обнаженным лезвием, а не в ножнах - обычай, сохранившийся, как я думал, с давних, более тревожных времен. В оружейной комнате были также пистолеты, механико-пневматические. Я взял один и повернулся к смотрителю оружия. - Такими пистолетами часто пользуются? - спросил я. - Иногда берут, - он взял пистолет из моих рук и показал, как его заряжать. В магазине были стальные патроны, которые попадали в казенник под действием сжатого воздуха. После выстрела специальная пружина вновь сжимала воздух и пистолет был готов для следующего выстрела. Прекрасная работа, но точность стрельбы оставляла желать лучшего: отдача была настолько сильной, что для того, чтобы поразить цель, она должна была находиться очень близко. На моем поясе была еще одна кожаная петля, и я засунул туда один из этих пневматических пистолетов. Вооруженный таким образом, с мечом и пистолетом за поясом, я чувствовал себя увереннее и горел желанием присоединиться к Шизале, чтобы посмотреть, как шла подготовка к обороне города. Поблагодарив старика, я стал подниматься из подземелий наверх в сопровождении ино-пьюкана. Шизалы в зале не было, но другой стражник провел меня вверх по бесконечной лестнице, становившейся все уже и уже, пока мы не оказались в комнате одной из круглых башен главного здания дворца. Стражник постучал. Голос Шизалы пригласил нас войти. Шизала стояла в комнате с Телем Фас Огдаем и братом - брадхинаком Дарнадом. Дарнад улыбнулся мне, как бы приглашая к ним присоединиться, взгляд Шизалы был просто вежливым, а Телем Фас Огдай вообще едва повернул голову в мою сторону, и от его натянутой улыбки на меня повеяло холодом - он, очевидно, не забыл, при каких обстоятельствах мы с ним сегодня виделись. Я его за это не винил, но и с собой тоже ничего не мог поделать: очень уж он мне не нравился. И все же в тот тяжелый для Варнала момент я постарался забыть о том, какие чувства он во мне вызывал, хотя мне это удалось с большим трудом. Дарнад разложил карту. Способ, которым она была выполнена, показался мне непривычным: значки, обозначавшиелеса, города и другие объекты, были не такими, как на наших картах. Но по крайней мере я получил представление о том, как расселялись народы на этой гигантской планете, где находился Мишим Теп и другие наши союзники. Я даже смог показать, где видел аргзунов и с какой скоростью они наступали. - У нас почти не осталось времени, - задумчиво произнес Дарнад, проводя рукой по длинным светлым волосам. Другая рука сжимала рукоятку меча. Он казался совсем мальчишкой - не старше семнадцати лет, - мальчишкой, играющим в солдатики. Но присмотревшись, я увидел в его глазах ответственность, а в поведении - уверенность и отсутствие рисовки. Он начал быстро говорить, предлагая, в каких местах городской стены в первую очередь поставить людей. И что еще нужно обязательно сделать, чтобы обеспечить надежную защиту. Имея некоторый опыт участия в войне, я дал ему несколько советов, которые он нашел полезными. Он смотрел на меня почти с восхищением, и мне было приятно, что он ценит мое мнение, так как он принимал правильные решения и я был рад ему помочь. Его мужество и способность хладнокровно оценивать сложную ситуацию делали его в моих глазах идеальным военачальником. Сражаясь бок о бок с ним, я чувствовал бы себя гораздо увереннее, если не сказать больше. По-своему это было даже удовольствием. Шизала повернулась к Телем Фас Огдаю: - Ну вот, Телем, ты сам видишь, что мы хотим предпринять, и понимаешь, какие у нас шансы удержать аргзунов. Самолет в ангаре. К счастью, его мотор подготовлен, потому что мы собирались показать его нашему гостю. Отправляйся в дорогу, пусть все союзники пришлют нам подкрепление. Скажи им, что если падет Варнал, то им будет не так-то просто справиться с аргзунами. Телем слегка склонил голову, пристально посмотрел в глаза Шизале, потом скользнул по мне взглядом и вышел. Мы вернулись к карте. С балкона башни перед нами был как на ладони весь прекрасный город и окружающая его долина. Через некоторое время мы вынесли карту на балкон. Мы готовились к чему-то неизбежному. - Телем отправляется в путь, - сказал Дарнад. Я по-другому представлял себе карнальский самолет, поэтому представший моим глазам предмет меня поразил. Он был сделан из металла, но поднялся и поплыл по воздуху, как старинный воздушный корабль - медленно, величественно. Вдоль всего овального корпуса располагались иллюминаторы. Он был весь разрисован изображениями диковинных зверей и непонятными знаками и блестел на солнце, как начищенное золото. Казалось, что он взмыл в воздух вопреки всем законам притяжения и начал двигаться к югу, по-моему, довольно быстро, но с какими-то непостижимыми размеренностью и величием, совершенно отсутствующими в движении земных самолетов. Он еще не успел скрыться из вида, как Дарнад закричал: - Смотрите! - и показал на северо-восток. - Аргзуны! - воскликнула Шизала. Орда великанов приближалась. Мы четко видели первый отряд, и хотя расстояние было очень большим и они представлялись не более чем стайкой муравьев, уже в том, как с каждой секундой они приближались, мы все почувствовали реальную угрозу. - Ты не преувеличивал, Майкл Кейн, - тихо сказал Дарнад. Я видел, как побелели костяшки его пальцев, сжимавших рукоять меча. В воздухе было еще довольно тихо, но вдали уже стали раздаваться воинственные крики аргзунов. Пока что мы их едва слышали, но имея некоторый опыт "общения" с синими великанами, я мог себе представить, каким грохотом сопровождалось приближение полчища. Дарнад зашел в комнату и потом вернулся на балкон с каким-то приспособлением, напоминавшим мегафон. Он перегнулся через перила, вглядываясь в группу солдат, стоявших наготове во дворе. Он приложил мегафон к губам и закричал солдатам: - Командиры отрядов, защищающих стену, - на свои посты! Аргзуны приближаются! - И он дал им более конкретные команды на основе того, что мы только что обсудили. Когда командиры отправились к своим отрядам расставлять людей по местам, мы снова стали следить за врагами, не в силах оторвать от них глаз. Быстро - слишком быстро - они начали приближаться к стенам города. Мы видели, как занимали свои посты наши воины. Они стояли неподвижно, ожидая первую атаку. Их было мало, слишком мало!V. Отчаянный план
Нас было мало, но мы были готовы к штурму. Весь город содрогнулся от стремительного натиска аргзунов. Воздух разрывали их торжествующие крики, пахло потом и дымом от зажигательных бомб, выпущенных из катапульт. То здесь, то там в городе вспыхивало пламя, но женщины и дети храбро с ним сражались. Со всех сторон раздавались стоны умирающих, боевые вопли аргзунов, скрежет металла, свист пуль - шариков из горящей смолы, пролетавших над стеной и падавших на улицы и крыши домов. Шизала и я все еще стояли на балконе, но я уже в нетерпении рвался присоединиться к храбрым защитникам города. Дарнад ушел, чтобы возглавить своих воинов. Я повернулся к Шизале, невольно взволнованный ее близостью. - А где остальные самолеты? - Мы держим их в резерве, - ответила она. - Будет лучше использовать их позднее и застать аргзунов врасплох. - Понимаю, - сказал я. - Но что могу сделать я? Как мне вам помочь? - Помочь? Но ты же гость, тебе не следует беспокоиться о наших проблемах. Я не подумала, нужно было отправить тебя прочь из города с Телем Фас Огдаем. - Я не из пугливых, к тому же хорошо владею мечом, - напомнил я. - Ты и твой народ оказали мне радушный прием, и я сочту за честь сражаться за тебя! Она улыбнулась. - Ты благородный человек, Майкл Кейн. И хотя я не знаю, как ты оказался на Вашу, наверное, хорошо, что ты здесь. Иди, Дарнад скажет тебе, чем ты можешь нам помочь. Я быстро поклонился и поспешил вниз по ступеням башни. В большом зале царило смятение, во все стороны сновали придворные. Я протиснулся через их толпу и спросил у стражника, где можно найти брадхинака Дарнада. - Я слышал, что самое слабое место - восточная стена. Наверное, он там. Я поблагодарил воина и направился к восточной стене. Большие здания города, построенные из камня, не пострадали от зажигательных бомб, пущенных с аргзунских катапульт, но то там, то здесь вспыхивали связки сухого хвороста или соломенные крыши маленьких домишек, и у насосов, качавших воду, выбиваясь из сил, работали женщины и дети, тушившие огонь. Глаза слезились, я задыхался от густого дыма, голова разрывалась от окружавших меня криков и плача. А снаружи, у стен города неистовствовала орда синих великанов! Непобедимая сила? Наконец сквозь дым я увидел около стены Дарнада. Он о чем-то говорил с двумя воинами, очевидно, указывавшими на слабые участки стены. Он задумчиво хмурился, сжимая губы. - Чем я могу помочь? - спросил я, хлопнув его по плечу. Он устало посмотрел на меня. - Не знаю, Майкл Кейн. Разве что колдовством доставишь сюда еще с полмиллиона воинов? - Этого я не могу сделать, - ответил я, - но могу действовать мечом. Он задумался. Конечно, он не был во мне уверен, и я не мог на него за это обижаться. Он имел право сомневаться в человеке, которого не видел в действии. Вдруг со стены раздался торжествующий крик - крик, который не мог исходить из горла карнала. Это был один из тех уверенных победных криков, которые я уже слышал. Все глаза обратились наверх. - Зар! Эти дьяволы пробили нашу оборону. Мы их хорошо видели. Пока только несколько синих великанов забрались на стену, но если их не остановить, скоро здесь пройдут сотни. Не задумываясь ни на секунду, я вытащил из-за пояса меч и бросился на ближайший помост, который вел наверх, на стену. Я взбежал по нему так быстро, как только мог, или даже еще быстрее. Аргзунский гигант, раза в полтора крупнее меня, с удивлением обернулся, услышав мой вызов за спиной. И вновь раздался знакомый безумный смех. Я кинулся вперед, но он отразил мой удар быстрым движением своего крепкого меча. Я метнулся в сторону, и он отстал от меня на долю секунды, но этого было достаточно: я увидел, что предплечье было не защищено, и наудачу ударил туда мечом. Появилась кровь. Он заревел от ярости и бросился на меня с другим своим оружием - боевым топором с короткой рукояткой. Меня опять выручило то, что я оказался проворней. Я пригнулся, одновременно выбросив вперед руку с мечом, который вонзился ему в живот. Его глаза расширились, и с предсмертным криком он повалился со стены. А на меня уже шел второй, более осторожный, чем его товарищ. И снова я принял бой с нависавшим надо мной чудовищем. Дважды я его атаковал, и дважды он отражал мои удары, после чего бросился на меня сам. Я блокировал его удар и увидел, что конец моего клинка был всего в дюйме от его лица. Я метнулся вперед и попал мечом ему в глаз. Я уже начинал привыкать к своему оружию, чудесному клинку, лучшему из всех, какие мне довелось держать в руках. Тут подоспело подкрепление. Я глянул вниз, на врагов: у подножия стены бурлило море синих тел, кожаных доспехов и сверкающей стали. Из этого моря поднималась лестница, по которой уже карабкались несколько великанов. Нужно было разрушить эту лестницу, и я решил сделать это сам. Хотя в пылу битвы было ничего не разобрать, и я не представлял себе, как обстояло дело на других участках линии обороны, на меня снизошло спокойствие, которое могло бы показаться странным в этих трудных обстоятельствах. Но я знал это чувство, оно не раз помогало мне в джунглях Вьетнама или на помосте для фехтования во время самых трудных спортивных боев. Сейчас, когда на помощь пришли друзья, я чувствовал себя спокойно и уверенно. Один из моих недавних противников потерял боевой топор. Я взял оружие в левую руку, пробуя на вес, и обнаружил, что могу с ним справиться, если ухватить поближе к лезвию. С оружием наготове я двинулся к следующему синему разбойнику. Он вел своих товарищей по стене к помосту, чтобы спуститься в город. Стена была широкой, и меня атаковали сразу два великана. В тот момент я чувствовал себя Горацием, удерживающим мост, но аргзуны были мало похожи на людей Ларса Порсены, ибо они не кричали: "Назад!". Наоборот, любой ценой они стремились вперед. Они наступали, потрясая оружием. Их глаза-щелочки горели ненавистью, и мне стало не по себе, когда я встретился на мгновение взглядом с одним из них. В тех глазах не было ничего человеческого - это были глаза существа примитивного, первобытного. Я словно заглянул в ад! Они наступали! Помню только ярость битвы, быстрые обмены ударами, отчаянное ощущение, что надо держаться, надо побеждать, надо использовать всю энергию и все умение без остатка, если мы хотели отбросить врагов обратно к лестнице и уничтожить ее. Поначалу нам казалось, что самое большее, что мы могли сделать, было удерживать там, где они были, этих похожих на зверей огромных безобразных великанов, маячивших над нами, играя крепкими мускулами под синей кожей, сверкая в ярости глазами, угрожающе разевая пасти, дыша ненавистью и громыхая тяжелым оружием, едва махнув которым, они могли бы отправить нас на тот свет. Помню, запястья, руки, спина, ноги - все тело болело. Потом, кажется, боль прошла, и все мои конечности онемели. А я все продолжал сражаться. Помню, как я убивал. Мы боролись с противником, превосходившим нас по силе и численности. И мы убивали. От наших клинков полегло с десяток синих великанов. Мы сражались не только за город. Мы защищали свой идеал, а это давало нам моральное преимущество перед аргзунами. Мы стали теснить великанов обратно к лестнице. Эта удача прибавила нам сил, и мы удвоили наш натиск, сражаясь плечом к плечу, как старые друзья, хотя я был чужестранцем с другой планеты, даже из другой эпохи. Удерживая лестницу, мы могли остановить великанов, пытавшихся подняться на стену. Пока мои товарищи были заняты аргзунами, я решил попытаться подрубить эту лестницу так, чтобы она не доставала до верха стены. Вокруг меня свистели копья, но, не обращая на них внимания, я лихорадочно работал топором. Наконец я, как мог, подрубил лестницу, встал и, несмотря на снаряды и копья, летящие в мою сторону, тщательно прицелившись, метнул топор, чтобы попасть в середину лестницы. Топор вошел глубоко в дерево. Несколько аргзунов были уже выше того места, куда попал топор, что и помогло мне добиться цели: под их тяжестью лестница сломалась. Раздался страшный треск и навевающие ужас крики аргзунов, падающих на головы своих товарищей. К счастью, это была единственная лестница, которую нашим врагам удалось установить, и то потому только, что у защитников этой части стены не было алебард, какие имелись на всех других участках обороны. Это упущение было исправлено, когда два воина с алебардами заняли свои места, чтобы великаны не поставили другую лестницу на место сломанной. После всех усилий, приложенных, чтобы разрушить лестницу аргзунов, меня покачивало. Я обернулся на своих товарищей. Один из них был совсем мальчишка, даже младше Дарнада, - рыжий курносый подросток с веснушками на лице. Я схватил его руку и пожал ее, и хотя он не был знаком с этим жестом, он правильно угадал его значение и ответил на него. Я протянул руку другому своему товарищу. Он посмотрел на меня остановившимся взглядом, попытался подняться и вдруг повалился вперед. Я склонился над ним, чтобы осмотреть рану. Меч пронзил его насквозь. С такой раной он должен был умереть час назад. Я опустил голову в знак уважения к этому храброму воину. Поднявшись, я пошел искать Дарнада и заодно посмотреть, как шла битва. Скоро наступила ночь, и зажгли факелы. Казалось, мы могли передохнуть, так как аргзуны отступили от города и стали разбивать палатки в долине. Я прошел по стене и спустился вниз. Там у командира отряда я узнал, что Дарнада вызвали к южной стене, откуда он должен был пройти во дворец. Я решил не искать его у стены, а идти прямо во дворец. В комнате, примыкавшей к главному залу, я увидел Шизалу. Стражник, который привел меня туда, ушел, и я опять был с ней наедине. Я был измучен сражением, но даже в таком состоянии чувствовал себя с девушкой неловко, так как не мог не любоваться ее величественной красотой. Она жестом пригласила меня сесть, и я опустился на подушки, сваленные в кучу на полу. Она подала мне кубок басу. Я с благодарностью принял его и осушил одним глотком. Отдавая ей пустой кубок, я уже чувствовал себя немного лучше. - Я слышала о том, что ты сделал, - сказала она тихо, не глядя на меня. - Это был настоящий подвиг. Ты спас город или по крайней мере многих его защитников. - Это было вызвано необходимостью, вот и все, - ответил я. - Твой ответ свидетельствует о твоей скромности. - Все еще не глядя в мою сторону, она иронично подняла брови. - Нет, о правдивости, - ответил я ей в тон. - Как идет оборона? Она вздохнула. - Довольно успешно, если принять во внимание нехватку защитников и размеры войска аргзунов. Эти аргзуны - сильные и хитрые противники, более хитрые, чем я ожидала. Наверное, у них умный командир. - Судя по моим встречам с синими великанами, я бы никогда не подумал, что ум - их отличительная черта. - Я тоже. Если бы мы могли добраться до их командира и убить его, мы бы разрушили их план, оставив без предводителя. Тогда есть шанс прогнать их. - Ты так думаешь? - спросил я. - Это вполне возможно. Аргзуны редко сражаются под общим командованием, следуя общей стратегии, как сейчас. Они гордятся тем, что сильны поодиночке. Они отказываются выступать армией и не признают командиров. Им нравится воевать, но их тщеславным натурам не по душе быть дисциплинированными исполнителями чужих приказов. Должно быть, сейчас у них очень сильный командир, если он смог собрать такое полчище синих великанов и заставить их действовать сообща. - А как можно его убить? - спросил я. - Нам не добраться даже до его палатки, так как у нас не получится замаскироваться под аргзунов: мы, конечно, можем покрасить кожу в синий цвет, но где мы возьмем еще восемь-десять килод, чтобы добавить к своему росту? (Килода составляет приблизительно треть фута, около десяти сантиметров.) - Да, - устало сказала она. - Ничего не получится, если… - вдруг осенило меня, - если мы не атакуем их с воздуха. - С воздуха? Ну конечно! - Ее глаза загорелись. - Но мы же не знаем, кто их командир. Мне они представляются сплошной синей массой, ни один не выделяется. А как тебе? Я покачал головой. - Но где-то же он должен быть! Сегодня была такая сумятица. Давай дождемся рассвета и посмотрим на их лагерь до того, как они начнут новый штурм. - Хорошо. А сейчас тебе лучше пойти в свою комнату отдохнуть. Ты изнемогаешь от усталости, а завтра тебе понадобятся силы. Тебя разбудят перед самым рассветом. Я встал, поклонился и вышел. Я поднялся в комнату и на минуту остановился у окна. К сладкому аромату марсианской ночи, прохладной, навевающей приятную грусть, примешивался сейчас смрад войны. Как же я ненавидел синих великанов! Кто-то оставил на столике у моей кровати немного мяса и фруктов. Я не чувствовал голода, но здравый смысл подсказывал, что нужно поесть. Я отмыл засохшую кровь, грязь и пот войны с тела, поел и забрался под тяжелое меховое одеяло. Уснул я, как только положил голову на подушку. Наутро меня разбудила та же служанка, что и накануне. Она смотрела на меня с еще более откровенным восхищением. Видно, в Варнале уже говорили обо мне. Я был польщен, хотя и не понимал, почему мои действия вызывали такое отношение. Я сделал то, что на моем месте сделал бы любой. Я знал, что хорошо сражался, но это был всего лишь мой долг. Я почувствовал, что краснею от смущения, когда брал у служанки поднос с едой. Еще не рассвело, но солнце должно было скоро появиться - меньше, чем через две шати, подумал я. Шати равняется приблизительно восьмой части земного часа. Как раз когда я надевал пояс с мечом, в дверь раздался легкий стук. Я открыл дверь и увидел стражника. - Брадхинака ждет вас в башне, - сказал он мне. Я поблагодарил его и пошел в башню, в ту комнату, где мы совещались накануне. Шизала и Дарнад уже были там, на балконе, напряженно ожидая восход солнца. Оно начало всходить, когда я присоединился к ним. Они ничего мне не сказали, только кивнули. Вскоре золотой солнечный свет уже струился в долину. Лучи коснулись стен Варнала, скользнули по поверхности озера, осветили темный лагерь аргзунов вокруг нашего города. Я говорю "нашего города", ибо уже давно я считал его своим, а тем более теперь, после первого штурма. Палатки аргзунов представляли собой натянутые на деревянную основу шкуры животных; они были главным образом овальными, но мы увидели также круглые и даже квадратные. Большинство простых воинов спали прямо на земле и с рассветом стали просыпаться. Над одной из палаток, по размерам такой же, как и все другие, развевалось знамя. Все остальные ничем не были украшены, и казалось, они располагались вокруг овальной палатки со знаменем. Я не сомневался, что там спал коварный аргзунский военачальник. - Ну вот, теперь мы знаем, где их командир, - сказал я, вглядываясь в аргзунское знамя. На нем было изображено, если меня не подводило зрение, какое-то извивающееся змееподобное существо с глазами-щелочками, как у самих аргзунов. - Это Зверь Наал, - объяснила Шизала с содроганием, когда я спросил ее, что было изображено на знамени. - Да, точно, это Зверь Наал. - А что… - начал я, но меня перебил Дарнад. - Смотрите, - закричал он, - они уже готовятся к новому штурму. Он бросился обратно в комнату и вернулся оттуда с длинной изогнутой трубой. Он подул в нее что было сил, и по городу пронесся пронзительный грустный звук. В ответ раздались такие же звуки от караула у стены. Воины Варнала, многие из которых спали, не покидая своих постов, начали готовиться к сражению. Для многих оно могло оказаться последним в их жизни. Шизала сказала: - Хотя Телем Фас Огдаю понадобится еще один день, чтобы добраться до Мишим Тепа, по дороге он, наверное, остановится в ближайших городах, и помощь может подойти к вечеру или к завтрашнему утру. Если бы нам удалось продержаться до этого времени!.. - Может, нам это и не понадобится, если я смогу воспользоваться одним из твоих самолетов, - сказал я, - ведь для того, чтобы добраться по воздуху до аргзунского командира и уничтожить его, нужен всего один человек. Она улыбнулась. - Ты такой храбрый, Майкл Кейн! Но чтобы разогреть моторы самолетов, требуется в лучшем случае полдня. Если мы включим их сейчас, то они будут готовы не раньше, чем к вечеру. - Тогда нужно их немедленно включить, - разочарованно сказал я. - К вечеру они могут еще понадобиться, так что их нужно подготовить. - Я сделаю, как ты говоришь. Но ведь ты погибнешь, если решишься на такое. - Что ж, зато это будет не зря, - просто ответил я. Она отвернулась от меня, и я не мог понять, почему. Наверное, она решила, что я просто тупое животное, только и знающее, как умереть. Но я тоже обидел ее вчера, когда вел себя так грубо и неделикатно. Я снова напомнил себе, что не должен был об этом думать. Не все ли равно, как она ко мне относится! Я вздохнул. Поскольку был незнаком с достижениями науки, создавшей самолеты, я не мог ничего сделать, чтобы разогреть двигатели быстрее. Наверное, это была какая-то система, основанная на медленной реакции, - очень надежная и простая в обращении. Но в ситуации, подобной той, в которой мы оказались, я бы предпочел иметь дело с системой, реагирующей быстрее, пусть даже более опасной. Мне показалось, что Шизала словно зачем-то нарочно задерживает меня, что она не хочет, чтобы я привел в действие свой план. Я не мог понять почему. Дарнад хлопнул меня по плечу. - Хочешь пойти со мной? - Конечно, - сказал я. - Ты мне должен сказать, что делать, чтобы быть максимально полезным. - Вчера я был в тебе не уверен, - сказал он с улыбкой. - Сегодня все иначе. - Рад это слышать. Прощай, Шизала! - Прощай, сестра, - сказал Дарнад. Шизала нам не ответила. Я ломал себе голову над тем, не обидел ли я ее опять. Я же не знал обычаев Вашу и мог это сделать ненамеренно. Но у меня не было времени обдумывать поведение Шизалы. Вскоре стены города уже сотрясались от нового штурма аргзунов. Я помогал варнальцам, чем мог: переворачивал ведра с горячим жиром на головы аргзунов, бросал в них камни и их собственные копья. Казалось, синие великаны совсем не заботились о своей жизни и еще меньше - о жизни своих товарищей. Как и говорила Шизала, хотя они принимали участие в организованном штурме, каждый сражался за себя, и им приходилось контролировать свои инстинктивные побуждения. Один или два раза я видел, как два аргзунских воина сражались между собой, а вокруг них падали наши снаряды и сновали их товарищи. К полудню ни одна из сторон еще не добилась перевеса, однако в то время как многие из защитников Варнала валились с ног от усталости, аргзуны то и дело вводили в действие свежие силы. Как я понял, оставлять резервы также было нехарактерно для аргзунов, и благодаря этому они смогли получить над нами преимущество. Хотя аргзуны и были жестокими и свирепыми существами, они никогда не представляли серьезной угрозы, так как в течение долгого времени не было силы, которая могла бы их сплотить. А это нападение без предупреждения, этот штурм, когда аргзуны забрались так далеко от своей страны, говорили о четкости плана и изобретательности его создателя. Про себя я решил, что это могло быть свидетельством измены - предатель позволил аргзунам беспрепятственно пройти один из участков в линии обороны. Но я слишком плохо разбирался в политической обстановке на Вашу, чтобы высказывать какие-либо предположения вслух. После полудня я помог бойцам инженерного отряда укрепить специальными заграждениями те участки стены, которые были ослаблены таранами и катапультами аргзунов. Вытирая пот со лба после очень напряженного момента в работе, я повернулся и увидел Шизалу. - А ты, оказывается, мастер на все руки, - улыбнулась она. - Это качество хорошего ученого. Или хорошего солдата, - улыбнулся я ей в ответ. - Значит, ты хороший ученый и хороший солдат. - Как там самолет, его готовят? - Да, к вечеру он будет готов. - Отлично. - Ты что, и правда собираешься это сделать? - Конечно. - Тебе будет нужен специально обученный пилот. - Надеюсь, ты найдешь этого пилота. Она опустила глаза: - Да, это можно будет устроить. - А пока… - начал я. - Тебе не приходило в голову, что аргзуны смогли пройти незамеченными так далеко на юг с молчаливого согласия одного из твоих союзников? - Это невозможно. Ни один из наших союзников не совершит такого предательства. - Прости, - сказал я, - но хотя я с уважением отношусь к кодексу чести карналов, далеко не уверен, что его придерживаются все народы Вашу, тем более когда вижу перед собой прямую противоположность карналов. Шизала сжала губы. - Ты ошибаешься, - бросила она мне. - Возможно, но мое предположение все объясняет. Что, если Телем Фас Огдай… Ее глаза сверкнули: - Ах вот оно что! Ты просто ревнуешь! Я должна тебе заметить, что отец Телем Фас Огдая, брадхи Мишим Тепа - старый друг и союзник отца. Они вместе сражались не в одной битве. Наши два народа уже несколько веков связывают узы дружбы. Подозревать Мишим Теп в предательстве - это не просто нелепо, это подло. - Я только хотел сказать… - Ничего не нужно больше говорить, Майкл Кейн, - оборвала меня Шизала и, резко развернувшись, ушла. После такого разговора я какое-то время не мог ничего делать. И все же не прошло и трех шати, как я уже помогал защищать тот участок, где аргзуны, пробив брешь в стене, пытались прорваться в город. Везде, куда ни бросишь взгляд, лилась кровь и лязгало оружие, везде чувствовался смрад смерти. Мы стояли на грудах камней, выбитых из стены, и пытались сдержать синих великанов, раз в десять превосходивших нас числом. Они были смелыми и жестокими, эти синие великаны, но им не хватало нашей сообразительности и скорости, а также уверенности, что нужно отстоять город, чего бы это ни стоило. Именно эти три преимущества до сих пор и помогали нам противостоять свирепым атакам аргзунов. В ходе битвы мне пришлось сразиться с аргзуном, который был крупнее даже большинства своих товарищей. Вокруг его шеи висело ожерелье из человеческих костей, а шлем был сооружен из нескольких черепов диких зверей. Очевидно, он был не простым воином, а чем-то вроде командира небольшого отряда. У него было два тяжелых меча, по одному в каждой руке, и он постоянно ими размахивал так, что казалось, будто стоишь около гигантского пропеллера. Я немного замешкался под его напором и поскользнулся на мокром от крови камне. Я упал на спину и уже видел, как, улыбаясь во всю свою мерзкую пасть, он собирался меня прикончить. Он уже поднял оба меча, чтобы проткнуть ими мое распростертое тело, но мне каким-то образом удалось увернуться, и я ударил его мечом сзади по ногам, намеренно целясь по мускулам чуть ниже колен. Одна нога согнулась, и он заревел от боли. Тут подогнулась и вторая нога, и великан рухнул бы на меня, если бы я не отскочил. С невероятным грохотом он повалился на камни, и я прикончил его одним ударом меча. Удача, провидение или, может, справедливость были в тот день на нашей стороне. Иначе я ничем не могу объяснить, как нам удавалось сдерживать синих великанов. Это стоило нам нечеловеческих усилий, но мы продержались. За четыре шати до заката я ушел от городской стены и направился к ангарам, которые мне накануне показали. Их здания с круглыми куполами располагались недалеко от Центральной площади. Их было три, одно рядом с другим. Купола были сделаны не из камня, а из металла; это был еще один неизвестный мне сплав. Двери в ангары были таких размеров, что в них едва мог пройти человек моего сложения. Странно, подумал я, а как же самолеты? Шизала оказалась в первом же ангаре, в который я зашел. Она следила, как у самолета, подвешенного на балках, хлопотали слуги. Самолет странной формы вблизи был еще прекрасней, чем издали. Очевидно, он был совсем древним, от него веяло тысячелетней историей. Я смотрел на него как завороженный. Шизала стояла со сжатыми губами и даже не обернулась, когда я вошел. Я ей слегка поклонился. Мне было неловко. Мотор тихонько гудел. Самолет был больше похож на бронзовую скульптуру, чем на средство передвижения. Сложный, утонченный замысел указывал на изобретательность интеллекта, несравнимо более высокого, чем все, с какими мне приходилось сталкиваться. Внутрь самолета вела самая обыкновенная веревочная лестница. Я молча подошел к ней и, пробуя встать на нее, вопросительно посмотрел на Шизалу. Сначала она делала вид, что не замечает моего вопросительного взгляда, но потом наконец посмотрела на меня и сказала, указывая на самолет: - Поднимайся на борт. Через минуту к тебе присоединится пилот. - Времени у нас мало, - напомнил я ей. - Нужно все завершить до заката. - Я в курсе, - холодно отозвалась Шизала. Я начал подниматься по раскачивающейся лестнице и через несколько мгновений уже был в самолете. Внутри стояло несколько роскошных мягких диванов темно-зеленого и золотистого цвета из непонятного материала. В дальнем конце салона был пульт управления с изысканно украшенными кнопками, хрустальными ручками и медными или даже золотыми рычагами. Перед креслом пилота находился экран - что-то типа монитора, позволявшего иметь более четкую картину местности, чем крошечные иллюминаторы. Осмотрев салон самолета, я сел на один из диванов, чтобы обдумать план покушения - ибо это было покушение. Я с нетерпением ожидал пилота. И вот наконец я услышал, как он поднимается по веревочной лестнице. Я сидел спиной к входу, поэтому не видел, как он вошел. - Поторопись, - сказал я. - У нас очень мало времени. - Я в курсе, - услышал я голос Шизалы. Она подошла к пульту управления и села в кресло! - Шизала, это же опасно! И вообще это не женское дело! - Не женское? А кого еще ты можешь предложить? Пилотов у нас мало, и сейчас, кроме меня, вести самолет некому. Я ей не очень верил, но спорить было поздно. - Прошу тебя, будь осторожна! Твоим людям ты нужна больше, чем мне, не забывай о своем долге перед ними. - Этого я никогда не смогла бы забыть, - сказала она, и мне почему-то показалось, что в ее голосе я слышу непонятную мне горечь. Шизала взялась за рычаги управления, и корабль начал подниматься к крыше. Он был легким, как перышко. Свод ангара раскрылся. Над нами было темно-синее вечернее небо. Мотор загудел сильнее. Вскоре мы уже летели над городом к лагерю аргзунов. Мы заметили, что они снова начали отступать: ночью они отдыхали. Наш план был прост. Когда воздушный корабль зависнет над палаткой командира аргзунов, я быстро спущусь по веревочной лестнице. В крыше овальной палатки были отверстия, покрытые каким-то тонким материалом - очевидно, для вентиляции. В такое отверстие вполне мог пролезть человек. Я рассчитывал проскочить через отверстие вниз и, застав там командира врасплох, убить его или связать - как получится. Да, план был прост, но он требовал мгновенной реакции, железной выдержки и абсолютной точности выполнения. Когда наш самолет появился над лагерем синих великанов, они попробовали швырять в нас огромные камни. Мы этого ожидали, но знали также и то, что за этим последует: камни стали падать обратно на землю, на головы самих аргзунов, а им, конечно, не хотелось погибнуть от собственного оружия, и они вскоре прекратили атаку. Через какое-то время мы достигли цели - палатки командира. По знаку Шизалы я подошел к выходу, размотал веревочную лестницу, чтобы она была длиннее, и взялся за конец, готовясь прыгнуть. Я посмотрел на Шизалу, но она продолжала сидеть ко мне спиной. Я взглянул вниз и увидел знамя Зверя Наала, которое развевалось под дуновением легкого вечернего ветерка. Ко мне, конечно, были обращены лица сотен аргзунов, ибо они ожидали с нашей стороны какого-либо нападения. Я молил, чтобы они не поняли, какую форму оно примет. Глядя на них, я чувствовал себя, как муха, падающая в гнездо гигантских пауков. Я собрал все свое мужество, вытащил меч, крикнул что-то Шизале и прыгнул вниз, держась за конец веревочной лестницы. Я повис как раз над одним из отверстий в крыше палатки командира. Аргзуны кричали и сновали вокруг. Рядом просвистело несколько копий. Я был в девяти футах над отверстием и подумал: сейчас или никогда. Я разжал руки и оказался в палатке.VI. Ненужное спасение
Рев аргзунов заглушал все звуки. Я пролетел через отверстие, увлекая за собой в палатку покрывавший его шелк. Приземлился я на ноги, но на миг потерял равновесие. Едва успев перевести дух, я уже был готов к схватке с обитателями палатки. Их было двое: огромный, по виду очень опытный аргзунский воин, весь увешанный кольцами, браслетами и цепями с грубо ограненными драгоценными камнями, и… женщина! Она была брюнеткой со смуглым лицом и гордой осанкой. Она сидела, завернувшись в черный плащ из толстого материала, похожего на вельвет, и от удивления не могла отвести от меня глаз. Насколько я мог судить, это была самая обыкновенная женщина. Но что она здесь делала? Снаружи раздался дикий вопль аргзунов. Не обращая внимания на женщину, я жестом показал находящемуся в палатке великану обнажить меч. Он сделал это с мрачной ухмылкой и сразу же напал на меня. Он великолепно владел мечом, и поскольку мне еще нужно было прийти в себя после прыжка с небес, первые секунды я только оборонялся. Мне следовало торопиться, чтобы сделать то, ради чего я сюда пришел. Я отражал его удары так быстро, что сам удивился бы, будь на это время, и отвечал ему своими ударами и выпадами. Не счесть, сколько раз скрестились наши мечи, прежде чем я заметил брешь в его обороне и, сделав молниеносный выпад, послал свой клинок прямо в его сердце и пронзил его насквозь. В этот момент в палатку ворвалось еще несколько аргзунов. Едва я повернулся, чтобы встретить их лицом к лицу, как услышал сзади повелительный голос: - Довольно! Не трогать его! Сначала я его допрошу. Я был начеку, ожидая какого-нибудь подвоха, но казалось, воины привыкли подчиняться приказам этой женщины. Они не двигались. Я осторожно повернулся, чтобы посмотреть на нее. Она была замечательно красива своей дикой экзотической красотой. В ее глазах играла насмешка. - Ты не из племени карналов, - сказала она. - Откуда ты знаешь? - У тебя другая кожа, осанка, короткие волосы. Я никогда не видела людей, похожих на тебя. Откуда ты? - Ты все равно не поверила бы, если бы даже я тебе сказал. - Все же скажи! - приказала она. Я пожал плечами. - Я с Негалу, - ответил я, называя Землю именем, под которым ее знали марсиане. - Это невозможно. На Негалу нет людей. - Сейчас нет. Но будут. Она нахмурилась. - Похоже, ты говоришь правдиво, но загадками. Наверное, ты… - Казалось, она уже жалела, что начала это говорить. - Что я? - Что ты знаешь о Рахарумаре? - Ничего. Очевидно, это ее успокоило. Она поднесла сжатые кулаки к губам, покусывая в задумчивости костяшки пальцев. Вдруг она снова подняла голову. - Если ты не из карналов, почему же ты за них воюешь? Почему ты спрыгнул откуда-то в палатку и убил Ранак Марда? - Она показала на убитого аргзуна. - А как ты думаешь? Она покачала головой. - Не знаю, зачем надо было так рисковать, чтобы убить одного-единственного капитана аргзунов. - А он всего лишь капитан? Она вдруг улыбнулась: - Ага, я поняла. Да, он всего лишь капитан. Я упал духом. Итак, я ошибался. В палатке не было аргзунского командира. Наверное, это была маскировка, он был в другом месте. - А ты кто? - спросил я. - Пленница этих людей? Могущественная пленница? - Называй меня пленницей, если хочешь. Меня зовут Хоргул, я из рода владняров. - А где живут владняры? - А ты не знаешь? К северу от карналов, около навашей. Владняры - давние враги карналов. - И поэтому владняры стали союзниками аргзунов? - Думай, что хочешь. - Она загадочно улыбнулась. - А теперь, я думаю, ты… - Она замолчала, услышав у палатки звуки сражения. - Что там происходит? Я понятия не имел. Не может быть, чтобы горстка карналов, защищавших город, атаковала аргзунов - это было бы непростительным безрассудством. Но что еще могли означать эти звуки? Когда Хоргул и синие великаны повернулись на звук, я воспользовался случаем и ударил одного из аргзунов в шею. Я бросился к выходу и выбежал из палатки, преследуемый синими великанами по пятам. Я бежал, ориентируясь на шум битвы. На бегу я взглянул на небо, чтобы удостовериться, что Шизала успела спастись. Но самолет еще висел над палаткой. Почему она не улетела? Я остановился, не зная, что делать, и через секунду мне уже пришлось защищаться. Сражаясь, я почувствовал, что рядом тоже шел бой, и краешком глаза увидел группу отлично вооруженных людей моего роста, расправлявшихся с синими великанами. Воины были не из Варнала, это было очевидно, хотя бы потому, что они носили шлемы, украшенные яркими перьями. Фобос и Деймос осветили долину, и я увидел, что у новых воинов были пики и что-то похожее на металлические луки. - Приветствую тебя, друг, - сказал один из них с легким акцентом, немного отличавшимся от того, на котором говорили варнальцы. - Здравствуйте. Вы спасли меня, - ответил я с облегчением и благодарностью. - Кто вы? - Мы - шринаи. - Вас прислал Телем Фас Огдай? - Нет, - немного удивленно ответил один, - просто мы преследовали большую банду грабителей, отступивших в сторону Варнала. Поэтому нас так много. Ваши пограничники собирались нам помочь, когда прискакал посланец из Варнала с известием, что город атакован аргзунами, поэтому мы на время забыли о бандитах и поспешили сюда. - Как я рад! Как вы думаете, мы их разгромили? - Не знаю. Наверное, не до конца. Но мы, я думаю, сможем прогнать их от Варнала, и ваши подкрепления успеют подойти вам на помощь. Мы перебрасывались фразами, продолжая сражаться, но ряды аргзунов быстро редели, и по крайней мере на этом участке мы побеждали. Наконец мы обратили их в бегство; карналы и шринаи сообща преследовали отступающих аргзунов до Зовущих гор, откуда они пришли. Аргзунам удалось укрепиться в горах, и нам пришлось отступить, чтобы собрать свежие силы и выработать новую стратегию. Вскоре стало ясно, что аргзуны все еще превосходили нас численностью, и мы смогли одержать временную победу лишь благодаря тому, что в бой вступили свежие силы шринаев и карналы, атаковавшие синих из города, захватили их врасплох. Но я воспрянул духом. Теперь, решил я, мы могли отразить следующую попытку штурма и продержаться до прихода подкрепления. И тут я вспомнил про самолет и про Шизалу. Я вернулся в разрушенный лагерь аргзунов. В отличие от большинства других, палатка со знаменем не была разрушена, и над ней, как ни странно, все еще висел самолет. Как мне показалось сквозь тусклый свет двух марсианских лун, сейчас он был ниже, и веревочная лестница касалась крыши палатки. Я позвал Шизалу по имени, но ответом мне была тишина. Предчувствуя недоброе, я забрался на крышу палатки. Это было трудно, но меня подгонял ужас. Конечно, лестница касалась крыши, корабль был ниже. Я схватился за конец лестницы и стал подниматься. Минута - и я был внутри самолета. Едва окинув его взглядом, я понял, что он был пуст. Шизалы здесь не было! Как же так? Где она? Что с ней случилось? Что она сделала? Почему покинула самолет? Что ее на это толкнуло? Все эти вопросы промелькнули у меня в голове. Ответов я не знал. Я снова стал спускаться по лестнице вниз, пока не оказался над непокрытым отверстием в крыше палатки. Я прыгнул вниз, как и в первый раз. Если не считать убитого Ранак Марда, в палатке никого не было. Везде были видны следы борьбы, и я заметил, что рука Ранак Марда уже не сжимала меч, который лежал теперь в другом конце палатки. Рядом лежало еще что-то. Пистолет. Пистолет шивов. Он мог принадлежать только Шизале. Таинственная черноволосая Хоргул и аргзуны, должно быть, сражались после моего бегства. По причине, которую знала только она одна, Шизала решила спуститься следом за мной в палатку. Меня уже, конечно, не было, и она столкнулась лицом к лицу с Хоргул и аргзунами. Произошло сражение, Шизалу схватили. Ее не убили - это было бы одолжением, - иначе я нашел бы ее труп. Значит, ее похитили? Мой дурацкий план убить командира, направлявшего аргзунов, принес не пользу, а вред: аргзуны получили заложницу. Лучшую заложницу, о которой можно было только мечтать. Правительницу Варнала. Я ругал себя последними словами, так, как никогда не стал бы ругать даже злейшего врага.VII. В поисках Шизалы
Помню, как я бежал прочь от палатки, ослепленный гневом, раздираемый сожалением и раскаянием. Одно я знал твердо: я должен спасти Шизалу. Я миновал карналов и шринаев, недоумевающе окликавших меня, и устремился через усеянное трупами поле к Зовущим горам и затем, по склону одной из гор, - к тому месту, где стояли аргзуны. Позади я снова услышал крики и топот множества ног, но для меня они уже не существовали. Я бежал вперед, прямо на аргзунов. Они, видимо, решили, что мы предприняли новую атаку, надеясь застать их врасплох, и вместо того, чтобы вступить со мной в схватку, как я ожидал, стали убегать по двое и трое. Я кричал им вслед, требуя, чтобы они остановились и приняли бой, я называл их трусами. Они не останавливались. Вскоре казалось, что в бегство обратилось все аргзунское полчище, преследуемое одним-единственным человеком с мечом. Вдруг меня кто-то схватил за ноги. Я повернулся, чтобы увидеть своего нового соперника, недоумевая, откуда он мог взяться. Пытаясь сохранить равновесие, я поднял меч. Меня схватило множество рук, и я отчаянно сопротивлялся, стараясь вырваться. Тут мое сознание на миг прояснилось, и я вдруг увидел, что меня держат карнальские воины во главе с Дарнадом. Да, это был не кто иной, как брат Шизалы! Я не мог понять, с чего это ему взбрело на меня нападать, и закричал: - Дарнад, это Майкл Кейн! Шизала… Шизалу… Они ее… - но удар по голове лишил меня сознания. Очнулся я с дикой головной болью. Я был в своей комнате в Варнале. Это я понял. Но почему? Почему Дарнад напал на меня? Я напрягся, пытаясь разобраться в том, но никакого результата. Я сел, потирая голову. Вдруготкрылась дверь, и вошел мой недавний противник с озабоченным лицом. - Дарнад! Почему ты…? - Как ты себя чувствуешь? - Хуже, чем если бы твой друг не двинул меня по голове. Ты что, не понял, что… - Вижу, ты все еще взволнован. Тебя нужно было остановить, хотя своим безумием ты и обратил аргзунов в беспорядочное бегство. Насколько мы поняли, сейчас они все разбежались. Наверное, сработал твой план убить их командира. Я думаю, они окончательно сломлены и больше не представляют угрозы для Варнала. - Но я убил не того! Я… - И вдруг я словно очнулся. - Подожди, ты сказал - "своим безумием"? - Иногда случается, что воина, сражавшегося так долго, как ты, и так же измученного сражением, охватывает лихорадка боя - каким бы усталым он ни был, он не может прекратить драться. Думаем, с тобой произошло как раз это. Меня беспокоит другое. Шизала… - Ты что, не понимаешь, что вы наделали? - Я с трудом сдерживал гнев. - Ты говоришь о Шизале? Она здесь? Она в безопасности? - Нет, мы не можем ее найти. Она управляла самолетом, на котором ты попал в лагерь аргзунов, но когда по окончании боя мы добрались до него, там уже никого не было. Мы думаем… - Да я знаю, что случилось! - Ты знаешь? Почему же ты нам не сказал? Почему… - Это была не лихорадка боя, Дарнад! Я обнаружил, что Шизала похищена. Я бежал, чтобы спасти ее… Тут вы схватили меня. Когда это было? - Ночью, около тридцати шести шати назад. - Тридцать шесть шати! - Я вскочил, невольно застонав. Болела не только голова. Давали себя знать последствия двухдневных боев. Все тело было сплошным синяком, на котором были еще и раны. Я чувствовал приток крови, пульсирующей у самой тяжелой из них - в руке. Тридцать шесть шати - это больше четырех часов назад! В невероятной спешке я рассказал Дарнаду обо всем, что знал сам. Он удивился не меньше меня, узнав о Хоргул, женщине из рода владняров. - Интересно, какую роль во всем этом играет она, - сказал Дарнад, нахмурившись. - Понятия не имею. Ее ответы были по меньшей мере уклончивыми. - Прости меня за эту ошибку, Майкл Кейн, - сказал он. - Я был идиотом. Я слышал, как ты что-то кричал. Мне следовало прислушаться. Если бы нам повезло, мы бы спасли Шизалу и сейчас все было бы уже позади. Аргзуны больше не подчинялись командам. Наши союзники помогли прогнать их от стен Варнала, и скоро мы очистим от них всю землю карналов. Мы допросим пленных и узнаем, как им удалось так далеко зайти незамеченными. - Но пока мы это делаем, Шизалу могут увезти куда угодно - на север, на юг, на восток, на запад. И как ты узнаешь, куда ее увезли? Дарнад опустил глаза. - Ты прав. Но если ты думаешь, что Шизала - с этой женщиной из рода владняров, тогда, наверное, можно надеяться, что кто-нибудь из наших пленников должен знать, куда они направились. Еще есть шанс спасти Шизалу - преследуя и добивая аргзунов. - Ладно, у нас нет времени для взаимных упреков и покаяний, - сказал я. - Давай забудем все, что мы друг другу наговорили, отнесем это на счет безумия схватки. Что будем делать? - Я отправлюсь со специальным отрядом за пленниками и допрошу их. Может, что-нибудь узнаю о том, куда увезли Шизалу. - Я пойду с тобой, - сказал я. - Я ожидал, что ты это скажешь, - сказал Дарнад, хлопнув меня по плечу. - Пока идут приготовления, тебе нужно передохнуть. Я позову тебя, когда все будет готово. Сейчас ты все равно ничем не можешь помочь. Лучше будет, если ты восстановишь силы, они тебе понадобятся. Я распоряжусь, чтобы принесли еду. - Спасибо, - сказал я с благодарностью. Дарнад был прав. Я должен был заставить себя расслабиться - ради Шизалы. Я лег на кровать и снова задумался, почему девушка решилась с таким риском для жизни спуститься в палатку аргзунов. Это не было вызвано необходимостью. Как правительница карналов, она должна была сразу же вернуться в город. Я решил, что чем быстрее мы найдем ее, тем быстрее я узнаю ответы на эти вопросы. Я заснул. Меня разбудил слуга, принесший еду. Я поел и, получив известие от Дарнада, что его воины готовы, наспех умылся и пошел к ним. День обещал быть холодным и пасмурным, но прошло немного времени, и тучи разошлись, и выглянуло бледное солнце, осветив улицы, и под его лучами не такими страшными стали казаться следы недавнего жестокого сражения. У подножия парадной лестницы дворца стояла группа всадников во главе с Дарнадом, который держал за поводья дахару, предназначенную мне. Я забрался в седло, и весь отряд направился по улицам города к главным воротам. Вскоре мы были уже в Зовущих горах и пытались определить, где укрылись наши враги. Я все еще не мог понять, почему аргзуны так поспешно бежали. Войско аргзунов было явно в смятении после смерти Ранак Марда; видимо, он все-таки был командиром, организовавшим нападение на Варнал. Но почему Хоргул сказала, что это не так? Хватит, никаких вопросов! Пока никаких. Найдем аргзунов, и они нам все объяснят. Мы все ехали и ехали, и только к вечеру нам удалось настигнуть и захватить врасплох группу из десяти усталых аргзунов, расположившихся в небольшой долине позади Зовущих гор. При нашем приближении они вскочили и приготовились к битве. На этот раз нас было больше. При других обстоятельствах меня бы это не радовало, но сейчас я почувствовал, что неплохо было для разнообразия получить над врагом преимущество. Они сопротивлялись довольно вяло, и когда половина воинов были убиты, остальные сложили оружие. Аргзуны не знают, что такое верность, как мы ее понимаем, и чувство товарищества. Тем легче было бы добиться у них ответа на все вопросы, если бы не их упрямство. Они не боялись предать товарищей и все же молчали до тех пор, пока Дарнад не вытащил меч и, помахивая им перед глазами связанных великанов, не сказал, что, поскольку от пленников нет никакой пользы, следует от них избавиться. Тогда-то один из них и сломался. Нам повезло: он знал больше, чем мы ожидали от простого солдата. Аргзуны не стали пробираться в Карналию по суше, а потратили год, чтобы приплыть по морю и реке. Они проделали долгий путь по побережью, ибо Варнал лежит на много миль вглубь материка, и проплыли вниз по Хаалу, крупнейшей реке на этой земле. Они собрались в месте, называемом Алая равнина, и оттуда по ночам стали передвигаться маленькими группами, пока не достигли Карналии незамеченными. На одном или двух постах воины заметили приближение аргзунов, но были разбиты. - Как просто, - заметил Дарнад, услышав этот рассказ. - Мы никогда не считали аргзунов способными на такую изобретательность и такое терпение. Не в их правилах так тщательно планировать военные действия. Хорошо, что ты убил Ранак Марда, Майкл Кейн, должно быть, он был каким-то особенным аргзуном. - А теперь, - сказал я, - давай попробуем выяснить, куда отправили Шизалу. Но здесь пленник ничем не мог нам помочь. Он только утверждал, что все аргзуны бежали на север. Видимо, терпя поражение, они почти инстинктивно стремились найти убежище в родных горах. - Думаю, он прав, - сказал Дарнад. - Больше всего шансов найти Шизалу, если отправиться на север. - Север… - сказал я. - Это четвертая часть всей земли. - Согласен, - вздохнул Дарнад. Он взглянул на меня, и в его глазах я прочел боль, которую он не мог полностью скрыть, как ни пытался. Я протянул ему руку и взял его за плечо. - Но мы, конечно, будем искать, - сказал я. - Возможно, нам удастся захватить новых пленников и получить более точные сведения о том, в каком направлении увезли Шизалу. Мы крепко связали пленников и отправили их с одним из наших воинов обратно в Варнал. Все остальные двинулись дальше и вскоре ступили на обширное плато, заросшее алым папоротником. Это была Алая равнина, похожая на огромное море цвета крови, простирающееся в разные стороны насколько мог видеть глаз, и посреди этого безбрежья я почувствовал, что у нас очень мало шансов найти Шизалу. Наступила ночь, и мы разбили лагерь, не разжигая, однако, костров, чтобы не дать себя обнаружить аргзунам или каким-нибудь рыскавшим по этим просторам грабителям, чьи банды состояли из отбросов всех живущих в этих краях народов. Алая равнина была ничья земля, на которой не действовали никакие законы, кроме законов джунглей: "убивай, чтобы не быть убитым" и "выживает сильнейший". Ночью я немного поспал, и моя усталость прошла, но я все еще был на грани отчаяния. Мне хотелось захватить новых пленников, чтобы узнать от них о Шизале. Мы снялись с места рано, едва рассвело. Небо было покрыто облаками, моросил мелкий дождик. В тот день мы не встретили ни бандитов, ни аргзунов, но на следующий день перед нами вдруг выросли около пятидесяти синих великанов. Они явно горели желанием отомстить нам за свое поражение. Мы задержались, только чтобы выхватить пики и мечи, и направили на них дахар с криками, едва ли не более свирепыми, чем их собственные. Мы встретились, и закипело сражение. Моим противником оказался синий великан, носивший на своем поясе отвратительное доказательство одержанных им побед - несколько человеческих кистей. Я решил отомстить ему за всех, кто умер от его поганых рук. У меня было некоторое преимущество перед аргзуном: я, в отличие от него, был верхом. Помимо высланных вперед разведчиков, в этом отряде аргзунов было мало всадников, и я решил, что они не хотели привлекать внимание и предпочли избавиться от большей части дахар. Мой противник был левшой, я этого не ожидал. Он напал на меня с боевым топором и мечом, и мне понадобилось все мое умение, чтобы отразить удар топором и в то же время избежать его меча. Он навалился на мой меч двумя руками - и топором, и мечом, и на несколько мгновений мы застыли на месте, испытывая силу и реакцию друг друга. Потом он попытался поднять меч, чтобы ударить меня по голове, но я выхватил свой клинок из-под его топора, и на секунду он потерял равновесие. Этой секунды мне было достаточно, чтобы поразить его в шею. А в это время вокруг меня царила полная неразбериха. Хотя казалось, что в целом мы победили, среди наших было много потерь - осталась лишь половина воинов. Я увидел, что Дарнаду нужна помощь, чтобы справиться с двумя противниками, и я поскакал к нему. Вместе мы их разбили. Из пятидесяти аргзунов, с которыми мы сражались, сдались только два. К ним мы применили ту же тактику, что и к первым пленникам. Наконец они начали отвечать на наши вопросы. - Вы видели, как ваши товарищи захватили карнальскую женщину? - Возможно, - ответил один. Дарнад поиграл мечом перед его глазами. - Да, - твердо сказал он. - В каком направлении ее повезли? - На север. - Но куда именно? - Думаю, в Нарлет. - Где это? - спросил я Дарнада. - В трех днях пути. Это город разбойников на границе Алой равнины. - Город разбойников, наверное, опасен для нас? - Возможно, - согласился Дарнад. - Но думаю, и мы будем представлять для них некоторую опасность. Они не будут оказывать нам сопротивление, если поймут, что они сами нас не интересуют. И вообще, - усмехнулся Дарнад, - у меня в Нарлете есть один или два приятеля. Негодяи, конечно, но очень милые собеседники, если забыть о том, что они воры и матерые убийцы. Мы отправили и этих пленников в Варнал, а сами поехали в Нарлет. Надо заметить, ряды наши заметно поредели. По крайней мере у нас была конкретная информация, и мы воспрянули духом, направляясь в Город Воров. Еще дважды на пути нам приходилось останавливаться, чтобы сразиться с аргзунами, и пленники подтвердили, что Шизалу отвезли в Нарлет. Не прошло и трех дней, как мы увидели вдалеке гряду гор, обозначивших границу Алой равнины. Потом мы увидели стену, окружавшую маленький городок; она была сделана из бревен, покрытых засохшей грязью. Квадратные дома казались довольно крепкими, но в них не было ничего привлекательного. Итак, мы добрались до Нарлета, Города Воров. Но найдем ли мы здесь Шизалу?VIII. Нарлет, Город Воров
Нельзя сказать, чтобы в Нарлете нас приняли с распростертыми объятиями, но, как и предполагал Дарнад, с мечами на нас тоже никто не кидался. Однако все, кого мы встретили, смотрели с подозрением и пытались скрыться, едва мы появились в городе и поехали по узеньким улочкам. - У большинства из них ничего не узнаешь, - сказал мне Дарнад. - Но, кажется, я знаю, как найти человека, который нам поможет. Конечно, если старый Белет Воэр еще жив. - Белет Воэр? - переспросил я. - Это один из моих друзей, о которых я говорил. Наш немногочисленный отряд въехал на рыночную площадь, и Дарнад показал нам на маленький домик, зажатый между двумя ветхими строениями. - Когда-то моему отряду приходилось патрулировать эту часть города, и однажды он спас меня от смерти. Потом я отплатил ему тем же. Так началась наша дружба. Невероятно, но мы действительно друзья. Мы спешились у маленького домика. Нам навстречу вышел пожилой мужчина, безобразный, беззубый, весь в морщинах. Но в нем была какая-то внутренняя жизненная сила, заставлявшая забывать о его отвратительной внешности. - А-а, брадхинак Дарнад, какая честь для меня! - лукавый блеск глаз старика явно противоречил смирению, которое должны были выражать его слова. Глаза выдавали его иронию. Я понял, почему Дарнаду он нравился. - Приветствую тебя, старый пройдоха. Ну, сколько ротозеев ты ограбил сегодня? - Да с десяток, не больше. Брадхинак, может быть, твой друг не откажется зайти взглянуть на мое добро. У меня еще остались замечательные засахаренные фрукты и конфеты. Могу угостить, кхе-кхе… - Не соблазняй! - улыбнулся я ему. Он провел нас в свою лачугу, в которой, как ни удивительно, царили чистота и порядок. Мы сели на скамейку, и он принес нам басу. Дарнад взял кубок, но сразу же сказал серьезно: - Мы спешим, Белет Воэр. Скажи, не появлялись ли здесь аргзуны за день-два до нас? Старый разбойник склонил голову набок: - Да, были два аргзунских воина. Они выглядели так, как будто их хорошенько потрепали, и они удирали в свою берлогу зализывать раны. - Что, всего два аргзуна? Белет Воэр усмехнулся. - С ними было еще двое, судя по их виду, пленников. Не думаю, что они по доброй воле отправились бы в путешествие с такими спутниками. - Двое пленников? - Точнее, пленниц. Это были две женщины, одна со светлыми волосами, другая - с темными. - Шизала и Хоргул! - воскликнул я. - Они еще здесь? - нетерпеливо спросил Дарнад. - Не знаю. Могли уехать ночью, но думаю, они еще в Варнале. - А где они остановились? - Да-а, трудновато тебе придется, если ты ищешь пленниц. Аргзунов здесь принимают с почетом. Они - гости благородного брадхи нашего города и живут в его "дворце". - Брадхи? А как же Чинод Шай? - Так это он и есть. Называет себя брадхи Чинод Шай. Все как полагается, а? Ха, брадхинак Дарнад, теперь он тебе ровня. - Вот мерзавец, важничать вздумал! - Может, он и мерзавец, - сказал Белет Воэр задумчиво, - да только многие династии в наших краях начинались точно так же. Дарнад рассмеялся. - Ничего не поделаешь, один-ноль в твою пользу, Белет Воэр. Но Чинод Шай - случай особый. Он подлый убийца, на его счету - жизни, по крайней мере, тридцати женщин и детей. - Ты к нему несправедлив, - ухмыльнулся Белет Воэр. - По крайней мере, одного юношу он убил в честном бою. Обернувшись ко мне, Дарнад сказал серьезно: - Если аргзунам здесь покровительствует Чинод Шай, нам будет очень трудно добраться до Шизалы и другой женщины и освободить их. Все складывается не в нашу пользу. - У меня есть несколько соображений по этому поводу, если тебе, конечно, интересно, - заметил Белет Воэр. - Я выслушаю все, что угодно, если в сказанном будет хоть крупица здравого смысла. - Дело в том, что аргзуны и женщины, прибывшие с ними, остановились в отдельных комнатах "дворца", специально предназначенных для нежданных гостей. - Ну и что? - вырвалось у меня. - Эти комнаты очень удобно расположены - на первом этаже. В них большие окна. Я думаю, вы сможете помочь своим друзьям… э-э… не тревожа покой нашего славного брадхи? - А что, они разве не охраняются? - нахмурясь, спросил я. - Нет, конечно, стража есть. Вокруг всего дворца расположено несколько сторожевых постов. Он, наверное, боится воров. Ай-я-яй, так не доверять своим подданным! - Как же мы пройдем в комнату для гостей, минуя стражу? - Я потер подбородок. - Вам придется от них избавиться. Они очень осторожны. Лучшие воры Алой равнины пытались поживиться добром Чинод Шая. Некоторым даже повезло. Но большинство лишь украсили городскую стену… своими головами. - Но как нам обезвредить стражников? - Тут, - подмигнул нам Белет Воэр, - я могу вам помочь. Простите. - Он поднялся и заковылял прочь из комнаты. - Очень приятный старик, правда? - сказал Дарнад, когда Белет Воэр вышел. Я кивнул: - Очень. Но он подвергает себя опасности, помогая нам. Если нам повезет, Чинод Шай, конечно заподозрит, что без участия Белет Воэра не обошлось. - Ты прав. Но я сомневаюсь, чтобы Чинод Шай что-то сделал Белет Воэру. Тот знает много секретов, и некоторые из них касаются Чинод Шая. И кроме того, Белет Воэра любят, а Чинод Шай весьма непрочно сидит на своем самодельном троне. Немало найдется таких, кто хотел бы скинуть его с трона, а для этого ему нужно заручиться поддержкой простых людей. Если с Белет Воэром что-нибудь случится, это может оказаться хорошим поводом, который будущий брадхи воров ни за что не упустит. Чинод Шай не может не отдавать себе в этом отчета. - Ну хорошо, - сказал я, - и все-таки я думаю, что ради нас он рискует больше, чем нужно. - Я же сказал тебе, Майкл Кейн, мы с ним связаны. Очевидно в этой простой фразе заключался важный для Дарнада смысл. Мне кажется, я его понимал. Такие качества, как верность, внутренняя дисциплина, сдержанность, выдержка, правдивость, твердость и почтительное отношение к женщине, очевидно, вышли из моды в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, но на Марсе, на моей Вашу, они все еще сохранились в людях. Надо ли удивляться, что я предпочитаю Красную планету Земле? Скоро Белет Воэр вернулся с длинной трубкой и маленькой шкатулкой изысканной работы. - Это заставит ваших стражников замолчать, - сказал он, размахивая шкатулкой. - Но только на время. Этим вы их не убьете. Он открыл шкатулку и показал содержимое. Там лежало множество крошечных иголочек с перышками на одном конце. Я сразу понял, что это была трубка для пускания отравленных стрел, а в шкатулке лежали снаряды для нее. На конце иголок, видимо, был яд, от которого и должны были замолчать стражники. Мы молча взяли наше новое оружие. - До заката еще около восьми шати, - сказал Белет Воэр. - Время поговорить о былом, а? Сколько человек приехало с тобой? - Осталось шестеро, - сказал Дарнад. - Места здесь хватит всем. Пригласи их, пусть выпьют с нами басу. Дарнад вышел, чтобы позвать своих воинов. Они приняли кубки с басу с благодарностью. Белет Воэр принес также еду. Время тянулось, и мне казалось, восемь шати никогда не закончатся. Я провел почти все это время, погрузившись в собственные мысли. Скоро, если провидение будет на нашей стороне, я снова увижу Шизалу. Мое сердце забилось сильнее, я ничего не мог с собой поделать. Да, она никогда не будет моей, но мне нужно знать, что ей ничто не угрожает, нужно быть рядом, чтобы в случае опасности защитить ее. Стемнело. Белет Воэр взглянул на меня. - Восемь - хорошее число, - сказал он. - Вас не так мало, если вы попадете в беду, и не так много, чтобы бросаться в глаза. Мы молча поднялись, тишину нарушал только скрип наших кожаных доспехов и звон оружия. - Прощай, Дарнад, - сказал Белет Воэр и крепко пожал плечо молодого брадхинака. Дарнад ответил тем же. В их расставании было что-то окончательное, как будто Белет Воэр знал, что они больше никогда не увидятся. - Прощай, Белет Воэр, - сказал Дарнад тихо. Их глаза на миг встретились, и Дарнад шагнул к двери. - Спасибо, Белет Воэр, - сказал я. - Удачи вам, - пробормотал он в ответ. Вслед за Дарнадом мы все вышли и направились ко "дворцу" Чинод Шая. Здание, к которому мы пришли, стояло в центре города. В нем было два этажа. Несмотря на каменный фундамент, все здание было построено из дерева. Дворец стоял на открытой площади, от которой лучами расходились узкие улочки. Укрывшись в тени одного из домов, мы следили за стражниками, находящимися в карауле у дворца. Белет Воэр подробно объяснил Дарнаду, где были комнаты для гостей и каков был, по всей вероятности, распорядок дня во дворце. Мы подумали, что Шизала и Хоргул вряд ли будут ужинать с Чинод Шаем. В это время они скорее всего останутся одни, а аргзуны будут пировать вместе с хозяином в главном зале дворца. Это означало, что, если повезет, мы спасем женщин, не поднимая шума. После некоторого наблюдения, приноровившись к движениям стражников, Дарнад зарядил трубку первой ядовитой стрелой и прицелился. Его выстрел был точен, стрела попала в цель: я видел, как стражник схватился за горло и почти беззвучно повалился на землю. Второй стражник - теперь их оставалось трое - увидел, как упал его товарищ, и бросился к нему. Он склонился над ним, и мы услышали: - Вставай, Акар, иначе брадхи тебя не помилует! Говорил я тебе, не пей столько перед дежурством! Я задержал дыхание: Дарнад прицелился во второго стражника, тихо выстрелил, и тот упал. Третий стражник завернул за угол и увидел, что двое его товарищей лежат на земле. Он был в явном недоумении: - Эй, вы что? Что все это?.. Но это ему не суждено было узнать, так как третья стрела Дарнада попала ему в обнаженное плечо. Яд действовал мгновенно. Стражник упал. Дарнад усмехнулся: успех был близок. Четвертый стражник получил стрелу в грудь еще до того, как увидел своих товарищей. Когда все четыре стражника лежали на земле, мы двинулись в сторону комнаты для гостей, ступая тихо, как кошки. Скоро, теперь уже скоро, думал я, все это будет позади, мы вернемся в Варнал и будем жить в мире и спокойствии. Я стану изучать изобретения шивов и сам что-нибудь придумаю для карналов. С моей помощью Карналии не нужно будет больше бояться нападения. У них было уже все необходимое для создания двигателя внутреннего сгорания, электрического генератора, радио, и все это я мог бы помочь им наладить. Мысли, не совсем подходящие для такого момента, не оставляли меня, пока мы ползли к окнам комнаты для гостей. Рам со стеклами на окнах не было вообще, они были закрыты лишь ставнями. Все, кроме одного! В ту ночь удача была на нашей стороне! Я осторожно заглянул в комнату: роскошная, правда, несколько в безвкусном стиле, мебель, резные скамьи и шкафы, меховые ковры на полу. Все это было освещено факелом, укрепленном на стене. Комната была пуста. Я перебрался через подоконник бесшумно, как только мог, за мной - Дарнад и все остальные, и вот мы все уже стояли в комнате, глядя друг на друга, стараясь поймать малейший шум, который подсказал бы нам, где были женщины. Наконец раздался какой-то звук, но он мог обозначать что угодно. С уверенностью можно было сказать только одно: он исходил из человеческого горла. Звук шел из соседней комнаты. Дарнад и я направились в ту сторону, следом - наши воины. У дверей мы остановились: странно, но комната была не заперта. Теперь оттуда раздался другой звук, он напоминал смех. Женский смех! А может, я ошибся, и это был не смех? Потом мы услышали низкий голос, но слов мы не разобрали. Дарнад взглянул на меня. Наши глаза встретились, и, словно по молчаливому согласию, мы одновременно толкнули дверь. Луч факела осветил две фигуры в комнате. У окна стояла Хоргул, а недалеко от нее - Шизала. Моя Шизала! У нее были связаны руки и ноги. Но Хоргул была свободна! Она стояла, положив руки на бедра и улыбаясь Шизале, которая смотрела на нее с яростью. Улыбка застыла на губах Хоргул, когда она увидела нас. А Шизала радостно вскрикнула: - Майкл Кейн! Дарнад! О, благодарю тебя, Зар, вы пришли! Хоргул стояла с непроницаемым лицом, ничего не говоря. Я шагнул к Шизале, чтобы ее развязать. Но я не отрывал глаза от Хоргул, так как не понимал, какую роль во всем этом играет она. Пленница она все-таки или нет? Сейчас казалось, что нет. И все же… Она вдруг рассмеялась мне в лицо. Я закончил развязывать Шизалу и спросил: - Почему ты смеешься? - Я думала, ты уже мертв, - сказала она, не обращая внимания на мой вопрос. И вдруг она подняла голову и пронзительно закричала. - Тихо! - сказал Дарнад свирепым шепотом. - Ты же переполошишь весь дворец! Мы желаем тебе только добра. - Конечно, вы желаете мне добра, - сказала она Дарнаду, сделавшему шаг в ее сторону. - Но я-то, я желаю вам зла! - Она снова закричала. В коридоре раздался какой-то шум. На глазах Шизалы блестели слезы - слезы горя и благодарности: - О, Майкл Кейн! Я знала, что ты меня спасешь. Я думала, они убили тебя, и все же… - Не время говорить об этом, - сказал я грубо, стараясь так скрыть глубокое волнение, охватившее меня от ее близости. - Нужно спасаться. Дарнад зажал рукой рот Хоргул. Он чувствовал себя неуютно: ему не приходилось еще так обращаться с женщиной. - Хоргул вовсе не пленница, - сказала Шизала. - Она… - Теперь я и сам вижу, - сказал я. - Пошли, нужно торопиться. Мы повернулись и пошли к окну, Дарнад за нами. Но мы не успели добраться до окна: в комнату ворвалось множество воинов под командованием двух аргзунов и еще одного человека с ярким обручем на жирных, спутанных волосах. Дарнад, я и наши шесть воинов развернулись, встав между ними и Шизалой. - Быстро уходи, Шизала, - сказал я тихо. - Иди к дому Белет Воэра. - Я быстро объяснил ей, как найти старика. - Я не могу вас покинуть. Не могу! - Ты должна. Нам будет легче сражаться, если мы будем знать, что по крайней мере ты в безопасности. Прошу тебя, сделай, как я говорю. - Я не сводил глаз с аргзунов, каждую секунду ожидая их атаки. Они осторожно приближались. Кажется, она вняла моим уговорам, и с огромным облегчением я увидел краешком глаза, как она перелезла через подоконник и скрылась в темноте ночи. Хоргул подошла к нам, ее лицо дышало яростью. - Эти люди хотели похитить меня и вторую женщину, - она показала на нас человеку с жирными волосами, который стоял с обнаженным мечом. - Вы что, не знаете, - обратился он к нам, бросив в нашу сторону злобный взгляд, - Чинод Шай свято заботится о безопасности своих гостей и жестоко карает всякий сброд вроде вас, осмеливающийся вторгаться сюда. - "Сброд", - повторил Дарнад. - И это говоришь ты, убийца детей, ты, который называешь себя брадхи, королем над всеми этими головорезами и жуликами. Чинод Шай ухмыльнулся. - А ты храбрец! Но сейчас это не имеет значения. Ты умрешь. И тут он и его мерзкие союзники бросились на нас, и началось сражение. Моими противниками были Чинод Шай и один из аргзунов, и хотя я превосходил обоих в умении владеть мечом, мне приходилось только защищаться. Мне немного помогало то, что, нападая вместе, они мешали друг другу. Я держался, как мог, и вдруг увидел, что у меня появился шанс. Я быстро перебросил меч из правой руки в левую, и на секунду их это сбило с толку. Я бросился на аргзуна, который соображал медленнее, чем Чинод Шай, и попал в грудь. Со стоном он упал на пол. Оставался самозванный брадхи Нарлета. Но видя, что огромный синий воин упал, Чинод Шай вдруг почувствовал, что ему расхотелось драться самому, и он поспешно уступил свое место стражникам. Пришел мой черед ухмыльнуться. Один за другим наши воины падали, пока не оказалось, что с врагами продолжали сражаться только Дарнад и я. Мне было все равно, умру я или нет. Шизала была в безопасности, и я знал, что старый пройдоха Белет Воэр позаботится о ней, поэтому я не боялся умереть. Но я не умер. Врагов было так много, и они окружали нас так плотно, что мы больше боролись врукопашную, чем действовали мечом. Их было слишком много. Вскоре, второй раз за неделю, я получил удар по голове, но этот удар был нанесен отнюдь не из сострадания. Меня со всех сторон обступила тьма, все чувства смешались, и я потерял сознание.IX. Погребенные заживо
Первое, что я начал каким-то образом ощущать, когда пришел в себя, был запах плесени, подсказывавший, что я под землей: только там воздух мог быть таким сырым, и промозглым, и каким-то затхлым. Я открыл глаза, но ничего не увидел, подвигал руками и ногами - они по крайней мере были не связаны. Попытавшись подняться, я ударился головой. Оказывается, передвигаться можно было, только сильно пригнувшись. Я пришел в ужас. Меня что, замуровали в каком-то склепе? Неужели я должен был медленно умереть от голода? Или, может, потерять рассудок? С усилием я овладел собой. И тут я почувствовал какое-то движение слева. Я осторожно ощупал землю вокруг, и моя рука коснулась чего-то теплого. Кто-то застонал. Оказывается, это была нога другого человека, он зашевелился и пробормотал: - Кто здесь? Где я? - Дарнад? - Да. - Это Майкл Кейн. Кажется, мы в подземной тюрьме с очень низким потолком. - Что? Я услышал, как Дарнад сел, вероятно, подняв руки и наткнувшись ими на потолок: - Нет! - Ты что, знаешь это место? - Да уж, слыхал о нем. - И что это? - Старая отопительная система. - Звучит вполне безобидно. Ну и что? - На месте Нарлета когда-то был старинный город шивов. От него почти ничего не осталось, кроме основания одного-единственного здания, как раз и послужившего Чинод Шаю фундаментом для его дворца. Очевидно, плиты пола покрывают древний подземный бассейн, наполнявшийся горячей водой, которой с помощью системы труб обогревался первый этаж, а может, и весь дворец. Судя по тому, что я слышал, - добавил Дарнад, - шивы оставили город, когда их цивилизация находилась в расцвете, так как позднее они стали применять более совершенные методы отопления. - Итак, мы похоронены под дворцом Чинод Шая. - Я слышал, ему доставляет удовольствие держать своих вечных пленников здесь - буквально у своих ног. Я не засмеялся, но оценил способность Дарнада шутить в такое время. Я восхищался твердостью этого мальчика. Я поднял руку, пощупал гладкие влажные плиты над головой, попробовал нажать на них: ни одна даже не шевельнулась. - Если он может поднять плиты, то почему мы не можем? - Поднимаются всего несколько плит, но на них ставят тяжелую мебель, когда здесь пленники. - Да-а, нас действительно заживо похоронили, - сказал я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не вздрогнуть от ужаса. Конечно, я испытывал ужас, зачем это скрывать. Я думаю, самый неустрашимый человек почувствовал бы то же самое при мысли об ожидавшей нас участи. - Да, - ответил Дарнад, и его голос был неожиданно хриплым и сдавленным. Конечно, ему тоже было не по себе от того, что с нами происходило. - По крайней мере мы спасли Шизалу, - напомнил я ему. - Белет Воэр позаботится о том, чтобы она вернулась в Варнал. - Да, - голос Дарнада был чуть-чуть менее напряженным. Мы замолчали на миг, потом я принял решение: - Дарнад, если ты останешься на месте, я смогу здесь ориентироваться и попробую обследовать нашу тюрьму. - Хорошо, - согласился Дарнад. Конечно, пришлось ползти - другого способа не было. Я считал "шаги", двигаясь по этому противному, мокрому, пахнущему плесенью полу. При счете "61" я оказался у стены и стал ползти вдоль нее, продолжая считать. Что-то появилось у меня на пути. Сначала я не понял, что это было. Какие-то тоненькие палочки. Я их осторожно ощупал. И бросил в ужасе, когда догадался, что это. Кости. Одна из жертв Чинод Шая, попавшая сюда до нас. На своем пути вдоль стены я наткнулся еще на несколько скелетов. От начала стены я насчитал 97 "шагов", вторая стена составляла только 54 "шага", а третья - 126. Я не знал, зачем я считаю эти "шаги", наверное, чтобы занять мозг и ни о чем больше не думать. Четвертая стена. "Шаг", два, три… На семнадцатом "шагу" моя рука коснулась… пустоты. Я добрался до круглого отверстия в четвертой стене, наверное, это была водопроводная труба. Она была достаточно широкой - в нее как раз мог пролезть человек. Но ведь, конечно, эта труба не могла быть путем к спасению! Я протянул руку - стены были влажными и скользкими, но передо мной не было никаких препятствий. Прежде чем обнадеживать Дарнада, я решил убедиться, что через трубу и в самом деле можно было бежать. Я втиснулся внутрь, извиваясь, как змея. Меня ничто не останавливало, и я воспрянул духом. Я полз вперед! Вообще я не люблю столь тесно замкнутого пространства, но если по трубе можно было спастись, я готов был несколько минут потерпеть клаустрофобию. И тут - жестокое разочарование! Мои руки коснулись чего-то. В тот же миг я уже знал, что это было. Еще один скелет. Еще один несчастный - или даже не один, а несколько. Наверное, они искали путь к спасению, но испытали горькое разочарование. У них, возможно, не хватило сил вернуться, или просто им было все равно. Я глубоко вздохнул и начал выбираться из трубы. Но в это время позади меня, там, где был сейчас Дарнад, раздался какой-то звук. Звук удара камня о камень. Бассейн, видимо, осветили - через трубу мелькнул свет. Я услышал, как кто-то довольно хмыкнул. Я не двигался, я ждал. Тут до меня донесся голос Чинод Шая. Он говорил с явной издевкой. - Приветствую тебя, брадхинак. Как тебе здесь нравится? Дарнад не отвечал. - Ну выходи, выходи, я хочу показать моим людям, как выглядит брадхинак из страны Карналии. Там, внизу, наверное, сыровато. Сожалею, что мне пришлось поместить тебя в такие условия, к каким ты совсем не привык. - Уж лучше я останусь здесь, чтобы не подвергаться оскорблениям со стороны такого мерзавца, как ты, - ровным голосом ответил Дарнад. - А твой друг, чужестранец? Ему-то, наверное, захочется получить небольшую передышку. Где он? - Не знаю. - Не знаешь? Но вас же туда скинули вместе. Не лги мне, малыш, где там твой дружок? - Не знаю. Свет стал ярче, наверное, Чинод Шай осматривал наш склеп. В его голосе послышалось недовольство. - Он должен быть внизу! - Сам видишь, его здесь нет, - ответил Дарнад, как мне показалось, с облегчением. - Разве что один из этих скелетов - его. - Не может быть! Стража! Я услышал над головой шаги. - Поднимите еще несколько плит, - неистовствовал Чинод Шай, - посмотрите, не прячется ли он где-нибудь в углу. Он где-то там, внизу. А пока давайте сюда карнала. Шум. Как я догадываюсь, Дарнада увели. Я услышал, как стражники стали двигать мебель и убирать плиты. Я усмехнулся про себя, надеясь, что им не придет в голову заглянуть в трубу. Вдруг меня осенило. Конечно, то, что мне предстояло сделать, было делом мало приятным, но это могло спасти меня и, значит, дать мне шанс спасти Дарнада. Я снова пополз по трубе вперед и, добравшись до скелета, взял кости. Ему, несчастному, не повезло, но хотя он умер много лет назад, сейчас он мог мне помочь - помочь отплатить и за него тоже, если предоставится такой случай. Прижавшись к стенке трубы, я стал переправлять кости в ноги, так что, когда я закончил, позади меня возвышалась целая гора из них. Я проделал все это достаточно тихо: любой мой звук все равно заглушали брань стражников и производимый ими шум. Один из них ползал в полумраке подземной тюрьмы, пытаясь меня обнаружить, а другой топтался наверху, освещая ему путь. - Его здесь нет, - услышал я голос первого. - Дурак! - ответил ему второй. - Он должен быть там. - Говорю тебе, его здесь нет! Иди, посмотри сам. Второй стражник спустился вниз, и я услышал, как и он стал ползать по земле, пытаясь отыскать меня. - Не понимаю, отсюда же нет выхода. Уж сколько народу мы сюда отправили, все было нормально. Э, а это что такое? Стражник обнаружил трубу. Свет стал еще ярче. - Мог он забраться сюда? Даже если так, ничего хорошего для него из этого не выйдет: труба закрыта с того конца. Стражник увидел кости. - Нет, он не пытался сбежать по этой трубе, но кто-то до него пробовал. Вон лежат кости. - Что мы скажем брадхи? - нервно спросил первый стражник. - Все это смахивает на колдовство! - Колдовства не бывает. - Да, это сейчас так считают, но мой дедушка говорит… - Заткнись. Колдуны, привидения… Все это чушь! Но все же надо признать, он выглядел как-то странно, он не был похож ни на одного человека, которого я когда-либо видел. Говорят, за океаном есть другая земля, где люди обладают невероятной властью над природой. И потом, ведь есть шивы… - Шивы! Точно! - Говорю тебе, придержи язык. Чинод Шай вырвет его, если услышит, что в его дворце ведут такие разговоры. - А что же мы ему скажем? - Только факты. Тот человек был здесь - теперь его здесь нет. - А он нам поверит? - Будем надеяться. Я слышал, как стражники поднялись в комнату и ушли. В тот же миг я стал выбираться из трубы и вскоре уже стоял на земле, там, где еще недавно была моя тюрьма; пол комнаты был на уровне моих плеч. Повсюду я увидел следы лихорадочных поисков. Что же, все хорошо. Я подтянулся на руках и выбрался из подземелья. Кажется, я попал в тронный зал, в одном конце которого стояло огромное позолоченное, причудливо украшенное кресло. Никого не было. Стараясь не шуметь, я быстро подбежал к двери и остановился там, прислушиваясь. Дверь была наполовину открыта, из-за нее доносились рассерженные голоса. За стенами дворца, на улицах Нарлета, тоже, кажется, было много шума и криков, в которых слышался гнев. Я услышал, что по двери в другом конце зала кто-то изо всех сил застучал кулаком. Вдруг дверь, у которой я стоял, распахнулась, и прямо передо мной возник Чинод Шай. Он замер на миг, с ужасом глядя на меня. Этого мига мне было достаточно. Я бросился вперед и выхватил меч, висевший у него за поясом. Я прижал кончик лезвия к его горлу и сказал с мрачной усмешкой: - Только попробуй пикнуть, Чинод Шай! Позовешь стражу - придет твоя смерть. Он побледнел и издал какой-то нечленораздельный звук. Я втолкнул его в комнату и захлопнул дверь. Мне повезло: все были настолько заняты, что не обратили внимания на то, что случилось с их "брадхи". - Говори тихо, - приказал я. - Расскажи, что произошло. Где мой друг? - Но как… как тебе удалось ускользнуть? - Вопросы задаю я! А ты отвечаешь. Он недовольно фыркнул. - Что это значит? - Отвечай на мой вопрос, слышишь! - Городская чернь атакует мой дворец, - сказал он. - Какой-то самозванец хочет занять мое место. - Думаю, он будет лучшим правителем, чем ты. Итак, где мой товарищ? - Там, - он махнул рукой назад. Вдруг кто-то вошел. Я ожидал, что стража постучит, и я хотел заставить Чинод Шая сказать, чтобы никто не входил. Но это был не стражник. Это был уцелевший аргзун. В изумлении он уставился на меня, потом развернулся и закричал, призывая стражников. Когда они вбежали, я отступил, оглядываясь. Но бежать было некуда: все ставни на окнах были закрыты. - Убейте его! - завопил Чинод Шай, указывая на меня дрожащим пальцем. - Убейте его! Во главе с синим великаном стражники направились ко мне. Я знал, что это - смерть. Второй раз в плен они меня брать не будут.X. В пещеры Мрака
Сам не знаю, как, но какое-то время мне удавалось с ними справляться. Вдруг я увидел позади них Дарнада с мечом, который он где-то добыл. Мы сражались теперь вместе, но знали, что рано или поздно нас победят. И тут неожиданно раздался ликующий крик, и в тронный зал ворвалась дикая толпа людей, размахивающих мечами, копьями и алебардами. Их вел за собой симпатичный молодой человек, и по его горящим глазам, в которых я прочел расчет и торжество, я угадал в нем следующего претендента на пост сомнительной важности - короля Города Воров. И теперь, когда ворвавшиеся в зал люди помогали Дарнаду разделаться с аргзуном и стражниками, я занялся Чинод Шаем. На этот раз, сказал я себе, отступить ему будет некуда. Чинод Шай разгадал мои намерения, и это, кажется, придало ему ловкости. Мы сражались с большим упорством, попеременно наступая, над костями людей, заживо замурованных этим самозванным "брадхи", чтобы потешить свой извращенный ум. В одном конце зала звенели наши клинки - мы нападали, парировали удары, снова бросались вперед, - а в другом конце в тесный клубок сплелись стражники и восставшие, от которых первые безуспешно пытались отбиться. Тут случилась беда; по крайней мере так мне тогда показалось. Я споткнулся об одну из вынутых из пола плит и упал в яму. Я уже видел, как Чинод Шай поднимает меч для удара, которым должен был прикончить меня, распростертого на земле и беспомощно взирающего на него. Но когда клинок уже опускался над самым моим сердцем, я нырнул под пол и услышал, как, потеряв равновесие, Чинод Шай с бранью упал в яму. Он увидел меня и, едва оправившись от падения, бросился вперед. Приподнявшись на левой руке, я тоже рванулся ему навстречу и попал мечом прямо ему в сердце. Я провернул лезвие в его теле, и Чинод Шай упал назад со стоном. Я выбрался из ямы. - Это самая подходящая для тебя могила, Чинод Шай, - сказал я. - Лежи там рядом с костями тех, кого ты столь жестоко убил. А ты умер слишком быстрой смертью, хотя следовало тебя немного помучить. Как раз в этот момент я увидел, что Дарнад расправляется с последним аргзуном. Битва закончилась, и молодой человек, командовавший восставшими, поднял руку вверх с криком: - Чинод Шай умер! Тиран убит! Толпа закричала с восторгом: - Да здравствует Морде Кон! Да здравствует брадхи Нарлета! Морде Кон повернулся ко мне с улыбкой: - Враги Чинод Шая - мои друзья. Сами того не желая, вы помогли мне занять престол. А где сам Чинод Шай? Я показал на подземную тюрьму. - Я его убил, - сказал я просто. Морде Кон рассмеялся: - Прекрасно! За эту маленькую услугу у меня еще больше оснований назвать тебя своим другом. - Я сделал это не для того, чтобы оказать тебе услугу. Я просто не мог отказать себе в удовольствии остановить злодея. - Ну ладно. Послушайте, я очень сожалею о смерти вашего друга. - Нашего друга? - переспросили мы с Дарнадом, который как раз подошел. У него была только неопасная рана на правом плече. - Белет Воэр мертв - вы что, не знали? - Что случилось с Белет Воэром? - быстро спросил Дарнад. Должен заметить, я думал не только о Белет Воэре, но и о девушке, которую я к нему отправил, о Шизале. - Да ведь это как раз тот случай, который помог мне собрать людей против Чинод Шая, - сказал Морде Кон. - Чинод Шай и его синий друг узнали, что вас видели в доме Белет Воэра, и они отправились туда и велели там жеотрубить ему голову. - Белет Воэр мертв? Ему отрубили голову? Нет, нет! - Лицо Дарнада стало белым от ужаса. - Боюсь, что так. - А девушка, которую мы спасли? Ну та, которую мы к нему отправили? - Я говорил очень неуверенно, почти робко, так боялся услышать ответ. - Девушка? Не знаю, о девушке я ничего не слышал. Наверное, она еще в доме, прячется где-нибудь. Я вздохнул с облегчением. Это было вполне вероятно. - Я еще кое-кого не вижу, - сказал Дарнад. - Эта женщина из рода владняров, Хоргул, где она? Вместе мы обыскали весь дворец, но ее и след простыл. Наступала ночь, и мы одолжили у нового брадхи дахар, чтобы отправиться к дому Белет Воэра. Там царил беспорядок. Мы звали Шизалу, но нам никто не ответил. Шизалы там не было. Но куда она делась? И как? Мы покинули дом совершенно без сил: чего стоила наша победа, если мы не нашли Шизалу? Мы вернулись во дворец узнать, не может ли Морде Кон нам помочь. Новоявленный брадхи как раз руководил установкой плит пола на место. - Они будут зацементированы, - сказал он, - чтобы больше никому в голову не пришло использовать их в таких жутких целях. - Морде Кон, - сказал я с отчаянием, - девушки нет в доме Белет Воэра. Мы знаем, что по собственной воле она бы никуда не ушла. Вы захватили кого-нибудь из стражников Чинод Шая живым? Если да, один из них наверняка сможет рассказать о том, что случилось. - Я думаю, в караулке вы найдете несколько стражников, - сказал Морде Кон. - Допросите их, если хотите. Мы пошли в караулку. Там было три злых раненых стражника. - Где Шизала? - спросил я. - Шизала? - один из них нахмурясь посмотрел на меня. - Белокурая женщина, пленница, которая здесь была? - Ах эта! Думаю, они сбежали вместе. - Вместе? - Она и еще та темноволосая женщина. - Отвечай, куда они ушли! - А какой мне смысл говорить вам то, что я знаю? - Стражник хитро посмотрел на меня. - Я поговорю с Морде Коном. Он мне кое-чем обязан. Я попрошу его быть к тебе снисходительным. - А ты сдержишь свое слово? - Конечно. - Думаю, они направились к Аргзунским горам. - Да? Но почему? - вмешался Дарнад. - Не могу себе представить, что кто-нибудь, включая владняров, отправился бы в Аргзунию по доброй воле. Синие великаны ни с кем не дружат. - Хоргул связана с великанами каким-то таинственным образом. Когда мы найдем ее, возможно, узнаем обо всем, - сказал я. - Ты можешь нас отвести в Аргзунские горы, Дарнад? - Думаю, да, - кивнул он. - Тогда надо отправляться в путь, нужно спешить за ними! Если нам повезет, мы их догоним по дороге. - Да, лучше бы догнать, - сказал Дарнад. - Почему? - Аргзуны буквально живут в горах, в Пещерах Мрака, которые расположены под землей. Некоторые говорят, что эти пещеры - мрачный мир мертвецов, и судя по тому, что я слышал о них, это вполне возможно! Я попросил Морде Кона о милости к стражнику, и мы вышли из дворца, сели на дахар и поехали в ночь, держа путь к ужасным Пещерам Мрака. Нам не повезло. Сначала захромала дахара Дарнада, оступившись на остром камне. Нам пришлось двигаться шагом, пока не добрались до какого-то поселка, где обменяли первоклассного зверя Дарнада на жилистую клячу, вряд ли отличавшуюся выносливостью. Потом мы сбились с пути на бесплодной равнине, известной как Пустыня Горя, и поняли, почему, ступая на нее, путники чувствовали себя несчастными. Дахара, которую выменял себе Дарнад, оказалась, однако, очень сильной, и моя устала гораздо раньше нее. Наконец мы пересекли Пустыню Горя и выехали на берег невероятно широкой реки - она была шире, чем Миссисипи. Пришлось еще немного задержаться, пока мы нашли, у кого можно одолжить лодку, и переправились на другой берег. К счастью, у Дарнада на руке был дорогой перстень, который нам удалось обменять на жемчуг, служивший в тех местах чем-то вроде денег. Мы купили провизию в городке у реки, где узнали, - к своему облегчению, ибо мы боялись, что стражник мог нам солгать, - что здесь проезжали две женщины, похожие по описанию на Хоргул и Шизалу. Мы спросили, было ли видно, что Шизала ехала по принуждению, но нам сказали, что она не была связанной. Это было непостижимо; нельзя понять, почему Шизала едет за страшной повелительницей аргзунов по доброй воле. Но мы сказали себе: все разъяснится, как только их догоним. Они все еще обгоняли нас на три дня. Итак, мы переправились через реку Карзакс в рыбачьей лодке и перевезли дахар и провизию. Это было трудной задачей, и течение снесло нас на много миль вниз по реке, прежде чем мы выбрались на другой берег. Мы привязали лодку, так как договорились, что рыбак потом заберет ее. Нагрузив провизию на дахар, тронулись в путь. Мы въехали в лес; таких деревьев, как там, я до этого никогда не видел. Стволы их не были одной сплошной твердой массой, а состояли из множества тонких стебельков, которые, переплетаясь, образовывали ствол в тридцать-сорок футов в диаметре. Кроме того, деревья были совсем невысокими, иногда доходили нам только до плеча, и, проезжая между деревьями, мы сами себе казались гигантами! Листва на деревьях была цвета папоротника в Алой равнине, и хотя алый преобладал, он не был здесь единственным цветом. Присутствовали всевозможные оттенки зеленого, синего, желтого, коричневого, оранжевого. Казалось, в этом лесу вечно царит осень, и мне было приятно смотреть на причудливые приземистые деревья. Какими бы странными ни были, они непонятным образом напомнили мне детство. Путешествуй мы с другой целью, я бы мечтал побыть в лесу еще немного, отдохнуть здесь. Но здесь присутствовало нечто, с чем мы должны вскоре встретиться; чутье подсказывало, что нужно скорее двигаться вперед. На третий день путешествия по этому лесу Дарнад вдруг натянул поводья и молча показал сквозь листву. Я ничего не увидел, поэтому недоуменно пожал плечами. Дахара Дарнада двигалась теперь как-то беспокойно, да и моя тоже. Дарнад начал разворачивать свою дахару, показывая в том направлении, откуда мы приехали. Его необычный обезьяноподобный зверь быстро послушался всадника, и когда я последовал его примеру, моя дахара также развернулась очень быстро, как бы радуясь этому. Дарнад снова остановился, опустив руку на меч. - Поздно, - сказал он. - Мне следовало тебя предупредить раньше. - Но я ничего не вижу и не слышу. О чем ты должен был меня предупредить? - Хилла. - Хилла? А что это? - Вот, - показал Дарнад. Скрываемый листвой, такой же пестрой, как и его шкура, крался зверь, с которым мне не хотелось бы встретиться даже в кошмарном сне. Каждая из его восьми лап заканчивалась шестью длинными крючковатыми когтями. У зверя были две мерзкие головы: широкая пасть с длинными и острыми, как бритва, зубами, горящие желтые глаза, трепещущие ноздри. Эти головы были посажены на одну крепкую шею, росшую из похожего на бочку тела, которое также было крепким и мускулистым. Кроме всего прочего, у зверя было два хвоста! Никакое описание не может передать, что это было за чудовище. Оно просто не могло существовать наяву, и тем не менее двигалось прямо на нас! Хилла остановилась в нескольких ярдах, помахивая двумя хвостами и разглядывая нас двумя парами глаз. Единственное, что могло служить нам утешением, был размер чудовища: оно было раза в два меньше обыкновенной дахары. Но выглядело оно устрашающе и могло, как я догадывался, легко расправиться с нами. Чудовище прыгнуло. Не на меня, не на Дарнада. Оно прыгнуло на голову дахары Дарнада. Бедная дахара вскрикнула от боли и страха, когда этот урод вонзил все восемь лап с острыми когтями в ее плоскую голову и прямо прирос там, впиваясь двумя рядами зубов в спинной мозг. Дважды Дарнад пытался сбросить хиллу, орудуя мечом, и я хотел приблизиться, чтобы ему помочь, но моя дахара упиралась изо всех сил. Пришлось спешиться. Я остановился за спиной хиллы. Ничего не зная о биологии марсианских животных, я выбрал на шее у хиллы место, соответствующее тому, в которое она кусала дахару. Я знал, что многие животные стараются поразить жертву в то место, которое для них самих является наиболее уязвимым. Я вонзил меч. В течение нескольких мгновений хилла еще держала голову дахары, но потом разжала когти и с леденящим кровь криком боли и ярости упала на мох. Я отступил, готовясь к атаке, на которую она могла оказаться способной. Но она встала, сделала несколько неверных шагов на своих трясущихся ногах прочь от меня и упала замертво. Тем временем Дарнад спустился на землю со своей дахары, стонущей от боли и бессильно переступающей по земле. Чудовище вырвало у бедного животного часть головы и тела. Мы не могли ничем помочь - разве что прекратить его мучения. С болью я увидел, как Дарнад пронзил голову дахары мечом и развернул его там. Теперь дахара и хилла лежали рядом. Растраченный впустую дар жизни, подумал я. Нам пришлось путешествовать вдвоем на одной дахаре, и хотя ей вполне оказалось по силам нести обоих, передвигаться мы могли раза в два медленнее, чем раньше. В тот день нас преследовала неудача за неудачей. Так, вдвоем на одной дахаре, мы выехали из этого леса, который мне поначалу так понравился. Дарнад сказал, что нам повезло, встретив только одну хиллу: лес буквально кишел ими. Очевидно, у них нападал сначала вожак, и если жертва оказывалась ему по силам, присоединялись и остальные. Если же вожак погибал, вся стая хилл потихоньку удалялась, считая, что враг слишком силен и не стоит рисковать. Кроме того, они всегда могли поживиться трупом своего вожака, а в данном случае, к тому же и трупом дахары. Хиллы были, вероятно, похожи на гиен: такие же сильные, но и такие же трусливые. Я поблагодарил провидение за это последнее их качество. В воздухе стало прохладнее - мы путешествовали уже больше месяца, - а небеса - темнее. Мы ехали теперь по обширной долине, покрытой черной грязью и обломками застывшей лавы, среди которых видны были руины каких-то строений, очевидно, очень древних, и чахлые низенькие кусты. Наша дахара то и дело проваливалась в глубокие лужи, или поскальзывалась на влажных камнях и липкой грязи, или спотыкалась об обломки старых домов. Я спросил Дарнада, не могли ли эти руины быть остатками какого-нибудь древнего города шивов, но он пробормотал, что, скорее всего, нет. - Подозреваю, что это руины города якшей, - сказал он. Я поежился под каплями начинавшегося холодного дождя. - А кто такие якши? - Говорят, они были заклятыми врагами шивов, хотя у них были одни и те же корни. - Это все, что ты знаешь? - Это все факты, известные мне. Остальное - догадки и полные предрассудков легенды. - Кажется, он содрогнулся, но не от холода, а от какой-то мысли. Мы все ехали вперед, правда, очень медленно, побежденные темнотой, царившей над этой заброшенной землей, останавливаясь на ночь - как ни трудно было отличить ее от дня - под какими-нибудь валунами или наполовину разрушенными стенами. По долине сновали необычные синевато-серые звери, раздавались странные крики, словно плач одиноких, сбившихся с пути существ, рядом с собой мы скорее чувствовали, чем слышали какой-то шум. Так продолжалось две недели, пока сквозь тусклый свет и туман над этими Оставленными Судьбой Землями не стали видны нависавшие утесы Аргзунии. Аргзунские горы были высокими, черными, зубчатыми и выглядели весьма негостеприимно. - Видя, в каких условиях живут аргзуны, - сказал я Дарнаду, - я могу понять, почему они такие, какие они есть; такой ландшафт не располагает к мягкости, нежному обхождению и хорошим манерам. - Согласен, - ответил Дарнад и добавил: - Нам нужно добраться до ворот Гор Делпас до наступления ночи. - А что это за ворота - Гор Делпас? - Это вход в Пещеры Мрака. Как я слышал, их никогда не охраняют, так как немного найдется желающих сунуть нос в подземное логово аргзунов: на них работает наша естественная боязнь темноты и замкнутого пространства. - А Пещеры опасны? - Не знаю, некому было об этом рассказать: оттуда никто не вернулся. К ночи мы были у ворот, и при тусклом свете Деймоса могли рассмотреть их. Мы увидели сделанный природой вход в пещеры, увеличенный не очень умелой рукой. Ворота были темными и мрачными, и я снова вспомнил, что мне рассказывал Дарнад. Только одно могло заставить меня войти в эти ворота - моя цель спасти девушку, которую любил и которую никогда не мог и не смогу назвать своей. Мы оставили нашу верную дахару у входа попастись в ожидании нашего возвращения. Если нам суждено будет вернуться. И вошли в Пещеры Мрака.XI. Королева аргзунов
В пещерах царил холод; им были пропитаны воздух, стены, земля; ни в какой другой части Оставленных Судьбой Земель не властвовал он столь безраздельно. Мы спускались все ниже и ниже по гладкой, широкой, извивающейся дороге, освещаемой редкими факелами. Их неверный свет выхватывал из темноты обширные гроты и пещеры в Пещерах, сталактиты и сталагмиты, ручейки холодной как лед воды, наваленные кучами черные камни, покрытые плесенью. Своим вторжением мы нарушали покой маленьких бледных зверушек, которые при звуках шагов испуганно разбегались. По мере удаления от входа вдоль дороги стали появляться военные трофеи: то пирамида из человеческих черепов, то скелет воина-аргзуна, облаченный в полную амуницию, с мечом, щитом, копьем и боевым топором. Скелет скалился зловещей ухмылкой смерти, взирая на нас с высоты своего роста. Жуткие предметы, лишь иногда вызываемые к жизни тусклым светом факелов, чтобы украсить собой это мрачное место, ибо они только и были единственным подходящим для него украшением. Дорога резко повернула влево. Следуя по ней, мы вдруг подошли к ужасной пещере, такой большой, что она казалась необъятной. Мы стояли у входа, рассматривая то, что открылось нашему взору: дорогу было видно еще мили на две вперед, вдоль нее на некотором расстоянии друг от друга располагались огромные костры, вокруг которых ютились целые деревушки. Недалеко от входа, в стороне, вырос город. Он казался родившимся случайно, из кучи наваленных друг на друга камней. Но несмотря на случайность своего появления на свет, теперь он производил впечатление прочности и устойчивости. Холодный, мрачный, массивный город. Под стать самим аргзунам. Мы видели, как по улицам по своим делам идут жители: мужчины, женщины, дети. В некоторых частях города были устроены загоны для дахар и животных, представлявшихся мне ручными хиллами. - Как мы туда попадем? - шепнул я Дарнаду. - Они сразу догадаются, кто мы такие. Тут я услышал сзади какой-то шум и увлек Дарнада в тень скалы. Через минуту около нас появился отряд из тридцати аргзунов. Точнее, когда-то это был отряд, но он попал в передрягу и являл собой теперь жалкое зрелище. У одних сочились кровью раны, у других доспехи были пробиты в нескольких местах и висели лоскутьями. Все еле передвигали ноги. Я понял, что скорее всего это были остатки "непобедимого" войска аргзунов, изгнанного из Варнала. Их появление еще больше укрепило нас в мысли, что нам нужно оставаться незамеченными - аргзуны наверняка не упустили бы шанс сорвать на нас свою ярость за неудачу в сражении. Но этим воинам было не до новых сражений. Они тащились мимо, не замечая нас, по извилистой дороге в свой пещерный мир, где потрескивали гигантские костры, стараясь - почти безуспешно - дать жителям свет и тепло. Как можно было ждать наступления ночи, если ночь здесь царила всегда? И как все-таки можно добраться до города и найти, где держали Шизалу? Ничего другого не оставалось, как начать ползти по дороге, стараясь изо всех сил держаться в тени и надеясь, что у аргзунов и без нас хватало забот: перевязывать раненых, набираться сил; вряд ли со всеми этими хлопотами они заметят нас. Ни разу ни одному из нас не пришло в голову вернуться за помощью. Слишком поздно. Нужно было полагаться только на себя, чтобы спасти Шизалу. И вдруг я подумал: а кто еще знал, что Шизала захвачена? Кто еще имел хоть какую-то информацию о том, куда ушли аргзуны со своей пленницей? Ответ был простой - никто! Мы уже проделали небольшой путь, когда я это понял. Тогда я повернулся к Дарнаду и сказал прямо: - Дарнад, ты должен вернуться. - Вернуться?! Ты что, с ума сошел? - Нет, на этот раз я в здравом рассудке. Разве ты не понимаешь, что, если нас обоих убьют, никто уже не сможет прийти Шизале на помощь. Никто просто не будет знать, где она, ибо то, что мы знаем, с нами и умрет! - Об этом я не подумал, - согласился Дарнад задумчиво. - Но почему я? Возвращайся ты, а я попробую… - Нет. Ты знаешь местность лучше меня, я же могу сбиться с пути. Теперь, когда ты привел меня в Аргзунские горы, ты должен вернуться в ближайший город союзников и послать оттуда гонцов, которые рассказали бы, где Шизала и где я. Нужно, чтобы об этом узнали как можно быстрее. Тогда сюда вскоре могло бы подойти крупное войско и навсегда разгромить аргзунов, пока они еще не окончательно пришли в себя после недавнего поражения в Карналии. Нужно навсегда ликвидировать угрозу нового нападения аргзунов на кого бы то ни было. - Но пока я доберусь до какого-либо города, пройдут недели. Если ты попадешь в беду, ты умрешь задолго до того, как я приведу помощь. - Если бы мы думали о собственной безопасности, - напомнил я, - ни тебя, ни меня здесь бы не было. Разве ты не видишь, что я прав и другого выхода нет? Иди! Он на мгновение задумался, потом хлопнул меня по плечу, развернулся и поспешил к выходу из пещеры. Приняв решение, Дарнад умел действовать быстро. А я продолжал ползти, с уходом Дарнада чувствуя себя еще более маленьким и ничтожным перед лицом этой громады: пещеры, природы, ее создавшей, города, великанов. Каким-то образом мне удалось доползти до городских стен незамеченным. Я метнулся из тени, образуемой скалой, в тень стены и прильнул к грубо обработанному камню. И тут неожиданно погас свет! Сначала я не понял, как получилось, что мне так повезло. Потом я увидел, что аргзуны тушили свои огромные костры. Почему? Я не знал, что и думать, но потом догадался, что происходит. Видимо, было мало топлива, поэтому на ночь, то есть на время, соответствующее ночи на поверхности, когда аргзуны спали, костры тушили. Я решил, что только в этой кромешной тьме у меня мог быть шанс обследовать город и узнать, где Шизала. Если меня не покинет удача, возможно, мне даже представится случай спасти ее, и вместе мы покинем эту мрачную пещеру, страну Аргзунию, и вернемся в Варнал. Но я не смел даже мечтать об этом, когда карабкался на острые камни городской стены. Это было не особенно трудно. Долгие недели наших поисков закалили меня, и я мог взбираться по стене, как обезьяна. Кроме некоторых преимуществ, темнота таила в себе также опасности: приходилось действовать наощупь. Но вскоре я уже был на стене! Пригнувшись и на всякий случай держа меч наготове, я стал пробираться по гребню стены. Всматриваясь во мрак, я пытался определить, где могла быть Шизала. Хотя большие костры потушили, на некоторых домах горели факелы. И тут я увидел этот дом! Он был достаточно хорошо освещен изнутри, и, кроме того, на окружавшем его валу были зажжены факелы. Но это была не главная причина, по которой я понял, что Шизалу держали там. На центральной башне здания развевалось огромное тяжелое знамя. Я узнал его. Такое же знамя, только поменьше размером, украшало палатку Хоргул на поле боя. Это было уже кое-что. Теперь я знал, куда нужно направляться - в здание со знаменем. Я заткнул меч за пояс и стал спускаться по стене в город. До земли оставалось футов десять, когда из-за угла дома, находившегося недалеко от стены, появился отряд аргзунов и направился ко мне. Я не знал, видели ли они меня и были ли посланы, чтобы со мной расправиться. Они прошагали мимо. Всего пара футов отделяла меня от самого высокого из них. Я прирос к стене, молясь, как бы не упасть или каким-нибудь шумом не выдать себя. Как только они скрылись из глаз, я быстро спустился на землю и бросился через улицу в тень ближайшего дома, сделанного из того же камня, что и городская стена. Судя по тому, что у аргзунских воинов было мало дахар, из Карналии вернулись еще не все, поэтому город и не выглядел очень оживленным. Это было мне на руку, и я поблагодарил провидение за удачу, ниспосланную мне в эту ночь. Вскоре я добрался до нужного мне дома. Его стены были более гладкими, чем городская стена, но это не могло быть помехой. Проблема была в том, что здание достаточно хорошо освещалось, и меня могли увидеть. Ничего не оставалось делать, приходилось рисковать. Другого времени могло не быть. Попытаюсь добраться до окна и проберусь через него внутрь, а там, возможно, удастся спрятаться получше. Кроме того, подглядывая и подслушивая, я наверняка узнаю, где искать Шизалу. Я ухватился за выступающий камень и дюйм за дюймом стал подтягиваться вверх. Это было делом трудным и медленным. Все окна - небольшие отверстия в скале - были высоко над землей - не ниже двадцати футов; то же окно, через которое я решил влезть внутрь, было еще выше. Я подумал, что окна располагали так высоко, опасаясь нападения. Наконец я добрался до нужного окна. Заглянув внутрь, я убедился, что в комнате никого не было, и влез. Я оказался в просторной кладовке, в которой стояли плетеные корзины с сушеными фруктами и мясом, травами и овощами. Я решил воспользоваться этой едой, приготовленной, очевидно, для какого-то ранее запланированного похода. Выбрав самые вкусные фрукты и овощи, я немного подкрепился. Хотелось пить, но ни воды, ни чего бы то ни было еще я нигде не нашел. С этим пришлось подождать. С новыми силами я обследовал комнату. В ней гулял ветер. Наверное, из-за сквозняков ее давно уже не использовали как жилую комнату - весь пол покрывали старые, даже почти сгнившие остатки еды и обломки корзин. Я нашел дверь и попробовал ее открыть. К моему величайшему сожалению, она была заперта на засов снаружи. Наверное, от воров! Я очень устал, глаза закрывались, я засыпал на ходу. Мой путь сюда был долгим и напряженным, мы с Дарнадом почти не давали себе отдохнуть. Я решил, что смогу принести больше пользы Шизале, если хоть чуть-чуть восстановлю свои силы. Я устроил себе уютное гнездышко из того, что оказалось под рукой, и расставил вокруг корзины, чтобы мне было теплее и чтобы меня не нашли те, кто мог войти сюда. Чувствуя себя почти в безопасности, я сразу же уснул. Когда за окнами снова зажгли огромные костры, я понял, что в Аргзунии наступил новый "день". Но разбудил меня отнюдь не этот свет. В комнате кто-то был. Очень осторожно я потянулся, расправляя затекшие руки и ноги, и выглянул в щелочку в своей баррикаде. И застыл в изумлении. Человек, стоявший у корзин с едой, не был аргзуном. По телосложению он напоминал меня, только кожа у него была гораздо бледнее, наверное, от жизни в этом аргзунском склепе, никогда не освещаемом солнцем. Его лицо было маской мертвеца: застывшие черты, потухшие пустые глаза. Плечи были опущены, неухоженные волосы - растрепаны. Он механически перекладывал мясо и овощи из больших плетеных корзин в маленькую корзиночку, которую держал в руке. Он не был вооружен. Не могло быть никаких сомнений относительно его положения и роли в пещерном мире Аргзунии. Передо мной был раб, давным-давно потерявший свою свободу. Рабы редко любят своих хозяев. С другой стороны, насколько они успели его приручить? Мог я обратиться к нему за помощью или он испугается и закричит? Я много рисковал, чтобы добраться сюда. Рискну еще раз. Так тихо, как только мог, я вылез из своего убежища наверх, на корзины, и по их крышкам пополз к нему. Он стоял ко мне спиной и заметил меня, только когда я был совсем рядом. Его глаза расширились, рот открылся, но он не издал ни звука. - Я друг, - прошептал я. - Д-друг? - переспросил он как-то тупо, словно это слово для него ничего не значило. - Враг аргзунов, убийца многих из них. - А-а! - он в ужасе попятился, выпустив из рук свою корзинку. Я спрыгнул на пол и бросился закрывать дверь. Он повернулся ко мне с дрожащим ртом и взглядом, выражавшим смертельный страх. Но боялся он, очевидно, не меня, а того, что в его глазах я собой олицетворял. - Т-ты д-должен пойти к к-королеве, т-ты д-должен сдаться. Если т-ты эт-то сделаешь, м-может, т-тебя и не бросят Зверю Наалу. - Королева? Зверь Наал? Я слышал это имя, но что это такое? - О-о, прошу тебя, не спрашивай! - А ты кто? Сколько времени ты здесь пробыл? - я попробовал сменить тему. - Я… я д-думаю, м-меня звали Орнак Дайа. Д-да, так м-меня и звали… Не знаю, сколько… ну, с тех пор, к-как м-мы п-преследовали аргзунов и п-попали в ловушку. Они п-послали п-против н-нас только п-половину своего войска… остальные б-были в засаде… мы и не п-подозревали… - Вместе с воспоминаниями к нему вернулось что-то от человека, которым он еще недавно был: плечи распрямились, губы перестали дрожать. - Ты был в числе тех, кого вел за собой брадхи из Карналии, так? - спросил я. Мне трудно представить, что должен был пережить этот воин, чтобы так быстро превратиться в совершенно безвольное, раболепное существо. - Д-да, т-так. - Они заманили вас туда, где в засаде ждала часть их армии - это была хорошо продуманная тактика. И когда вы достигли Пещер, они атаковали вас и разгромили вашу армию. Так было дело? - Я уже догадался, что случилось. - Д-да. Они захватили м-много п-пленников. Я один из тех, кто еще жив. - Сколько пленников они захватили? - Несколько сотен. Я был в ужасе. Теперь было ясно, что, как я и предполагал, выступление аргзунов против Карналии готовилось годами. Первое их нападение было уверенно отбито, но эта битва значительно ослабила южные народы. Кроме того, несколько отрядов южной армии, преследовавшие аргзунов, попали в тщательно подготовленную ловушку, и усталые воины стали легкой добычей свежих сил синих великанов, ждущих в засаде. Потом аргзуны приступили к осуществлению второй части своего плана: маленькими группами они тайно пробирались на юг, стараясь захватить южные народы врасплох. Первым на их пути был Варнал. Гибель командира помешала им или случилось что-то другое, только их план сорвался. Но нанесенный ими урон и так был значителен: югу понадобится много лет, чтобы оправиться от этого удара, и в течение долгого времени, пока силы их не будут восстановлены, им нужно будет постоянно бояться нападения новых агрессоров. Например, владняров. Я задал рабу главный вопрос: - Скажи мне - сюда недавно прибыли две женщины? Темноволосая и светловолосая? - Д-да, здесь есть пленница… Только одна! Я молил бога, чтобы Шизалу не убили по дороге. - Как она выглядит? - Очень красивая… светловолосая… Думаю, она из рода карналов. Я вздохнул с облегчением. - А Хоргул из рода владняров? Была там темноволосая женщина? Раб вскрикнул: - А-а! Не произноси этого имени! Не произноси, слышишь! - А в чем дело? - Он, кажется, чувствовал себя еще хуже, чем когда я впервые увидел его: по его подбородку текла слюна, глаза лихорадочно бегали, каждая клеточка тела тряслась. Он обхватил себя за плечи, согнулся и начал тихо постанывать. Я схватил его, стал трясти, пытаясь привести его в чувство, но он упал на пол, продолжая стонать и дрожать. Я опустился на колени рядом с ним: - Скажи мне, кто такая Хоргул? Какую роль во всем этом играет она? - Н-ну п-пожалуйста, оставь м-меня! Я н-не скажу, что т-ты здесь. Ты должен уйти. П-пожалуйста, уходи. Я продолжал его трясти. - Скажи! Вдруг за моей спиной раздался голос - холодный, насмешливый, зловещий. - Оставь беднягу в покое, Майкл Кейн! Я могу ответить на твой вопрос еще лучше, чем он. Мои стражники услышали шум в кладовой, и я пришла сама разобраться. Я предполагала, что ты можешь пожаловать в Аргзунию. Я развернулся, не распрямляясь, и взглянул снизу вверх в глубокие злые глаза темноволосой женщины, игравшей во всем этом роль, которая долго для меня была тайной. Но сейчас я все узнаю. - Хоргул! Кто ты? - Я - королева аргзунов, Майкл Кейн. Это я командовала армией, которую ты разгромил, а не бедный Ранак Мард. Армия моя разбежалась, прежде чем я смогла что-то сделать, чтобы ее остановить. Эта поганка Шизала набросилась на меня сразу после твоего ухода. Я потеряла сознание, но ее схватили мои воины. Когда я очнулась, в рядах моей армии уже царила неразбериха, и я решила отомстить ей лично, а не городу. - Ты! Это все твоих рук дело! Но как ты смогла стать королевой этих гигантских дикарей? Как тебе, женщине, удалось заполучить над ними такую власть? - Я имею власть над тем, кого они боятся, - улыбнулась Хоргул. - А кто это? - Скоро узнаешь. - В комнату ввалились синие великаны. - Схватить его! Я попытался встать, но споткнулся о дрожавшего на полу раба и прежде, чем смог восстановить равновесие, на меня навалились полдюжины аргзунов. Я отбивался руками и ногами, но вскоре они связали мне руки, а Хоргул стояла и смеялась в лицо, сверкая своими острыми белыми зубами. - А сейчас, - сказала она, - ты узнаешь, какое наказание ждет тех, кто осмеливается нарушать планы королевы аргзунов.XII. Логово Зверя Наала
- Отведите его в мои покои, - приказала страже Хоргул. - Сначала я его допрошу. Мне пришлось идти за ней по лабиринту холодных, продуваемых насквозь коридоров, казавшихся мрачными при неверном свете фонарей, пока мы не пришли к огромной двери из тяжелого дерева, отделанного серебром. Надо сказать, у аргзунов были весьма своеобразные представления о красоте. Дверь открылась, и мы вошли в комнату, теплую от горящего в огромном камине огня. Повсюду были набросаны шкуры животных и тяжелые ковры. Гобелены искусной работы - вероятно, трофеи, приобретенные в грабительских набегах, - покрывали стены и окна, отчего в комнате и было так тепло. Тяжелый комод, высотой мне до пояса, стоял у огня. На нем были выставлены кувшины с вином и блюда с фруктами и мясом. Огромный, покрытый меховой накидкой диван был напротив, а вокруг него были расположены скамьи и резные деревянные стулья. Не очень богатые по меркам цивилизованного юга, покои королевы казались просто роскошными по сравнению с тем стилем жизни аргзунов, о котором я уже успел составить некоторое представление. Над камином висел гобелен, гораздо хуже выполненный, чем все остальные. На нем было изображено то же существо, которое я уже видел на знамени королевы - таинственный Зверь Наал. Он выглядел угрожающе, и я заметил, что стражники старались не смотреть на его изображение, словно они его боялись. Я был, конечно, крепко связан, и Хоргул было нечего бояться, когда она велела стражникам уйти. Я стоял прямо, глядя поверх ее головы, а она вышагивала передо мной, бросая на меня странные взгляды. Это продолжалось некоторое время, но я стоял и твердо смотрел вперед с непроницаемым выражением лица. Вдруг она взглянула на меня, размахнулась и изо всех сил ударила меня по щеке. Я продолжал держаться, как раньше. - Кто ты, Майкл Кейн? Я не отвечал. - В тебе что-то есть. Что-то, чего я никогда не встречала в других мужчинах. Что-то, что может мне… понравиться. - Ее голос стал тише, она подошла ко мне вплотную. - Я не шучу, Майкл Кейн, - сказала она. - Твоя судьба будет ужасна, если… если ты не примешь меры, чтобы предотвратить то, что должно произойти по малейшему моему знаку… Я молчал. - Майкл Кейн! Я женщина. И женщина очень… впечатлительная. - Она тихонько засмеялась, и в ее смехе послышалась ирония по отношению к себе самой. - Я оказалась здесь не по своей воле. Хочешь услышать, как я стала королевой аргзунов? - Я хочу только знать, где Шизала, - сказал я наконец. - Где она? - Ну, пока что ей не причинили вреда. А может, и никогда не причинят. Я решила ее судьбу, она должна сложиться интересно. Она не умрет, но, вероятно, я смогу ее приручить. Зачем убивать правительницу Варнала, если можно просто держать ее у своих ног, как вечную рабыню. В моей голове пронесся целый вихрь мыслей. Итак, Шизала не должна умереть, по крайней мере, пока. Я почувствовал облегчение: значит, у Дарнада будет время, чтобы прийти и попытаться спасти ее. Я немного расслабился, наверное, даже улыбнулся. - Кажется, ты в хорошем настроении. Ты неравнодушен к этой женщине. - В голосе Хоргул я услышал нетерпение. - С чего мне быть к ней неравнодушным? - Это хорошо, - сказала она почти про себя. Походкой пантеры она подошла к дивану и улеглась на него, демонстрируя мне свое прекрасное тело. Я продолжал стоять на своем месте, но теперь я смотрел прямо в ее горящие глаза. Через несколько мгновений она отвела взгляд. Глядя в пол, она начала рассказ: - Мне было всего одиннадцать, когда аргзуны напали на караван, в котором мне с родителями довелось путешествовать недалеко от северных границ Владнярии. Враги многих тогда убили, в том числе моих мать и отца, но некоторых забрали в рабство, как меня. Я понимал, что она пытается растрогать меня, и если она говорила правду, я ей действительно сочувствовал за все то, что ей пришлось в детстве пережить. Но учитывая ее преступления, я не мог ни простить, ни оправдать ее. - В те дни, - продолжала она, - аргзуны были разобщены. Часто бои кипели даже из-за пещер. Ничто не могло сплотить множество раздробленных семейных кланов, нормой отношений между которыми были кровавая вражда и вызываемые ею ежедневно сражения. Единственное, что могло их объединить, и то на время, был страх, который они испытывали перед Зверем Наалом, обитавшем в подземных коридорах под полом Великой пещеры. Его обычной добычей были аргзуны. Зверь выползал из своих подземелий, хватал кого-нибудь и снова уползал. Аргзуны верили, что Зверь Наал - порождение Рахарумары, их главного божества. Они не смели даже попытаться убить его. Когда могли, они приносили ему в жертву своих рабов. Когда мне было шестнадцать, меня выбрали для того, чтобы принести в жертву Зверю Наалу. Но уже тогда я чувствовала эту силу, эту способность заставлять других выполнять мою волю. Нет, тогда я могла проявить ее лишь в мелочах - ведь я все еще была рабыней - но и эти мелочи облегчали мне жизнь. Странно, но именно Зверь Наал дал мне возможность применить мою силу по-крупному. Когда пришли вести, что Наал поднялся из подземелий Великой пещеры, меня и еще несколько человек - среди них были такие же рабы, как и я, и пара аргзунских преступников - связали и оставили там, где должен был проползти Зверь. Вскоре он действительно появился, и я в ужасе не могла оторвать глаз от того, как он поглощал моих спутников одного за другим. Я стала смотреть ему прямо в глаза: инстинкт подсказывал мне, что стоило отвести взгляд, и я пропала. Я не знаю, что случилось, но он мне ответил. Я обнаружила, что могу общаться с ним взглядом, отдавать приказания. Она помедлила и взглянула на меня. Я ей не отвечал. - Я вернулась в город, Черный город, а за мной, как собачка, шел Зверь Наал. Я велела сделать для него огромную яму, в которую его посадили. Аргзуны смотрели на меня с суеверным ужасом - и до сих пор так смотрят. Держа под контролем Зверя Наала, я властвую над ними. Какое-то время назад я решила отплатить за все годы несчастий и страданий, выпавших на мою долю, завоевав весь континент. Разными способами я получила сведения о войсках южных стран и их обороне. Я начала осуществлять свой план, я была готова годами ждать победы. Но вместо этого… - Поражение, - сказал я, - заслуженное поражение. Годы, проведенные у аргзунов, искорежили твою душу, Хоргул. Ее раны уже не вылечить. - Глупец! - она вскочила с дивана и прильнула ко мне своим горячим соблазнительным телом, гладя меня по груди. - Глупец! У меня другие планы, это вовсе не поражение! Я знаю много тайн, я обладаю властью, которая тебе и не снилась. Майкл Кейн, я могу поделиться с тобой всем этим. Я уже говорила тебе, что не встречала еще такого мужчину, как ты, - храброго, красивого, волевого. Но в тебе есть еще кое-что - какие-то таинственные качества, так отличающие тебя от всего сброда Вашу, к которому принадлежу и я. Стань моим королем, Майкл Кейн… Она говорила тихо, пристально глядя мне в глаза, гипнотизируя меня, стараясь что-то мне внушить. И во мне что-то двинулось ей навстречу. Я почувствовал во всем теле тепло и легкость. Заманчивое предложение, подумал я. - Майкл Кейн, я люблю тебя… Каким-то образом это заявление спасло меня, хотя никак не пойму почему. Оно вернуло меня к реальности. Несмотря на то, что я был связан, я попытался оттолкнуть ее руки прочь. - Я не люблю тебя, Хоргул, - сказал я твердо. - И вообще, я не могу испытывать ничего, кроме отвращения, к человеку, сделавшему то, что сделала ты. Теперь я понимаю, почему тебе удалось так легко заполучить сюда Шизалу: ты ее загипнотизировала! Но на меня твои чары не действуют! Она отшатнулась от меня, и когда заговорила снова, ее голос был низким и взволнованным: - Я знала, что все будет именно так. Может, это и привлекает меня в тебе: ты можешь противостоять моей силе, а это удается немногим. Даже это первобытное животное, этот Наал, в моей власти. Я отступил назад, оглядываясь, - я все еще надеялся ускользнуть. Кажется, она это поняла, потому что вдруг посмотрела мне прямо в глаза. Ее лицо было сплошной гримасой ненависти! - Ну что же, Майкл Кейн, отвергая меня, ты сам решаешь свою судьбу. Ты заплатишь за все! Стража! Появились огромные аргзуны. - Взять его! Пошлите слуг ко всем вернувшимся аргзунам. Их пока немного, но позовите их всех. Скажите, что будет совершено жертвоприношение Рахарумаре! Меня увели. Я оказался в караулке, где меня продержали довольно долго. Потом за мной пришли, и мы отправились в путь по дымным и зловонным улицам Черного города. Позади нас по двое и трое к процессии стали пристраиваться аргзуны; их становилось все больше и больше. Один великан, оказавшийся позади стражников, бросал на меня странные взгляды, которые я никак не мог разгадать. На нем не было доспехов, и я решил, что он потерял их во время бегства назад в Черный город. На его груди был след от недавней раны. Мы продолжали идти вперед, и вскоре я забыл о нем. Позади города развернулась сцена, бывшая в моих глазах идеальной иллюстрацией рассказов об аде. Горели огромные костры, от которых в пещерах мерцал тусклый свет и по каменному полу стлался дым. Аргзуны, сопровождавшие меня в течение всего этого долгого пути, были похожи на демонов, а костры казались кострами, в которых поджаривали грешников. Самому же мне предстояло вскоре встретиться с существом, воплощавшим Сатану! Хоргул была уже там, на помосте, поднимавшемся на шестьдесят ступеней над всеми. Она стояла, повернувшись к нам спиной и вытянув руки. По обе стороны от нее ярко горели две жаровни, благодаря свету которых она была видна всем. У подножия ступеней аргзуны стали образовывать полукруг, располагаясь, как я наконец разглядел, когда мы подошли поближе, вдоль края ямы, к которой был обращен помост. Мои стражники остановились у ступеней, ожидая чего-то. Мы все смотрели на Хоргул, вполголоса напевавшую странную мелодию. От слов ее песни или, скорее, от звуков, так как я не мог ничего понять, у меня по телу пробежали мурашки. На многих аргзунов, как я видел, это песня действовала так же. И тут из ямы раздался ни с чем не сравнимый шелестящий звук, и я увидел, как в одном из ее углов с земли поднимается гигантская плоская змеиная голова и начинает раскачиваться в такт пению Хоргул. Аргзуны издали какой-то звук, в котором угадывался суеверный страх, и стали подпевать и также раскачиваться в такт движению головы. Она была тошнотворно-желтого цвета, с верхней челюсти свисали два длинных острых клыка. От этого страшилища исходил нездоровый, затхлый запах; раскрыв свои гигантские челюсти, оно испустило наводящее ужас шипение, обнажив при этом огромный раздваивающийся язык и бездонную пасть своей глотки. Пение Хоргул становилось тише, ее раскачивание - медленнее, гул зрителей - почти неслышным. Внезапно, как шок, наступила полная тишина. И вдруг ее разорвал крик. - Нет! Нет! Я повернул голову, чтобы посмотреть, чей это был голос. - Шизала! - невольно вскрикнул я. Эти злодеи привели ее полюбоваться на мою смерть. Даже на расстоянии я видел, что по ее щекам текут слезы. Она старалась вырваться из лап двух массивных аргзунов. Я тоже попытался освободиться от своих стражников, но они, и еще мои путы, остановили меня. - Продержись! - закричал я ей. - Не умирай! Слышишь? Держись и ничего не бойся! - Я не мог сказать ей, что Дарнад уже мчится к цивилизованным народам, и ничто не помешает ему привести войска ей на помощь. Я молился в душе, чтобы она поняла, как много я вкладываю в это простое слово - "продержись!". Она слабым голосом отозвалась: - О, Майкл Кейн! Я… я… - Молчать! - Хоргул повернулась, обращаясь как к нам, так и к своим подданным. - Отвести пленника к краю ямы! Меня подтолкнули вперед, и я остановился на краю, не отрывая взора от того места, где свернулся кольцом Зверь Наал. Его необыкновенно умные глаза смотрели на меня - и мне стало не по себе от этого взгляда - со злобной усмешкой. - Зверь Наал сегодня настроен весьма игриво, - заметила Хоргул. - Он немного позабавится, прежде чем разделаться с тобой. Изо всех сил я старался скрыть свой ужас. - Скинуть его! - приказала Хоргул. Связанного, беспомощного, меня бросили в яму Зверя Наала, в его логово. Мне удалось приземлиться на ноги в нескольких ярдах от змееподобного чудовища, все еще лежащего и смотрящего на меня своими наводящими ужас глазами. И вдруг сверху раздался крик, и я поднял глаза. На меня смотрел аргзун, которого я уже заметил раньше - он так странно на меня смотрел. В одной руке у него был меч, в другой - боевой топор. Что он собирается сделать? Я услышал, как Хоргул сказала страже: - Остановить его! Но аргзун уже спрыгнул вниз и оказался рядом. Он поднял меч, и вдруг я понял, что все происходящее не было сном.XIII. Нежданный союзник
Сначала я решил, что воин зачем-то хочет меня убить. Но это было не так. Он быстро разрубил веревку, которой я был связан. - Я тебя узнал, - с удивлением сказал я. - Ты - тот воин, с которым я сражался недалеко от Варнала. - Да, я тот воин, чью жизнь ты отказался взять, воин, которого ты избавил от оскорблений и мечей моих товарищей. Я много думал о том, что ты сделал, Майкл Кейн. Я восхищаюсь тем, что ты сделал. Для меня это очень важно. А теперь, теперь я по крайней мере могу помочь тебе сразиться с этим чудовищем за твою жизнь. - Но я думал, что твой народ боится зверя из-за его якобы сверхъестественной природы. - Правильно. Точнее, я сомневаюсь, что это правильно. Быстрее бери меч. У меня всегда лучше получалось драться топором. С этим нежданным, но очень вовремя подоспевшим союзником я повернулся, чтобы встретить Зверя Наала. Зверь был явно сбит с толку таким поворотом событий. Он таращился то на меня, то на аргзуна, как бы не зная, на кого сначала нужно нападать. Мы оба были готовы и пригнувшись ждали. Вдруг гигантская голова Зверя метнулась ко мне. Я стал пятиться назад, пока не уткнулся спиной в стену. Наугад я ударил мечом по его морде. Можно было догадаться, что он совершенно не привык, чтобы жертвы сопротивлялись его желанию их съесть, поэтому, почувствовав боль, он зашипел с яростью, но и с некоторым удивлением. Он убрал голову подальше и стал разворачиваться во всю свою длину, одновременно поднимаясь надо мной; вскоре я оказался как бы в его тени. Я думал, в его необъятной пасти я помещусь целиком. Я поднял меч острием вверх, и когда уже казалось, что судьба моя решена, когда от зловония, исходившего из глотки Зверя, я начал задыхаться, я вонзил свой клинок в мягкое небо чудовища. Оно вскрикнуло и отшатнулось назад. В этот момент аргзун ударил его по голове топором. Чудовище повернулось к нему и своей раскачивающейся головой сбило великана с ног. Тот упал, и Зверь Наал разинул пасть, чтобы откусить ему голову. Пришел мой черед действовать. Я запрыгнул Зверю на спину, пробежал по всему его телу, по плоской голове и оказался у самых его глаз. У меня это заняло всего несколько секунд. Аргзун внизу все еще отчаянно пытался увернуться от лязгающих челюстей Зверя Наала. И тут я поднял меч двумя руками над правым глазом чудовища. Что было сил я вонзил клинок в глаз. Лезвие вошло глубоко. Голова откинулась назад, и меня сбросило на землю. Зверь Наал снова повернулся ко мне. Из его глаза все еще торчал меч, и Зверь представлял собой еще более нелепое зрелище, чем раньше. И вот это страшилище надвигалось на меня, а я был безоружен. Тут вскочил аргзун с топором и встал рядом со мной, чтобы меня защитить. Зверь Наал издал громкий, леденящий кровь крик, и бросился на нас. Мы не могли оторвать взгляда от его раздваивающегося языка, мелькавшего в бездонной пасти. Всего в нескольких дюймах от нас голова вдруг остановилась, покачнулась и, словно ее подбросила какая-то сила, взметнулась вверх. Зверь Наал развернулся во всю длину и потянулся из последних сил, как будто собираясь вылезти из ямы. Я видел, как отскочили от ее края зрители. Но Зверь рухнул вниз, едва не раздавив нас. Значит, мой удар помог. Я убил его. Но он цеплялся за жизнь дольше, чем стал бы кто-нибудь другой. В тот момент я почти верил в его сверхъестественную природу. Я наклонился к голове Зверя и потянул за рукоятку своего меча. Он легко вытащился. И вдруг я понял, что мы вовсе не были спасены. Я все еще был пленником, и хотя я был вооружен, над ямой стояло около двух сотен аргзунов, готовых уничтожить нас, скажи Хоргул хотя бы одно слово. - Что делать? - спросил я моего нового друга. - Кажется, знаю, - сказал он, немного подумав. - Здесь есть узкий проход. Вон там, видишь, в другом конце ямы? - Я проследил взглядом, куда указывал его палец. Он был прав: там был ход, в котором легко поместился бы человек, но не могла пройти голова Зверя Наала. - Что это? - спросил я. - Тоннель, который ведет к лагерю рабов. Иногда по нему приводят сюда новые жертвы Зверя Наала, чтобы скормить ему. - Мой друг мрачно хмыкнул. - Хватит, больше он не будет пировать, наслаждаясь человеческой плотью. Мы убили Зверя Наала, это произвело на аргзунов впечатление! А еще большее впечатление на них произведет то, что мы исчезнем отсюда! Если нам повезет, в суматохе мы сможем бежать. Я пошел за ним по туннелю. По пути он рассказал мне, что его зовут Моват Джард, из клана Моват-Тук - одного из самых могущественных кланов, существовавших в стране до того, как в дела аргзунов вмешалась Хоргул. Он также сказал мне, что, хотя аргзуны боялись ее, в последнее время появилось очень много недовольных. Подданные роптали: провалился ее честолюбивый план захвата целого континента, и Аргзуния была опустошена. Через некоторое время мрак тоннеля стал рассеиваться, и я увидел впереди что-то вроде деревянной решетки. За ней располагалась пещера, освещенная одним-единственным факелом. На полу лежали люди - грязные, оборванные, бородатые, бледные, набитые туда, как скот. Эти подавленные, униженные существа были когда-то воинами великой армии, которую заманили в ловушку. Около полутора сотен истощенных, измученных, бесчувственных рабов. Как мне было их жаль! Моват Джард попытался выбить решетку топором, и вскоре ему это удалось. Решетка упала, и нас встретили удивленные взгляды. Запах, неизменно появляющийся в такого рода вынужденном человеческом жилье, был почти невыносим, но я знал: несчастные рабы были в этом не виноваты. Один человек, который держался лучше остальных, выступил вперед. Мы были с ним одного роста. Каким-то чудом ему удалось содержать свою густую бороду в порядке и чистоте, а мускулистое тело - в хорошей форме, словно он делал для этого специальные упражнения. Когда он заговорил, в его глубоком голосе слышалось мужество и достоинство. - Меня зовут Карнак, - просто сказал он. - Что все это значит? Кто вы и как попали сюда? И как вы ускользнули от Зверя Наала? Отвечая, я обращался не только к нему, а ко всем рабам, так как они смотрели на меня и моего друга почти с надеждой. - Зверь Наал мертв! - объявил я. - Мы убили его - мой друг Моват Джард и я. - Этот аргзун - твой друг? Невозможно! - Возможно. И свидетельство этому - моя жизнь! - Я улыбнулся Моват Джарду, который попытался улыбнуться в ответ. Но когда он обнажил зубы, он все равно выглядел зловеще. - Кто ты? - спросил Карнак, тот человек с бородой. - Я чужестранец. Я даже не с вашей планеты. Но я здесь для того, чтобы вам помочь. У вас есть шанс освободиться! - Свобода! - воскликнул он, и по рядам людей в пещере пробежала волна возбуждения: они стали вставать, в их движениях появилась жизнь. - Вы должны быть готовы дорого заплатить за свою свободу, - предупредил я их. - Нам надо где-то добыть оружие. - Но мы же не можем сражаться с целой нацией, - глухим голосом сказал Карнак. - Конечно, - ответил я. - Но с целой нацией сражаться и не придется: ее просто нет. Осталось всего человек двести, да и те вряд ли окажутся сильными соперниками. - Это… правда? Неужели это правда? - Конечно, правда, - ответил я. - Но все равно нас мало, и оружия у нас нет. Нужно хорошенько все обдумать. Но сначала нужно исчезнуть отсюда. - Учитывая наше состояние, это будет нетрудно, - ответил Карнак. - К тому же сейчас нас охраняют только два стражника вместо обычных двух-трех десятков. - Он показал рукой на другой вход в пещеру. Его закрывала только какая-то плетенка. - Обычно коридор кишит стражей, и сколько раз мы ни пытались прорваться, нас всякий раз отбрасывали назад или отправляли некоторых из нас на съедение к Зверю Наалу. Но сейчас… Мы с Моват Джардом тут же подбежали к плетеной двери и стали колотить в нее мечом и топором. Позади нас сгрудились пленники во главе с Карнаком. Из-за двери мы услышали возгласы удивления. Потом какой-то аргзун закричал: - А ну хватит стучать, а то отправитесь к Зверю Наалу! - Зверь Наал мертв, - ответил я. - Здесь ты найдешь тех двоих, кто убил его. Мы сорвали плетеную дверь. Когда она упала, нашим глазам открылись два растерянных стражника с мечами в руках. Моват Джард и я сразу же бросились на них и расправились с ними в мгновение ока. До этого мне не приходилось видеть такого короткого сражения. Карнак наклонился к одному из стражников и взял его меч. Второй меч, боевой топор и дубинку взяли его товарищи. - Нужно пойти в Оружейные Палаты Аргзунии, - сказал Моват Джард. - Там мы сможем подобрать оружие для всех. - Где мы находимся? - спросил я. - Под Черным городом. Есть несколько ходов. - А где Оружейные Палаты? - В Замке, то есть в Замке Хоргул. Если мы поспешим, мы сможем их обогнать. Наверное, среди них сейчас такая неразбериха! - Моват Джард, почему ты помогаешь нам бороться с твоим собственным народом? - спросил Карнак подозрительно: однажды он уже столкнулся с хитрой аргзунской ловушкой. - То, что сказал Майкл Кейн и что он однажды сделал для меня, заставило меня о многом задуматься. Я понял, что принципы могут быть сильнее законов кровного родства. Кроме того, я сражаюсь не с аргзунами, а с Хоргул. Если мы победим ее, мне снова придется делать выбор, но сначала нужно ее победить. Кажется, Карнака это убедило. Мы бросились по коридорам, ведущим из подземелий в город, и скоро добрались до железных ворот, охраняемых одним-единственным стражником. Когда он увидел нас и, вероятно, заметил по нашим глазам, что мы способны на самые отчаянные поступки, он даже не стал доставать меч, а просто протянул к нам руки: - Возьмите ключи, но оставьте мне жизнь! - Честная сделка, - сказал я, взяв у него ключи и отомкнув ворота. - Мы также позаимствуем твое оружие. - Еще двое получили меч и топор - теперь уже восемь человек были вооружены. Мы связали стражника и вышли в город. За стенами Черного города мы услышали голоса, но аргзуны еще не дошли до ворот. Мы направились в Оружейные Палаты Замка, отряд бывших рабов вели Моват Джард, Карнак и я. Стражники пытались нас остановить, но мы прорвались в Замок. Первые аргзуны появились в городе и подняли тревогу, когда мы уже подходили к Оружейным Палатам. За оружием в Аргзунии, видимо, ухаживали не так старательно, как в Варнале, и само по себе оно было немного другим - под стать своим хозяевам, наполовину дикарям. Но в целом Оружейные Палаты Черного города были похожи на оружейную комнату Варнала. Пока освобожденные пленники с энтузиазмом выбирали себе оружие - самое лучшее из числа аргзунского, а также из числа тех трофеев, которые были захвачены синими великанами в многочисленных набегах, - восемь человек, что были уже вооружены, встретили новую партию нападавших. Должно быть, мы - трое вожаков - представляли собой странное зрелище: синий гигант не менее десяти футов ростом, почти обнаженный человек с дикими глазами и огромной бородой и загорелый чужестранец, не расстающийся с мечом, - пришелец с другой планеты. Но у нас была одна общая черта - мы неплохо владели мечом. Мы стояли плечом к плечу, удерживая аргзунов, пока наши товарищи выбирали себе оружие. Казалось, я попал под настоящий дождь, только сверху на меня хлынули не капли воды, а удары мечей синих великанов. Каким-то чудом нам удалось их удержать у входа в Палаты и даже немного ослабить их натиск. И тут позади нас раздался настоящий рев! Это вооружились и готовились вступить в бой пленники. Рабы снова стали воинами, жаждущими отомстить за годы рабства и страха, за коварную ловушку, которая лишила народы юга их лучших граждан, цвета нации. Теперь мы наступали, тесня аргзунов назад, по коридорам Замка, побеждая их в огромных залах и маленьких комнатах, в личных покоях Хоргул и в пустом тронном зале, где я воспользовался случаем сорвать со стены гобелен с изображением Зверя Наала. Нас было мало. Наши люди почти забыли, как сражаться. Но наши сердца горели восторгом справедливой битвы, ибо, наконец, мы могли нанести по своим врагам удар возмездия. Из Замка мы вышли на улицы, и весь город превратился в поле сражения. К этому времени треть наших бойцов были убиты, но аргзуны потеряли больше воинов! Чем дольше мы сражались, тем лучше владели мечом бывшие пленники: в бою они вспоминали былое мастерство. Сражение стало затихать, так как аргзуны решили привести свои силы в порядок. Нам тоже следовало отдохнуть и обсудить план действий. Замок и площадь вокруг него были наши, но в руках аргзунов находилась большая часть города. А где-то сейчас были Хоргул и Шизала… Я молился в душе, чтобы Хоргул в пылу битвы не распорядилась убить Шизалу. Я заклинал провидение, чтобы аргзунская королева все еще верила в способность своих воинов побеждать. Аргзуны атаковали первыми, но мы были готовы: на площади, у начала каждой улицы стояли воины. Какое-то время силы были равны, ни одна из сторон не могла потеснить другую. - Равновесие, - сказал Моват Джард, когда он, Карнак и я совещались. - Как его переломить? - спросил я. - Нужно, чтобы большой отряд зашел к ним с тыла, - сказал Карнак. - Если мы сможем атаковать их с двух сторон, мы посеем смятение в их ряды. - Хороший план, - согласился я. - Но как наш отряд попадет к ним в тыл? Летать мы не умеем! - Точно, - сказал Моват Джард, - но мы можем пройти под ними. Помните пещеру, где держали пленников? Помните, я сказал, что там несколько входов и выходов? - Помню, - ответил я. - И мы сможем пройти под землей и выйти на поверхность города за спинами аргзунов? - Сможем, если, конечно, они не ожидают от нас этой штуки, - сказал он. - Но если они перекрыли все подземные ходы, нам придется плохо, ведь отряд сильных воинов уйдет, и мы должны будем сражаться за двоих, чтобы удержать площадь и Замок. Стоит рисковать? - Стоит, - сказал я. - Если мы не получим преимущества, наши воины устанут и не смогут противостоять аргзунам. Они и так слишком слабы после каменной тюрьмы. Мы не должны терять время. - Кто их поведет? - спросил Карнак, выступая вперед: конечно, он думал, что это будет он. - Я, - сказал я. - Вы оба должны быть здесь, чтобы поддерживать защитников. Они согласились, что я был прав. Не прошло и шати, как я собрал группу из тридцати воинов и повел их к входу в их бывшую тюрьму, который указал нам Моват Джард. Мы спускались вниз по неровному полу подземного хода и вдруг наскочили на отряд аргзунов, идущих нам навстречу. Едва мы успели что-либо сообразить, как уже вели бой, отнимавший драгоценное время, уносивший невосполнимое - людские жизни. Казалось, аргзуны сражаются без особого рвения, и когда я убил двоих и обезоружил еще нескольких, остальные сложили оружие и подняли руки в знак того, что они сдаются. - Почему вы так легко сдаетесь? - спросил я их. Один из них ответил хриплым голосом с резким неприятным аргзунским акцентом: - Мы устали сражаться за Хоргул, - сказал он. - А сейчас она даже нами не командует, она исчезла, когда ты убил Зверя Наала. Мы подчинялись ей только потому, что думали, что Рахарумара живет в Звере Наале и что она сильнее Зверя Наала, а значит, и Рахарумары. Но теперь мы знаем, что Рахарумара никогда не жил в Звере Наале, иначе ты бы не смог его убить. Мы не хотим рисковать жизнью ради осуществления ее хитрых планов - слишком много наших братьев умерло, потому что мы слепо исполняли ее приказы, продиктованные неуемным честолюбием. Все ее замыслы привели к тому, что сейчас горстка великанов защищается от рабов на улицах своего собственного города. Мы хотим мира. - А другие аргзуны тебя поддерживают? - Не знаю, - ответил он. - Все произошло так быстро! Мы не успели переговорить. - Ты знаешь светловолосую девушку, которую Хоргул привезла сюда и которая была вместе со всеми на площади, когда меня кинули в яму Зверя Наала? - Да, я ее видел. - Ты знаешь, где она? - Думаю, в Башне Вульсе. - Где это? - Около главных ворот - это самая высокая башня в городе. Мы забрали у них оружие и отправились дальше, через пещеру для рабов, на поверхность города недалеко от аргзунов. Там мы сразу же напали на своих врагов. Аргзуны обернулись с удивленными возгласами. Мы яростно атаковали, тесня их и продвигаясь вперед, чтобы соединиться с нашими товарищами, сражавшимися с великанами с другой стороны площади. Моим противником был самый крупный аргзун из всех, с кем мне доводилось встречаться - он был двенадцати футов ростом. Вооружен он был пикой и мечом. В ходе сражения он швырнул пику в меня, но по чистой случайности я смог поймать ее на лету, развернуть ее и бросить обратно. Я попал ему в живот и прикончил потом ударом меча. Если бы не эта счастливая случайность, - пойманная в воздухе пика, - не знаю, удалось бы мне выжить в этой схватке или нет. Я увидел, что мы уже почти соединились с нашими товарищами на площади. Уверенный, что победа будет на нашей стороне, я оставил командование своим отрядом на смуглого воина, который в сражении проявил ум и мастерство, и покинул поле боя, заправляя меч за пояс. Я побежал к Башне Вульсе около главных ворот. Я надеялся, что найду Шизалу и освобожу ее. Я скоро увидел Башню: она не охранялась. Но я увидел и кое-что еще, заставившее меня вздрогнуть от удивления. Это было просто невозможно - галлюцинация, бред, мираж! Я увидел, что к крыше Башни привязан самолет, как две капли воды похожий на тот, на котором мы с Шизалой вылетели в лагерь аргзунов. Как он сюда попал? Я вбежал в дверь, ведущую в Башню, и увидел каменные ступени спиральной лестницы. Мне показалось, что внизу комнат не было, поэтому я побежал вверх по этой лестнице. На самом верху я обнаружил дверь. Она была не заперта, и я ее распахнул. Когда я увидел в комнате двух людей, я испытал настоящий шок. Там была Шизала. А еще… Еще там был Телем Фас Огдай, брадхинак Мишим Тепа, жених Шизалы. Одной рукой он обнимал Шизалу, в другой - держал меч. Когда я ворвался в комнату, он осторожно повернулся на звук.XIV. Безмерное счастье и бесконечное горе
Должен сознаться, вместо радости от того, что Шизала была в безопасности и под надежной защитой, я на миг почувствовал жестокое разочарование. Я опустил меч и улыбнулся Телем Фас Огдаю. - Приветствую тебя, брадхинак. Я рад, что тебе удалось спасти брадхинаку от опасности. Как ты сюда попал? Ты узнал что-нибудь в Нарлете? Или тебя прислал сюда Дарнад? Ты оказался здесь быстрее, чем я ожидал. Телем Фас Огдай улыбнулся и пожал плечами: - Какая разница? Я здесь, Шизала в безопасности. Вот что важно. Я подумал, что его ответы были почему-то очень уклончивыми, но принял их. - Майкл Кейн, - сказала Шизала, - я была уверена, что тебя убили. - Кажется, провидение на моей стороне, - сказал я, пытаясь скрыть выражение моих глаз, которые добавляли: кроме одного-единственного случая в жизни - самого важного. - Я слышал, ты совершил чудеса отваги, - с некоторой иронией сказал Телем Фас Огдай. Он мне не нравился все больше и больше, несмотря на все мои усилия быть к нему объективным. Своим поведением он не очень-то мне помогал. - Снова провидение, - ответил я. - Может, ты оставишь нас на минутку, - сказал Телем Фас Огдай. - Мне нужно сказать Шизале два слова наедине. Мне не хотелось снова показаться грубым, поэтому я поклонился и вышел из комнаты. Едва закрыв дверь, я услышал, как Шизала громко вскрикнула. Ну, это уж было слишком. Несмотря на столкновение с Телем Фас Огдаем при похожих обстоятельствах во дворце Варнала, я не смог сдержаться. Я рванул дверь. Шизала извивалась в сильных руках Телем Фас Огдая, а он, с искаженным от ярости лицом, пытался подтащить девушку к окну, около которого был привязан самолет. - Стой! - приказал я ровным голосом. Шизала всхлипывала. - Майкл Кейн, он… - Извини, Шизала, но что бы ты обо мне ни думала, я не буду стоять в стороне и смотреть, как эта скотина так обращается с женщиной! Телем Фас Огдай рассмеялся. Меч был уже у него за поясом, но он отпустил Шизалу, чтобы вновь выхватить оружие. Как же я удивился, когда она сразу же кинулась ко мне! - Он предатель! - закричала она. - Телем Фас Огдай был в сговоре с Хоргул, они хотели вместе править всем континентом. Я не мог поверить своим ушам. - Он угрожал убить тебя, когда ты придешь, если я не буду молчать, - продолжала она. - А я… я этого не хотела. Телем Фас Огдай фыркнул: - Не забывай о своей клятве, Шизала. Ты все равно выйдешь за меня замуж. - Нет, не выйдет. Ваше обручение будет расторгнуто, как только весь мир узнает о твоем предательстве, - сказал я, вытаскивая меч. Шизала покачала головой. - Нет, такие клятвы значат больше, чем обычные законы. Он прав. Его отправят в ссылку, и меня вместе с ним. - Это жестоко! - Это традиция, - просто ответила она, - обычай наших народов. Если нарушать традиции, общество перестанет существовать, понимаешь? Отдельные люди должны иногда страдать несправедливо ради Великого Закона. Против этого трудно было что-либо возразить. Я могу показаться старомодным, но я уважаю обычаи и традиции как те столпы, на которых держится общество. Вдруг Телем Фас Огдай снова засмеялся, точнее издал что-то похожее на нервный смешок, и бросился на меня. Я быстро толкнул Шизалу за спину и отразил его удар. Никогда еще не встречал я человека, так искусно владеющего мечом. Наши силы были бы равны, если бы я не был так измотан всеми происшествиями этого дня. Я начал чувствовать, что он, должно быть, победит, и Шизала будет обречена всю жизнь жить с предателем, которого ненавидела. Вскоре я действительно стал отступать под напором его атак и обнаружил, что оказался прижатым спиной не к стене, а к окну, что было гораздо опаснее. Высота была футов сто! Я увидел, как ухмыляется Телем Фас Огдай. Я был в отчаянии. Я молил о новых силах, о втором дыхании. В последней попытке я рванулся вперед, прямо на эту груду блестящей стали! Я захватил его врасплох. Это спасло меня и стоило ему жизни. На мгновение он отшатнулся назад. Я быстро ударил его в горло. Клинок вошел глубоко, и он упал на меня со сдавленным яростным ревом. Я опустился рядом с ним на колени и увидел, как из тела уходила жизнь. Я не мог спасти его. Мы оба знали, что он умрет. Подошла Шизала и тоже встала на колени. - Почему, Телем, - спросила она, - почему ты это сделал? Он повернулся к ней и заговорил, делая невероятные усилия. - Это случилось во время похода, в который я тайно отправился год назад. Я хотел попытаться разузнать, что случилось с твоим отцом. Но вместо этого меня схватили и привели к Хоргул. - Такой подход свидетельствует о твоей смелости, - сказал я тихо. - Хоргул меня каким-то образом соблазнила, - сказал он. - Она посвятила меня в тайны, это были мрачные тайны, поверьте мне. Я оказался целиком в ее власти. Я помогал ей делать последние приготовления для нападения на Варнал. Я намеренно приехал в Варнал к тому времени, когда должно было начаться нападение, зная, что меня отправят за помощью в Мишим Теп и к другим союзникам. - Он зашелся в кашле, но сделал над собой усилие и продолжал говорить: - Я… я ничего не мог с собой поделать. Я ожидал, что вас разгромят, но вы спаслись. Карналы узнали, что я не сообщил в Мишим Теп о нападении. Отец спросил, почему я так поступил. Я не знал, что ответить. Люди стали об этом говорить, и скоро уже все знали, что я предатель, что я предал Варнал, хотя никто не знал, почему. А все эта женщина… Это было как сон… Я предатель… и еще я глупец… она… она… она… Он приподнялся, устремив глаза в пустоту. - Она… от нее только зло! - вскрикнул он. - Ее нужно найти и убить. Пока она жива, в опасности на Вашу будет все, что мы любим, все, чем дорожим. Ее секреты страшны, они дают ей невероятную силу. Она должна умереть! И он упал - замертво.- Где Хоргул? - спросила Шизала. - Не знаю. Думаю, она опять ускользнула, но куда - это загадка. Пещеры - это целый мир, который даже сами аргзуны исследовали не до конца. - Как ты думаешь, он не преувеличивал… Может, его рассудок был уже замутнен… - Думаю, да, - сказал я. И вдруг она оказалась в моих объятьях; она плакала, и плакала, и не могла остановиться. Я крепко обнимал ее, шепча какие-то слова, чтобы успокоить ее. Она прошла через такие невероятные страдания и столько раз должна была испытывать нечеловеческий страх, но все это она перенесла очень храбро. Я не мог винить ее за эти слезы. - О, Майкл Кейн, любимый, - всхлипнула она. Я не мог поверить своим ушам. Да, испытания сегодняшнего дня, должно быть, повлияли на ясность моего рассудка! - Что… что ты сказала? - спросил я неуверенно. Она перестала всхлипывать и посмотрела мне в глаза, вытирая слезы. - Я сказала "любимый", - повторила она. - Майкл Кейн, я люблю тебя с того самого дня, когда впервые увидела тебя. Помнишь, ты удирал от мизина? Я рассмеялся, и она вслед за мной. - Нет, это я тогда в тебя влюбился! - воскликнул я. - А ты… Я думал, ты любишь Телем Фас Огдая. - Я восхищалась им тогда, - сказала она, - но я не могла любить его, особенно после того, как увидела тебя. Но что я могла сделать? Я была привязана к нему традицией, которой не имела права противиться. - Я этого от тебя и не ожидал тогда, - сказал я. - Но сейчас… Она обняла меня. - Сейчас… - сказала она. - Сейчас мы свободны и можем пожениться, как только назначат день для королевского обручения и потом - для свадьбы. Я наклонился, чтобы поцеловать ее. Вдруг я вспомнил, что ведь я не знаю, как прошла битва. - Мы должны узнать, как там дела у наших воинов, сражающихся с аргзунами. Она ничего - или почти ничего - не знала о том, что происходило в городе. Я быстро ей все рассказал. Она улыбнулась и взяла меня за руки. - Я больше не хочу с тобой расставаться, - сказала она. Я знал, что нужно было оставить ее в башне или, еще лучше, в самолете, где она будет в безопасности, но я не мог смириться с мыслью, что нас опять что-то разлучает. Самолет напомнил мне о том времени, когда мы вместе вылетали в лагерь аргзунов, и я спросил ее, зачем она оставила самолет. - А ты не понял? - спросила она. Держась за руки, мы спускались по ступеням. - Я хотела помочь тебе. Или вместе с тобой умереть, если так сложится. Но когда я спустилась в палатку, ты уже сделал свое дело и исчез. С любовью и благодарностью я сжал ее руку еще крепче. Остальное я знал от Хоргул. На улице я увидел, что аргзуны сдаются: узнав о бегстве своей королевы, у них пропали воля и желание сражаться. Нам навстречу шел отряд торжествующих победителей - воинов под командованием Моват Джарда и Карнака, бывшего раба. Мы остановились, чтобы их подождать. До моего сознания наконец дошло, что сражение закончилось и больше не нужно будет ни на кого нападать и ни от кого защищаться. И вдруг я почувствовал, что смертельно устал. И все же несмотря на эту усталость, я был счастлив. Мы победили. Шизала согласилась быть моей. Чего еще желать? Вдруг Карнак улыбнулся и, протянув руки вперед, бросился к нам. - Шизала! - закричал он. - Шизала, неужели это ты? Что ты здесь делаешь? Шизала не узнавала бородатого мужчину; в ее глазах было недоумение. Кто бы это мог быть? Я не знал, но надеялся, что Карнак - просто ее старый друг, а не какой-нибудь бывший жених или еще кто-то, кто мог бы разрушить мое счастье. - Карнак, ты знаешь Шизалу? - спросил я удивленно. - Знаю ли я ее? - Карнак от души рассмеялся. - Думаю, да. - Карнак? - тут настала очередь Шизалы рассмеяться. - Тебя так зовут? Так? - Конечно. Не стану скрывать, я почувствовал ревность, когда этот пожилой человек обнял Шизалу. Но все разрешилось в одном-единственном слове. - Отец, - закричала девушка. - О, отец, я думала, тебя убили! - И убили бы очень скоро, если бы не этот молодой человек с необычным именем и его свирепый друг. - Карнак показал на Моват Джарда. Шизала повернулась ко мне. - Ты спас моего отца? - Она бросилась мне на шею. - О, Майкл Кейн, двор Варнала обязан тебе самим своим существованием! Я улыбнулся. - Спасибо. Если бы он перестал существовать, я был бы очень несчастен. Карнак потрепал меня по плечу. - Какой воин! Какой молодец! За всю свою жизнь я не встречал ему равных, а уж я перевидал немало отличных воинов! - Вы и сами прекрасный воин, сэр, - сказал я. - Да, я неплохо сражаюсь, но я никогда не сражался так хорошо, как ты. - Он с сожалением посмотрел на меня и Шизалу. - Хм, дети мои, вижу, вы испытываете друг к другу, хм, некоторую симпатию. Но, Шизала, ты же понимаешь, что в этой ситуации ничего нельзя поделать. - Что?! - Я похолодел от ужаса. Неужели какое-то новое препятствие между мной и Шизалой? Карнак покачал головой. - Все дело в брадхинаке Телем Фас Огдае. Он… - Он мертв, - сказал я. У меня гора с плеч свалилась. Конечно, Карнак ничего не знал о последних событиях, и я ему быстро все рассказал. Он нахмурился, когда услышал мой рассказ. - А ведь у парня были крепкие нервы и сильная воля. Я знал, что Хоргул пускает в ход свой взгляд и голос и подчиняет так всех, кто ей нужен, но я никогда не думал, что сын моего старейшего друга мог… - Он кашлянул. - В какой-то степени это была моя вина, ведь он пришел, чтобы найти меня и спасти. - Карнак, брадхи Варнала, покачал головой. - Мы скажем его отцу, что он погиб за нас, - решил он. - Ведь в известном смысле так и было. Он посмотрел на нас и улыбнулся. - Тогда вы можете объявить о своем обручении, как только мы вернемся в Варнал. Конечно, если вы этого хотите. - Конечно, мы этого хотим, - ответили мы с Шизалой в один голос, улыбаясь друг другу. Оставалось только собрать совершенно растерявшихся и уже не сопротивлявшихся аргзунов, и мы решили, что Карнак, Шизала и я отправимся на самолете домой, оставив Черный город на попечении Моват Джарда, чтобы сделать поражение аргзунов менее горьким. Мы объявили, что Моват Джард будет там временным правителем, пока аргзуны и карналы не подпишут договор и в Аргзунии не состоятся выборы. Понимая, что аргзуны оказались в этой ситуации из-за коварства Хоргул, мы обошлись с ними довольно мягко. Попрощавшись на время с Моват Джардом, мы поднялись в самолет, и Карнак сел за пульт управления. Он провел самолет по закоулкам и поворотам тоннеля прочь из пещеры. Мы пролетели над Оставленными Судьбой Землями, над лесом с приземистыми деревьями, широкой рекой и Алой равниной. Путешествие заняло несколько дней, но мы провели их в разговорах о событиях прошлого и о планах на будущее. Вскоре мы увидели вдали крыши Варнала. Когда в городе узнали, кто прилетел, люди от радости обезумели. Нас встретила буря ликования. На следующий день должно было состояться обручение. Когда я отправился в свою комнату, меня переполняло счастье. Но тут-то меня и подстерегало горе. Казалось, Судьба заставила меня пройти через все эти испытания, чтобы в последний момент, поманив вознаграждением, вырвать его из моих рук. В ту ночь я пережил странное, но уже знакомое мне ощущение. Я почувствовал, как мое тело разрывается на части, как я снова мчусь с поразительной скоростью через пространство и время. Потом это безумие закончилось, и я понял, что снова лежу. Я улыбнулся, уверенный, что видел сон. Тут я почувствовал, что на глаза упал свет: значит, настало утро моего обручения. Я открыл глаза и увидел над собой улыбающееся лицо - лицо доктора Логана, моего главного ассистента в лаборатории на Земле. - Логан! - ахнул я. - Где я? Что случилось? - Не знаю, профессор, - сказал он. - Ваше тело все покрыто шрамами. Но ваши мускулы, кажется, стали еще крепче. Как вы себя чувствуете? - Что случилось? - почти закричал я. - Вы имеете в виду приемник? Ну, нам понадобилось часов семь, но мы разыскали вас на какой-то странной волне. Мы уже думали, что совсем вас потеряли, и тут нам все-таки повезло. Что-то случилось с транслятором. Помехи или еще что-то, не знаю. Я вскочил и схватил его за воротник халата. - Вы должны отправить меня назад! Слышите? Отправьте меня назад! - Э, профессор, видно, ваши странствия были не очень-то легкими, - сказал один из техников. - Хорошо, хоть живы остались. Мы работали семь часов, думали, вы уже погибли. - Так и есть, - сказал я, ссутулившись. Я отпустил воротник халата Логана и посмотрел на аппарат. Он отправил меня в мир, где я оказался участником захватывающих событий и где я встретил прекрасную женщину. Но он же принес меня обратно в однообразие и скуку мира земного. Меня упрятали в больницу и держали там несколько недель. Врачи и психологи не давали мне покоя, пытаясь выяснить, что же со мной произошло. Я был признан негодным для работы, и меня не подпускали даже близко к транслятору. Я несколько раз пытался добраться до него, но все мои попытки провалились. Наконец меня отправили в Европу в бессрочный отпуск. И вот я здесь.
Эпилог
Вот что рассказал мне профессор Майкл Кейн, физик на Земле, воин на Марсе. Поверьте ему, как поверил я, если хотите. Или не верьте - если можете. Услышав историю Майкла Кейна, я попросил разрешения сделать две вещи. Он спросил, какие. - Позвольте мне опубликовать ваш замечательный рассказ, - попросил я, - чтобы весь мир мог судить о ясности вашего рассудка и о вашей правдивости. Он пожал плечами. - Боюсь, найдется очень мало людей, которые будут правы в своих суждениях. - Но хотя бы они будут правы. - Ну хорошо, а что еще? - Прошу вас, позвольте мне помочь вам построить собственный транслятор вещества. Я дам вам денег. Можно это сделать? - Да. Как-никак я изобретатель этого аппарата. Но для этого нужно очень много денег. Я спросил, сколько. Он сказал. Это пробьет огромную брешь в моих средствах - сумма, названная Майклом Кейном, была гораздо больше той, что я мог себе позволить, но я не стал ему об этом говорить. Мне нужно было своей помощью доказать, что верю его рассказу. Сейчас этот транслятор почти закончен. Кейн думает, что сможет настроить его на правильную длину волн. Несколько недель мы работали не покладая рук, и теперь, я надеюсь, все будет хорошо. Этот аппарат немного усложнен по сравнению с первым: он одновременно и передатчик, и приемник, и постоянно настроен на одну и ту же волну. Когда Кейн вернется на Марс - в какое бы глубокое прошлое он ни попал - он надеется построить там такой же аппарат, чтобы путешествовать на Землю и обратно, когда ему захочется. Это мне представляется не очень реальным, но я с уважением отношусь к способностям Кейна. Получится? Пока не знаю. Когда эта книга будет в типографии, нам еще предстоит целая неделя работы: нужно будет испытать аппарат. Может быть, вскоре мне будет что рассказать с воинах Марса в новой книге. Что ж, будем на это надеяться.
Майкл МУРКОК
ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАУКОВ
Посвящается памяти Эдгара Райса Берроуза и Герберта Уэллса, с восхищением и благодарностью
Пролог
- У нас должно получиться! Я поднял глаза. Эти слова произнес симпатичный великан с пронзительными, как бриллиант, горящими голубыми глазами. Он стоял, склонившись над самым невероятным из всех приборов, какие мне только приходилось видеть в своей жизни. Размером прибор был с телефонную будку; его покрывали всяческие кнопки, переключатели и датчики. Укрепленный сверху огромный змеевик гудел и светился от энергии, которая вырабатывалась в расположенной справа, в темном углу, динамо-машине необычной формы. Высокий мужчина устроился на сидении, свисавшем с потолка нашей самодельной лаборатории, расположенной в подвале моего дома в Белгравии. Я стоял под этим сидением и читал ему информацию с датчиков. Много недель мы работали над этим аппаратом. Точнее было бы сказать, он работал, потому что я лишь предоставил ему деньги и выполнял его распоряжения относительно самых простых вещей. Встретились мы сравнительно недавно во Франции, где он рассказал мне странную, невероятную историю о своих приключениях - где бы вы думали? - на Марсе! Там он полюбил прекрасную принцессу из Варнала, Города Зеленых Туманов. Он сражался против гигантов с синей кожей, называемых аргзунами, и ему удалось спасти от их господства половину континента, которую они собирались захватить. Рассказ о таких событиях звучит, конечно, как бред сумасшедшего или безудержные фантазии какого-нибудь краснобая. И все же я ему поверил. И верю до сих пор. Я уже подробно описал нашу первую встречу и что из нее вышло: как Майкл Кейн, человек, устраивавшийся сейчас в аппарате над моей головой, проводил в Чикаго специальные исследования с целью создания того, что он называл "транслятором вещества", как его первый опыт оказался неудачным его перенесло не в другой конец лаборатории, как было запланировано, а на Марс! Это был, как мы думаем, Марс далекого прошлого, Марс, процветавший задолго до того, как туда ступила нога человека, Марс странных обычаев, красок, пейзажей, животных. Марс, на котором воюющие народы пользовались в своей борьбе оружием и техникой, доставшимися им от некогда могущественной цивилизации. Марс, на котором Майкл Кейн чувствовал себя как дома. Искусно владея мечом, о мог сражаться на равных с самыми лучшими воинами Красной планеты. Романтик, задыхающийся от скуки и однообразия своего земного существования, он был счастлив тем, как судьба распорядилась его жизнью. Но эта же судьба - на сей раз в образе его коллег по лаборатории - вернула его на Землю, в настоящее, как раз тогда, когда он собирался жениться на своей возлюбленной с Марса. В лаборатории в Чикаго устранили неполадки в трансляторе вещества и перенесли Кейна обратно. Еще секунду назад он спал в своей постели на Марсе, - и вот он уже смотрит в улыбающиеся лица коллег, гордых от того, что, по их мнению, спасли ему жизнь. Ни один человек не поверил ему, когда он рассказал о своем путешествии. Этому блестящему ученому не поверили, когда он пытался убедить окружающих, что он действительно был на Марсе - Марсе, существовавшем миллионы лет назад! Его не подпускали к собственному изобретению, ему предоставили "бессрочный отпуск". В отчаянии от того, что ему не суждено было вновь увидеть свою любимую, Майкл Кейн стал путешествовать по миру - совершенно бесцельно, так как думал он при этом только об одном - о Вашу, о той планете, которую мы, земляне, называем Марсом. Мы с ним встретились случайно в маленьком кафе на французском Средиземноморье. Он мне все рассказал, и я решил помочь ему построить собственный транслятор вещества, похожий на тот, который был у него в лаборатории в Чикаго, чтобы, если повезет, он смог вернуться на Марс. И теперь этот аппарат был почти готов! - У нас должно получиться! - Майкл Кейн повторил эту фразу тихо, словно про себя, продолжая работать с мрачной решимостью и сосредоточенностью. Он рисковал жизнью. А если нас постигнет неудача? Возможно, во время первого опыта он оказался на Марсе случайно? У него были весьма зыбкие доказательства в поддержку своей версии о том, что та конечная точка его путешествия сквозь пространство и время, в которую он попал, была обусловлена специальной настройкой аппарата. Я постоянно напоминал ему об этом - даже если аппарат будет работать, у нас был один шанс из ста, а может, из тысячи, что Майкл Кейн снова попадет на Марс. Но даже если он попадет туда, где гарантия, что окажется он в том же промежутке времени, в котором был раньше. Он продолжал настаивать на своей теории, основанной больше на том, во что ему очень хотелось верить, чем на реальных фактах. И с этой отчаянной верой он трудился, напрягая все силы: все получится, повторял он, если он правильно рассчитает время года, день и географические координаты. Он выбрал местечко недалеко от города Сэлзбери, которое, по его мнению, подходило как нельзя лучше. А самым удачным временем будет половина двенадцатого ночи завтра. Поэтому мы так спешили. Что касается приборов, я был уверен, что все в порядке. Не буду вас обманывать, конечно, я в них ничего не понимал, но я верил в характер Майкла Кейна и его репутацию физика. Наконец он оторвался от прибора, в котором возился, и взглянул на меня. Хотя я хорошо знал его, я никак не мог привыкнуть к сочетанию тоски и огня в его глазах. - Ну, вот и все, - сказал он. - Больше ничего не сделать. Остается только перевезти транслятор на место. Энергетический блок готов? - Да, - ответил я, имея в виду передвижную динамо-машину, которую мы собирались использовать для того, чтобы снабдить энергией наш транслятор. - Позвонить в бюро? Он сжал губы и нахмурился. Спрыгнув с сидения на пол, он посмотрел вверх - на творение своего интеллекта, и напряжение прошло. Казалось, он был доволен. - Да, лучше позвони сейчас, чем утром. Я поднялся наверх и позвонил в бюро по найму, которое должно было прислать нам рабочих для того, чтобы перевезти аппарат из моего дома на выбранное нами место. Рабочие будут у моих дверей рано утром, уверили меня в бюро. Когда я вернулся, Майкл Кейн сидел в кресле и дремал. - Эй, старик, - сказал я, - тебе лучше сейчас отдохнуть, а то завтра у тебя не будет сил, а ты должен быть в форме. Он молча кивнул. Я помог ему добраться до кровати и потом отправился в свою комнату. Наутро приехали рабочие. Майкл Кейн придирчиво следил за тем, как они выносили транслятор и грузили его в свой фургон. Мы отправились в Сэлзбери. Я сидел за рулем грузовика, к которому был прикреплен агрегат, называемый Майклом Кейном энергетическим блоком. Выбранная нами площадка для опыта была недалеко от Стоунхенджа, этого старинного сооружения из огромных каменных блоков, которое считается древнейшей астрономической обсерваторией. На фоне бледного утреннего неба гигантские колонны выделялись особенно величественно. Мы привезли с собой и с помощью рабочих установили большую палатку, чтобы укрыть аппарат от непогоды и от любопытных взглядов. После того, как рабочие помогли нам, они уехали, получив от нас распоряжение вернуться со своим фургоном утром. Ну это был и денек! Ветер рвал холст палатки, угрожая повалить ее на землю, но Кейн и я трудились не покладая рук: мы собрали наш аппарат и провели несколько контрольных проверок, чтобы убедиться, что он работает. На это ушел почти весь день, и когда я отправился включить динамо-машину, чтобы проверить транслятор, уже опускалась ночь. Время шло, и лицо Майкла Кейна становилось все более решительным и суровым. Он был целиком сосредоточен на предстоящей передаче и постоянно напоминал мне, что я должен буду сделать. Я и так все хорошо помнил - нужно было лишь проверить, как работают некоторые приборы, и нажать на некоторые кнопки. Было почти половина двенадцатого, когда я вышел из палатки. Дул порывистый ветер, небо покрывали рваные облака, из-за них выглядывала луна, необыкновенно яркая и круглая. Ночь была какой-то тревожной. Это была ночь ожидания чуда. Я немного постоял на улице, покурил. Поеживаясь от прохладного ночного воздуха и еще плотнее закутываясь в плащ, я подумал, что мой мозг от напряжения последних недель словно оцепенел. А сейчас, когда опыт должен был вот-вотначаться, я вдруг испугался - за Кейна. Если ничего не получится, он потеряет если не жизнь, то надежду на счастье. А потеряв надежду, он перестанет быть тем Майклом Кейном, которым я так восхищался. Из палатки раздался его голос. Он звал меня. Когда я вошел, я увидел, что он тоже волнуется, но не сильно - наверное, он очень устал и, к тому же, слишком ясно сознавал, чем мог окончиться для него этот опыт. - Все уже почти готово, Эдвард. Я выплюнул сигарету и взглянул на наш странный аппарат. После подключения к динамо-машине он ожил и сейчас тихонько гудел. В укрепленном над ним змеевике то вспыхивали, то гасли рубиново-красные огни, от чего палатка изнутри выглядела очень своеобразно. Лицо Майкла Кейна, освещенное тем же рубиново-краснъм светом, было прекрасно и возвышенно, как у существа неземного, почти бога. - Пожелай мне счастья, - он попытался улыбнуться. Мы пожали друг другу руки. Он занял место в аппарате, и я наглухо закрыл за ним дверцу. Я взглянул на часы: осталась всего одна минута. Я не осмеливался даже подумать о том, что я собирался сейчас сделать. Секунды шли. Я прочитал информацию с датчика, проверил приборы, еще раз повторил про себя инструкцию. Протянув руку, я нажал на одну из кнопок и повернул выключатель. Такие простые действия, но они могли убить человека или забросить его на край света. Вдруг откуда-то сверху раздался пронзительный звук, и огоньки забегали по проводам с лихорадочной быстротой. Я знал, в чем было дело. Кейн был в пути. Но куда? И в какое время? Может быть, я этого никогда не узнаю. Что ж, дело сделано. Я медленно вышел из палатки, зажег сигарету. Я думал о Кейне, вспоминал его рассказы о приключениях на древней Красной планете, о его возлюбленной. Я не переставал спрашивать себя, был ли я прав, когда поверил ему. Был ли я прав? Кроме этих сомнений и страха за Кейна, я испытывал чувство утраты, как будто из моей жизни ушло что-то важное. Я потерял друга. И вдруг из палатки раздался голос. Как странно, это же был голос Кейна. Однако звучал он как-то по-новому. Итак, у нас ничего не получилось. Аппарат не работал - Кейн остался на Земле. Наверное, в вычисления вкралась ошибка. Со смешанным чувством облегчения и тревоги я ворвался в палатку. И снова неожиданность! Стоявший у транслятора человек был почти обнажен. Это был Кейн, но не тот, с кем я только что, буквально несколько минут назад, простился. В изумлении я уставился на этот призрак. На нем были только кожаные доспехи, расшитые необыкновенными, сверкающими драгоценными камнями, совершенно мне не известными. На широкие мускулистые плечи был наброшен легкий плащ нежно-голубого цвета. На левом боку у него висел меч с большим эфесом; он не был вложен в ножны, а свисал из широкой кожаной петли на поясе. На ногах были тяжелые сандалии, зашнурованные почти до колен. Волосы, как я заметил, были довольно длинными. На теле появились новые шрамы. Он мне улыбнулся как-то странно - как старому приятелю, которого давно не видел. Я узнал его одежду по рассказам: это была одежда пакана - воина с Марса. - Кейн! - ахнул я. - Что случилось? Ты же исчез отсюда всего несколько минут назад! - Я запнулся. Я не мог ничего больше сказать, лишь смотрел на него, не отрывая глаз. Он подошел ко мне и сжал мое плечо. - Подожди, - сказал он твердо. - Я объясню. Но может, вернемся в твой дом в Лондоне? Тебе, наверное, опять понадобится магнитофон. На грузовике с прицепом, в котором была наша динамо-машина, мы вернулись в Белгравию. Как ни трудно было поверить, все это время рядом со мной сидел этот странный, почти обнаженный человек с длинным клинком и необычными украшениями на кожаных доспехах. К счастью, никто не видел, как мы вошли в дом. Кейн двигался упругой походкой, играя крепкими мускулами, - супермен, полубог, герой из легенды. Экономка моя живет в своем собственном доме и приходит только в определенные дни, чтобы сделать кое-какие дела по хозяйству, поэтому я сам приготовил Кейну ужин и сварил крепкий черный кофе, который его, кажется, очень обрадовал. Я включил магнитофон, и он начал рассказывать. В этой книге я сохранил все как есть, за исключением своих вопросов и его отступлений, не касающихся сути дела. Я также опустил некоторую чисто техническую информацию. Итак, вот что он мне поведал.Эдвард П. Брэдбери Честер-Сквер Лондон, Ю-З 1 Апрель 1965
I. Бесплодная равнина
Устраиваясь в трансляторе, я испытывал смутный страх. Только в тот момент я впервые ясно понял, что я мог потерять. Но было поздно. Ты, Эдвард, сделал то, что от тебя требовалось. У меня появились знакомые ощущения. Все было как во время первого опыта, только сейчас я не знал, куда попаду, ведь, если ты помнишь, в первый раз я был уверен, что перемещусь в лабораторию в другом конце здания, а вместо этого оказался на Марсе. Где я окажусь на этот раз? Хоть бы опять на Марсе! Перед глазами стали появляться пятна неопределенных цветов. Я снова испытал состояние невесомости. Потом я вдруг почувствовал, что связан со всем миром, со всей Вселенной, и в то же время продолжал мчаться через мрак с невероятной скоростью. Моя душа не могла больше вмещать все ощущения, и я потерял сознание. На этот раз я очнулся почти в полной темноте. Я лежал лицом вниз на холодных жестких камнях. Вероятно, падая, я немного ушибся. Я перевернулся на спину. Я был на Марсе! Я понял это, едва увидев две марсианские луны. Урну и Гарху - на языке Вашу, - или Фобос и Деймос, как мы их называем, - освещали своим тусклым светом мрачные скалы и скудную растительность. Унылый пейзаж! На западе что-то сверкнуло: возможно, это лунный свет отражался от поверхности какого-то тихого озера или моря. На мне все еще была одежда, в которой я сел в кабину транслятора. В волны было обращено все, что там оказалось, и сейчас на Марсе я обнаружил на руке часы, а в кармане - немного денег. Но что-то было не так. Я осторожно сел. Я все еще был немного заторможен, но во мне крепло подозрение, что случилось что-то серьезное. Во время первого эксперимента аппарат перенес меня к стенам Варнала в южной части Марса. Оттуда же, "спасая мою жизнь", меня забрали назад, на Землю, мои "братья"-ученые. Но эта бесплодная земля была совершенно непохожа ни на что, когда-либо виденное мною на Марсе, на моем Марсе! Конечно, это был Марс. Где еще могли бы вы увидеть такие две "луны"? Но Марс, на котором я побывал во время первого опыта, и Марс, на котором я оказался сейчас, казалось, существовали в разное время. В первый раз я посетил Марс, процветавший в то время, когда на Земле жили мамонты и человек еще только должен был там поселиться, чтобы стать повелителем. Беспомощный и одинокий, я был в отчаянии. У меня уже не оставалось никакой надежды на то, что когда-нибудь снова увижу свою возлюбленную Шизалу, с которой был почти обручен, и проживу свою жизнь счастливо и покойно в Городе Зеленых Туманов. Ночи на Марсе длинные, а эта показалась мне просто бесконечной. Когда наконец рассвело, я встал и огляделся. Мой взор не встретил ничего, кроме моря и скал, сколько я ни озирался. Насколько мог видеть глаз, вглубь материка от серого моря, которое, отражая холодное небо, спокойно и размеренно несло на берег свои волны, простиралась бесплодная равнина, покрытая рыжевато-коричневыми валунами. И мне уже было все равно, в какой период марсианской истории я попал - задолго до рождения Шизалы или много лет спустя после ее смерти. Я знал лишь одно: если я снова находился на том месте, где однажды стояли или будут стоять Варнал, Город Зеленых Туманов, и Зовущие горы, тогда все пропало. Сейчас там, где ветер мог бы перебирать листву деревьев, звавших куда-то путников, он гнал волны сурового свинцового моря, а на месте города была огромная неколебимая скала. Меня предали, хотя и трудно было объяснить, кто. Кого мог я винить в том, что оказался здесь, а не во дворце правителей Карналии, что здесь пытался справиться со своим отчаянием, а не пьянел от счастья в объятьях своей возлюбленной. Внезапно почувствовав себя смертельно усталым, я вздохнул. Нисколько не заботясь о том, что будет со мной, я отправился прочь от моря. Единственной моей целью было идти и идти вперед, пока не упаду от усталости и голода. В природе царило такое же опустошение, как и у меня в душе, охваченной безысходным отчаянием, в душе, где не осталось ни надежд, ни мечтаний.Прошло часов пять, или около сорока марсианских шати, прежде чем я увидел того зверя. Должно быть, он какое-то время за мной наблюдал. Я прежде всего заметил его странную сверкающую шкуру, отражавшую свет всеми цветами радуги. Казалось, зверь был сделан из особого липкого кристаллического вещества, но это была лишь видимость. Он был из плоти и крови, каким бы невероятным ни представлялся. Высотой зверь был около двадцати килод - чуть больше шести футов, а длиной - около тридцати килод. Он был могуч. В пасти сверкали, как кристаллы, огромные зубы. У него был один глаз со множеством граней, как у других марсианских зверей, и четыре крепкие ноги, заканчивающиеся тяжелыми когтистыми лапами. Вместо хвоста у зверя было что-то вроде гребня из спутавшегося меха. Было ясно, что он собирался мной пообедать. Перед лицом опасности мое отчаяние исчезло. У меня не было оружия, поэтому я отступил и схватил в обе руки по огромному камню. Призвав на помощь всю свою волю, я повернулся, чтобы встретить лицом к лицу зверя, который крался за мной, грозно приподнимая свой гребень как бы в предвкушении обеда. Глаз не отрываясь смотрел на меня, из открытого рта текла желтая слюна. Вдруг я закричал и, целясь ему в глаз, бросил первый камень, следом - второй. Чудовище издало жалобный крик, в котором слышались боль и ярость, и взвилось на задние лапы. Я поднял еще два камня и бросил их зверю в живот. Конечно, этот удар был не таким эффективным, как первый - в глаз. Зверь снова встал на задние лапы и выжидательно посмотрел на меня, а я - на него. Вид у него был зловещий. На мгновение мы оба замерли. Я медленно отступил и, присев, провел рукой по земле в поисках "снарядов". Но я нашел всего один камень, больше не было. Гребень чудовища дрожал и яростно ходил из стороны в сторону, пасть раскрылась еще шире, слюна потекла с новой силой. Зверь сделал несколько шагов назад, но я видел: он не отступает, а лишь готовится вернее на меня наброситься. Я попробовал сделать то, что обычно делают на Земле люди, оказавшиеся лицом к лицу с диким зверем. Закричав что было сил, я бросился вперед, размахивая руками, в одной из которых был камень. Я почти врезался в его противную морду. Зверь не сдвинулся ни на сантиметр! Да-а, попал я в переделку! Готовясь дорого отдать свою жизнь, я бросил ему в глаз последний камень и проскочил мимо. Зверь вскрикнул, потом крик перешел в жалобное завывание. Он снова вскочил на задние лапы. Я увидел, как по морде чудовища потекла густая кровь. Размахивая передними лапами, выпуская и снова поджимая когти, он развернулся на задних лапах. Я попал в нижнюю часть глаза, и, возможно, удар был удачным: рана сильно кровоточила. Однако зверь все еще мог видеть. Я наклонился за следующим камнем и в это время увидел, что чудовище, лязгая зубами, несется на меня. Я едва успел отпрыгнуть с его пути, как он развернулся и снова бросился на меня. Спасения не было! Я помню, как лежал на камне, пытаясь встать на ноги, каждой клеточкой тела ощущая, что на меня через миг навалится эта громада и в меня вопьются эти блестящие зубы. И тут зверь упал на землю всего в нескольких сантиметрах от меня, дернулся и затих. Что случилось? Сначала я подумал, что мой удар причинил зверю больше вреда, чем я ожидал, но, когда я встал, то увидел, что из его спины торчала длинная тяжелая пика. Я оглянулся. Увидев стоящего невдалеке человека, я снова насторожился. Это был человек огромного роста - синий великан, аргзун. Я уже знал, какими необузданно жестокими могут они быть, я помнил, как нападали они на людей, похожих на меня. Этот аргзун был очень хорошо вооружен, на левом и правом боку висели меч и дубинка. Мускулы у него были весьма внушительными, как и рост - около десяти футов. Я оказался в другом времени, в другой эпохе, это было видно по его доспехам: они были сделаны не из кожи, как я привык видеть, а из очень хорошего металла. Может быть, он спас меня от смерти, чтобы сейчас самому прикончить меня? Я уже начал вытаскивать его пику из тела чудовища, чтобы было чем защититься, когда великан нападет на меня. К тому времени, как он подошел, мне удалось освободить пику. Он улыбнулся и взглянул на меня вопросительно; стоял он подбоченившись и слегка наклонив голову. - Я готов встретиться с тобой, аргзун, - сказал я по-марсиански. Тогда он рассмеялся, но не тем животным смехом, который я привык слышать от аргзунов, а вполне добродушно. Неужели аргзуны так изменились? - Я видел, как ты сражался с радари, - сказал он. - Ты очень храбрый. Устало, ничего но говоря, я опустил пику. Голос его также был необычен для аргзунов. Он снова улыбнулся, показывая на мою одежду: - Ты почему так укутался? Ты болен? Я покачал головой, уже начиная смущаться из-за своей внешности - по марсианским меркам она была по меньшей мере странной, а также из-за того, что принял его за врага. - Меня зовут Гул Хаджи, - сказал он. - А как зовут тебя? Из какого ты племени? - Мое имя - Майкл Кейн, - сказал я, снова обретая способность говорить. - Я не принадлежу ни к какому племени по рождению, но меня считают членом своего племени карналы. - Имя довольно странное. Но о карналах я слышал. У них репутация людей таких храбрых, каким ты только что показал себя. - Прости меня, - сказал я, - но ты совсем не похож на аргзуна. Он добродушно рассмеялся: - Спасибо. Это потому, что я мендишар. Кажется, я что-то слышал о мендишарах, но не мог вспомнить, что именно и от кого - наверное, от Шизалы. - Это Мендишария? - Если бы! К сожалению, нет, но мы от нее совсем недалеко. - А где находится Мендишария относительно Аргзунии? - Моя страна лежит на север от Пещер Мрака. Получается, что разрыв во времени был не таким уж большим. Если еще существовали Карналия и аргзунские Пещеры Мрака, подземный мир синих великанов, тогда бесплодная земля, на которой мы сейчас находились, не покрывала, вероятно, всю поверхность планеты. Гул Хаджи протянул руку: - Можно я возьму назад свою пику? Я виновато улыбнулся и отдал ему его оружие. - У тебя очень усталый вид, - сказал он. - Пойдем, здесь недалеко я остановился на привал. На обед можно приготовить мясо твоего недавнего врага. - Он наклонился, легко поднял огромного зверя и взвалил его на плечо. Я шел рядом, и ему приходилось сдерживать шаг, чтобы я мог за ним поспеть. Ноша его совсем не тяготила. - Я поступил невежливо, - сказал я. - Я даже не поблагодарил тебя за то, что ты спас мне жизнь. Я - твой должник. - Да ниспошлют тебе небеса возможность отплатить мне, - сказал он. Я уже слышал этот величественный ответ: так принято было отвечать на юге! Мы дошли до небольшого ручейка в скалах, рядом с которым Гул Хаджи разбил свою палатку. Горел костер, от него шел зловонный дым, но Гул Хаджи объяснил, что единственное топливо, которое можно было достать в этих краях, был оксел - коричневатое, похожее на папоротник растение. Пока специальным ножом, висевшим у него за поясом, Гул Хаджи снимал со зверя шкуру - а у него это получалось очень ловко, - он объяснил, чем были похожи мендишары и аргзуны. Мне было интересно услышать об этом, тем более, что в своем рассказе он упомянул о событиях из истории Вашу, или Марса, как эту планету называют земляне. Оказывается, в далеком прошлом мендишары и аргзуны были одним народом, живущим у моря, из которого, по преданию, они и родились. Они были рыбаками, морскими торговцами и пиратами, строили корабли и добывали инрак - редких моллюсков, которых все, кроме самих синих великанов, считали деликатесом. Жили они в той части планеты, которую все называли отдаленной и заброшенной. Их интересы в жизни были очень ограниченными и исчерпывались торговлей с близлежащими странами или набегами на них же. Потом началась Величайшая война. Гул Хаджи не очень распространялся о ее причинах и участниках. Он лишь сказал, что шла она между якшами и шивами. О шивах я уже слышал - именно от этого загадочного племени карналам досталось много полезных изобретений. Я знал, что когда-то у шивов была могущественная цивилизация, они разбирались в атомной энергии и других столь же сложных вещах. Их наука находилась на более высоком уровне, чем сейчас на Земле. До сих пор в разных местах планеты находят руины их городов. Как выяснилось, Гул Хаджи знал о шивах немногим больше меня. Якши и шивы, сказал он, развились из одного рода, но шивы были значительно более творческим, созидающим народом. Величайшая война шла на Вашу десятилетиями. Вскоре о ней услышали даже синие великаны, жившие от воюющих народов довольно далеко, а потом они даже стали испытывать на себе пагубные последствия этой войны: многие умерли от страшной болезни, переносимой ветром. Шивы потеснили якшей, и те пришли в страну синих великанов: несмотря на замечательное оружие, якши были разбиты морально и физически. Горстка якшей предложила синим великанам присоединиться к ним для атаки на позиции шивов в глубине материка, в горах, обещая взамен богатую добычу. Многие согласились, и синие великаны и якши вместе отправились в горы. Очевидно, они нашли противников в их подземных пещерах, сделанных в скалах, и атаковали их. Шивы удерживали свои позиции, пока их не осталось только трое, и они ускользнули от врагов на какой-то летающей лодке. Немногие оставшиеся в живых якши бросились им вдогонку, велев своим синим союзникам ждать в горах их возвращения. Но якши не вернулись, и синие великаны заняли подземные пещеры шивов. Некоторые из них взяли с собой в поход женщин, и теперь они стали устраиваться в новом мире, обживать его и даже, кажется, страна их встала на путь процветания. Из пещер было удобно совершать грабительские набеги на менее сильные светлокожие народы. Так несколько тысячелетий назад появилась Аргзуния. Сегодняшние мендишары - это потомки тех, кто остался тогда в своей стране и не пошел с якшами воевать против шивов. Они не принимали участие в Величайшей войне, а жили торговлей с жителями далеких островов и континента, лежащего за морем на север от них. - Так было, - сказал Гул Хаджи, закрепляя мясо на вертеле над огнем, - пока власть не захватили приозы. - А это кто? - спросил я. - Раньше они были просто королевскими стражниками - отрядом, который по этикету охранял дворец нашего брадхи. - Брадхи был чем-то вроде марсианского короля; его власть была наследственной, но в случае необходимости его могли сместить и всеобщим голосованием выбрать нового. - Отряд этот состоял из лучших молодых людей, завоевавших почет и уважение всего нашего племени. Постепенно их стали идеализировать, люди наделяли их невероятными, почти магическими способностями. В глазах простого народа они были больше, чем людьми, почти богами. Они могли делать, что хотели, и оставаться безнаказанными. Около сорока лет назад пьюкан-нара приозов - то есть их главный военачальник - начал говорить о том, что получает послания от высших существ. Понимая, что существование приозов опасно для народа, брадхи и его совет решили распустить отряд, но они забыли о той власти, которую приозы получили над простыми людьми. Когда было объявлено решение о роспуске отрядов, ему никто не подчинился. Старого брадхи сместили, а пьюкан-нара приозов Джевар Бару был избран новым правителем. Смещенный брадхи и его приближенные умерли странной смертью один за другим, их семьи вынуждены были бежать, а править начал новый брадхи - Джевар Бару. Но его правление не делало людей счастливыми. Атмосфера в стране стала нездоровой. - Как это? - спросил я. - Приозы возродили в умах мендишаров прежние предрассудки и суеверия. Они объявили себя ясновидящими и возвещали о разного рода "чудесах" и "посланиях" от "высших существ". Они сделали ставку на религию в ее самом худшем, самом примитивном проявлении. Я хорошо понимал, о чем он говорил: и в нашей земной истории были подобные случаи. - Сейчас у власти находится клика воинов, которые одновременно являются и священниками. Они выдаивают из народа его богатства, - продолжал Гул Хаджи. - Многие простые люди недовольны. Но Джевар Бару и его "сверхчеловеки" имеют над народом полную власть, и те, кто осмеливается открыто высказывать свое недовольство, оказываются непосредственными участниками варварского ритуала жертвоприношения, - конечно, в виде жертвы: на центральной площади нашей столицы, Мендишарлинга, у избранных для этого ритуала мужчин и женщин вырывают из груди сердце. Я вздрогнул от отвращения. - А какова твоя роль в этих событиях? - спросил я его. - Довольно важная, - ответил он. - Готовится восстание, бунтовщики ожидают сигнала в маленьких деревеньках в горах недалеко от Мендишарлинга. Нужен только человек, который сплотил бы их и повел против приозов. - И где этот человек? - Это я, - сказал Гул Хаджи. - Надеюсь, я оправдаю их доверие. Я из рода последнего брадхи, мой отец был убит по приказу Джевара Бару. Моя семья, преследуемая приозами, скиталась по пустыням, пытаясь найти убежище и не находя его. Те, кого не убили приозы, умерли от голода и болезней, и от клыков диких зверей - вот таких, как этот, - и он показал на тушу атаковавшего меня чудовища; она уже начала зажариваться. - Я остался один, - продолжал Гул Хаджи свой рассказ. - Хотя я тоскую по Мендишарии, я долго не мог даже подумать о том, чтобы вернуться, пока посланцы с родины не разыскали меня довольно далеко отсюда и не сказали, что бунтовщики ищут командира и что я мог бы подойти им как последний из древнего рода брадхи. Я согласился возглавить это восстание и теперь направляюсь в ту деревню, где собирается армия повстанцев. - Поскольку у меня нет определенной цели, - сказал я, - не позволишь ли ты мне сопровождать тебя? - Я человек одинокий, и твоя компания была бы очень кстати. Мы поели, и я рассказал ему свою историю, которую он вовсе не посчитал такой уж невероятной, как я боялся. - Мы привыкли к тому, что на Вашу происходит много загадочного, - сказал он. - Время от времени до нас доходят вести о чудесах далекого прошлого, о странных изобретениях, о которых мы знаем очень мало. Твоя история необычна, но вполне возможна. Здесь все возможно. Я еще раз убедился, что марсиане были людьми философского склада, может быть, чуточку фаталистами, как бы мы их назвали, но, несомненно, с твердыми принципами и традициями, которым свято следовали, и это всегда выручало их. После еды мы отдохнули, и к тому времени, как мы отправились в горы Мендишарии, уже темнело. Когда лучи восходящего солнца тронули вершины гор на границе Мендишарии, Гулу Хаджи пришлось сдерживать свои шаги. Мы шли через бирюзовое болото, когда два всадника на огромных, похожих на обезьян дахарах - животных, на которых ездят верхом почти во всех марсианских странах, - появились на вершине ближайшей невысокой горы. Увидев нас, они остановились на миг, а потом поскакали на нас во весь опор. Разодеты они были пышно, ярко сверкали начищенные доспехи. На тесно прилегающих к голове шлемах раскачивались пестрые перья. Длинные мечи блестели на солнце. Они собрались нас убить, это было ясно. Гул Хаджи крикнул всего одно слово, когда бросил мне свою пику и выхватил меч. И слово это было: - Приозы! Всадники с грохотом неслись на нас, и я держал пику наготове. Мой противник замахнулся своим огромным мечом, намереваясь размозжить мне голову. Ему это сделать не удалось, так как я вовремя выставил пику и отбил меч, но удар приоза был настолько сильным, что пика вылетела у меня из рук и мне пришлось отпрыгнуть с пути врага. Я рванулся, чтобы поднять пику, а он развернул дахару, уверенный в своей легкой победе. Улыбаясь так, что узенькие глаза-щелочки стали совсем не видны, он бросился на меня.
II. Ора Лиз
Синий великан уже приготовился пронзить меня насквозь своим мечом. Уверен, что так бы и случилось. Моя пика была от меня совсем близко, но поднять ее я не успевал. Когда острие клинка уже почти коснулось моей шеи, я отпрянул назад, почувствовав, что был буквально на волоске от гибели, так как меч почти коснулся моего черепа. Я дотянулся до пики и, схватив ее, вскочил на ноги. Он снова развернул дахару, но я уже знал, что у меня появился шанс, и не упустил его. Пика попала ему в лицо; он умер сразу же. Когда он падал с седла, пика вошла еще глубже. Меч выпал из его рук и повис на цепи, которой он был прикреплен к металлическому браслету на запястье. Не чувствуя ничьей сильной руки, которая управляла бы ею, дахара взвилась на дыбы. Труп упал на землю. Оглянувшись, я увидел, что Гул Хаджи был не столь удачлив, как я - а я-то победил только потому, что удача была на моей стороне. Гул Хаджи защищался от дождя ударов, которые обрушил на него противник. Мой друг отбивался, стоя на одном колене. Я схватил меч убитого мной приоза и побежал на дерущихся с яростным криком. Со стороны это, должно быть, выглядело забавно: невысокий по сравнению со сражающимися великанами, странно одетый - в рубашке, брюках и пиджаке, - вооруженный тяжелым мечом человек бежит на помощь одному из противников! И тут приоз сделал большую глупость: он развернулся на крик. Мой друг только этого и ждал. Он бросился вперед, выбил у врага его оружие и вонзил свой клинок в его горло. Гул Хаджи схватил дахару своего противника за поводья, и труп приоза соскользнул на землю, застряв ногой в стременах. Бывший брадхинак освободил его ногу, всем своим видом выражая презрение. Я понял, какое решение принял мой друг, и повернулся к дахаре убитого мной приоза, которая стояла в стороне и нервно озиралась. Без всадника она имела еще больше человеческих черт, чем когда-либо раньше. Дахары и люди имели общего предка - обезьяну, и если бы кто-нибудь сказал о них, как мы говорим на Земле о собаках или лошадях: "Ну надо же, они совсем как люди!" - то этот человек просто констатировал бы факт. Их интеллект был очень развит, причем у мелких южных дахар сильнее, чем у крупных северных. Я приблизился к большой дахаре с осторожностью, пытаясь уговорить ее, успокоить. Она дернулась, чтобы убежать, но я уже держал ее за поводья. Она лязгнула зубами, как будто собираясь укусить меня, но я знал, что даже самые свирепые дахары никогда не бросаются на людей. Через секунду я уже сидел верхом. Итак, у нас обоих были дахары и оружие. Нам было очень неприятно, но другого выхода не было: мы сняли с трупов все, что нам было нужно. К сожалению, доспехи ни одному из нас не подошли: Гулу Хаджи они были чуть-чуть малы, мне - слишком велики, но мне удалось как-то пристроить ремни через плечо и на них - тяжелое оружие. Я с радостью избавился почти от всей своей земной одежды, стеснявшей мои движения. Теперь, в новых доспехах и с тяжелым оружием, я чувствовал себя совсем как марсианский воин. Я сел верхом на свою дахару и поскакал вперед, стараясь поспеть за Гулом Хаджи, направлявшимся в горы. Наконец мы были в Мендишарии. Нужная нам деревня - Асде-Трохи - была всего в нескольких милях. Вскоре мы уже были там. Я ожидал увидеть примитивные лачуги, но моим глазам предстали яркие, украшенные мозаикой стены низких домиков полусферической формы. Мозаики складывались в красивые, искусно выполненные картины. Асде-Трохи была окружена стеной, но когда мы спускались с холма, деревня была перед нами как на ладони. Стена была украшена рисунком, в котором причудливо переплетались различные геометрические фигуры - в основном круги и прямоугольники, - выполненные яркими, насыщенными цветами - оранжевым, синим, желтым. По мере того, как мы приближались к Асде-Трохи, на стене стали появляться вооруженные люди с обнаженными клинками. Это были синие великаны. На некоторых были доспехи, но не металлические, как у Гула Хаджи, а кожаные, какие я раньше видел на аргзунах. Вооружены они были тем, что смогли, казалось, достать где-то по случаю. Когда мы подъехали ближе, один из стоявших на стене вскрикнул и стал что-то быстро объяснять остальным. Раздался громкий ликующий крик, и воины подняли мечи и топоры вверх и стали подпрыгивать от радости. Очевидно, они узнали Гула Хаджи и так его приветствовали. В центре деревни был установлен флагшток, и теперь с него спустили одно знамя и водрузили на нем другое. Думаю, они буквально подняли знамя борьбы, так как этот тяжелый желто-черный квадрат был, вероятно, знаменем свергнутого брадхи. Гул Хаджи улыбнулся мне, когда увидел, как открываются ворота: - Такой встречи стоило ждать годами, - сказал он. Мы въехали в деревню. Все жители - мужчины, женщины, дети, которые были с меня ростом! - окружили Гула Хаджи, наперебой выкрикивая слова приветствия. Одна из женщин - весьма, как я полагаю, красивая по их стандартам - бросилась к Гулу Хаджи и повисла на его руке, не отрывая своих огромных глаз от его лица. Казалось, Гул Хаджи смутился - как смутился бы и я на его месте, - и с некоторым трудом освободил руку, но ему это удалось, только когда он увидел, что к нему величественной походкой приближается высокий молодой человек с протянутыми в знак приветствия руками. - Морахи Ваджа! - воскликнул изгнанник. - Видишь, я сдержал свое слово! - А я - свое, - улыбнулся молодой воин. - В горах не осталось ни одной деревни, которая не поддерживала бы тебя и не стремилась бы помочь нашему делу. Женщина продолжала стоять рядом, но теперь она уже не обнимала Гула Хаджи. Морахи Ваджа повернулся к ней. - Это моя сестра Ора Лиз, ты с ней не знаком, но она - самый горячий твой союзник. - Морахи Ваджа улыбнулся и обратился к девушке: - Ора Лиз, пожалуйста, скажи, чтобы слуги приготовили Гулу Хаджи и его другу комнаты и обед. - Казалось, что молодого воина совершенно не удивило появление в их деревне чужестранца, человека из другого племени. Гул Хаджи понял, что настала пора меня представить. - Это Майкл Кейн, он с Негалу, - сказал он, называя Землю именем, принятым для нее на Марсе. На этот раз Морахи Ваджа все же удивился, но не сильно. - Я думал, на Негалу живут только гигантские пресмыкающиеся, - сказал он. Гул Хаджи рассмеялся. - Он не только с Негалу, он еще и из будущего. Морахи Ваджа слегка улыбнулся. - Что ж, приветствую тебя, друг, надеюсь, ты принесешь нам счастье. Я не стал говорить, что сам от всей души надеялся сделать хотя бы это, раз уж свое счастье я упустил! Когда мы спешились, Гул Хаджи сказал: - Майкл Кейн спас сегодня мою жизнь, когда мы сражались с приозами. - Мы приветствуем нашего дорогого гостя! - сказал Морахи Ваджа. - Да, но Гул Хаджи не упомянул, что до этого он спас мою жизнь, - сказал я, когда Морахи Ваджа вел нас к большому дому, украшенному самой красивой мозаикой, которую я когда-либо видел. - Значит, судьба распорядилась так, чтобы он спас тебя, ведь если бы он дал тебе погибнуть, кто помог бы ему в схватке с приозами? Что ж, логично. Мне нечего было ответить на это. Мы вошли в дом. В больших, светлых, просто украшенных комнатах было прохладно. Ора Лиз была уже там. Она смотрела только на Гула Хаджи, который был одновременно польщен и смущен ее вниманием. Морахи Ваджа, вероятно, являлся человеком, чье мнение имело в деревне вес - он был, как выяснилось впоследствии, чем-то вроде мэра, и по его приказанию о нас заботились как нельзя лучше. Еду и напитки подавали восхитительные, кое-что из еды, очевидно, производилось на севере, поскольку раньше я никогда этого не пробовал. Мы до отвала наелись и напились, и во время еды Ора Лиз не оставляла Гула Хаджи своим вниманием. Она даже умоляла позволить ей остаться, когда Морахи Ваджа сказал, что мы должны обсудить стратегию и материальное обеспечение восстания. Существовали две основные причины восстания. Во-первых, люди начали сознавать, что никакой сверхъестественной силы у приозов не было. Слишком многие женщины и девушки убедились, что желания приозов были весьма примитивны. Трудно было, узнав об этом, продолжать считать их почти богами. И во-вторых, приозы стали более самоуверенны и потому более беспечны и уже не так бдительно следили за своей безопасностью. Такое развитие событий показалось мне знакомым. Падение тиранов из-за собственной неосмотрительности и недальновидности происходило с регулярностью закона природы. Мудрый король, каким бы характером он ни обладал, защищал своих подданных и таким образом - себя самого. Чем крупнее и сложнее общество, тем больше времени ему требуется, чтобы избавиться от тирана. Конечно, часто одного тирана сменяет другой, и порочный круг замыкается. В конечном итоге это приводит к гибели государства - его упадку или утрате независимости, но рано или поздно должен появиться просвещенный правитель. На это иногда уходят века, а иногда - несколько недель. Все так, однако к такой ситуации трудно относиться философски, когда железный каблук стоит на твоем лице. Мы проговорили довольно долго, и все это время мне было забавно наблюдать, как Гулу Хаджи приходилось часто отказываться от очередного вкусного блюда, или восхитительного плода, или от подушки, предлагаемых ему такой заботливой Орой Лиз. Вырабатывая план, мы исходили из того, что, когда мендишары из деревень атакуют столицу, ее жители поддержат восстание против приозов. Это представлялось логичным. Все было готово для выступления. Оказывается, все было иначе еще совсем недавно. Мендишары не хотели идти за Морахи Ваджой, который в их глазах был слишком молод и неопытен. Однако все изменилось, когда Морахи Вадже удалось связаться с Гулом Хаджи. Теперь они были готовы к борьбе. - Очень важно, что ты здесь, брадхи, - сказал Морахи Ваджа. - Ты должен беречь себя до восстания, ибо если мы потеряем тебя, то потеряем всякий шанс победить. Гул Хаджи пробовал протестовать, но Морахи Ваджа оставался непреклонным: он был убежден в том, что говорил. Каждому из нас в доме Морахи Ваджи была предоставлена комната. Моя кровать была очень простой и жесткой, как это было принято здесь, на Марсе. Вскоре я уже крепко спал. Я лег спать со смешанным чувством отчаяния и надежды. Я, конечно, не мог забыть, что от женщины, которую я любил, меня отделяли непреодолимые препятствия. С другой стороны, беду порабощенного народа Мендишарии я переживал, как свою собственную. Мы, американцы, всегда сочувствуем угнетенным, кем бы они ни были. Не очень-то христианская позиция, согласен, но это позиция большинства моих соотечественников, а также вообще большинства землян. Проснулся я, настроенный еще более философски, чем накануне. У меня оставалась надежда, хотя и очень слабая. Помнишь, я рассказывал тебе о замечательных изобретениях таинственных шивов? На шивов-то я и надеялся: если бы я смог с ними связаться, я бы попросил их помочь мне пересечь пространство и время снова, но на этот раз не для того, чтобы попасть на другую планету, а для того, чтобы оказаться в другом месте и в другом времени здесь, на Марсе. Я решил, что как только своими глазами увижу, что революция мендишаров победила, я разыщу шивов. Я не мог уйти из Мендишарии раньше, наверное, потому, что считал Гула Хаджи своим близким другом и все, что он делал, было для меня интересно и важно. Вскоре после того, как проснулся, я услышал легкий стук в дверь. В открытое окно - стекол в доме не было - струился солнечный свет и аромат свежего, чистого воздуха - знакомый запах Марса. Я пригласил стучавшего войти. Это была девушка-служанка. Женщины из племени мендишаров были всего на фут или два ниже мужчин. В руках у служанки был поднос с горячим завтраком. Я удивился, ибо на юге марсиане предпочитают на завтрак обходиться фруктами. Я уже заканчивал завтрак, когда вошел Гул Хаджи. Поприветствовав меня, он сел на кровать и разразился смехом. Я не мог удержаться и улыбнулся ему в ответ, хотя и не знал причины его веселья. - Что там такое случилось? - спросил я его. - Эта девушка, - сказал он, продолжая смеяться, - сестра Морахи Ваджи. Как там ее зовут? - Ора Лиз? - Точно. Она принесла мне утром завтрак. - А что, так никогда не делается? - Очень редко. Это, конечно, было очень любезно с ее стороны. И я бы расценил ее внимание как проявление гостеприимства или как комплимент, дело не в этом, а в том, что она сказала. - И что же? - мне стало как-то не по себе. Как я уже говорил, я человек очень чувствительный или даже мнительный. Называйте это, как хотите, но у меня есть шестое чувство, предупреждающее меня об опасности. Некоторые скажут, что в подсознании накапливается какая-то информация, не доходящая до сознания, и из этой информации в сознание передается только вывод. - Короче говоря, - объявил мой друг, - она сказала, что знает, что наши судьбы связаны. Боюсь, она думает, что я собираюсь на ней жениться. - Ах, значит, она в тебя влюблена! - воскликнул я, все еще встревоженный. - Ты - загадочный изгнанник, вернувшийся, чтобы ценой борьбы занять престол. Что может быть романтичнее? Какая девушка осталась бы равнодушной к такому герою? Я слышал, что это чувство довольно распространенное. Он кивнул. - Конечно, конечно. Поэтому я и не принял ее заявлений всерьез. Но я был с ней вежлив, не бойся. Задумавшись, я провел рукой по подбородку и вдруг понял, что уже несколько дней не брился: на лице была щетина. Нужно было что-то сделать. - Что ты ей сказал? - Что наше дело занимает все мысли и все время, но что тем не менее я заметил, какая она красивая. Она правда красивая, ты не находишь? Я не ответил. Красота - понятие относительное, я это прекрасно понимал, но, честное слово, я не мог бы отличить красивую восьмифутовую синюю великаншу от уродливой. - Я сказал ей, что нам придется подождать, пока мы не познакомимся поближе, - сказал мендишар, неуверенно кашлянув. Я почувствовал некоторое облегчение, узнав, что мой друг был так вежлив и тактичен. - Очень мудро с твоей стороны, - сказал ему я. - Когда будешь сидеть на троне Мендишарии как брадхи, вот тогда и будешь думать о романе - или о том, как его избежать. - Точно, - сказал Гул Хаджи, снова вырастая надо мной, потому что он встал с кровати. - Не знаю, как она на это прореагирует. Мне показалось, она восприняла мои слова как объяснение в любви. Меня это немного беспокоит. - Не волнуйся, - сказал я. - Чем ты думаешь сегодня заняться? - Нужно готовить восстание, а для этого отправим посланцев ко всем силакам и орсилакам и призовем их встретиться, чтобы всем вместе обсудить наши планы. Эти два марсианских слова можно было перевести приблизительно так: "главный человек в деревне" и "главный человек в городе". Суффикс "-ак" обозначает человека, имеющего власть над другими, точнее, облеченный ими властью, чтобы он действовал в их интересах, слово "сил" - небольшую группу людей, скажем, население деревни, "орсил" - группу побольше, население городка. - Это необходимо сделать, - продолжал Гул Хаджи, - чтобы они сами убедились, что я - тот, кого они ждали, а также для того, чтобы решить, когда мы выступаем, куда и как нанесем главный удар и как будем использовать наших воинов. - Как ты считаешь, сколько воинов в твоем распоряжении? - спросил я, окатываясь холодной водой, которая была у меня в комнате. - Около десяти тысяч. - А сколько будет у приозов? - Около пяти тысяч, включая и воинов из других племен, которых приозы считают своими союзниками. Приозы будут, кажется, лучше вооружены и обучены. Мои люди привыкли сражаться каждый за себя, не имея единого военачальника. Приозы - воины дисциплинированные и подчиняются приказам. Не уверен, что смогу сказать то же самое о своих бойцах. Я понял. Этим мендишары были похожи на своих сородичей - аргзунов, которых смогла на время объединить эта сверхковарная Хоргул, и то ей удалось сделать это, только когда она использовала их предрассудки и страх перед общим врагом - Зверем Наалом. - Именно поэтому я и должен быть во главе восставших, - сказал Гул Хаджи. - Как утверждает Морахи Ваджа, они будут подчиняться наследнику брадхи, но не сделают и шага, чтобы выполнить приказ какого-либо простого силака. - Значит, Морахи Ваджа был прав. Очень важно, чтобы ты был жив и стоял во главе восстания. - Да, наверное. Но это очень большая ответственность. - Ответственность, к которой тебе придется привыкнуть, - сказал я ему. - В качестве брадхи Мендишарии тебе придется возложить на себя ответственность за жизнь подданных - и сделать это на всю жизнь. Он вздохнул и попытался улыбнуться: - В том, чтобы быть одиноким странником в пустыне, есть свои преимущества. Ты не находишь? - Конечно, но человек, в жилах которого течет королевская кровь, не всегда волен выбирать свою судьбу. Он снова вздохнул и сжал эфес своего огромного меча: - Ты не только хороший боевой товарищ, Майкл Кейн. Ты еще и надежный друг. Я сжал его руку и заглянул в глаза. - То же самое можно сказать и о тебе, брадхинак Гул Хаджи. - Надеюсь, - сказал он.III. Долг Гула Хаджи
Через несколько дней мы получили известие, что все орсилаки и силаки предупреждены и через три дня соберутся для решающего совещания. Эти три дня перед совещанием мы провели в обсуждении наших планов. Отдыхали мы мало, и все свободное время Гул Хаджи проводил с Орой Лиз. Как и любому мужчине, ему льстило ее восхищение, и он просто купался в нем. Я чувствовал, что ничего хорошего из этого не могло выйти, но не мог его винить. Если бы я сам попал в такую ситуацию - разумеется, если бы до этого не встретил Шизалу, - то вел бы себя точно так же. По правде говоря, я и в самом деле часто вел себя так, но в тех случаях на карту было поставлено гораздо меньше. Мне казалось, что мой друг давал Оре Лиз повод думать, что ее страсть взаимна, но у меня не было случая сказать ему об этом. Однажды случилось так, что я оказался с девушкой в одной комнате, и мы разговорились. Несмотря на то, что мне было трудно общаться с ней, так как очень непривычны были ее рост и своеобразное лицо, я понял, что она была простой, искренней, романтически настроенной девушкой. Я заговорил с ней о Гуле Хаджи, сказал, что у него много обязанностей перед народом и что, возможно, пройдут годы, прежде чем он сможет подумать о себе, о своей личной жизни, о жене, наконец. В ответ оналишь рассмеялась и пожала плечами. - Ты мудрый человек, Майкл Кейн. Брат говорит, что твои советы были очень полезны. Но думаю, что в вопросах любви ты не столь умен. Это замечание уязвило меня больше, чем я даже готов был признать, так как мысли о моей любви, о Шизале, не оставляли меня ни на минуту. Но я упрямо продолжал разговор на эту тему. - Ты никогда не думала, что Гул Хаджи, может быть, не испытывает к тебе столь же сильного чувства, как ты к нему? - спросил я мягко. Ора Лиз опять засмеялась. - Через два дня мы поженимся, - сказала она. Я ахнул. - Поженитесь? Гул Хаджи ничего мне об этом не говорил. - Не говорил? А это неважно, все равно так будет. После такого заявления мне нечего было ответить, и я решил разыскать Гула Хаджи, и чем раньше, тем лучше. Я нашел его у северной границы деревни, он стоял, глядя поверх стены на прекрасные бирюзовые горы, на ухоженные поля, кормившие жителей деревни, и на луга, на которых росли огромные алые цветы рани. - Гул Хаджи, - сказал я без околичностей. - Ты знаешь, что Ора Лиз решила, что ты через два дня на ней женишься? Он с улыбкой повернулся ко мне. - Значит, она так решила? Боюсь, она живет в мире, придуманном ею самой. Вчера она мне сказала с очень таинственным выражением лица, что если я буду ждать ее под определенным деревом вон там, - он показал на северо-восток, - то случится то, чего мы оба желаем. Тайная свадьба! Это даже более романтично, чем можно было от нее ожидать. - Неужели ты не понимаешь, что она искренне верит, что ты придешь туда? Он глубоко вздохнул. - Да, наверное, она так и думает. Я должен что-то сделать, правда? - Да, и как можно скорее. Бедная девушка! - Знаешь, Майкл Кейн, из-за обязанностей, которые на меня свалились в эти последние дни, я совсем запутался. Я проводил время с Орой Лиз, потому что в ее обществе мне было очень хорошо, напряжение проходило, я отдыхал душой. Понимаешь, я почти ничего не слышал из того, что она мне говорила и не помню ни одного слова из того, что я отвечал ей. Очевидно, все зашло слишком далеко. Солнце начало садиться, и на темно-синем небе появились красные, желтые и лиловые отсветы. - Пойдешь к ней? - я рассказал, где ее можно найти. Он устало зевнул. - Да нет, не сейчас. Лучше я поговорю с ней, когда отдохну и буду чувствовать себя не таким разбитым. Отложим разговор до утра. Мы медленно вернулись в дом нашего хозяина. Навстречу нам попалась Ора Лиз. Она быстро прошла мимо, остановившись на миг лишь затем, чтобы бросить Гулу Хаджи многозначительную улыбку. Я был в ужасе. Я понял, что мой друг оказался в затруднительном положении. Я также понял, как это произошло, и поэтому не мог ему не сочувствовать. И теперь ему придется сделать то, что не по душе ни одному мужчине: ему предстояло с максимальным тактом сказать девушке то, от чего она будет чувствовать себя очень несчастной. Немного разбираясь в таких ситуациях, я также знал, что как ни старается мужчина причинить как можно меньше боли, девушка всегда его неправильно понимает, и рыдает, и гонит его прочь, не принимая его утешения. Найдется очень мало женщин, которые реагировали бы иначе. Честно говоря, как раз они и вызывают мое восхищение, - женщины, такие, как моя Шизала, которая при всей своей женственности может проявить железную волю и характер, силе которого может позавидовать любой мужчина. Конечно, я сочувствовал бедной Оре Лиз, сочувствовал от всей души. Она была молода, неопытна - простая деревенская девушка, может быть, не такая умная, как Шизала, но очень непосредственная, в отличие от многих девушек, получающих воспитание на юге. Я сочувствовал обоим: и Оре Лиз, и Гулу Хаджи. Но действовать предстояло моему другу, и я знал, что он сделает то, что от него потребуется. Приняв ванну и побрившись специально отточенным ножом, который я одолжил у Морахи Ваджи, ибо синим великанам совершенно нечего сбривать, и у них нет ни бритв, ни лезвий, я улегся в свою кровать, но даже тогда тревожное чувство не отпускало меня. Всю долгую марсианскую ночь я крутился и метался в постели и наутро чувствовал себя таким же усталым, как накануне, когда только ложился спать. Я окатил себя холодной водой, стараясь избавиться от чувства усталости, съел всю еду, которую мне принес слуга, надел доспехи и вышел во двор. Утро было чудесным, жаль только, у меня не было времени оценить это. Когда я оглядывался в поисках Гула Хаджи, из дома выбежала Ора Лиз. Она громко всхлипывала, почти стонала, все лицо было залито слезами. Я понял, что, должно быть, Гул Хаджи поговорил с ней и сказал ей правду, ничего не смягчая и не приукрашивая. Я попытался остановить ее, успокоить, но она вырвалась из моих рук и выбежала на улицу. Я сказал себе, что все было к лучшему, что так и должно было случиться, что, будучи такой юной и жизнерадостной, бедная девочка скоро утешится, и найдет другого воина, и окружит его своей любовью и заботой, которые, видимо, были неотъемлемой частью ее натуры. Но я ошибся. Как же я ошибся! Это стало ясно из последовавших за этим событий. Тут из дома вышел Гул Хаджи. Он шел медленно, опустив голову. Когда он взглянул на меня, я прочел в его глазах боль и грусть. - Ты сделал это, - сказал я. - Да. - Я ее видел. Она пробежала мимо меня, и я не смог ее остановить. Поверь, все к лучшему. - Надеюсь. - Она скоро утешится. - Ты не знаешь, Майкл Кейн, - сказал он со вздохом, - чего мне стоило сделать это. В другое время я бы, наверное, страстно влюбился в Ору Лиз. - Еще влюбишься, когда все испытания будут позади. - А тогда не будет слишком поздно? Я был реалистом. - Возможно, - ответил я. Он сделал над собой усилие, чтобы выбросить эти мысли из головы. - Пошли, - сказал он, - нужно еще поговорить с Морахи Ваджой. Он должен знать, как ты предлагаешь использовать отряд из Сала-Раз. Мы оба были в мрачном настроении: Гул Хаджи был подавлен, а меня не оставляли дурные предчувствия. Этот случай имел более серьезные последствия, чем мы могли себе представить. Ему суждено было полностью изменить ход событий и вовлечь меня в невероятные приключения. Ему суждено было принести многим смерть.IV. Нас предали!
Настал день решающего совещания, а Оры Лиз все не было. Отряды, посланные на ее поиски, не обнаружили никаких следов. Мы все беспокоились о ней, но нужно было думать прежде всего о деле: о предстоящем восстании. Прибывали силаки и орсилаки, гордые от сознания своей значимости. Они путешествовали тайно, в одиночку. Приозы очень пристально следили даже за небольшими группами людей, ожидая от них какой-либо угрозы своему существованию или, по крайней мере, спокойствию. В обычной жизни купцы, ремесленники, скотоводы, земледельцы, сейчас все они были воинами. Даже тирания приозов не могла лишить этих людей права носить оружие. И они были вооружены до зубов. На всех горах выставили посты, которые должны были предупредить, если появятся патрули приозов. Это было сделано на всякий случай, так как в тот день приозов не ждали, потому именно тогда и созвали совещание. В Асде-Трохи прибыли более сорока силаков и орсилаков, и все они были, судя по виду, достойны доверия. На их лицах читались одновременно готовность участвовать в общем деле и независимость, обычно вызывавшая в них желание сражаться в одиночку, не полагаясь на помощь других. Однако характерное выражение недоверия стало понемногу исчезать с их лиц. Они входили в комнату в доме Морахи Ваджи, предназначенную для этого важного совещания и, видя там Гула Хаджи, говорили: "Он так похож на нашего брадхи! Словно тот ожил и снова пришел к нам". Этого было достаточно. Хотя они не кланялись и не приветствовали его подобострастными улыбками, а держались прямо, было видно, что они готовы сражаться ради общего дела. Убедившись, что все узнали Гула Хаджи, Морахи Ваджа развернул большую карту Мендишарии и повесил ее на стену. Он предложил стратегию, которой было разумнее придерживаться, и предложил тактические ходы в расчете на различную реакцию приозов. Командиры отрядов задали несколько вопросов - было видно, что они хорошо понимали ситуацию и хотели помочь найти верное решение, - и мы обсудили новые предложения и варианты. С такими воинами, подумал я, против неосмотрительных приозов победа над ними, захват столицы, выборы нового брадхи казались делом нетрудным. Однако чувство неосознанной тревоги не покидало меня. Я гнал его прочь, но никак не мог отделаться. Я все время был настороже, беспокойно оглядывался, не снимая руки с эфеса меча. В полдень нам принесли обед, и мы поели, не прерывая совещания, так как нельзя было терять ни минуты. Вскоре после полудня мы завершили обсуждение основных проблем. Оставалось только принять решения, касающиеся более частных вопросов: как лучше было использовать отдельные отряды со специальным вооружением или выдающихся воинов и другие подобные вопросы. К вечеру у большинства из нас сложилось впечатление, что к назначенному часу - через три дня - мы должны быть готовы и что мы непременно победим. Но нам не суждено было предпринять какую-либо атаку. Вместо этого на закате мы сами были атакованы. Они напали на деревню со всех сторон, а нас было так мало, и вооружение наше было так скудно! Противники наши все были на дахарах, в сверкающих в последних лучах солнца доспехах, с великолепным оружием: пиками, щитами, мечами, дубинками, боевыми топорами. Их появление сопровождалось страшным шумом, ибо это ехали кровожадные великаны, предвкушавшие возможность стереть с лица земли деревню со всеми ее жителями: мужчинами, женщинами, детьми. Всадники кричали, как кричит росомаха, вцепляясь человеку в глотку. Это был крик, от которого ужасом наполнялись сердца не только женщин и детей, но и мужественных, не раз побеждавших опасность мужчин. Это был крик существ безжалостных, злобных, заранее торжествующих победу. Это был крик охотников, увидевших свою жертву, но здесь люди охотились на людей. Мы видели, как они ехали по улицам, круша все на пути, опуская меч на все, что двигалось или шевелилось. Невозможно передать веселье, написанное на их лицах. Я видел, как умерла женщина, прижимавшая к себе ребенка: какой-то воин отрубил ей голову и поддел на пику ребенка. Я видел, как пытался защитить себя от ударов четырех всадников мужчина и как он упал с криком ярости и ненависти. Это было как кошмарный сон. Как все это случилось? Нас предали, это было ясно. Нас атаковали приозы, ошибки быть не могло. Конец всему! Если мы погибнем, люди останутся без командиров. Даже если некоторые избегнут страшной участи, невозможно будет снова организовать восстание, всерьез рассчитывая на успех. Кто нас предал? Я не находил ответа. Конечно, это не мог сделать какой-нибудь силак или орсилак. Люди гордые и честные, они сейчас мужественно пытались отразить атаку приозов. Пока мы сражались, наступила ночь, но было светло, как днем, ибо вокруг полыхали дома, подожженные нашими противниками. Если раньше мне казалось, что Гул Хаджи преувеличивал жестокость тирана и его подручных, то теперь все мои сомнения рассеялись. Я никогда не видел, чтобы люди были так жестоки по отношению к другим людям. Память о той битве все еще сжимает мне сердце. Никогда не забуду я ту ночь ужаса. К сожалению, никогда. Мы сражались, пока тела наши не стало ломить. Один за другим умирали, истекая кровью, лучшие мендишары, надежда нации, но они уносили с собой жизни многих хорошо вооруженных приозов. Я отвечал ударом на удар. Мои движения стали почти автоматическими: защититься, напасть, парировать выпад или удар, самому нанести удар или сделать выпад. Я казался себе машиной. События последнего дня и усталость от того, как много я убивал, делали меня безучастным ко всему. Когда нас осталось уже совсем мало, я вдруг услышал крики Морахи Ваджи и Гула Хаджи, которые стояли слева от меня. Морахи Ваджа спорил с моим другом, убеждая его, что он должен бежать. Но Гул Хаджи отказывался. - Ты должен уйти! Это твой долг! - Долг?! Мой долг сражаться здесь, рядом с моими товарищами. - Твой долг - снова отправиться в ссылку. Вся наша надежда - это ты. Если тебя убьют или схватят сегодня, страна будет обречена. Уходи, и место убитых сегодня займут новые люди. Я сразу же увидел, что Морахи Ваджа был прав, и стал его горячо поддерживать. Могу себе представить, как это выглядело со стороны: мы продолжали сражаться, яростно споря. Постепенно Гул Хаджи понял, что должен уйти. - Но ты должен уйти со мной, Майкл Кейн. Мне… мне… будут нужны твои советы и… утешение. Бедняга! Он был в таком состоянии, что мог попасть в беду. Я согласился. Шаг за шагом мы отступали к тому месту, где два суровых воина держали для нас дахар. Вскоре мы уже уехали прочь из разоренной Асде-Трохи, но подозревали, что деревня была окружена на случай попытки бегства - это была стандартная тактика. Я оглянулся назад и вновь содрогнулся от ужаса. Небольшая группа защитников стояли плечо к плечу у дома Морахи Ваджи. Вокруг были трупы мужчин, женщин и детей, много трупов! Языки пламени лизали изысканные мозаичные картины на домах. Это была сцена с полотна Брейгеля - сцена ада. Мне пришлось развернуться, так как нам навстречу скакали приозы. Я редко испытываю ненависть, но приозов я по-настоящему ненавидел. Я даже обрадовался возможности убить тех трех, что, ухмыляясь, ехали нам навстречу. Своими теплыми от пролитой крови мечами мы стерли эти торжествующие улыбки с их лиц. С тяжелым сердцем мы поехали вперед, оставляя позади Асде-Трохи, место, где сейчас царили ярость и жестокость. Мы ехали и ехали, пока у нас хватало сил держать глаза открытыми. Тут настало утро. В первых лучах солнца мы увидели остатки лагеря и какой-то силуэт на земле. Приблизившись, мы узнали, кто это был. Ора Лиз. С криком удивления Гул Хаджи спрыгнул с дахары и бросился к девушке. Я присоединился к нему. Мы увидели, что Ора Лиз была ранена ударом меча. Но почему? Гул Хаджи посмотрел на меня. - Это уже слишком, - сказал он хриплым голосом. - Сначала нападение приозов на деревню, а теперь еще это. - Это тоже их рук дело? - спросил я тихо. Он кивнул и, пощупав пульс, добавил: - Она умирает. Странно, что она не умерла раньше - рана очень тяжелая. Как бы в ответ на его слова Ора Лиз открыла глаза. Взгляд был уже тусклым, но было видно, что она узнала Гула Хаджи. С ее губ сорвалось что-то вроде восклицания или стона, и она произнесла с трудом, почти шепотом: - О, мой брадхи! Гул Хаджи погладил ее по руке, пытаясь что-то сказать, но не смог. Он винил во всем случившемся с Орой Лиз себя. - Мой брадхи! Прости меня! - Простить? - наконец смог выговорить он. - Это не ты должна просить прощения, а я. - Нет! - ее голос стал тверже. - Ты не понимаешь, что я наделала. Еще не поздно? - Поздно? Поздно для чего? - Гул Хаджи был озадачен, а я, кажется, начинал понимать. - Поздно помешать приозам? - Помешать сделать что? Ора Лиз слабо кашлянула, и на ее губах появилась кровь. - Я… я сказала им, где ты… Она попыталась приподняться. - Я сказала им, где ты. Не понимаешь? Я рассказала им о совещании! Я сошла с ума! Это все от горя! О… Гул Хаджи взглянул на меня с болью в глазах. Он наконец все понял. Нас предала Ора Лиз. Она хотела отомстить Гулу Хаджи за то, что он ее отверг. Он посмотрел на нее. То, что он ответил ей, навсегда заставило меня проникнуться к нему глубоким уважением: он был настоящий мужчина, мужчина во всем, он знал, что такое сила и сострадание. - Нет, - сказал он, - они еще ничего не сделали. Мы предупредим всех… сразу же… Она умерла, не сказав больше ни слова, - с улыбкой облегчения на губах. Мы похоронили несчастную девушку там же в горах. Мы никак не отметили ее могилу. Что-то подсказывало нам поступить именно так: как будто не оставляя никакого следа на могиле Оры Лиз, мы хороним вместе с ней весь этот трагический случай. Хотя это, конечно, было невозможно. К вечеру того же дня к нам присоединились другие мендишары, бежавшие из Асде-Трохи. Мы узнали, что приозы добивали всех, кого видели живыми, что они долго преследовали убегавших. Мы также услышали, что приозы взяли несколько пленных - их имена называть не стали - и что деревня разрушена до основания. Один из орсилаков, пожилой воин по имени Хал Хира, сказал: - Хотел бы я знать, кто нас предал. Я уже давно ломаю себе голову, но ответа найти так и не могу. Я взглянул на Гула Хаджи, он - на меня. Наверное, как раз в этот момент мы и заключили молчаливое соглашение никому ничего не говорить об Оре Лиз. Пусть это останется тайной. Настоящими злодеями были приозы, остальные - жертвами судьбы. Мы вообще ничего не ответили Халу Хире, и он об этом больше не заговаривал. Мы все были не расположены говорить. На смену горам пришли равнины, равнинам - пустыни, а мы все ехали вперед, спасаясь от преследования приозов. Они не поймали нас, но подвели некоторых из нас - хотя и не напрямую - к гибели.V. Башня в пустыне
Распухшие губы Хала Хиры были крепко сжаты. Он вглядывался в простиравшуюся перед нами пустыню. Это была настоящая пустыня, покрытая черным песком, который непрекращающийся ветер постоянно шевелил, как бы возвращая его к жизни. Как раз это и была пустыня, а не та заброшенная, бесплодная, треснувшая от засухи земля, покрытая камнями, земля, на которой я оказался, когда транслятор перенес меня с Земли на Марс. Нам перестали встречаться лужи черноватой воды, мы уже не знали, где находились, помнили только, что идем на северо-запад. Дахары устали не меньше нас и начали то и дело спотыкаться. Небо было безоблачным, и нашим заклятым врагом стало солнце, палившее немилосердно. В течение пяти дней мы бесцельно ехали по пустыне. Мы не переставали думать о том, как повернулись дела в деревне. Мы были в отчаянии. Кроме того, мы знали, что если не найдем воду, то умрем. Наши тела были покрыты толстым слоем черного песка пустыни, и мы валились с наших дахар от усталости. Ничего не оставалось делать, как двигаться вперед, продолжая безнадежные поиски воды. На шестой день Хал Хира беззвучно сполз с седла. Когда мы подъехали, чтобы помочь ему, он был мертв. Еще двое умерли на следующий день. Не считая Гула Хаджи и меня, в живых оставались еще трое - если, конечно, нас можно было назвать живыми - Джил Диэра, Вас Оола, Бак Пури. Первый был тучным воином, маленького для мендишара роста. Они все были немногословны, но этот говорил еще меньше, чем остальные. Двое других были высокими молодыми воинами. Из них двоих Бак Пури стал проявлять очевидные признаки того, что терял терпение и присутствие духа. Я не мог упрекать его - скоро, очень скоро палящее солнце доведет нас всех до безумия, если не убьет так, как убило Хала Хиру. Бак Пури уже начинал что-то бормотать про себя и закатывать глаза. Мы делали вид, что ничего не замечаем: так было лучше и для него, и для нас. Глядя на него, мы представляли себе, в каком состоянии мы скоро окажемся. И тут мы увидели эту башню. Я не видел на Марсе ничего подобного. Хотя она была частично разрушена и казалась невыразимо древней, на ней не было следов губительного влияния времени. Разрушения, казалось, были вызваны какой-то бомбардировкой, в верхних частях башни были большие дыры, пробитые насквозь с воздуха в один из периодов ее истории. По крайней мере, в ней можно было укрыться. Кроме того, существование башни свидетельствовало о том, что здесь раньше было какое-то поселение, а где было поселение, могла быть вода. Подойдя к башне и потрогав ее, я с удивлением обнаружил, что она была сделана из какого-то искусственного материала, и я никак не мог его узнать. Казалось, это была невероятно долговечная пластмасса, крепкая, как сталь, а может, и еще крепче, поскольку на ней совершенно не сказалось коррозийное действие песка. Мы вошли в дверь, причем моим спутникам пришлось пригнуться. В башню нанесло песку, но он был прохладным. Мы упали на землю и, не произнеся ни слова, почти немедленно уснули. Я проснулся первым, возможно, потому, что еще не привык к тому, что марсианские ночи такие длинные. Еще только начало рассветать. Я чувствовал себя очень слабым, но отдохнувшим. И даже в таком состоянии мне было интересно узнать, где же мы находились. Над головой на расстоянии двенадцати футов был потолок, но не было видно, как можно было добраться до верхнего этажа, который должен был обязательно там быть. Не тревожа сон моих спутников, я пустился изучать окружавшую нас пустыню, пытаясь разыскать хоть какой-нибудь признак того, что под песком была вода. Я был уверен, что вода где-то здесь должна быть, но вот найду ли я ее - это был другой вопрос. Взгляд мой упал на какой-то силуэт в песках. Это была не дюна. Я обнаружил под песком низенькую стену, сделанную из той же пластмассы, что и башня. Когда я разгреб песок, я увидел, что стояла эта стена на поверхности из того же материала. Я не мог понять назначения этого сооружения. Стена простиралась в виде правильного квадрата с расстоянием в тридцать футов по диагонали. Я пошел к противоположной стене. Я был неосторожен - очень измучен, чтобы быть осторожным - и вдруг песок стал уходить из-под моих ног; я попытался сохранить равновесие, но не удержался и упал вниз. Я приземлился, еле переводя дух и поглаживая ссадины и ушибы, в каком-то помещении, наполовину засыпанном песком. Перевернувшись и взглянув вверх, я увидел рваные края дыры, в которую я провалился. Она, казалось, была сделана тем же предметом, что и дыры в башне. Ее пытались заделать передвижной крышкой, в щели которой навалился песок. Через эту-то крышку я и упал. Крышка была непрочной - это был тонкий лист пластмассы. Я взял в руки кусок, который упал вниз вместе со мной. И снова я не мог узнать материал, но, не будучи химиком, я не мог сказать наверняка, была ли известна технология его производства в мое время на Земле. Как и материал башни, этот материал свидетельствовал об очень высоком уровне развития техники и о существовании передовых технологий, не сравнимых с достижениями ни одного из известных мне марсианских племен. И вдруг от моей усталости не осталось и следа. Мне в голову пришла мысль - одна мысль, у которой было множество граней, но должен признаться, в тот момент я мало думал о своих спутниках. Может быть, это было жилище шивов? Если так, возможно, у меня будет шанс вернуться на Марс того времени, в которое мне нужно попасть - времени, где жила моя Шизала. Я выплюнул песок изо рта и встал. Помещение было пустым и безликим. Только когда глаза мои стали привыкать к темноте, я смог различить на дальней стене небольшую приборную панель. Тщательно осмотрев ее, я обнаружил, что она состоит из полдюжины кнопок. Я занес над ними руку. Если нажать на одну из них, что может случиться? И случится ли что-нибудь вообще? Вряд ли. С другой стороны, те руки, которые закрыли заплатой дыру в потолке этого помещения, могли поддерживать и эти приборы в рабочем состоянии. Были ли здесь живые существа? Я был уверен, что из этой комнаты можно было попасть в другие. Логично? Логично. Если есть кнопки, они должны были быть от какого-нибудь механизма. Наугад я нажал одну из кнопок. Я приготовился к самым серьезным последствиям, но ничего особенного не произошло, кроме того, что комната осветилась тусклым светом, который исходил от самых стен. Но в этом свете стала видна тонкая линия, образовывавшая прямоугольник недалеко от панели. Дверь? Как раз этого я ожидал. Приборы - все или только их часть - были в рабочем состоянии. Прежде чем предпринять дальнейшие исследования, я помедлил и вернулся на место прямо под дырой в потолке комнаты. Я услышал слабые голоса. Очевидно, мои спутники проснулись и, не увидев меня рядом, пошли меня искать. Я позвал их. Вскоре над комнатой склонился Гул Хаджи. Он был очень удивлен: - Что ты там нашел, Майкл Кейн? - Возможно, путь к спасению, - сказал я, изо всех сил стараясь изобразить усмешку. - Прыгай сюда и позови остальных: посмотрите сами, что я нашел. Гул Хаджи спрыгнул ко мне, за ним - Джил Диэра и Вас Оола. Бак Пури спустился к нам последним. Он подозрительно озирался с совершенно безумным видом. - Вода? - сразу же спросил он. - Ты нашел воду? Я покачал головой. - Пока нет, но возможно, мы ее найдем. - "Возможно"! "Возможно"! Я умираю. Гул Хаджи положил руку на плечо Бака Пури. - Успокойся, друг, потерпи еще немного. Бак Пури провел языком по распухшим губам и затих, оставаясь мрачным и недовольным. Время от времени он бросал на нас безумные взгляды. - Что это? - Джил Диэра махнул рукой в сторону приборной панели. - Я нажал на одну из кнопок, и вспыхнул свет, - сказал я. - Можно предположить, что еще одна из них откроет дверь, но я не знаю, какая именно. - Интересно, а что за дверью? - вставил Вас Оола. Пожав плечами, я протянул руку и нажал на вторую кнопку. Пол, стены, потолок комнаты начали трястись. Я поскорее нажал на эту кнопку еще раз, и вибрация прекратилась. Я нажал на третью кнопку - и никаких видимых признаков. Четвертая кнопка, и мы услышали резкий скрип и скрежетание, которыми сопровождалось, как я немедленно заметил, движение двери: она ушла в стену направо. Заглянув в появившееся отверстие, мы ничего не увидели. Темнота была, хоть глаз выколи. Но мы почувствовали на лицах дуновение холодной-холодной струи воздуха. - Как ты думаешь, кто создал все это? - спросил я Гула Хаджи. - Шивы? - Может, и шивы, - сказал он не очень уверенно. Я протянул руку в темноту, чтобы нащупать панель с кнопками, которая, как было логично предположить, должна была быть и в этой комнате. Я ее нашел. Нажав соответствующую кнопку, я зажег в комнате свет. Песка на полу не было. По форме эта комната была приблизительно такой же, как и первая. Но здесь на стенах были закреплены какие-то огромные сферические предметы, под которыми находились пульты управления. На полу лежал скелет. Увидев останки того, кто, вероятно, был синим великаном племени мендишаров, Бак Пури пронзительно вскрикнул и стал показывать на кости дрожащим пальцем. - Дурной знак! Он тоже был любопытен, и его убили. Здесь действуют сверхъестественные силы! С показной беспечностью я прошел внутрь и склонился над скелетом. - Чушь, - сказал я, подняв копье с коротким древком. - Он был убит вот этой штукой - смотрите сами. - И я протянул им копье. Оно было легким и крепким, сделанным как единое целое из еще одного необычного материала. - Ничего подобного я в жизни не видел, - сказал Джил Диэра, присоединяясь ко мне, чтобы взглянуть на оружие. - Смотри, на древке вырезаны знаки - или буквы? - и я не знаю, какой язык это мог бы быть. Я тоже не знал, на марсианский он был похож мало. Однако было некоторое сходство, очень смутное, с классическим санскритом - в самом общем очертании букв. - Знаешь, что это такое? - спросил я, передавая пику Гулу Хаджи. Он сжал губы. - В своих странствиях я уже встречал нечто подобное. Похоже на оружие шивов, но не совсем. - Казалось, рука его дрогнула, когда он возвращал мне копье. - Тогда что это? - спросил я нетерпеливо. - Это… И тут раздался этот звук. Высокий звук, от которого останавливалась в жилах кровь, - противоестественный шепот, отозвавшийся в комнатах эхом. Он звучал вокруг нас, во всем этом подземном мире. Это был самый жуткий звук из всех, какие я слышал в своей жизни. Казалось, он подтверждал полубезумное предположение Бака Пури о том, что здесь живут существа сверхъестественные. Внезапно из убежища, обещавшего спасение, подземная комната превратилась в источник безотчетного, неконтролируемого ужаса. Первым побуждением было бежать. И Бак Пури действительно сделал шаг к двери, чтобы вернуться в первую комнату. Остальные не двигались, но было видно, что они с трудом удерживают себя. Я рассмеялся, точнее, попытался рассмеяться - в результате у меня получилось какое-то безрадостное кряхтение, - и сказал: - Спокойно. Это очень древнее место. Звук могли издать животные, поселившиеся в руинах, он может исходить от машин, наконец, он мог быть вызван ветром, проходящим через комнаты. Я не верил ни единому своему слову, и они тоже. Я попробовал другое средство. - Хорошо, - сказал я, поежившись. - Что будем делать? Рискнем там, где, может быть, никакого риска и нет, или пойдем на верную смерть в пустыне - смерть медленную, мучительную? Бак Пури остановился; должно быть, ему на помощь пришли остатки его некогда сильного характера. Он расправил плечи и присоединился к нам. Я миновал скелет и, приблизившись к панели с кнопками, открыл следующую дверь. Эта дверь открылась легко, и я быстро нашел кнопку, чтобы осветить третью комнату, которая была больше, чем предыдущая. В какой-то степени в этой комнате я почувствовал себя лучше: здесь было больше всякого оборудования. Конечно, я не знал его назначения, но меня успокаивала мысль о каком-то высоком интеллекте, создавшем все это. Как ученый, я оценил труд и изобретательность этого интеллекта. И еще я увидел, что оборудование создано живым мыслящим существом, а не какой-то сверхъестественной силой. Если эти пчелиные соты комнат все еще были обитаемы, значит, жили здесь люди, которые мыслят логически и действия которых можно расценивать с позиций элементарной логики. Конечно, не было гарантии, что они не отнесутся к нам враждебно или не будут угрожать нам каким-нибудь опасным оружием, но я почему-то был уверен, что в конечном итоге с ними можно будет найти общий язык. Так я думал. Мне следовало понять, что в моих рассуждениях, которые я выстраивал так тщательно, чтобы успокоить свою тревогу, был серьезный просчет. Мне следовало понять, что услышанный нами звук по природе был животным, а по настроению - очень злобным. В нем не было ничего, освященного истинным интеллектом. Мы пошли вперед, минуя комнату за комнатой, обнаруживая новую технику и материалы: ткань, немного похожую на парашютный шелк, контейнеры с газом и химикатами, мотки шнура, похожего на нейлоновый, только гораздо крепче, химическое оборудование, приборы для опытов по электронике, части каких-то аппаратов, в том числе электрических генераторов. Чем дальше продвигались мы по этому лабиринту комнат, тем более беспорядочно были расположены в комнатах предметы. В первых комнатах царил порядок, а в последующих вещи были перевернуты, шкафы, где все это хранилось, открыты, их содержимое выворочено наружу. Это были следы посещения грабителей, труп одного из которых мы нашли во второй комнате? Не знаю, какая это была комната по счету, может, тридцатая. Я открыл ее обычным путем и протянул руку, чтобы включить свет, и тут моей кожи коснулось что-то мягкое и влажное. О, это было ужасное прикосновение! Вскрикнув, я убрал руку и повернулся к своим товарищам, чтобы рассказать, что случилось. Первое, что я увидел, было лицо Бака Пури с глазами, в которых застыл ужас. Он показал рукой на комнату. Из горла вырвался сдавленный звук. Он опустил руку и потянулся к мечу. Другие сделали то же самое. Я посмотрел в дверной проем и увидел их. Белые фигуры. Вероятно, они когда-то были людьми. Теперь это были уже не люди. С ужасом и отчаянием я тоже вытащил меч, чувствуя, что нет, наверное, такого оружия, которое могло бы защитить нас от призраков, надвигающихся из темноты.VI. Те, что некогда были людьми
На этот раз Бак Пури не бросился убегать. На его лице отразилась сложная гамма чувств. Он сделал полшага назад и прежде, чем мы успели его остановить, кинулся в темную комнату, прямо на эти мертвенно-белые существа. Они что-то забормотали и на мгновение отшатнулись. При этом раздался какой-то шелестящий шум, как будто тысячи летучих мышей одновременно вспорхнули с места, и этот шум эхом пролетел по всему лабиринту комнат. Бак Пури посылал свой меч направо и налево, вверх и вниз, отрубая им конечности, пронзая непривычно мягкие, какие-то вязкие тела. И вдруг он превратился, словно по волшебству, в комочек плоти с торчащими из него во все стороны пиками. Он кричал от боли и ужаса, а пики, похожие на те, что мы уже видели рядом со скелетом, пронзали его тело одна за другой, пока под ними уже невозможно стало различить человека. Он рухнул на пол. Убедившись, что наводящие ужас существа можно было по крайней мере ранить или убить, я решил, что нужно воспользоваться безумной атакой Бака Пури, и, размахивая мечом, я бросился в комнату с криком: - Вперед - они смертны! Они и вправду были смертны, но легко ускользали; к тому же их вид и прикосновение к их телам вызывали физическое отвращение. Я слышал, как за мной последовали остальные. Это прибавило мне силы, и вскоре я уже сражался с окружившими меня врагами, нанося удары наугад по сплошной стене белой мягкой плоти, одной плоти, без костей. А лица! Они были злобной пародией на лица людей. Опять мне на память пришли летучие мыши с Земли, мыши-вампиры: плоское лицо с едва выступающими огромными ноздрями и кривой разрез рта, полного острых маленьких зубов, полуслепые глаза - темные, бездушные, беспощадные. Я отражал удары их лап и копий, стараясь избежать укусов их острых зубов, а они сновали вокруг, что-то бормоча и глухо вскрикивая. Я неверно судил о них. В их лицах не было ни малейшего признака здравого рассудка. На них была написана жажда крови, темная нерассуждающая злоба, злоба, которая лишь ненавидит. Мои спутники и я стояли плечо к плечу, спина к спине, пытаясь сопротивляться этой безликой злобной силе. Когда мы увидели, что они уязвимы, что от наших тяжелых мечей уже пали около десятка чудовищных существ, мы воспрянули духом. Мы продолжали сражаться, и наконец призраки обратились в бегство, оставляя после себя убитых и раненых, которые метались по полу. Мы добили их. А что оставалось делать? Мы попытались преследовать их, но дверь быстро закрылась. Когда же мы ее распахнули, призраки уже скрылись за следующей дверью. Включив свет в комнате, где мы только что сражались, мы смогли получше разглядеть противников. Своим безумием Бак Пури несомненно помог нам спастись. Атакуя призраков, он принял на себя основной удар - и основную массу их смертоносных копий. Обитатели подземных комнат были немного ниже меня ростом и казалось, как это ни было невероятно, совсем не имели скелета. Наши мечи проходили через плоть и мускулы, вызывая кровь - если можно назвать кровью желтую жиденькую водицу, в которой были испачканы лезвия наших клинков. Но они ни разу не наткнулись на кости. Сделав над собой неимоверное усилие, я нагнулся, чтобы рассмотреть тела, и увидел, что кости у них все же были, но настолько тоненькие и хрупкие, что напоминали палочки из слоновой кости. Каким образом вырос на древе эволюции этот уродливый, аномальный отросток? Я повернулся к Гулу Хаджи. - Что это за племя? - спросил я. - Думаю, ты уже давно догадался. - Это не шивы, - сказал он, криво усмехнувшись. - И не якши, как я думал до того, как их увидел. Эти жалкие существа не представляют никакой реальной угрозы, ну разве что для нашего рассудка. - Ты думал, что это якши. Почему? - Я узнал буквы на пиках и шкафах в комнатах, через которые мы прошли. Это письменность якшей. - А кто такие якши? Помню, ты упоминал о них. - Ты хочешь знать, кто были якши? Сейчас они живут только в слухах и суеверных рассказах. Это родственники шивов. Помнишь, когда мы только встретились, я тебе о них рассказывал? Теперь я вспомнил. Ну конечно, древнее племя, позвавшее аргзунов за собой из Мендишарии во время марсианской войны, называемой Величайшей войной. - Думаю, однако, что эти привидения - потомки якшей, - продолжал Гул Хаджи, - на которых они и похожи - если, конечно, я правильно представляю себе якшей. Призраки жили здесь, наверное, веками, и все это время они почему-то - видимо, как бы соблюдая ритуал - продолжали ухаживать за оборудованием, поддерживая его в рабочем состоянии, и защищать свое жилище от вторжений извне. Постепенно они утратили весь свой интеллект и привыкли находиться во мраке, хотя могли бы жить со светом. Что ж, остатки такого разрушительного и злобного племени, как это, вполне заслужили свою судьбу. Я вздрогнул. По-своему, мне было жаль этих существ, которые когда-то были людьми. И тут мне в голову пришла замечательная мысль. - Что же, - сказал я веселым голосом, - люди они или животные, наверняка, они не могли бы прожить без воды. Значит, вода где-то рядом, и мы ее скоро найдем. Казалось, когда мы только вошли в подземные комнаты, то на время забыли о жажде, но после изнурительного боя пить захотелось с новой силой - чтобы восстановить израсходованную энергию. Мы очень устали, но теперь чувствовали уверенность в том, что сможем справиться с белыми привидениями, если они снова захотят напасть. Мы продолжали идти вперед и скоро оказались в большой комнате, слегка освещенной - на этот раз естественным светом. Взглянув вверх, я увидел, что свет проходит через куполообразную крышу, расположенную выше, чем крыши в других комнатах. Через щели и трещины в куполе проникал песок, но пол был покрыт лишь очень тонким его слоем. И тут я услышал этот звук! Журчание, плеск. Сначала я решил, что у меня от жажды начались галлюцинации, но когда глаза мои привыкли к полумраку комнаты, я увидел его - я увидел фонтанчик в центре. Целый маленький водоем, наполненный водой. Мы подошли поближе и осторожно попробовали, вода ли это. Вода, чистая и свежая! Захлебываясь, мы пили и пили и не могли напиться, мы мочили тела и одежду. Но мы не забывали и о возможной атаке "местных жителей", поэтому по очереди стояли на карауле. С новыми силами, в хорошем настроении, мы наполнили водой фляги, висевшие на поясе. Пробка моей фляги застряла, и чтобы вытащить ее, мне пришлось воспользоваться маленьким ножичком, который есть у каждого синего великана. Он спрятан в доспехах так, что если воина захватывают в плен, враги могут и не заметить этот ножик, и у пленного будет шанс сбежать. Я достал пробку и снова убрал ножик в ножны, скрытые в моих доспехах. Что теперь? У нас не было никакого желания исследовать оставшиеся комнаты. Впечатлений и так хватало. Мы, однако, позаботились о том, чтобы забаррикадировать дальнюю дверь, через которую бежали белые призраки: мы навалили туда песок и щепки. Потом я нашел лестницу, состоящую из ступенек, закрепленных в стене. Она вела наверх, в узкую галерею, которая шла по периметру всей комнаты в том месте, где начинался купол. Я взобрался по лестнице на галерею. Она была узкой: вероятно, предназначалась она для рабочих, которые чинили и красили купол комнаты. Он не был сделан из того же самого долговечного синтетического материала, что вся башня. Я увидел пролом в крыше и, когда выглянул, моим глазам открылась черная пустыня, сверкавшая сейчас в лучах палящего солнца. Купол был почти наполовину засыпан песком, и поэтому снаружи его было почти не видно. Я взялся за край этого пролома, но в руках у меня остались только крошки: материал, из которого был сделан купол, разрушился под действием коррозии. Он был прозрачен - через него должен был проникать свет снаружи в комнату с фонтаном. Возможно, когда якши были в здравом рассудке и еще не опустились до полуживотного состояния, они любили отдыхать в главном зале своего подземного дворца. Крыша была сделана в виде купола исключительно в эстетических целях, ибо никакого практического значения такая ее форма не имела. Поэтому крыше и суждено было обвалиться окончательно. Когда это случится, песок забьет фонтан, и я не уверен, что у обитателей этого подземного дворца - или города? - хватит сообразительности расчистить его или починить крышу. Купол раньше чинили, но, вероятно, это делали далекие, еще разумные предки теперешних бледных привидений. Я спустился вниз, на пол, уже обдумывая свою новую идею. В диаметре купол был футов тридцать - через него мог бы пройти достаточно большой предмет. - О чем ты задумался, друг мой? - спросил Гул Хаджи. - Кажется, я знаю, как отсюда выбраться, - сказал я. - Отсюда? Вернемся назад, и все. - Или сломаем крышу, - сказал я, указывая наверх. - Она очень непрочная, разрушенная снаружи песком. Но я имел в виду не только это. Мы сможем выбраться из пустыни. - Ты где-нибудь нашел карту? - Нет, но я нашел много других вещей. То, что осталось от прежней высоконаучной цивилизации: плотная, прочная, непроницаемая для воздуха ткань, шнур, газовые контейнеры. Надеюсь, что газ в них еще есть и что это именно тот газ, который мне нужен. Гул Хаджи был явно сбит с толку. Я улыбнулся, а все смотрели на меня, как будто я вслед за Баком Пури стал сходить с ума. - Меня натолкнул на эту мысль купол, хотя и не знаю, почему, - сказал я. - Мне вдруг пришло в голову, что, если бы у нас был летающий корабль, мы могли бы пересечь пустыню очень быстро. - Летающий корабль?! Я слышал о таких. На юге до сих пор их используют, но их осталось очень мало, - сказал Джил Диэра. - Ты нашел летающий корабль? - Нет. - Я покачал головой, все еще не в состоянии оторваться от своих размышлений. - Зачем же тогда об этом говорить? - резко спросил Вас Оола. - Потому что мы можем сделать его. - Сделать? - Гул Хаджи улыбнулся. - Нет, нам не хватит знаний этих древних наций. Это невозможно. - Хотя я не претендую на то, чтобы считаться таким же могущественным ученым, как ученые этих погибших народов, - сказал я, - на это моих знаний должно хватить. Я не собираюсь строить летающий корабль такой же сложный, какие были у них. - Тогда какой? - Я думаю, очень простой, примитивный летающий корабль все же можно соорудить. - Трое синих великанов смотрели на меня молча, все еще с подозрением или, скорее, с сомнением. В марсианском языке не было слова, чтобы назвать этот корабль. Пришлось использовать слово из моего родного языка. - Мы назовем его воздушным шаром, - сказал я. Я начал чертить на песке план, объясняя принцип действия воздушного шара. - Из материала, который мы здесь уже видели, мы сделаем огромный мешок и наполним его газом, - сказал я. - Конечно, это будет непросто - мешок не должен пропускать газ. От него мы протянем веревки и закрепим на них корзину, в которой мы будем путешествовать, - нашу кабину. К тому времени, как я закончил чертить и объяснять, мендишары мне поверили и в общих чертах всепоняли, что свидетельствовало об их остром уме, ведь у их народа наука была довольно слабо развита. Еще раз я столкнулся со способностью марсиан с готовностью воспринимать новые идеи и откликаться на них. Действительно, им можно было быстро объяснить любую достаточно сложную концепцию, если пользоваться понятными и логичными категориями. За долгую историю существования своей нации на примере погибших высокоразвитых цивилизаций они могли убедиться - то, что кажется невозможным, не всегда таковым является. В отличном настроении мы вернулись, чтобы взять все необходимое для воздушного шара. Я не был уверен, что в контейнерах, занимавших несколько комнат, содержался нужный нам газ. У меня не оставалось другого выхода, пришлось рискнуть жизнью, чтобы найти его. У контейнеров были клапаны, которые все еще работали исправно. Некоторые газы я узнать не мог, но кажется, ни один из них не был ядовитым, хотя от некоторых у меня начинала кружиться голова. Наконец я нашел комнату, в которой хранились нужные мне контейнеры с газом, атомный номер которого - 2, символ - Не, атомный вес - 4,0026. Этот газ, названный греческим словом, обозначавшим солнце - гелий, - был инертным, невоспламеняемым легким газом, который я искал, газом, который был нужен, чтобы наполнить наш воздушный шар. Итак, мы нашли то, что нам было необходимо: легкую прочную ткань, газ, веревки. Потом мы стали обследовать моторы, которые попались нам на глаза во время поисков. Я не стал разбирать их, так как предполагал, что они работают на атомной энергии, вырабатываемой крошечным атомным реактором. Но я все же понял, как они работают, и мог бы приспособить их для наших нужд, привязав к пропеллерам. Но пропеллеров не было, как не было ничего, что могло бы их заменить. Их нужно было как-то сделать. И тут мы обнаружили великолепный агрегат. С его помощью можно было получать предметы из легкого прочного синтетического материала, из которого было построено почти все вокруг. Этот агрегат был большим; кажется, он был связан с каким-то невидимым резервуаром. Это было неожиданно ниспосланным нам счастьем. На передней панели был нарисован план агрегата с трех точек: сбоку, сверху, спереди. Мы выбрали нужный нам размер и, нажав кнопку, запустили механизм. Через несколько минут из аппарата появился первый блок. Теперь мы могли сделать столько пропеллеров, сколько нам было нужно, а также кабину. Мне было жаль, что приходилось так быстро покидать подземный город. Как хотелось остаться и посмотреть, как работал этот аппарат, из каких исходных элементов и по какой технологии получалась такая сверхпрочная пластмасса. Я решил вернуться, как только представится возможность, и привести с собой людей, которые будут готовы, то есть соответствующим образом обучены, помочь мне достичь глобальной цели: исследовать все тайны подземного города, отыскать все приборы и аппараты, которые можно было бы применить в дальнейшем, научиться производить новые материалы, воспользовавшись информацией этой древней цивилизации. Когда это случится, на Марсе настанет новая жизнь. Мы трудились не покладая рук, перенося все необходимое в зал с купольной крышей, где, кроме всего прочего, мы находились около самого ценного в пустыне - воды. В одной из комнат мы нашли герметично закрытые контейнеры со специально приготовленной обезвоженной пищей, которая была безвкусной, но очень питательной. По мере того, как становилось видно, что воздушный шар приобретает конкретные формы, настроение улучшалось все больше и больше. У нас появилась свободная минутка, и мы решили заняться своим внешним видом. Мне нужно было побриться - и вообще я старался это делать регулярно. Трудность была в том, что я не мог нигде найти хоть какое-нибудь зеркало. Тут в одной из комнат я увидел какой-то металлический шкаф с ярко начищенной блестящей дверцей. Я перетащил его в комнату с куполом просто потому, что очень хотелось побриться и он был нужен как зеркало! Чтобы обитатели подземных комнат могли продолжать жить - если, конечно, это можно назвать жизнью, - мы соорудили вместо разрушающегося купола прочную крышу, чтобы песок не сыпался внутрь и не забивал фонтан. Мы приладили баллоны с газом к отверстию в будущем шаре, а пока еще бесформенной груде тряпья, и с радостью наблюдали, как постепенно на наших глазах вырастает крутобокая сфера. Нужно было приладить ремни к двигателю и установить пропеллеры, но в остальном шар был готов. По всем существенным признакам был похож на простейший самолет, и хотя он был уязвимее и медленнее, чем марсианские самолеты, на которых мне доводилось путешествовать, я считал, что мы неплохо потрудились. Шар наполнился воздухом и поднялся, удерживаемый туго натянутыми веревками. Казалось, он мог спокойно нести человек сто таких, как мы. Мы начали смеяться и хлопать друг друга по спине - можете себе представить, как выглядел в этой ситуации я: у нас получилось! С крепких веревок, проходящих поверх шара, свисала кабина, сделанная из больших пластмассовых пластин. Мы устроили в ней иллюминаторы. К сожалению, мы не нашли никакого прозрачного материала, чтобы вставить в эти иллюминаторы, и пришлось сделать что-то вроде ставней. В кабину мы положили фляги с водой, запасные контейнеры с газом, контейнеры с пищей. Мы очень гордились нашим воздушным кораблем. Может, он казался грубым и топорно сделанным, но он был очень надежен. Когда мы выпустим его через крышу над поверхностью земли и приладим ремни к двигателям, можно будет стартовать в любую минуту. Как сказал Гул Хаджи, эффектное появление в Мендишарии вождя, которого все считали мертвым или изгнанным из страны, да еще на летающем корабле, воодушевит народ, то есть вернет им надежду, утраченную во время несчастной атаки приозов на деревню. Гул Хаджи и двое других мендишаров всерьез обсуждали эту возможность, когда дальняя дверь - та самая, которую мы забаррикадировали на случай атаки белых призраков, - начала таять. Материал, который я считал способным выдержать действие любой разрушительной силы, пузырился и струился вниз, как дешевая пластмасса в огне. От двери пошел отвратительный запах - одновременно приторный и едкий. Я не знал, в чем было дело, но сразу начал действовать. - Быстрее! - завопил я. - В кабину! Я толкал своих спутников, помогая им забраться в кабину. Когда я развернулся в сторону двери, ее уже не было, а в проеме стояли белые призраки. У них в руках был какой-то аппарат. Они, естественно, не соображали, что это было, но зато хорошо помнили, как эту штуку наводить и куда нажимать, чтобы выстрелить. Ирония судьбы: передовое приспособление в руках слабоумных. Аппарат испускал лучи, и один из них только что коснулся стены за моей спиной, чудом миновав меня и наш воздушный шар. Несомненно, это был тепловой луч. Лазер! Тут я понял вдруг, что наш воздушный шар все еще был привязан к полу, так как никто не обрубил веревки. Я бросился к ним с мечом. Ведь я же знал, что предки этих привидений умели делать лазерные пистолеты. Почему я не вспомнил об этом раньше и не приготовился к такому повороту событий? В нерассуждающей слепой ярости эти потомки якшей, движимые какой-то непостижимой генетической памятью, отыскали прибор, вырабатывающий лазерные лучи, и пришли с его помощью расправиться с обидчиками - с теми, кто вторгся в их владения. Как бы то ни было, скоро мы все умрем, если я не успею обрубить веревки. Гул Хаджи закричал мне из кабины, когда увидел, что я делаю. Легко проходя через отверстие в куполе, как раз достаточное для него, шар стал подниматься. Скоро его подхватит ветер, и мои друзья будут в безопасности. Привидения навели лазер на меня. Сейчас я умру. Смертоносный луч расплавлял или резал на кусочки все, что оказывалось на его пути. И тут у меня появилась идея!VII. Город Пауков
Луч проходил то справа, то слева от меня, все ближе и ближе: эти идиоты стреляли наугад. И тут я увидел огромную блестящую дверцу шкафа, которую я использовал как зеркало, когда брился. Это же был мощный отражатель! Он должен был меня выручить. Я бросился к шкафу и спрятался позади него. Лазер срезал верхушку фонтана, и вода с плеском упала в водоем. Через несколько мгновений фонтан пробился снова. Луч ударил совсем близко - и выплавил целый кусок стены, за которой показалась следующая комната. Белые привидения подходили все ближе и ближе, не выпуская оружия из своих липких, мягких, почти лишенных костей рук. И тут луч ударил в блестящую дверцу - мое "зеркало". Лазерные лучи - это концентрированный свет. Зеркало отражает свет. Крепкое зеркало может отразить мощный луч света. Это "зеркало" отразило лазерный луч. Сначала луч как бы согнуло на несколько секунд и, развернув, направило его в то место, откуда он был послан. Большинство привидений исчезло в тот же миг, остальные завопили от ужаса, метнувшись назад, а потом остановились на мгновение и бросились на меня. Я рванулся к одной из веревок, который шар был прикреплен к полу. Все происходило так быстро, что он еще только начал подниматься, и мне удалось дотянуться и ухватиться за последние футы уплывавшей вверх веревки. Призраки попытались удержать меня, но безуспешно. Я стал подтягиваться по веревке вверх, к кабине. Воздушный шар уверенно поднимался в воздух. И вот, когда опасность быть убитым белыми призраками миновала, но я все еще мог погибнуть, если бы сорвался, только тогда я и сообразил, что, спеша убраться подальше от этих чудовищ, мы забыли об одной существенной детали - о балласте для воздушного шара: он поднимался слишком быстро. Пытаясь взобраться в кабину, я дважды чуть не упал. И вот когда я уже думал, что еще немного, и мои онемевшие руки разожмутся, я увидел, как Гул Хаджи открыл люк в кабине, потянулся всем телом и, рискуя вывалиться, схватил веревку, на которой я висел. Земля - черная, сверкающая на солнце пустыня - была далеко внизу. Гулу Хаджи удалось вернуться в кабину, и он втащил за собой веревку. Едва переведя дух, с помощью двух других наших товарищей, он втянул внутрь и меня. Мои руки болели от напряжения, кожа была вся содрана. Еще чуть-чуть, и я бы отпустил веревку. Как раз в тот момент, когда я почувствовал, что не могу больше держаться, меня схватили огромные руки, втащили в кабину и закрыли люк. Лежа на полу, я никак не мог отдышаться и прийти в себя. Испытания последних минут совершенно измучили меня. Поднимались мы по-прежнему очень быстро и скоро должны были выскочить из марсианской атмосферы. (Правда, нужно помнить, что атмосферный слой в то время был толще, чем сейчас.) Я встал и неуверенной походкой подошел к пульту управления. Это был очень простой пульт. Если бы могли, мы бы проверили его перед стартом. Теперь придется испытывать его прямо в воздухе. Если мы просчитались, нам конец. Я потянул за рычаг, контролирующий клапан газового контейнера. Пришлось выпустить немного газа в надежде на то, что этого будет достаточно и мы не будем так стремительно подниматься. Постепенно высота выровнялась, и я понял, что этот рычаг устроен правильно. Но мы продолжали двигаться наугад, увлекаемые воздушными потоками. Придется проверить ремни на двигателях, когда приземлимся. На нашем воздушном шаре мы доберемся до Мендишарии за день, а то и меньше. Мне было жаль бесцельно тратить драгоценный гелий, но ничего не поделаешь. Медленно, понемногу я стал уменьшать высоту нашего полета. На расстоянии 2000 футов от поверхности наш воздушный шар поддала какая-то гигантская нога, и от этого толчка он словно заметался в небе. Мы все не удержались на ногах, а меня швырнуло от пульта управления. На какое-то время я, кажется, потерял сознание. Когда я пришел в себя, вокруг было темно. Уже прошло ощущение, что наш огромный воздушный шар был маленьким шариком, игрушкой великанов, несравнимо более крупных, чем мои синие спутники. Наоборот, казалось, что шар несется целенаправленно с огромной скоростью. Я встал и пошатываясь направился к иллюминатору. Когда я отодвинул ставни и взглянул вниз, я не поверил своим глазам. Мы летели над морем, на котором бушевал шторм. Наша скорость была добрых миль сто в час или даже больше. Но что же нас несло? Кажется, какая-то естественная сила. Судя по завываниям и стонам, которые до меня доносились, это был очень сильный ветер. Но как же мог ветер начаться так внезапно и развить такую скорость? Я повернулся и увидел, что Гул Хаджи начинает шевелиться. Он тоже потерял во время падения сознание. Я помог ему встать, и мы с ним привели в чувство наших спутников. - Что это такое, Гул Хаджи? Ты знаешь? Он потер лицо рукой. - Мне следовало внимательнее следить за календарем, - сказал он. - А что такое? - Я ничего об этом не сказал, потому что понимал, что либо мы выберемся из пустыни, либо умрем, то есть так было до того, как мы обнаружили башню и подземный город. Я ничего не сказал об этом, пока мы были под землей, так как знал, что там мы в безопасности и городу ничего не грозило. - Ты не сказал о чем? - Прости, это моя вина. Может, потому о городе якшей ничего нигде и не сообщалось - из-за Ревущей Смерти. - А что такое Ревущая Смерть? - Сильный ветер, время от времени проносящийся над пустыней. Некоторые считают, что им-то пустыня и вызвана, ведь до того, как в этих краях стала господствовать Ревущая Смерть, на месте пустыни была плодородная земля. Возможно, город якшей был построен до того, как стала приходить Ревущая Смерть. Не знаю. Ревущая Смерть царит над пустыней уже много веков, и все это время ураганы сравнивают с землей все, что встречается на их пути. - А в каком направлении движется ветер? - спросил я. - Неплохо было бы это знать, раз уж он нас несет. - На запад, - сказал Гул Хаджи. - Над морем? - Точно. - А потом куда? - Не знаю. Я снова подошел к иллюминатору и посмотрел вниз. Под нами все еще было серое холодное штормовое море, но мне показалось, что сквозь мрак я смог различить что-то вроде земли. - А что лежит за западным морем? - спросил я Гула Хаджи. - Не знаю, какая-то земля, почти совсем не исследованная, за исключением побережий. По рассказам, это земля, не приносящая добра. Мы уже почти достигли берега. - Не приносящая добра? Откуда ты это взял? - спросил я у друга. - Из легенд, рассказов путешественников, а также из того, что экспедиции, посланные исследовать ее, не вернулись. В джунглях Западного континента живут дикие звери. Этот континент сильнее всего пострадал от Величайшей войны. Когда она окончилась, говорят, на континенте произошли странные изменения; природа, животные, растения, люди - все изменилось от того, что осталось после Величайшей войны. Одни говорят, это был злой дух, другие - какой-то газ, третьи - машина. Но что бы то ни было, люди в здравом уме избегают Западный континент. - По всему видно, ты говоришь об атомной войне, радиации и мутации, - сказал я задумчиво. - И если учесть, что война была несколько тысяч лет назад, маловероятно, что излучение до сих пор представляет собой опасность. Его не нужно больше бояться. Я использовал некоторые земные слова, поскольку, хотя эти понятия должны были каким-то образом именоваться в языке Вашу, я этих слов не знал. Ревущая Смерть стала затихать, наш полет, кажется, замедлился. Я почувствовал, что сейчас был бессилен как-либо повлиять на нашу судьбу: нас несло в глубь материка. В небе над нами появились две марсианские луны и осветили странный пейзаж: причудливые джунгли какого-то непонятного цвета. Должен заметить, мне стало не по себе от вида этой растительности, но я сказал себе, что мы в безопасности, пока находились в воздухе на большой высоте. Когда ветер перестанет управлять нашим полетом, мы сможем спокойно приземлиться, исправить моторы и потом отправиться куда нужно. Возможно, сделать это предстояло только через несколько часов. Не знаю, откуда появился ветер и куда он исчез. Может, он постоянно дул вокруг всей планеты, набирая силу по ходу движения. Не знаю, я не метеоролог. Наконец нам удалось выскользнуть из воздушного потока и направить шар к огромным деревьям, чья густая листва представлялась сверху сплошной твердой массой. Крупные сверкающие листья всевозможных оттенков черного, коричневого, темно-зеленого и красного раскачивались на причудливо изогнутых ветвях. Над джунглями висело ощущение тревоги. Нам совсем не хотелось там садиться. Но все же к утру мы нашли полянку, достаточно большую, чтобы на ней мог приземлиться воздушный шар, и стали снижаться. Мы приземлились очень аккуратно, если учесть, что мы были неопытными аэронавтами. Мы привязали воздушный корабль и проверили, нет ли в нем повреждений. Строительные материалы якшей не пострадали от ветра, который разнес бы любой другой материал в щепки. Сейчас нам хватило бы и часа, чтобы привести все в порядок и подыскать что-нибудь для балласта. Потом мы снова наполним шар гелием и - вперед, в Мендишарию. Скоро мы включили все двигатели, и пропеллеры заработали. Все это время мы не могли избавиться от неприятного чувства, будто за нами наблюдают. Но сами мы ничего не видели, кроме темных джунглей. Деревья поднимались на несколько сот футов и переплетались, образуя нечто вроде решетки, по которой вились теплые, пахнущие плесенью растения. Не представляю, как в таких джунглях вообще могла появиться опушка, это было капризом природы. Земля на этом месте была гладкой и твердой как камень. По краям росли низкие кустарники с темными блестящими листьями, виноградные лозы, которые издали казались жирными змеями, какие-то ненормальные кусты и ползучие растения, которые совершенно покрывали разветвленные корни деревьев. Никогда я не видел, чтобы все в лесу было таким крупным. Ветки деревьев образовывали ярусы, и издали лес был похож на огромную скалу со множеством пещер. В таком месте нетрудно было почувствовать, что за вами наблюдают. Мое воображение, подстегиваемое экзотическим пейзажем, рисовало самые невероятные картины. Мы все сделали, оставалось только найти балласт. Джил Диэра предложил отрубить несколько толстых веток с деревьев. Конечно, это был не самый удачный вариант, но здесь было трудно найти что-либо более подходящее. Пока Джил Диэра и Вас Оола помогали мне закончить работу над мотором, Гул Хаджи сказал, что пойдет за бревнами. И он ушел. Мы закончили работу и стали ждать его возвращения. Нам не терпелось выбраться из этих таинственных джунглей и вернуться в Мендишарию как можно скорее. Мы стали звать Гула Хаджи, и к вечеру охрипли от криков, но он не отзывался. Ничего не оставалось делать, приходилось идти в лес, чтобы посмотреть, не был ли наш друг ранен; может, он лежал без сознания после какого-нибудь незначительного столкновения с обитателями джунглей. Вас Оола и Джил Диэра хотели пойти со мной, но я сказал им, что для нас воздушный шар - важнее всего, и они должны остаться и сторожить его. Мне удалось их убедить. Я нашел то место, где Гул Хаджи вошел в лес, и пошел по его следам. Это было нетрудно. Великан оставлял заметные следы. В некоторых местах он, вероятно, спотыкался, и земля там была выворочена. Лес был темным и сырым. Я ступал по гниющим, расползающимся у меня под ногами растениям, иногда проваливался в грязь. Я продолжал звать своего друга, но его нигде не было. И тут я набрел на место, где были видны следы битвы, и понял, что за нами действительно наблюдали, нам это не мерещилось. Там я нашел меч Гула Хаджи - он бы никогда с ним не расстался, если бы его не схватили - или убили! Я кружил по лесу около этого проклятого места, безуспешно пытаясь найти, куда ушли его противники. Это меня настораживало, ибо обычно я хорошо читаю следы. Все, что я смог обнаружить, были остатки какого-то вещества, прилипшего, как шелковые нити, к окружавшей листве. Позднее я увидел следы этого вещества в другом месте и понял, что, поскольку это была единственная зацепка, мне следовало ею воспользоваться. Возможно, эти следы оставили те, кто схватил Гула Хаджи, хотя мне было непонятно, что это было за вещество и откуда оно могло у них взяться. Наступила ночь, и я с трудом осознал, что пришел к какому-то городу. Казалось, он состоял из одного-единственного здания, занимавшего огромную площадь. Город вырастал прямо из джунглей, сливался с ними, был их частью. Он был сделан из старой застывшей лавы, в трещины которой попали земля и семена, давшие жизнь небольшим деревьям и кустам. Башни и купола в сумерках сливались, и можно было подумать, что перед вами был огромный камень, который приобрел облик города. То здесь, то там были видны окна и двери, все заросшие какими-то растениями. Когда окончательно стемнело, город оказался освещенным редкими лучами марсианских лун, которые едва проникали через крышу, образуемую ветвями гигантских деревьев. Должно быть, моего друга привели сюда. Страшное место! Я очень устал, но продолжал идти вперед: я вошел в город и взобрался на кучу скользких камней в поисках хоть какого-нибудь признака того, что город обитаем, или знака того, где находился мой друг. Я карабкался по стенам домов, по крышам, снова прыгал вниз. Я искал, искал, искал. Город был погружен во мрак. Камень домов был гладким и липким на ощупь. В городе не было улиц, только какие-то впадины на крышах "домов". В отчаянии я пошел по одной из них. Слева от меня что-то соскользнуло со стены, и мне стало дурно - это был огромный паук, крупнее, чем все, каких я когда-либо видел. А вот и другие, такие же огромные! Покрепче сжав меч Гула Хаджи, я приготовился обнажить еще и свой. Пауки были размером с футбольный мяч! Я уже собирался подняться по наклонной стене на крышу, как вдруг мне на голову и на плечи что-то упало. Я попытался стряхнуть это "что-то" мечом, но не мог, оно прилипло ко мне. Чем больше я отбивался, тем больше запутывался. Теперь я понял, почему на том месте, где схватили Гула Хаджи, не было трупов. Та штука, которую сбросили на меня, была сетью из того же тонкого липкого шелка, остатки которого я видел в лесу. Он был крепким и приставал ко всему, чего касался. Все еще пытаясь освободиться, я упал лицом вниз. Меня подняли чьи-то костлявые руки. Я взглянул на тех, кто схватил меня, и не мог поверить своим глазам: до пояса они были людьми, значительно ниже меня ростом, жилистыми и щуплыми. У них были большие глаза и тонкие губы, из-за чего рот казался просто прорезью на лице. В них еще можно было узнать людей, пока взгляд не падал вниз: у них было восемь мохнатых ног. Человеческое тело и паучьи лапы! Я попытался толкнуть их командира - это было все, что я мог сделать со связанными руками. На его лице не было никакого выражения. Он бесстрастно указал на меня своим шестом, на конце которого оказалась игла длиной дюймов шесть. Он вонзил в меня эту иглу. Я попытался сопротивляться, но в ту же долю секунды почувствовал, как мое тело словно окаменело. Я не мог пошевелить даже пальцем, не мог даже мигнуть. Он впрыснул мне яд, это было ясно, яд, который мгновенно парализовывал.VIII. Великий Мишасса
Двое из отвратительных человекообразных пауков взвалили меня к себе на спину и понесли вглубь этого странного города, который в свете, исходящем от каменных стен, показался мне лабиринтом, устроенным без цели и плана. Мы прошли через коридоры и комнаты, которые иногда представлялись лишь тайными ходами в огромные залы с балконами. Все больше и больше я убеждался, что этот город не мог быть делом рук паукообразных людей, или человекообразных пауков - как хотите, - этот город не мог быть делом рук людей вообще. Это было создание непостижимого интеллекта, применившего, возможно, ядерное излучение. И этот интеллект - наполовину безумный, если уж он задумал такой город - наверное, давно перестал существовать; или паукообразные люди были его слугами? Я почему-то думал, что могущественный интеллект был мертв и люди-пауки были сами по себе, поскольку в коридорах и комнатах лежали слои пыли и висела паутина, а они могли скопиться только за очень долгий срок - за столетия. Я недоумевал, как вообще могли появиться паукообразные люди. Может, они были как-то связаны с огромными пауками, которых я видел снаружи. Если они были "родственниками", какой ненормальный союз в далеком прошлом мог дать такое потомство? Они спешили вперед, быстро перебирая своими мохнатыми ножками. Пока они несли меня, я старался не думать о том, что может случиться. Я был уверен, они готовили какие-то мучения, может, собирались съесть во время чудовищного ритуала. Я был всего лишь мушкой, попавшей в их паутину. Моя догадка была даже ближе к истине, чем я поначалу предполагал. Наконец мы вошли в зал, гораздо больший по размерам, чем все остальные. Он был освещен лишь тусклым свечением от каменных стен. Действие яда постепенно ослабевало, и я попробовал пошевелить руками и ногами, хотя липкая паутина, которая и впрямь образовывалась внутри паукообразных людей, очень сковывала мои движения. И тут я кое-что увидел! Под потолком зала от одной стены до другой была натянута паутина. Она чуть сверкала в тусклом свете, исходящем от камня стен, и я с трудом различил на ней фигуру. Мне показалось, я узнал Гула Хаджи. К самим тварям паутина не липла. Несколько пауков стали поднимать меня вверх, чтобы присоединить к первой жертве, и теперь я точно знал, что это был Гул Хаджи. Там, наверху, рядом с другом, они и оставили меня, зашелестев прочь на своих мохнатых ножках. С тех самых пор, как я впервые увидел их, они не произнесли ни слова. Мускулы лица еще были стянуты из-за яда, но мне удалось сказать несколько слов. Меня положили на паутину в стороне от Гула Хаджи, под ним, и я видел только его левую ногу, и то не выше колена. - Гул Хаджи, ты… можешь говорить? - Да. Ты имеешь хоть какое-нибудь представление о том, что они собираются с нами сделать? - Нет. - Прости, что втянул тебя во все это, Майкл Кейн. - В этом нет твоей вины. - Если бы я вел себя осторожнее - как и следовало, - мы бы уже давно были далеко отсюда. Самолет в порядке? - Да, насколько я знаю. Я начал исследование паутины. Та сеть, в которую я был завернут, становилась все более хрупкой и начала ломаться, поэтому вскоре мне удалось освободить руку. Но тут же я снова попался: она прилипла к нитям паутины, на которой мы с моим другом лежали. - Я уже все это пробовал, - сказал сверху Гул Хаджи. - Не знаю, можно ли вообще отсюда выбраться. Приходилось признать, что он, скорее всего, был прав, но я не переставал ломать себе голову. У меня возникло ощущение, что, если мы срочно не найдем выход, нас ждет что-то ужасное. Я стал пробовать освободить вторую руку. И тут мы услышали звук - громкий шуршащий звук, как будто на нас надвигался многократный увеличенный человекообразный паук. Взглянув вниз, мы вдруг увидели два огромных глаза - фута четыре в диаметре. Это были глаза паука. Сердце замерло в моей груди. Раздался голос - мягкий, ироничный, шелестящий голос, который мог принадлежать только тому, чьи глаза сейчас, не мигая, смотрели на нас. - Шшто-ш, лакомый куссочек, сславно я поппирую. - Ты кто? - я постарался, чтобы голос мой звучал резко, но куда там! - Я - Мишасса, Великий Мишасса, посследний из рода шшассаженов. - А те… существа, они твои слуги? Раздался звук, который можно было принять за какое-то нечеловеческое кряхтение. - Мое потомство. Появившшеесся на ссвет благодаря экссперименту в лабораториях шшассаженов. Кульминация… Но вы, наверное, хотите знать, шшто васс ждет. Я вздрогнул. Кажется, я уже догадался. - Эй ты, маленький, ты будешь мне ужином, и ужже сскоро. Теперь я видел это существо более отчетливо. Это был гигантский паук - очевидно, один из многих, вызванных к жизни атомным излучением, которое поразило природу этих мест много тысяч лет назад. Мишасса стал медленно взбираться по паутине вверх, и она стала прогибаться под его тяжестью. Все это время я не прекращал попыток вытащить руку из сети, и мне это наконец удалось. Рука стала свободной и не прилипала больше к паутине. Я вспомнил про маленький ножик, спрятанный в моих доспехах, и решил попробовать достать его, если смогу. Дюйм за дюймом я придвигал руку к ножику. Дюйм за дюймом… Наконец пальцы мои оказались на рукоятке, и я вытащил нож из ножен. Гигантский паук подползал все ближе. Я начал обрезать паутину в том месте, где к ней прилипла другая рука. Я трудился изо всех сил, но паутина поддавалась медленно. Наконец рука была свободна, и я потянулся к мечу. Выхватив клинок, я сразу же ударил по паутине, лишавшей Гула Хаджи возможности двигаться, и, освободив его, повернулся, чтобы встретить паука. Он прошелестел: - Нет, не ссбежишшь. Даже ессли бы ты был ссовершшенно ссвободен, от меня не ссбежжишшь. Я ссильнее тебя, я проворнее тебя… Он говорил правду, но меня это не могло остановить. Вскоре его ужасные ноги уже были в нескольких дюймах от меня, и я приготовился защищаться из последних сил. И тут я услышал крик Гула Хаджи и увидел, как он пролетел мимо меня и оказался на спине чудовища. Мой друг вцепился в его шерсть и крикнул, чтобы я попытался сделать то же самое. Я плохо понимал, что он задумал, но прыгнул, полностью освободившись наконец от паутины, и приземлился рядом с Гулом Хаджи на спину нашего врага. Одной рукой сжимая меч, я запустил другую в его странный мех. - Дай мне меч, - попросил Гул Хаджи. - Я сильнее. Я отдал ему меч и снова вытащил свой нож. Когда мы стали колоть его и бить по спине, паук зашипел от ярости, слов было не разобрать. Похоже, он привык к смиренным, или, по крайней мере, смирным подношениям в виде его слуг, но мы были воинами Вашу и собирались дорого отдать свою жизнь, прежде чем стать "лакомым кусочком" для этого болтливого паука. Он свистел, шипел и бранился. В ярости он кинулся с паутины на пол, но мы держались крепко, при этом продолжая наносить ему удары в надежде найти тот единственный - смертельный - удар, который нас спасет. Он попытался перевернуться на спину, чтобы раздавить нас тяжестью своего тела, но, возможно, его удержал инстинкт, свойственный многим насекомым: оказавшись на спине, они уже не могут снова встать на ноги. Как бы то ни было, только в самый последний момент он сохранил равновесие и стал метаться по всему залу. Из десятка ран на его теле текла липкая черная кровь, но ни одна из этих ран не ослабила, казалось, его прыти. Вдруг он понесся по прямой, издавая ноющий жалобный крик. Мы продолжали крепко держаться за его шерсть, а скорость все росла, и мы стали изумленно переглядываться. Он мчался, как машина, - 60 миль в час или даже больше - по тоннелям, унося нас все глубже и глубже в свой каменный город… Издаваемый им звук стал громче. Зверь впал в неистовство. Отчего это произошло, мы не знаем: или вдруг им овладело сумасшествие, которое досталось ему по наследству от ненормальных предков и которое он больше не мог скрывать, или он обезумел от боли, причиняемой ему ранами. И вдруг я заметил над нами какое-то движение. Группа - стая? - человекообразных пауков - тех же самых, что доставили нас в зал с паутиной, или других - была явно охвачена паникой, когда увидела, что происходило. И тут огромный умный паук замедлил свой сумасшедший бег и стал нападать на них, отрывая им головы, перекусывая их пополам, давя их между своими гигантскими челюстями. Какое же это было отвратительное зрелище! Мы продолжали держаться за шерсть метавшегося в исступлении зверя. Время от времени из его пасти вылетали членораздельные звуки, но что означали эти слова, мы не знали. Вскоре позади гигантского паука осталась лишь гора обезображенных трупов: ни один из паукообразных людей не избежал страшной участи. Моя рука болела. В любую секунду пальцы могли разжаться и выпустить шерсть паука, и я мог свалиться к нему под ноги и стать его жертвой. Судя по мрачному выражению лица Гула Хаджи, он тоже уже не выдерживал напряжения этих гонок. И тут совершенно неожиданно для нас паук остановился и стал медленно оседать. Паук опустился на землю посреди того, что некогда было его свитой. Он уничтожил своих слуг, кажется, в предсмертной агонии, ибо он выкрикнул лишь: "Их больше нет!" - и умер. Мы убедились, что сердце его перестало биться, и буквально упали вниз с его спины. Прежде чем уйти, мы остановились посмотреть на него. - Я рад, что умер он, а не мы, - сказал я. - Но должно быть, он понимал, что был последним представителем своего аномального вида. О чем думало это безумное, обозленное существо? Я ему в какой-то степени сочувствовал. Можно даже сказать, что он умер достойной смертью. - Ты, наверное, заметил что-то, что ускользнуло от моего внимания, - возразил Гул Хаджи. - Я видел только врага, который нас чуть не уничтожил. Но вместо этого мы убили его, и это великолепно. Прагматизм моего друга вернул меня к действительности: я перестал заниматься неуместными в данных обстоятельствах размышлениями о судьбе нашего недавнего грозного противника и о мире, который он здесь, в скале, устроил, и начал раздумывать, как из этого мира выбраться. Я также подумал, все ли человекообразные пауки были убиты их агонизирующим повелителем. Мы пробрались между трупами и по тоннелю вышли в огромный зал. Мы обнаружили там еще один тоннель и пошли по нему просто потому, что рано или поздно надеялись попасть в комнату, где будет дверь, ведущая наружу, или, по крайней мере, окно, а они должны были быть, мы видели их снаружи. Тоннели таили в себе некоторые неудобства для Гула Хаджи. Ибо только некоторые из них были достаточно большими для синего великана или, скажем, для гигантского паука Мишассы. Из этого мы заключили, что даже среди себе подобных это существо было чем-то особенным. И снова во мне шевельнулось что-то вроде сочувствия к этому бесформенному созданию, которое обладало таким недюжинным интеллектом и так плохо было приспособлено для мира. Несмотря на то, что этот паук угрожал моей жизни, я не мог больше его ненавидеть. И вот когда я все еще был настроен философски, мы дошли до комнаты, которая представляла собой огромный чан с жидкостью. Но сначала появился запах. Вдыхая его, мы почувствовали, как наши мускулы словно немеют, становятся менее гибкими. Войдя в комнату, мы увидели, что вдоль стен были расположены доски, по которым только и можно было пройти, так как пол, расположенный ниже, был залит зловонной пузырящейся жидкостью. Мы остановились и посмотрели вниз на эту жидкость. - Я, кажется, знаю, что это такое, - сказал я Гулу Хаджи. - Яд? - Точно. Тот самый, которым они нас парализовали. - Я нахмурился. - И кажется, нам он тоже мог бы пригодиться. - Каким образом? - спросил мой друг. - Еще не знаю. Но мне кажется, что рано или поздно ему найдется применение. Не помешает взять немного. - И я показал на дальнюю стену. Там на полке стояли глиняные кувшины и целый ряд шестов с иглами на конце. Мы осторожно подошли по доскам к полке. Мы старались сдержать дыхание, чтобы ядовитые пары не смогли парализовать наши мускулы и, лишенные контроля над ними, мы не упали бы вниз, где или утонули бы в отвратительной жидкости, или умерли от чрезмерной дозы яда. Наконец мы добрались до полки. Наши мускулы становились тверже с каждым шагом. Я взял два кувшина прекрасной работы, хотя и несколько странных на вид, и передал их Гулу Хадже, который наполнил их ядовитой жидкостью. Плотно закупорив кувшины, мы повесили их на пояс. Потом взяли несколько шестов с иглами и поспешили убраться из комнаты через ближайший выход. Тоннель пошел вверх, и у нас появилась надежда. Впереди, кажется, стало светлее, хотя источник этого света еще не был виден. Повернув налево, мы оказались в небольшом коридоре и увидели, что из расположенного в конце этого коридора окошка, сделанного в форме неправильного четырехугольника, идет дневной свет. Но тут свет заслонили огромные пауки, которых я уже раньше видел. Через окошко они забирались внутрь. Их было очень много. Я вытащил меч, который мне вернул Гул Хаджи, а сам он приготовился действовать шестом. Когда пауки увидели нас, они на мгновение замерли, собираясь напасть, но потом прошелестели мимо и исчезли в тоннеле, ведущем в город. То, что я сначала принял за нападение, таковым вовсе не являлось. Просто ночные обитатели джунглей на день возвращались в свое логово, чтобы в темноте дождаться наступления следующей ночи. Мы вылезли через окно наружу и постояли немного на "крыше" города в скалах и каньонах из тускло сверкающей в темноте лавы. Скорее всего лава просто застыла в таком виде. Вряд ли это сооружение было в прямом смысле слова построено, как строят города. Осторожно, чтобы не поскользнуться на гладкой поверхности, мы спустились вниз. Мы вдруг поняли, что не имеем ни малейшего представления о том, в какой стороне мог быть наш воздушный корабль. Мы бы бродили по джунглям много часов или даже дней, если бы не увидели вдруг плотную фигуру Джила Диэры. Мы закричали и замахали руками. Он резко обернулся и положил руку на эфес, но его настороженность прошла, когда он увидел нас. - Где Вас Оола? - спросил я, когда мы поприветствовали друг друга. - Все еще у самолета, сторожит его, - ответил воин. - По крайней мере, - он оглянулся вокруг с явным отвращением, - надеюсь, что он там. - А почему ты здесь? - спросил Гул Хаджи. - Когда к ночи вы оба не вернулись, я забеспокоился. Я подумал, что вас схватили, поскольку не слышал ничего, что указывало бы на то, что по джунглям бродит огромный дикий зверь. На рассвете я пустился в путь по вашим следам и вышел на это место. Видели, кто здесь живет? Огромные пауки! - А труп еще одного жителя этих мест, гораздо более крупного, ты найдешь где-нибудь там, под землей, - лаконично заметил Гул Хаджи. - Надеюсь, ты оставил какие-нибудь знаки, чтобы найти путь назад, - сказал я Джилу Диэре, в душе ругая себя за то, что сам об этом не подумал. - Оставил, - и Джил Диэра показал на джунгли. - Нам сюда, идите за мной. С тех пор, как мы ускользнули из башни якшей, неудачи преследовали нас, и мы очень беспокоились, как бы с нашим воздушным кораблем что-нибудь не случилось. Если его разрушили, нам придется плохо: мы окажемся одни в незнакомом месте, из которого не сможем выбраться. Но корабль был цел, как и Вас Оола, который приветствовал нас с видимым облегчением. Поднявшись в кабину, мы отвязали веревки, удерживавшие нас на земле, и стали медленно подниматься вверх. Когда мы оказались на подходящей высоте над джунглями, простиравшимися во все стороны, насколько мог видеть глаз, я завел мотор. Мы уточнили наш курс и вскоре уже направлялись - как мы горячо надеялись - в Мендишарию, чтобы узнать, могли ли мы как-нибудь спасти от поражения так неудачно начавшуюся революцию.IX. Приговоренные к смерти
К счастью, мы без приключений пересекли океан и приземлились наконец у границ Мендишарии. Спрятав самолет в горах, мы отправились узнать о том, что происходит в стране. Поначалу на пути встретились только две деревни, разрушенные до основания. Потом нам повезло, и мы увидели старуху, чудом избежавшую смерти. Она рассказала, что людей арестовывали целыми семьями, много деревень сожгли дотла, несколько сотен или тысяч людей убили. Она рассказала нам, что казнь захваченных вождей революции собирались обставить как торжественный ритуал, руководить которым должен был этот выскочка "брадхинак" Джевар Бару. Старуха не знала, когда все это должно было случиться, но утверждала, что вожди революции были еще живы. Мы решили, что нам нужно попасть в Мендишарлинг, чтобы самим увидеть, как обстояли дела, каково было настроение людей, и чтобы, если будет возможно, спасти приговоренных. В одной из разрушенных деревень мы нашли одежду, и Гул Хаджи оделся как странствующий торговец, а я должен был изображать сверток - его ношу. Я бы неизбежно привлек к себе внимание, если бы попробовал изображать из себя кого-то, пришлось стать вещью - товаром торговца. Именно так, на спине Гула Хаджи, я впервые оказался в столице Мендишарии. Невеселое это было место. Выглядывая в дырочку, которую я проделал в мешке, я увидел, что, если не считать разряженных нахальных приозов, не было ни одной распрямленной спины, ни одного лица, не искаженного горем, ни одного ребенка, который выглядел бы сытым и беззаботным. Мы прошли по рынку, но ничего хорошего там не продавалось. В городе царили отчаяние и запустение, которые казались еще более безысходными рядом с роскошью немногих избранных - приозов. По книгам я знал, что такое может быть, но никогда сам не видел, чтобы тиран был настолько не уверен в своей безопасности, что не осмеливался ни на секунду разжать железные тиски, в которых он держал своих подданных. Какой бы оборот ни приняли события сейчас, размышлял я, свернувшись в мешке на спине у своего друга, который мало заботился о моем удобстве, рано или поздно тиран падет, ибо людей нельзя унижать до бесконечности. Рано или поздно тиран или его подручные ослабят хватку, и его подданные этим воспользуются. В маленькой таверне недалеко от центральной площади Гул Хаджи нашел комнату и сразу же прошел туда. Когда он опустил меня на жесткую кровать и уселся рядом, вытирая пот со лба, я вылез из мешка и попытался улыбнуться. - У меня такое чувство, будто каждая моя косточка вывихнута, - сказал я. - Ну прости, - улыбнулся Гул Хаджи. - Но как странно и подозрительно бы я выглядел, если бы стал трястись над своей поклажей, как будто в ней что-то драгоценное, а не пара свертков материи и несколько шкур, как я сказал страже. - Наверное, ты прав, - согласился я, пытаясь размять руки и ноги, чтобы восстановить нормальное кровообращение. - Что теперь? - Подожди, пока я пройду по городу и узнаю обстановку в стране, а также о настроении людей. Если они готовы выступить против Джевара Бару, - а это вполне вероятно, нужен только толчок, - тогда мы все обдумаем и найдем способ положить конец правлению этого самозванца. Он сразу же отправился в путь, оставив меня одного без всякого дела. Я пришел с ним сюда по нескольким причинам. Во-первых, я был его другом и союзником и не мог и не хотел оставлять его одного. А во-вторых, если его схватят, я надеялся вернуться к нашим друзьям и передать все новости, чтобы вместе с нимиприлететь на самолете на помощь Гулу Хаджи. Я был один довольно долго, и к вечеру на улице произошло какое-то волнение. Я осторожно подошел к окну и выглянул наружу. Гул Хаджи стоял внизу и горячо спорил с парой приозов весьма наглого вида. - Я лишь бедный торговец, - повторял он. - Не больше и не меньше. Бедный торговец, господа! - Ты очень подходишь под описание Гула Хаджи, претендента на престол. Он бежал - струсил, наверное, - из деревни, где мы его хотели схватить несколько недель назад, и предоставил своим сторонникам возможность сражаться за него. Мы ищем этого слабака, потому что ему удалось убедить несколько глупцов в том, что он будет лучшим правителем Мендишарии, чем достойный брадхи Джевар Бару. - Судя по вашему рассказу, он полное ничтожество, - сказал Гул Хаджи, выражая почтение и согласие с официальной политикой. - Настоящий мерзавец! Надеюсь, благородные господа, вы его поймаете. А я должен вернуться… - А мы-то как раз думаем, что ты и есть этот hwok'kak Гул Хаджи, - сказал один стражник, загораживая моему другу путь. Он назвал брадхинака самым обидным словом, которое только есть в марсианском словаре. Буквально hwok'kak - пресмыкающееся, обладающее особенно отвратительными привычками, но переносное значение этого слова - еще более мерзкое, и оно не поддается никакому описанию. Хотя Гул Хаджи делал над собой героические усилия, возможно, он чем-то выдал себя, услышав это слово. Хотя, кажется, в любом случае не было никакого шанса, что стражники позволят ему вернуться в таверну. - Ты пойдешь с нами для дознания, - сказал второй стражник, - и если ты и правда не Гул Хаджи, тебя, возможно, отпустят, хотя наш брадхи не очень-то жалует всякий сброд вроде странствующих торговцев. Ничего другого не оставалось, приходилось действовать. В мешке с ворохом тряпья лежал меч - всю дорогу до таверны я боялся, что он вонзится мне в живот или в ногу. Я подошел к кровати, вытащил меч и снова вернулся к окну. Пора было помочь своему другу, ибо, если весь город растревожится и решит его задержать, у нас не будет шанса живыми покинуть Мендишарлинг. На мгновение я задержался на подоконнике, чтобы сохранить равновесие, и оттуда с криком спрыгнул на ближайшего ко мне стражника. Гигантский воин остолбенел, когда увидел, как какой-то коротышка, вроде меня, прыгает на него с обнаженным мечом. Я приземлился очень близко от него и сразу же напал. Понимая, что в данной ситуации мое решение было единственно верным и сохранять тайну дольше было невозможно, Гул Хаджи тоже вытащил меч и напал на второго стражника. Вскоре улица опустела, как по мановению волшебной палочки. Остались только двое приозов и мы: остались, чтобы биться насмерть. Я надеялся, что среди убежавших с места сражения людей не было доносчиков, которые привели бы приозам подкрепление. Если нам удастся справиться с этими двумя, мы еще можем попытаться скрыться из города. Мой противник все еще был ошарашен. Кажется, он так и не пришел в себя, потому что через несколько минут я пронзил его мечом, и он упал на булыжник мостовой. Гул Хаджи расправился со своим противником также довольно быстро. Мы обернулись на топот множества ног и увидели целый отряд приозов, надвигающихся на нас. Впереди них на огромной серой дахаре ехал высокий, крепко сложенный мендишар в золотых доспехах. - Джевар Бару! - как проклятье, прозвучал голос Гула Хаджи. Очевидно, этих воинов никто не звал, они просто услышали шум нашего сражения. Гул Хаджи приготовился защищаться, но я схватил его за руку. - Не будь идиотом. Через секунду же тебя схватят. Уйдем, чтобы вернуться через короткое время и отплатить тирану за несправедливость. Гул Хаджи неохотно вошел за мной в таверну, и мы забаррикадировали дверь. Почти сразу же раздался дикий грохот: это в таверну ломились приозы. Мы побежали на самый верх - на третий этаж и оттуда через люк - на крышу. Дома в этой части города были расположены вплотную друг к другу, и прыгать с крыши на крышу было делом простым. Позади нас появились стражники, но без Джевара Бару, который, несомненно, предпочел остаться в безопасности внизу. Приозы влезли на крышу и, преследуя нас, кричали, чтобы мы остановились. Думаю, они еще не узнали Гула Хаджи, хотя к этому времени у приозов уже должна была быть информация о том, что в бою вместе с ним часто сражается человек вроде меня. Узнай приозы, кто был их противником, они бы из кожи вон лезли, чтобы поймать его. Дома становились все ниже, и вот мы уже бежали по крыше одноэтажного дома. У городской стены мы снова спустились на землю. Люди смотрели на нас с изумлением. Мы вовремя заметили, как из какого-то кабачка выходят два подвыпивших приоза и, с некоторой неуверенностью передвигая ноги, направляются к своим дахарам. Мы оказались у дахар первыми и, вскочив на них верхом, ускакали из-под самого носа противников. Мы уже направились к городским воротам, а приозы все еще стояли в полном недоумении, не двигаясь с места. У ворот нам встретились четыре приоза, у которых с реакцией дело обстояло лучше. Увидев нас на дахарах, которые, как было очевидно, мы украли, они попытались загородить нам путь. Наши мечи взлетели вверх и опустились, и двое приозов остались лежать на земле. Еще взмах - и оставшиеся двое были ранены. А мы продолжали скакать что было сил прочь из Мендишарлинга. За нами послали погоню. Мы мчались галопом по тропинке, потом резко повернули налево в горы. В горах наши дахары стали спотыкаться, а враги продолжали преследовать нас. Если бы не ночь, думаю, нам бы пришлось вступить с противниками в сражение, выиграть которое, учитывая их огромное преимущество, у нас не могло быть ни малейшей надежды. Но ночь наступила, и прежде чем взошли марсианские "луны", нам удалось ускользнуть от погони. Мы нашли какую-то пещеру, и там, чувствуя себя в относительной безопасности, Гул Хаджи рассказал мне обо всем, что узнал в городе. Люди уже почти открыто роптали, но были слишком напуганы, чтобы сделать что-то против тирана, и слишком плохо организованы, чтобы, если они все же выступят, их усилия оказались ненапрасными. Гул Хаджи сказал, что, как ему кажется, вести о разоренных и разрушенных до основания деревнях и о сотнях и тысячах невинных жертв дошли до горожан, хотя приозы делали все возможное, чтобы развеять подобные подозрения и слухи. Почти двести пленных всех возрастов и обоих полов томились в темницах Джевара Бару. Их готовили к ужасному жертвоприношению на центральной площади. Им всем был вынесен смертный приговор за помощь Гулу Хаджи и его сторонникам. Но некоторые из пленных даже не знали, что Гул Хаджи приходил в Мендишарию; и, конечно, дети не могли иметь ко всему этому ни малейшего отношения. Джевар Бару собирался проучить мендишаров, и это должен был быть жестокий урок. После такой казни, как та, что он задумал, можно было еще два-три года продолжать удерживать народ в повиновении, но не больше. - Дело не в этом, - сказал я Гулу Хаджи. - Вопрос в том, как спасти этих несчастных - сейчас. - Конечно, - согласился он. - Знаешь, как зовут главного пленника Джевара Бару - того, кто занимает особое место в планах "брадхи"? - Как? - Морахи Ваджа. Его схватили в бою. У приозов был специальный приказ - взять его живым! - А на какой день назначено это жертвоприношение? - спросил я. Гул Хаджи сжал голову руками: - Их убьют завтра в полдень, - простонал он. - О, Майкл Кейн, что мы можем сделать? Как предотвратить казнь? - Мы можем сделать только одно, - сказал я мрачно. - Нужно использовать все и всех, что у нас есть. Мы вчетвером - ты, я, Джил Диэра, Вас Оола - должны напасть на Мендишарлинг. - Как могут четыре человека напасть на огромный город? - спросил он недоверчиво. - Я все тебе расскажу, - ответил я ему, - но, честное слово, шансов мало. - Поделись со мной своим планом, - сказал мой друг.X. Отчаянный план
Я стоял за пультом управления воздушного корабля и через иллюминаторы всматривался в простиравшиеся перед нами земли. Три великана за моей спиной стояли молча. Им нечего было сказать. Наш план - достаточно простой по замыслу - обсудили во всех деталях. Близился полдень, и мы спешили. План в основном и зависел от того, насколько правильно мы сможем рассчитать время. Если он провалится, поражение будет зрелищем, происходящим на глазах у всех людей, и, может, тем самым оно поднимет их на сопротивление приозам. Впереди показались башни Мендишарлинга. Город украсили, словно для праздника. На башнях и флагштоках развевались знамена - по случаю праздничных торжеств, мог бы подумать чужестранец. Но мы-то знали, в чем было дело… На городской площади стояли две сотни столбов. К ним были привязаны двести пленников - мужчин, женщин, детей. Рядом с ними стояли двести приозов - разряженных, держащих наготове жертвенные ножи. В центре площади, на платформе, окруженной этими столбами, стоял сам Джевар Бару, облаченный в золотые доспехи и тоже держащий золотой нож. На помосте возвели столб, к которому был привязан Морахи Ваджа. Его лицо было сосредоточенно, глаза смотрели вперед и не видели, вероятно, ничего, кроме атрибутов предстоящего жертвоприношения, которые напоминали ему об ожидавшей его участи. Площадь окружали толпы людей, согнанных сюда по специальному указу самозванного брадхи. Здесь было, кажется, все население Мендишарлинга. Джевар Бару стоял, воздев руки к солнцу, с жестокой улыбкой на тонких губах. Он был возбужден. С нетерпением, которое было неуместно и потому отвратительно, он ждал, когда солнце достигнет зенита. На площади царила бы гробовая тишина, если бы не возбужденные вскрикивания и разговоры детей в толпе и у столбов - детей, которые не знали, что должно было случиться. Родители шикали на них, но ничего не объясняли. И как можно было такое объяснить? Не отрывая взгляда от солнца, Джевар Бару заговорил: - О, мендишары! Есть среди вас те, кто предпочел повиноваться Великой Силе Мрака, те, кто ослушался приказов Великой Силы Света, чьим материальным выражением является Дающее Жизнь Солнце. Движимые эгоизмом, злобой и тщеславием, они призвали на помощь убийцу и труса Гула Хаджи, чтобы тот возглавил их бунт против избранного вами брадхи. И он пришел, призываемый ими бандит и мерзавец, из самых дальних, забытых судьбой бесплодных земель, из ночи, чтобы сразиться с приозами, детьми неба, сыновьями Силы Света. Но от Великой Силы Света Джевар Бару получил предупреждение, и Джевар Бару отправился воевать с Гулом Хаджи, который позорно бежал и который никогда больше не осмелится при свете Дающего Жизнь Солнца появиться здесь, ибо он предпочитает прятаться в ночи. Итак, трус бежал, и Великий Свет восторжествовал. Сюда привели мы сегодня сторонников самозванного брадхинака. Они будут принесены в жертву Великому Свету. Это не месть. Это дар Тому, Кто Следит Сверху - Великому Свету, - чтобы мендишары очистились и кровь этих предателей смыла бы наши прегрешения. В ответ на это неслыханное лицемерие он не услышал восторженных криков. Джевар Бару повернулся к Морахи Вадже, подняв над его грудью золотой нож и готовясь совершить кровавый ритуал - вырезать сердце из груди воина. Все люди замерли в напряжении. Действия Джевара Бару должны были стать сигналом для его двухсот подручных вырвать сердца двухсот ни в чем не повинных людей. Через несколько минут солнце окажется в зените. Джевар Бару начал произносить заклинание. Он уже плохо понимал, что происходит вокруг, поскольку собственными речами и молитвами привел себя в состояние полного экстаза. Тут-то над площадью и появился наш воздушный шар. Он остался незамеченным, так как все глаза были прикованы к Джевару Бару или закрыты, что было нарушением его указа о том, что все должны были видеть происходящий ритуал. На это мы и рассчитывали, поэтому так четко планировали время появления нашего воздушного корабля, хотя в нашем распоряжении оказывалось всего несколько минут на то, чтобы попытаться спасти жертвы. Мы остановили двигатели и зависли над площадью, спускаясь все ниже и ниже. Тень воздушного шара упала на помост Джевара Бару как раз в тот момент, когда он собирался вонзить нож в грудь Морахи Ваджи. Джевар Бару вздрогнул и поднял голову, за ним - все остальные. Глаза Джевара Бару округлились от удивления. И тогда из кабины я метнул в самозванного брадхи то, что я держал в руке - пику. Острие пики, как я и рассчитывал, вошло в его горло. Этого было достаточно. Джевар Бару, словно обратившись в камень по велению какого-то божества, застыл в той позе, в которой он был, когда впервые взглянул на нас. Мы использовали предрассудки против предрассудков: все устроили так, чтобы появление корабля над площадью выглядело как пришествие разгневанного божества. Накануне полета я смастерил что-то типа простейшего мегафона, и когда я заговорил, мой голос был искажен и усилен, причем больше из-за того, что он эхом отзывался от стен близлежащих домов. - Жители Мендишарлинга! Ваш тиран повержен. Расправьтесь с его подручными! Люди на площади стали роптать: они были одновременно ошеломлены и разъярены, но ярость их была направлена не на нас. Мы сделали точный психологический ход. Мы рассчитывали, что когда нанесем Джевару Бару удар, приозы потеряют присутствие духа и не будут знать, что делать, а народ, наоборот, воодушевится. Толпа стала потихоньку сжимать кольцо вокруг площади и надвигаться на приозов, которые уже в панике оглядывались и вытаскивали мечи. Я опустил воздушный корабль поближе к помосту, чтобы Гул Хаджи мог спрыгнуть вниз. - Гул Хаджи! - воскликнул Морахи Ваджа, все еще привязанный к столбу. - Гул Хаджи! - воскликнули приозы, узнавшие изгнанника. - Гул Хаджи! - воскликнул народ на площади, услышав, как приозы с ужасом повторяют это имя. - Да, это я, Гул Хаджи, - закричал мой друг, поднимая меч. - Джевар Бару утверждает, что я трус, покинувший свой народ. Что же, посмотрите, я вступаю в город почти безоружным, чтобы спасти друзей и призвать вас сбросить его с престола. Долой приозов, которые так долго вами командовали. Не упустите шанс отплатить им. На мгновение наступила мертвая тишина, затем по площади прокатился гул, который начал нарастать, пока не перешел в рев. Все население Мендишарлинга стало наступать на застывших в ужасе приозов. Многие из мендишаров умерли, прежде чем остальным удалось сломить сопротивление приозов, и ни один из тех, кто готовился совершить жертвоприношение, не ушел с площади живым. Почти все приозы были буквально разорваны на куски, целых трупов было мало. Что ж, весьма подходящая, хотя и слишком кровавая смерть. Сам я в сражении не участвовал, просто не успел. Наш план был рассчитан на то, чтобы верно учесть настроение людей, на то, какое огромное воздействие окажет на них наше появление, а также на то, что яд, которым было смазано острие пики, парализует Джевара Бару. Так нам пригодилась жидкость, которую мы с Гулом Хаджи захватили из города пауков. Если бы план провалился, нас бы уничтожили так же быстро, как были уничтожены враги. От напряжения последнего часа и от облегчения меня трясло, когда я спустился по веревке из кабины воздушного шара и встал рядом с Гулом Хаджи. Мы отвязали Морахи Ваджа от столба. А внизу на площади мендишары развязывали веревки, которые все еще удерживали у столбов двести несчастных жертв. Народ с новым чувством облегчения стал приветствовать Гула Хаджи, и эти крики раздавались долго. Тем временем Джил Диэра и Вас Оола спрыгнули с корабля и привязали его к столбу, стоящему на помосте. Я выступил вперед и закричал мендишарам: - Приветствуйте брадхи Гула Хаджи! Вы принимаете его? - Принимаем! - отозвалась толпа. Гул Хаджи поднял руки, тронутый таким приемом. - Спасибо. Я освободил вас от власти тирана, помог одолеть его вместе с подручными, но истинным вашим спасителем является Майкл Кейн. А сейчас нужно разыскать оставшихся приозов и схватить их. Они поплатятся за все, что творили здесь в последние годы. Идите, возьмите оружие наших врагов и разыщите тех приозов, которые еще живы. Мужчины подбирали оружие приозов и пускались в погоню за врагами по улочкам Мендишарлинга. Вскоре со всех сторон послышались звуки отчаянных схваток. Когда действие яда начало ослабевать, мы крепко связали Джевара Бару. Он что-то бормотал, на губах появилась пена. Он обезумел. Наверное, какое-то время он уже был не в себе, но неожиданное поражение окончательно вывело его из равновесия. - Что ты думаешь с ним делать? - спросил я Гула Хаджи. - Убью, - просто ответил мой друг.Наступила развязка. Напряжение было позади. Мы быстро достигли цели. Снова мной овладело ощущение бесцельности происходящего. Мы заняли дворец, в котором располагался Джевар Бару. До него здесь поколение за поколением жили предки Гула Хаджи, пока выскочка Джевар Бару не повел народ за собой к вырождению и гибели. Морахи Ваджа возглавил отряд, отправившийся на поиски скрывшихся врагов. Он ушел, но вскоре вернулся, чтобы сообщить, что многие приозы еще не вернулись в столицу из карательных рейдов по деревням, остальные бежали. Чтобы их найти, понадобится время, и, возможно, некоторым удастся избежать наказания. Когда я это услышал, у меня появилась идея. Хотя приозы, сбежавшие из Мендишарлинга, не могли представлять собой никакой реальной угрозы для Гула Хаджи, нельзя было оставлять их безнаказанными. Они совершили много кровавых преступлений, и часто их жертвами становились люди невинные. Я решил, что смогу помочь мендишарам. - Я буду вашим разведчиком, - сказал я. - С помощью самолета я смогу двигаться значительно быстрее приозов и следить, куда они перемещаются и где разбивают лагеря. Потом я вернусь и расскажу, где искать тех, кто сбежал. - Хороший план, - кивнул Гул Хаджи. - Я бы сам отправился с тобой, но здесь слишком много дел. Передохни и утром трогайся в путь. Действительно, мне нужно было отдохнуть. Я уснул сразу же, едва добрался до предоставленной мне спальни. Наутро я сел в кабину воздушного корабля, помахал рукой Гулу Хаджи и сказал, что меня не будет, вероятно, несколько дней. Большая часть приозов направилась на юг, и я отправляюсь туда же. Заработал мотор, завертелись двигатели, и вскоре я уже покинул Мендишарлинг и Гула Хаджи. Тогда я еще не знал, что готовила мне судьба, которая почему-то вдруг заинтересовалась моей скромной персоной.
XI. Летающее чудовище
Через два дня я был уже далеко на юге. По дороге я видел несколько отрядов приозов и отметил их местонахождение и направление, в котором они двигались. Я пересек границу Мендишарии и увидел на юге вершины черных высоких гор, которые показались мне знакомыми. Я подумал, что других приозов я уже не встречу, и перед возвращением решил исследовать горы, чтобы убедиться, что я действительно видел их раньше и знаю, что это за горы. Так я и думал. Я прежде бывал в этих горах. Там раньше была Аргзуния - или еще только будет? Там я сражался с подданными коварной и злой Хоргул и со зверем, которым благодаря гипнозу она полностью управляла. Что-то дрогнуло в душе. Ностальгия? Я пролетел над горами. Конечно, я не мог любить это место, но оно напомнило мое первое пребывание на Вашу или, если точнее, то недолгое счастье, которое мне довелось испытать, когда я узнал, что Шизала любит меня и согласна выйти замуж. Трудно даже представить, что моей возлюбленной еще нет на свете. Я подумал, не спуститься ли вниз, но рассудил, что если аргзуны еще не разбиты, они со мной расправятся в два счета. Такая смерть абсолютно бессмысленна. Я уже разворачивал корабль, когда увидел, как из темного ущелья вылетело нечто и направилось прямо ко мне. Это было чудовище самых невероятных пропорций, и поначалу я даже принял его за летающую машину. Никакая сила, кроме созданного человеком мотора, не могла бы поднять с земли, не говоря уж о том, чтобы заставить двигаться с такой скоростью, эту огромную тушу. Но это было живое существо, а не созданная человеком машина. Своими огромными клыками и горящими глазами зверь был похож на двухголовую хиллу - маленькое дикое существо, жившее на юге. На спине у него росли сильные крылья. Очевидно, и по внешности, и по темпераменту это чудовище было близким родичем хилл, которые, как я прекрасно помнил, были очень опасны. Можете себе представить, какой ужас навевало на меня это существо, похожее на хиллу, но в несколько раз крупнее! Оно летело на меня, расставив в стороны огромные когтистые лапы, словно намереваясь схватить меня. Обе пасти были широко раскрыты. Я переключил скорость на самую большую и сбросил часть балласта. Шар резко взмыл вверх, и расстояние между нами увеличилось. Но потом зверь стал опять догонять меня, набирая скорость и высоту. У меня не было времени развернуть корабль, и я все еще двигался прямо на юг. Как жаль, что кроме пик с ядовитыми наконечниками в кабине совсем не было оружия! Чтобы справиться с этим зверем, очень пригодился бы пулемет с пулями "дум-дум", или, еще лучше, огнемет, или реактивный гранатомет типа "базуки", или лазерный пистолет. У меня ничего такого не было. Мне стало казаться, что даже в скорости чудовище превосходило меня, так как оно стало постепенно сокращать расстояние. Воздушный шар - приспособление не самое маневренное, но я вытворял на нем такое, что вызвало бы шок у любого, кто хоть что-нибудь знал о возможностях управления аэростатами. Подо мной - очень далеко - я увидел лес, населенный хиллами, тот самый, через который нам с братом Шизалы Дарнадом довелось пройти, когда мы направлялись в Аргзунию. Я быстро миновал этот лес, продолжая двигаться на юг. Я распалил мотор, как только мог, и слышал, как застучали пропеллеры: рано или поздно они должны были соскочить с оси. А чудовище подлетало все ближе и ближе. Оно было больше, чем мой воздушный корабль, и я знал, что для того, чтобы уничтожить самолет и отправить меня на землю, достаточно всего одного удара когтей по наполненному газом шару. Чудовище не сдавалось. Любое нормальное животное, подумал я, к этому времени уже устало бы. Так нет же, монстр упрямо преследовал меня, предчувствуя, наверное, что победа и последующий обед близки; жаль, добыча его явно разочарует. Я поднялся еще выше. Если не буду осторожнее, то вскоре окажусь в таком разряженном слое атмосферы, что в нем невозможно станет дышать. Тогда мне не нужно будет больше бояться летающей хиллы или чего бы или кого бы то ни было еще. Я просто умру от нехватки кислорода. А что если, несмотря на свой свирепый вид, это существо такое же трусливое, как и его менее крупный сородич, обитавший в лесах? Если да, то можно было бы попробовать напугать его. Я ломал себе голову, но ничего не мог придумать. Что могло напугать двухголовое летающее чудище весом в несколько тонн? Сам собой напрашивался ответ: другое животное, тоже с двумя головами, только крупнее. Но такого союзника у меня не было. Теперь летающая хилла - или как там она называлась - была близко, и я смог разглядеть ее черты. Когда я взялся за пику с ядовитым наконечником и метнул ее в своего врага, мной руководил инстинкт. Думаю, пика вошла в одну из ее глоток, рот закрылся, и тут - о ужас! - челюсти задвигались, и зверь проглотил пику. Теперь он уже был надо мной. Я решил, что умирать лучше сражаясь, как бы мало результатов это ни принесло, поэтому метнул еще одну пику. Она должна была пролететь мимо, я промахнулся. То, что произошло в следующий момент, было непостижимо, - зверь вытянул шею и поймал пастью пролетавшую пику. Снова движение челюстей - и снова пики не стало. Я разозлился: надо же, на это чудище не только не действует яд, оно еще и наслаждается моим оружием как лакомством! Пики все же немного задержали хиллу, так как ей пришлось замедлять движение, чтобы проглотить их. Я бросил последнюю пику, целясь в глаз, но к несчастью, опять промахнулся. Последнее, что я помню, была хилла, которая все-таки настигла корабль. Казалось, она вот-вот проглотит меня. Помню треск, словно что-то разорвалось; и тут я понял, что я и мой корабль обречены: или этот страшный хищник со странным аппетитом проглотит меня вместе с шаром, и кабиной, и моторами, и пропеллерами, или я разобьюсь всмятку, упав с высоты в несколько тысяч футов. Кабина раскачивалась; я упал, ударился головой о пульт управления и, теряя сознание, подумал, что, к счастью, не почувствую, как умираю.XII. Мои новые друзья
Казалось, что каждая моя косточка сломана. На самом же деле все были целы, хотя я и не представлял, как это могло случиться. Я набил огромные синяки, в некоторых местах кожа ободрана, но в остальном был невредим! Где я находился? Живой? Вроде, да. Почему? Я не мог понять. Я попытался вылезти из кабины, которая, кстати, не очень сильно пострадала, - материал якшей, из которого она была сделана, оказался невероятно прочным. Я открыл люк, находившийся теперь над головой, и вылез наружу, в темноту марсианской ночи, освещенной двумя лунами. Шар валялся на земле наполовину пустой. Неужели, когда большая часть газа вышла, я упал так быстро, что хилла оказалась не в состоянии догнать меня? Я не знал. Попытка ответа выглядела как-то неубедительно. Я вернулся в кабину, не позволяя стонам боли срываться с губ. Там я нашел заплатку и то липкое вещество, которое мы нашли в городе пауков. При падении газовый баллон лег так, что образовалось что-то вроде кармана, из которого гелий вытекал гораздо медленнее, чем это происходило бы в другой ситуации. Я поспешно заштопал баллон, не переставая думать, хватит ли гелия, чтобы снова наполнить шар. Как раз когда я заканчивал работу, я увидел кое-что справа. Это было что-то очень крупное. Я осторожно приблизился и увидел своего недавнего противника. Как умерло это чудовище? Я сделал шаг вперед, чтобы хорошенько его разглядеть. И вдруг обнаружил, что оно еще дышит. Дышит с трудом, надо отметить, но все же еще дышит. Я подумал, что летающая хилла проглотила слишком много отравленных пик, и даже на такой гигантский организм яд не мог не подействовать. Видимо, чудовище было парализовано в тот самый момент, когда нападало на меня, и оно промахнулось, полетело на землю и грохнулось здесь. Поверженный корабль, вероятно, полетел следом и упал недалеко от моего недавнего противника. Я поблагодарил провидение, наделившее хиллу таким причудливым аппетитом. Я побежал к кабине за мечом, который, должно быть, выскользнул из петли на поясе, когда падал. Пока зверь спал, я вонзил меч ему в глаз, надеясь, что добрался до мозга. Я чувствовал себя трусом, но это чудище нужно было убить, иначе оно могло бы напасть еще на кого-нибудь. Мне не удалось убить его с первого раза, дважды оно отбрасывало меня, но потом я все же справился. Я вернулся к кораблю и стал наполнять газовый баллон гелием из запасного контейнера. К вечеру я почувствовал себя хуже. Я собрался поспать ночь в кабине, закрепленной на земле, решив, что утром буду яснее представлять себе, куда следует держать путь. Но утром я все еще был сонным и усталым после испытаний предыдущего дня и поднялся в воздух без определенной цели. Внизу я увидел широкую реку. Я совсем не представлял себе, где мог быть. И я решил двигаться вдоль реки, пока не доберусь до города или деревни, где мог бы узнать, в какой стране нахожусь. Но я летел вдоль реки четыре дня и за это время так и не встретил ни одного поселения. Когда наконец я увидел внизу что-то кроме реки, это оказалось не поселением, а флотом. Несколько десятков отлично сделанных галер грациозно и изящно плыли вверх по реке. Снизившись, я разглядел, что ими управляли люди, похожие на меня, только с более темной кожей. Я опустился еще ниже, направляясь к шедшей впереди галере, которая, судя по размерам и украшениям на единственном парусе, была флагманским кораблем. Мое приближение вызвало на галере тревогу, но я нашел мегафон и закричал: - Я не причиню вам вреда. Кто вы? На языке, общем для всех народов Марса, хотя и с незнакомым мне акцентом, мне ответил один из воинов: - Мы из Мишим Тепа, направляемся в свой Драгоценный Город! А ты кто? Мишим Теп! Эта страна была старейшей союзницей Карналии, а Карналия была родиной моей Шизалы! Я был среди друзей! Я назвался странником с севера, человеком без племени, который был бы очень рад, если бы ему позволили ступить на борт корабля. Казалось, их любопытство усилилось. Кроме того, они увидели, что я неопасен. Поэтому они разрешили мне привязать воздушный корабль к их мачте и спуститься по веревочной лестнице на палубу. Это была сложная операция, но должен заявить, что горжусь тем, как ловко ее проделал. Молодой капитан, приятный воин по имени Ворум Саз Хажи, сказал, что много месяцев возглавляемая им экспедиция была вдали от Мишим Тепа, они помогали маленькой стране-союзнице, которая пыталась отбиться от банды грабителей. С помощью флота Мишим Тепа враг был разбит, и теперь воины направлялись домой в Мих-Са-Вох, Драгоценный Город, столицу Мишим Тепа. Чтобы не вдаваться в ненужные подробности, я представился ученым, изобретателем воздушного корабля, который они могли видеть, сказал, что путешествую по югу в поисках заказов или предложений работы. Добавил, что лечу сейчас с Западного континента, и, строго говоря, все это было правдой. - Ну, если ты изобрел вот эту штуку, - с воодушевлением сказал Ворум Саз Хажи, - тогда тебе будут очень рады при дворе нашего брадхи. Там ты не умрешь с голоду, он тебе найдет работу. Я был рад это слышать и сразу же решил устроиться в Мишим Тепе свободным ученым, как и хотел. Я не беспокоился о том, что не сообщил в Мендишарию о приозах. Я вызвался разыскать их только для того, чтобы чем-нибудь заняться, приозов скоро выследят и без меня. Конечно, я скоро вернусь в Мендишарию, чтобы уверить Гула Хаджи, что жив и здоров, но пока я не мог отказать себе в удовольствии пожить немного среди людей одного роста со мной, людей, похожих на меня внешне, людей, связанных узами традиции и крови с нацией, которую считал своей родной - с карналами. Через несколько дней путешествия вдали показались башни Драгоценного Города. Это было самое величественное место, которое я только видел в своей жизни. Каждая башня и крыша были украшены драгоценными или полудрагоценными камнями так, что издали казалось, что город был покрыт сплошным слоем какого-то сверкающего вещества. Порт был построен из белого мрамора, с отделкой из драгоценных камней. Их блеск отражался в плещущихся волнах. С ясного голубого неба сверкало яркое солнце, в воздухе стоял нежный аромат цветов и трав, и я с радостью отметил, что люди казались умными, счастливыми, живущими спокойной, благополучной жизнью. Много людей пришли встретить корабли, возвращающиеся из долгой экспедиции. Все горожане были одеты в яркие плащи таких же цветов, что и флаги на мачтах галер. Многие были поражены, увидев мой воздушный корабль. Приветствуя возвратившийся флот, в воздухе звучала нежная музыка, которую любят южные марсиане. Теплое солнце, мирный пейзаж. Впервые с тех пор, как второй раз попал на Марс, я был в состоянии, близком к счастью. Хотя Гул Хаджи и мендишары были людьми умными и благородными, на их цивилизации лежала печать первобытной дикости, постоянно напоминавший об их кровном родстве с аргзунами. Южным цивилизациям это было не свойственно. Кроме того, мендишары, как и аргзуны, внешне очень сильно отличались от меня, и сейчас было приятно оказаться среди людей, которые были такими же, как я сам. Мы ступили на берег, и родственники Ворума Саза Хажи подошли, чтобы приветствовать его. Он представил меня, и я был приглашен в гости, пока не найду, где остановиться. Ворум Саз Хажи сказал, что утром будет просить аудиенции брадхи. Оглядевшись как следует, я заметил в порту чересчур много воинов, гораздо больше, чем по логике вещей их должно быть. Я также обратил внимание на поспешные приготовления к чему-то. Обнаружив то же самое, Ворум Саз Хажи был удивлен не меньше меня. Он спросил родителей, что происходит. Они нахмурились и сказали, что расскажут все плохие новости, когда мы вернемся домой. И только вечером, когда мы сели за стол, родители Ворума Саза Хажи рассказали нам, что Мишим Теп готовится к войне. - Настали черные дни. Не знаю, просто не могу понять, как такое могло случиться, - сказал отец моего нового друга. Тут вошли мужчина и женщина. Они были сверстниками родителей Ворума Саза Хажи. Они хотели расспросить меня о воздушном шаре, о моих приключениях и о многом другом. Так разговор переключился с вопросов текущей политики на приключения: я вежливо рассказал им обо всем, что пережил на севере и на Западном континенте. К тому времени, когда гости ушли, я так хотел спать, что сразу же пошел в комнату, которую предоставили в мое распоряжение родители Ворума Саза Хажи. Утром Ворум Саз Хажи отправился во дворец, где брадхи должен был его поздравить с одержанными победами, а я пошел в порт. Мы договорились, что в этот раз он поговорит с брадхи от моего имени. Конечно, до правителя Мишим Тепа уже дошли новости о моем корабле, и он, вероятно, захочет его увидеть, поэтому нужно было перегнать его ко дворцу. По дороге в порт я заходил в магазинчики, останавливался поболтать с теми жителями Мих-Са-Воха, которые узнавали во мне пилота, управлявшего диковинным воздушным кораблем. Я не спешил, так как в запасе было много времени. И тут я увидел впереди небольшую процессию. На усталых дахарах ехали измученные всадники. Вероятно, они возвращались из какого-то похода, о чем свидетельствовали их раны и пыль на доспехах. С ними был пленник - человек с густой длинной бородой и очень светлыми спутанными волосами. Его тело также покрывало множество шрамов и ран. Он сидел на дахаре с завязанными за спиной руками. Несмотря на то, что его внешность казалась несколько диковатой, держался он хорошо. В нем было что-то очень знакомое, однако я счел это плодом собственных фантазий. Я не стал ломать себе голову над тем, где я мог его видеть, так как эта загадка представлялась неразрешимой. Вместо этого я спросил прохожего, не знал ли он, кто был этот пленник. Прохожий покачал головой: - Наверное, один из наших врагов, хотя у него довольно необычная внешность. Я пошел дальше и вскоре добрался до порта, где и обнаружил свой воздушный шар в полном порядке. Теперь он был привязан к одному из металлических колец на причале. Я забрался в кабину и завел двигатель. Этому чудесному приспособлению топливо было совсем не нужно. Я направил самолет над самыми крышами домов в сверкающем Драгоценном Городе ко дворцу, огромному зданию, еще более величественному, чем все остальное. Казалось, дворец был буквально построен из драгоценных камней. Я узнал, что в Мишим Тепе добывалось очень много драгоценных камней, и хотя при торговле с другими странами они ценились, местные жители были к ним совершенно равнодушны. Я добрался до дворца и немного снизился; передав стражнику указания о том, как привязать воздушный корабль, я направился во дворец. На ступенях меня встретил Ворум Саз Хажи. - Я рассказал о твоем предложении, - сказал он, - и брадхи хотел бы с тобой сейчас поговорить. Он считает, что ты попал сюда в самый подходящий момент, ибо корабли, подобные твоему, могли бы оказаться очень полезными против наших врагов. Когда я подошел к нему поближе, я увидел, что он чем-то обеспокоен. - Что-нибудь случилось? - спросил я. Он сжал мне руку, когда мы шли во дворец. - Не знаю, - сказал он. - Возможно, все дело в тяготах войны, в которую мы собираемся вступить, только брадхи явно не в себе. Происходит что-то странное, я ничего не могу понять. Он не успел больше ничего сказать, так как мы подошли к украшенным драгоценными камнями дверям в тронный зал, и я увидел огромную комнату с яркими величественными знаменами. Наверху, под потолком, были закреплены ряды шпалер. Вдоль стен сидели благородные вельможи, мужчины и женщины, смотревшие на меня с вежливым любопытством. На возвышении для трона в дальнем конце зала сидели три человека. Посредине располагался брадхи, это был изнуренный заботами мужчина с тронутыми сединой волосами и массивной головой, которая казалась высеченной из камня. Слева от него стоял, все еще со связанными руками, тот самый диковатого вида человек, которого я уже видел раньше. А третью фигуру на этом помосте, фигуру, сидевшую на троне рядом с брадхи, я узнал сразу. От ее присутствия в зале меня охватили смешанные чувства: отвращение, но и невероятный восторг. Это была Хоргул, та самая злодейка, которая прямо или косвенно была причиной всех моих несчастий во время моего первого пребывания на Марсе. Хоргул! Значит, мои расчеты относительно времени оказались верными, даже если я и ошибся относительно пространства. Но если здесь была Хоргул, то где-то же должна быть и Шизала! И Хоргул, и человек с бородой повернулись ко мне. И они произнесли в один голос одни и те же слова: - Майкл Кейн! Но почему же они оба меня узнали?XIII. Предательство Хоргул
Я остановился. Приближаться к трону было опасно. И тут я вдруг узнал голос человека с диким взглядом и понял, почему он показался мне таким знакомым. У трона Мишим Тепа со связанными руками стоял Дарнад, брат Шизалы, с которым я расстался очень давно - кажется, несколько лет назад, - в пещерах Аргзунии. Если он был в плену, мой долг был освободить его, ведь он был моим очень близким другом. Я вытащил меч и вместо того, чтобы развернуться и убежать, бросился к Дарнаду, прежде чем растерявшиеся придворные могли что-либо сделать. Хоргул кричала и показывала на меня: - Это он, это он! Он - единственная причина войны! Я не стал раздумывать, каким образом я, человек, который долгое время был на другой планете, в другой эпохе, мог вызвать войну. Я разрубил веревки, связывавшие руки Дарнада, и повернулся, чтобы встретить одного из придворных, подходившего ко мне с мечом. Мне в очередной раз пригодилась одна штука, которой меня научил мой старый учитель по фехтованию месье Кларше: зацепив кончиком своего меча за эфес меча противника, я дернул свое оружие на себя - вместе с его клинком. Обезоружив придворного таким образом, я бросил меч Дарнаду; у нас обоих теперь было оружие. Та штука, которую я сейчас использовал, могла сработать только против человека, застигнутого врасплох, как, к счастью, и получилось в этот раз. Нам повезло. В тронном зале царило замешательство. Я был уверен, что произошла чудовищная ошибка и что в ней была повинна Хоргул. Я не хотел убивать никого из этих людей, которые отнеслись ко мне с таким гостеприимством. Мы с Дарнадом защищались недалеко от помоста, на котором стоял трон. Придворные действовали очень осторожно, опасаясь своей чрезмерной активностью навлечь беду на брадхи. Это и подсказало мне выход из этой ситуации; чтобы ничья кровь не пролилась, в том числе и наша. Я вскочил на помост позади брадхи и схватил его за доспехи. Подняв меч над его головой, я заявил громко и четко: - Если вы причините нам вред, вы убьете своего брадхи. Они замерли на месте, потом опустили оружие. - Не слушать его! - закричала на них Хоргул. - Он лжет, он не тронет вашего брадхи. Конечно, Хоргул, зная меня лучше, чем эти люди, говорила правду. И именно поэтому, когда я обратился к придворным, я говорил так твердо, как только мог: мне нужно было убедить их всех, что я сделаю так, как говорил. - Я в отчаянном положении, - сказал я. - Я не знаю, почему вы держите в плену сына вашего старейшего союзника, я не понимаю, почему вы разрешаете этой злобной женщине занимать место рядом с вашим брадхи. Но раз уж вы так поступаете, я вынужден защищать своего друга и себя. Вы что, не узнаете? Это же Дарнад из Карналии, брадхинак и пьюкан-нара! - Конечно, узнаем, - закричал один из придворных, - поэтому мы его и держим. Мы воюем с Карналией! - Воюете? - я не мог поверить своим ушам. - Воюете с теми, кто с незапамятных времен были вашими друзьями и союзниками! Почему? - Я тебе объясню, - закричала Хоргул. - Ты должен знать, потому что ты отчасти виноват в том, что происходит. Эта распутница брадхинака Шизала обесчестила и велела убить сына брадхи, Телема Фас Огдая, чтобы выйти замуж за тебя! Я даже немного растерялся от такой беззастенчивой лжи, ведь Хоргул сама была виновата в том, что Телем Фас Огдай стал предателем, а потом был убит в честном бою. - Конечно, все знают, что Телем Фас Огдай предал карналов? - Я повернулся к придворным. Но они застонали и потом возмущенно зароптали, явно не соглашаясь с тем, что я сказал. Тут выступил вперед один из придворных: - Хоргул рассказала нам всю правду об отвратительном заговоре, который устроили ты и Шизала из Карналии. Чести Мишим Тепа было нанесено оскорбление, любимый сын этой страны убит, брадхи - унижен. Все эти обиды можно смыть только кровью. - Чушь, - сказал я. - Я знаю правду. Хоргул вас загипнотизировала, как она поступала со многими другими. Вы поверили в рассказ, который нельзя воспринимать всерьез: вы только все хорошенько проанализируйте, и вы поймете, что все в нем - ложь. Вы это давно бы поняли, если бы ваш рассудок не был столь безраздельно в ее власти. Брадхи попытался освободиться. - Если бы не она, мы никогда не узнали бы правду, - сказал он. Он говорил так, словно повторял что-то заученное. Я был уверен, что он был целиком во власти Хоргул. - Ваш брадхи загипнотизирован Хоргул! - воскликнул я в отчаянии. - Ты лжешь! - взвизгнула Хоргул. - Я всего лишь женщина, обычная женщина, обманутая Майклом Кейном. Он и вас сейчас пытается обмануть. Убейте его! Убейте его! - Как, ну как же могла одна женщина внушить такую наглую ложь целой нации? - закричал я, поворачиваясь к ней. - Что ты наделала, ведьма! И чего ты еще добиваешься? Ты стравливаешь две великие нации. Где твоя совесть? Хотя она продолжала играть выбранную ею роль, я увидел в ее глазах иронию, когда она ответила мне: - А где твоя совесть? Ты, чужестранец, посмел вмешаться в жизнь южных народов и пренебречь их традициями и обычаями, чтобы заполучить женщину, которую любишь! Я понял: убеждать их бесполезно. - Хорошо, если я такой злодей, тогда ты должна знать, что я выполню свою угрозу и убью вашегобрадхи, если вы попробуете напасть. - Я стал продвигаться вперед, и она неохотно отступила, пропуская меня. Дарнад прикрывал наш отход. Мы прошли через весь зал, благополучно покинули дворец и добрались до моего самолета. Я заставил брадхи влезть в кабину, Дарнад поднялся следом. Внутри нашего воздушного корабля я повернулся к старику. - Ты должен поверить нам: Хоргул лжет, - сказал я горячо. - Хоргул всегда говорит правду, - сказал он ровным голосом. В глазах ничего нельзя было прочитать. - Неужели ты не чувствуешь, что она тебя загипнотизировала? - спросил я. - Карналы и жители Мишим Тепа так долго были друзьями и союзниками, что война между ними разрушит все, что дорого южным народам, разрушит всю южную культуру. - Она бы не стала лгать. - Но она лжет! - впервые за все это время заговорил Дарнад. - Я не понимаю, о чем вы тут говорите, я знаю лишь, что моя сестра и Майкл Кейн никогда не сделали бы то, в чем вы их тут обвиняете. - Хоргул хорошая. Она говорит правду. Я грустно покачал головой, подвел брадхи к люку и показал на лестницу. - Можешь идти. Бедняга, как же тебя дурачат, - сказал я. - Ты - лишь тень когда-то великого брадхи. На мгновение его глаза блеснули. Я увидел, каким бы он был, если б стал свободен от власти Хоргул. Скорбь из-за предательства и смерти сына, должно быть, на время ослабила его волю, и в это время Хоргул начала подчинять его себе. Я ее недооценивал. Я думал, что в Пещерах Аргзунии ее власти пришел конец, но вместо этого она тут же ухватилась за новый план: восстановить силы и отомстить, и одним из ее врагов, сознавали это жители Мишим Тепа или нет, была их родина! Мы подождали, пока брадхи спустится на землю, и когда придворные и стражники бросились вперед, мы убрали лестницу, перерезали веревки, которыми наш воздушный корабль был привязан к земле, и взлетели в небо над Драгоценным Городом. Теперь я знал всю правду, и поскольку действительно снова был в том же промежутке времени, из которого меня забрали на Землю, я был полон решимости вернуться в Варнал, Город Зеленых Туманов, и увидеть мою Шизалу. Нам еще предстояло выяснить, что знал о планах Мишим Тепа брадхи Карналии, Карнак, отец Шизалы и Дарнада, и что он собирался предпринять. Грандиозная битва у стен Варнала между карналами и аргзунами подорвала силы карналов и измотала их. Не думаю, что у них мог бы быть шанс выиграть войну с Мишим Тепом, чье войско было сильнее. К тому же они все равно не могли бы относиться к воинам Мишим Тепа как к злодеям и врагам, которых нужно во что бы то ни стало уничтожить. В то время, как жители Мишим Тепа были убеждены, что Хоргул говорит правду, сами карналы знали, что она лжет, и не могли испытывать к своим обманутым друзьям ничего, кроме сочувствия. Нам понадобилось время, чтобы даже на полной скорости добраться до Варнала, но Дарнад, по крайней мере, помог мне выбрать правильный курс, иначе пришлось бы двигаться наугад, теряя драгоценные часы. Пока мы летели к Городу Зеленых Туманов, Дарнад рассказал мне, что с ним приключилось с тех пор, как мы расстались в Пещерах Аргзунии. Ты, вероятно, помнишь, Дарнад и я решили, что одному из нас нужно вернуться на юг за помощью, которая спасла бы Шизалу, находившуюся в плену у Хоргул в Пещерах Аргзунии, если бы я потерпел неудачу. Дарнад ушел, спеша вернуться назад, преодолев то огромное расстояние, которое мы успели пройти. Но его дахара захромала, и вскоре он остался пешим в кишащем хиллами лесу. Каким-то чудом он отбился от нападавших на него хилл, его дахаре повезло меньше. В лесу он немного заблудился и вышел прямо на деревушку дикарей, которые схватили его и хотели съесть. Ему удалось прорыть ход из хижины, в которую его на время посадили, и бежать. Без оружия, умирая от голода, он долго бродил, пока не повстречался с отрядом кочевников-скотоводов, которые помогли ему. Его ожидало еще много приключений, и наконец он попал в плен к разбойникам, которые продали его брадхи одного малочисленного народа, неизвестно как выжившего на юге, так как значительно отставал от южных народов по уровню развития. Дарнад воспользовался случаем бежать из рабочей партии и направился в Мишим Теп, поскольку эта страна была ближайшей из стран-союзниц. Так ему тогда казалось. Когда он добрался до Мишим Тепа и рассказал жителям приграничной деревушки, кто он такой, его прогнали прочь как врага! Он не мог поверить в то, что случилось, и решил, что произошла какая-то нелепая ошибка. И тут он понял, что те, кого он считал друзьями своего народа, охотятся за ним. Неделями он пытался укрыться от разыскивающих его стражников, но наконец его выследили. Он храбро сражался, но все же был схвачен. Стражники отправили его в Мих-Са-Вох, где я и встретил его. Его история была так же невероятна и полна событий, как и моя собственная, которую я и рассказал по его просьбе. Вскоре мы уже пролетали над равниной, которую я тотчас же узнал по росшему на ней странному алому папоротнику. Он медленно раскачивался на ветру, и вся Алая равнина выглядела как безбрежный алый океан. Я обрадовался, увидев эту равнину, так как ее появление означало, что уже недалеко Зовущие горы и позади них - Варнал, Город Зеленых Туманов, где жил брадхи Карналии и, значит, Шизала, моя невеста. Мы добрались до Зовущих гор на следующее утро. Прошло еще немного времени, и мы оказались в долине, в которой лежал Варнал. Мое сердце готово было выскочить из груди от радости, когда я снова увидел белые дома Варнала. То там, то здесь были видны здания из голубого мрамора, добываемого в горах. Золото узоров на мраморных домах блестело в ярких солнечных лучах. На башнях развевались знамена. Варнал с виду был меньше и проще, чем Мих-Са-Вох, Драгоценный Город, но для меня он был несравненно прекраснее и несравненно дороже. Мы приземлились на городской площади, и к нам сразу же поспешили стражники. Они были настороже и уже хотели задержать нас как врагов. Нам навстречу из дворца шли двое: Карнак, брадхи Карналии, и… Шизала! Шизала! Она подняла голову и увидела меня. Наши глаза встретились. Мы не могли сдвинуться с места, лишь стояли и смотрели друг на друга со слезами счастья. Потом я выскочил из кабины, бросился к ней, обнял. - Что случилось? - спросила она. - О, Майкл Кейн, что же случилось?! Я не знала, что и думать, когда ты исчез ночью накануне нашего обручения. Я знала, что по собственной воле ты бы меня не покинул. Так что же случилось? - Я тебе все расскажу, - обещал я, - но сначала нужно обсудить кое-что другое. - Я повернулся к брадхи. - Ты знаешь, что Мишим Теп собирается напасть на Варнал? Он мрачно кивнул. - Да, официальное объявление войны вчера привез гарольд, - сказал он. - Не могу понять, почему Болиг Фас Огдай поверил всей этой лжи. Он обвиняет меня, и моих детей, и тебя, Майкл Кейн, в преступлениях, которые в нашем обществе считаются самыми гнусными. Много лет мы были друзьями, как и наши отцы и деды. Как же так? - Я все объясню, - сказал я. - А сейчас - давайте попробуем забыть о наших бедах, ведь мы снова вместе. - Да, - согласился он, пытаясь улыбнуться. - Сегодня - очень счастливый день, ведь я уже и надеяться не смел на то, что снова увижу вас обоих. Пошли, пообедаем и поговорим. Держась за руки, мы с Шизалой вошли во дворец вслед за ее отцом и братом. Вскоре нам приготовили обед, и я начал свой рассказ. Я поведал им о том, как вернулся на Землю, как снова попал на Марс, какие приключения выпали на мою долю на севере. Дарнад рассказал о своих странствиях, а потом мы услышали о том, что случилось в Варнале с тех пор, как мы оба его покинули. Несмотря на угрозу неизбежной войны, висевшую, как черная туча, над нашими головами, мы не могли скрыть радости от того, что снова были вместе, и проговорили до поздней ночи. На следующий день нас ожидали два важных события: наша помолвка с Шизалой и военный совет.XIV. Неприятное решение
- Значит, Хоргул обманула Болиг Фас Огдая, как раньше она обманула его сына, - сказал Карнак на следующее утро. - Он целиком в ее власти, - сказал Дарнад. В то утро мы завтракали вместе. Это было редкостью на Марсе, но нельзя было терять ни минуты. - Нужно бы как-то убедить брадхи в том, что она лжет, - сказала Шизала. - Должен же быть какой-то способ сделать это. - Ты не видела его, - сказал я ей. - Мы пытались его убедить, но он вряд ли понимал, что мы говорили. Он был словно во сне. Война - это дело рук Хоргул, а не Болиг Фас Огдая. - Вопрос остается открытым, - сказал Дарнад, - как можно предотвратить войну? У меня нет никакого желания проливать кровь своих друзей, как нет желания увидеть Варнал разрушенным, а это неизбежно, так как они нас обязательно победят. - Есть, как мне кажется, только один выход. - Я говорил очень тихо. - Это чрезвычайно неприятное решение, но я убежден, что ничего другого придумать нельзя. Если больше ничего не получится, нужно убить Хоргул. С ее смертью придет конец ее власти над брадхи Мишим Тепа и его подданными. - Убить женщину! - Дарнад был явно шокирован. - Мне это не больше по душе, чем тебе, - сказал я. - Ты прав, Майкл Кейн, - кивнул Карнак. - Кажется, это наш единственный шанс. Но кто возьмет на себя эту малопочтенную миссию? - Поскольку я предложил этот план, я и должен его осуществить. Это мой долг, - пробормотал я. - Обсудим это позднее, - сказал брадхи Карнак поспешно. - А сейчас пора начинать церемонию помолвки. Мы идем в тронный зал, а вы с Шизалой пойдите приготовьтесь. Шизала вернулась в свою комнату, я - в свою. Там я нашел множество роскошной одежды и доспехов. Вскоре пришел Дарнад, чтобы показать мне, как все это нужно носить. Кольчуга была сделана из искусно выкованных золотых и серебряных колец, украшенных драгоценными камнями. На поясе висели меч и кинжал, также украшенные драгоценными камнями. Поверх доспехов мне нужно было надеть плащ - темно-синий с ярко-алой подкладкой. Он был отделан изящным желтовато-зеленым шитьем, изображавшим сцены из карнальской истории. На ноги мне приготовили мягкие сандалии из черной блестящей кожи, которые зашнуровывались до самых колен. Когда я во все это облачился, Дарнад отступил назад, выражая свое восхищение. - Ты здорово смотришься во всем этом. Я горжусь таким братом. В марсианском лексиконе нет слова "зять"; когда кто-то входит в семью, он приобретает кучу родственников и становится для них тем же, кем является его супруга или супруг. Так я становился сыном Карнака и братом Дарнада. Таков обычай на Марсе, и я его принимал. Дарнад провел меня в тронный зал, где нас ждали немногие избранные придворные. Тронный зал варнальского дворца, хотя и похожий на тронный зал Драгоценного Города, был менее роскошным и вычурным. На помосте стоял брадхи Карнак, облаченный в королевское платье из черного меха с обручем на голове. Как и большинство важных обрядов южного Марса, церемония обручения была краткой, но очень торжественной. Карнак объявил, что мы должны будем пожениться, и мы подтвердили, что это наше и только наше желание, и оно взаимно. Затем он спросил, были ли какие-нибудь возражения против этого брака. Никаких возражений не было. В заключение Карнак объявил: - Моя дочь, брадхинака Шизала, и мой сын, Майкл Кейн с Негалу, могут пожениться в любое время по истечении десяти дней с этой помолвки. Так я был обручен с этой замечательной девушкой. Однако нужно было готовиться к худшему. С балкона одной из башен мы смотрели, как собираются внизу на площади воины нашей поредевшей армии. Я уже снял с себя торжественные одежды, в которых был на церемонии и оделся в простые доспехи с обычным мечом и неточно стреляющим пневмомеханическим пистолетом. На плечи набросил темно-зеленый плащ. Я мог бы также отметить, что начал отращивать волосы, чтобы носить их так же, как и все мужчины на юге. Хотя к этому обычаю на Земле относятся с неодобрением, короткие волосы на Марсе всем бросаются в глаза, и всегда найдется тот, кто спросит, почему у вас такая странная прическа. Поэтому, чтобы выглядеть, как хозяева, которых трудно было упрекнуть в недостатке мужественности, я тоже отпустил волосы. Как и все марсиане, я носил на голове простой металлический обруч, чтобы они не падали в глаза. Мой обруч был золотым, его подарила Шизала в день помолвки. Сейчас мы стояли вместе на балконе и смотрели на площадь. С нами был Карнак, а Дарнад, как главный пьюкан-нара Карналии, был на площади. - Ты бы мог оценить силы Мишим Тепа? - спросил меня Карнак. - Да, - ответил я, - конечно, лишь приблизительно. Они превосходят нас в пять или шесть раз! - Против нас повернулись наши самые сильные и верные союзники. Юг, каким я его знаю, перестал существовать! - устало сказала Шизала. - Веками мир в этой части на Вашу обеспечивался теми, кого называли "доброжелательными народами", и среди них Мишим Теп и Карналия были крупнейшими странами. Эта война так разорит и ослабит нас, что наша страна и весь юг станут легкой добычей врага. - Я уверен, именно этого и добивается Хоргул, - вставил я. - В условиях анархии, которая наступит после войны, кто бы ее ни выиграл, она захватит власть, которой так жаждет. Она не смогла нас уничтожить с помощью аргзунов, вот и решила попробовать еще раз. Ее не так-то легко заставить сдаться. - Странная женщина, - сказала Шизала. - Я провела с ней много времени - так уж получилось, я была ее пленницей. Так вот, иногда она казалась мне такой невинной, обманутой, а потом вдруг оборачивалась настоящим чудовищем. А этот ее дар - способность заставлять других выполнять ее волю?! Это же что-то нечеловеческое. - Нет, это вполне человеческая способность, - сказал я. - Думаю, многие обладают ею, только не в такой степени. Ее порочность в другом. В том, как она пользуется своим даром. - Кажется, она ставит в вину всем южным народам какое-то преступление, когда-то совершенное против нее, - сказала Шизала. - Почему? - Кто может объяснить, что руководит движениями больного рассудка, - сказал я. - Она безумна. Если бы безумие можно было объяснить с помощью законов логики, оно, наверное, не было бы тогда безумием. - Как там твой план? - спросила Шизала с содроганием. - Ну, этот план убить ее? Как ты собираешься его осуществить? - Он мне так отвратителен, что я о нем не думал. Сначала надо дождаться, чтобы против Карналии выступили основные силы Мишим Тепа. Не думаю, что Хоргул станет рисковать и сама отправится в поход вместе с армией. Она останется в городе. Я ее… убью, только если не будет никакой другой возможности убедить брадхи, что она лжет. А лучше всего было бы заставить ее признаться, что она говорит неправду. - Ну, а когда армия Мишим Тепа будет в пути, что тогда? - Тогда я тайно проберусь в Мишим Теп. - Как? - Большую часть пути я проделаю на воздушном шаре, потом натру кожу чем-нибудь, чтобы она была похожа на кожу жителей Мишим Тепа, и проберусь в столицу как торговец. Думаю, многие купцы пытаются заработать в Мишим Тепе? - Да, туда приходят много джелусов, родичей жителей Мишим Тепа. - Значит, я стану джелусом. - А что потом? - Потом я предложу Хоргул поговорить со мной, скажу, что мне известны многие ее секреты. - Она тебя узнает! - А я слышал, что у джелусов принято носить маски, чтобы никто не знал, кого приняли на работу. Разве это не так? - Так. - Значит, я буду в маске. - Ну хорошо, тебе удалось добиться встречи с ней наедине. Что тогда? - Я попытаюсь похитить ее и заставить написать правду. Потом я посажу ее в тюрьму и отвезу ее признание брадхи Мишим Тепа. Если он и тогда откажется принять истину, я покажу бумагу его подданным. Я уверен, они все поймут, так как они сами не находятся непосредственно под ее гипнозом. - Мой голос оборвался, когда я поднял глаза и увидел лицо Шизалы. - Это отважный план, любимый, но он обречен, - сказала она. - Да, он почти обречен. - Это единственный план, который у нас есть, - сказал я. - Единственный с хотя бы искоркой надежды на успех. Шизала нахмурилась. - Помню, Телем Фас Огдай однажды рассказывал мне об одном забытом предмете, который хранится в сокровищнице Мих-Са-Воха. Это щит с гладко отполированной поверхностью, приковывающий к месту любого, кто в него заглянет. Я очень заинтересовался этим рассказом. Он напоминал земной миф о Персее и Горгоне, который, вероятно, произошел от более древнего, марсианского. Так же, как все земляне - потомки марсиан. - Продолжай, - нетерпеливо сказал я своей невесте. - У этого щита есть еще одно удивительное свойство. Любому, кто смотрится в него, приходится говорить правду. Это свойство как-то связано с гипнотическим эффектом, которым обладает поверхность. Не могу тебе объяснить это с научной точки зрения, поскольку щит этот был создан якшами или шивами, а их наука находилась на такой высокой ступени развития по сравнению с нашей, что мне в ее достижениях не разобраться. - Да и мне тоже, - сказал я. - Думаю, что это всего лишь легенда. Красивая история, которую Телем Фас Огдай рассказал мне лишь для того, чтобы убить время. - Наверное, так и есть, - сказал я и тут же забыл о щите - я не мог себе позволить терять время на всякую ерунду. Шизала вздохнула. - Ах, Майкл Кейн, неужели на этой земле никогда не будет мира?! - сказала она. - Кто это решил, что такой сильной любовью, как наша, нельзя наслаждаться в тишине и покое? Почему мы все время должны разлучаться? - Если мне повезет, возможно, у нас и появится шанс провести остаток жизни - а это долгие годы - вместе, не расставаясь, и прожить все это время в мире и согласии, - сказал я, пытаясь ее успокоить. Она снова вздохнула и заглянула мне в глаза: - Думаешь, это возможно? - Счастье стоит того, чтобы за него побороться, - просто ответил я.На следующий день мы снова стояли на балконе. - Армия Мишим Тепа, должно быть, уже выступила, - сказала она, - и она идет к границам Карналии. Ей понадобится много дней, чтобы сюда добраться. - Тем больше у меня будет времени, чтобы осуществить то, что мы задумали, - ответил я. Я понимал, что она намекает на то, что мы могли бы провести вместе еще несколько дней, но я не мог позволить себе рисковать: мне нужно было иметь в запасе как можно больше времени. - Да, наверное, - сказала она. Я сжал ее в объятиях. Позднее, посмотрев вниз, на площадь, я увидел, как готовятся к новой битве люди, которые еще недавно отбивали атаки намного превосходящих их по численности и мощи аргзунов. Решено было встретить армию Мишим Тепа на поле боя, а не ждать, пока она осадит город. Нужно было, если возможно, спасти Варнал и женщин и детей, живущих в нем. Армия Мишим Тепа состояла не из варваров и дикарей, и они вряд ли станут мстить невинным за предательства и оскорбления, которые, как считалось, нанесли им мы. Я увидел, как готовится к войне наша армия, и решил не терять больше времени, а отправляться в путь в Драгоценный Город этой же ночью. Я попрощался с Карнаком и Дарнадом, поцеловал Шизалу. Мысленно я сказал "до свиданья" этому чудному городу, когда заходящее солнце осветило его мраморные дома красным, как кровь, заревом. Перемирие окончилось. Я направлялся в Мих-Са-Вох.
XV. Маска убийцы
Я стоял в воротах Драгоценного Города и препирался со стражником. Он настаивал: - Что тебе здесь нужно? Разве ты не знаешь, что в Мишим Тепе объявлено военное положение? - Именно поэтому я здесь, друг мой. Не видишь, что ли, я из нации джелусов? На мне была маска из тончайшего слоя серебра, покрывавшая все мое лицо. В этой маске, в кроваво-красном плаще, с мечом в ножнах, что было на Марсе делом непривычным, я выглядел настоящим купцом-джелусом. По крайней мере, мне так казалось, когда я отправлялся в путь. Теперь же, когда стражник столь придирчиво меня осматривал, я стал сомневаться, насколько убедительным был этот маскарад. Казалось, он был удовлетворен результатами осмотра. - Проходи, - сказал он. Ворота распахнулись, и я прошел в город с самым беспечным видом. Через плечо у меня висел мешок. Со стены спустился еще один стражник. - Ты без дахары. Почему? - Захромала по дороге. Он удовлетворился моим ответом и ткнул рукой в сторону одной из улиц. - Там ты найдешь остальных - в "Доме синего кинжала", - сказал он. - Остальных? - Ну да, остальных, твоих спутников, конечно. Ты что, не с ними? Я не рискнул отрицать это, поэтому немного неуверенно двинулся в "Дом синего кинжала" - таверну и постоялый двор. Когда я вошел, то увидел за столами джелусов в масках из бронзы, серебра и золота. Некоторые маски были украшены крохотными драгоценными камушками. Они никак не отреагировали на мое появление, и я прошел мимо них к хозяину. Я спросил, не было ли у него свободных комнат, но он только пожал плечами: - Твои друзья все заняли. Почему бы тебе не поселиться вместе с кем-нибудь из них? Я покачал головой. - Да ладно, найду себе другой постоялый двор. Не посоветуешь, куда пойти? - Посмотри, может, повезет в "Доме повешенного аргзуна"? Он здесь неподалеку, на соседней улице. Я поблагодарил его и вышел. Уже было темно, и я с трудом находил дорогу. На Марсе улицы не освещаются даже в самых цивилизованных городах. Я заблудился в лабиринте улочек, и так и не добрался до таверны с таким кровожадным названием. В поисках какой-нибудь другой таверны я вдруг обнаружил, что кто-то идет за мной по пятам. Я немного повернул голову, пытаясь краешком глаза разглядеть, не было ли кого позади меня, но из-за маски ничего не было видно, а снимать ее мне не хотелось, слишком велик был риск. Еще какое-то время я продолжал идти вперед, а потом вдруг нырнул в боковую улочку - и не улочку даже, а узкий переулок - и укрылся в дверной нише. Конечно, мимо меня быстро прошел какой-то человек. Я вышел из укрытия, доставая меч. - Как ты думаешь, друг, - сказал я, - разве годится так выслеживать человека? Он едва не вскрикнул от неожиданности и потянулся к щиту. В лунном свете что-то блеснуло, и я понял, что на моем преследователе была маска джелуса. - Что это, - сказал я как можно более развязно, - ты хочешь ограбить своего товарища? Голос, раздавшийся из-за маски, был спокоен. Человек даже не подумал вытащить меч. - Нет, такие поступки противоречат правилам джелусов, - сказал он. - Тогда чего ты от меня хочешь? - Позволь мне заглянуть под маску, друг мой. - Это тоже, кажется, против правил, - возразил я. - Не знаю, какие у тебя правила, друг мой, но я хорошо знаю правила джелусов. А ты? Очевидно, я совершил какой-то промах, а этот человек его заметил. Возможно, существовал какой-то знак, которым джелусы тайно обмениваются, в то время как все вокруг думают, что они друг друга не замечают. Если этот человек будет угрожать мне раскрытием моей тайны, придется его убить. Слишком много было поставлено на карту, чтобы я мог позволить себе так рисковать: если он выдаст меня, весь наш план рухнет. - Обнажи свой меч, - сказал я ему мрачно. Он засмеялся. - Вытаскивай меч, слышишь! - Итак, я был прав. Ты просто скрываешься под маской джелуса. - Именно. А сейчас обнажи свой меч! - А зачем? - Я не могу позволить тебе выдать меня. Я должен заставить тебя замолчать. - А я что, сказал, что собираюсь тебя выдать? - Ты джелус. И ты знаешь, что я только притворяюсь, что я тоже джелус. Он снова рассмеялся. - Думаю, джелусы должны чувствовать себя польщенными из-за того, что ты захотел быть одним из них. Среди наших правил нет такого, которое предписывало бы убивать человека только за то, что он выдает себя за одного из нас. - Тогда зачем же ты за мной идешь? - Из любопытства. Ты, случайно, не вор? - Нет. - Жалко. Видишь ли, ты, вероятно, знаешь, что Гильдия Джелусов В Масках - это гильдия не только купцов, но также наемных убийц и воров. Мне вдруг пришло в голову, что мы приехали сюда с одной и той же целью. - А зачем ты здесь? - Чтобы ограбить сокровищницу дворца. Стражников так мало, что грех не воспользоваться такой редкой возможностью. Считается, что сокровищницу ограбить нельзя. - Я не вор. - Зачем же ты прячешься под маской? - Это мое дело. - Шпионишь в пользу карналов? Поскольку я не был шпионом, я покачал головой. - Все это очень загадочно, - сказал джелус с иронией. И тут мне в голову пришла идея. - А как ты рассчитываешь пробраться во дворец? - спросил я. - Ага, ты все-таки пришел сюда с той же целью, что и я. - Да нет же, говорю тебе, я не вор. Но я был бы не против проникнуть во дворец, минуя стражу. - Что же тогда? Убийство? Я вздрогнул. Лгать не имело смысла. Я же готовился убить Хоргул, но только если не нашлось бы ничего другого, что могло бы остановить два великих народа, собиравшихся истребить друг друга. - Ага, убийство, - пробормотал джелус. - Это не то, что ты думаешь. Я не наемный убийца. - Значит, идеалист! Клянусь лунами, извини, я должен идти. Идеалист! - Джелус шутливо раскланялся и сделал вид, что спешит прочь. - Нет, реалист, - сказал я. - Я здесь, чтобы остановить войну, которая сейчас кажется неизбежной. - Идеалист! Войны начинаются и прекращаются. Зачем нужно их останавливать? - Твои суждения нельзя назвать объективными, ты же наживаешься на войне, - сказал я. - А я от войн устал. Ну что, поклянешься, что не выдашь меня? Или предпочтешь сразиться со мной? - В данных обстоятельствах я лучше буду молчать, - сказал мой собеседник, и его маска вдруг сверкнула в лунном свете. - Но у меня есть предложение. Обещаю, я больше не буду расспрашивать тебя, зачем тебе нужно во дворец. Думаю, мое предложение придется тебе по вкусу, оно может оказаться полезным для нас обоих. - Ну, и что ты предлагаешь? - Давай будем держаться вместе. Так легче проникнуть во дворец. Там мы пойдем по своим делам: ты - к своей… э-э… жертве, я - к сокровищнице. Союзник мне и в самом деле не помешал бы, хотя, если бы я мог выбирать, вряд ли я стал бы полагаться на такого человека, как этот циничный вор. Я обдумал его предложение и кивнул. - Отлично, - сказал я. - Кажется, в этих делах у тебя действительно больше опыта, чем у меня, поэтому я сделаю так, как ты говоришь. Что ты намерен делать? - Вернемся в "Дом синего кинжала", - сказал он. - Уединимся там в моей комнате, выпьем вина, отдохнем, поговорим. Я пошел за ним с некоторой неохотой. Он вел меня по лабиринту улочек, и я поражался его умению ориентироваться. У меня даже мелькнула мысль, что этот вор может оказаться полезнее, чем я поначалу думал. В комнате вор остался в маске, а я свою снял. Вор склонил голову набок. Его маска была сделана так, что напоминала странную птицу, отчего он выглядел очень комично. - В Гильдии меня называют Токсо, - сказал он. - Меня зовут… - Я помедлил, сомневаясь. - Меня зовут Майкл Кейн. - Странное имя. Кажется, я его уже слышал. - Ну и что ты думаешь? - Говорю тебе, имя странное. Если ты имеешь в виду, что я слышал и что я об этом думаю… Где истина? Знаешь, друг мой, я верю всему и не верю ничему. Я не очень хороший член Гильдии - другие, сделав тебе знак и не получив на него ответа, разозлились бы больше моего. - А что это за знак? Он незаметно, как бы случайно, провел большим пальцем правой руки по маске, словно рисуя на ней небольшой крест. - А я и не заметил, - сказал я. - Когда на всех одеты маски, необходимо иметь какой-нибудь знак, - сказал Токсо. - Мне, наверное, не следовало тебе его показывать. Многие выдают себя за джелусов. Маска джелуса - слишком хорошая маскировка. - А еще кто-нибудь обратил на меня из-за этого внимание? - Я сказал им, что ты сделал ответный знак, но что тебе, возможно, нужно помочь найти постоялый двор. Так я объяснил им, зачем мне понадобилось за тобой идти. - Ты не очень-то правоверный член Гильдии, - сказал я. - Чушь! Я просто живу, как могу. Я не верю в гильдии и жесткие правила. - Почему же ты в ней остаешься? - Чтобы выжить. Маска, друг мой, - это хорошая защита. - Разве нет наказания за разглашение тайн Гильдии? - Сейчас на многое закрывают глаза. Старых традиций придерживаются всего несколько фанатиков. Кроме того, я не могу перестать разговаривать. Мне нужно все время говорить, неизбежно у меня вылетает кое-что из секретов Гильдии. И вообще, что такое "секрет"? И что такое "истина"? Последнее прозвучало как риторический вопрос, поэтому я не стал отвечать. - А сейчас скажи, - снова заговорил Токсо, - что ты думаешь о дворце? - Я его плохо знаю, - ответил я, - ведь я был только в тронном зале. Токсо вытащил из-под покрывала сложенный во много раз лист бумаги. Он расправил его и показал мне. Это был детальный план дворца, на котором указаны все двери и окна, все этажи и все комнаты, расположенные на них. Отличная карта! - Я добыл этот план ценой моей парадной маски, - сказал Токсо. - Да ладно, я все равно ее редко надевал. И потом, я могу заказать новую, когда разбогатею. Я не был уверен, что поступаю правильно, помогая вору ограбить королевскую сокровищницу, но я думал, что все богатства Мишим Тепа не могли быть слишком высокой ценой за то, чтобы остановить кровь, которая вот-вот должна была пролиться. - А зачем устраивать охраняемую сокровищницу, - спросил я. - Зачем, если камни можно взять прямо из городской стены? Похоже, жители относятся к ним как к обычным камням. - Дело не в камнях, хотя где-нибудь на севере или на востоке за них можно получить хорошую цену, а в мастерском исполнении тех предметов, которые хранятся в сокровищнице. Он наклонился ко мне, и я увидел, как в узких восточных разрезах на маске сверкнули глаза. - Вот самый лучший путь, - сказал он. - Мне пришлось отказаться от него, когда я думал проникнуть во дворец в одиночку. - А что, никто из джелусов не хотел тебе помочь? - Только один, и тот какой-то неуклюжий простофиля. Нет, кроме меня и этого олуха других воров здесь нет, все остальные джелусы - воины. Это же видно по маскам. - А я и не знал, что маски различаются. - Конечно, различаются. - Тогда что за маска у меня? - У тебя-то? У тебя, друг мой, маска наемного убийцы, - безмятежно сообщил мне Токсо. Я вздрогнул. Я молил провидение о том, чтобы мне не пришлось убить женщину, какой бы злой и коварной она ни была.XVI. Исчадие Ада
На улицах Драгоценного Города царили тишина и спокойствие. Токсо и я притаились в тени у дворца. Мы оба были в масках. Наши маски обладали ощутимым недостатком: они притягивали к себе много света даже в темноте. Токсо размотал веревку, закрепленную у него на поясе. Она была тонкой, но очень крепкой, как он меня заверил. Токсо молча показал наверх, на крышу, где на ее краю было установлено что-то вроде флагштока. Здесь действительно нужны были двое: веревка должна быть обернута вокруг этого флагштока так, чтобы оба конца оказались на земле. Один человек должен держать свой конец, пока второй карабкался по другому ее концу на крышу и закреплял веревку там, чтобы его товарищ мог в свою очередь по ней подняться. Прошел стражник. Он был здесь один, и на то, чтобы обойти вокруг дворца, у него уходило минут двадцать. Если бы не военное положение, во дворец, наверное, было бы невозможно проникнуть, по крайней мере, таким способом, так как обычно здесь было три стражника. Когда стражник скрылся, Токсо уверенным движением забросил веревку на крышу. Она обвила флагшток, и ее конец упал по другую сторону крыши. Токсо подергал за конец веревки, который был у него в руках, и оба конца стали одной длины. Я завязал один конец веревки вокруг пояса. Токсо стал подниматься по своему концу. До возвращения стражника оставалось еще минут десять, не меньше, но подъем был делом медленным. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Токсо оказался на крыше и закрепил веревку вокруг флагштока. Я начал подниматься. К тому времени, как я был наверху, я не чувствовал рук от напряжения и усталости. Мы быстро развязали веревку и, пригибаясь, побежали к тени около небольшого купола на крыше. Внизу прошел стражник. Он ничего не заметил. Хотя крыша была плоской, она казалась какой-то шершавой и скользкой. Когда я нагнулся, чтобы ее потрогать, я обнаружил, что она была покрыта отполированными драгоценными камнями. Токсо показал на купол. Мы знали о нем и на него рассчитывали. Он был сделан из кусочков стекла - цветные стекла в рамках из мягкого металла. Нужно было бесшумно выставить стекло такого размера, чтобы в образовавшееся отверстие мы могли проникнуть внутрь. Мы разогнули края рамки и вытащили стекло. Внизу второй раз прошел стражник. Оба раза он нас не видел. Все его внимание было направлено на улицу. Наконец отверстие было достаточно большим, чтобы мы могли протиснуться внутрь. Сначала полез Токсо. Он на мгновение повис, держась руками за края, потом спрыгнул вниз. Я услышал тихий звук: он был внизу. Потом полез я. Мы оказались на узкой галерее, которая шла вдоль стен комнаты, - вероятно, это был какой-нибудь зал для пиршеств, в темноте было плохо видно, но это точно был не тронный зал, где впервые в Мишим Тепе я увидел Хоргул. Токсо побежал вдоль галереи, я за ним, и только тут я понял, что был на волосок от смерти: стоило мне промахнуться и не попасть на галерею, и я бы разбился! Мы добрались до двери, запертой с нашей стороны. Мы отперли ее и оказались в небольшой комнате, из которой шли каменные ступени. Мы бросились вниз и вдруг увидели, что вверху горит какой-то свет - неяркий, тусклый свет почти вечных светильников шивов. Такие светильники были у многих марсианских народов. Мы спустились вниз и заглянули в большую комнату, которая встретилась нам на пути. Эта просто обставленная комната была комнатой слуг. На кровати крепко спал какой-то толстяк. Позади него была дверь. С замирающим сердцем мы проскользнули мимо спящего слуги к двери и медленно ее открыли. Нам удалось это сделать, не разбудив его. Мы прошли через дверь и оказались в комнате, которая была больше первых двух и лучше обставлена. Она была похожа на гостиную в покоях какого-нибудь придворного, жившего во дворце. Наверное, человек, мимо которого мы только что прошли, был его слугой. Едва мы вошли в комнату, в другом ее конце отрылась дверь, и мы оказались лицом к лицу с дворянином, которого я уже встречал раньше - в тронном зале. Он с проклятием развернулся, наверное, чтобы позвать на помощь. Но я был уже рядом: я захлопнул дверь, отрезав ему путь к отступлению. - Кто вы? Джелусы, да? Что вы здесь делаете? Он, конечно, не ожидал увидеть нас, но он не испугался. На Марсе вообще было мало трусов. Он попытался вытащить меч, но я взял его за руку и кивнул головой на Токсо. Пока придворный все еще крутил головой, пытаясь понять, что происходит, - он был храбрым, но не очень сообразительным, - Токсо отцепил от его пояса меч и, подняв его, ударил мужчину рукояткой по голове. Он безвольно повалился на пол, и мы связали его и вставили в рот кляп. К удивлению Токсо, я настоял на том, чтобы не было кровопролития. Народ Мишим Тепа был введен в заблуждение. На людей влияла умная, коварная женщина, но они не заслужили того, чтобы умереть только потому, что верили ее лжи. Открыв дверь, через которую вошел придворный, мы оказались на лестничной площадке. Перед нами было еще несколько дверей. Отсюда мы с Токсо решили идти разными путями. Если верить плану дворца, который был у Токсо, - а он получил его от одного неверного слуги, - на этом этаже были покои Хоргул. Однако Хоргул Токсо не интересовала. Его манили к себе богатства, скрытые внизу, в сокровищнице. Мы молча расстались: Токсо пошел вниз, а я стал пробираться дальше в поисках нужной мне двери. Я осторожно повернул ручку, и дверь открылась. В комнате было темно. Неужели я ошибся? Часто, даже если никого не видно, я могу почувствовать, есть в комнате кто-нибудь или нет. В этой комнате никого не было. Я прошел через комнату к другой двери и обнаружил, что соседняя комната тоже пуста, как и все другие комнаты в покоях. Я решил рискнуть и включить свет. Я был прав. Оглядевшись, я убедился, что это покои Хоргул, и все же посреди ночи ее здесь не было. Я был уверен, что она где-то в Драгоценном Городе. Да, она была достаточно смелой, чтобы отправиться вместе с армией в Карналию, нужно отдать ей должное, но, как мне казалось, это противоречило бы ее плану, каким я его себе представлял. Она, думал я, предпочитает остаться в стороне и наблюдать, как два старых друга и союзника сражаются насмерть. Но тогда где же она? Уверен, что где-то в стороне. Придется ее разыскивать. Я вышел из покоев обратно на лестницу. Очевидно, во дворце было очень мало народа. Кроме нескольких стражников и слуг, все его обитатели ушли с армией. Тот придворный, которого мы встретили, был оставлен наблюдать за порядком. Я решил заглянуть в тронный зал. Как мне подсказывал инстинкт, Хоргул вполне могла быть там. Я устало спустился по лестнице на несколько пролетов, пока не оказался на первом этаже, в приемной, которую сразу же узнал. Я поспешно нырнул в тень, когда увидел у дверей тронного зала стражника на посту. Над его головой светила одна-единственная тусклая синяя лампа. Казалось, он спал. Мне нужно было как-то отвлечь его внимание, иначе в тронный зал не попадешь. На моем поясе висел маленький нож, которым я уже пользовался раньше. Я вытащил его и бросил. Он упал у лестницы, расположенной в другом конце приемной. От звука стражник проснулся и стал смотреть в сторону лестницы, потом медленно пошел туда. Этот шанс нельзя было упускать. Я быстро пересек приемную и оказался у дверей тронного зала. Мои ноги ступали по гладкому полу почти беззвучно. Я чуть приоткрыл дверь, которая, как я уже заметил раньше, открывалась вовнутрь, проскользнул в зал и быстро захлопнул ее за собой. Итак, я был у цели. И здесь, на троне Мишим Тепа, сидела эта коварная женщина, эта необузданная темноволосая женщина, такая прекрасная, но такая испорченная. Как сказала Шизала, она казалась временами неискушенной, а временами - нечеловечески мудрой. Настоящее исчадие ада. Она меня не видела. Она сидела на троне, глядя прямо перед собой и бормоча что-то едва слышно. У меня было мало времени: я боялся, что она позовет стражу. Если бы она позвала, кто знает, какая толпа слуг кинулась бы на ее зов. Я побежал к трону. И тут она увидела меня. Не может быть, чтобы она меня узнала - на мне все еще была серебряная маска, - но конечно, она вздрогнула от неожиданности. Все же любопытство - ее характерная черта - победило, и она не стала звать на помощь. - Ты кто? - спросила она. - На тебе эта странная маска. Я не ответил, но пошел ей навстречу размеренным неторопливым шагом. Ее большие невинно-мудрые глаза расширились. - Что прячется за твоей маской? - сказала она. - Ты так безобразен? Я продолжал приближаться, пока не оказался у самого помоста, на котором стоял трон. - Сними маску или я позову стражников и они снимут ее с тебя. Как ты сюда попал? Я медленно поднял руку к маске. - Ты в самом деле хочешь, чтобы я ее снял? - спросил я. - Да. Кто ты такой? Я скинул маску. Она ахнула. По ее лицу быстрой чередой промелькнули самые разнообразные чувства, но как ни странно, я не заметил среди них и следа той ненависти, которая, казалось, переполняла ее раньше. - Само Возмездие, наверное, - сказал я. - Майкл Кейн?! Ты здесь один? - Более или менее, - ответил я. - Я пришел, чтобы похитить тебя. - Почему? - А как ты думаешь? Казалось, она и в самом деле не знала. Она склонила голову набок, заглянула мне в глаза, пытаясь прочитать в них что-то, а что именно - я и не знал. Когда я смотрел на нее, мне было трудно поверить, что эта женщина, такая молодая, почти девчонка, сидящая на троне, была способна на ненависть и вовлекла в войну две некогда дружественные нации. На ее совести уже было то, что она использовала аргзунов, чтобы ослабить южные народы, и тем самым уничтожила всю аргзунскую нацию. Сейчас на поле битвы лицом к лицу стояли воины Карналии и Мишим Тепа, а она сидела здесь с невинными глазами и загадочно смотрела мне в лицо. - Похитить меня… - Казалось, ей эта идея даже понравилась. - Интересно… - Пошли, - сказал я резко. Ее глаза расширились, и я отвел взгляд. Я же знал, как могущественен ее дар гипнотизма. - Но все же я хотела бы знать, почему ты хочешь меня похитить, Майкл Кейн, - сказала она. Я не знал, что ответить. Я ожидал какой угодно реакции, только не такого спокойствия, почти безразличия. - Я хочу заставить тебя признаться, что ты солгала брадхи о его сыне, о Шизале, обо мне, и таким образом остановить войну, пока еще не поздно. - А что ты сделаешь для меня, если я скажу правду? - почти промурлыкала она, закрыв глаза. - Что ты имеешь в виду? Ты что, хочешь заключить со мной сделку? - Возможно. - И какую сделку? - Ну ты же знаешь, Майкл Кейн! Ведь можно даже сказать, что я устроила все это из-за тебя и для тебя. Я не понял. - Что ты предлагаешь? - спросил я. Возможно, сделка с Хоргул была бы самым удачным выходом для нас всех. - Если я скажу брадхи, что я солгала, я должна взамен получить тебя! - сказала она, обвивая мою шею руками. Я не мог ей отвечать. - Я скоро отсюда уйду, - сказала она. - Все, что нужно, я уже сделала. Пойдем со мной, и ты не будешь ни в чем нуждаться. Стараясь выиграть время, я сказал: - А куда мы пойдем? - На запад. На западе есть таинственная мрачная страна, где всегда темно, страна, где можно найти ответы на многие загадки, и это принесет нам безграничную власть - тебе и мне. Мы сможем управлять миром. - В своих амбициях ты идешь гораздо дальше меня, - сказал я. - И кроме того, я уже был на Западном континенте и по своей воле туда не вернусь. - Ты там уже был? Ее глаза вспыхнули. Она сошла с помоста, чтобы заглянуть мне в лицо. Я все еще не знал, как мне себя вести. Я ожидал криков ненависти, а вместо них - такое странное настроение. Я не мог уследить за движениями ее души и за ее мыслями. Наверное, мне это было не дано. - Итак, ты был на западе. И что же ты там видел? - То, что я не хотел бы увидеть снова, - сказал я. Теперь я невольно смотрел ей прямо в глаза. Они приковывали к себе внимание. Я почувствовал, как сильно и тяжело бьется в груди сердце. Она прижалась ко мне всем телом; я не двигался. На губах ее играла манящая, загадочная улыбка. Она начала гладить мои руки. Я почувствовал, что у меня кружится голова. Я словно был в каком-то нереальном мире. Ее голос доносился до меня будто издалека. - Клянусь, - говорила она, - я выполню свое обещание, если тывыполнишь свое. Будь моим, Майкл Кейн. Твое происхождение так же загадочно, как происхождение богов. Может быть, ты и есть бог - молодой прекрасный бог, и ты дашь мне власть, а не я тебе. С каждой секундой я все глубже и глубже погружался в эти глаза. Все остальное перестало существовать. Моя плоть растворилась в чем-то, я не мог стоять. Она подняла руки и провела ими по моим волосам. Я отшатнулся назад, и это движение помогло мне освободиться от ее чар. С проклятиями я оттолкнул ее и крикнул: - Нет! Ее лицо изменилось. Вот теперь на нем появилась ненависть. - Ну что ж, хорошо. Пусть будет так, - сказала она. - Прежде чем навсегда уйти отсюда, я доставлю себе маленькое удовольствие - собственноручно убью тебя. Стража! Появился всего один стражник! Я вытащил меч, проклиная себя за то, что был таким идиотом. Я позволил Хоргул одурачить меня, как она одурачила брадхи! Ее способность подчинять себе волю других людей развилась еще больше с тех пор, как я видел ее в последний раз. Если она станет еще могущественнее, бог знает, что может случиться. Ее нужно было остановить - чего бы это ни стоило. Стражник выхватил меч и бросился на меня. Я легко отразил его удар. Я не хвастаю, когда говорю, что великолепно владею мечом. Стычка с дворцовым стражником не стоила мне никакого труда, я бы легко прикончил его, но я все еще не хотел проливать кровь. Я пытался выбить у него из рук меч, но он держал свое оружие очень крепко. Пока я терял время, пытаясь обезоружить его, в тронный зал ворвались еще несколько стражников. Хоргул была у меня за спиной, пока я сражался с шестью воинами. Я все еще только защищался, я не хотел убивать. Это было моей ошибкой, поскольку пока все мое внимание было поглощено стражниками, Хоргул подошла сзади и ударила меня по голове каким-то тяжелым предметом - мне так и не суждено было узнать, чем именно. Я упал. Последнее, о чем я успел подумать, - какой же я был идиот! Теперь все пропало!XVII. Зеркало
Я очнулся в сырой промозглой комнате, очевидно, где-то под землей. Вряд ли она была задумана как тюремная камера. Брадхи южного Марса не похожи на старых средневековых земных баронов - скорее всего ее использовали как кладовую. Дверь, однако, была крепкой, и как я ни старался, мне не удалось сдвинуть ее ни на дюйм. Снаружи она была заперта на засов. Оружия у меня не было. Я раздумывал над тем, какую судьбу приготовила для меня Хоргул. Отвергнув ее любовь, я только усилил ненависть ко мне. Я поежился. Зная, какой оборот могли принять ее мысли, я приготовился к худшему: она наверняка собиралась подвергнуть меня жестоким пыткам! Сквозь дверную щелку я видел засов. Если бы у меня был нож, я мог бы его приподнять, я был в этом уверен, но ножа у меня не было. Я стал ощупью исследовать свою камеру. На полу валялась всякая грязь - в основном остатки овощей, которые здесь некогда хранились. Рука коснулась деревянной щепки. Сначала я даже не сообразил, что эта щепка могла мне очень помочь. Потом я поднял ее и снова подошел к двери. Но щепка была слишком толстой и через щель не проходила. К счастью, она была из мягкого дерева, и мне пришло в голову попытаться расщепить ее ногтями. Вскоре мне это удалось. Я вернулся к двери. Некоторое усилие, и щепка прошла в щель. Благодаря небо за то, что единственными пленниками до меня здесь были овощи, я начал дюйм за дюймом приподнимать засов; я очень боялся, что щепка окажется слишком тонкой и сломается. Через некоторое время я, наконец, добился своего. С грохотом засов упал на пол, и я распахнул дверь. В коридоре было темно. В противоположном его конце была еще одна дверь, и когда я подошел к ней, не подозревая об опасности, я увидел прямо перед собой стражника, которого, должно быть, разбудил шум падающего засова. Он вскочил, но я бросился на него, и мы начали бороться. Мне удалось задушить его. Тогда я поднялся, взял его меч и кинжал и продолжил путь. Я прошел по лабиринту коридоров, пока не оказался у двух дверей, сделанных, как мне показалось, из чистой бронзы или какого-то похожего металла. Возможно, за ними находилась лестница, ведущая наверх, во дворец, подумал я с надеждой. Я распахнул двери, и моим глазам открылось нечто невероятное. Это была сокровищница Мишим Тепа, огромная комната, похожая на пещеру, с низким сводом. Она была буквально забита предметами самой искусной работы; их сделал не ремесленник, а художник. Здесь были украшенные драгоценными камнями мечи и кубки, огромные столы и стулья, картины, выполненные из драгоценных камней, словно светившиеся изнутри. Все было свалено в кучи и за долгие годы покрылось слоем пыли. Брадхи Мишим Тепа, казалось, совсем забыли о своих сокровищах, валявшихся в беспорядке в этой темной комнате. Я не мог надивиться на это чудо. И тут я увидел Хоргул, стоявшую спиной ко мне. Она была чем-то поглощена. Она не услышала даже, как я вошел и направился к ней, оставляя позади множество диковинных предметов. Я вытащил кинжал и приготовился ударить ее по голове. Но тут я поскользнулся на мозаике из драгоценных камней, попытался ухватиться за какую-то этажерку, но она упала, и я упал вместе с ней. Краешком глаза я видел, что Хоргул развернулась ко мне и схватила один из мечей. Я попытался подняться, но снова поскользнулся. Она подняла меч и уже собиралась вонзить его в мое сердце, но… замерла. Ее рот открылся. Она не была парализована, как были парализованы мы с Гулом Хаджи под действием яда человекообразных пауков, но рука у нее разжалась, и она выронила меч. Я повернулся было, чтобы посмотреть, что же такое она увидела, но вдруг услышал крик: - Не двигайся! Я узнал голос. То был голос Токсо. Я подчинился его приказу, Через некоторое время голос раздался снова: - Встань, Майкл Кейн, но не смотри назад! Я сделал так, как он говорил. Хоргул все еще стояла, словно прикованная к полу. - Отойди в сторону. Я повиновался. Вскоре я увидел знакомую маску и блестевшие за ней глаза. - Я нашел сокровищницу. - Токсо похлопал по огромному мешку, который был перекинут через его плечо. - А эта женщина потревожила меня. Наверное, она забралась сюда с той же целью, что и я. - Так вот что она задумала, - сказал я. - Она уверяла меня, что, если я уйду с ней, мы ни в чем не будем нуждаться. Она не только вовлекла Мишим Теп и Карналию в гибельную войну, она еще хотела исчезнуть с сокровищами. Но что ты сделал с ней? - Я? Ничего. Я просто попытался прийти тебе на помощь, но оступился и схватился за первое, что попало мне под руку. Это была какая-то материя, наверное, очень старая, так как она расползлась у меня в руках. Под ней оказалось какое-то зеркало. Я как раз собирался взглянуть на него, когда увидел, какое действие оказало это зеркало на женщину. Я подумал, что разумнее будет не смотреть на него, поэтому я и закричал тебе, чтобы ты не поворачивался. - Зеркало! - воскликнул я. - Я слышал о нем. Это изобретение шивов. Оно отражает свет так, что те, кто смотрится в него, попадают под действие гипноза. Более того, зеркало подавляет их волю, и на любой вопрос, который им задают, они отвечают только правду. Токсо не преминул задать свой любимый риторический вопрос: - Да, но что такое правда? Ты думаешь, зеркало действительно способно сделать это? - Давай попробуем, - сказал я. - Хоргул, ты лгала брадхи Мишим Тепа о Майкле Кейне, Шизале и обо всем остальном? Раздавшийся голос был тихим, но слово прозвучало очень отчетливо: - Да. Я ликовал. В голове уже сложился план. Стоя спиной к зеркалу и лицом к Хоргул, Токсо и я связали женщину, заткнули ей рот и на всякий случай завязали ей глаза, чтобы она не смогла нас загипнотизировать. В тот момент, когда ее глаза были закрыты повязкой, она стала вырываться из наших рук, но она была слишком хорошо связана и не могла освободиться. После этого я завернул ее в свой плащ. - Твой плащ нам тоже понадобится, Токсо, - сказал я. Соблюдая всяческие предосторожности, мы сделали крюк, чтобы подойти к зеркалу сзади. Как и обо всех сокровищах Мишим Тепа, о нем тоже забыли. Сколько веков пролежало под слоем пыли это непостижимое изобретение? Очень много, если судить по расползшейся в руках Токсо ткани покрывала. Мы завернули зеркало в плащ Токсо. Оно было около фута в диаметре и украшено всего несколькими драгоценными камнями. По форме круглое, с рукояткой, как у щита. Возможно, шивы и вправду использовали его как оружие, что маловероятно. Если его и использовали в войне, то лишь как способ получить информацию от пленников. Нам удалось выбраться из комнаты и вынести трофеи - зеркало и мешок Токсо, кроме того, мы тащили еще и Хоргул. Мы достигли крыши незамеченными. Стражник все еще находился на своем посту - а может, это был другой стражник, очень похожий на того, который стоял здесь раньше. Мы оглушили его ударом по голове. Стражник остался неподвижно лежать, а мы спустили на веревке наши тюки. Оказавшись на земле, мы поспешили в таверну, по дороге то и дело отдыхая. Пока что нам везло, и я молился, чтобы и сейчас нас не схватили. Все зависело от того, как мы сможем добраться до воздушного шара. Я рассказал о нем Токсо, и тот очень заинтересовался. - Нам понадобятся дахары, чтобы добраться до твоего корабля, - сказал он, когда мы подошли к "Дому синего кинжала", где, к счастью, все спали. Мы отнесли наши трофеи в комнату, и Токсо ушел. Его не было с полчаса, и когда он вернулся, глаза его сияли от удовольствия. Где-то он стянул повозку, в которую было впряжено шесть дахар. Я сел сзади, рядом Токсо положил свой мешок и связанную Хоргул. Он накрыл меня и все свертки одеялом, накинул на голову капюшон, и мы тронулись в путь. Помню только, как меня бросало из стороны в сторону на ухабах, когда мы мчались с невероятной скоростью. Я помню сердитые крики - это был стражник у ворот, как рассказал мне потом Токсо. Потом мы мчались по какому-то полю. Когда я высунул голову из-под одеяла, было уже утро. Каким-то образом, несмотря на ужасную тряску, мне удалось уснуть. Меня тормошил Токсо. - Теперь ты должен указывать путь, - сказал он. Я с удовольствием сел рядом с ним. Вскоре мы добрались до места, где был привязан мой воздушный корабль. Я убрал маскировку, и вот он - в целости и сохранности. Мы загрузили все наши трофеи в кабину, и Токсо попросил высадить его у границы Алой равнины, около Нарлета, Города Воров, где среди своих товарищей Токсо чувствовал себя как дома. Я хорошо знал этот город и согласился, поскольку это было по пути. Я надеялся добраться до поля сражения прежде, чем там начнутся боевые действия. Вскоре мы были в воздухе и держали путь в Варнал. Остановились мы лишь однажды - около Нарлета, где Токсо выгрузил свой огромный мешок. Прощаясь, я поблагодарил его и снова поднялся в воздух. Хоргул постанывала. Мне было этого достаточно, чтобы убедиться, что она жива. Успею ли я?XVIII. Наконец-то правда!
Вот они! Еще чуть-чуть, и я бы опоздал! Две армии - огромная армия Мишим Тепа и маленькая армия Карналии - стояли друг напротив друга на Алой равнине. Это было довольно необычное место для сражения. Несомненно, армия Мишим Тепа вообще не ожидала встретить карналов по дороге к Варналу, а карналы просто шли вперед, пока не увидели противника. Я видел, что воины уже приготовились к атаке. Я даже разглядел Карнака, сидящего на огромной дахаре, и Дарнада рядом с ним, во главе своей армии. Там же, во главе своей армии, был и брадхи Мишим Тепа с суровым лицом. Насколько можно было видеть, глаза его были более осмысленными, чем раньше, вероятно, власть Хоргул не могла длиться бесконечно. Когда мой воздушный корабль стал опускаться, все взгляды устремились на него. Его узнали. Некоторые из воинов Мишим Тепа метнули в него пики, но брадхи поднял руку, останавливая своих людей. Казалось, он был заинтригован. Я вытащил свой самодельный мегафон и закричал брадхи: - Брадхи, я привез доказательства того, что Хоргул лгала! Остановись! Ты собираешься начать бессмысленную войну только потому, что тебе лгала одна коварная, бесчестная женщина! Он провел рукой по лицу, нахмурился и покачал головой, как будто отгоняя от себя неприятные мысли. - Ты позволишь мне приземлиться и предъявить тебе эти доказательства? - спросил я. Немного помолчав, он кивнул. Я спустился вниз, и когда кабина коснулась верхушек алого папоротника, я бесцеремонно скинул на землю сверток, которым была Хоргул и, сжимая в руках завернутое в плащ зеркало, спрыгнул рядом. Я привязал корабль и потащил вперед связанную Хоргул и зеркало, пока не оказался перед воинами Мишим Тепа. Сначала я снял плащ, в который была закутана Хоргул, и услышал ропот, пробежавший в толпе воинов. Брадхи кашлянул, как будто собирался что-то сказать, но потом передумал. Сжав губы, он снова мне кивнул. Я вытащил кляп изо рта пленницы и заставил ее стоять прямо. - Брадхи, ты поверишь тому, что скажет сейчас сама Хоргул? - спросил я. Он снова откашлялся. - Ну да, - сказал он. Его глаза были уже совсем не такими бессмысленными и тусклыми, как раньше. Я показал им на завернутое зеркало. - Это - легендарное Зеркало Правды, которое придумали шивы несколько тысяч лет назад. Вы все слышали о его магических свойствах. Я покажу вам одно из них. Стоя спиной к людям Мишим Тепа, я поднял зеркало-щит и развернул покрывавший его плащ. Потом я протянул руку и убрал повязку с глаз Хоргул. Сразу же зеркало приковало ее взгляд; она не могла сдвинуться с места. - Видите? - сказал я. - Действует! Люди стали подходить ближе, чтобы убедиться, что я говорю правду. - Не смотрите в зеркало, - предупредил я, - или оно вас тоже загипнотизирует. Вы готовы узнать, говорила ли Хоргул правду или лгала вашему брадхи? Вы готовы убедиться, что это она втянула вас в эту бессмысленную войну против ваших старых союзников? - Готовы, - неожиданно твердо и уверенно прозвучал голос брадхи. - Хоргул, - сказал я медленно и четко, - ты лгала брадхи? Тихий бесстрастный голос ответил: - Да! - Как ты его убедила? - Своим даром - даром, который у меня в глазах и в сознании. В толпе раздались восклицания. Снова я услышал, как откашлялся брадхи. - В чем именно ты солгала ему? - Я сказала, что Майкл Кейн и Шизала договорились убить и обесчестить его сына. - А кто на самом деле в этом виноват? - Я! Крики становились все сильнее и сильнее. Воины начали двигаться вперед. Я был уверен, что многие из них были готовы разорвать ее на куски за то, что она чуть не заставила их воевать с верными друзьями. Брадхи остановил их. Он обратился ко мне и к своим воинам. - Итак, вот доказательства того, что я стал жертвой злых чар этой женщины. Сначала я поверил, что сын был предателем. Но потом появилась она и уверила, что он никого не предавал, и мне захотелось ей поверить. Это была ложь, первая ложь, которой я поверил. Потом было много других лживых историй, которым я тоже верил. Майкл Кейн был прав. Она - исчадие ада, она чуть не разрушила наш древний Юг. Карнак и Дарнад выступили вперед. Карнак и Болог Фас Огдай положили руки друг другу на плечи и поклялись в дружбе. В глазах у них были слезы. Хоргул снова связали, вставили ей в рот кляп и положили ее на тележку, чтобы отвезти ее в Драгоценный Город и судить там за преступления. Болог Фас Огдай и несколько его придворных вернулись с нами в Варнал, где нас ждала Шизала. Что еще сказать? Брадхи Мишим Тепа был почетным гостем на нашей с Шизалой свадьбе. Мы провели в Мих-Са-Вохе незабываемый медовый месяц в гостях у брадхи, потом вернулись в Варнал, где я стал руководить строительством новых самолетов. Чтобы пополнить запас гелия, мы организовали экспедицию в Мендишарию и лежащую за ней пустыню. В Мендишарии наступили счастливые времена, народом правил Гул Хаджи. Как тепло он нас принимал! Он уже думал, что я погиб и он никогда не увидит меня! Прилетев в город якшей, мы обнаружили, что фонтан засыпан песком и последние из бледных призрачных существ лежали около него мертвыми. У них не хватило ума добыть себе воды! Во время третьей экспедиции в Мендишарскую пустыню - на этот раз на целой эскадрилье самолетов - я решил провести сложный эксперимент, используя машины, найденные мною в забытом городе якшей. Помнишь, я тебе говорил, что транслятор вещества создан на основе достижений в области лазеров. Исследуя лазер якшей, я смог построить транслятор вещества, который послал меня на Землю почти в то же мгновение, из которого я отправился в свое второе путешествие на Марс. Так я снова оказался на Земле, чтобы рассказать тебе эту историю.Эпилог
- Так вот, значит, в чем дело! - воскликнул я, глядя на Майкла Кейна во все глаза. - Ты теперь сможешь путешествовать с Марса своего времени на Землю моего, когда захочешь! - Да, - ответил он с улыбкой. - И мало того, я усложнил наш аппарат, его теперь не нужно никуда переносить, ты можешь держать его в винном погребе. - В таком случае мне придется подыскать другое место для вина, - сказал я. - А что ты теперь намереваешься делать на Марсе? - Ну, теперь я брадхинак, - он снова улыбнулся. - Я принц Карналии, принц Марса. Это большая ответственность. Карналия еще слаба. Поскольку для того, чтобы восстановить армию, требуется время, я теперь прилагаю все силы, чтобы создать надежный воздушный флот. - А как же приключения, их больше не будет? Кейн снова улыбнулся. - О нет, в этом я не уверен. Я думаю, что будет еще много приключений. И я обещаю, что если выживу, я приду к тебе, чтобы рассказать о них. - А я опубликую твои рассказы, - сказал я. - Люди будут считать их фантазиями, ну и пусть. Ведь мы-то с тобой знаем, что это правда. - Возможно, и другие когда-нибудь это поймут, - сказал Майкл Кейн. Вскоре он ушел, но я долго не мог забыть его последних слов: - Будет еще много приключений! Я с нетерпением ждал рассказа о них.Майкл МУРКОК ХОЗЯЕВА ЯМЫ
ПРОЛОГ
Сидя однажды осенним вечером в кабинете перед небольшим огнем, горевшим в камине и отнимавшим холодок у комнаты, наполненной запахом надвигающейся зимы, я услышал внизу, в холле, шаги. Я – человек не нервный, но воображение у меня может разыграться, и когда я покинул кожаное кресло и открыл дверь, то думал о привидениях и взломщиках. В холле было тихо, и свет не горел, но я увидел поднимающуюся ко мне по лестнице темную фигуру. Было что-то в размерах этого человека, что-то в издаваемом им при ходьбе звоне такое, что я сразу узнал. Когда он приблизился, по моему лицу начала расползаться улыбка, и я протянул ему руку. – Майкл Кэйн? – это едва ли было вопросом. – Он самый, – ответил глухой, вибрирующий голос моего гостя. Он поднялся до верха лестницы, и я почувствовал свою руку сомкнутой в его твердом, мужественном рукопожатии. И увидел ответную улыбку великана. – Как там Марс? – спросил я, проводя его в кабинет. – Немного изменился с тех пор, как мы разговаривали в последний раз, – сообщил он. – Вы должны рассказать мне, – с нетерпением сказал я. – Что будете пить? – Спасибо, ничего спиртного. Я уже отвык от него. – Как насчет кофе? – Это единственное, чего мне недоставало на Марсе. – Подожди здесь, – сказал я ему. – Я сегодня дома один. Сейчас схожу и приготовлю. Я покинул его, упавшего в кресло перед камином и совершенно расслабившего свое великолепное бронзовое тело. Он выглядел странным и неуместным в своей марсианской экипировке из перекрещенных ремней, унизанной незнакомыми драгоценными камнями, при огромном мече с изукрашенной чашкой гарды и рукоятью, острие которого покоилось на полу. Его алмазно-голубые глаза казались намного более огромными и намного менее напряженными, чем когда я видел его в последний раз. Его манера заставила и меня тоже расслабиться, несмотря на волнение от новой встречи с другом. На кухне я приготовил кофе, вспоминая все, что он рассказывал мне о своих прошлых приключениях – о Шизале, принцессе Варналя, и о Хул Хаджи, ныне правителе Мендишара – жене и ближайшем друге Майкла Кэйна. Я вспомнил, как его первое путешествие на Марс – древний Марс, нашего далекого прошлого – произошло случайно из-за неверной работы передатчика материи, результата лазерных исследований, проводившихся им в Чикаго; как он встретил Шизалу и сражался за нее против страшных синих гигантов и их предводительницы Хоргулы, женщиной его собственной расы, имевшей тайную власть над людьми. Я вспомнил, как он искал моей помощи, и как я оказал ее – построив передатчик материи у себя в подвале. Он вернулся на Марс и встретился со многими опасностями, открыв затерянный подземный город Якша, помогал победить революции и сражался со странными паукообразными созданиями прежде, чем он снова нашел Шизалу и женился на ней. Воспользовавшись забытыми научными приборами якша – расы, ныне предположительно вымершей – он построил машину, способную снова швырнуть его через Время и Пространство, к передатчику у меня в подвале. Очевидно он, как и обещал мне в прошлый раз прежде, чем отбыть, вернулся рассказать мне о своих последних приключениях. Я возвратился с кофе и поставил его перед ним. Он налил себе чашку, попробовал его сперва чуть подозрительно, а затем добавил молока и сахара. Он сделал первый глоток и усмехнулся. – Единственное, к чему я не потерял вкуса, – заметил он. – А единственное, к чему не потерял вкуса я, – ответил я с нетерпением, – это желание услышать вашу последнюю историю с начала и до конца. – Вы уже опубликовали первые два приключения? – спросил он. В то время этого не произошло, так что я покачал головой. – Кто-то да поверит мне в достаточной степени, чтобы опубликовать их, – сказал я ему. – люди считают, что я написал их по какой-то причине цинично – но мы-то знаем, что это не так, что вы – вполне реальны, что ваши подвиги действительно имели место. Это поймут в один прекрасный день, когда правительства будут готовы обнародовать информацию, подтверждающую то, что вы мне рассказали. Тогда все поймут, что я не лжец и не чокнутый или, что еще хуже – коммерческий писатель, пытающийся написать научно-фантастический роман. – Надеюсь, что так, – серьезно отозвался он. – Потому что было бы очень жаль, если люди оказались бы не в состоянии прочесть историю о пережитом мною на Марсе. Когда он прикончил первую чашку кофе и протянул руку налить себе еще, я настроил магнитофон так, чтобы он записывал каждое его слово, а потом снова расположился в своем кресле. – Ваша чудесная память работает как обычно, в полную силу? – спросил я. – Думаю, что да, – улыбнулся он. – И вы собираетесь рассказать мне о своих недавних приключениях на Марсе. – Если вы желаете о них услышать. – Желаю. Как поживает Шизала, ваша жена? Как там Хул Хаджи, ваш друг, синий гигант? И Хоргула? Есть какие-нибудь новости о ней? – О Хоргуле – никаких, – ответил он. – И благодарю судьбу за это! – Тогда что же? Наверняка ведь на Марсе, время было не настолько бедно событиями? – Разумеется, оно щедро на них. Я только-только пришел в себя от того, что случилось. Рассказ обо всем этом, поможет мне посмотреть на происшедшее объективно. Но с чего же мне начать? – В последний раз я слышал от вас, что вы с Шизалой жили счастливо в Варнале, что вы проектировали воздушные корабли для увеличения воздушной армии Варналя, и что вы совершили несколько экспедиций в подземный город якша для изучения их машин. – Совершенно верно, – задумчиво кивнул он. – Ну, я могу начать с нашей шестой экспедиции в город якша. Вот тогда-то все и началось. Вы готовы? – Готов, – ответил я. И Кэйн начал свой рассказ. Э.П.Б. Честер-сквер, Лондон, С.В.I.Август 1969 г.1. ВОЗДУШНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Я поцеловал на прощанье Шизалу, не представляя себе, что не увижу ее вновь много марсианских месяцев, и подцепил лесенку, ведущую в гондолу моего воздушного корабля, построенного по чертежам, выполненным мною. Шизала выглядела красивее, чем когда-либо, являясь несомненно, самым прекрасным человеческим существом на Марсе. Вокруг нас поднимались в свете раннего утреннего солнца стройные башни Варналя, города, где я был теперь брадинаком, или принцем. Стоял запах душистого тумана – зеленого тумана, поднимавшегося с озера в центре Варналя тонкими зелеными струйками, смешивающимися с разноцветными вымпелами, развевавшимися на венчающих башни мачтах. Большинство зданий – высокие и белые, хотя и много из прекрасного голубого мрамора, а другие были с прожилками золота. Это изящный, красивый город – наверное, прекраснейший на Марсе. Именно здесь жили мы с момента нашего бракосочетания и были очень счастливы. Но я – беспокойная душа, и мой ум жаждал новой информации о забытых машинах якша в подземельях Марса, все еще нуждавшихся в исследованиях. Поэтому, когда из лежащего далеко на севере Мендишара прилетел навестить меня Хул Хаджи, прошло немало времени, пока я предложил экспедицию в подземелья якша, и частично ради того, чтобы вспомнить старые приключения. Он с энтузиазмом согласился, и вопрос был решен. Мы предполагали затратить на это время, эквивалентное земной неделе, и Шизала, любящая меня глубокой и преданной любовью, на которую я отвечал полной взаимностью, не возражала против этой вылазки. Теперь Хул Хаджи, Синий Гигант, ставший моим самым верным другом на Марсе, поджидал наверху, в каюте воздушного корабля, мягко покачивавшегося на ветру. Я еще раз поцеловал Шизалу, не говоря ни слова. В словах не было нужды – мы общались глазами, и этого хватало. Я начал подниматься по лесенке на корабль. Интерьер его был уютно меблирован кушетками из материала, довольно похожего на красный плюш, и изделиями из металла, схожего с бронзой и так же отполированного. В таком убранстве было что-то смутно ностальгическое и викторианское, и я был не против этого. Например, веревки, охватывающие сетью газовый мешок, были из толстых красных шнуров, а металлическая гондола выкрашена в ярко-зеленые и красные цвета, с завитками, оттененными золотом. Управление кораблем происходило спереди, и тут опять имел место похожий на бронзу металл, покрытый черной эмалью. Я включил двигатель, взобравшись на кресло рядом с Хул Хаджи, чье массивное тело с синей кожей заставляло меня чувствовать себя карликом рядом с ним. Мой друг с интересом наблюдал, как я потянул за рычаг, освобождая тросы, державшие корабль у земли. После отбытия, я направил корабль на север от Варналя – не без сожаления, так как знал, что буду скучать по Шизале и по Городу Зеленых Туманов. Не знал я тогда, что мне придется расстаться с ними на очень короткое для них, и очень длинное для меня время; что обстоятельства сложатся так, что я встречусь лицом к лицу со смертью, вынесу огромные лишения и испытаю страшные опасности прежде, чем увижу их снова. Однако, в таком, слегка меланхоличном настроении я установил курс на север, чувствуя нарастающее возбуждение от перспективы вновь продолжить изучение машин якша. Путешествие предстояло долгое даже на моем, сравнительно скоростном корабле. Однако, путешествие в расположенный в пустыне город якша оказалось прерванным, ибо на второй день пути двигатели начали работать с перебоями. Меня это удивило, так как я доверял своим механикам. Я повернулся к Хул Хаджи. Мой друг смотрел на расстилавшуюся внизу местность. Она представляла собой ландшафт приблизительно желтого цвета: поверхность почвы была покрыта зарослями огромных цветов, похожих на гигантские ирисы, покачивающиеся под нами словно в грациозном, хотя и монотонном танце. Время от времени однообразие моря желтых цветов нарушалось цветными всплесками голубого или зеленого; цветами, напоминавшими по внешнему облику бледные ноготки. Даже на таком расстоянии они испускали томные запахи, восторгавшие мое обоняние. Эта красота, казалось, привела Хул Хаджи в состояние транса, и он даже не заметил перемены звука в работе двигателей. – Похоже, что нам, возможно, придется приземлиться, – уведомил я его. Он взглянул на меня. – Почему, Майкл Кэйн? Разве тебе это нравится? – Что ты имеешь в виду? – спросил я. Он показал вниз. – Цветы. – Мы можем найти поляну. – Я хотел сказать не это. Разве ты не слышал о Цветах Меднафа? Они привлекательны издали, но крайне опасны, когда к ним приблизишься. Отсюда их запах приятен, но когда к ним подойдешь поближе, он вызывает сперва летаргию, а потом сильное безумие. Многие попали в западню этих цветов, и растения выпили из них жизненные соки, оставив их лишенными всего человеческого. Люди становятся безмозглыми существами и в конце концов попадают в зыбучие пески Голаны, где их медленно засасывает, и об этих несчастных больше никто никогда не слышал. – Ни одно человеческое существо недостойно такой судьбы! – содрогнулся я. – Но многие пострадали! А те, кто уцелел, представляют собой после этого немногим больше, чем ходячих мертвецов. – Тогда давай направим курс подальше и от Меднафа и от Голаны, и будем надеяться, что наши моторы не заглохнут, пока они останутся далеко позади нас, – сказал я, принимая решение любой ценой избежать опасности, раскачивающейся на ветру под нами, даже если станет необходимым дрейфовать по воле ветра, пока эти желтые поля не кончатся. Пока я разбирался с двигателем, Хул Хаджи рассказывал мне историю о старом отчаянном человеке, неком Блемплаке Безумном, который, как предполагалось, все еще скитался там, внизу. Он впитал в себя столько ароматов, что они больше не действовали на него так, как на других, и сумел выжить в зыбучих песках – потому что именно он-то и был их первоначальным создателем. Некогда он явно был человеком благосклонным и полезным, приобретшим откуда-то немного научных знаний и не стремившимся к величию. Мало зная о том, что имеет, он попытался использовать свои знания для постройки огромной сверкающей башни, которая вдохновляла бы людей своей красотой и величием. Был заложен фундамент, и долгое время казалось, что он преуспеет. К сожалению что-то вышло не так и подействовало на его мозг. Его эксперимент вышел из-под контроля, и в результате появились зыбучие пески, имевшие особые и неестественные свойства и нигде больше не встречавшиеся. В скором времени и с чувством огромного облегчения мы пролетели над цветами и зыбучими песками. Я видел их только ночью, при свете мчавшихся по небу лун, но и беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы сказать мне, что Хул Хаджи не преувеличивал. От медленно перемещавшейся внизу гряды снизу раздавались странные крики, безумный бред, казавшийся иногда членораздельными словами, но я не мог разобрать в них никакого смысла, да и не очень-то и старался. К утру мы пролетели над несколькими сверкающими озерами, усыпанными зелеными островами, и иногда по огромным просторам водяной глади скользила лодка. Я заметил Хул Хаджи, что это приятный контраст, и он согласился. Пока мы пролетали над предыдущей территорией, он тревожился больше, чем признавался мне в этом. Я спросил его, не будет ли разумным попытаться приземлиться, поскольку двигатель теперь работал с большими перебоями и вскоре обязательно вообще заглохнет. Он сказал мне, что это будет безопасно, так так на островах живут просвещенные и умные люди, способные развлечь и привести в восторг любого гостя озер. Пока мы пролетали, он указывал названия. Среди всех имелся один пышный остров, стоявший несколько в стороне от остальных. – Этот остров называется Драллаб, – сообщил Хул Хаджи. – Его народ лишь изредка контактирует с соседями, но хотя он, похоже и не играет большой роли в деятельности других островов, оказывает на них немалое художественное влияние и очень гостеприимен. Жители его принимали однажды меня, когда я путешествовал по островам, и я наслаждался каждым мгновением пребывания там. Появился еще один остров. Он выглядел странным контрастом, совмещая в себе черты всех островов. Это был К`кокрум, как уведомил меня Хул Хаджи. Остров, всего лишь несколько лет назад поднявшийся из озера и все еще по большей части ненаселенный, хотя жившие там люди казались народом странных контрастов, иногда дружелюбные к чужакам, иногда – нет. Мы решили не приземляться там и пролетели еще над несколькими островами, а Хул Хаджи с большой любовью сообщал их названия. Тут имелись С`сидла с нежным ландшафтом высоких сильных деревьев и широких темных прогалин, и Носирра, суровое, здоровое на вид местечко с большими, как сообщил мне Хул Хаджи, пока еще не добытыми сокровищами. Я горел желанием услышать все это, даже хотя часть моего внимания сосредоточилась на двигателе, так как все, что я слышал, больше и больше очаровывало меня по-прежнему лишь частично исследованным мною миром, и чем больше я буду знать о нем, тем лучше буду подготовлен к выживанию здесь. В скором времени мы сумели осторожно провести воздушный корабль над всеми островами и увидели перед собой на материке город, который, как мы решили, будет лучшим местом для приземления на случай, если двигатель окажется неподдающимся ремонту, город, называвшийся, как сказал мне Хул Хаджи, Кенд-Амрид. Жители его, сообщил он мне, хорошо известны своим ремесленничеством и умением обращаться с немногими, бывшими в ходу на Марсе, техническими устройствами. Они могут нам помочь больше, чем островитяне, хотя островитяне были, возможно, дружелюбнее. Я поманипулировал с управлением, и мы начали снижаться к Кенд-Амриду. Позже мне пришлось пожалеть, что мы не приземлились на одном из островов, ибо Хул Хаджи обнаружил, что Кенд-Амрид изменился с известного ему времени, когда он, как скитавшийся изгнанник, провел некоторое время в этом городе. А когда наступил вечер, погрузивший темные башни города в густую тень, мы проплыли над ним с облегчением в сердце. Место это было безмолвное, и огней горело мало, но я отнес это к тому факту, что обитатели его являлись людьми, по словам Хул Хаджи, упорно трудившимися, с простыми удовольствиями, и празднества проходили только при свете солнца. Мы снизились на окраине города, и я выстрелил якорь-кошку, вонзивший в землю острые лапы и давший мне возможность спуститься по лесенке и прикрепить канаты к паре росших поблизости чахлых деревьев.2. ГОРОД ПРОКЛЯТЬЯ
Когда мы приблизились к Кенд-Амриду, рука Хул Хаджи инстинктивно легла на рукоять меча. Хорошо зная его, я заметил этот жест и нашел его тревожным. – Что-нибудь не так? – спросил я. – Не уверен, друг мой, – ответил он. – Мне кажется, что ты говорил, что Кенд-Амрид – безопасное место для нас. – Я так думал. Но мне неспокойно. Я не могу объяснить это чувство. Его настроение передалось мне, и в мозг стали закрадываться мрачные мысли. – Я устал, – пожал плечами Хул Хаджи. – Мне кажется, что все дело в этом. Я принял это объяснение, и мы пошли к воротам города, чувствуя себя немного менее встревоженными. Ворота стояли открытыми, и никто не охранял их. Если жители настолько щедры душевно, чтобы позволять себе такое, то не возникает никаких затруднений с нахождением помощи. Хул Хаджи, однако, пробормотал что-то о том, что это необычно. – Они – народ необщительный. Мы шли по безмолвным улицам. Высокие темные здания казались лишенными признаков жизни, словно декорации, возведенные на сцене для какой-то экстравагантной постановки – и сцена в данный момент была пустой. Когда мы шли, наши шаги вызывали гулкое эхо. Хул Хаджи шел впереди, направляясь к центру города. Немного позже я услышал еще что-то кроме эха и остановился, коснувшись ладонью руки Хул Хаджи. Мы прислушались. Вот оно – тихие шаги, такие, какие издает человек, идущий в суконных шлепанцах или в сапогах из очень мягкой кожи. Звуки донеслись до нас. Рука Хул Хаджи снова инстинктивно легла на рукоять меча. Из– за угла появилась фигура, закутанная в черный плащ, сложенный на голове в форме капюшона. В одной руке он держал букет цветов, в другой -белый плоский ящик. – Приветствую тебя, – формально обратился я к нему в марсианском приветствии. – Мы – гости в вашем городе, и ищем помощи. – Какую помощь может оказать Кенд-Амрид любому человеческому существу? – мрачно пробормотал закутанный в плащ человек, и в голосе его не было ни единой вопросительной ноты. – Мы знаем, что ваш народ практичен и полезен, когда речь заходит о машинах. Мы думали… – заявление Хул Хаджи оборвал странный смех закутанного в плащ незнакомца. – Машины! Не говорите мне о машинах! – Почему же это? – Не спрашивайте ни о чем! Покиньте Кенд-Амрид, пока можете! – Почему нам не следует говорить о машинах? Ввели какое-то табу? Народ теперь ненавидит машины? – Я знал, что в некоторых обществах Земли страшились машин, и общественное мнение отвергало их, поскольку в них видели бесчеловечность, и упор на машинерию заставлял некоторых философов обеспокоиться, что человеческие существа могут стать в перспективе слишком искусственными. На Земле я, как ученый, сталкивался иногда с такой позицией на вечеринках, где меня обвиняли во всех смертных грехах из-за того, что моя работа имела отношение к ядерной физике. Я гадал, не довели ли жители этого города подобные взгляды до воплощения в жизнь и не запретили ли машины, поэтому решил задать такой вопрос. Но человек в плаще снова засмеялся. – Нет, – ответил он, – жители города не ненавидят машины – если они не ненавидят друг друга. – Твое замечание невразумительно, – нетерпеливо бросил я. – Что случилось? – Я начал думать, что первый встреченный нами человек в Кенд-Амриде оказался сумасшедшим. – Я же вам сказал, – он быстро огляделся по сторонам, словно нервничал. – Не задерживайтесь здесь, чтобы выяснить, что случилось. Покиньте Кенд-Амрид сейчас же. Не оставайтесь ни на секунду дольше. Этот город проклят! Наверное, нам следовало бы послушаться его совета, но мы не послушались. Мы принялись спорить, и это оказалось в известном смысле ошибкой, о которой нам пришлось пожалеть. – Кто ты? – спросил я. – Почему ты единственный, кто в это время разгуливает по улицам? – Я врач, – ответил он, – или б ы л им! – Ты хочешь сказать, что тебя исключили из гильдии врачей? – предположил я. – Тебе не позволяют заниматься практикой? Снова бесконечно горький смех – смех на грани безумия. – Меня не исключили из нашей гильдии. Я просто больше не врач. В наше время я известен, как Обслуживатель Типов Третьей Градации. Эти Типы Третьей Градации – человеческие существа! – эти слова перешли в крик страдания. – Я был доктором – все мое образование побуждало меня сочувствовать своим пациентам. – А теперь я, – зарыдал он, – механик. Моя работа – осматривать человеческие машины и решать, можно ли заставить их функционировать с минимальным уходом. Если я решаю, что их нельзя заставить работать таким образом, то должен обозначить их для отправки в лом, а части пойдут в банк для использования в здоровых машинах. – Но это же чудовищно! – Это чудовищно для всякого жителя, – тихо отозвался он. – А теперь вы должны немедленно покинуть этот проклятый город. Я и так уже слишком много сказал. – Но как возникло такое положение? – настойчиво спросил Хул Хаджи. – Когда я в последний раз был в Кенд-Амриде, жители показались мне обыкновенным практичным народом – тускловатым, может быть, но это все. – Есть практичность, – ответил врач, – и есть человеческий фактор в человеке. Вместе они означают Человека. Но дайте одному фактору поощрение, а другой зажимайте, и вы получите одну из двух крайностей – с точки зрения человечности. – И какие же они? – спросил я, заинтересовавшись этими рассуждениями. – Вы получите либо Зверя, либо Машину, – просто ответил он. – Мне кажется, это примитивное представление, – заметил я. – Так оно и есть. Но мы имеем дело с обществом, ставшим сверхупрощенным, – сказал он, понемногу оживляясь, когда разговор зашел на эту тему, бросая однако, нервные взгляды направо и налево по улице. – Здесь поощряют Машину в Человеке и, если вам угодно, поощряла ее именно глупость Зверя – ибо Зверь не может предвидеть, а Человек может. Зверь в Человеке приводит его к созданию Машин для своего благополучия, а Машина многое добавляет сперва к его удобствам, а потом к знаниям. В здоровой семье все это за относительно долгое время разрешилось бы само собой. Но народ Кенд-Амрида слишком многого лишил себя. И теперь Кенд-Амрид стал очень нездоровым местом. – Но должно быть что-то, вызвавшее это. Должен быть какой-то фактор, который ввел в Кенд-Амрид это безумие, – сказал я. – В Кенд-Амриде правят Одиннадцать, ни один человек не доминирует. Диктатор, сконцентрировавший в себе всю власть, существовал во все века – если только не верны рассказы о бессмертных шивах. – Ты говоришь о Смерти, – сказал я. – Да. И форма, принимаемая Смертью в Кенд-Амриде – одна из самых ужасающих. – Какова же она? – Болезнь – напасть. Диктатор Смерть принес страх, а страх привел Одиннадцать к их доктрине. – Но в чем именно заключается их доктрина? – спросил Хул Хаджи. Врач собирался было ответить, как вдруг с шипением втянул в себя воздух и кинулся обратно в ту сторону, откуда пришел. – Бегите! – прошептал он, обернувшись. – Сейчас же бегите! Его страх так повлиял на нас, что мы были почти готовы последовать его совету, когда впереди на длинной темной улице появилось невероятное зрелище. Это походило на огромный портшез, огромный ящик с ручками по всем четырем нижним сторонам, несомый на плечах примерно сотни людей, двигавшихся словно один человек. Я видел армии на параде, но даже самое вымуштрованное подразделение солдат никогда не двигалось с такой фантастической четкостью, как эти, несшие на плечах громадный ящик. В ящике, видимые с двух сторон сквозь незастекленные окна, сидели два человека. Лица их были неподвижны, а тела – застывшие и прямые. Они ни в коем случае не выглядели живыми – точно так же, как не выглядели живыми люди, тащившие эти странные носилки. Подобное зрелище я не ожидал когда-либо увидеть на Марсе, где человека, какие бы не возникали в жизни передряги, уважали, а подобная картина, которую я увидел сейчас, былапросто невозможна. При виде этого все инстинкты во мне стали на дыбы, а в глазах появились слезы гнева. Тогда все это, наверное, произошло инстинктивно; возможно, я уже позже рационализировал свои чувства. Но как бы там ни было, меня оскорбило это зрелище – глубоко эмоционально и психологически – и разум мой тоже был оскорблен. То, что я увидел, являлось примером того безумия, о котором рассказывал врач. Я чувствовал, что Хул Хаджи тоже оскорблен так же точно, реагируя на это зрелище. К счастью, мы – люди здравомыслящие, и, овладев собой, на минуту сдержали свои инстинкты. Поступать так – дело хорошее, но плохо использовать это умение владеть собой – которым мы, как разумные существа обладали – для убеждения себя, что действовать вообще не нужно. Мы просто дожидались своего часа, и я решил побольше узнать об этом страшном месте прежде, чем начать бороться против него. Потому что бороться против него я намеревался. Я так решил. Даже если ценой будет моя жизнь и все то, что я считаю дорогим, – поклялся я. Я вытравлю появившуюся в Кенд-Амриде порчу не только ради себя самого, но и ради всего Марса. Пока к нам приближались носилки, я не понимал, до каких пределов вынужден буду дойти, чтобы выполнить этот обет. Я не представлял всего, что подразумевала эта клятва. Но даже если бы знал, это не свернуло бы меня с моего пути. Решение было принято, клятва дана, и я почувствовал, что Хул Хаджи тоже поклялся себе, потому что он был моим другом и потому что я знал, сколь много у нас общего. Поэтому я стоял, не отступая, дожидаясь, пока носилки доберутся до нас. Они приблизились к нам, затем остановились. Один из сидевших нагнулся вперед и произнес холодным, лишенным эмоций голосом: – Зачем вы явиться в Кенд-Амрид? Меня на миг смутила форма его вопроса. Она так хорошо подходила к его мертвому лицу. Что– то внутри меня заставило ответить ему в более цветастой манере, чем я обычно употребляю: – Мы явились с открытыми сердцами просить народ Кенд-Амрида об одной услуге. Мы явились, не имея предложить ничего, кроме благодарности, просить вас о помощи. – Какой помощи? – У нас есть мотор, и он барахлит. Летающий корабль моей собственной конструкции снабжен мотором, какой вряд ли найдешь на Марсе. – Какого вида мотор? – Принцип прост. Я называю его двигателем внутреннего сгорания – но это будет мало что значить для вас. – Он работать? – В настоящее время он не работает, вот потому-то мы и здесь, – объяснил я, подавляя свое нетерпение. Важность поломки двигателя гораздо менее первостепенная, нежели то, что мы увидели в этом мире, так подходяще названном врачом Городом Проклятья. – Принципы его работы правильные? – спросил человек с неживым лицом. – Конечно, – ответил я. – Если он работает, он хорош, если не работает, то он плох, – раздался лишенный эмоций голос. – А вы можете работать? – рассердился я, возненавидев подразумеваемое вопросами. – Кенд-Амрид работать. – Я хочу сказать, можете ли вы отремонтировать мотор? – Кенд-Амрид делать все, что угодно. – Вы отремонтируете мне мотор? – Кенд-Амрид думать, будет ремонт мотора благом для Кенд-Амрида? – Это будет благом для нас и, таким образом, в конечном итоге благом для Кенд-Амрида. – Кенд-Амрид должен обсудить. Вы идете. – Я думаю, мы предпочли бы остаться за пределами города, провести ночь на своем корабле и узнать решение утром. – Нет. Не хорошо. Вы не известны. Я поразился невероятно примитивным рассуждениям говорившего и сразу понял, что врач подразумевал, когда упомянул, что Зверь создал Машину и оставил Человека целиком вне ее. Наверное, оглядываясь назад, это было благом для меня, потому что теперь я точно представлял, что означает для меня Марс. Не подумайте, что проклятие, опустившееся на Кенд-Амрид являлось естественным – оно было даже более чуждым любимому мной Марсу, чем если бы подобное произошло на Земле. И, наверное оттого, что Марс не был подготовлен к опасностям, присущим Кенд-Амриду, я чувствовал, что мой долг – как можно скорее вылечить эту болезнь. – Я думаю, однако, что лучше всего будет, если мы покинем Кенд-Амрид и подождем за стенами, – повторил я. Мое намерение, конечно же, заключалось в том, чтобы отремонтировать мотор самому и как можно быстрее вернуться за подмогой в Варналь. Впрочем, я был против лишения свободы точно так же, как правители Кенд-Амрида были против нарушения мною границ города. Решение было принято, и в душе я знал, что прав, поэтому решил, что если возможно будет избежать насилия, то мы не прибегнем к нему, так как вполне понятно, что в конечном итоге насилие не приводит ни к чему, кроме дальнейшего насилия. Ответ человека с мертвым лицом был фактической иллюстрацией моих умозаключений, когда он проговорил: – Нет. Лучше всего для Кенд-Амрида вам остаться. Если не остаться, то Кенд-Амрид заставлять остаться. – Вы воспользуетесь силой, чтобы заставить нас остаться? – Использовать много людей заставить двух человек остаться. – Это кажется мне похожим на принуждение, друг мой, – с мрачной улыбкой произнес Хул Хаджи, и его рука легла на меч. Я снова остановил его руку. – Нет, друг мой – позже, наверное, но сперва давай посмотрим все, что можно в этом месте. Думаю, они не увидят никакой причины помочь нам. Давай на мгновение обуздаем свои эмоции и подыграем им. Я прошептал это быстро, а за время, пока я говорил, мертвеннолицый и его партнер не шелохнулись и не сказали ни слова. Хул Хаджи, похоже, услышал. – На мгновенье, – проворчал он. – Только на мгновенье, – заверил я его. – Вы идти? – спросил человек с неподвижным лицом. – Мы пойдем, – согласился я. – Следуйте, – приказал он, а затем велел носильщикам, остававшимся такими же бесстрастными и неподвижными, как и его товарищ: – Носильщики идти обратно к Центральному месту. И тут произошло еще одно неожиданное и ужасающее событие. Вместо того, чтобы повернуться кругом, носильщики побежали задом наперед. Являлось ли это доказательством эффективности политики правителей Кенд-Амрида? Вид подобного безумства чуть не заставил меня потерять контроль над собой, но заметив стойку Хул Хаджи и зная, что тот тоже готов вот-вот сорваться, заставило меня снова удержать его и таким образом удержать себя самого. В настроении возмущенного ужаса, заставившего меня понять, почему именно врач казался безумцем, мы последовали за носилками.3. ОДИННАДЦАТЬ
Центральное место создали явно путем старательного вычисления точного центра Кенд-Амрида, а затем сноса существовавших зданий. Здесь было воздвигнуто строение, квадратное, неестественно контрастирующее с другими зданиями. Центральное место являло также признаки того, что построили его лишь недавно, и мне оставалось только гадать, с какой скоростью оно должно было возводиться и какой ценой – поскольку здесь использовался в первую очередь человеческий труд. Центральное место было построено на крови людей – людей, подвластных тирании, понять которую намного труднее, чем власть диктатора, существовавшего когда-либо! Носилки остановились и опустились на землю перед главным входом – зияющим в стене и совершенно квадратным – из них спустилось два человека и, шагая, словно роботы, первыми направились в здание. Внутри царил полумрак, скверно освещаемый простыми лампами, похожими на наши обыкновенные масляные лампы. Это удивило меня, поскольку большинство марсианских народов все еще пользуется почти неистощимым искусственным освещением, являющимся одним из благ, оставленным после себя шивами – сверхученой расой, уничтожившей себя согласно легендам и того немногого, что осталось от истории, в чудовищной войне много веков назад. От них осталось лишь несколько бессмертных, понявших ошибочность своих путей и редко становившихся вовлеченными в дела людей. Они страшились, наверное, что могут повторить свои ошибки. Я заметил об этом Хул Хаджи, и тот сказал, что у них некогда имелось такое же освещение, но пытаясь сделать новые осветительные приборы, подобные им, синие люди разобрали их на части и не смогли собрать вновь. Эта информация усилила сложившееся у меня впечатление о жителях Кенд-Амрида и помогла мне понять, почему они стали тем, чем были. Сочувствие причинам их безумия не изменило ни на йоту моего намерения попытаться, насколько будет в моих силах, вылечить это безумие. Мы вошли за теми двумя в помещение, где нашли еще девять человек – все с той же неестественной прямой осанкой и неподвижным выражением лиц, как и у первых двух. Они, конечно, различались по физической внешности. Первые два заняли свои места за круглым столом, где уже сидели другие девять. В центре стола, имевшего углубление, находилось нечто, значение чего я не смог понять с первого взгляда. Это был человеческий скелет. Буквально, мементо мори. Первоначально – и, наверное, даже Одиннадцать теперь потеряли из виду свой первоначальный мотив – его поместили туда, чтобы напоминать им о смерти. Если врач прав, то именно страх перед напастью и заставил их создать эту неестественную государственную систему. Следующее, что я заметил – это то, что за столом не хватает одного места. И все же, если вокруг стола было двенадцать кресел, то где же двенадцатый? Потому что правители Кенд-Амрида называли себя Одиннадцатью. Я надеялся, что позже смогу найти ответ на это. Все тем же ровным голосом человек, с которым я первоначально разговаривал, в точности сообщил другим, что произошло между нами. Он не сделал по этому поводу никаких личных комментариев и, казалось, не пытался передать ничего, кроме точной информации. Когда он закончил, другие повернулись рассмотреть нас. – Мы говорить, – сказал после минутной паузы первый человек. – Нам выйти, чтобы вы могли решить? – спросил я. – Нет нужды. Мы обдумываем факторы. Вы здесь не иметь значения. И тут начался невероятный разговор между одиннадцатью людьми. Никто ни разу не высказал мнения, зависящего от его собственной личности. Некоторым это может показаться привлекательным – разум правит эмоциями – но пережить такое было ужасно, потому что я вдруг понял, что личная точка зрения является необходимостью, если хочешь придти к сколь-нибудь реалистичному выводу, каким бы несовершенным он мог бы показаться. Повторение всего разговора наскучит вам, но, в сущности, они обсуждали, смогут ли они, будучи полезными нам, получить что-то полезное для Кенд-Амрида. Наконец они пришли к выводу, к которому по-моему, более сбалансированный человек пришел бы в течение нескольких минут. Коротко он сводился к следующему: если я объясню, как построить двигатель внутреннего сгорания и принцип его действия, они помогут мне отремонтировать мой. Я знал, насколько опасным может оказаться дело, если я направлю это нездоровое общество по пути к настоящим техническим достижениям, но притворился, что согласен. При этом я имел в виду, что у них нет достаточного количества инструментов, необходимых для постройки многих двигателей внутреннего сгорания прежде, чем я смогу вернуться с подмогой и исцелить болезнь, явившуюся в Кенд-Амрид. – Ты показать? – спросил один из Одиннадцати. – Покажу, – согласился я. – Когда? – Утром. – Утро. Да. – Можно теперь нам вернуться на наш корабль? – Нет. – Почему нет? – Вы остаться, вы не остаться. Мы не знать. Поэтому вы остаться. – Ладно, – пожал я плечами. – Тогда, наверное мы можем где-нибудь поспать до утра. – По крайней мере, подумал я, мы сможем поберечь свою энергию, пока не решим, как действовать. – Да. – Тут есть постоялый двор, где мы могли бы остановиться? – Да, но вы не остановитесь там. – Почему же? Вы можете охранять его, если не доверяете нам. – Да, но вы умереть, вы не умереть. Мы не знать. Поэтому вы оставаться здесь. – Почему это мы можем умереть? – Напасть, чума заставлять умереть. Я понял. Они не хотели, чтобы мы заразились чумой, все еще удерживавшей власть в городе. Наверное, это место было больше защищено, чем все остальное в городе. Мы согласились остаться. Затем первый отвел нас из помещения по короткому коридору, в конце которого лестничный марш вел вниз, в подвалы Центрального места. Мы спустились по лестнице и прошли по другому коридору со множеством дверей по обеим сторонам. Они выглядели подозрительно похожими на ряд камер в тюрьме. Я спросил провожатого, что это такое. – Здесь хранить испорченные головы, – сообщил он мне. Я сообразил, что именно здесь содержались в заключении люди, все еще полезные для Кенд-Амрида, по понятиям этого города, но сочтенные безумными опять же по тем понятиям. Надо полагать, нас приняли относящимися к этой категории. Пока они не отобрали у нас оружие, я готов был позволить им запереть нас на ночь, если, допустив это, мы сможем в конечном итоге отремонтировать мотор и добраться обратно в Варналь, а там уж решить, как мы лучше всего сможем сбросить двойное проклятие, лежащее на Кенд-Амриде – проклятие физической и психической болезни. Такая комбинация, подумал я, является редкой на Марсе, где болезни вообще редки, но на Земле она встречалась куда чаще. Еще одно обстоятельство, которое я не мог не обдумать – это было ли положение вещей таким же, будь на Марсе болезней больше. Я пришел к выводу, что нет. Мне думается, что я прав. Знаю, я ученый, но не философ – я предпочитаю мысли действие. Пример Кенд-Амрида глубоко повлиял на меня, и я чувствую, что должен взять на себя труд объяснить, почему именно я предпочитаю общество Марса обществу Земли. Марс, конечно, не совершенен – и наверное, именно потому-то я и нашел свой истинный дом на Марсе. Ибо там людям преподавался урок слишком упорной попытки добиться совершенства. Там люди уважали прежде всего человеческую индивидуальность. Уважали не только сильного, но и слабого тоже, потому что сила и слабость присутствуют в большей степени во всех нас. Это обстоятельство больше, чем что-либо иное создает того, кого мы называем слабым или сильным. И это – часть причины, почему я возненавидел то, чем стали жители Кенд-Амрида. В конечном итоге, наверное, это должно было разрешиться в состязании умов и мечей. Но вы должны знать, что мой мозг вступил в поединок раньше руки, державшей меч. И если Марс – место, более предпочтительное для меня, чем Земля, то вы должны понять, почему. Причина в следующем: обстоятельства добрее к Марсу, чем к Земле. На этой планете мало болезней, а население достаточно невелико, чтобы позволить каждому человеку стать самим собой. Итак, человек с неподвижным лицом открыл дверь и посторонился, дав возможность нам пройти. Я удивился, увидев еще одного обитателя маленькой камеры, снабженной четырьмя нарами. Он не походил на Одиннадцать, но в его глазах было что-то затравленное, заставившее меня вспомнить о враче, встреченном нами. – Он не хорош для других, – сказал наш провожатый. – Но это единственное место для вас. Не говорить с ним. Мы ничего не сказали, войдя в камеру и наблюдая, как за нами закрыли дверь. Мы услышали как упал засов и поняли, что заточены. Нас утешал только тот факт, что оружие осталось при нас. – Кто вы? – спросил нас человек, сидевший в камере, как только затихли шаги тюремщика. – Почему Шестой заточил вас и позволил сохранить при себе мечи? – Так его зовут Шестой? – улыбнулся я. – Нас так и не представили. – Ты смеешься над этим? – он показал на дверь. – Неужели ты не понимаешь, над чем ты смеешься? – Конечно, – став серьезным, ответил я. – Но мне кажется, если против этого потребуется предпринять какие-то действия, – я кивнул в указанном им направлении, – то мы должны не терять головы и не становиться такими же сумасшедшими, как и те, с кем мы намерены бороться. Он посмотрел мне в лицо ищущим взглядом, а затем опустил глаза к полу и кивнул. – Наверное, ты прав, – признался он. – Наверное, именно в этом-то я, в конечном счете, и оказался не прав. Я представился сам и представил своего друга: – Я – Майкл Кэйн, принц Варналя, лежащего на юге, а это Хул Хаджи, принц Мендишара на далеком севере. – Странные друзья, – сказал он, поднимая взгляд. – Я думал, что народ юга и Синие Гиганты – потомственные враги. – Теперь дела обстоят совсем не так плохо, – возразил я. – Но кто ты и почему ты здесь? – Я – Первый, – ответил он. – И здесь я, если угодно, именно из-за этого. – Ты хочешь сказать, что ты – отсутствующий член Совета, правящего Кенд-Амридом? – Именно так. Более того – именно я сформировал этот Совет. Вы видели, где он заседает? – Да, в экстравагантном месте. – Я положил скелет в центр стола. Ему было предназначено служить постоянным напоминанием о том, с чем мы боремся. С этой ужасной чумой, все еще опустошающей город. – Но в чем причина эпидемии? Я не слышал ни о каких смертельных болезнях на Марсе. – Причиной ее являемся мы, косвенно. Мы нашли неподалеку от окраины города древнюю канистру. Она оказалась настолько старой, что явно была создана шивами или якша. Нам потребовалось много месяцев, прежде чем мы сумели ее открыть. – И что же оказалось внутри? – полюбопытствовал Хул Хаджи. – Ничего, как мы и думали. – Просто воздух? – недоверчиво переспросил Хул Хаджи. – Не просто воздух – чума. Она все время находилась там. И по своей глупости мы выпустили ее. Теперь Хул Хаджи кивнул. – Да, я помню отрывок истории, – подтвердил он, – что-то о том, как в своей самостоятельной войне шивы и якша применяли болезни, которые им как-то удавалось поймать в ловушку и выпускать на своих врагов. Именно это вы, должно быть, и нашли. – Мы поняли это, но какой ценой! – человек, назвавшийся Первым, подошел и сел на нары, обхватив руками голову. – Но что же случилось потом? – Я был членом совета, правившего в Кенд-Амриде. Я решил, что для сдерживания чумы нам нужна логичная система управления. Я решил – и, поверьте мне, я пришел к этому решению, не испытывая удовольствия – что пока чума не будет уничтожена напрочь, мы должны расценивать каждого человека просто как машину, иначе чума распространится повсюду. Если чума распространится не очень сильно действует на личность – а ее воздействие, знаете ли, варьируется – то его можно считать потенциально функционирующим механизмом. Если чума сильно воздействует на него, то его следует рассматривать как бесполезный механизм и, следовательно, уничтожить, а полезные части хранить в банке органов, если они могут потребоваться функционирующему или потенциально функционирующему организму. – Но такая концепция предполагает, что у вас имеется намного более сложная форма хирургии, чем указывает ваше общество, – заметил я. – У нас есть оборудование шивов. Руку, кисть, любой важный для жизни орган можно вставить или подсоединить туда, где ему следует находиться в человеческом теле, а потом включается машина шивов. Из машины вытекает какая-то сила и соединяет части тела, – человек говорил с удивлением, словно мне следовало бы это знать. – Я слыхал о такой машине, – вмешался Хул Хаджи. – Но я понятия не имел, что одна такая находится в Кенд-Амриде. – Мы, как это ни печально, держали это в секрете от других народов, – пояснил заключенный. – Мы вообще довольно скрытный народ. – Я это знаю, – согласился Хул Хаджи. – Но я не представлял, до какой степени вы заботились о своих секретах. – Наверное, если бы не были такими скрытными, то не оказались бы сегодня в таком положении. – Трудно сказать, – возразил я ему. – Но почему вы теперь в тюрьме? – Потому что я увидел, что мои выводы произвели нечто, столь же опасное, как и чума, – ответил он. – Я попытался повернуть вспять с курса, по которому пустился в путь, попытался вывернуть обратно к старому положению вещей. Но прозрение наступило слишком поздно. Я посочувствовал ему. – Но они не убили тебя. Почему? – Я полагаю, из-за моего мозга. Они на свой странный манер уважают ум, или по крайней мере то, что они считают умом. Но я думаю, что так будет продолжаться не очень долго. Я испытывал ненависть и в то же время сочувствие к этому человеку трагически сложившейся судьбы, сидевшему передо мною на нарах. Но сочувствие одержало верх, хотя про себя я обругал его дураком. Подобно другим до него на Земле и на Марсе, он стал жертвой созданного им монстра. – А разве вам не приходило в голову, – сказал я, – что если древние – шивы или якша – могли изобрести эту чумную канистру, то у них, возможно, имелось также и другое изобретение, способное исцелить от чумы? – Естественно, приходило, – ответил, обиженно подняв голову, Первый. – Но существует ли оно еще? И если да, то где оно? Как вступить в контакт с шивами? – Никто не знает, – сказал Хул Хаджи. – Они приходят и уходят. – Наверняка должно быть возможным, – произнес я, быстро взглянув на Хул Хаджи, гадая, пришла ли ему в голову та же мысль, – обнаружить это устройство, если оно все еще существует. Хул Хаджи поднял загоревшиеся глаза. – Ты думаешь о месте, куда мы первоначально отправлялись, не так ли? – Так, – подтвердил я. – Конечно. Исцели чуму, и тогда исцелишь безумие! – Именно. Первый недоуменно глядел на нас, явно не понимая, о чем мы говорим. Я подумал, что на данном этапе будет целесообразным не рассказывать ему о сокровищнице машин, лежавших спрятанными в подземельях якша. В самом деле, ранее мы с Хул Хаджи по взаимному желанию согласились, что это место следует хранить в тайне, и что рассказывать, где оно расположено нужно только минимальному количеству доверенных людей. В этом мы разделяли явное беспокойство шивов, чувствуя, что обнародование всех таких знаний сразу являлось слишком опасным. Если шивы проявляли интерес к человечеству, то я считал верным то, что они, очевидно, ждали, пока общество на Марсе достигнет основательной зрелости, прежде чем предоставлять им блага предыдущего общества, уничтожившего само себя. – Вы говорите, – спросил Первый, – что есть шанс найти исцеление от чумы? – Именно так. – Где? И как? – Мы не можем сказать, – ответил я ему. – Но если мы сумеем убраться из Кенд-Амрида, и если мы найдем такую машину, то заверяю тебя – мы вернемся. – Отлично, – обрадовался он, – я принимаю это. По крайней мере вы предлагаете надежду тогда, когда я думал, что всякая надежда пропала. – Скажи нам свое настоящее имя, – попросил я. – И восстанови немного надежды у самого себя. – Барани Даса, – ответил он, снова поднимаясь и говоря немного более ровным голосом. – Барани Даса, мастер-кузнец Кенд-Амрида. – Тогда пожелай нам всего хорошего, и пожелай удачи, Барани Даса, – сказал я. – И надейся, что Одиннадцать смогут помочь нам отремонтировать двигатель. – Мы в Кенд-Амриде понимаем в машинах, – в глазах его появилось что-то, похожее на прежнюю гордость. – Его отремонтируют. – Наверное, вы понимали в них недостаточно, – напомнил я ему. Он поджал губы. – Просто мы не делали различий между машинами, которые мы любили, и людьми, которых мы тоже любили. – Такое отличие всегда следует иметь в виду, – сказал я ему. – Но это не значит, что нам следует вообще отвергать машины. – Я подумаю над этим, – губы его тронула слабая улыбка. – Но я буду думать долго, прежде чем решу, согласиться с тобой, или нет. – Это все, чего нам следует просить, – улыбнулся я в ответ. Затем мы легли спать, и Хул Хаджи вытянулся на полу камеры, поскольку нары не были рассчитаны на синих гигантов трехметрового роста.4. БЕГСТВО ИЗ КЕНД-АМРИДА
Утром, вскоре после восхода солнца, мы отправились осматривать двигатель – Хул Хаджи, я сам и Одиннадцать. Я узнал от Барани Даса, что каждый член Совета был лучшим в своем конкретном ремесле, и понимал, что они – самые подходящие люди для ремонта двигателя, если это вообще кому-нибудь по силам. Я опустил воздушный корабль на землю и снял листы, закрывавшие кожух двигателя. Почти сразу же я заметил, что неисправность была проста, и обругал себя дураком. Бензопровод состоял из нескольких секций и одна из них отошла. Каким-то образом кусок ветоши, наверное, по недосмотру механика, попал в бензопровод и забил его. Чаще всего простое объяснение и оставляют без внимания. Я исходил из того, и это вполне законно, так как обученные мною в Варнале механики обычно заслуживали всяческого доверия и отличались щепетильностью, что было что-то не в порядке с двигателем. И все же, из-за этой ошибки, я нашел Кенд-Амрид, и это было, вероятно, столь же неплохо, поскольку теперь я имел шанс кое-что сделать для него. Я радел не только о благе Кенд-Амрида, но и о благе всего Марса. Я знал, что и болезнь, и вероучение могли распространиться во многом так же, как в Средние века на Земле Смерть и Черная Магия, и желал любой ценой воспрепятствовать этому. Я счел однако целесообразным притвориться, что с двигателем что-то не в порядке, и позволил Одиннадцати осмотреть его, как всегда с бесстрастными лицами, пока сам чертил обещанные им схемы. Я был достаточно уверен, что технологически они не смогут подготовить выпуск подобного двигателя к тому времени, как я вернусь, поскольку даже энергию пара они поняли в самых элементарных категориях. Это, конечно, делало их очень непохожими на остальных жителей Марса, никогда не утруждавших себя физикой, кроме как в теории, поскольку машины шивов были высокой степени сложности и выше их понимания. Лишний раз я смог проявить симпатию к жителям Кенд-Амрида, но по-прежнему считал, что ситуация, сложившаяся на большей части Марса гораздо лучше того, что мы здесь обнаружили. Знание того, что могу теперь покинуть Кенд-Амрид без затруднений заставило меня почувствовать себя лучше, и я искал теперь только какие-то признаки озадаченности на лицах Одиннадцати, когда они рассматривали мои чертежи. Но такое выражение отсутствовало. Единственное, что я понял – это что они уверены в себе. Они неизбежно дошли до расспросов о горючем, и я показал им немного очищенного мною в Варнале газолина. Мне следует предупредить, что варнальцы по-настоящему ничего не понимали в принципах действия двигателей, применяемых мною для воздушных кораблей. Точно так же, как не понимали намного более сложных принципов действия двигателей, построенных якша, примененных мною для полета на моем первом воздушном корабле. И это опять же, как я почувствовал, к лучшему. Один из Одиннадцати – он назвал себя Девятым – спросил о газолине и о том, где его можно найти. – Он не бывает таким в естественном состоянии, – уведомил я его. – Каким он бывать в естественном состоянии? – раздался лишенный каких-либо эмоций вопрос. – Трудно сказать. – Ты возвращаться в Кенд-Амрид и показывать. У нас есть много жидкостей, которые мы хранить из старых находок. Он несомненно подразумевал, что они отыскали и другие вещи, оставленные шивами, и сохранили их. Теперь уже меня разобрало любопытство, и я не желал упускать шанс посмотреть эти, упомянутые Девятым, «жидкости». Я согласился вернуться. Оставив на корабле Хул Хаджи, я возвратился со всеми Одиннадцатью в их лаборатории, расположенные как раз позади Центрального места. При дневном свете следы чумы виднелись повсюду. По улицам скрипели телеги, нагруженные трупами. Я ожидал увидеть признаки горя на лицах оставшихся в живых, но такого почти не было. Тирания Одиннадцати не позволяла таких неэффективных эмоций как горе или радость. Я понял, что признаки эмоций рассматривались как указания на то, что человек «безумен», либо что чума заразила еще одну жертву. От подобных мыслей я содрогнулся больше, нежели от всего, увиденного и услышанного раньше. Одиннадцать показали мне все химикалии, открытые ими в развалинах шивских городов, но я сказал им, что ни один не имел ничего общего с бензином, хотя и солгал. Они попросили меня оставить им немного газолина, и я согласился. Однако, я собирался сделать так, что он не сработает, когда они испробуют его. Я отказался возвращаться обратно на их страшных носилках, поэтому мы вернулись так же, как пришли. Хотя Одиннадцать и не подали виду, это казалось им неприятным, и потом я понял, почему. В конце улицы, по которой мы шли, из дома вышел человек и направился, спотыкаясь, к нам. На губах у него пузырилась кровавая пена, а от шеи до носа расползалась по лицу зеленоватая клякса. Одна рука казалась парализованной и бесполезной, другая болталась так, словно он пытался сохранить равновесие. Он увидел нас, и из его рта вырвался неразборчивый крик. Глаза его были лихорадочно-яркими и блестели ненавистью. Приблизившись к Одиннадцати, он закричал: – Что вы наделали! Что вы наделали! Одиннадцать все, как один, повернулись, оставив меня одного лицом к лицу с пораженным чумой несчастным. Но он проигнорировал меня и кинулся за ними. – Что вы наделали! – снова пронзительно крикнул он. – Слова ничего не значат. Нельзя отвечать, – сказал Девятый. – Вы виноваты! Вы выпустили чуму! Вы навязали нам это нечестивое правительство! Почему столь немногие понимают это? – Неэффективный, – раздался холодный мертвый голос Шестого. Затем из тех же дверей выбежала девушка. Она была хорошенькая, лет восемнадцати, и одета в нормальную марсианскую одежду – коротенькую тогу. Ее каштановые волосы растрепались, а по лицу струились слезы. – Отец! – закричала она, бросаясь к несчастному. – Уйди, Ала Мара! – крикнул он. – Уйди, мне предстоит умереть. Дай мне воспользоваться оставшейся во мне малостью жизни, чтобы выступить против этих тиранов. Дай мне попробовать заставить их почувствовать что-то человеческое – даже если это будет всего лишь ненависть! – Нет, отец! – девушка потянула было его за руку. Я заговорил с ней: – Я сочувствую вам обоим, – сказал я. – Но подождите еще немного. Может быть, я сумею вам помочь. Один из Одиннадцати – по-моему, он называл себя Третьим – повернулся. В руке у него было оружие шивов. Даже не моргнув глазом, он нажал на курок. Оружие это действует только на коротком расстоянии – а тут стреляли почти в упор. Человек со стоном упал. Девушка издала громкий вскрик и принялась молотить Третьего по груди кулачками. – Вы убили его. Вы могли, по крайней мере, оставить ему ту малость жизни, что у него осталось! – с ненавистью рыдала она. – Неэффективный, – произнес Третий. – Ты тоже неэффективный, – и он начал поднимать пистолет. Я не смог это вытерпеть. С безмолвным криком я прыгнул на него, вышиб из руки пистолет и обхватил девушку за талию. Я ничего не сказал. Он ничего не сказал. Мы просто стояли молча, рассматривая друг друга, когда повернулись десять других членов Совета. Я выхватил свободной рукой меч. – Мертвый человек – самый неэффективный из всех возможных, – высказался я. – И я могу сделать такими нескольких из вас, если вы сделаете хоть один шаг. Девушка теперь плакала от реакции на случившееся, и я от всего сердца жалел ее теперь даже больше, чем раньше. – Не беспокойся, Ала Мара, – сказал я, вспомнив имя, названное ее покойным отцом. – Они не причинят тебе вреда. Один из Одиннадцати, находившийся дальше всех от меня, поднес к губам свисток, игнорируя мою угрозу. Его звук пронзил воздух, и я понял, что свисток предназначен для вызова стражи. Закинув девушку на плечо, я кинулся по улице. Я знал, что ворота – за следующим поворотом, и что если я смогу достаточно быстро создать дистанцию между собой и Одиннадцатью, то их стража не причинит мне вреда. Задыхаясь, я свернул за угол и бросился к раскрытым воротам. Когда я пробежал через ворота, ко мне бросились стражники, и я молился, чтобы мне удалось добраться до поджидавшего корабля прежде, чем все будет потеряно. Хул Хаджи, должно быть, увидел, что меня преследуют стражники, потому что он вдруг появился у входа в гондолу воздушного корабля. Я швырнул ему девушку и повернулся как раз, чтобы отбить удары мечей первых двух человек. С оружием они обращались неумело, и сперва я защищался легко. Но вскоре в бой вступили и другие, и мне пришлось бы туго, не окажись со мной рядом массивная фигура Хул Хаджи. Вместе мы удерживали их, пока несколько не оказались на земле убитыми или ранеными. – Поднимайся на борт корабля, – бросил мне вполголоса Хул Хаджи. – Я тотчас же присоединюсь к тебе. Все еще сражаясь, я сумел забраться в гондолу. Хул Хаджи сделал один последний выпад, убивший стражника, и в возникшем в эту секунду затишье, прыгнул в гондолу. Я стоял наготове у двери и тут же захлопнул ее. Предоставив Хул Хаджи запирать ее, я проскочил мимо все еще испуганной девушки и уселся за пульт управления кораблем. Прошло всего несколько мгновений, и моторы мощно взревели, оживая. Я освободил якорные канаты, и вскоре мы поднимались в воздух. – Что теперь? – спросил Хул Хаджи, мельком взглянув на девушку и усевшись в специально изготовленное для него кресло. – У меня есть сильное искушение сейчас же вернуться в Варналь, – сказал я. – Но вероятно, будет лучше всего сразу же отправиться к подземельям якша и посмотреть, не сможем ли мы найти машину для исцеления чумы. Еще лучше было бы, если бы нам удалось вступить в контакт с шивами. – Шивы редко вступают в контакты с нами, – напомнил мне Хул Хаджи. – Но если бы они узнали! – Наверное, они знают. – Ладно, – сказал я. – Мы летим к подземельям якша. Наверное, там мы найдем средство вступить в контакт с шивами. – А что насчет девушки? – спросил Хул Хаджи. – Ничего не остается, кроме как взять ее с собой, – решил я. – В конце концов, помогая ей в первый раз, я возложил на себя ответственность за ее дальнейшую судьбу. – И на меня, друг мой, – улыбнулся Хул Хаджи, пожав мне плечи своей рукой. Позади нас Ала Мара слабо проговорила: – Спасибо вам, незнакомцы. Если я буду вам чем-то мешать, высадите меня, где хотите. Вы сделали достаточно. – Чепуха! – ответил я, устанавливая курс на север к подземельям якша. – Мне хочется в конце этого приключения вернуть тебя обратно в Кенд-Амрид. Кроме того, у нас есть основания надеяться, что мы получим средства для уничтожения всех царящих там бед. Наверное, тронутая этим, и явно вспомнив смерть отца, девушка снова принялась рыдать. Я обнаружил, что мне трудно не обращать внимания на ее эмоции, и прошло долгое время прежде, чем я смог подумать о способе, которым я рассчитывал найти машину, способную исцелить чуму, исходя из предположения, что она существовала в подземельях якша. Пройдет еще несколько дней прежде, чем мы доберемся до своей цели. За это время я должен научить себя действовать и мыслить хладнокровно. Я, конечно, не знал тогда, что ждало меня впереди. Если бы знал, то скорее всего, вернулся бы в Варналь. Как оказалось, события скоро развернулись таким образом, что мы все оказались в отчаянном положении!5. ВАРВАРЫ
Наконец, мы полетели над пустыней, решив навестить Мендишар, отечество Хул Хаджи, на обратном пути. Частично это было решением моего друга, поскольку он объяснил, что лишь недавно улетел оттуда и испытывал уверенность, что там у него в настоящее время забот нет. Мы опустились перед очищенным нами раньше входом и, причалив воздушный корабль, оставили Алу Мару сторожить его. У входа, накрытого нами в предыдущее путешествие листом сплава, не подверженным коррозии, мы заметили признаки того, что его потревожили. Хул Хаджи указал на землю. – С тех пор, как мы его оставили, здесь побывали люди, – сказал он. – Вот отпечатки ног. А вот следы, как будто по земле волокли что-то тяжелое. Что ты об этом скажешь, Майкл Кэйн? – На данный момент у меня не больше мыслей, чем у тебя, – нахмурился я. – Нам лучше вести себя осторожно. Наверное, внутри мы обнаружим следы, по которым сумеем распознать чужаков. Кто же мог залезть сюда? Хул Хаджи покачал головой. – Отпечатки ног показывают, что это люди не моей расы, а твоей – но, с другой стороны, никаких низкорослых людей в этих краях нет. Должно быть, они явились издалека. Мы подняли крышку и прошли в прохладное помещение. Оно освещалось казавшимися неиссякаемыми огнями древней расы. В свой последний визит мы соорудили деревянную лестницу, и ступеньки ее были теперь расщеплены и побиты, опять-таки доказывая, что по ним волокли тяжелые предметы. Когда мы пробрались дальше в катакомбы якша, то ахнули от гнева, увидев учиненные разрушения. Машины валялись перевернутые и разбитые, сосуды с химическими веществами – сломаны и разнесены вдребезги, артефакты частично уничтожены. Мы шли дальше, через многие помещения подземного города, находя дальнейшие доказательства бесчувственного вандализма, пока не вошли в одно достаточно большое помещение и не нашли его почти пустым. Я вспомнил, что в этом месте хранились многие из наиболее интересных машин, машин, которые принесли нам множество интересных знаний, если дело дошло бы до их исследования. Но они исчезли! Где они? Я не мог догадаться. Вот тут-то мои уши уловили впереди звук движения, и я выхватил меч. Хул Хаджи последовал моему примеру. Как только мы сделали это, из двери напротив той, которой воспользовались мы, вбежало, размахивая мечами, множество людей с круглыми щитами из грубо кованного металла. Однако, больше всего меня поразил в них тот факт, что все они оказались бородатыми. Люди, виденные мною на Марсе, были лишены волосяного покрова на лице. Эти приземистые мускулистые люди носили тяжелые кожаные нагрудники, начисто лишенные обычных драгоценных камней. Единственными их украшениями являлись воротники и ножные браслеты из кованого металла, похожего на железо, хотя у некоторых они, казалось, были сделаны из золота или бронзы. Они недружно остановились, так как мы приготовились встретить их с мечами наготове. Один из них, косоглазый человек, даже более волосатый, чем большинство других, чуть склонил голову на бок и обратился к нам резким наглым тоном: – Кто вы? Что вы здесь делаете? Это наша область грабежа. Мы первые нашли ее. – Да ну, неужели? – Да, мы. Странно такой паре, как вы, оказаться здесь вместе. Я думал, что вы, синие гиганты, всегда деретесь с людьми вроде нас. – С людьми вроде вас обязательно нужно драться, судя по тому, что вы сделали с этим местом, – ответил с отвращением в голосе Хул Хаджи. – Я хочу сказать – и с людьми вроде него тоже, – уточнил бородатый, махнув мечом в моем направлении. – Этот вопрос не имеет значения, – нетерпеливо бросил я. – Так что перейдем к делу. Кто вы? – Не твое дело. – Может оказаться, что это наше дело! – проворчал Хул Хаджи. Бородатый резко и надменно рассмеялся. – Ах вот как? Ну, можете попробовать, если хотите. Мы – багарады. И наш вождь – Рокин Золотой. Мы самые свирепые бойцы по обе стороны Западного моря. – Так значит вы прибыли из-за Западного моря, – догадался я. – Неужели ты слышал о нас? Я покачал головой, но Хул Хаджи сказал: – Багарады. Я немного слышал о вас от своего отца. Варвары, грабители, налетчики из страны за Западным морем. Я только однажды посетил Западный континент, да и то случайно, когда пережил приключения в странном Городе Паука, откуда мы с Хул Хаджи едва сбежали, спасая свои жизни. Так значит они тоже с того таинственного континента, неисследованного до сих пор марсианскими путешественниками. – Варвары! – бородатый снова издал утробный смех. – Может быть. Но скоро мы будем покорителями мира! – Как так? – спросил я с подозрением. – Потому что у нас есть оружие – оружие, и не снившееся человеческим существам. Оружие некогда обитавших здесь Богов! – Они не были Богами, – поправил я его. – Скорее всего, жалкими демонами. – Что ты знаешь о Богах? – нахмурился варвар. – Я же сказал тебе: построившие этот подземный город, не были богами. Они были простыми людьми. – Ты говоришь ересь, гладкокожий! – прорычал варвар. – Поосторожней со словами! И все же, кто ты? – Я – Майкл Кэйн, брадинак Варналя. – Брадинак, да? Х-м-м, за тебя можно получить хороший выкуп, а? – Несомненно, – холодно ответил я. – Но это будет выкуп за труп, так как я скорее умру, сражаясь, чем позволю коснуться рукам таких, как вы. Варвар ухмыльнулся, наслаждаясь оскорблением, полученным им. – А кто другой? – Я – бради Хул Хаджи из Мендишара. Мне нет нужды повторять слова моего друга, поскольку они такие же, как мог бы сказать я. – Хул Хаджи слегка переменил стойку. Варвар задумчиво опустил свой косой взгляд. – Отлично, отлично. Два хороших приза, если мы сможем взять вас живыми, не так ли? Я – Зонорн Растерзай – имя мое вполне заслуженное. В свое время я любил отрывать у людей конечность за конечностью. – Полезное занятие, – насмешливо заметил я. Его лицо стало серьезным. – Да, это так там, где правят багарады. Никто не сможет плюнуть в глаза Зонорну, кроме единственного человека, более сильного чем я. – Судя по тому, что ты говоришь, такого вообще нет, – заметил я. – Я говорю о нашем собственном бради – Рокине Золотом. Ты можешь оскорблять меня, и я оценю оскорбление по достоинству. Жаловаться я буду только, если оно окажется слабым. Но скажи мне хоть слово против Рокина, истинного военного бради, и я разрежу тебя на части. Мне не нужен меч или щит, когда я имею дело с человеком. – Так значит вы по приказу Рокина украли машины. Это так? – Приблизительно так. – А где теперь эти машины? Все еще по эту сторону Западного моря? – Некоторые да, некоторые нет. – Вы дураки, если имели смелость копаться в них. Они так же легко могут уничтожить вас, как и тех, против кого вы планировали их направить. – Не пытайтесь озаботить меня подобной болтовней, – проворчал Зонорн. – Мы знаем, что делаем. Никогда не называй дураком человека из Багарада, пока не отрастишь свою бороду, – он разразился хохотом, явно наслаждаясь обычной шуткой своего народа. – У меня нет бороды, – напомнил я ему. – А вы будете мудрецами, если вернете украденное. Вы не можете понять смысла того, что сделали, даже если бы я объяснил вам его. – Мытебя не боимся, – пробормотал он. – И не боимся твоего здоровенного друга. Нас много, и мы – лучшие бойцы по любую сторону океана. – Тогда мы заключим сделку. – Какую сделку? – Если мы побьем вас в честном бою, вы привезете оборудование обратно, – я подумал, что это может оказаться привлекательным для простых варварских обычаев. – Нельзя, – отказался он, качая головой, словно разочарованно. – По такому делу должен принять решение сам Рокин. – Тогда что же нам делать? – Я честный человек, – задумчиво проговорил он. – И у нас в настоящее время маловато сил. Я позволю вам уйти. Как насчет этого? – Вы боитесь с нами драться, не правда ли? – рассмеялся, поглаживая меч Хул Хаджи. Этого говорить не следовало. Если бы Зонорн отпустил нас восвояси, мы смогли бы вернуться с силами Мендишара и остановить их прежде, чем они погрузятся на свои корабли и отплывут на западный континент. Но Хул Хаджи задел варварскую гордость Зонорна. Теперь решить дело могла только кровь. Заревев от гнева, Зонорн бросился на Хул Хаджи. Его люди тоже кинулись на нас. Вскоре мы дрались с несколькими варварами, окружившими нас. Варвары оказались крепкими, сильными бойцами, но в их фехтовании отсутствовало искусство. Защищаться было довольно легко, даже против столь многих, но мы уже знали, что скоро будем убиты, если только нам исключительно не повезет. Мы дрались, стоя спиной к стене, и наши клинки скоро окрасились от острия до рукояти кровью противников. Я уклонился от неловкого выпада и ударил над краем щита, попав нападающему в горло. И только когда я убил его и схватился с другим противником, я понял, что убил самого Зонорна. Через некоторое время моя рука, державшая меч, стала побаливать, но я продолжал отчаянно драться, зная, что в этом бою ставка была намного больше, чем наши собственные жизни. На чаше весов лежала судьба Кенд-Амрида. Наверное, даже судьбы всего Марса. Мы должны найти нужную машину, либо в подземельях, либо в имуществе необразованного варвара, называвшего себя Рокин Золотой. Я блокировал удар сверху и обернулся, когда нападавший уперся мне щитом в грудь. Я скользнул лезвием меча по его оружию до рукояти, внезапно расцепился, а затем вновь сделал выпад вперед, метя ему в сердце. И все же казалось, что как бы быстро мы не убивали их, находились другие, занимавшие их места и, как обычно, я вскоре потерял представление обо всем, кроме боя. Я сам стал боевой машиной, хотя и ненавидел это, сфокусировав внимание на сохранении своей жизни, даже если это стоило многих других жизней. При всех своих прекрасных идеалах, когда доходило дело до этого, я был таким же убийцей, как и другие. Я говорю это только для того, чтобы показать, что я не наслаждаюсь убийством и избегаю его, когда могу даже на Марсе – планете, на которой войны часты. Мы дрались и дрались до тех пор, пока не утратили всякое ощущение времени, и снова и снова казалось, что мы на волосок от смерти. Но наконец, кажется, наши противники тоже стали уставать. Я увидел брешь и решил, что в данном случае мы лучше всего послужим своей цели, если попытаемся бежать. Прокричав Хул Хаджи, я нырнул через разрыв в рядах врагов, видя уголком глаза, что он последовал за мной. Затем я заметил, что откуда-то из темноты вынырнул еще один человек и сбоку бросился на Хул Хаджи. Инстинктивно я понял, что мой друг не заметит его во-время. С предупреждающим криком я повернулся придти к нему на помощь. Повернулся я слишком резко и поскользнулся на крови. Последнее, что я запомнил – ухмыляющееся бородатое лицо и щит, которым меня бьют по моему лицу. Я попытался не потерять сознания, попробовал подняться и увидел, как Хул Хаджи схватился за бок с гримасой боли на губах. Затем мое зрение омрачилось. Я упал лицом вперед, уверенный, что никогда больше не очнусь.6. РОКИН ЗОЛОТОЙ
Я очнулся, но пробуждение было не из приятных. Меня подбрасывало на спине животного. Открыв глаза и зажмурившись от яркого солнечного света, я увидел, что связан по рукам и ногам и приторочен ремнями к спине большого дахара, универсального ездового и вьючного животного всех, когда-либо встреченных мною марсиан. Солнце светило мне прямо в глаза, у меня болела голова и все мускулы тела. Но в общем я, кажется, был цел. Я гадал, что стало с Хул Хаджи. А потом я подумал, что стало с Алой Марой, оставленной нами сторожить воздушный корабль. Я молился, чтобы эти грубые варвары не обнаружили ее! Потом я закрыл глаза от солнца, раздумывая о способах бегства от пленителей, способах найти машину, если только она существовала, для исцеления чумы в Кенд-Амриде. Я так устал, что мне трудно было мыслить логично. Когда я открыл глаза в следующий раз, то смотрел прямо в хитрое лицо варвара. – Так значит ты жив, – ухмыльнулся он. – Я думал, что южане слабые, но там, в подземельях, мы убедились в обратном. – Дай мне меч и развяжи мне руки, и ты усвоишь этот урок лично, – проговорил я, еле ворочая языком. Он в удивлении покачал головой. – Если бы у тебя была борода, ты мог бы быть багарадом. Думаю, ты понравишься Рокину Золотому. – Куда мы едем? – На встречу с Рокином. – Что случилось с моим другом? – я намеренно не упомянул о девушке. – Он тоже жив, хотя и получил легкую рану, – пока варвар говорил, мы по-прежнему двигались. Оказалось, что он ехал на дахаре. Словно камень упал у меня с плеч, когда я узнал, что Хул Хаджи жив. – Мы не смогли найти ваших дахаров, – сказал варвар. – Как вы сюда попали? Услышав этот вопрос, я испытал еще большее облегчение, так как это означало, что они не обнаружили Алу Мару. Но где же она? Почему они не заметили воздушного корабля? Я попытался ответить таким образом, чтобы прояснить для себя эти вопросы, по крайней мере частично. – У нас было воздушное судно, – сказал я. – Мы прилетели сюда. Варвар засмеялся. – Наглости у тебя хватает, – одобрил он. – Ты можешь врать, как и драться, не хуже, чем багарад. – Разве вы не видели воздушного корабля? – Мы не видели никакого корабля. Ты называешь нас варварами, друг мой, но даже мы знаем достаточно, чтобы не верить в детские сказки. Все знают, что людям не предназначено летать – следовательно, они не могут это делать. Я слабо улыбнулся в ответ. Я не мог ему сказать, что улыбаюсь его наивности, и потому что это наверняка означало, что они не видели ни моего воздушного корабля, ни Алу Мару. Я по-прежнему недоумевал, что же случилось с девушкой. Наверное, воздушный корабль каким-то образом унесло ветром. Я не знал, что случилось, и мог только надеяться, что они в безопасности. Через некоторое время упадок сил заставил меня заснуть несмотря на тяжелую тряску, которой я подвергался. Когда я очнулся в следующий раз, было темно, и дахары двигались медленнее. Сквозь рокот варварского разговора я услышал другой звук – прибой моря. С упавшим сердцем я понял, что мы приехали к лагерю варваров, и мне вскоре придется встретиться с их обожаемым вождем – Рокином Золотым. Через некоторое время дахар остановился и тяжелые руки отвязали ремни от моего тела и сбросили меня на землю. Один из варваров, наверное тот, с кем я разговаривал прежде, поднес к моим губам бурдюк с теплой водой, и я жадно принялся хлебать ее. – Скоро и еда, – пообещал он. – После этого на тебя посмотрит Рокин. – Он ушел, и я лежал на твердой гальке, прислушиваясь к близкому шуму моря. Я все еще находился в ошеломленном состоянии. Позже я услышал голоса, и раздался глухой стук. Я повернул голову и увидел лежащее рядом со мной огромное тело Хул Хаджи. Я осмотрел его рану и заметил, что у варвара хватило порядочности по крайней мере на то, чтобы перевязать ее, хотя и грубо. Он повернул голову и мрачно улыбнулся мне. – По крайней мере, мы живы, – философски заметил он. – Но надолго ли? – отозвался я. – И стоит ли жизнь этого? Мы должны сбежать как можно скорее, Хул Хаджи. Ты знаешь, почему? – Знаю, – ровным тоном ответил он. – Мысль о побеге не выходит у меня из головы. Но в настоящее время мы можем только ожидать своего часа. Что насчет девушки спасенной тобой в Кенд-Амриде? Где она? – Насколько я знаю – в безопасности, – сообщил я ему. – Или, во всяком случае, не захвачена в плен варварами. – Хорошо. Как ты это выяснил? Я немного рассказал ему о том, что узнал. – Наверное, она заметила, что что-то случилось, и отправилась за подмогой, – предположил он, хотя явно и не убежденный этим. – Она не могла управлять кораблем, если только не наблюдала за моими действиями очень внимательно. Я не могу придумать никакого объяснения. Я просто надеюсь, что с нею все будет в порядке. – Ты заметил, – спросил внезапно Хул Хаджи, – единственный, имеющийся у нас настоящий шанс? – Какой именно? – Спрятанный нож. Вот это уже кое-что! Все синие марсиане носят все еще спрятанные в их разукрашенных боевых пакапу маленькие ножи. Для того, кто не привык искать подобные вещи, он покажется частью общего украшения. Я однажды раньше уже имел возможность поблагодарить изощренные военным умы тех, кто придумал эту одежду. К несчастью, на мне теперь был пакапу южного стиля, не содержавший ножа. И все жеодин лучше, чем ничего. Если я смогу дотянуться до него зубами, то может быть сумею перерезать путы Хул Хаджи. Я перекатился для этого поближе к нему, как вдруг сверху раздался звук. Оказавшись на спине, я посмотрел вверх. И увидел очерченную на фоне освещенного только Фобосом неба гигантскую фигуру, полностью облаченную в яркий металл. Металл был золотом, грубо обработанным в форме доспехов, с большими, ясно выделявшимися гнутыми заклепками, державшими все части в соединении. Это была роскошная картина грандиозной варварской показухи, и человек носил их с определенным достоинством. У него была изящно расчесанная желтая борода и волосы ей под стать, длинные, ниспадающие и явно чище, чем у его собратьев. На бедре он носил огромный меч, рукоять которого он сжимал, глядя на меня. На лице его расползалась усмешка. – Ты кто? – спросил он глухим веселым голосом. – Бради или брадинак? – А ты кто? – ответил я вопросом на вопрос, хотя и угадал очевидное. – Бради, мой друг, как тебе хорошо известно, если ты говорил с моими людьми настолько долго, как они это утверждают. Бради Рокин Золотой, вожак этих псов, багарадов. А теперь, будь любезен, ответь мне. – Я – брадинак Майкл Кэйн из Варналя, Города Зеленых Туманов, самого прекрасного города на всем Вашу, – ответил я столь же гордо, употребив марсианское название их планеты. Он снова усмехнулся. – А вот этот, другой, должно быть бради, а? – Бради из длинного ряда бради, – гордо ответил Хул Хаджи. – Бради Мендишара. Для меня не существует более гордого имени. – Ты так думаешь, да? Хул Хаджи не ответил, а посмотрел на Рокина долгим взглядом. Рокин, казалось, не возражал. – Мне сказали, что вы перебили много моих людей, включая моего лучшего помощника Зонорна Растерзая. Я считал его бессмертным, по крайней мере не способным умереть от клинка врага. – Это было легко сделать, – ответил я. – И это произошло случайно. Я и не понял, что он был одним из тех, кого я убил, пока не схватился с другими. Рокин громко засмеялся. – Вот это похвальба! Лучше, чем багарад! – Некоторых, как мне говорили, лучше, – согласился я. – В это нетрудно поверить, если все они такие, как Зонорн. Он чуть нахмурился, хотя по-прежнему усмехался, показывая на меня сочленениями своих золотых доспехов. – Ты так думаешь? Ты обнаружишь, что немногие способны побить багарадов. – Кто эти немногие? – Э? Что ты имеешь в виду? – Кого ты имеешь в виду? Детей! – Нет, мужчины, друг мой! – лицо его просветлело. Подобно многим первобытным людям, он, кажется, ценил оскорбление само по себе, независимо от того, унижало оно его или нет. Я, однако, знал, что есть область, в которой легко перегнуть палку, и ее не всегда можно заметить. Я об этом не беспокоился. – Что ты теперь собираешься с нами делать? – спросил я его. – Еще не знаю. Говорят, что вы казались озабоченными оружием, увезенным мною из найденного нами места. Что вы о нем знаете? – Ничего. – Судя по тому, что мне рассказали мои люди, вы знаете о нем немало. – Значит, ошиблись. – Скажи ему, чтобы он отдал оружие, – буркнул Хул Хаджи. – Скажи то, что мы говорили Зонорну – что они будут дураками, если станут шутить с такой мощью. – Так значит вы кое-что знаете, – задумчиво протянул Рокин. – Много ли? – Мы знаем только, что копаться в нем означает самое малое – смерть для всех вас. А также может означать разрушение половины Марса! – Не пытайтесь напугать меня такими угрозами, – улыбнулся Рокин. – Я не мальчик, чтобы мне объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. – В данном случае, – настойчиво повторил я, – ты все равно что самое малое дитя. И это тебе не игрушки! – Я это знаю, друг мой. Это оружие. Оружие, которое завоюет мне половину Марса, если я хорошо им воспользуюсь. – Забудь о нем! – Чушь! С чего бы это? – Хотя бы с того, – сообщил я ему, – что в городе неподалеку отсюда чума. Одна из имеющихся у тебя машин, возможно, способна остановить ее. Если ее не остановить, она скоро вырвется за городские стены и начнет распространяться. Ты знаешь, что такое чума? Болезнь! – Ну, я сам однажды болел одной-двумя – так же, как и другие, кого я знаю. Когда я был мальчишкой, то кашлял пару дней после того, как потерялся, заплыв в море. Ты это имеешь в виду? – Нет, – я описал ему симптомы зеленой чумы, уничтожавшей народ Кенд-Амрида. Когда я закончил, он и сам выглядел довольно-таки неважным. – Ты уверен, что дело обстоит так плохо? – Да, – подтвердил я. – Что бы ты подумал, если она прокатится по этому континенту, и распространится, в конечном итоге и на твой. – Как она может распространиться? – недоверчиво произнес он. Я попытался объяснить ему насчет вирусов и микробов, но эти объяснения для него ничего не значили. Преуспел я лишь в ослаблении своих доводов, оставив качать головой. – Какой лжец! Какой лжец! – повторял он. – Маленькие существа у нас в крови! Хо! Ты, должно быть, багарад! Должно быть, тебя похитили младенцем! – Верь или не верь тому, что я тебе рассказал о чуме, – в отчаянии воззвал я. – Но поверь по крайней мере в ее действие – даже Рокин Золотой не в безопасности от нее! Он постучал себя по панцирю. – Это золото защитит меня от чего угодно – человека или машин! – Ты, кажется, уважаешь нас, – сменил я тему. – Значит, ты отпустишь нас? Он покачал головой. – Нет, – усмехнулся он. – Я думаю, вы окажетесь полезными – хотя бы и для выкупа. До этого варвара нельзя было достучаться, взывая к его разуму. Оставалось только надеяться, что мы вскоре сумеем убежать, посмотрев предварительно, какие именно машины он украл и, если возможно, гарантировав, что он никогда не сможет ими воспользоваться. Это навело меня на новую мысль. – Что если я смогу помочь тебе с машинами? – предположил я. – Тогда ты отпустишь нас? – Наверное, – задумчиво кивнул он. – Если решу, что вам можно доверять. – Я – ученый, – уведомил я его. – Я мог бы связать свою судьбу с твоей, если ты сделаешь это стоящим моих трудов. Это направление атаки, кажется, дало лучшие результаты, так как он потер подбородок и снова кивнул. – Я подумаю об этом, – пообещал он, – и поговорю с тобой утром. Он повернулся и зашагал было дальше по берегу. – Я пришлю вам поесть, – крикнул он напоследок. Пищу принесли, и она оказалась неплохой – обыкновенное мясо, травы и овощи. Нас кормили двое ухмыляющихся варваров, чьи неумелые шутки нам пришлось терпеть, пока мы ели. Когда они ушли, и варварский лагерь, казалось, стих, я опять перекатился к Хул Хаджи, вознамерившись добраться до ножа из его пакапу. Было трудно увериться, будучи столь крепко связанным, мог нас кто-нибудь видеть, или нет. Я решил рискнуть. Дюйм за дюймом я подбирался ближе к другу и, наконец, мои зубы сомкнулись на рукоятке тайного ножа. Медленно я вытащил его из потайного места, пока он не оказался полностью зажатым у меня в зубах. Руки Хул Хаджи были связаны за спиной, так что теперь ему пришлось перекатиться, пока я пытался перепилить его путы. После промежутка времени, показавшегося веком, поддалась первая прядь, а затем вторая. Очень скоро его руки окажутся свободными! Я как раз принялся за последний кусок каната, стягивавшего руки Хул Хаджи, когда надо мной раздался грубоватый смех, и я заметил блеск золота, когда из моих зубов вырвали нож. – Вы, ребята, смельчаки! – раздался голос Рокина, полный грубого юмора. – Но вы слишком ценны, чтобы пропасть. Лучше мы снова отправим вас спать. Мы с Хул Хаджи сделали отчаянную попытку подняться на ноги и напасть на него, но наши путы остановили кровообращение на конечностях. Взлетела рукоять меча. Опустилась. И я отключился.7. ПЛАВАНЬЕ В БАГАРАД
Мы уже были в море, когда я очнулся в пахнущем затхлостью трюме корабля, чьи борта казались сделанными не из дерева, как я ожидал, а из чего-то другого. Веревки на мне разрезали, и если не считать слегка затекших мускулов, физически я чувствовал себя намного лучше. А также намного яснее мыслил. Пережитое недавно с варварами, казалось, высосало из меня первоначальные эмоции и, хотя я знал, что со временем они вернутся, я чувствовал себя отстраненно и, в некоторых отношениях, находящимся в более здоровом состоянии духа. Наверное, дело было в корабле. Пространство замкнуто, возможности ограничены, и таким образом чувствуешь себя лучше владеющим окружающей средой, особенно по сравнению с кажущимися безграничными горизонтами Марса известного мне века. Какими бы ни были причины – а они, вероятно, являлись квинтэссенцией всего, что во мне произошло, я пришел к выводу, что мне лучше всего сделать. Первой целью должна быть инспекция всех награбленных Рокином машин и проверка, не обладает ли одна из них свойством, способным действовать против чумы. Если окажется, что одна из них для этого предназначена, то мне надо будет подумать о способах убрать ее из поля зрения Рокина. И хотя эта мысль и шокировала меня – обязательно уничтожить остальные. Если ни одна из машин не снабдит меня тем, что нужно, то я уничтожу их все до одной. Последнее, конечно, будет задачей более легкой. Корабль качало, и я был вынужден упереться в стенки трюма. Корпус казался сделанным из цельного куска, прочного пластика, который я раньше обнаружил в городе якша. Кругом была темнота, но когда мои глаза привыкли к ней, я сумел различить предметы, бывшие некогда опорами двигателя. Теперь двигатель отсутствовал. Снова, вот уже который раз, мне встретилось напоминание о том, что марсиане называли Великой Войной – войной, почти совершенно истребившей и якша, и шивов, и практически уничтожившей саму планету. Я услышал из противоположного угла подавленный стон. Мне показалось, что я узнал голос. – Хул Хаджи! – крикнул я. – Это ты? – Я, мой друг, я. Или то, что осталось от меня. Подожди минуту, пока я не удостоверюсь, что цел. Где мы? Я увидел в полумраке, как огромная фигура моего товарища поднялась с места, где он лежал. Затем я увидел, как он зашатался и упал к переборке. Я по мере сил подобрался к нему, пока корабль страшно мотало. Хотя в трюм проникало мало звуков, у меня сложилось впечатление, что мы попали в центр очень неприятного шторма. Я слышал, что Западное море считалось очень нездоровым местом для мореплавателей, и поэтому-то его, вероятно, и столь нечасто пересекали. – Ох, – простонал Хул Хаджи. – Мендишары никогда не были созданы для путешествия по морю, Майкл Кэйн. Он перекатился, когда по кораблю ударила очередная большая волна. Внезапно в трюм хлынул свет вместе с морской водой, мгновенно вымочившей нас с головы до ног. На фоне отверстия наверху обрисовался бородатый варвар. – На палубу, – кратко приказал он едва слышным сквозь завывание шторма голосом. – В такую бурю! – воскликнул я. – Мы не моряки! – Тогда сейчас вам самое время стать моряками, друг мой. Рокин хочет вас видеть. Я пожал плечами и пробрался к лесенке, обнаружившейся теперь при свете из открытого люка. Хул Хаджи последовал за мной. Мы вместе вскарабкались на мокрую палубу, цепляясь за шедшую вдоль центра палубы веревку, натянутую между двумя мачтами, так как паруса были теперь зарифлены. В воздухе проносились брызги, по палубе перекатывалась вода, корабль швыряло вверх и вниз огромными серыми волнами. Небо и море были серыми и неразличимыми – казалось, что все двигалось над нами и вокруг нас. Никогда я не испытывал такого страшного шторма. Если синий гигант может позеленеть, то лицо Хул Хаджи стало зеленым, а глаза выдавали муку от шедшего из его души беспокойства и чувства дискомфорта. Осторожно ступая, мы добрались до корабельного мостика, где Рокин, по-прежнему в золотых доспехах, цеплялся за поручни и оглядывался кругом, словно дивясь происходящему. Каким-то образом мы сумели взобраться к нему на мостик. Он повернулся к нам, сказав что-то, чего я не разобрал, тоном, соответствовавшим удивлению в его глазах. Я показал, что не слышу его. – Никогда не видел ничего подобного! – прокричал он. – Нам повезет, если мы останемся на плаву. – Зачем ты хотел видеть нас? – спросил я. – Помогите! – крикнул он. – Что мы можем сделать? Мы ничего не понимаем в кораблях, также, как и в мореплавании. – В трюме, в передней части, есть машины. Они могучи. Не могут ли они утихомирить шторм? – Сомневаюсь, – проорал в ответ я. Он кивнул, словно сообразив что-то, а потом посмотрел мне в лицо. Похоже, он признал истинность сказанного мною. – Какие у нас шансы? – спросил я. – Мало шансов. Он по-прежнему, казалось, не проявлял особого страха. Он, наверное, не понимал, насколько шторм силен. Как раз в этот момент и ударила по кораблю огромная волна, и вода с грохотом обрушилась на меня. Затем, влекомое водой, на меня обрушилось тяжелое тело Рокина. Я услышал крик. А потом я понял, что меня швырнуло с корабля, и я оказался в полном распоряжении морских волн. Я отчаянно боролся, пытаясь остаться на плаву, держа по возможности закрытыми рот и ноздри. Меня швыряло по гребням волн, бросало в ущелья со стенами из воды, пока я не заметил веревку. Я не знал, была ли она присоединена к чему-нибудь, но вцепился в нее. На другом конце ее мне показалось утешающее сопротивление. Не знаю, как долго я цеплялся за веревку, но то, к чему она была привязана с другого конца, поддерживало меня на плаву, пока шторм постепенно не стих. Я открыл залепленные водой и солью глаза в водянистом свете раннего восхода. Я увидел перед собой плавающую в воде мачту. Моя веревка была привязана к ней. Я подтянулся на руках, устало волоча себя сквозь воду. А затем, когда оказался достаточно близок к ней, то заметил, что за дерево уже цепляются несколько других. Когда я, наконец, схватился за мачту с чувством облегчения, которое было несравнимо по размерам с безопасностью, которую предполагала мачта, то увидел, что одним из выживших был Хул Хаджи, голова которого болталась от усталости. Я протянул руку и коснулся его, чтобы утешить и дать знать, что я все еще жив. В этот момент я услышал отдаленный крик слева от меня и, посмотрев в этом направлении, увидел корпус корабля, каким-то чудом все еще оставшийся на плаву. Сверкнул на солнце золотой блеск, и я понял, что Рокин тоже уцелел. Зажав веревку в зубах, я поплыл к кораблю. Вскоре веревка кончилась, а до корабля все еще было далеко, но его, к счастью, несло в моем направлении. Меня втащили на борт через некоторое время, и несколько варваров сообща подтянули веревку, а за ней и мачту. В скором времени Хул Хаджи тоже помогли подняться, и мы, предельно усталые, лежали рядом на палубе. Рокин, казавшийся столь же уставшим, привалился к поручням, которые сломались во время шторма. Он посмотрел на нас. Нам принесли откуда-то горячий напиток, и мы почувствовали себя достаточно оправившимися, чтобы сесть и обозреть корабль. С палубы практически все было сорвано яростью шторма. Уцелел только чудесный корпус, оставшийся относительно невредимым. Обе мачты, казалось, были выдраны с корнем, а большую часть фальшборта и всю палубную гарнитуру, включая и одну крышку люка, смыло за борт. Рокин подошел к нам. – Вам повезло, – заметил он. – И вам, – ответил я. – Где мы? – Где-то в Западном море. Наверное, судя по направлению шторма, ближе к нашей земле, чем к вашей. Мы можем только надеяться, что течения будут благоприятствовать нам, и мы скоро достигнем суши. Большая часть нашего провианта пропала, когда вода залила вон тот трюм, – он показал на люк с содранной крышкой. – Машины тоже находятся там, также полузатопленные – но я полагаю, что они в достаточной безопасности. – Они никогда не будут безопасными для вас, – предупредил я его. – Ничто не может повредить Рокину, – усмехнулся он, – даже этот шторм. – Если я прав относительно мощи этих машин, – сказал я ему, – то они грозят куда большей опасностью, чем этот шторм. – Врагам Рокина, наверное, – отпарировал варвар. – Рокину тоже. – Какой же вред они могут мне причинить? Я их хозяин! – Я тебя предостерег, – покачал головой я. – От чего ты меня предостерегаешь? – От твоего собственного невежества! – отрезал я. Он пожал плечами. – Чтобы пользоваться такими машинами, требуется не так уж много знаний. – Разумеется, – согласился я. – Но чтобы понять их, знания нужны. Если ты их не понимаешь, то достаточно скоро узнаешь, что они опасны. – Не поспеваю за твоими рассуждениями, брадинак. Ты мне наскучил. Я перестал пытаться спорить с варваром, хотя знал, что в данном случае, как и во всем, недостаточно знать, как и что действует. Нужно также понимать как оно действует прежде, чем его использовать к своей выгоде, и без особой опасности.8. ХРУСТАЛЬНАЯ ЯМА
Корабль достиг суши на следующий день – материка Западного континента, или острова – я тогда не знал. Мы спрыгнули с корабля на мелководье, радостно направляясь к твердой почве, пока Рокин заставлял своих людей вытащить корабль на берег. Когда они это сделали, и мы расположились в тени корпуса, отдыхая от пережитого за последние два дня, Рокин повернулся ко мне со слабым следом своей старой усмешки. – Так значит все мы теперь далеко от своего дома и от славы! – Благодаря тебе! – уточнил Хул Хаджи, откликаясь на мои собственные мысли. – Ну, – проговорил Рокин, перебирая свою золотистую бороду, забитую теперь солью. – Я полагаю, что это верно. – Ты не имеешь никакого представления о том, где мы находимся? – Никакого. – Тогда нам лучше всего идти вдоль берега в надежде найти дружественное поселение, – предложил я. – Я полагаю, что так, – кивнул он. – Но кто-то должен остаться охранять все еще остающиеся на корабле сокровища. – Ты имеешь в виду машины? – уточнил Хул Хаджи. – Машины, – согласился Рокин. – Мы могли бы посторожить их, – сказал я. – С помощью нескольких твоих людей. Рокин откровенно засмеялся. – Я, может, и варвар, друг мой, но не дурак. Нет, вы пойдете со мной. А стеречь корабль я оставлю нескольких своих людей. И вот мы отправились вдоль берега. Это был широкий, гладкий пляж, с выступающими иногда из песка скалами, а вдалеке, слегка колыхая листвой на слабом теплом ветерке, поднимался тропический лес. Место это казалось достаточно мирным. Но я ошибался. К полудню берег сузился, и мы шли намного ближе к лесу, чем раньше. Небо заволокли тучи, и воздух стал холоднее. Мы с Хул Хаджи остались без плащей и слегка дрожали в этой прохладе. Когда они напали, то нападение произошло внезапно. Они напали воющей стаей, вырвавшись из леса и направляясь на нас спереди. Это было почти пародией на человеческие существа. Они размахивали дубинами и грубо выкованными мечами, покрытые волосами и совершенно голые. Сперва я не мог поверить своим глазам, но, недолго думая, выхватил меч и приготовился встретить их. Хотя они передвигались прямо, у них были получеловеческие лица собак – самое подходящее сравнение, которое пришло мне на ум. Что важнее – издаваемые ими звуки были отличны от собачьего лая. Внешность их казалась такой экстравагантной, что я чуть было не оказался захваченным врасплох, когда первый собакочеловек подбежал, размахивая дубиной. Я блокировал удар мечом и перерезал пальцы этой твари, прикончив ее выпадом в сердце. Его место занял другой, а потом появился еще один рядом с ним. Я увидел, что мы полностью окружены стаей. Кроме Хул Хаджи, Рокина и меня, в нашем отряде было еще только двое варваров, а собаколюдей, вероятно, не меньше пятидесяти. Я прочертил мечом широкую дугу, и он врезался в шеи сразу двух существ. Морды собаколюдей покрылись пеной, а в больших глазах засветилась такая маниакальная ненависть, какую я прежде видел только в глазах бешеных псов. У меня сложилось впечатление, что если бы они покусали меня, то я скорее всего заразился бы бешенством. Еще трое пали под моим клинком, и я стал вспоминать все прежние уроки месье Кларше, моего французского учителя фехтования в детстве. Я опять превратился не более чем в боевую машину, сосредоточившись целиком на защите себя от этой бешеной атаки. Мы сдерживали их немного дольше, чем ожидал я, пока давление их не стало таким интенсивным, что мечом невозможно было двинуть. Бой перешел в кулачный, я бил и ногами, но по меньшей мере дюжина насевших на меня тварей свалила меня на землю. Я почувствовал, как меня схватили за руки, но я все еще пытался бороться с ними. Они же вскоре связали меня. Я опять стал пленником. Выживу ли я, чтобы спасти Кенд-Амрид? Теперь я начал сомневаться в этом. Я был уверен, что меня преследовала неудача, и чувствовал, что встречу свою смерть на этом таинственном Западном берегу. Собаколюди перенесли нас в лес, разговаривая между собой на резком, лающем диалекте общего марсианского языка. Мне было трудно понять их. Один раз я мельком увидел Хул Хаджи, которого несли несколько этих тварей, а также блеск золотых доспехов Рокина, и решил поэтому, что он тоже жив. Но я никогда больше не видел остальных варваров, и поэтому сделал вывод, что их убили. В конечном итоге лес вдруг кончился, и открылась поляна, и деревня на ней. Дома представляли собой всего лишь грубо сделанные укрытия, но они оказались построенными на развалинах куда более древних зданий, не имевших, казалось, ничего общего с шивами или якша. Некогда здания, должно быть, были массивными и прочными, но воздвигла их более примитивная раса, чем те народы, которые уничтожили себя в Великой Войне. Когда нас втащили в одно из укрытий и свалили на дурно пахнущий пол – наполовину из камня, наполовину из затвердевшей глины, я ломал голову над вопросом о расе, забросившей это поселение прежде, чем его обнаружили собаколюди. Прежде, чем я успел что-нибудь сказать об этом Хул Хаджи или Рокину, под крышу вошел собакочеловек покрупнее, чем остальные, и посмотрел на нас своеобразными песьими глазами. – Кто вы? – спросил он со странным акцентом. – Путешественники, – ответил я. – Мы не причинили вам никакого вреда. Почему вы напали на нас? – Ради Первых Хозяев, – ответил он. – Кто такие Первые Хозяева? – спросил лежавший рядом со мной Хул Хаджи. – Первые Хозяева – это те, кто освободил нас из Хрустальной Ямы. – Мы с ними не знакомы, – заявил я. – Почему они велели вам напасть на нас? – Они нам не велели. – Они отдают вам приказы? – спросил Рокин. – Если так, то скажите им, что они взяли в плен Рокина Золотого, и если он умрет, его воины покарают их. Тяжелый рот собакочеловека растянулся в некоем подобии улыбки. – Первых Хозяев нельзя покарать – они карают. – Мы можем с ними поговорить? – Они не разговаривают. – Мы можем увидеть их? – спросил Хул Хаджи. – Вы увидите их, а они увидят вас. – Ну, по крайней мере мы, может быть, сумеем вразумить этих Первых Хозяев, – сказал я Хул Хаджи и вернул свое внимание собакочеловеку, который, как казалось, был вожаком стаи. – Эти Первые Хозяева похожи на вас? – спросил я. – Или они похожи на нас? Вожак стаи пожал плечами. – Ни то, ни другое, – ответил он. – Больше похожи на этого, – он показал на Хул Хаджи. – Они – народ моей расы, – Хул Хаджи немного приободрился. – Тогда они наверняка поверят, что мы не желали им никакого вреда. – Только похожи на тебя, – поправил его собакочеловек. – Но не такие же, как ты. Вы увидите их в Хрустальной Яме. – Что это за Хрустальная Яма? – проворчал Рокин. – Почему мы не можем увидеться с ними сейчас? Собакочеловек снова, казалось, улыбнулся. – Они еще не явились, – ответил он. – А когда они явятся? – Завтра. Когда солнце поднимется выше всего. Сообщив это, собакочеловек покинул жилище. Каким-то образом нам удалось немного поспать, надеясь, что таинственные Первые Хозяева окажутся более разумными и более приветливыми, чем собаколюди, которые явно прислуживали им. На следующий день, как раз перед полуднем, в помещение вошли несколько собаколюдей, и подняв нас, вытащили на солнце. Вожак стаи ждал, стоя на куске обвалившейся кладки, с мечом в одной руке и палкой в другой. На конце палки сверкал невероятных размеров камень, похожий на рубин. Я не понял его значения, за исключением того, что он, наверное, служил каким-то знаком превосходства этого существа над другими. Нас снова унесли с поляны в лес, но на этот раз в скором времени мы очутились на намного большей поляне, на противоположном конце которой находился лес. Здесь колыхалась соляная трава, поднимающаяся до пояса и щекотавшая мне лицо, когда меня несли. Трава вскоре стала скуднее, открывая участок отвердевшей глины, в центре которого находилось большое пространство из какого-то сверкающего так, что у меня заболели глаза, материала. Он мерцал и сверкал на солнце, словно огромный алмаз. Только когда нас поднесли ближе, я понял, что это, должно быть, и есть Хрустальная Яма. Это была яма. Стенки ее были образованы чистым фасеточным хрусталем, отражавшим свет под столькими углами, что сперва было почти невозможно угадать, что это такое. Но где же эти Первые Хозяева, похожие на Хул Хаджи? Я не видел никого, кроме своих спутников и принесших нас сюда собаколюдей. Нас отнесли к краю сверкающей ямы и перерезали путы. Мы огляделись, недоумевая, что должно случиться, и никто из нас не подготовился к полученным нами неожиданным толчкам. К счастью, стенки ямы оказались не особенно крутыми. Мы проскользили до дна, едва в состоянии затормозить свой спуск, и оказались в куче на дне. Когда мы поднялись на ноги, то увидели, что собаколюди отступают от края ямы. Мы не могли догадаться, с какой целью нас сюда заточили, но все мы встревожились, подозревая, что все не так просто. Примерно через час, на протяжении которого мы по большей части вынуждены были держать глаза закрытыми, нам пришлось оставить попытки вскарабкаться по стенкам, и мы принялись разрабатывать другие способы спасения. Казалось, что таковых не существовало. Затем мы услышали сверху звук и увидели смотрящее на нас лицо. Сперва мы подумали, что оно, должно быть, принадлежит одному из Первых Хозяев, но лицо не совпадало с описанием. Потом мы поняли, что оно принадлежало девушке. Но наверное, девушка – неподходящее определение, так как это лицо, хотя и умное и приятное на вид, было мутировавшей мордочкой кошки. Только глаза и заостренные уши служили свидетельством того, что ее предками были не обезьяны, однако увидеть это существо было таким же сюрпризом, как и встретиться ранее с собаколюдьми. – Вы враги ищеек Хага? – долетел до нас шепот девушки. – Кажется, они считают нас таковыми, – ответил я. – А ты тоже их враг? – Весь мой народ, а он ныне малочисленный, ненавидит собачий народ Хага, – с неистовой страстью ответила она. – Многих из нас принесли сюда на встречу с Первыми Хозяевами. – Они также и ваши хозяева? – спросил Хул Хаджи. – Были ими, но мы отвергли их. – Ты пришла спасти нас, девушка? – вмешался практичный и нетерпеливый голос Рокина. – Я пришла попробовать это сделать, но времени мало. Вот, – она протянула руку за край ямы, и вниз скользнуло несколько предметов. Я сразу же увидел, что это три меча, непохожие на те, что мы видели в руках собаколюдей, и все же не такие, как были и у нас. Они были покороче мечей, к которым я привык, но великолепно сделанные. Подобрав один и вручив другие своим спутникам, я осмотрел его. Он был легким и прекрасно закаленным. Немного чересчур легкий, на мой взгляд, но это лучше, чем ничего. Я почувствовал себя более уверенным. Я поднял голову и увидел, что лицо девушки-кошки приобрело встревоженное выражение. – Слишком поздно помогать вам выбраться их Ямы, – сказала она. – Прибыли Первые Хозяева. Я желаю вам всего хорошего. Она моментально исчезла. А мы напряженно, с мечами в руках ждали, откуда появятся Первые Хозяева.9. ПЕРВЫЕ ХОЗЯЕВА
Они появились сверху, шумно хлопая огромными крыльями в неподвижном воздухе. Они оказались несколько поменьше, чем Хул Хаджи, но в основном внешне очень похожими на него, хотя кожа их была гораздо более синей, странной, нездоровой голубизны, необыкновенно контрастировавшей с их красными разинутыми ртами и длинными белыми клыками. Крылья их росли частично из плеч, а частично из-за бедер. Они были больше похожими на зверей, чем на людей. Наверное так же, как звери – кошки и собаки – стали людьми, так эти люди превратились в зверей. Глаза их светились странным, неразумным огнем, отражавшим, казалось, не безумие людей, а безумие зверей. Они парили над нами, их огромные крылья били в воздухе, вызывая ерошивший нам волосы холодный ветер. – Джихаду! – недоверчиво ахнул Хул Хаджи. – Что они такое? – спросил я, не сводя глаз со странных созданий над нами. – Они легенда в Мендишаре. Древняя раса, схожая с моим народом, изгнанная из наших земель из-за их таинственных магических экспериментов. – Магических? Я думал, в Мендишаре никто не верит в такую чушь! – Конечно не верят. Я же говорю тебе, джихаду были просто легендой. Но теперь я больше ни в чем не уверен. – Как бы там они не назывались, у них по отношению к нам дурные намерения, – вмешался Рокин Золотой, жмуря глаза от слепящего блеска Хрустальной Ямы. Один за другим Первые Хозяева или, как их назвал Хул Хаджи, – джихаду, – начали спускаться в Яму. Ужаснувшись, я приготовился защищаться. Первый кинулся, издавая пронзительный крик, разинув красный рот, обнажив клыки, вытянув руки, пытаясь схватить меня когтями. Я рубанул по руке мечом. По крайней мере, джихаду оказались смертными, так как из раны пошла кровь, подумал я, когда он завертелся в воздухе и атаковал меня с другого направления. Теперь к первому присоединились и другие, и мои товарищи стали защищаться также, как и я. Я ткнул мечом в лицо первого нападающего, и получил почти наслаждение, попав ему в лицо и убив его. Первые Хозяева оказались явно неподготовленными к вооруженному сопротивлению, и поэтому первую атаку мы отбили сравнительно легко. На меня налетел еще один, открыв для идеального удара грудь. Нам было на руку то, что дно ямы было довольно узко, и не слишком много джихаду могли одновременно добраться до нас, но теперь мы вынуждены были влезть на трупы убитых нами тварей. В некотором смысле это дало нам твердую опору для ног. Кругом царила сплошная сумятица – бьющиеся крылья, оскаленные морды, горящие глаза и цапающие когтистые руки. Я отсек голову еще одному и отшатнулся, когда в лицо мне фонтаном брызнула липкая, плохо пахнущая кровь. Затем, когда я опять схватился с новым чудовищем, то почувствовал, как мои плечи схватили будто в болезненные тиски. Я попытался повернуться, рубануть напавшего на меня, но даже когда я сделал это, меня подняли в воздух, и я на мгновение потерял равновесие. Меня уносил вверх один из джихаду. Очутившись высоко над лесом, я все равно пытался уничтожить своего пленителя, даже если это означало мое собственное уничтожение, настолько отвратительным он мне казался. Затем я заметил, что Хул Хаджи и Рокин оказались в ситуации, сходной с моей, но малое число последовавших за нами Первых Хозяев заставило меня осознать с мрачным удовлетворением, сколь многих из них мы убили. Изворачиваясь в болезненной хватке наполовину вонзившихся мне в плечи когтей, я попытался ткнуть назад мечом, по рукам и торсу. Я заметил, как справа от меня Рокин попытался сделать то же самое. Благодаря своему панцирю он изловчился вывернуть из хватки джихаду одно плечо. Затем он принялся рубить по центру груди создания. Тварь просто отпустила Рокина. Я в ужасе увидел, как варвар заорал и полетел к каменистой земле, занявшей место леса под нами. Золотой панцирь закрутился в воздухе, быстро приземляясь. А потом он стукнулся об землю. Я увидел, как от удара он раскололся, и окровавленный труп с минуту катился под уклон, а потом стал совершенно неподвижным. От этого зрелища мне сделалось дурно. Хотя я знал, что Рокин был варваром и врагом, но на свой лад он был добрым малым – человеком в полном смысле слова. И с гибелью Рокина мы могли больше никогда не обнаружить украденные им из подземелий якша машины, допуская конечно, что мы переживем теперешнее приключение. Я откинулся назад, обвив ногами одну из болтавшихся ног джихаду. Этого он, кажется, не предвидел. Как и я. На меня нашло внезапное вдохновение, и теперь я был хоть немного гарантирован, если меня точно так же кинут на землю. Затем я так переменил позу, чтобы удобно было колоть мечом, и ударил. Раны, которые я смог нанести, не были серьезными, но их было достаточно, чтобы заставить его визжать и шипеть. Я почувствовал, что его хватканачинает слабеть и приготовился к тому, что должно было случиться дальше. Я кольнул еще несколько раз. Он завизжал еще громче. Одна лапа выпустила мое плечо, и мне пришлось уворачиваться, когда он принялся молотить ею по мне. Я рубанул по когтистой руке и отсек ее. Это оказалось для него достаточно. Он разжал вторую лапу, и я по инерции упал вперед. И только мои ноги, обвившиеся вокруг его ноги, помешали мне присоединиться к Рокину. Я изловчился, и сумел покрепче схватиться за его ногу, на сей раз рукой. Он затряс ногой, теряя равновесие в воздухе, а затем начал постепенно снижаться, хотя крылья его забили сильнее, пытаясь удержать его на высоте. Мало– помалу, к моему глубочайшему удовлетворению мы начали спускаться все ниже и ниже, пока он пытался освободиться от меня. Но я по-прежнему цеплялся за него, ударяя легким мечом. Он истекал кровью и с каждой минутой становился все слабее и слабее. Затем вдруг, последними конвульсиями он сумел освободиться от меня. С мыслью о том, что все было напрасно, я потерял опору и стал падать. Падал я, к счастью, недолго, потому что скалистую землю опять сменил лес, и я упал на ветви дерева. Гибкие ветки задержали меня, словно мягкий гамак, и через минуту я смог выбраться и принялся спускаться на землю. Я тревожился, как там дела у Хул Хаджи. Я молился, чтобы он смог, подобно мне, спастись из когтей своего пленителя. Лес на минуту стих, и я услышал справа от себя громкий треск. Я побежал на звук и обнаружил труп убитого мною джихаду. Похоже, он умер от ран. Я содрогнулся, посмотрев на отвратительного полузверя, и решил, что лучше всего будет снова влезть на дерево и попытаться разглядеть Хул Хаджи. Затем я приступил к осуществлению своего замысла. Вдалеке было пятнышко, затем я заметил другое – летящие твари, но так далеко, что я не мог разглядеть, несли ли кого-нибудь с собой джихаду, или нет. С упавшим сердцем я вернулся на землю. Мне нужно каким-то образом отыскать логово джихаду и попытаться спасти моего друга, надеясь, что твари не убьют его сразу же. Но как? На этот вопрос мой мозг отказывался ответить. Я гадал, не сможет ли девушка-кошка, которая помогла нам в первый раз, снова помочь нам, если мне удастся установить с ней связь. Я решил, что отыскать ее – это самое лучшее, что я могу сделать, и отправился, стараясь придерживаться примерного направления на Хрустальную Яму. Даже если я не найду девушку-кошку, то, может быть, сумею захватить в плен собакочеловека и получить от него нужные сведения.10. НАРОД ПУРХИ
Я, должно быть, шел много шати – основная марсианская мера времени – пересекая каменистую равнину, где разбился насмерть Рокин и пробираясь по следующему лесу, прежде чем услышал какие-то признаки жизни. В подлеске раздавался треск. Звук был такой, словно ломился какой-то крупный зверь. Решив быть осторожным, я выхватил меч и отступил в тень. Внезапно в лесу появилось зрелище, снова почти невероятное, но на этот раз из-за того, что существо имело поразительное сходство с земным животным. Животное, с которым я столкнулся, и чьи сверкающие глаза заметили меня несмотря на все попытки укрыться, было почти идентичным земной полевой мыши. Но эта полевка была большой. Очень большой. Она была размером со среднего слона. И к тому же голодная и, несомненно, всеядная. Она стояла сгорбившись, рассматривая меня, дергая носом и сверкая глазами, наверное, готовясь к прыжку. Я так устал от всего пережитого после Кенд-Амрида, а также от проделанного мною пешего перехода до сюда, что надеялся, так как шансов отбить ее нападение у меня не было, только на чудо. Внезапно со странным пронзительным визгом тварь бросилась на меня. Я нырнул за дерево, и это, кажется, сбило ее с толку. Она не отличалась особым умом, что вызвало у меня некоторое облегчение. Но туша этого зверя будет большим преимуществом передо мной, если дело дойдет до схватки. Она на мгновение остановилась. А затем принялась осторожно огибать дерево. Я тоже двигался осторожно, равномерно с нею огибая ствол. Вдруг мышь сделала резкое движение, отчего часть ее тела налегла на дерево, и то закачалось, а меня кинуло назад, и я беспомощно распластался на мгновение на земле. Я уже совсем было встал, когда полевка кинулась ко мне, раскрыв свои относительно маленькие челюсти, однако, способные откусить любую часть моего тела. Едва двигаясь от усталости, я рубанул мечом по морде; в глазах у меня плавали цветные пятна, и я старался сберечь те малые силы, которые у меня еще оставались. Зубы промахнулись. Я не имел возможности спастись бегством, так как массивная тварь носилась быстрее меня, и я знал, что не смогу долго сдерживать ее. Я знал, что мне предстоит умереть. Наверное, эта уверенность и помогла мне вызвать последние резервы сил, и я снова рубанул мечом по морде, пустив кровь. Тварь казалась озадаченной, но не отступила, просто осталась на месте, пока решала, как лучше всего напасть на меня. Я снова зашатался от предельного утомления, пытаясь изо всех оставшихся сил остаться на ногах и умереть, сражаясь. Затем сверху и сзади по телу твари застучал дождь тонких стрел, заставив ее завизжать и скорчиться в конвульсиях мучительной боли. Несколько стрел хлестнуло ее по глазам, когда она повернулась к новым врагам. Я подумал, что должно быть сплю, что мое невезение не могло так быстро смениться удачей. Полевка завизжала и беспорядочно закрутилась. Меня сшиб ее хлеставший хвост, который извивался в предсмертной агонии. Я лежал на пружинящей траве, с широко раскрытыми глазами, благодаря провидение за свое спасение и молясь, чтобы не попасть в руки еще одного варварского племени. Словно издали я услышал тихие переговаривающиеся голоса и увидел пляшущие вокруг полевки грациозные фигуры. Они были похожи на кошек и, прежде, чем окончательно потерять сознание, я, помнится, размышлял о парадоксе множества кошек, атакующих огромную мышь. Затем навалилась желанная тьма. Наверное, я отрубился, а может быть всего лишь уснул. Я пришел в себя от прикосновения теплой нежной руки к моей голове и, открыв глаза, увидел лицо девушки-кошки, которую в первую очередь мне нужно было благодарить за мое спасение. – Что случилось? – спросил я, с некоторым трудом ворочая языком. – Мы охотились на рети и нашли свою дичь, – мягко ответила она. – А наша дичь охотилась на тебя – и мы смогли одновременно убить рети и спасти тебя. Где твои друзья? Я покачал головой. – Одного убили Первые Хозяева, – ответил я. – А другой, я думаю, унесен ими. Я не знаю, как он там. – Ты дрался с Первыми Хозяевами и выжил! – глаза ее сияли восхищением и еще чем-то. – Это великий день! Все, на что мы надеялись, когда я принесла вам мечи – это что вы сумеете умереть, сражаясь. Ты будешь героем среди нашего народа! – У меня нет желания быть героем, – сказал я ей. – Всего лишь выжить и иметь шанс найти своего исчезнувшего друга. – Которого из них унесли? – спросила она. – Синего гиганта, Хул Хаджи, моего самого близкого друга. – У него мало шансов, – сказала она. – Но какая-то надежда ведь есть? – Теперь – нет. Первые Хозяева наверняка попировали прошлой ночью. – Прошлой ночью! – я сел. – Сколько же я спал? – Почти два дня, – просто сказала она, – ты был очень усталым, когда мы принесли тебя сюда. – Два дня! Так долго! – Это не так уж и долго, учитывая то, что ты совершил. – Но слишком долго, – возразил я, – так как нет больше возможности спасти Хул Хаджи. – Как бы ты не поступил, наверняка не добрался бы до обиталища Первых Хозяев, – утешала она. – Воздай честь своему другу как доблестному герою. Помни, как он умер, и что это значит для тех, кто все эти века страдал от тирании Первых Хозяев! – Я знаю, что на самом деле не могу винить себя за смерть Хул Хаджи, – сказал я, справляясь с чувством, испытанным мною при известии о гибели друга. – Но это не мешает мне скорбеть по нему. – Скорби по нему, если хочешь, но также и чти его. Он убил много Первых Хозяев. Никогда в Хрустальной Яме не бушевало такой битвы. Даже сейчас дно ее завалено трупами Первых Хозяев. Там легла, по меньшей мере, половина их. Расскажи мне о бое. Я как можно короче рассказал ей о том, что случилось. Глаза ее загорелись еще ярче, и она стиснула руки. – Какая великая повесть для наших поэтов! – ахнула она. – О, как твое имя, герой. И как имена твоих друзей? – Моих друзей звали Бради Хул Хаджи из Мендишара за океаном и, – я замолк, так как Рокин не был мне настоящим другом, хотя и являлся доблестным товарищем по оружию в наших боях. – Бради Рокин Золотой из Багарада. – Бради! – воскликнула она. – А ты? Ты что – бради всех бради? Ты не можешь быть кем-то меньшим по званию. Я улыбнулся ее энтузиазму. – Нет, – сказал я. – Меня зовут Майкл Кэйн, брадинак по браку с королевским домом Варналя, лежащего далеко на юге за морем. – С юга, из-за моря. Я слышала сказки об этих мифических землях, странах богов. Здесь никаких богов нет. Они покинули нас. Они возвращаются спасти нас от Первых Хозяев. – Я не бог, – заверил я ее. – И мы на юге не верим в богов. Мы верим в Человека. – Но разве Человек не бог в своем роде? – невинно спросила она. Я снова улыбнулся. – Он иногда так думает. Но люди в моей стране – не сверхъестественные существа. Они, подобно вам, из плоти и крови. Вы ничем не отличаетесь, хотя предки у нас разные. – Первые Хозяева говорили нам совсем иное. – Первые Хозяева умеют разговаривать? – поразился я. – А я считал их неразумными зверьми! – Теперь они не говорят с нами. Но они оставили свои записи, и именно их мы читаем, и в былые времена чтили. Народ Хага все еще поклоняется Первым Хозяевам, но мы – нет. – Почему они поклоняются Первым Хозяевам? Я мог бы предположить, что они будут драться с такими тварями, – заметил я. – Первые Хозяева создали нас, – просто объяснила она. – Создали вас? Но как? – Мы не знаем, как – за исключением нескольких обычных рассказов, повествующих о Первых Хозяевах, как о слугах еще более ранних хозяев, расе великих магов, ныне исчезнувших с Вашу. Я догадался, что она говорила о шивах и якша, правивших некогда всем Марсом – или Вашу, как они его называли. Наверное, крылатые синие люди, бежавшие в древние времена из Мендишара, отыскали какие-то остатки более древней расы и научились кое-чему из ее науки. – О чем говорится в ваших повестях о Первых Хозяевах? – спросил я. – Они рассказывают, что Первые Хозяева создали наших предков, налагая заклинания на их мозги и формируя их тела так, что они могли думать и ходить, как люди. Некоторое время наше племя – народ Пурхи, и другое племя – народ Хага – жили вместе в городе Первых Хозяев, служа им и принося себя в жертву для их магических целей. Это показалось мне наиболее ужасной формой вивисекции. Я перевел рассказ девушки на более научный язык. Первые Хозяева усвоили науку от еще более древней расы. Они применили ее, наверное, путем какого-то тонкого хирургического вмешательства для создания человекообразных существ из кошек и собак. Потом эти создания использовались в качестве рабов и подопытных животных. – А что случилось потом? – спросил я. – Как эти три народа разделились? – Это трудно понять, – она наморщила лоб. – Но мысли Первых Хозяев все больше и больше замыкались на себе. Магия, которую они открыли, принося нас в жертву, была применена к их собственным телам и мозгам. И они стали как… как животные. Ими овладело безумие. Они покинули свой город и улетели в пещеры в горах далеко отсюда. Но каждые пятьсот шати они возвращаются к Хрустальной Яме, созданной либо ими самими, либо древними, которым они служили, за питанием. – Что является их обычной пищей? – спросил я. – Мы, – мрачно ответила она. Я почувствовал отвращение. Я мог частично понять психологию, позволяющую собаколюдям Хага приносить чужаков в жертву своим странным хозяевам, но можно было только ненавидеть психологию, позволяющую им отдавать в пищу своих кузенов. – Они едят народ Пурхи! – содрогнулся я. – Не только Пурхи, – покачала головой она. – Лишь когда нас захватывают в плен. Когда у них нет пленников, они отбирают среди своих самых слабых, чтобы снабдить пищей Первых Хозяев. – Но что же побуждает их совершать такие страшные преступления? – ахнул я. Ответ девушки был прост и показался мне очень глубоким: – Страх. Я кивнул, гадая, не являлось ли это чувство существенной причиной большинства зол. Разве не были все политические системы, все искусство, все человеческие действия направлены к созданию ценного чувства безопасности? Именно страх порождал безумие, порождал войны. Страх на самом деле порождал то, чего мы больше всего и страшились. Не потому ли восхваляли бесстрашного человека – потому что он не представлял угрозы для других? Наверное, хотя существует много видов бесстрашия, и полное бесстрашие порождало цельного человека – человека, не нуждавшегося в демонстрации своего бесстрашия. Фактически оказывается, что истинный герой – это невоспетый герой. – Но вас в одном из племен гораздо больше, чем Первых Хозяев, – сказал я. – Почему вы не соберетесь вместе и не разобьете их? – Страх, вызываемый Первыми Хозяевами, порожден не их численностью, – ответила она. – И не их физическими особенностями. Хотя это и может иметь какое-то отношение. Страх лежит глубже, я не могу это объяснить. Я подумал, что скорее всего понял, что она имеет в виду. На Земле мы называем это простым термином. Мы называем это страхом перед неизвестным. Иногда это страх мужчины перед женщиной, которую он не может понять; иногда это страх человека перед чужаком – человеком иного типа, или даже из другой части его собственной страны. Иногда это страх перед машинами, которыми он манипулирует. Отсутствие понимания либо на личном уровне, либо на более общем, создает подозрение и страх. Именно их страх, подумал я, а не их происхождение, сделал собаколюдей меньше, чем люди. Я сказал кое-что из этих размышлений девушке, и она понимающе кивнула. – Я думаю, ты прав, – сказала она. – Наверное, именно поэтому мы выжили и развиваемся, а собаколюди катятся все дальше и дальше вниз, становясь все больше похожими на своих предков. Я поразился ее быстрой сообразительности. Хотя я и колебался выносить такие суждения о животных, мне казалось, что трусливая сущность собак и смелая сущность кошек может отразиться на развившихся из них видах. Таким образом, я не мог так уж сильно винить собаколюдей за их жестокость, хотя это и не приглушало мою глубокую ненависть к тому, чем они стали. Потому что, думал я, точно так же, как могут быть и смелые собаки – на Земле есть много рассказов про них – так и эти люди могли однажды обрести смелость. Я оптимист, и мне пришло в голову, что точно так же, как я могу найти в конце концов средство исцелить чуму, заразившую Кенд-Амрид, я, может, также смогу помочь собаколюдям уничтожить причину их страха – ибо для Первых Хозяев, разумеется, не существовало никакой надежды. Они были злом. Зло – всего-навсего еще одно слово для обозначения того, чего мы страшимся. Обратитесь к библии, если желаете убедиться в страхе перед женщинами, побудившем древних пророков назвать их злом. А зло порождает зло. Уничтожьте первоисточник, и будет надежда для остального. Я опять пересказал кое-что из этих умозаключений девушке-кошке. Она нахмурилась и кивнула. – Трудно вообще сочувствовать жителям Хага, – сказала она. – Ибо то, что они сделали с нами в прошлом – было ужасным. Но я постараюсь понять тебя, Майкл Кэйн. Она встала с места, где сидела передо мной, скрестив ноги. – Мое имя – Фаса, – представилась она. – Пойдем, посмотришь, где мы живем. Она вывела меня из здания, где я лежал в полутьме и был не в состоянии четко рассмотреть построенный среди леса миниатюрный городок. Ни одно дерево не было срублено при постройке этого города кошачьим народом. Он сливался с лесом, предлагая таким образом куда более хитрую защиту, чем общепринятые изгороди и частоколы, применяемые большинством живущих в джунглях племен. Жилища были только одно-двухэтажные, сделанные из глины, но глина была обработана очень красиво. Здесь имелись крошечные шпили и минареты, разрисованные бледными замечательными красками, смешивая приятные формы и цвета с выдумкой природы. У меня будто пелена спала с мозга, когда я увидел это зрелище, и Фаса, посмотрев на меня, пришла в восторг, видя, что я заворожен красотой поселения. – Тебе нравится? – Очень нравится! – с энтузиазмом ответил я. Этот поселок больше, чем все, увиденное мною на Марсе, напоминал мне Варналь, Город Зеленых Туманов. Он обладал тем же ароматом покоя – полного жизни покоя, если угодно, который заставлял чувствовать меня в Варнале так уютно и непринужденно. – Вы – народ с художественным вкусом, – сказал я, дотронувшись до все еще висевшего у меня на боку меча. – Я сразу понял это, когда ты принесла нам мечи. – Стараемся, – ответила она. – Иногда я думаю, что если сделать приятным окружение, оно поможет душе. Снова я поразился простой глубине – здравому смыслу, если хотите – исходившей от этой простой девушки. Да и что есть глубочайшая мудрость, как не самый здоровый вид здравого смысла, истинно здравого смысла? Живя в изолированных условиях, теснимые врагами со всех сторон, эти кошколюди, казалось, имели что-то более ценное, чем большинство народов, даже на Марсе и, разумеется, на Земле. – Пошли, – сказала она, взяв меня за руку. – Ты должен познакомиться с моим старым дядюшкой Слуррой. Я думаю, он тебе понравится, Майкл Кэйн. Он уже восхищается тобой, но восхищение не всегда порождает приязнь, не правда ли? – Согласен, – с чувством ответил я и позволил ей провести себя к одному из прекрасных зданий. Чтобы войти, мне пришлось нагнуть голову, и я увидел в помещении старого человека, сидевшего расслаблено и непринужденно в покрытом искусной резьбой кресле. Он не поднялся, когда я вошел, но выражение его лица и наклон головы показали мне, что он относится ко мне с большим уважением, чем любой пустой жест вежливости, какой я получал когда-либо на Земле. – Мы не знали, какое благо принесете вы народу Пурхи, когда посылали к вам Фасу с мечами, – проговорил он. – Благо? – переспросил я. – Неизмеримые блага, – ответил он, предлагая мне жестом сесть в кресло рядом с ним. – Увидеть Первых Хозяев разбитыми, а они были разбиты в более глубоком смысле, чем ты можешь понять – воочию убедиться, что их можно убить – вот в чем больше всего нуждался мой народ. – Наверное, – кивнул я, соглашаясь и чтобы дать понять, что я понимаю его слова. – Это поможет также и Хагу. Он с миг размышлял над этим прежде, чем ответить. – Да, это возможно, если только они не зашли по своей дороге слишком далеко. Это заставит их усомниться в силе Первых Хозяев, точно так же, как усомнились много лет назад мы – задолго до времени моего деда, в век Миснаша Основателя. – Мудреца вашего народа? – уточнил я. – Основателя нашего народа, – ответил старейшина. – Он научил нас одной великой истине, и он был мудрейшим из пророков. – И что это за истина? – Никогда не ищите пророков, – улыбнулся Слурра. – Хватит одного – и он мудр. Я поразмыслил над тем, насколько это соответствовало истине, и как хорошо подходили слова Слурры к ситуации на Земле, где очень скоро забывали старых пророков и искали новых, вместо того, чтобы изучать уже открытые истины. Не зная, что им нужно, целые нации (на ум сразу приходит пример Адольфа Гитлера) позволяли искусственным пророкам делать попытки исцелить их болезни. Все, к чем приводили такие пророки – это ввергали народ в еще более худшее положение, чем он был до того. Я довольно долго беседовал со стариком, и находил разговор очень содержательным. Затем он проговорил: – Все это достаточно хорошо. Но мы должны что-то сделать, чтобы помочь тебе. – Спасибо, – поблагодарил я. Я вспомнил о машинах, оставленных на берегу в корабле. Вот что будет моей первой целью, решил я. Если кошколюди смогут помочь мне, это намного облегчит дело. Я рассказал старому Слурре о причинах моего пребывания здесь. Он степенно выслушал меня, и когда я закончил, сказал: – У тебя благородная миссия, Майкл Кэйн. Нам следует гордиться, что мы будем помогать тебе в ней. Как только ты подготовишься, отряд моих воинов отправится с тобой к этому кораблю, и машины можно будет перенести сюда. – Вы уверены, что хотите, чтобы они находились здесь? – спросил я его. – Машины опасны, как мне думается, только в руках опасных людей. Именно таких-то людей мы и должны остерегаться, а не их орудий, – ответил Слурра, которому я уже объяснил принципы работы машин. На том и порешили. В скором времени возглавляемая мною экспедиция отправилась к побережью. Я не собирался ввязывать туземцев в схватку с варварами – да и вообще не собирался причинять вреда варварам, попавшим из-за Рокина в опасную ситуацию. Я надеялся, что демонстрация силы и несколько разумных слов в совокупности с информацией, что Рокин теперь мертв, поможет мне убедить их уступить нам. Событиям суждено было обернуться совсем не так, как я предполагал.11. «МАШИНЫ ИСЧЕЗЛИ!»
Нам потребовалось некоторое время, чтобы добраться до побережья, и еще немного дальше, пока мы добирались по нашим следам до того места, где остался корабль. Когда мы приблизились к кораблю, я заметил, что там, кажется, что-то не так. Не было признаков жизни, все тихо, как в могиле. Я припустил бегом, а кошколюди – следом за мной. Их было около двадцати, хорошо вооруженные луками и мечами, и они едва ли понимали, чем являлись для меня на этом Западном континенте. Когда я добрался до корабля, то увидел признаки боя, происшедшего совсем недавно. Вслед за этим были обнаружены два мертвых варвара, жестоко забитые до смерти. Зефа, командир отряда, обследовал оставленные следы. Затем его умное кошачье лицо обратилось ко мне. – Если я не ошибаюсь, Майкл Кэйн – новые жертвы для Первых Хозяев, – сказал он. – Здесь побывали жители Хага. Они взяли пленных. – Их надо спасти, – мрачно сказал я. Он покачал головой. – Жители Хага, должно быть, гадали, откуда вы взялись, и проследили ваш путь. Это случилось два дня назад. Первые Хозяева еще не вернутся к Яме, но вас спасло от их развлечений только то, что ваше появление совпало с последним визитом Первых Хозяев. – Какого именно развлечения? – Страшного – ужаснейших пыток. Я не думаю, что ты найдешь своих друзей живыми разумом, хотя они и доживут до следующего визита Первых Хозяев. Я ощутил ужас, а потом подавленность. – И все-таки мы должны будем сделать все, что сможем, – твердо сказал я. Я влез на борт корабля и пошел по наклонной палубе к трюму, где, как я знал, хранились машины. Я заглянул туда. И не увидел ничего, кроме соленой воды. – Машины исчезли! – закричал я, побежав обратно к сломанным поручням и подзывая отряд. – Машины исчезли! Зафа поднял голову и посмотрел на меня с удивлением в глазах. – Они забрали их? Непохоже на них. – Тем не менее, машины исчезли, – подтвердил я, слезая с борта корабля. – Тогда мы должны поспешить вернуться к деревне Хага и посмотреть, не сможем ли мы отбить их! – храбро сказал Зафа. Мы повернулись и стали возвращаться тем же путем, каким пришли. – Прежде чем мы сделаем это, нам нужно подкрепление, – сказал я. – Наверное, – задумчиво согласился Зафа. – Но в прошлом такого числа бывало достаточно. – Вы прежде нападали на Хага? – Когда это бывало необходимо. Обычно, когда надо было спасти своих. – Я не могу втягивать вас в бой, – сказал я. – Не беспокойся, этот бой и наш, и твой – это связано, потому что у нас общее дело, – сказал Зафа. Я с уважением отнесся к его словам и понял его чувства. Таким образом мы спешно направились к поселению Хага. Когда мы подошли, Зафа и его воины начали проявлять больше осторожности, и командир отряда сделал мне знак следовать за ним. Я не мог двигаться с грацией кошачьего народа, продвигавшегося теперь совершенно бесшумно по лесу, но делал все, что было в моих силах. Вскоре мы лежали в подлеске, глядя на убогую деревню Хага, построенную, как я узнал, на развалинах покинутого города Первых Хозяев. Мы услышали откуда-то бессмысленные мучительные крики, и я понял, что они означали. На этот раз Зафа удержал мою руку, когда я импульсивно сделал попытку подняться. – Пока нет, – едва слышно произнес он. Я вспомнил схожее предупреждение, данное мне Хул Хаджи, и понял, что Зафа прав. Мы будем действовать, но только в нужный момент. Оглядывая лагерь, я вдруг увидел машины. Их окружала группа собаколюдей, которые были явно озадачены. Что же послужило причиной того, что они притащили сюда эти машины. Какая-то атавистическая память? Какая-то ассоциация с Первыми Хозяевами, которых они пытались такой жалкой и нечеловеческой ценой ублажить? Наверное, это не было полным ответом. Не знаю. Факт оставался фактом – они были здесь, и мы должны каким-то образом освободить их. А также спасти машины. Внезапно в воздухе над нами возникло движение, и я был поражен, увидев спускающихся в деревню Первых Хозяев. Зафа был поражен ничуть не меньше меня. – Почему они здесь? – прошептал я. – Они же прилетают кормиться только к Хрустальной Яме каждые пятьсот шати?! – Не могу представить, – ответил Зафа. – Я думаю, Майкл Кэйн, мы стали свидетелями чего-то важного, хотя я и не могу понять сейчас, что это значит! С громким шумом бьющихся кожаных крыльев, Первые Хозяева приземлились поблизости от машин, а собаколюди подобострастно отступили. Снова у меня возникло впечатление, что Первые Хозяева – не более, чем животные, когда они важно вышагивали среди машин, словно глупые хищные птицы. Вдруг один из них протянул руку и коснулся части машины, казавшейся мне всего лишь украшением. Воздух сразу же наполнило странное гудение, а заработавшая машина задрожала. Собаколюди съежились от страха, и тогда Первый Хозяин, коснувшийся кнопки, которая заставила машину заработать, прикоснулся к ней вновь. Гудение прекратилось. Словно встревоженные этим, Первые Хозяева снова поднялись в воздух, исчезнув столь же стремительно и таинственно, как и появились. Мы следили, как собаколюди постепенно приблизились к машинам и стали их обнюхивать. Вожак стаи пролаял какой-то приказ. Его подчиненные снова разобрали лианы, используемые для перетаскивания машин, и потащили свою добычу в лес. – Куда они их тянут? – прошептал я Зафе. – Я слышал лишь немногое из сказанного вожаком, – ответил Зафа. – По-моему, они двигаются к Хрустальной Яме. – Они тащат туда машины? Интересно, зачем? – В данный момент, Майкл Кэйн, это не имеет значения. Важно, что они оставляют деревню почти беззащитной. Это даст нам шанс спасти сперва твоих друзей. Я не стал спорить, так как они не знали варваров лучше. Бедняги не были моими друзьями, но я чувствовал себя в некотором долгу перед ними, как перед людьми, проявившими к своим пленникам какое-то уважение. Когда собаколюди с машинами исчезли, мы храбро вошли в деревню. Те, кто остались, увидели, что мы превосходим их по численности, и позволили своим женщинам и детям увлечь их в убежище. – Несчастные! Трусость стала их образом жизни! Воины не обратили на них внимания, а отправились прямо к навесу, откуда раньше доносились стоны. Теперь оттуда не было слышно никаких звуков, и я предположил, что варвары потеряли сознание. Но я ошибался. Они покончили с собой. С балки свисала веревка, и на ее обеих концах было сделано по петле. В этих петлях висели два варвара. Я прыгнул вперед, думая, что срезав их, я еще смогу им помочь, но Зафа покачал головой. – Они мертвы, – определил он. – Наверное, это и к лучшему. – У меня сильное искушение отомстить за них здесь и сейчас, – резко сказал я, поворачиваясь к входу. – Именно ты объяснил нам настоящую причину всего этого, Майкл Кэйн, – напомнил мне Зафа. Я сдержал свои чувства, и покинул место трагедии. Зафа вышел за мной. – Давай теперь последуем за Хага к Хрустальной Яме, – предложил он. – Мы сможем что-нибудь узнать. Наверное, именно туда отправились и Первые Хозяева. Я согласился с ним, и мы оставили деревню.12. ТАНЕЦ ПЕРВЫХ ХОЗЯЕВ
Высокая трава скрыла наш подход к Хрустальной Яме, и мы лежали, наблюдая за странным зрелищем, открывшемся перед нами. Собачий народ к этому времени уже почти доволок машины к краю сверкающей ямы. Я смотрел, не зная, что делать, когда они столкнули их вниз. Я услышал, как некоторые из них словно протестуя, визжали, цепляясь краями за грани хрусталя. И так же, как в случае с нами, собаколюди отступили от края, как только последняя машина оказалась внизу. Я знал, что машины якша достаточно прочны, чтобы получить повреждение от такого обращения с ними. Затем я увидел вдали Первых Хозяев, подлетавших и спускавшихся в яму, словно стервятники на труп. На мгновение всех их скрыли от наших взоров стены ямы, затем они снова взлетели, хлопая крыльями, в обратном порядке, воспарив в воздухе над Хрустальной Ямой, пока не образовали круг. Они принялись исполнять странный воздушный танец, ритма и смысла которого я не мог уловить. Танец продолжался, становясь все более исступленным, но Первые Хозяева сохраняли свой порядок даже в воздухе. В этом танце было что-то почти жалкое, и не в первый раз уже я опять почувствовал сочувствие к давно потерянной ими способности размышлять. Танец Первых Хозяев все продолжался, становясь все более и более исступленным, и все же, сохраняя свой порядок, как бы быстро не летали его участники. Все быстрее и быстрее кружились в воздухе Первые Хозяева. Было ли это ритуальное поклонение машинам, или танец ненависти – мне уже никогда не узнать. Однако, некоторые из их нечеловеческих эмоций передались мне, и я трепетно следил за разворачивающимся действием. Наконец, один из танцующих спикировал в яму. За ним последовал второй, затем еще один, и так до тех пор, пока все они не скрылись от наших взоров. Я полагаю, что они включили какие-то машины. Внезапно в Хрустальной Яме произошло извержение, огненный столб поднялся на сотни футов воздух. Атмосферу разорвал громкий пронзительный рев. У собаколюдей не нашлось времени отступить на достаточное расстояние. Всех их поглотила вспышка энергии из ямы. Несколько мгновений огненный столб продолжал подниматься все выше и выше, а затем он опал. Воздух снова был недвижим. Ничто не двигалось. Зафа и другие кошколюди ничего не сказали. Мы просто обменялись взглядами, показывавшими наше глубокое замешательство тем, чему мы только что стали свидетелями. Больше не существовало ни единой возможности выяснить, является ли одна из тех машин лекарством от чумы. Приходилось просто надеяться, что нужная мне – если она еще существовала – уцелела где-то в другом месте. Первые Хозяева погибли, прихватив с собой большинство своих слуг. Вернувшись в деревню своих людей-кошек, мы рассказали народу Пурхи об увиденном нами. Потом в деревне воцарилась атмосфера тихого торжества, хотя кошколюди оказались достаточно умными, чтобы поразмыслить о значительности того, что мы им рассказали – хотя до истинного значения этого было трудно докопаться. В Первых Хозяевах вырвалась наружу какая-то жажда смерти, какой-то древний инстинкт, приведший их к собственному уничтожению. Круг, казалось, замкнулся. Я чувствовал, что лучше всего будет забыть про это. Моей последующей целью стало отыскание Багарада. Там должны были быть украденные ранее машины. Я очень надеялся на это. Там я, возможно, найду то, что ищу. Я обсудил это с кошколюдьми, и они сказали, что считают своим долгом отправиться со мной в Багарад. Я был рад их обществу, особенно потому, что я все еще скорбел о гибели Хул Хаджи. Однако, мне не хотелось втравливать своих друзей в схватки. – Позволь уж нам решать, следует ли ввязываться в бой, или нет, – ответил со спокойной улыбкой Зафа. Тут заговорила Фаса. – Я отправилась бы с тобой, Майкл Кэйн, но в данный момент мне трудно уехать. Возьми однако вот это, и будем надеяться, что удача не покинет тебя. Она вручила мне тонкий, как игла, кинжал, который можно было заколоть за пакапу. В некоторых отношениях он напоминал тайный нож для снятия шкур у мендишаров. Я принял его с благодарностью, отметив изящную отделку оружия. – Немного отдыха, – сказал я, – если можно, и мы отправимся искать Багарад… Старый мудрец Слурра принес мне несколько табличек, о которых рассказывал ранее. – Вот единственная карта, которая у нас есть, – сказал он. – Она, вероятно, неточная, но все равно подскажет тебе, какое взять направление, чтобы добраться до страны варваров. Я принял ее с тем же чувством благодарности, но он поднял руку. – Не благодари нас, позволь нам отблагодарить тебя, чтобы мы могли расплатиться за все, что ты для нас сделал, – сказал он. – Я только надеюсь, что ты однажды вернешься в Пурху, когда все успокоится. – Это будет одним из первых моих дел, – пообещал я, – если я когда-нибудь достигну своей цели и останусь в живых. – Если это возможно, Майкл Кэйн, то ты это сделаешь и выживешь, – улыбнулся он. На следующее утро я, Зафа и отряд людей-кошек отправились в Багарад, лежавший к югу от страны кошколюдей. Наше путешествие оказалось долгим, так как мы преодолевали горный хребет, где, к нашей печали, мы потеряли одного члена нашего отряда. На другой стороне перевала мы вступили в страну дружественных, занимавшихся фермерством людей, добровольно давшим нам дахаров в обмен на кое-какие изделия кошколюдей, прихваченные ими с собой именно для этой цели. Кошколюди не привыкли ездить верхом, но их быстрый ум и чувство равновесия помогли, и вскоре мы скакали, как заправские кавалеристы. Несколько дней прошли для нас без приключений, пока мы не добрались до страны болот и низких облаков. Здесь у нас возникли трудности по выбору пути. В этой стране постоянно моросил дождь и было намного холоднее. Я все ждал, когда мы покинем этот район и вступим в более приятные земли. Пока ехали, мы мало разговаривали, сосредоточившись на выборе пути для дахаров через болота. К вечеру третьего дня нашего путешествия в этой низменной местности мы впервые обнаружили, что за нами следят. Зафа, со своим острым кошачьим взглядом заметил это первым и подъехал предупредить меня. – Я их видел только мельком, – сказал он. – Но там, в болотах, прячутся множество людей. Нам лучше иметь в виду нападение. Тогда и я заметил их и почувствовал себя неуютно. Лишь только наступила ночь, они появились вокруг нас и двинулись к нам. Это были высокие люди, хорошо сложенные, за исключением голов, которым следовало бы быть больше по сравнению с пропорциями тела. Они держали в руках мечи – тяжелые клинки с широкими лезвиями, которые нам пришлось отражать своим более легким оружием. Мы сумели защитить себя достаточно хорошо, но в темноте у них было преимущество в хорошем знании болот. Я разил вокруг себя, держа их на расстоянии, а мой дахар вставал на дыбы и делался трудноуправляемым. Ими вообще управлять было труднее, чем теми, которые я знал на юге Марса, поэтому часть моего внимания приходилось отдавать скакуну. Я почувствовал, как клинком царапнуло мою руку, но не обратил на рану особого внимания. Я видел мельком сквозь сумрак своих сражающихся товарищей, и время от времени один из них падал мертвым или раненым. Поэтому я решил, что лучше всего будет попытаться прорваться, надеясь, что нюх животных выведет нас на твердую почву. Я крикнул об этом Зафе, и он согласился со мной. Мы подстегнули своих дахаров и поскакали галопом. Мы скакали всю ночь, молясь, чтобы не попасть в трясину. Напавшие на нас люди, похоже, очень скоро прекратили погоню, и вскоре мы смогли замедлить скачку. Мы решили, что поскольку луны взошли, мы должны продолжать свой путь, а не останавливаться на привал и рисковать снова. К утру мы были в безопасности, хотя раз или два чуть не заехали в топь и очень устали. Рана моя немного побаливала, но я вскоре перевязал ее и забыл о ней. Мы теперь находились неподалеку от края болот и уже видели перед собой твердую почву. Увидели мы также и нечто другое, что-то похожее на строения, но было трудно решить, город это, или нет. Зафа предложил приблизиться к этому месту осторожно и, если оно окажется необитаемо, то можно будет разбить лагерь в безопасности. Приблизившись к зданиям, мы заметили, что они на самом деле представляют разрушенные дома. На улицах росла трава. Все выглядело так, словно город давным-давно уничтожил пожар. Но когда мы приблизились, то заметили на западе отряд всадников. Те скакали к этому месту во всю прыть с обнаженным оружием – главным образом мечами и топорами. Это были желтокожие люди, одетые в яркие плащи и сильно разукрашенные пакапу. Цвет их кожи не походил на цвет кожи народов Востока, и был более глубокий, более яркий, что-то вроде цвета лимона. Откуда-то из развалин до нас донесся крик, голос одного человека, и мы сообразили, что это его атаковали всадники. Мы не знали, что нужно делать, какая сложилась ситуация, и решили подъехать ближе, чтобы рассмотреть, что происходит. Затем я увидел человека, которого с такой яростью атаковали воины. Я не мог поверить собственным глазам. Это был ни кто иной, как Хул Хаджи! Синий гигант выглядел усталым и измотанным. На плече у него виднелась полузажившая рана, но он держал большой широкий меч того же типа, который я заметил у желтокожих воинов. Когда всадники устремились к Хул Хаджи, я издал громкий крик и бросил в галоп своего дахара. Зафа и его люди последовали за мной, и вскоре мы оказались лицом к лицу с желтыми воинами. Наше внезапное появление, казалось, напугало их. Они ожидали, что им придется драться только с одним человеком, а теперь обнаружили, что на выручку к нему скачут почти двадцать всадников. Мы убили и ранили лишь нескольких прежде, чем остальные повернули своих скакунов и удрали. Они взлетели на холм и быстро пропали из поля зрения на другом его склоне. Я спрыгнул с широкой спины дахара и подошел к Хул Хаджи. Он, казалось, был так же поражен, увидев меня, как и я. – Хул Хаджи! – воскликнул я. – Ты жив! Как ты здесь очутился? – Когда я расскажу тебе, ты сочтешь меня лжецом, – рассмеялся он. – Но я должен тебе рассказать. Я тоже считал тебя покойником, Майкл Кэйн. У вас есть какая-нибудь еда? Мы должны устроить пир и отпраздновать нашу встречу! Мы расставили часовых, разожгли костер и разогрели кое-что из провизии. Пока мы ели, Хул Хаджи рассказывал свою историю. Как я и подозревал, его унесли в горное логово. Это была темная анфилада пещер на самых высоких горных пиках, и Первые Хозяева гнездились там, подобно странным птицам. Сперва ему не причинили вреда, но положили поблизости от центрального гнезда, где обитала молодая особь того же вида. По тому, как они обхаживали этого юнца, Хул Хаджи заключил, что это был последний из их вида, поскольку в гнезде не было ни одной самки. Первые Хозяева оставили его в качестве пищи для юнца, и он ожидал, что они убьют его, но их что-то потревожило. Им вдруг взбрело в голову улететь. Оставшись наедине с юнцом, который на самом деле был по размерам не меньше его самого, Хул Хаджи задумал обучить его и таким образом убежать из этих высокогорных пещер. Воспользовавшись своим мечом, отобрать который у Первых Хозяев не хватило ума, он подогнал молодую особь легкими уколами к выходу из пещеры и влез ей на спину, научив теми же уколами подчиняться ему. Он собирался вернуться к Хрустальной Яме и посмотреть, можно ли найти какие-нибудь следы моего пребывания, но юный джихаду, как называл его Хул Хаджи, после первоначального замешательства проявил собственное мнение и оказал ему неповиновение. Он полетел очень быстро, и вскоре утомился. Он спускался все ниже и ниже, так что скоро стал почти задевать верхушки деревьев. Затем усталость заставила его повернуться в воздухе и начать царапать Хул Хаджи. Завязалась схватка. Хул Хаджи пришлось убить его, чтобы защитить себя, и они вместе упали на землю, где Хул Хаджи отделался всего несколькими синяками. Но джихаду погиб. Хул Хаджи оказался в только что пройденном нами болоте, но сумел выбраться на твердую почву, пробираясь в краю этой низинной местности. Потом напали люди с маленькими головами. Хул Хаджи называл их пероди. После отчаянной схватки они одолели его и поволокли в город, находившийся во многих шати к западу. Здесь люди с маленькими головами продали его в рабство к желтокожим, жившим в городе – кинивикам, как они себя называли. Хул Хаджи отказался от рабского труда на кинивиков, и вскоре оказался закованным в цупи в одной из их тюрем, которых явно было множество. Его выставляли на обозрение явно из-за физических способностей, словно какое-то диковинное животное, но он ждал своего часа, пока не восстановил былую силу. Тогда он умудрился вырвать цепи из стены, удушить тюремщика и, забрав его меч, сбежать из города, один-два раза сражаясь с желтокожими. Удача распорядилась так, что единственный маршрут его бегства вел в болота. Было несколько столкновений с пероди, но он сумел побить их. Он добыл в этих стычках несколько мечей, и сломал два из них, пока сбивал цепи с рук. За него, по всей видимости давали награду, и пероди сообщили кинивикам о его местонахождении. В качестве укрытия он решил использовать развалины. Найти его отправили небольшой отряд воинов, но он убил нескольких из них и отбился от остальных. Его убили бы, если захватили бы в плен. если бы не появился я, вторая экспедиция сделала бы это. – Это, вкратце, все мои приключения до сегодняшнего дня, – сказал он. – Извини, если я тебе наскучил. – Ничуть, – заверил я его. – А теперьпозволь мне рассказать мою историю. Я думаю, она тебе понравится. Я рассказал Хул Хаджи обо всем, что случилось после нашего вынужденного расставания, и он внимательно выслушал. После того, как я закончил, он заметил: – На твою долю выпало больше всего происшествий. Значит, ты теперь на пути в Багарад, не так ли? Я буду рад присоединиться к тебе и помочь, чем смогу. – То, что ты жив – самое лучшее, что пока случилось. Той ночью я спал хорошо и глубоко. А на утро мы поехали дальше по направлению к Багараду, до которого еще оставалось несколько дней пути. Местность стала более пологой, и путешествие проходило без осложнений. Весь наш отряд ехал не спеша, болтая и перекидываясь шутками, а вокруг простиралась широкая равнина, родившая в нас чувство безопасности, поскольку никакие враги не могли приблизиться к нам без предупреждения. Но здесь не было никаких врагов, только стада странных на вид животных, которые были, как уведомил нас Зафа, совершенно безвредными. Вскоре равнина уступила место холмистой территории, которая казалась не менее приятной, поскольку холмы были покрыты яркой оранжевой травой, в которой в изобилии росли красные и желтые цветы. Вообще странно, как на Марсе бывают ландшафты, очень сходные с земными, а потом вдруг натыкаешься на другой, какого даже нельзя себе представить. Уже скоро, если карта точна, мы должны добраться до Багарада и тех машин, которые были туда переправлены ранее.13. ОСТАТКИ
К полудню следующего дня мы проехали холмистую местность и пересекли степь из маленьких скал и жесткого дерна. В редких трещинах, где было хоть немного земли, росли кривые деревья. Именно здесь и находился Багарад. Прежде чем углубиться в страну, мы повстречали отряд варваров, в которых я узнал соратников Рокина. Это были мужчины, женщины и дети с угрюмыми глазами, и они лишь остановились, ожидая, когда мы проедем, никак не пытаясь задержать нас. Я остановил дахара и заговорил с одним из них. – Вы не знаете, как добраться в Багарад? – спросил я. Мужчина пробормотал что-то, но я не понял. – Я не расслышал тебя. – Лучше всего не ищите Багарад, – ответил он. – Если хотите увидеть, где находился Багарад, езжайте в ту сторону, – он махнул рукой. Сказанное им немного встревожило меня, но я направил дахара в указанном направлении. Хул Хаджи, Зафа и отряд людей-кошек последовали за мной. К тому времени, когда мы прибыли на место, был уже вечер. От него остались только развалины, и они были покинуты. Над тем, что еще оставалось, висела пелена пыльного дыма. Я не стал гадать, что случилось. Мы прибыли слишком поздно. Варвары пытались разобраться с машинами, и уничтожили себя. Тех, которых мы встретили, должно быть, гибель миновала. Я слез с дахара и стал пробираться между нагромождений камней. Встречались разные обломки – куски металла, части змеевиков. Стало очевидным, что машины якша уничтожены. Я заметил небольшую металлическую трубку и поднял ее. Должно быть, она являлась частью одной из машин. Я с сожалением засунул ее в сумку на поясе – она оказалась единственной частью, оставшейся целой. Со вздохом я обернулся к Хул Хаджи. – Ну, друг мой, – сказал я. – Наш поиск закончился. Теперь мы должны каким-то образом вернуться к подземельям якша и проверить, не осталось ли чего там. Хул Хаджи стиснул мне плечо. – Не беспокойся, Майкл Кэйн. Наверное, к лучшему то, что машины уничтожены. – Если ни одна из них не содержала средство уничтожить чуму, – заметил я. – Подумай о безумии и несчастье Кенд-Амрида. Как нам с этим бороться? – Мы должны передать дело в руки наших врачей и надеяться на то, что они смогут найти лекарство. Но я покачал головой. – Марсианские врачи не привыкли анализировать болезни. Для Зеленой Смерти не подобрать лекарства, по крайней мере еще много лет. – Я полагаю, ты прав, – признал он. – Тогда наш единственный шанс – подземелья якша. – Это верно. – Но как же мы вернемся на свой континент? – задал он следующий вопрос. – Мы должны найти корабль, – я показал на восток, где виднелось море. – Отыскать корабль будет нелегко, – заметил Хул Хаджи. – У багарадов были корабли, – возразил я ему. – У них должен быть порт, – я вытащил карту. – Смотри, неподалеку отсюда есть река. Наверное, они причаливали корабли там. – Тогда давай отправимся туда, – предложил он. – Мне не терпится снова ступить на родную землю. Мы поехали к реке и через некоторое время отыскали место, где были причалены несколько багарадских кораблей. Они были пусты. Что побудило уцелевших уйти вглубь материка? – гадал я. Почему они не сели на корабли? Наверное, возникли ассоциации кораблей с машинами, уничтожившими их город. Никакого другого объяснения я не мог придумать. Мы решили выбрать небольшой корабль с одной мачтой, которым кое-как могли управлять два человека. Зафа обратился ко мне после того, как Хул Хаджи выбрал судно, и мы обсудили возможность плавания на нем. – Майкл Кэйн, – сказал он мне. – Для нас была бы большая честь сопровождать тебя дальше. Я покачал головой. – Вы уже достаточно помогли, Зафа. Вы нужны своему народу, а путь назад долог. В определенном смысле ваше путешествие оказалось напрасным, но я рад, что вы потеряли так мало людей. – Для меня это тоже облегчение, – согласился он. – Но… мы хотим последовать за тобой, Майкл Кэйн. Мы все еще чувствуем себя в долгу перед тобой. – Не благодари меня, – отмахнулся я. – Это обстоятельства. На моем месте мог оказаться любой другой человек. – Я думаю иначе. – Поосторожнее, Зафа. Вспомни вашего пророка. Если что-то во мне тебя восхищает, то ищи это в себе, и ты найдешь. – Понимаю, что ты имеешь в виду, – усмехнулся он. – Да, наверное, ты прав. Вскоре после этого разговора мы расстались, и я мог только надеяться, что когда-нибудь вернусь в Пурху и снова встречусь с кошколюдьми. Мы с Хул Хаджи проверили наше судно и обнаружили на нем хороший запас провизии, словно его готовили к плаванью как раз перед взрывом. С дурными предчувствиями Хул Хаджи позволил мне отчалить, и мы направились вниз по реке, к открытому морю. Море открылось вскоре перед нами, и суша осталась за кормой. К счастью, шторма не было. Хул Хаджи сказал, что по его мнению, сейчас спокойный сезон на Западном море, и я возблагодарил за это провидение. Мы установили курс к ближайшей от подземелий якша части побережья. Было и у нас еще время, чтобы спасти Кенд-Амрид? Я не знал. Прошло несколько дней, и наше плавание проходило без происшествий. Мы только-только подумали, что удача теперь на нашей стороне, когда Хул Хаджи издал крик удивления и показал на море впереди. Из глубины океана поднималось чудовище огромных размеров. Вода стекала с его спины и огромной зеленой головы. С тела его свисали ленты кожи, как будто под водой произошла битва, в которой тело чудовища пострадало. Оно выглядело не как млекопитающее или рыба – наверное, рептилия, хотя тело его походило на туловище гиппопотама, а голова несколько напоминала голову утконоса. Поразительнее была не столько его внешность, сколько его размеры. Оно возвышалось над нашим маленьким судном и, если бы пожелало, могло проглотить его. Скорее всего оно обитало в глубинах, но сейчас было изгнано оттуда победителем битвы. Во всяком случае, нас сейчас волновало то, что оно явно направлялось к нам. Мы не могли ничего сделать, кроме как глядеть, разинув рты, и надеяться, что оно не нападет на нас. Огромная голова повернулась, и большие глаза взглянули на нас и, несмотря на мои страхи, у меня сложилось впечатление, что это не жестокий зверь. В самом деле, он казался более нежным, чем множество куда меньших существ, виденных мною на Марсе. Осмотрев нас, оно снова подняло голову и оглядело океан кругом. Затем оно нырнуло, оставив позади пенистый след, наверное, просто обеспокоенное увиденным. Мы с Хул Хаджи испустили вздох облегчения. – Что это было? – спросил я его. – ы не знаешь? – Я только слышал о нем. В Мендишаре его называют Морская Мать – наверное, из-за доброй натуры этого зверя. Не было случая, чтобы они когда-нибудь причиняли вред кораблям. По крайней мере они никогда намеренно не нападали ни на одно судно, хотя случалось, что топили по недосмотру команды. – Тогда я рад, что оно увидело нас первым, – улыбнулся я. Немного позже мы увидели стаю крупных существ, намного меньших, чем Морская Мать, но тем не менее устрашающих. И Хул Хаджи поспешил предупредить меня. – Надеюсь, они не проплывут слишком быстро, – сказал он. – Они не такие безобидные, как Морская Мать. Я успел заметить в воде их змееподобные тела и острые головы, похожие скорее на меч-рыбу. – Что это? – спросил я. – Н`хир, – сообщил он мне. – Они рыщут стаями по всем морям, нападая на все, что увидят. – Он мрачно улыбнулся. – К счастью, видят они не так много, как могли бы, поскольку они крайне близорукие твари. Мы направили корабль как можно дальше от стаи н`хир, но к несчастью для нас, им взбрело в голову направиться в нашу сторону. Хул Хаджи вынул меч. – Приготовься! – тихо проговорил он. – Я думаю, через минуту они увидят нас. И, само собой, они увидели. Они двигались довольно лениво, но после того, как заметили нас, быстро понеслись в воде, вытянув змеиные шеи, нацелив на корабль заостренные головы. Они напали на корабль, но древний корпус устоял, и с минуту они стремительно плавали вокруг, как будто в замешательстве. Затем их головы высунулись из воды, и они стали тыкать в нас ими. Мы рубили по заостренным головам мечами, а они шипели и пытались вцепиться. Стоя плечом к плечу, мы отбивали их атаки, когда убитых сменяли новые. Мечи протыкали их относительно мягкие тела, но, кажется, не производили на них какого-то существенного воздействия. Некоторые полностью выскакивали из воды и падали на палубу. Они, извиваясь, ползли к нам. Одна из них сумела кольнуть меня в ногу, прежде чем я вогнал меч ей в глаз. Другая чуть не откусила мне руку, но я раскроил ей голову. Вскоре палуба стала скользкой от их крови, и я обнаружил, что мне трудно удерживаться на ногах. Как раз в тот момент, когда мне стало казаться, что мы станем пищей для н'хир, я услышал над собой гудение моторов. Это был невозможный звук. Я рискнул посмотреть вверх. Там летело несколько воздушных кораблей моей модели. На их гондолах развевались флаги с цветами Варналя. Какой зигзаг удачи привел их сюда? Тогда у меня не было времени раздумывать над этим, так как пришлось сосредоточиться на битве с н`хир. Но с воздушных кораблей пришла помощь. На скользких тварей градом посыпались стрелы, и многие из них погибли прежде, чем остальные уплыли. С одного из кораблей спустили канат. Я схватил его и начал влезать на корабль. Вскоре я мог обняться с моим братом по браку, Дарнадом из Варналя. Его юношеское лицо улыбалось от восторга и облегчения, и он тепло сжал мне плечо. – Майкл Кэйн, брат мой! – воскликнул он. – По крайней мере, мы нашли тебя! – Что ты имеешь в виду? – спросил я. – Расскажу позже. Давай сперва поможем подняться на борт Хул Хаджи. Удача тебя не покинула! Когда мы помогли Хул Хаджи подняться на борт, я поневоле иронически улыбнулся ему. – Удача меня не покинула? До этой минуты я думал иначе!14. ЗЕЛЕНАЯ СМЕРТЬ
Дарнад сел за управление воздушным кораблем, искусству, которому обучил его я, а несколько карнальских воинов уселись вокруг на кушетках, улыбаясь от радости, что видят нас снова. – Я хотел бы узнать, как случилось так, что вы оказались в этой части Западного моря, и главное, в это время? – немедленно поспешил осведомиться я. – Такое совпадение кажется слишком невероятным, чтобы быть истинным. – Это и в самом деле не совпадение, – подтвердил он, – а счастливое стечение обстоятельств. – Тогда расскажи мне о них. – Ты помнишь девушку из Кенд-Амрида? Ее зовут Ала Мара. – Конечно. Но откуда ты ее знаешь? – Ну, вы оставили ее в своем корабле, когда отправились обследовать подземелья якша, не так ли? – Так. – Девушка, очевидно, немного заскучала и стала баловаться с пультом управления кораблем. Она, естественно, не собиралась причинять никакого вреда, но случайно высвободила причальные канаты, и судно начало уносить ветром. – Так вот, значит, что случилось. И, думается, к счастью для нас. – Почему это? – Потому что иначе ее обнаружили бы те, кто захватил нас в плен. – А кто они такие? – Я тебе расскажу, когда услышу твой рассказ до конца. – Отлично. Воздушный корабль носило ветрами много дней прежде, чем его обнаружило одно из наших патрульных судов, отправленных к тебе с сообщением от Шизалы. – Сообщение? – Да, через минуту я расскажу тебе и о нем. Девушка рассказала о положении в Кенд-Амриде и о том, почему вы отправились в подземелья якша. Корабль сперва вернулся в Варналь с девушкой и новостями. Затем я возглавил эту экспедицию в подземелья, чтобы помочь вам, поскольку мы полагали, что вы застрянете там без транспортных средств. Хотя мы думали, что вы сможете отправиться в Мендишар. Когда мы прибыли в Мендишар, то там не было никаких новостей о вас, и мы полетели в подземелья якша. – И обнаружили, что мы исчезли? – Именно. – Что же вы сделали тогда? – Ну, мы поняли по следам, что многие машины увезены оттуда. А также нашли много трупов неопознанных нами воинов. Мы сделали вывод, что на вас напали, и вы победили. Потом мы догадались, что вас могли захватить в плен. Пробираясь по поверхности, мы сумели пройти по следу через пустыню до побережья, где нашли доказательства того, что оттуда недавно уплыл корабль. – Что же вы сделали, когда обнаружили, что корабль, вероятно, увез нас за море? – Мы мало что могли сделать, кроме как попробовать найти этот корабль – и мы так и не нашли его. Все, что мы могли сделать после этого – это прочесывать море и побережье в надежде найти какой-нибудь след. Мы в пятый раз возвращались обратно, когда заметили ваше судно и сумели помочь вам. – Как раз во-время, – добавил за него я. – Я очень благодарен, Дарнад. – Пустяки. Но что произошло с вами? Вы нашли машины, способные исцелить чуму? – К сожалению, должен признаться, нет. Затем я рассказал Дарнаду обо всем, что с нами случилось. Он жадно слушал. – Рад, что вы оба выжили, – сказал он. – И надеюсь, что мы все когда-нибудь сможем встретиться с кошколюдьми. – Итак, – улыбнулся я, – я проявил достаточно терпения. Что за сообщение везли вы мне от Шизалы? – Радостное! – заверил меня Дарнад. – Ты скоро станешь отцом! Эта новость воодушевила меня больше, чем все прочие. Я едва смог сдержать свой энтузиазм, и все принялись дружно поздравлять меня. Стоило пройти через все лишения, чтобы услышать, что Шизала собирается подарить мне ребенка. Я не мог теперь дождаться возвращения домой и встречи с ней. Но сперва я должен был выполнить свой долг. Мне требовалось наведаться в подземелья якша и отыскать средство, которым должны были владеть якша для противодействия Зеленой Смерти. Теперь мы летели над сушей и должны были вскоре добраться до города якша в пустыне. Затем мы прибыли на место, и Дарнад опустил воздушные корабли ближе к земле. Корабли причалили и, оставив в карауле нескольких человек, мы снова ступили в подземелья. На этот раз было большое количество народа, и мы смогли произвести основательный поиск требовавшегося нам предмета. Основываясь на всем, что я знал, это могли быть и таблетки, и жидкость, но, зная фантастически изощренную науку якша, я думал, что он может оказаться и машиной, способной испускать лучи, воздействующие прямо на болезнетворные вирусы. Мы искали несколько дней. Подземелья были огромны, и требовалось время для проверки всего, найденного нами. Варвары оставили много чего. Фактически они взяли только машины, которые казались изготовленными для войны. Многие другие машины оставили, а боевые машины исчезли навсегда и, наверное, это к лучшему, хотя я и сожалел об утерянной возможности проанализировать их принципы. Хотя мы облазили все помещения, но не нашли ничего, что бы походило на нужный нам предмет. В скором времени нам пришлось сдаться и вернуться на корабли. Теперь я управлял кораблем, а Дарнад отдыхал. Я установил курс на Варналь. – Что будем теперь делать? – мрачно спросил Дарнад. – Неужели мы должны забыть про Кенд-Амрид? – Если бы ты видел, что там происходит, ты так не говорил бы. Просто нужно теперь попытаться найти способ лечения, хотя время на это потребуется достаточно долгое. И нам должно повезти.***
На обратном пути мы пролетали над Кенд-Амридом, и я испытал сильное облегчение, так как думал, что не смогу вынести вида этого места даже с такой высоты. Но вот когда мы приблизились к Алой Равнине, расположенной неподалеку от Варналя, я заметил внизу огромную людскую процессию. Сперва я подумал, что это армия на марше, но порядок ее был слишком неровный. Я опустился пониже рассмотреть и заметил, что она состояла из мужчин, женщин и детей всех возрастов. Я был загипнотизирован этим зрелищем и не мог понять, почему столько людей отправилось в поход. Я направил корабль еще ниже и тогда с ужасом увидел то, чего боялся с тех пор, как покинул Кенд-Амрид. Все они были отмечены печатью Зеленой Смерти. Какой-то путешественник все-таки сумел побывать в Кенд-Амриде, и вернулся оттуда, уже зараженный. Наверное, он вернулся в свой родной город и заразил его. Но почему они двинулись в поход? Я взял мегафон с пульта управления и подошел к двери гондолы. Толпа смотрела на нас, разинув рты. – Кто вы? – проревел я через мегафон. – Откуда вы? Один из них крикнул в ответ: – Мы – нефункционирующие! Мы ищем пристанища! – Что значит «нефункционирующие»? Вы что, пришли из Кенд-Амрида? – Некоторые из нас оттуда. Но многие также из Опкуэля, Фиолы и Ишхала. – Кто вам сказал, что вы нефункционирующие? – прокричал я. – Люди из Кенд-Амрида? – С нами есть механик. Он тоже нефункционирующий. Он – наша голова, а мы – его руки, его мотор и его ноги. Тут я понял, что не только чума пришла из Кенд-Амрида – пришла и часть главенствующего там вероучения. – Если он нефункционирующий, то почему он ведет вас? – Мы – великие нефункционирующие. Наш долг – создать нефункционирующий мир! Я столкнулся еще с одним извращением логики, которой кто-то убедил этих больных чумой, что болеть хорошо, а не болеть – плохо. Это могло означать только, что Зеленая Смерть может распространиться по Южному Марсу со сверхъестественной скоростью. И, наверное, по всей планете, если ее никто не остановит. – Куда вы направляетесь? – спросил я. – В Варналь! – раздался ответ. От ужаса я чуть не выронил мегафон. Зеленая Смерть не должна достичь Варналя! Теперь мне нужно было драться даже за куда более личное. Не потеряю ли я головы? Я молился, чтобы этого не случилось. – Не ходите в Варналь! – закричал я почти умоляющим голосом. – Оставайтесь там, где находитесь! Мы найдем способ исцелить вас! Не бойтесь! – Исцелить нас! – закричал тот же человек. – Зачем вам это? Мы принесем радость Зеленой Смерти всем людям! – Но Зеленая Смерть означает ужас и муки! – воскликнул я. – Как вы можете считать ее благом? – Потому что она – Смерть! – ответил человек снизу. – Но вы же не можете искать смерти! Вы не можете желать умереть – это противно человеческому естеству! – Смерть приносит прекращение функционирования, – монотонно произнес жертва чумы. – Прекращение функционирования – это благо. Злой человек – человек функционирующий. Я закрыл дверь гондолы, чтобы не видеть и не слышать его, и прислонился к стенке, покрывшись потом. – Их надо остановить! – прорычал Хул Хаджи, слышавший большую часть разговора. – Как? – простонал я. – Если дошло до этого, то их надо уничтожить, – мрачно произнес он. – Нет! – закричал я. Но я знал, что едва ли правильно то, что я говорю. Я становился жертвой страха. Я должен был бороться с этим страхом. Но что мне делать?
15. УГРОЗА ВАРНАЛЮ
Мы как можно быстрее полетели к Варналю, и наконец в поле зрения появились его стройные башни. Как только мы приземлились, я бросился во дворец, и там, дожидаясь на лестнице, стояла Шизала, чтобы приветствовать меня, прекрасная брадинака Карналы, чудесный цветок дома Варналя. Я кинулся и обнял ее, не заботясь, что нас кто-то может увидеть. – Ах, Майкл Кэйн. Наконец-то ты вернулся! Я боялась, что ты погиб, мой брадинак! – Я не могу умереть, пока жива ты, – пошутил я. – Это было бы с моей стороны большой глупостью. Тогда она улыбнулась мне. – Ты слышал мою новость? – поинтересовалась она. Я сделал вид, что ничего не знаю. Я хотел услышать ее из собственных уст Шизалы. – Тогда пройдем в наши покои, – предложила она мне, – и там я тебе сообщу. У нас в комнатах она просто сообщила мне, что у нас будет ребенок. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать во мне взрыв радости, такой же сильной, как и тогда, когда я впервые услышал эту новость. Я поднял ее и столь же быстро опустил, когда вспомнил, что в ее состоянии ей нельзя волноваться. – Мы, карнальцы, не из слабых, – улыбнулась она. – Моя мать каталась на дахаре, когда я подала первые признаки появления на свет. – Тем не менее, – усмехнулся в ответ я. – Отныне мне придется удостовериться, что ты будешь находиться под защитой. – Если будешь обращаться со мной, как с младенцем, я сбегу и выйду замуж за аргзуна, – пошутила она. Мое ликование снова омрачилось, когда я вспомнил о неустанно двигающихся к Варналю разносчиках Зеленой Смерти. Она заметила, что меня что-то гнетет, и спросила, в чем дело. Я рассказал ей мрачно и просто, стараясь не драматизировать ситуацию, хотя она и так была достаточно паршивой. Когда я закончил, она задумчиво кивнула. – Но что мы можем предпринять? – сказала она. – Мы не можем уничтожить их. Они больные и ненормальные, и едва ли знают, что угрожает нам. – В том-то и беда, – согласился я. – Как нам помешать им добраться до Варналя? – Возможно, есть один способ, – предложила она. – Какой именно? – Мы можем устроить пожар на Алой Равнине. Это наверняка должно остановить их! – Уничтожить Алую Равнину было бы преступлением. И, кроме того, пострадают находящиеся на ней городки и деревни. – Ты прав, – согласилась она. – Более того, – добавил я. – Они, вероятно, теперь уже добрались до Алой Равнины. В скором времени они достигнут цели своего похода. – Ты имеешь в виду Варналь? – Варналь – это город, о котором они говорили. Шизала вздохнула. Я сел в кресло и облокотился на стол, стоявший рядом с ним, расстегнув столь долго носимый мною пакапу. В сумке что-то лязгнуло, и я вытащил предмет, издавший этот звук. Это была маленькая трубка, уцелевшая часть одной из уничтоженных машин, подобранная мною в развалинах Багарада. Я положил ее на стол, кивнув в ответ на вздох Шизалы. – Через несколько дней Зеленая Смерть прибудет в Варналь, – задумчиво произнесла она. – Если ничего нельзя будет сделать, что-то… – Я искал средство противодействовать чуме, – сказал я. – Я искал его очень долго – на двух континентах. И не думаю, что оно существует. – Надежда все-таки есть, – сказала она, пытаясь поднять мой дух. Я встал и крепко обнял ее. – Спасибо, – поблагодарил я ее. – Да, все-таки еще есть маленькая надежда. На следующее утро я сидел в центральном зале, совещаясь со своим отцом по браку, бради Карнаком, с его сыном, брадинаком Дарнадом, своей женой, брадинакой Шизалой, и со своим другом, бради Хул Хаджи. Наши умы оказались неспособными конструктивно мыслить, когда мы столкнулись с проблемой Зеленой Смерти. Я цеплялся за свои принципы, хотя это и было трудно, когда угрозе подвергались моя жена и нерожденный ребенок. – Мы не можем перебить их, – повторял я. – Это не их вина. Если мы убьем их, то убьем и что-то в самих себе. – Я понимаю тебя, Майкл Кэйн, – согласился старый Карнак, кивая массивной головой. – Но что еще мы можем сделать, если потребуется обезопасить Варналь от Зеленой Смерти? – Я думаю, Майкл Кэйн, что мы в конце концов должны решиться, – серьезно проговорил Хул Хаджи. – Я не вижу никакой альтернативы. – Должна быть какая-то альтернатива. – Пять умов пытаются придумать ее, – подытожил Дарнад, – и ни один не выдал конструктивной идеи. Мы можем попытаться взять их в плен, или что-то вроде этого. – Но это будет означать вступление с ними в физический контакт, – возразил Хул Хаджи. – Таким образом мы никак не добьемся своей цели. – Мы могли бы поймать их большой сетью, – предложила Шизала. – Хотя, думаю, эта идея непрактична. – Да, вероятно, это и в самом деле так, – нахмурился Карнак. – Но это все-таки идея, дорогая. Все они посмотрели на меня. Я пожал плечами. – Моя голова так же пуста, как и у всех нас. Дарнад вздохнул. – Остается только одно, Майкл Кэйн. – Что именно? Я буду сопротивляться решению перебить их, как только смогу. – Мы должны вылететь на нашем воздушном корабле и попытаться убедить их повернуть назад, – сказал он. Я согласился. Это было единственно разумным, что мы могли сделать. Поэтому вскоре после совещания мы снова поднялись в воздух. Летели Хул Хаджи, Дарнад и я. В скором времени мы увидели толпу, вливающуюся неровной лентой на Алую Равнину. Казалось, что она увеличилась по численности, наверное за счет жителей лежавших на ее пути деревень. Покрытые зеленым налетом лица посмотрели вверх, когда мы стали снижаться к ним. Они перестали двигаться и ждали. Я снова воспользовался для разговора с ними мегафоном. – Народ Зеленой Смерти! – крикнул я. – Почему бы вам не остаться там, где вы находитесь? Вам не приходило в голову, что вы можете быть не правы? – Ты – тот, кто говорил с нами вчера, – донесся до меня голос. – Ты должен теперь поговорить с механиком. Именно он ведет нас к конечному нефункционированию. Толпа отступила от человека с изуродованным зеленью лицом и большими безумными глазами. Он в некоторых отношениях напоминал врача, встреченного нами впервые в Кенд-Амриде. – Ты вождь? – спросил я. – Я – мозг, они – руки, мотор – все части движущейся машины. – Почему ты ведешь их? – Потому что мое дело вести. – Тогда почему ты ведешь их к другим поселениям, городкам и городам, когда знаешь, что куда бы вы ни пришли, будете распространять чуму. – Вот эти-то блага я и несу им – блага смерти, освобождения от жизни, конечного нефункционирования. – Разве ты не думаешь о тех, кого вы заражаете? – Мы несем им мир, – ответил он. – Пожалуйста, не ходите в Варналь, – пытался убедить я. – Там не хотят вашего мира – там хотят только своего. – Наш мир – единственный мир – конечное нефункционирование. Было явно невозможно прорваться сквозь безумие этого человека. Даже для начала, для этого потребовался бы более тонкий психолог. чем я. – Вы понимаете, что в Варнале есть люди, говорящие о том, что вас надо уничтожить из-за угрозы, которую вы несете? – спросил я его. – Уничтожьте нас, и мы не будем функционировать. Это хорошо. Этот человек совершенно обезумел. Мы с тяжелыми сердцами вернулись в Варналь.***
В Городе Зеленых Туманов, который, как я по-дозревал, скоро переименуют в Город Зеленой Смерти, мы сидели у зеленого озера и снова пытались разрешить нашу проблему. Дарнад хмурился, словно искал то, что знал, но забыл. Вдруг он поднял голову. – Я слышал об одном человеке, который может обладать способностью найти лекарство от Зеленой Смерти, – сказал он. – Хотя считается, что это – легенда. Возможно, он даже не существует. – Кто он? – спросил я. – Его зовут Мас Рава. Некогда он был врачом при Мишим-тепском дворе, но стал увлекаться философскими идеями и отправился в горы куда-то на юг. Мас Рава изучил все тексты шивов, которые только смог отыскать. Но что-то заставило его стать созерцателем, и больше никто никогда его не видел. – Когда он был при дворе Мишим-Тепа? – спросил я. – Больше ста лет назад. – Тогда он мог умереть. – Не думаю. Я никогда не слушал особенно внимательно рассказы о нем в Мишим-Тепе. Но я помню одно – говорили, что он добился бессмертия. – Есть скромный шанс за то, что он все еще существует, – сказал я. – Да, лишь скромный шанс. – Но шансы найти его в имеющееся в нашем распоряжении время и того скромнее, – напомнил Карнак. – Что бы ни случилось, во-время нам никогда не найти его, – решительно заявил Хул Хаджи. Шизала ничего не сказала. Она просто склонила голову и смотрела на воды зеленого озера. Внезапно позади нас раздался крик, и пукан-нара, как назывались на Вашу командиры отряда воинов, стремглав подбежал к нам. – В чем дело? – спросил я его. – Вернулся один из наших воздушных кораблей-разведчиков, – сообщил он. – Ну? – спросил Карнак. – Толпа движется с неестественной быстротой. Через день они будут у стен Варналя. Дарнад взглянул на меня. – Так скоро? – спросил он. – Никогда бы этого не заподозрил. Поговорив с ними, мы, кажется, оказали себе плохую услугу. – Они передвигаются бегом, – сказал пукан-нара. – Судя по тому, что говорит разведчик, многие падают от истощения сил или замертво, но остальные бегут. Бегут! Что-то заставляет их мчаться к Варналю. Мы должны остановить их! – Мы рассмотрели все способы остановить их, – уведомил я его. – Мы будем драться с ними! Я все еще цеплялся за остатки рациональности. – Мы не должны этого делать, – устало сказал я. Но у меня возникло сильное искушение согласиться. – Что же нам тогда делать? – в отчаянии спросил пукан-нара. И тут я придумал то, что все время было у нас под боком. – Я знаю, что это значит для вас, – сказал я. – Но для меня это значит гораздо больше. – Что ты этим хочешь сказать, Майкл Кэйн? – спросила моя прекрасная жена. – Мы должны эвакуировать Варналь. Мы позволим Зеленой Смерти захватить его, а сами убежим к горам. – Никогда! – воскликнул Дарнад. Но Карнак положил руку на плечо сына. – Майкл Кэйн дал нам нечто большее, чем жизнь или даже понятие «родина», – задумчиво проговорил он. – Он дал нам понять ответственность перед самим собой, и таким образом, перед всеми людьми на Вашу. Логика его неопровержима, а причины ясны. Мы должны поступить так, как говорит он. – Я не уйду! – повернулся ко мне Дарнад. – Майкл Кэйн! – крикнул он. – Ты – мой брат, и я люблю тебя, как брата и как великого бойца, большого друга. Ты не мог всерьез предложить этого! Позволить этой толпе захватить Варналь – этим больным людям! Ты, должно быть, обезумел! – Напротив, – спокойно возразил я. – Именно с безумием я и сражаюсь. Я борюсь за то, чтобы остаться нормальным. Пусть тебе скажет отец. Он знает, что я имею в виду. – Сейчас отчаянные времена, Дарнад, – сказала Шизала. – Сложные времена. И поэтому трудно решить, какие правильные действия нужно предпринять, когда требуется действовать. Народ Зеленой Смерти подобно народу Кенд-Амрида безумен. Применить против них насилие означало бы поощрять безумие такого рода в самих себе. Я думаю, именно это и хочет сказать Майкл Кэйн. – Я хотел сказать почти что это, – кивнул я. – Если мы сейчас предадимся страху, то чем станет Карнала? – Страху! Разве бегство – не трусость? – Трусость бывает разная, сын мой, – сказал Карнак, вставая. – Я думаю, что бегство из Варналя – даже хотя мы достаточно сильны, чтобы легко разбить эту наступающую на нас толпу – не столь уж большая трусость. Это ответственность. Дарнад покачал головой. – Я все равно не понимаю. Наверняка ведь нет ничего плохого в защите нашего города от агрессоров. – Есть разные виды агрессии, – заметил я. – Вскоре после моего прибытия на Вашу, против Варналя выступили синие гиганты Аргзуна. Этот народ был вполне в здравом уме. Отбиться от них было делом непростым. Но мы это сделали. Но, применяя насилие в данном случае, мы потеряем связь со всем нашим делом – со всем моим делом, если тебе угодно. Хотя я думал, что оно у всех нас общее. Нам ведь надо исцелить болезнь в ее источнике, исцелить болезнь тела и духа, заразившую Кенд-Амрид. Дарнад посмотрел на Хул Хаджи, который ответил ему таким же взглядом, а затем отвел глаза. Он взглянул на отца и сестру. Те ничего не сказали. Он посмотрел на меня. – Я не понимаю тебя, Майкл Кэйн, но постараюсь, – сказал наконец он. – Я доверяю тебе. Если мы должны покинуть Варналь, значит, мы должны покинуть его. А затем Дарнад не смог больше сдерживать слез, закапавших по его щекам.
16. ИСХОД
И поэтому, я надеюсь, вы поймете, как великий город, здоровый и сильный, был оставлен своим населением. Воины, ремесленники, женщины и дети покинули Варналь длинной организованной процессией, унося с собой свое имущество. А воздушные корабли – и те, что остались от шивов, и моей конструкции – плыли над ними. Некоторые уходили, как Дарнад – молча. Другие недоумевали, некоторые задумывались, но знали в душе, что поступают правильно. Они оставляли Варналь больным и обманутым людям делать с ним все, что угодно. Это был единственный выход из создавшегося положения. Как я уже говорил вам, обычно я не мыслитель, но я стараюсь придерживаться определенных принципов, какой бы отчаянной не была ситуация или ужасной угроза. Не из-за какого-то догматизма, а, если угодно, из страха перед страхом – страха перед действиями, которые производят из страха, перед мыслями, которые рождены страхом! Я ехал на дахаре бок-о-бок с Шизалой справа от меня и Хул Хаджи слева. Рядом с ним ехал Карнак, бради Карналы. Справа от Шизалы – Дарнад со строгим лицом и недоумевающим взглядом. Позади нас ехали и шли гордые жители города Варналя, грациозного Города Зеленых Туманов, остававшегося все дальше и дальше у нас за спиной. Впереди лежали лишенные растительности мрачные горы, которые мы сделаем своим домом, пока не будет найдено какое-нибудь лекарство против Зеленой Смерти. Когда мы решили уйти из города, на кон была поставлена не только физическая судьба населения Марса. Речь шла о судьбе психологии! Мы покинули Варналь, чтобы Марс по-прежнему мог оставаться планетой, которую я любил, а сам Варналь – городом, в котором я больше всего чувствовал себя, как дома. Мы сражались против страха, против истерии и против ужасающего безумного насилия, вызванного этими эмоциями. Мы покинули Варналь не для того, чтобы подать пример другим. Мы покинули его, чтобы подать пример самим себе. Все это может показаться грандиозным. Я только прошу, чтобы вы подумали о том, что мы сделали, и постарались понять цели этого. Наше путешествие в горы оказалось долгим, ибо скорость передвижения устанавливалась самыми тихоходными гражданами. Наконец мы добрались до холодных гор и нашли долину, где смогли построить грубые дома для себя, так как склоны долины густо поросли лесом. Сделав это, мы послали свои воздушные корабли обследовать горы в надежде отыскать почти легендарного врача, являвшегося единственным человеком на Марсе, способным спасти наш мир от Зеленой Смерти. Нашел в конечном итоге Маса Раву не я, а тот, кто первым упомянул о нем – Дарнад. Дарнад вернулся однажды вечером в лагерь на воздушном корабле. Он отправился путешествовать в одиночку, и мы сочувственно отнеслись к этому доказательству потребности в уединении. – Майкл Кэйн, – заявил он, входя в хижину, где жили теперь мы с Шизалой. – Я видел Маса Раву. – Он может помочь нам? – был мой первый вопрос. – Не знаю. Я не разговаривал с ним, только спросил, как его зовут. – И это все, что он сказал тебе? – Да. Я спросил его, кто он, и он ответил: «Мас Рава». – Где он? – Он живет в пещере во многих шати отсюда. Ты хочешь, чтобы я показал дорогу? – Да. Ты думаешь, он стал законченным отшельником? Тронет ли его наше бедственное положение? – Не могу сказать. Утром я отвезу тебя туда. Поэтому утром мы улетели на воздушном корабле Дарнада отыскивать Маса Раву. Точно так же, как раньше я разыскивал машины в надежде, что они спасут нас, так теперь я искал человека. Окажется ли человек более полезным, чем машины? Я не был уверен. Следует ли мне так сильно доверять машинам? Или другому человеку? Я снова сомневался. Но я отправился с Дарнадом, лавируя на корабле среди скал, пока мы не прибыли к месту, где естественная тропа поднималась по горе к пещере. Я опустил лесенку на широкий карниз перед пещерой и начал спускаться, пока не оказался перед темным входом. Затем я зашел внутрь. Там, согнув одну ногу и выпрямив другую, прислонившись спиной к стене пещеры, сидел человек. Он окинул меня веселым вопросительным взглядом. Он был чисто выбрит и молод на вид. Пещера оказалась чистой и хорошо меблированной. Это не вязалось с моим представлением об отшельнике, да и пещера его не походила на логово отшельника. В этом человеке было что-то изысканное. – Мас Рава? – осведомился я. – Он самый. Садитесь. У меня вчера был один гость, и боюсь, я обошелся с ним довольно грубо. Он был первым. Ко второму я подготовился лучше. Как вас зовут? – Майкл Кэйн, – ответил я. – Это долгая история, но я прибыл с планеты Негалу. – Я стал рассказывать ему, употребляя марсианское название Земли. – И из времени, которое у вас в будущем. – В таком случае, вы интересный человек для моего первого настоящего гостя, – не без юмора заметил Мас Рава. Я уселся рядом с ним. – Вы прилетели искать у меня какие-нибудь сведения? – был его следующий вопрос. – В некотором смысле, – ответил я. – Но сперва вам лучше выслушать всю историю. – Пусть будет вся, – согласился Мас Рава. – Такому человеку, как я, нелегко наскучить. Рассказывайте. Я рассказал ему обо всем, что рассказывал вам, обо всем, что я думал и говорил, обо всем, что думали и говорили мне. На это мне потребовалось несколько часов. Но Мас Рава все время слушал, не перебивая. Когда я закончил, он кивнул. – Ты и усыновивший тебя народ попали в интересное затруднительное положение, – сказал он. – Мои врачебные знания немногого устарели, хотя в одном ты был прав. Лекарство против чумы существовало, согласно тому, что я читал. Оно существовало не в форме машины – тут ты дал маху – а в форме бактерий, способных побороть воздействие Зеленой Смерти всего за несколько минут. – Тебе известно какое-нибудь место, где можно найти контейнер с этими бактериями? – спросил я его. – На Вашу есть несколько хранилищ, схожих с открытым тобой подземельем якша. Он может находиться в любом из них – хотя то, что стало неважным для шивов и якша, вполне могло погибнуть навсегда. – Значит, по-твоему, существует мало шансов найти противоядие? – в отчаянии спросил я. – По-моему, так, – ответил он. – Но вы можете попробовать. – А что насчет тебя? Мог бы ты изготовить противоядие? – Со временем, возможно, – сказал он. – Но не думаю, что стал бы пытаться. – Даже пытаться? – Да. – Почему? – Потому что, друг мой, я по убеждениям – фаталист, – засмеялся он. – Я уверен, что Зеленая Смерть пройдет, и ее присутствие оставит след на Вашу. И я думаю, что такой след необходим обществу – обществу, не знающему опасностей. Это предотвратит его стагнацию. – Я нахожу, что тебя трудно понять, – признался я. – Тогда позволь мне быть честным и изложить тебе это по другому. Я – человек ленивый, лодырь. Я люблю сидеть в своей пещере и думать. Думаю я, между прочим, на очень высоком уровне. Я также – человек, мало нуждающийся в обществе. У меня тоже, если угодно, есть свой страх – но это страх быть вовлеченным в дела человеческие и таким образом потерять себя. Я ценю свою индивидуальность. Поэтому я рационализировал все свои выводы и стал фаталистом. Меня не заботят дела обитателей этой планеты, или любой другой планеты. Меня интересуют планеты, а не какая-то одна планета. – Мне кажется, Мас Рава, что ты по-своему потерял чувство перспективы точно также, как правители Кенд-Амрида. Он подумал над этим заявлением, а затем с улыбкой посмотрел мне в лицо. – Ты прав, – согласился он. – Значит, ты поможешь нам? – Нет, Майкл Кэйн, не стану. Ты преподал мне урок, и будет интересно поразмыслить над тем, что ты мне сказал. Но я не помогу вам. Видишь ли, – снова улыбнулся он мне, – я только что понял, без горечи и отчаяния, что я, в сущности, глупый человек. Наверное, Зеленая Смерть минует меня, а? – Наверное, – разочарованно проговорил я. – Я сожалею, что ты не поможешь нам, Мас Рава. – Я тоже сожалею. Но подумай вот о чем, Майкл Кэйн, если для тебя что-то значат слова глупого человека… – Что же? – Иногда достаточно желания, – сказал Мас Рава. – Продолжай желать, чтобы ты обнаружил исчезновение Зеленой Смерти – при условии, что ты будешь продолжать действовать даже, если не понимаешь собственных действий. Я покинул пещеру. Терпеливый Дарнад по-прежнему находился тут, веревочная лестница касалась карниза. С чувством скорее озабоченного любопытства, чем разочарования, я влез обратно в гондолу. – Он поможет нам? – нетерпеливо спросил Дарнад. – Нет, – ответил я ему. – Почему нет? Он должен! – Он говорит, что не будет. Все, что он сообщил мне – это что лекарство от чумы существовало, возможно, существует и сейчас – и оно не является машиной. – Тогда что же оно? – Контейнеры с бактериями, – задумчиво проговорил я. – Брось, давай возвращаться в лагерь. На следующий день я принял решение вернуться в Варналь и посмотреть, что произошло с городом. Я улетел на воздушном корабле, не сказав никому, куда я направляюсь. Варналь, казалось, не изменился, стал даже более прекрасным, и когда я приземлился на городской площади, то не ощутил никакого ожидаемого запахасмерти, ни малейшего, более тонкого, запаха страха. Я, однако, ради безопасности, оставался в гондоле и звал людей. Через некоторое время я услышал шаги, и из-за угла вышла женщина с маленьким ребенком. Женщина была подтянутой, а ребенок выглядел очень здоровым. – Кто вы? – пораженно спросил я. – Существеннее узнать, кто вы? – нахально ответила она. – Что вы делаете в Варнале? – Это город, в котором я живу, – ответил я. – Это город, где и я обычно живу, – решительно заявила она. – Вы – один из тех, кто ушли? – Если вы хотите спросить, не был ли я один из многих тысяч, покинувших город, когда прибыл народ Зеленой Смерти, – поправил я, – то ответ будет утвердительным. – Теперь с этим все кончено, – сообщила она. – С чем кончено? – С Зеленой Смертью. Я, знаете, некоторое время страдала от нее. – Не хотите же вы сказать, что исцелились! Как? Почему? – Не знаю. Это сделал приход в Варналь. Может быть, именно поэтому мы и пришли сюда. Я не слишком хорошо помню путешествие. от чумы? Что это могло сделать? Вода? Воздух? Что-то иное? Клянусь шивами, мои поиски не были напрасными! Наверняка ответ был у нас под носом! – Ты мне кажешься немного сумасшедшим, – заметила женщина. – Я не знаю, в чем тут дело, я знаю только, что я исцелилась так же, как и все прочие. Многие из них вернулись домой, но я осталась. – Откуда же вы пришли? – спросил я. – Из Кенд-Амрида, – ответила она. – Я довольно сильно скучаю по нему. Я засмеялся, все сильнее и сильнее. – Все время под носом! – хохотал я. – Все время под носом!17. В КЕНД-АМРИД
Благодаря странному стечению обстоятельств мы могли теперь вернуться в Варналь. Это было радостное событие, и путешествие обратно прошло даже быстрее, чем исход из Варналя. Мы, конечно, чувствовали себя весело не только из-за этого. Мы нашли лекарство от чумы – или, по крайней мере, мы знали, что чуму можно исцелить. Обосновавшись в Варнале к удивлению немногих людей, сделавших город своим домом, мы сразу начали осматривать повреждения, и не обнаружилось ничего серьезного за исключением того, что все, что относилось к механике, вышвырнули в зеленое озеро. Это должно было объясняться безумным стремлением толпы уничтожить все «функционирующее». Теперь мне в голову пришла мысль, что в озеро могли кинуть нечто, заставившее воду превратиться в лекарство против чумы. Я пытался догадаться, что это могло быть. Но не смог. Единственное, что мне пришло в голову – это что бактерии содержала та трубка, привезенная мною из Багарада и не найденная вновь. Важно, что теперь вода Озера Зеленых Туманов была способна бороться с Зеленой Чумой, и все, что нам требовалось сделать – это залить ее в контейнеры, и доставить к жертвам. Это стало нашей самой важной задачей. Мы построили баки для содержания зеленой воды и присоединили их к нашим воздушным кораблям. А потом отправились к центру эпидемии – безумному городу Кенд-Амриду. С собой мы взяли Алу Мару, которую я редко видел с тех пор, как она спасла нас, но умолявшую нас разрешить ей вернуться вместе с нами. Флот воздушных кораблей – все, что мы могли собрать – отправился в путешествие. Мы оставили Варналь с гордо развевающимися опять на башнях флагами, направляясь к ужасам чумы. На одном из воздушных кораблей летели я сам, Хул Хаджи и Ала Мара, а позади следовали корабли под началом храбрейших пукан-нара Варналя. В некоторых местах мы обнаружили городки и деревеньки, где свирепствовала чума и смогли распределить небольшое количество воды, необходимое для ее исцеления. Находя столь много зараженных мест, мы сперва сосредоточились на помощи им, и поэтому прошло некоторое время прежде, чем мы увидели перед собой Кенд-Амрид. Это он был источником чумы, и теперь благодаря зеленой воде, он остался последним местом, где свирепствовала чума. Мы осторожно подлетели к городу и воспарили над его домами. Затем мы пролетели до тех пор, пока не оказались над Центральным Местом, приземистым уродливым зданием, где обитали Одиннадцать. Деревянным шагом и гораздо медленнее, чем когда я видел стражников в последний раз, на крышу вышел один из них. С неподвижным лицом он поднял взгляд. – Кто вы? Что хотеть? – Мы привозить лекарство от Зеленая Смерть, – сказал я, подражая ему. – Лекарство нет. – Скажи Одиннадцати, что мы привезли лекарство. Скажи Одиннадцати подняться к нам. – Я сказать. Все тем же деревянным шагом стражник ушел. Трудно было поверить, что под внешностью робота внутри продолжал жить человек, но я был уверен, что это так. Вскоре на крышу поднялись Одиннадцать, хотя я поразился, насчитав их двенадцать. Пристально разглядывая их ничего не выражавшие лица, я увидел, что одним из них был Барани Даса, человек, встреченный нами в тюрьме. – Барани Даса! – воскликнул я. – Что ты делаешь, вернувшись к этим людям? Он не ответил. – Ты! – показал я на него. – Барани Даса! Отвечай мне! Пустое лицо оставалось без выражения. – Я – Первый, – раздался пустой голос. – Но ты… Они же сочли тебя безумцем! – Мозг отремонтирован. Я содрогнулся при мысли о том, что могла означать эта фраза. Выражение «мозг отремонтирован» предполагало грубую церебральную хирургию. – Что хотеть от Кенд-Амрид? – спросил другой член совета. – Мы привезли лекарство от Зеленой Смерти. – Лекарства нет. – Но оно есть у нас, мы доказали это! – Логика доказывать – лекарство нет. – Но я могу доказать, что у нас имеется лекарство, – в отчаянии воскликнул я. – Лекарства нет. Я скинул лесенку. Я собирался поговорить с этими связанными страхом созданиями лицом к лицу, надеясь, что в них можно будет достучаться до малости человечности. – Спусти бак с водой! – велел я Хул Хаджи. – Наверное, это убедит их. – Будь осторожен, друг мой, – предупредил он. – Буду, – заверил я его. – Но не думаю, что они применят силу. Вскоре я стоял на плоской крыше, обращаясь к Одиннадцати: – Почему вы по-прежнему называете себя «Одиннадцать»? – спросил я. – Вас же двенадцать. – Мы Одиннадцать, – ответили они, и я не мог их переубедить. Очевидно, они еще больше ушли в безумие, чем тогда, когда я виделся с ними в последний раз. Я уставился на холодные пустые лица, ища там хоть какие-то признаки реальной жизни, но не мог найти ни одного. Вдруг один из Одиннадцати показал наверх. – Что это? – Вы видели это раньше. Это воздушный корабль. – Нет. – Но вы же видели его, когда я в прошлый раз прилетал в Кенд-Амрид! – Что это? – Воздушный корабль, они летают по воздуху. Я показывал вам, как работает мотор. – Нет. – Но я показывал! – раздраженно воскликнул я. – Нет. Воздушный корабль невозможен. – Ну конечно же, он возможен. Вот он, перед вашими глазами. – Воздушный корабль не работать. Идея воздушный корабль – нефункциональная идея. – Вы дураки! Вы видите его перед собой в действии. Что вы сделали со своими мозгами?! Один из Одиннадцати поднес к губам свисток и выдул пронзительную трель. На крышу выбежали стражники с мечами в руках. – Что все это значит? – спросил я. – Вы должны понять, что мы находимся здесь для того, чтобы помочь вам. – Вы делать кенд-амридская машина нефункциональной. Вы уничтожать принцип, вы уничтожать мотор, вы уничтожать машина. – Какой принцип? – Первая Идея. – Идея, доведшая вас до того, что вы стали такими? Какой мотор? – Болезнь. – Вы не мотор, вы – индивидуальные человеческие существа. Какая машина? – Кенд-Амрид. – Кенд-Амрид – не машина – это город, созданный и населенный людьми. – Ты делать нефактический заявление. Ты быть сделан нефункционирующий. Я неохотно вытащил меч, но это все, что я мог сделать. Сверху я услышал громкий крик Хул Хаджи, когда тот спрыгнул с воздушного корабля и приземлился рядом со мной. Одиннадцать велели своим стражникам напасть на нас. На нас двинулись тесные ряды людей-автоматов, поднявшие мечи единым движением. На мгновение мне показалось, что нас просто снесут с края крыши одной человеческой массой. Затем, выкрикивая древний клич Карналы, ко мне присоединился Дарнад и другие варнальские воины, которые спрыгнули со своих воздушных кораблей, пока не образовался тонкий ряд бойцов против массы бездушных существ, медленно надвигавшейся на нас, одинаковым шагом, словно множественное странное существо. Начался бой. Храбрость карнальцев легендарна по всему южному Марсу, но они никогда не бывали столь храбры, как в этом бою, когда они сражались с чуждым им принципом. Каждого павшего стражника сменял другой. Каждый выбитый из руки меч находил замену. За спинами у нас не было ничего, кроме воздуха, и поэтому мы не могли отступить. Каким-то образом, я думаю, чистой силой воли, мы стали теснить стражников. Мы толкали их назад, наши мечи мелькали и сверкали на солнце, наш боевой клич звучал редко, когда мы отвлекались только для того, чтобы поддержать боевой дух. Многие из людей-автоматов пали. Никто из наших воинов не получил серьезных ран, если не считать пустяковых царапин. Каким-то образом мы уцелели против мощи Людей-Превратившихся-В-Машины. Но мало-помалу они окружили нас и придавили друг к другу, так что не осталось ни малейшего места для боя. А затем они взяли нас в плен, но не убили, как я ожидал, а разоружили. Что же собирались теперь с нами делать? Я поднял взгляд на наши корабли. Что они сделают с ними. С привезенной нами исцеляющей чуму водой? Я гадал, неужели в Кенд-Амриде никогда не воцарится мир и спокойствие?18. НАДЕЖДА ДЛЯ БУДУЩЕГО
Нас заточили в такой же камере, где мы уже были ранее. Здесь нас было много, а камера была тесной. Я никак не мог понять, почему нас не убили на месте, но решил принять это без объяснений и попытаться продумать средство убежать. Я обследовал нашу камеру. Она была сделана добротно и спроектирована специально для заточения людей – редкий случай на Марсе, где обычно сама эта мысль вызывает отвращение. Затем я вспомнил про тонкий кинжал, подаренный мне Фасой, девушкой-кошкой. Я вытащил его из-за ремней и подумал, как его можно использовать к нашей выгоде. Существует лишь ограниченное число способов сбежать из тюрьмы, если она спроектирована с таким расчетом, чтобы позволять выходить и входить только через дверь. Я перебрал все эти способы. Особенно внимательно я размышлял над самым простым – через дверь. Ее самым слабым звеном являлись петли. Я начал ковырять дерево дверного косяка поблизости от петель, думая втащить дверь внутрь. Должно быть, я работал несколько шати, поглощенный тем, что делал. Наконец, у меня кое-что получилось. Затем Хул Хаджи, Дарнад и я потянули дерево на себя. Она застонала, поддаваясь. Засов на другой стороне с лязгом упал на пол. Нас, казалось, никто не услышал. Мы стали молча продвигаться к лестнице, ведущей на первый этаж Центрального Места. Как только мы добрались до коридора и надеялись, что сможем как-нибудь проникнуть на крышу и воздушные корабли, если они еще там, я услышал звук слева от меня. Я стремительно обернулся с кинжалом в руке, пригнувшись и готовый действовать. Там стояла фигура с пустым лицом и деревянным телом. – Первый! – воскликнул я. – Барани Даса! – Я шел к камерам, – раздался холодный голос. – Теперь в этом нет необходимости. Вы идти. – Куда? – спросил я. – К главный водохранилище Кенд-Амрида. Ваши баки там. Удивившись, мы последовали за ним, все еще в неуверенности, все еще считая, что это может быть какой-то ловушкой. Мы последовали за ним по коридорам и переходам, приведшим, наконец, к помещению с высокими потолками, где царил полумрак. Здесь сверкала вода большого резервуара. На пересекающем водоем своеобразном молу стояли баки, в которых мы привезли зеленую воду из Озера Зеленых Туманов. Должно быть, Барани Даса каким-то образом сам перетащил их сюда. – Почему ты выступаешь против Одиннадцати? – спросил я его, проверяя, не испорчены ли баки. – Это необходимо. – Но когда я видел тебя в последний раз, ты был довольно нормальным человеком. Что с тобой случилось? Губы его на мгновение дрогнули, а в глазах появился слабый иронический блеск. – Чтобы помочь им, мы не должны нападать на них, – сказал он. – По-моему, ты научил меня этому, Майкл Кэйн. Я был поражен. Этот человек притворялся, чтобы его реабилитировали, чтобы попытаться изменить придуманное им самим вероучение. Мне оставалось только восхищаться им. Я думал, что он может справиться с этой задачей, коль скоро чума будет уничтожена навсегда. – Но я все еще не могу полностью понять, зачем ты привел нас сюда, – сказал я. – По нескольким причинам. Ты спас жизнь моей племяннице, Але Маре, пока был здесь. Это просто благодарность. Но ты также показал мне, как лучше всего я могу воздействовать на преступление, которому сам положил начало здесь. Я протянул руку и пожал ему плечо. – Ты – человек, Барани Даса. Ты обязательно справишься с этим. – Надеюсь, что да. Теперь мы все должны заняться приготовлением противоядия в водохранилище. Все машины нуждаются в горючем, – усмехнулся он. – А машины в Кенд-Амриде должны пить. Рассуждения его были здравыми. Вскоре мы вылили в резервуар всю зеленую воду, и наша работа была закончена. Теперь Барани Даса предложил: – Вы идти, – это он вернулся к своей первоначальной роли. Мы последовали за ним по извилистым переходам. Постепенно мы поднимались все выше и выше, пока, к моему крайнему удивлению, так как я потерял всякую ориентировку, не оказались на крыше Центрального Места. А там все еще парили наши корабли. Они находились там же, где мы их оставили. Из гондолы моего воздушного корабля выглядывала Ала Мара с улыбкой облегчения. – Дядя! – взволнованно прошептала она, увидев Барани Даса. Но тот и не взглянул на нее, сохраняя неподвижное выражение лица и прямое положение тела. Он не сделал ей даже жеста. – Дядя, – голос ее упал. – Неужели ты не узнаешь меня, Алу Мару, свою племянницу? Барани Даса оставался безмолвным. Я сделал ей знак-жест, предназначавшийся для утешения, но она зарыдала и отступила в гондолу. – Почему они ничего не сделали с воздушными кораблями? – тихо спросил я Барани Даса. – Воздушных кораблей не существует, – так же тихо объяснил он. – Так значит, они не могут увидеть их, или обманывают себя, думая, что не видят их. – Да. – Для одного человека у тебя тяжелый бой впереди, – посочувствовал я ему. – Чума исчезнет, бороться будет легче, – ответил он. – Чума исчезнет быстро, а остальное потребует немного больше времени. – И ты победишь, если на это вообще способен один человек, – сказал я то, что думал и прежде. Я еще раз хлопнул его по плечу и полез по лестнице в гондолу. Мне теперь нужно было утешить Алу Мару, рассказав то немногое, что я сам знал. Вскоре все мы влезли в гондолы кораблей. Наша основная задача была успешно выполнена, и прежнее приподнятое настроение вернулось к нам. Корабли поднялись в воздух и направились обратно к Варналю. Вскоре мы стремительно пронеслись над озерами, краем цветов и зыбучими песками. Мы летели домой. В некотором смысле мы уже были там, ибо на сердцах наших было легко, а в разумах воцарился покой. Мы вернулись в Варналь мирным утром, полным мягкого солнечного света. Зеленые туманы изящно струились по городу, сверкали и блистали мраморные башни, и весь город мерцал светом, словно драгоценный камень. Издалека доносился слабый звук, похожий на детское пение, и мы знали, что слышим песни Зовущих Холмов. Весь Марс казался мирным. Мы долго и упорно боролись за этот мир, но героями мы стали не из-за этого. Все, что мы сделали – это сделали героев из тех, кто сражался вместе с нами. И этого было достаточно. Шизала ждала на центральной площади неподалеку от дворца. Она сидела на широкой спине смирного дахара и держала рядом с собой другого оседланного и готового к поездке скакуна. Я не устал и знал, что она догадается об этом. Я быстро слетел по веревочной лестнице и спрыгнул с последней ступеньки на спину поджидавшего меня скакуна. Я нагнулся и поцеловал жену, крепко прижав ее к себе. – Все в порядке? – спросила она. – В основном, – сообщил я. – Со временем не останется ничего, кроме памяти о печали и тревоге. И это хорошо, что на Вашу будут такие воспоминания. – Да, – кивнула она, – это хорошо. – Поехали, давай прогуляемся к Зовущим Холмам, как мы сделали это, когда впервые встретились. Мы пустили своих дахаров вперед в тихое утро, проскакав по прекрасным улицам к Зовущим Холмам. Со скачущей рядом со мной моей прекрасной женой и вызванным стремительной скачкой хорошим настроением, я знал, что нашел нечто бесконечно ценное – нечто такое, чего никогда бы не имел, если бы не прибыл на Марс. Ноздри мои наполняли прохладные запахи марсианской осени, и я предался радости истинного и простого счастья.ЭПИЛОГ
Я с острым интересом выслушал рассказ Майкла Кэйна, и он тронул меня куда более глубоко, чем я что-либо испытывал ранее. Я понял, почему он казался теперь более расслабленным, чем был когда-нибудь прежде. Он нашел нечто, что редко на Земле. В этот момент у меня возникло сильное искушение просить его взять меня на Марс вместе с ним, но он улыбнулся. – Вы действительно хотели бы этого? – спросил он. – Я… Я думаю, что да. Он покачал головой. – Найди Марс в себе самом, – сказал он. А потом усмехнулся. – Хотя бы по той причине, что это потребует меньшего напряжения сил. Я подумал над этим, а затем пожал плечами. – Наверное, вы правы, – сказал я. – Но, по крайней мере, я буду иметь удовольствие изложить ваш рассказ на бумаге. Чтобы и другие могли разделить с вами радость найденного на Марсе. – Надеюсь, что так, – согласился он. Потом, после непродолжительного молчания, добавил: – Я полагаю, что вы считаете меня немного сентиментальным. – Что вы имеете в виду? – Ну, попытки описать вам все своим чувства – тот рассказ о нашей поездке к Зовущим Холмам. – Существует большая разница между сентиментальностью и искренними чувствами, – возразил я ему. – Беда в том, что люди иногда склонны путать одно с другим, и поэтому отвергают и то, и другое. Все, к чему мы стремимся – это к искренности. – И отсутствию страха, – улыбнулся он. – Это приходит, когда появляется искренность, – предположил я. – Частично, – согласился он. – Какой же недоверчивый народ мы, земляне, – сказал я. – Мы так слепы, что не доверяем красоте, даже когда видим ее, чувствуем, что она не может быть тем, чем кажется. – Чувство довольно здравое, – заметил Кэйн. – Но оно может, как вы подметили, зайти слишком далеко. Наверное, старый средневековый идеал не так уж и плох – умеренность во всем. Эта фраза очень часто принималась по отношению только к физической стороне людей, но она, по-моему, столь же важна и для их духовного развития. Я кивнул. – Ну, – сказал он. – Опасаясь еще больше наскучить вам, я вернусь в подвал к передатчику материи. Каждый раз, когда я возвращаюсь, я нахожу Землю все лучше, чем раньше. Но с Марсом то же самое. Вообще, я – везучий человек. – Вы исключительно удачливы, – согласился я. – Когда вы вернетесь? Должно быть, предстоят новые приключения? – Разве этого было недостаточно? – усмехнулся он. – На данный момент, – возразил я ему. – Но я скоро захочу услышать еще. – Помните, – пошутил он, притворно грозя пальцем. – Умеренность во всем. – Это будет утешать меня, пока я жду вашего следующего визита, – улыбнулся я. – Я вернусь, – заверил он меня. А затем он покинул комнату, оставив меня сидящим у гаснущего камина, все еще полного картинами Марса. Скоро они должны пополниться. Я был в этом уверен.Майкл Муркок Византия сражается


Действующие лица
Максим Артурович Пятницкий (Дмитрий Митрофанович Хрущев), рассказчик. Елизавета Филипповна, мать Максима. Капитан Браун, шотландский инженер. Эсме Лукьянова, подруга Максима. Зоя, девочка-цыганка. Профессор Лустгартен, школьный учитель. Фрау Лустгартен, его жена. Саркис Михайлович Куюмджан, армянский инженер. Александр (Шура), кузен Максима. Евгения Михайловна (тетя Женя), двоюродная бабка Максима. Ванда, ее бедная родственница. Семён Иосифович (дядя Сеня), двоюродный дед Максима. Эзо, кабатчик из Слободки. Миша Япончик, бандит из Слободки. Витя Скрипач – посетитель таверны Эзо. Исаак Якобович – посетитель таверны Эзо. Малышка Граня – посетитель таверны Эзо. Боря Бухгалтер – посетитель таверны Эзо. Лёва – посетитель таверны Эзо. Господин Ставицкий, торговец наркотиками. Катя, молодая проститутка. Мать Кати, проститутка. X. Корнелиус, дантист. Гонория Корнелиус, английская авантюристка. Со-Со[11], грузинский революционер. Никита Грек, друг Максима. Мистер Финч, ирландский моряк. Сергей Андреевич Цыпляков (Сережа), балетный танцовщик. Марья Варворовна Воротынская, студентка. Мисс Бьюкенен, ее няня. Мистер Грин, агент дяди Сени в Петербурге. Мистер Паррот, его помощник. Мадам Зиновьева, квартирная хозяйка Максима в Петербурге. Ольга и Вера, ее дочери. Доктор Мазнев, преподаватель в Петербургском политехническом институте. Профессор Меркулов, другой преподаватель. Князь Николай Федорович Петров (Коля), богемный петербуржец. Ипполит, мальчик на содержании князя Петрова. Луначарский, большевик. Маяковский, поэт. Лолли Леоновна Петрова, кузина Коли. Алексей Леонович Петров, ее брат. Елена Андреевна Власенкова (Лена), соседка Марьи Варворовны Воротынской. Профессор Ворсин, ректор Политехнического института. Гетман Павло Скоропадский, марионеточный диктатор. Атаман Симон Петлюра, военный предводитель украинских националистов. Генерал Коновалец, командир сечевых стрельцов. Винниченко, лидер украинских националистов. Потаки, украинский большевик. Маруся Кирилловна, украинская большевичка. Сотник (капитан) Гришенко, казачий офицер-григорьевец. Сотник (капитан) Ермилов, то же. Стоичко, казачий офицер. Бродманн, социалист, офицер связи. Нестор Махно, лидер анархистов. Капитан Куломсин, офицер-белогвардеец. Капитан Уоллис, австралиец, командир танкового экипажа. Майор Пережаров, командир белогвардейцев. Еврейский журналист в Аркадии[12]. Мадам Зоя, хозяйка гостиницы. Капитан Осетров, белогвардеец, офицер разведки. Майор Солдатов, командир Максима. Главный инженер «Рио-Круз», собрат по духу. Прочие персонажи: Кориленко (почтальон); капитан Бикадоров (казак); шлюхи и актеры в Одессе; шлюхи, актеры и художники в Санкт-Петербурге; революционеры в Санкт-Петербурге; казаки (красные, белые); полицейские, чекисты, офицеры Военно-морского флота, офицеры сухопутных войск, гайдамаки, нищие, пьяные, евреи из штетла близ Гуляйполя, обитатели селений в украинской степи и, за кулисами, Лев Троцкий, Деникин, Краснов, Ульянский, князь Львов, Керенский, Путилов, Иосиф Сталин, Столыпин, Ленин, Антонов, Сикорский, Савинков, Катерина Корнелиус, Герберт Уэллс.Предисловие
Человек, на протяжении многих лет в районе Портобелло-роуд[13] именуемый «полковник Пьят», а иногда просто «старый поляк», постоянно сопровождавший в 1960–1970‑х годах госпожу Корнелиус в ее излюбленных пабах «Бленхейм Армз», «Замке Портобелло» и «Элджине», в августе 1977 года стал жертвой ноттинг-хилльского карнавала, во время которого несколько чернокожих мальчиков и девочек, собиравших средства в помощь пожилым людям, вырядившись в странные карибские наряды, ворвались в его магазин и потребовали пожертвований. Сердце старика не выдержало, он умер в госпитале Св. Чарльза[14] несколько часов спустя. У него не осталось родственников. В конце концов, после долгой и неприятной волокиты, я унаследовал его архив. За последние два года мы с ним успели сблизиться. Полковник выяснил, что я профессиональный писатель, и не давал мне прохода, буквально преследовал меня, настаивая, чтобы мы занялись подготовкой к печати его воспоминаний о госпоже Корнелиус, которая умерла в 1975‑м. Он знал, что я уже, по его словам, «эксплуатировал» ее имя в своих книгах, догадался о моем интересе к местной истории, увидев меня впервые, несколькими годами ранее, когда я фотографировал старый женский монастырь клариссинок[15] накануне сноса. Много позже мы столкнулись во время съемок трущоб на Бленейм-кресчент и Вестбурн-парк-роуд[16], также незадолго до их уничтожения. Именно тогда Пьят впервые подошел ко мне. Я пытался не обращать на него внимания, но когда он заговорил о госпоже Корнелиус, называя ее «известной в Британии персоной», я проявил любопытство: эта необыкновенная женщина меня очень интересовала. Пьят уверял, что весь мир пожелает прочесть его воспоминания о даме, по его мнению, не менее популярной, чем королева Елизавета… Мне пришлось по- дружески напомнить ему, что госпожа Корнелиус была знаменита лишь в крошечном районе Северного Кенсингтона. Мои собственные рассказы о ней были в значительной степени выдумкой. Никто не считал ее выдающейся личностью. Но Пьят настаивал, что на известности дамы можно подзаработать, он был убежден, что масса читателей с нетерпением жаждет узнать подлинную историю жизни госпожи Корнелиус. Он обращался в газеты, в «Дэйли миррор» и «Сан»[17], пытался продать им свою историю (ужасающее собрание рукописей на шести языках, на бумаге почти всех возможных цветов и размеров, хранившееся в одиннадцати обувных коробках), но с подозрением отнесся к предложению направить текст по почте, а не вручить лично редактору. Пьят рассказывал всем, что доверял мне больше, чем кому бы то ни было, за исключением госпожи Корнелиус. Я напоминал ему, очевидно, Михаила VIII[18], последнего великого спасителя Константинополя. Полковник даже предполагал, что я – реинкарнация этого византийского императора, он показал мне чернобелую фотографию иконы, на которой, как и на большинстве икон, мог быть изображен кто угодно. Тогда все носили бороды. Подозреваю, что Пьят доверился мне, потому что я ему потакал и по- настоящему интересовался его жизнью, а равно и жизнью госпожи Корнелиус, всегда крайне туманно рассказывавшей о своем прошлом. Так что у меня имелся личный интерес. Полковник Пьят не был приятным персонажем, и его нетерпимость и неистово выражаемые крайне правые взгляды оказалось трудно принять. Я покупал ему выпивку в тех же пабах, которые он посещал с госпожой Корнелиус, надеясь получить материал для новых историй, но у него имелись другие планы. Не интересуясь моим мнением, Пьят решил, что я должен стать его литературным консультантом за десять процентов от аванса. Вместе, заявил он, мы должны подготовить рукопись. Предполагалось, что я представлю ее своему постоянному издателю, а мое имя и влияние, а также известность госпожи Корнелиус, позволят нам продать книгу «по меньшей мере за пятьдесят тысяч фунтов». Я вскоре перестал ему объяснять, что авансы за первые книги редко достигают пятисот фунтов и что у меня нет никакого особого влияния. Вместо этого приходил к нему в свободное время и помогал разбирать бумаги. Я нашел переводчика, моего старого друга и соавтора М. Г. Лобковица, готового работать с рукописями большого объема, написанными на русском, плохом немецком, польском и чешском, а по большей части – на дурном английском с забавными вкраплениями французского, когда речь заходила о сексе. Также я беседовал с полковником, пытаясь заполнить пробелы в его истории. Мне трудно предположить, какая судьба ждала бы этот проект, если бы полковник не умер. Моя собственная работа существенно страдала. Жена говорит, что я едва не сошел с ума, полностью одержимый Пьятом. Я не мог находиться вдали от него. Он встречал многих выдающихся деятелей политики и культуры межвоенной эпохи, зачастую не понимая значительности этих людей, и, обладая способностью все запутывать, зачастую, казалось бы, невольно, отмечал весьма удивительные детали. Сначала, из-за его ярого антисемитизма, ненависти к местным жителям, злобных и реакционных суждений о современной жизни, я с трудом сохранял уважение к возрасту и перенесенным страданиям и еле сдерживал себя. Это Лобковиц, видевший многое из того, с чем сталкивался Пьят, помог мне работать с полковником. «Великие исторические трагедии, – сказал он, – создаются из личных трагедий. Чтобы решить судьбы двенадцати миллионов человек, погибших в лагерях, нескольким миллионам Пьятов придется вступить в сговор. Его душа разрушена». Сначала точка зрения Лобковица казалась мне слишком благостной, даже сентиментальной, но потом, со временем, я смог примириться с ней. Кроме того, мое любопытство всегда оказывалось сильнее отвращения. Я посещал полковника по воскресеньям, записывал на магнитофон монологи. Некоторые из них почти дословно повторялись в его рукописях. Я редко использовал запутанные сведения, записи на смеси языков, оставленные Пьятом, но чтобы у читателей сложилось представление, с чем мне пришлось столкнуться, я процитирую в Приложении А фрагмент текста. Прежде всего я хочу указать на трудности, связанные с переводом, упорядочением и разъяснением содержимого архива. Факсимиле в начале книги представляет одну из наиболее пригодных для чтения страниц.Пьят отнюдь не был глупцом в обычном смысле слова. Многие из его замечаний казались удивительно проницательными. Именно обилие противоречий в его рассказе и вынудило меня отказаться от литературной обработки материалов. Поэтому читатели обнаружат на следующих страницах очень мало иронических комментариев, а использование приемов, присущих современной беллетристике, существенно ограничено: это повествование не соответствует требованиям, обыкновенно предъявляемым к литературным произведениям. Было бы лучше считать этот текст не биографией, как предлагал Пьят (госпожа Корнелиус появляется на страницах этого тома нечасто), но автобиографией. Это история необычайной жизни, и посему она содержит необычайные совпадения, парадоксы и странные, нелогичные заключения. Для первого тома, действие которого доведено до конца Первой мировой войны и последних эпизодов Гражданской войны в России, я отобрал материал, напрямую связанный с этим периодом в жизни Пьята. Не относящиеся к повествованию сведения я не использовал вовсе или отложил для следующих томов, где они будут более уместны. Относительно некоторых эпизодов полковник высказывался неопределенно, например, о времени, проведенном в заключении в Киеве, но в дальнейшем повествовании читатель обнаружит факты, по крайней мере объясняющие причину, по которой Пьят избегает рассказывать об этих событиях. Я пытался не углубляться в рассуждения, объединяя фрагменты истории, предпочитая, чтобы читатели решали сами, что относится к делу, а что – нет, так как их предположения могут оказаться не хуже моих собственных. С переводом возникли огромные проблемы. Пьят в основном писал на разговорном русском, и, согласно Лобковицу, его тексты напоминают искусную прозу Андрея Белого, Бориса Пильняка и других «сказовых» авторов, у которых, как утверждает мой коллега, многое позаимствовал Набоков. Я должен признать, что практически незнаком с современной русской беллетристикой, так что мне пришлось целиком и полностью положиться на мнение Лобковица. Естественно, я испытываю огромное уважение к своему другу. Никто иной, возможно, не справился бы со всеми трудностями так успешно. У полковника Пьята было литературное чутье, но он слишком часто менял интонацию повествования. Редактирование и сокращение привели к потере некоторого противоречивого очарования оригинала (еще одна причина для включения части наиболее безумных фрагментов сочинения Пьята в приложение, а не в основной текст), хотя, я думаю, даже остатки этого «потока сознания» дают представление о состоянии духа повествователя – униженного, пораженного, охваченного ужасом человека. Лобковиц не смог перевести текст в нескольких местах, где ему не удалось даже предположить, какой именно язык использовался. Вероятно, перед нами тайный или вымышленный язык – иногда люди, склонные к паранойе, прибегают к подобным средствам. Полагаю, мне следует честно признать: в последние годы жизни Пьят страдал психическим заболеванием и иногда лечился в специальных заведениях. Мне посоветовали включить в это введение краткое пояснение ко второй половине книги, которая посвящена приключениям Пьята во время русской Гражданской войны, одной из самых разрушительных войн в истории. Краткую информацию о ней вы обнаружите в Приложении В. Я с радостью положился на интерпретацию тогдашних событий на Украине, предложенную Лобковицем, – по крайней мере, в тех немногих случаях, когда рассказ нуждался в дополнительных пояснениях. Ясно одно: в те годы многое было поставлено на карту. Следует помнить о жестоких казачьих побоищах, о страшных погромах, особенно 1905–1906 годов, о географическом положении «пограничной области» (именно так и следует понимать само название «Украина»), богатой полезными ископаемыми и земельными ресурсами. Этот край всегда страдал от вспышек насилия, а в ту эпоху – тем более. Но если бы не большевики и союзники, надо сказать, что Украина избежала бы подобных приступов агрессии, включая запланированный сталинский голод, по крайней мере до немецкого вторжения в 1941‑м, когда все ужасы повторились с увеличенной силой. Во многом недавняя история Украины может быть воспринята как концентрированная версия всей истории нашей эры. Большинство политических проблем нам знакомо. Методы, использованные для решения проблем, также известны. События на Украине стали прообразом событий во всем остальном мире, и это одна из причин моего интереса к воспоминаниям полковника. Вот почему я решил, что стоит попытаться создать нечто вроде последовательной истории из материала, который в первоначальном состоянии был абсолютно непоследовательным и разрозненным. Я вообще не проявлял интереса к Украине и ее проблемам, пока не встретил полковника Пьята, и должен признать, что многие из моих представлений о Российской империи, которые основывались на полученной от него информации, оказались как минимум ошибочными. Его характеристика событий в России между 1900 и 1920 годами столь же пристрастна, как и любые другие его оценки. Лобковиц полагает, что я должен объяснить читателю: рассказы Пьята нельзя считать подробными описаниями реальных событий, происходивших в те годы, хотя многие из его утверждений, связанных с простой констатацией фактов, нам удалось проверить и подтвердить. Полковник был тяжелым, утомительным в общении человеком, и работа с ним отняла более двух лет моей жизни. Редактирование остальной части рукописи, которая поведает его историю вплоть до концентрационных лагерей и 1940 года, займет намного больше времени. И все же я почти с ностальгией вспоминаю о тех воскресных днях, когда мы с женой посещали его неопрятную двухэтажную квартиру и слушали зачастую резкие, иногда злобные, иногда громкие нападки на ту или иную нацию, политическую партию – и на тех, кто, с точки зрения Пьята, вступил в сговор против него, чтобы лишить всех земных благ. Квартира располагалась над его магазином. Сначала это была обычная лавка подержанной одежды, где, будучи мальчиком, я часто покупал поношенные эдвардианские наряды. Я думаю, что один из сыновей миссис Корнелиус – почти наверняка Фрэнк – в 1960‑х предложил переименовать заведение в «Дух Санкт-Петербурга. Магазин подержанных мехов», чтобы воспользоваться расцветом туризма и новой модой, которая, на мой взгляд, приобрела самые отталкивающие черты. Теперь магазином управляет семейство индусов, торгующее одеждой, изготовленной на современных заводах Ист-Энда, использующих рабский труд. Комнаты полковника Пьята пропахли бывшими владельцами этих помещений: их нафталиновыми шариками, несвежим парфюмом и кислым ароматом старости; борщом и польской водкой под названием «Старка» – выдержанной, приятной на вкус, цветом напоминавшей ирландский виски. Водка оставалась его единственной слабостью, и я полагаю, что он пил ее, поскольку она позволяла сохранять связь с Россией его детства. «Старка» была гораздо дешевле более известных на Западе марок вроде «Столичной», но ее почти невозможно найти в Англии. Думаю, полковник пополнял свои запасы через русских моряков, выходивших в увольнение на берег в Лондоне и Тильбюри. «Старка» пахла острее большинства водок и к тому же была куда крепче. Пьят лишь однажды предложил нам выпить стаканчик в обмен на несколько пачек папирос, которые я привез ему. Хотя полковник очень слабо разбирался в английской культуре (он жил неподалеку от госпожи Корнелиус в беднейших кварталах Ноттинг-Хилла с тех самых пор, как приехал в Англию в 1940 году, заявив о своем польском происхождении), но не был ни безграмотным, ни глупым человеком. Его представления о современной культуре могли показаться весьма странными – в основном он говорил о телепрограммах и фильмах, но при этом презирал англичан за недостаток «изысканных чувств», а также за отсутствие идеализма, прагматизм и лицемерие, и почти все проблемы, не связанные с евреями или большевиками, объяснял тем, что считал нашей слабостью, – отказом от империи. Благодаря наблюдениям Лобковица я смог понять: жизнь нанесла Пьяту такие глубокие раны, что он искал спасения в фантазиях и фанатизме, но иногда было очень тяжело выслушивать мерзкие и слишком хорошо знакомые расистские высказывания, которыми он часто потчевал нас, в особенности с тех пор, как начал считать меня как минимум близким по духу человеком, «одним из немногих подлинных интеллектуалов, которых встречал в этой стране». Полковник настаивал, что Англия практически лишилась культурной жизни. А то немногое, что осталось, по его словам, выдавало наш ужасный упадок. Его жизненный опыт ничем не отличался от опыта многих других буржуазных беженцев из Европы, которые, не говоря по-английски, почти не имея денег и друзей, приехали в Англию и Америку накануне войны. Они вынуждены были поселиться в рабочих районах крупных городов, где им пришлось столкнуться с замкнутыми людьми, ничего не знающими о политических проблемах и культурной жизни, столь важной для эмигрантов. Пьят не мог понять нравы и шутки представителей лондонского рабочего класса, а приветливость и терпимость большинства окружающих, казалось, способствовала развитию у него представления, что англичане беззаботны и ленивы и не заслуживают его доверия. Но у него сохранилась романтическая привязанность к нашей стране, как вы увидите в дальнейшем. Этот ограниченный опыт позволил полковнику предположить, что госпожа Корнелиус знаменита не меньше королевы. Все, кого он встречал в своем районе, казалось, проявляли больше интереса и дружелюбия к этой даме, чем, скажем, к Адольфу Гитлеру или Маргарет Тэтчер. Вот почему Пьят искренне полагал, что нынешнее поколение заплатит ему за воспоминания об экстравагантной, но практически неизвестной дамочке-кокни гораздо больше, чем за частные воспоминания о великих диктаторах. Должен признаться, что мое воображение гораздо больше занимает госпожа К., чем Муссолини, но я понимаю, что очень немногие разделят мой энтузиазм. Можно также утверждать, что я был лично заинтересован в ее популярности, так же как в популярности полковника – ведь я упоминал о нем в своих книгах еще до того, как мы познакомились. К тому времени, как я повстречал Пьята, его внешность стала довольно невзрачной. Он выглядел обычным старым европейцем, смуглым, сутулым, сварливым, немного неряшливым, с морщинистым лицом, большими губами и выдающимся носом. Его кожа имела нездоровый цвет. Он носил старомодные, покрытые пылью костюмы или спортивную одежду, наряд дополняла белая кепка для гольфа, которую он не снимал ни зимой, ни летом. Старик собирал всякий хлам, которым были завалены верхние комнаты, и владел множеством бесполезных вещей вроде старых велосипедов, бензиновых двигателей, свечей зажигания, древних электроприборов и так далее. В его квартире иногда очень сильно пахло горелым машинным маслом. Коллекция фотографий и засаленных газетных вырезок была единственным свидетельством былого изящества и светского лоска. Моя жена считала, что раньше он выглядел очаровательно, но я мог разглядеть на фотографиях лишь симпатичного мужчину, взгляд которого, казалось, никогда не мог ни на чем сосредоточиться. Я видел снимки, на которых он стоял у гондол воздушных кораблей, сидел в кабинах гидросамолетов, принимал участие в церемониях открытия дамб и мостов, спускал на воду корабли. Пьят, разумеется, путешествовал и встречался со многими известными людьми. Госпожа Корнелиус упоминалась лишь в нескольких газетных вырезках, но на большинстве фотоснимков, сделанных в разное время в разных странах, она присутствовала; это подтверждало ее заявления о том, что она «немного постранствовала в молодости». Полковник передал весь этот материал, вместе с рукописями, мне на хранение. Не было никаких сомнений в том, что он считал меня наследником мемуаров и своим литературным душеприказчиком. Удивительные требования мистера Фрэнка Корнелиуса, против которого я успешно выступил в суде, давно признаны необоснованными, и у меня теперь есть законное право распоряжаться рукописями, но не изображениями. Мы с Пьятом и в самом деле были знакомы недолго, но я действительно стал его единственным другом. Он часто говорил, что это его наследство, и оно достанется мне, если что-нибудь с ним случится. Я могу пригласить свидетелей, которые подтвердят тот факт,что полковник неоднократно публично называл меня «сыном, которого никогда не знал», и человеком, способным обосновать его притязания на историческую значимость. Я должен был сохранить память о нем. Я держу рукопись в банковском сейфе и надеюсь выполнить желание Пьята. Как я уже отметил, при редактировании этих мемуаров я столкнулся с целым рядом технических и моральных проблем. Например, полковник позволил мне воспроизводить особенности речи миссис Корнелиус по своему усмотрению, но настаивал, чтобы я сохранил его «философию». Ядовитые ремарки по поводу пола, расы и культуры почти всегда излагались на других языках, не на английском, так что их можно было исключить, но, вычеркнув их полностью, я бы лишил читателей понимания всех особенностей материала и самого Пьята. Несомненно, полковник был позером, лгуном, шарлатаном, наркоманом, преступником, но когда-то обладал огромным обаянием – это очевидно по его успехам. Люди чувствовали к нему расположение и бросались на помощь, зачастую испытывая огромные неудобства. Именно эти свидетельства, а не его собственные заявления убедили меня в том, что он не всегда был таким испорченным, как в последние годы. Кроме того, полковник оказался не совсем уж некультурным. Он превосходно схватывал технические понятия, что выглядело весьма необычно для человека его времени и происхождения. Он неплохо разбирался в искусстве и литературе, хотя его вкус, как вы увидите, иногда вызывал сомнения – в этом смысле Пьят отличался некоторой невинностью. Мне бы хотелось, чтобы читатели сами решали, где ложь и где истина. Именно поэтому я вмешивался в исходный материал как можно реже, просто восстанавливая связность рассказа в тех случаях, где это было совершенно необходимо. Уверен, что переводы М. Г. Лобковица превосходны и очень точно передают дух оригинала. Я перефразировал и отредактировал множество предложений, чтобы улучшить их, но сохранил некоторую грубость там, где у читателя могли возникнуть сомнения в подлинности мемуаров. Проблема объема также стояла передо мной, пришлось сократить несколько эпизодов. Обычно я прибегал к сугубо литературным методам – к парафразам, например создавая усиленную версию первоначального текста. Альтернативный вариант – представить конспект некоторых фрагментов – показался менее привлекательным. Я стремился, как мог, сохранить оригинальный текст, так как уверен, что история полковника Пьята будет уникальной. Он много путешествовал и между 1920 и 1940 годами принимал участие в важнейших технических экспериментах того времени – эпохи, известной эйфорическим, оптимистичным отношением к технике, которое мы никогда не сможем возродить, но наш герой сохранил его в полной мере. Я полагаю, что он был наделен проницательностью, редко встречающейся у более искушенных профессиональных обозревателей. Эта проницательность сменялась иногда обычной наблюдательностью, с помощью которой он мог распознавать близких себе по духу людей; но он был, по его словам, «оставшимся в живых» – обладал инстинктом выживания, в отличие от моральных инстинктов, чрезвычайно сильным, который позволял ему распознавать тех, кого можно было использовать, и тех, кто думал, что сможет использовать его. Как говорил сам полковник, он не отличался благородством – проявлял жестокость по отношению к слабым или просто забывал о них; унижался перед сильными. И все-таки Пьят воплощал дух своей эпохи. Я сохранил большую часть его громогласных заявлений о собственной гениальности, а также множество простодушных оговорок, примеры бессознательного юмора; я даже не пытался исправлять неточности в его научных теориях или изменять даты и места, которые он указывает в описаниях отдельных событий. Еще раз повторю, что я предпочел бы, чтобы читатель сам определил степень правдивости тех или иных, зачастую невероятных, историй полковника Пьята об эпохе, которая так сильно напоминает нашу и так существенно влияет на нее. Как сказал мне Лобковиц: «История Пьята исключительна, но страдания вполне обычны». Мне удалось навести справки и в сербской церкви, и в русской православной церкви в Бэйсуотере. Там никто не вспомнил Пьята. Мне сказали, что под это описание подходят многие из «плывущих по течению».
Я еще раз хотел бы выразить огромную признательность князю Лобковицу, Ли Фелдманн, которая смогла подтвердить некоторые из воспоминаний Пьята о Махно (она была швеей на его учебном поезде), Стюарту Кристи и Альберту Мелцеру, Чарльзу Плэтту, Максиму и Долорес Якубовски, Джорджу и Борису Хоффману, Украинскому научному институту Гарвардского университета, Джону Клюту, Хилари Бэйли и Джайлсу Гордону, который помог мне скомпоновать окончательный вариант текста, моей жене, Джилл Ричес, которой так долго пришлось жить с Пьятом – и затем, еще дольше, с его призраком, и, наконец, Саймону Кингу и Тиму Шеклтону, редакторам, которые решили, что мемуары Пьята достойны публикации. Майкл МУРКОК Лэдброк Гроув, май 1979
Глава первая
Я дитя своего века и ровесник его. Я родился в 1900 году, первого января, на юге России – древней подлинной России, где зародилась вся наша великая славянская культура. Разумеется, название «Россия» осталось в прошлом; изменился и календарь, который теперь соответствует англо-саксонским меркам. Так что, следуя новой системе имен и летоисчисления, я родился в Украинской Советской Социалистической Республике 14 января. Мы живем в мире, где множество личин упадка прикрывается мантией прогресса. Я не еврей, как это часто предполагали невежды, с которыми мне приходилось сталкиваться. Большой казачий ястребиный нос на Западе часто принимают за отвратительный клюв стервятника. Я не дурак. Я чувствую свое славянское происхождение, чувствую свою кровь. Она шумит в моих венах; она рокочет, как древние реки мой родины, вечно стремящиеся к гармонии с нашей святой, таинственной землей. Моя кровь принадлежит России – так же, как принадлежат ей Дон, Волга и Днепр. Она все еще слышит зов нашей огромной, бескрайней степи, под ее бездонными небесами аристократ и крестьянин, купец и рабочий ощущали собственную ничтожность и осознавали, насколько малозначительно материальное благосостояние, ибо они едины пред Богом и следуют его неисповедимыми путями. Чужеродные западные идеи создали угрозу этому единству. Все началось с промышленных городов, где дымящиеся трубы скрыли наши несравненные русские небеса, а люди отвергли Божий кров и спасение, скрылись от милостивых очей Господа. С городов, застроенных синагогами. И тогда русский народ начал восставать и бросать вызов воле Божьей, как не посмел бы сам царь; как не посмел бы даже Распутин, сыгравший роль Крестителя при Антихристе-Ленине и разрушивший царство изнутри. Под влиянием еврейских социалистов в Харькове, Николаеве, Одессе и Киеве эти кочегары и клепальщики сначала отказались от самого Господа, затем от своей крови, а после и от своих душ, от своих русских душ. Я не могу отказаться от своей души даже после пятидесяти лет изгнания – как же тогда я могу быть евреем? Петром? Иудой? Думаю, что не могу. Следует признать, я не всегда был религиозен. Я перешел в ортодоксальную греческую веру сравнительно поздно, и, возможно, именно поэтому я ее ценю так же высоко, как миллионы гонимых христиан в так называемом Советском Союзе, которые служат Богу с невиданным в христианском мире усердием. Я всю жизнь терпел расистские оскорбления, и в этом следует винить моего отца, который расстался с верой так же легко, как с семьей. Я познал эти страдания еще ребенком, в Царицыне, и все стало только хуже, когда мы с матерью, к тому времени, вероятно, уже вдовой, переехали обратно в Киев после погрома. Мать была полькой, но ее семья давно осела на Украине. Она рассказывала, что мой отец был потомком запорожских казаков, в течение многих столетий защищавших славян от нашествий с Востока и натиска империализма с Запада. Мой отец подхватил радикальные идеи сначала в Харькове, где служил чиновником, а потом и на военной службе. После выхода в отставку он жил в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Потом у него начались проблемы с властями. Отца выслали в Царицын. Многие из этих названий, вероятно, незнакомы современному читателю. Санкт-Петербург был переименован в Петроград в 1916‑м[19], с целью избавиться от всяких напоминаний о Германии в названии столицы. Теперь город именуется Ленинградом. Несомненно, название поменяют снова, как только появится новое политическое веяние. Царицын стал Сталинградом и затем Волгоградом, поскольку прошлое в очередной раз пересмотрели, а неизбежное будущее и непостоянное настоящее требуют новых лозунгов и слов, способных даже самых здравомыслящих граждан превратить в шизофреников. Царицын, вероятно, сейчас называют как-то иначе. Как именно, не знает никто, и уж точно не те украинские националисты, эмигранты, с которыми я иногда беседую после церковных служб. Они стали такими же невежественными, как и все прочие местные жители. Мне трудно отыскать равных себе. Я культурный человек, получивший университетское образование в Санкт-Петербурге. Но какая польза от образования в этой стране, если ты не входишь в «круг бывших однокашников»[20], если ты не гомик из Центрального управления информацией[21] или Би-би-си или не любовник принцессы Маргарет[22], если ты не один из многих псевдоинтеллектуалов, которые являются сюда и выдают себя за крестьян, что, вероятно, недалеко от правды? Просто удивительно, как легко эти чехи, поляки, болгары и югославы умеют выдавать себя за академиков и художников. Я постоянно вижу их имена на книгах в библиотеке, в титрах похабных фильмов. Я до них ни за что не унижусь. А что касается девушек, все они – шлюхи, которые нашли на Западе добычу побогаче. Я вижу двоих почти каждый день, когда покупаю хлеб в литовском магазине. Они выставляют напоказ длинные светлые волосы, огромные накрашенные губы и роскошные платья, их кожа покрыта косметикой, они насквозь пропахли духами. Они постоянно трещат по-чешски. Они приходят ко мне за меховыми шапками и шелковыми юбками, а я отказываюсь их обслуживать. Они смеются надо мной. «Старый еврей думает, что мы русские», – говорят они. Ах, если б это было так! Настоящие русские получили бы скидку. Девчонки говорят по-русски, конечно, но они наверняка из Чехии. Поверьте мне, я знаю, что и сам могу вызвать подозрения, потому что я не сообщаю никому, даже британским властям, свою настоящую фамилию. Мой отец много раз менял ее во время революционной деятельности. По различным причинам мне тоже приходилось брать другие имена. У меня все еще есть родственники в России, и было бы нечестно по отношению к ним использовать нашу общую фамилию, у нас очень значительные аристократические связи – и по отцовской, и по материнской линии. А всем хорошо известно, как большевики относятся к аристократам. Вот какого сорта эти девицы. Коммунизм уничтожил их задолго до того, как они явились на Запад. Никакой морали! Есть у чехов такая шутка: коммунисты избавились от проституции, сделав всех женщин шлюхами. Я помню точно таких же девушек, из хороших семейств, отлично говоривших по-французски. Пятьдесят лет назад они ползали по полу заброшенного Fisch château близ Александрии[23], когда снаряды свистели повсюду в темноте и половина города была охвачена огнем. Грязные и голые, они прикрывали свою наготу дорогими мехами, подаренными бандитами Григорьева. Некоторым не исполнилось и пятнадцати лет. Их маленькие груди раскачивались, плотные губы открывались, чтобы принять нас, они были крайне развратны и наслаждались всем этим. Я почувствовал тошноту и сбежал оттуда, рискуя жизнью, и до сих пор чувствую отвращение, вспоминая об этом. Но следует ли винить девушек? Тогда – нет. Сегодня, в свободном мире, я отвечу: «Да, следует». Ведь в Европе у них есть выбор. И они представляют здесь славянских женщин, столько лет остававшихся чистыми, прекрасными хранительницами домашнего очага. Вот что происходит, когда люди отвергают свою веру. Моя мать, несмотря на польское происхождение, в своих религиозных предпочтениях склонялась скорее к греческой церкви, чем к римской, хотя, насколько мне известно, она не посещала храмы. Зато соблюдала все православные праздники. Я не помню икон, но уверен, что они были. В алькове у нее висел портрет моего отца в мундире, перед которым всегда горели свечи. Здесь матушка молилась. Она никогда не осуждала отца, но часто напоминала мне о том, как он сбился с пути. Он отринул Бога. Став атеистом, принял участие в восстании 1905 года и, вероятно, был убит, хотя обстоятельства его смерти так и не удалось установить. Мать не говорила прямо, когда об этом заходил разговор. А мои собственные воспоминания исключительно запутанны, припоминаю лишь ощущение ужаса, которое испытал, прячась, кажется, под какой-то лестницей. Но, если задуматься, уравнение представляется достаточно простым: Бог лишил моего отца своей милости и поддержки в наказание. Я очень мало знал о родителе, за исключением нескольких фактов: он служил офицером в казачьем полку, но отказался продолжать карьеру, его семья была довольно богатой, но отвергла его. Мои тактичные родственники никогда о нем не вспоминали. Только дядя Семен в Одессе изредка говорил об отце, но это всегда звучало как ругательство: «Дурак, но дурак с мозгами. Хуже быть не может». В любом случае я ничего об отце не помню, поскольку он редко бывал дома, даже в Царицыне, а мои воспоминания о тех днях ограничивались несколькими узкими, пыльными, невзрачными проулками, по которым мы проезжали, возвращаясь в Киев, где жила сестра моей матери. Здесь они обе работали белошвейками. Это стало ужасным падением для такой женщины, как моя мать, наделенной утонченной чувствительностью, говорящей на нескольких языках и разбирающейся в литературе и науке. Позже она стала управлять паровой прачечной, а после того, как ее сестра во второй раз вышла замуж, мы переехали в двухкомнатную квартиру неподалеку от места работы. Дом стоял в зеленой части города, окруженный старыми деревьями, рощами, парками и полями, рядом с Бабьим Яром, ставшим моей любимой детской площадкой. Здесь я мог защищать Хайберский проход Киплинга[24] или, играя роль Верной Руки из романов Карла Мая[25], исследовать Скалистые горы, сражаться в Бородинской битве, защищать Византию от нашествия турок. Иногда я отправлялся на берег Днепра и был Гекльберри Финном, Ахавом[26], капитаном Немо. Уже тогда в Киеве начались революционные бедствия. Агитацией занимались главным образом рабочие в фабричных предместьях за ботаническим садом, в огромных кварталах одноэтажных домов, столь же неприметных и грязных, как и сегодня. Власти весьма решительно подавляли волнения, но все, что я знал об этом, сводилось к одному: мать не выпускала меня на улицу или запрещала ходить в школу. В целом, однако, мне удалось избежать неприятностей. Киев был замечательным городом для подростка. Неподалеку от нашего дома пролегала дорога, ведущая через овраги. Этот район называли киевской Швейцарией. Таким образом, я обладал всеми преимуществами обоих миров, деревенского и городского, хотя мы были совсем не богаты. Киев, как и вся Украина вообще, вдохновлял и художников, и мыслителей. Добрая половина величайших русских писателей создала здесь свои известнейшие произведения. Лучшие русские инженеры родом отсюда. Даже евреи здесь процветали. Но им, как всегда, было мало. Возведенный на холмах над рекой, город соборов и монастырей с блестящими куполами-луковицами, украшенными медью, золотом и ляпис-лазурью; со множеством огромных общественных зданий из знаменитого желтого песчаника, деревянных домов с резными фасадами, переполненных уличных рынков, памятников, больших магазинов и театров Крещатика, нашей главной улицы; с университетом и различными институтами, ботаническим садом, зоопарком, современными трамваями; с площадями, сверкающими электрическими вывесками и рекламными щитами, с киосками и театральными афишами; с улицами, забитыми автомобилями, конными повозками, телегами и омнибусами; с многочисленными деревьями, парками и лужайками, с плывущими по великой судоходной реке пароходами, яхтами, баржами и плотами – таким был мой Киев, основанный скандинавами для защиты своего важнейшего торгового пути. Не провинциальный город, но столица Древней Руси, он знал себе цену. Когда-то, много веков назад, его окружала крепостная стена из темных камней и некрашеного дерева. Мать городов русских. Русский Рим. Неверные приходили и отступали, или переходили в нашу веру, или заключали перемирия, возможно, временные, – а Киев всегда оставался. Тогда он был Киевом Желтокаменным, теплым и гостеприимным для всех. В летнем солнечном свете казалось, что весь город сделан из золота, поскольку его кирпичи пылали, а мозаики, цветы и деревья сияли, как драгоценные камни. Зимой город превращался в белую сказку. Весной гул и треск льда на Днепре раздавался по всему городу. Осенью теплое сияние и цвет падающих листьев смешивались так, что город обретал тысячу оттенков нежного загара. К началу двадцатого столетия Киев достиг вершины своей красоты. Теперь, благодаря большевикам, он спрятался в тусклой раковине, став еще одним человеческим ульем с несколькими неприметными памятниками в угоду туристам. Немцев обвиняют в уничтожении Киева, но известно, что чекисты взорвали большую часть города при отступлении в 1941 году. Нынешние памятники – всего лишь копии. История Киева древнее истории большинства европейских городов, отсюда берет начало культура, сформировавшая славянскую цивилизацию. Здесь зародились наши величайшие эпические сказания. Кого, например, не потрясла киноверсия истории Ильи Муромца и героев Киева, защитников христианского мира от татарских орд, – «Богатырь и Чудовище»? Как ни странно, то, чего не добились татары, с успехом осуществили армии большевиков и нацистов, проявившие недюжинное упорство, сочетавшееся с полным отсутствием воображения. Мы были бедны, но нас со всех сторон окружали богатство и красота. Наш пригород, Куренёвка[27], считался захудалым, хотя выглядел он по-деревенски живописно; деревянные дома с садиками соседствовали с новыми, построенными на французский манер, с внутренними двориками. При желании я мог прогуляться до центра города или сесть на трамвай номер десять, который шел мимо Кирилловской церкви на Подол; а если меня не привлекали виды и запахи еврейского квартала, поднимался по холму к Андреевской церкви, бело-голубой снаружи и золотой внутри, и смотрел оттуда на далекий Днепр, на Труханов остров, где располагался яхт-клуб. Туманными осенними вечерами я любил прохаживаться по широкому бульвару Крещатика, где росли каштаны и работали магазины и рестораны. Но лучше всего Крещатик выглядел на Рождество, когда горели фонари, а снег сваливали у стен и желобов, прокладывая дивные тропинки от двери к двери. Я помню ароматы хвои и льда, печенья и кофе и тот особый запах свежесрубленного дерева и краски – так пахли рождественские игрушки. Такси и тройки мчались в золотистой тьме; дыхание лошадей было белее снега, теплые грохочущие трамваи сияли ярким электрическим светом. Но это лишь призрак. Того Киева больше нет. Большевики уничтожили все, удирая от нацистов, лишь несколькими месяцами ранее помогавших им грабить Польшу. В детстве я предпочитал действовать, а не наблюдать. Меня считают интеллектуалом, но по натуре я скорее человек дела. Своим образованием я всецело обязан матери. Она настаивала, чтобы я учился лучше своих сверстников. К счастью, ее окружало множество друзей, вероятно претендовавших на ее руку и сердце, – матушка была красивой жизнерадостной женщиной. Эти люди могли посоветовать лучшие школы и предметы, которыми мне следовало заниматься. К нам постоянно приходили гости, причем не только русские. Зачастую их собиралось много. Нередко у нас появлялся капитан Браун, шотландский инженер, джентльмен, живший в стесненных обстоятельствах. Он занимал комнату этажом выше. По слухам, он дезертировал из индийской армии. Конечно, он много знал о северо-западной границе, Афганистане и о Кавказе, где провел несколько лет (откуда и пошли слухи о дезертирстве). Я не помню, чтобы он хоть раз повторился, рассказывая свои истории. Их было много: о казахах, туркменах, таджиках и киргизах, о Кабуле и Самарканде, о строительстве железных дорог в Грузии. Капитан был невысоким, смуглым человеком, всегда приветливым, но при этом сдержанно-агрессивным. С матерью он вел себя очень заботливо и нежно, словно опасаясь своей собственной силы. Он не только начал учить меня английскому, но и подарил подшивку журнала «Пирсон»[28], который я перечитывал в течение всех своих детских и юношеских лет; он разжег мое воображение, а впоследствии и честолюбие. Я очень любил капитана Брауна еще и потому, что матушка находила интересным его общество. Она ходила с ним в оперу и в театр гораздо чаще, чем с другими поклонниками. Куренёвка в те годы была одним из самых космополитичных районов. Моя мать нравилась клиентам, по большей части холостякам или слугам состоятельных людей, то ли от скуки, то ли от одиночества проводившим много времени в прачечной. Некоторых из них она допускала в свою контору – крошечную комнату на первом этаже прачечной. Мать угощала их чаем и, возможно, кексом с тмином. Иногда там появлялся и капитан Браун, но наиболее частыми посетителями были мелкие чиновники, в том числе Глеб Альфредович Кориленко, местный почтальон, высокий, тонкий, печальный, похожий на заплутавшего аиста. Раньше он служил на Черноморском флоте, пока не стал инвалидом, пострадав от рук коварных японцев в 1904‑м. Глеб Альфредович был в курсе свежих сплетен, и мать с ее немногочисленными подругами внимательно слушала его, хотя я подозреваю, что и почтальона, и некоторых других посетителей поощряли лишь потому, что их рассказы могли быть полезны для моего образования. Иногда мне разрешали послушать истории о местных богачах, которые рассказывал Кориленко. Я замирал в углу с куском пирога в одной руке и стаканом чая в другой, исследуя мир почти столь же романтичный, как и тот, о котором слышал от капитана Брауна. Я помню запах чая, лимона, пирога и тяжелой смеси мыла, щелока, крахмала и красок. Помню горячий влажный пар, от которого листы газет и журналов сворачивались, а стулья, скатерти и коврики были всегда немного сырыми. Почтальон иногда посещал и нашу квартиру, вместе с парой женщин и, случалось, с капитаном Брауном. Они приносили бутылку водки и обсуждали сплетни из Москвы и Санкт-Петербурга, а также скандальные слухи о Распутине и царице, не забывая выказывать должное почтение. В то время Распутин был знаменит – странствующий монах, месмерист, мастер по части подмешивания наркотиков в напитки, он втерся в санкт-петербургское общество, вел исключительно безнравственную жизнь, даже совратил младшую из царских дочерей. После пары стаканов водки Кориленко обычно начинал ругать двор, который, по его словам, вырождался. Он полагал, что нужны более сильные мужчины, чтобы управлять женщинами, что царь Николай слишком снисходителен. Но мать всегда заставляла его умолкнуть. Она избегала любых разговоров о политике, подобные темы ее нервировали по очевидным причинам. Вероятно, именно поэтому я до сих пор не переношу бессмысленных политических споров. Я никогда не судил о людях, основываясь на том, за кого они голосуют, – до тех пор, пока они не пытались навязать мне свой выбор. Но, разумеется, только дурак согласится перейти в рабство социализма. В своей жизни я встречал разных людей. Их политические убеждения очень редко соответствовали их действиям. В это время я гораздо чаще общался со взрослыми, чем со своими ровесниками. Мне всегда трудно давалось общение с другими детьми. Возможно, с тех пор, как я попал в общество взрослых, мир детей стал казаться унылым. Да и дети меня недолюбливали, потому что я участвовал в разговорах старших, и моим завистливым потенциальным друзьям казалось, что я не по годам развит. Рядом жила одна маленькая девочка, которая восхищалась мной, – Эсме, дочь соседа, джентльмена, который когда-то, думаю, был одним из поклонников моей матери. Мать подозревала, что он анархист, сбежавший из Сибири и живущий под фиктивным именем, поэтому отвергла его. Матушка ни в чем не была уверена, но жизнь научила ее осторожности. И нельзя винить ее за это. Фамилия джентльмена была Лукьянов. Он служил в кавалерии (походка выдавала в нем бывшего наездника) и жил на пенсию. Кориленко сказал нам, что жена Лукьянова сбежала от него в Одессе с английским капитаном, бросив дочь, которой тогда не исполнилось и года. Лукьянов редко выходил на улицу. Чаще мы видели его белье, которое приносила в прачечную Эсме. Она восхищалась мной, что очень льстило. Мать не одобряла нашей дружбы; она могла принять за провокатора даже лошадь с красной лентой на хвосте. Эсме, прелестное белокурое создание, вела домашнее хозяйство и таким образом подобно мне была приобщена к миру взрослых. Мы, вероятно, выглядели очень забавно, обсуждая тревоги и заботы мира, когда я провожал Эсме до дома из прачечной. Мне нравилось общество Эсме, но я не испытывал к ней никаких романтических чувств. Мое сердце принадлежало черноокой девочке, торговавшей подержанными оловянными игрушками с лотка на углу возле трамвайной остановки. Иногда она носила клетку, в которой сидела ученая канарейка, клювом указывавшая на буквы и знаки, предсказывая тем самым будущее. Девочка была настоящей цыганкой, из табора, расположившегося в одном из оврагов. Однажды пасмурным осенним днем я осмелился приблизиться к табору. Он оказался совсем не таким, как я ожидал. Я не увидел расписных кибиток, только скопище лачуг и телег и костры, темный дым от которых поднимался высоко в небеса. Это место не было раем, который я себе воображал, оно больше напоминало ад. Увиденное до некоторой степени охладило мой пыл, и я больше не собирался тотчас жениться на своей возлюбленной согласно обычаям ее народа (с цыганским бароном, разумеется, во главе стола), но покупал с ее лотка столько игрушек, сколько мог себе позволить. Ее канарейка всегда предсказывала мне удачу. Я узнал, что девочку звали Зоя. У нее были красные губы и вьющиеся черные волосы, а манеры, вопреки обстоятельствам, завораживали. Думаю, ее родители были румынами. Поведение Зои решительно отличалось от пассивной женственности моей подруги Эсме. Юная цыганка не обладала ни скромностью, ни спокойствием. Она говорила на диалекте, который напоминал мягкое южноукраинское наречие, многих слов я просто не понимал, «а» и «о» всегда путались и сливались в один звук. Зоя вела себя по-мальчишески развязно. Я думал, что она считала меня привлекательным. Возможно, дело было в ее глазах, казалось, с сексуальным интересом смотревших на все живое. Моя мать сочла ее еще более сомнительной знакомой, чем Эсме. Когда я предложил пригласить Зою к нам домой на чашку чая, с матерью случился сильнейший истерический припадок. После этого Эсме больше не считалась персоной нон грата. Однажды Зои не оказалось на обычном месте, и я отправился к оврагу, чтобы отыскать ее. Табор исчез. Все, что от него осталось, – только груды мусора, которые цыгане оставляют после себя по всему миру. Я узнал от прохожего, что власти прогнали их прочь. Он предположил, что они отправились по дороге на Фастов[29], а оттуда по побережью в Крым. Этот человек обрадовался, когда увидел, что цыгане уходят. У него пропало несколько цыплят с тех пор, как они разбили здесь лагерь. Я почувствовал тогда, что лишился чего-то большего, чем просто дешевого источника немецких игрушек. Надежда привела меня на Бессарабку, как будто я рассчитывал отыскать Зою среди шарманщиков, нищих и торговцев экзотической живностью, среди ярмарочного шума и гама. Я почти верил, что увижу телеги, в которых везут глиняные печи и самоварные трубы. Здесь стояли несколько продавцов игрушек с лотками. Все они были очень старыми, длиннобородыми, неискренне усмехавшимися. Также я повстречал ремесленников, чинивших горшки и ботинки, но моя цыганка уехала до первого снега и направилась в солнечные края. Я купил себе в качестве утешения балабуху[30], знаменитое киевское лакомство, и пошел домой. Я надеялся еще когда-нибудь увидеть Зою. В течение следующей весны и лета мы с Эсме не раз ходили гулять в Кирилловский лес[31], находившийся неподалеку. Отчетливее всего я помню буераки и аромат сирени, в кустах которой мы спрятались во время летнего дождя, на вершине оврага, глядя сверху на другой цыганский табор. Дождь все лил и лил. Оранжевое пламя и черный дым от костров взлетали в полутьму. В конце концов мы промокли достаточно, чтобы набраться храбрости и попросить убежища. Я повел Эсме вниз по скользкому склону, все ближе и ближе к пестрой толпе бродяг, которые сначала не замечали нас, а потом приветствовали с необычайной предупредительностью, интересуясь, не желаем ли мы купить игрушку или амулет на удачу. Поскольку эти сомнительные сделки совершались еще более сомнительными руками, мы лишь качали головами и, как только дождь прекратился, снова поднялись наверх. Мы вернулись на следующее утро, все еще очарованные нашим открытием, а потом Эсме стала одержима мыслью, что нас похитят; она сбежала, оставив меня наедине с сомнительными предложениями, хитрыми усмешками и вкрадчивыми голосами цыган. Это сборище разогнали полицейские несколько дней спустя; я полагаю, основной причиной действий властей стал донос моей матери. Мне запретили впредь ходить к цыганам. Некоторое время спустя после этого инцидента нас с Эсме определили в превосходную местную школу, которой самоотверженно управляла немецкая чета по фамилии Лустгартен. То, что нас зачислили одновременно, было, как я узнал от расстроенной матери, просто неудачным совпадением. Я понял, что кто-то из родственников помогал оплачивать мои занятия, но так никогда и не узнал, кто именно. Возможно, это мой дядя Семён, или Сеня, как мы его называли. Строгий и щедрый, не расстававшийся со своей ротанговой тростью, герр Лустгартен оказался превосходным наставником. Наибольшей радостью для него было обнаружить ученика, в котором удавалось разжечь подлинную жажду знаний. Очень высокий, сероглазый, со впалыми щеками, он носил строгий сюртук с высоким воротником. Его черные ботинки всегда были отполированы до зеркального блеска. Так и вижу, как его руки и ноги извиваются, точно стяги на ветру, а трость взлетает вверх, когда он разъясняет какую-нибудь алгебраическую задачу. Я оказался одним из его любимых учеников. Обнаружилось, что я наделен от природы способностями к языкам и математике. Я овладел практическими навыками немецкого и французского, выучил чешский, на котором Лустгартены, прожившие несколько лет в Праге, говорили превосходно; а с помощью матери я освоил польский язык. Знанием английского я в основном обязан капитану Брауну, который продолжал поощрять меня во всех моих занятиях. Подобно многим сверстникам, по-украински я знал лишь несколько слов. Моим родным языком был русский. Мания национализма тогда еще не овладела Украиной. Кто-то недавно предположил, что, когда красные запретили украинцам погромы, те нашли альтернативу – национализм. Что же, я не любитель евреев, но и не националист. Герр Лустгартен, как и многие немцы его поколения, был отчасти филосемитом. Матушку могли бы потрясти до глубины души его рассуждения о русском характере. Я почти дословно могу вспомнить его излюбленное высказывание о том, что русские похожи на американцев. Они лишены представлений об этике, у них есть только благочестие. Их церковь, при поддержке чиновников и военных, дарует им формулу жизни. Вот почему в поисках этических идеалов они обращаются к романистам, к которым относятся с таким уважением. Вот почему юноши и девушки подражают персонажам Толстого и Достоевского. Эти писатели – не просто сочинители, они наставники, отшельники, подобно моравским братьям Германии и Богемии, Лютеру или Джону Уэсли, квакерам. У русских людей нет моральных принципов, за исключением одного простейшего: служить Царю и Богу. Я запомнил слова герра Лустгартена, потому что в некотором отношении они оказались пророческими. Думаю, русские снова начали осознавать растущую угрозу жидомасонского заговора. Я слышал, что армия печатает брошюры, предупреждающие солдат об опасностях международного сионизма. Что касается «желтой угрозы», то большинству славян об этом уже хорошо известно. Великое учение, которое так и не смог понять профессор Лустгартен, – это теория панславизма[32], распространенная на Украине, в центре и исходной точке крупнейшего славянского государства в мире. Потенциально именно здесь – основа единого славянского государства, включающего Польшу, Литву, Чехословакию, Болгарию, Югославию, даже часть Греции. Такое государство могло бы спасти основы западной культуры, сопротивляясь упадочным влияниям Америки и варварству новой татарской империи Мао. Мелкие навязчивые идеи германского богословия – не для нас. Нас интересует наша собственная судьба. Украинский национализм существенно отличается от панславизма, поэтому он никогда не был мне близок. Я родился в Российской империи, и мое самое сильное желание – умереть там же, хотя, боюсь, пройдет гораздо больше времени, прежде чем русские люди окончательно вернутся к своему древнему наследию. Исторические воззрения герра Лустгартена не всегда совпадали с моими, но я превосходно отвечал на его уроках. Он это оценил и начал заниматься со мной дополнительно по вечерам. Учитель уверял меня, что, при должном прилежании, я смогу добиться успеха на академическом поприще. Матушка была счастлива, а я радовался, что могу хоть как-то вознаградить ее за принесенные жертвы. Она говорила, что умственные способности у меня от отца, но моральные ценности – ее заслуга. Я решил не тратить впустую свои интеллектуальные силы, как истратил их мой отец. Мать занялась шитьем, чтобы платить за дополнительное обучение, и с одиннадцати лет (в тот год в Киеве убили Столыпина) я учился математике и естествознанию у герра Лустгартена, а также языкам и литературе у фрау Лустгартен. Эта замечательная леди являла полную противоположность мужу: она была настолько тихой, апатичной, низенькой и толстой, насколько ее муж – шумным, подвижным, высоким и худощавым. Фрау Лустгартен познакомила меня с книгами, которые произвели на меня сильнейшее впечатление. Гриммельсгаузен, Диккенс, Гёте, Гюго и Верн к тринадцати годам стали моими любимыми писателями. Я также читал подшивки «Пирсона», подаренные мне капитаном Брауном. Всего их было двадцать восемь. Мне жаль, что ни одной не сохранилось, они, наверное, стоили бы сейчас целое состояние, но пропали вместе со многими другими вещами во время Гражданской войны, после установления власти Ленина. У них были одинаковые переплеты с золотым, синим и темно-зеленым тиснением на корешках. Я прочитал в них каждое слово по меньшей мере дважды. Здесь были рассказы Герберта Уэллса, Катклиффа Хайна, Макса Пембертона, Гая Бутби, Конан Дойла, Генри Райдера Хаггарда, Рафаэля Сабатини и Роберта Барра[33] – эти имена сегодня почти никто не слышал. Фильмы, радио и телевидение полностью уничтожили грамотность. Социалисты дошли до предела – народ опустился до уровня мужиков. В мое время все стремились к совершенствованию. Сейчас даже представители так называемых образованных классов испытывают лишь одно желание – казаться тупыми и неграмотными. К 1913‑му году моя жизнь сводилась исключительно к работе и чтению. Я видел Эсме только по дороге в школу (девочки занимались отдельно от мальчиков), и мы редко говорили о чем-то помимо учебы. Ее отец захворал, и она все реже посещала занятия, потому что ухаживала за ним. Эсме была ангелом. За исключением этой дружбы, я не заводил знакомств и оставался одиноким ребенком. Все это, вкупе с моей тягой к знаниям, вызывало неприязнь у большинства других мальчиков; я терпел самые ужасные оскорбления, обычно не отвечая на них. На некоторое время у меня появился друг. Его звали Юра, он был примерно моего возраста и происходил из очень бедной семьи. Он часто приходил и сидел возле нашей печи, в то время как я занимался по вечерам. Я помогал ему с уроками. Мать обрадовалась тому, что у меня появился приятель. Но потом пропало несколько украшений, и взять их мог только Юра. На следующий день я обвинил его в воровстве. Он откровенно признался. Я спросил, почему он украл у нас, у людей, которые были добры к нему, – и получил отвратительный ответ. – Потому что вы жиды, – сказал он. – Жиды – законная добыча. Так все говорят. Страдая от того, что меня так опорочили, я пожаловался герру Лустгартену, который не проявил ко мне сочувствия; его отношение я почему-то никак не мог определить. – Я сын казака, – сказал я ему и его жене. – Пойдемте ко мне домой, и я вам это докажу. Герр Лустгартен привел Юру к нам домой, чтобы, по его словам, вор мог лично отдать украденные вещи; не все, но то, что удалось отыскать, передали в руки моей матери. Под угрозой трости герра Лустгартена Юра извинился, хотя было очевидно, что он считал себя жертвой. Я достал раскрашенную вручную фотографию отца в shapka и казачьей форме. Если и требовалось доказательство чистоты отцовской крови, то этого было достаточно. Я показал портрет Юре. Его ответ довел мою мать до слез: – Это ж просто картинка. Все знают, что ты еврейский ублюдок. Что она доказывает-то? Я вырвал трость из тонкой руки учителя и обрушил ее на голову Юры. Я никогда не испытывал такой ярости. И на сей раз, вновь неожиданно, герр Лустгартен оказался на моей стороне. Юра угрожал, упоминая черносотенцев (патриотов, которые пытались справиться с коварными происками еврейских сил), и сдался лишь тогда, когда герр Лустгартен сказал, что выгонит его из школы и сообщит причину родителям. Это положило конец нашей дружбе. Юра сколотил банду, причем не только из детей бедняков, и начал всячески изводить меня. Они преследовали меня от школы до самого дома, предлагали «честную драку», а когда я отказывался, просто гнались за мной, обзывая «раввинчиком» и «иерусалимским полковником» – в тогдашнем Киеве эти клички были не просто неприятной клеветой, при определенных условиях они могли стать смертным приговором. Тем не менее подобные оскорбления в годы моего детства звучали достаточно часто, и им не придавали особого значения – все равно что обозвать жидом человека, не имевшего ни капли семитской крови. Однако именно эти нападки раздражали меня сильнее прочих, таких как «учительский любимчик», «подхалим», «ябеда» или даже «дебил». Из-за них я и швырялся камнями и участвовал в кулачных драках. Эта городская шушера, многие представители которой были иностранцами по происхождению, вероятно, ревновала к моему древнему неотъемлемому праву казака. Мой отец – атеист с нелепыми «прогрессивными» идеями – не только сделал мою мать бедной вдовой, он также бесцеремонно распорядился и моим детским телом; как объясняла мать, по гигиеническим причинам. Таким образом, будучи абсолютным гоем, я получил еврейское клеймо. Я не знал тогда, в какой смертельной опасности окажусь много лет спустя из-за этой отцовской прихоти. Он мог с тем же успехом попытаться перерезать мне горло в младенчестве. Сейчас в подобных операциях нет ничего необыкновенного, но на Украине в 1900‑х это было все равно что принять иудаизм. Евреев удивляет негодование украинцев. Здесь, впрочем, нет ничего странного. Заняв земли польских дворян, евреи много лет эксплуатировали наших помещиков и крестьян. Когда казаки изгнали шляхтичей, они также отомстили и ростовщикам, их прислужникам. И евреи защищали поляков с мушкетами и мечами в руках. Я не собираюсь оправдывать жестокость и дикость. Но евреи не так безупречны, как изображают себя в наши дни. Если бы я был одним из них – принял бы причины украинской ненависти. Это могло бы всех примирить. Но евреи слишком горды для этого. Да, моя мать могла во многом винить моего отца, но говорила об этом очень редко. Она вспоминала о нем с уважением и грустью (исключая упоминания о его атеизме) и требовала чтить его имя. Увы, я не был способен на это даже ради нее. Как я заметил, он оставил меня на дороге жизни в таком невыгодном положении, что можно только удивляться, как я оказался сегодня здесь. От него мне достались лишь интеллектуальные способности, которые не раз спасали меня от смерти или пыток; но воображение и чувствительность я унаследовал от матери, как она сама говорила. Бунт отца против великого казачьего наследия, против русской религии и культуры принес ему лишь страх и гибель. А тем, кого он покинул, – только горе. Чего добилась победившая революция? Только смерти. Только унижений. Как мы не раз говорили: «Лучше быть евреем в царском Минске, чем православным в советской Москве». И разве это – прогресс? Возможно, я унаследовал от отца еще одно свойство: веру в будущее, которая исказила его восприятие реальности, заменила религию, а в моем случае обернулась верой исключительно в научный прогресс. Верн и Уэллс, а также статьи и рассказы из «Пирсона» пробудили во мне восторг перед чудесами науки и техники. Еще до моего знакомства с этими произведениями я решил стать инженером. К этому меня побуждала благородная любовь к самой науке. Я не смешивал свои благородные чувства с псевдорацио-нальными рассуждениями, подобно какому-нибудь нервному средневековому монаху, который оправдывал свой интерес к алхимии, уверяя, что это дело Божье. Я испытывал ненависть ко всем формам казенного благочестия. Я считал себя одним из тех, кто может воплотить славянский дух в науке и поставить научное знание на службу славянской душе. Вводя посторонние темы в свои истории, Верн, анархист, и Уэллс, социалист, сильно вредили и себе, и читателям, искажая их восприятие, которое приспосабливалось к усвоению далеких от науки материалов; примерно так же Распутин искажал религию, позволяя себе тем самым разные сексуальные извращения. Мы жили в эпоху, когда чистые помыслы и откровенные слова были в большом дефиците. Даже Джек Лондон, который с таким глубоким чувством повествовал о природе и благородстве дикого Севера, предалсвой дар, сочиняя пессимистические и полемические рассказы. Он был вынужден делать это, иначе никто не относился бы к нему всерьез. Он утратил бы престиж среди так называемых либералов, которые довели наш мир до нынешнего жалкого состояния. Все беспокоятся о хорошей репутации, но иногда цена, которую мы платим за нее, слишком высока. Как ни странно, желание стать инженером зародилось у меня гораздо раньше, чем я достаточно овладел английским языком и смог читать рассказы в «Пирсоне». Однажды мы с Эсме куда-то шли по центру Киева, возможно, на Крещатик, и наткнулись на большой магазин на углу, возле театра. Я помню еще один из тех старых киосков с куполообразной крышей, скопированной у французов, и общественный писсуар, также на французский манер. Большинство инженеров, с которыми я познакомился позднее, испытывали потрясение после первой поездки на поезде, при первом знакомстве с автомобилями или монопланами. В моем случае все было иначе – я увидел обычный английский велосипед. Как и во многих киевских магазинах того времени, окна не использовались для демонстрации товаров, но мы смогли заглянуть внутрь и увидеть велосипед, стоявший на особом возвышении. Эсме, казалось, разделила мой интерес к этому механизму (хотя, возможно, она просто хотела меня порадовать) и начала рассуждать, как мы могли бы купить его или как владелец магазина подарил бы его нам за некую значительную услугу. Было солнечное весеннее утро. На каштанах распускались первые почки. Позади нас проезжали по широкой мощеной улице пролетки, телеги, фургоны и автомобили. Начался не просто новый год – началась новая эра. В магазине также продавались граммофоны, пианолы, механические органы, гитары и балалайки, но велосипед казался местным аристократом. Красивый черный агрегат (мужской велосипед Райли «Принц Альберт»[34], ныне давно исчезнувший) сверкал на солнце, лучи которого касались красных и золотых рычагов и полированных стальных деталей. Он был мне не по карману. Этот велосипед стоил гораздо дороже более доступных немецких и французских моделей. Я не помню, чтобы представлял себе, как велосипед станет моим. Я даже не думал о том, чтобы попасть в магазин, изображая покупателя, осмотреть или потрогать механизм; мне даже не хотелось на нем прокатиться. Эсме попыталась заставить меня войти внутрь и даже предложила составить компанию, но я отказался. Меня впечатлил не сам механизм, а то, что за ним стояло. Он воплощал собой все величайшие изобретения последних столетий. За ним были воздушные корабли и самолеты; электрические поезда, паровые турбины, моторные автобусы, трамваи, телефоны, беспроводное радио; там же были стальные мосты, небоскребы и механические комбайны. Вот так отвлеченная математика воплотилась в реальность. Я изучал тормоза, цепи, спицы, гайки и стальной каркас. Меня покорила божественная простота механической системы, которая при обычном давлении на педали заставляла двигаться цепное колесо, которое затем передавало свое движение заднему колесу, чтобы с минимальными затратами помочь человеку перемещаться быстрее и дальше, чем способно любое другое живое существо. За пределами этой идеи – откровения, если пожелаете, – меня ничто не интересовало. Конечно, почти все научные изобретения тех времен служили пользе человечества, но для меня их прелесть состояла в самом факте существования. Они работали. Они воплощали решение проблем. Орудия Круппа и динамит Нобеля пробуждали во мне те же эстетические чувства, что гидростанции или санитарные «мерседесы». Меня вдохновляли механизмы, а не их применение. Поршни и цилиндры, цепи и схемы нравились мне, пока они исполняли свои задачи: двигали корабли, поднимали самолеты ввысь, отправляли сообщения. Мне казалось, что не стоит углубляться в метафизические или социологические рассуждения об их применении. Когда началась война и мы услышали о британских танках, я не выразил ни малейшего неодобрения. Я уже ожидал их. Они стали видением, воплощенным в реальность при помощи стальных листов, резины и двигателей внутреннего сгорания. Я также восторгался бомбардировщиками Сикорского, «Большой Бертой» и огромными цеппелинами[35], атаковавшими Париж и Лондон, и уже начал обдумывать собственные идеи, которые, будь я на пару лет старше, могли бы изменить не только ход войны, но и всю мировую историю. Но мне не хотелось бы слишком преувеличивать свою роль в истории, в конце концов, я ее жертва, а не победитель; если бы я пытался доказать обратное, меня приняли бы за старого дурака. Я не намерен подтверждать мнение мужланов, считающих меня всего лишь смешным дряхлым беглецом из России, владеющим лавкой подержанного тряпья на Портобелло-роуд. Что ж, меня вполне устраивает это – пусть люди думают что хотят. Они тем более удивятся, когда прочитают эту книгу и увидят, чего я достиг. Вот мое маленькое торжество – знать, что крестьяне и бездельники, отребье с трех континентов, видят меня, не осознавая, кто я на самом деле. Есть несколько человек, которые относятся ко мне с уважением, им я и открываю свои тайны. Но я сейчас не хочу известности. Почестей будет великое множество после моей смерти. Я уже насмотрелся на политиков – хватит на несколько жизней. Мое сердце вряд ли выдержит ту публичность, которую я мог бы получить. Признаю, маленькая пенсия, орден Британской империи, возможно, рыцарство помогли бы мне на склоне лет, потому что я остался один. Только госпожа Корнелиус поддерживала меня. Я переехал в этот район, чтобы быть поближе к ней. Я мог бы перебраться в Эрлс Корт, получить работу в правительстве. Но я пока не стану говорить о госпоже Корнелиус. Лучше вы сначала узнаете, что за человек пишет об этой замечательной личности, получившей заслуженную известность, как и ее одаренные потомки. Здесь я скажу только одно: она никогда не предавала меня. Я снова и снова приходил к магазину, в котором стоял одинокий английский велосипед, а потом случалось неизбежное – его продали. Я увидел этот велосипед однажды на мосту около зоологического сада и тотчас узнал. Но я не печалился, ведь остался образ. Много лет спустя я прочел роман Герберта Уэллса «Колеса фортуны» и был разочарован. В книге обнаружились зачатки последующего литературного упадка писателя. Роман в целом оказался слишком легкомысленным и не содержал ни малейших следов мистического вдохновения, которое я обнаружил в «Войне миров», прочитанной в «Пирсоне». Его «Морская дева», напечатанная там же, оказалась столь же никчемной вещицей. Желание стать модными и забавными может овладеть даже лучшими из нас. Почему выходит так, что автор может быть полон оптимизма и веры в одной книге и глуп и циничен – в другой? Изучение сочинений Фрейда – который, как я узнал, был злобным, ненавидящим людей венским евреем, пренебрежительно обходившимся со всеми, кого он причислял к низшим классам, – помогло мне найти объяснение этой загадки. Не то чтобы я уважал так называемых психологов, особенно тех, которые относились к отвратительной венской школе. Если спросите меня, то узнаете: многие из них в зрелые годы находились на грани окончательного помешательства. Во время моей единственной встречи с Гербертом Уэллсом я спросил его, почему он потратил впустую так много времени на свои ненаучные романы; он ответил, что когда-то считал себя способным достичь тех же целей с помощью комедии. Его ответ меня очень огорчил. Приходится предположить, что он смеялся надо мной, или был пьян, или испытывал, как случается со многими художниками, приступ временного слабоумия. Также возможно, что он просто ослышался, хотя мой английский язык превосходен, что подтверждает это повествование. Впрочем, у меня поначалу возникали некоторые трудности – иногда собеседники не понимали меня. Разговорный английский я изучил с помощью госпожи Корнелиус. Мои попытки применить его для непринужденного общения не всегда были успешными. В первый год моей жизни в Англии я нередко попадал впросак благодаря своей подруге. Мне гораздо лучше удавалось общаться, как случалось в двадцатые, используя английский язык «Пирсона», который по крайней мере все легко понимали. Мое дружеское и восторженное приветствие «Как поживаешь, старый пидор?», адресованное мистеру, а позднее лорду, Уинстону Черчиллю на встрече с польскими эмигрантами, было принято отнюдь не так хорошо, как я ожидал, и я так и не смог поблагодарить мистера Черчилля за горячую поддержку, оказанную им по делу законных правителей России. Теперь я понимаю, что у англичан есть нечто общее с японцами, которым не нравится, когда иностранцы слишком хорошо владеют их языком. В Японии, как мне рассказывали, люди, знающие японский в совершенстве, должны изображать сильный акцент, чтобы их принимали в обществе. Как и все жители Востока, наши японские друзья с исключительным вниманием относятся к правилам этикета, которые иностранцам нелегко усвоить. Как явствует из моего опыта, это заметно, пусть и в меньшей степени, во всех странах. Я по своей природе невероятно дипломатичен, но иногда мое поведение истолковывали превратно из-за того, что я неподобающе свободно владел языком. Чувство такта у меня от природы, и его поощряла моя мать, страдающая от позора, навлеченного на нас деятельностью отца. Когда в Киеве начались волнения, к нам не раз приходили полицейские. В основном они были доброжелательными, веселыми офицерами, просто исполнявшими свои обязанности. Даже расследуя серьезные преступления, они вели себя достойнее, чем фанатики в кожаных тужурках из ленинской ЧК. В самом деле, полицейские являлись настоящими представителями царской власти, доброжелательными, заботливыми, немного сдержанными. Они полагали, что наши молодые люди увлекались романтическими идеями прежде всего французского, немецкого и американского происхождения. Я вспоминаю такую историю: встретив Керенского после первой революции, царь сердечно заметил: «Этот человек любит Россию. Мне очень жаль, что я не познакомился с ним раньше, поскольку он мог быть полезен». Подобное великодушие, куда большее, чем я сумел бы изобразить в подобной ситуации, было типично для человека и для системы, которую критиковали со всех сторон. Когда действительно требовались активные действия, они совершались решительно и без злобы. Каждой атаке казаков предшествовали тысячи противозаконных выступлений. Провинившихся юношей из хороших семей редко казнили за преступления, их отправляли в изгнание, зачастую оставляли на попечение родственников, чтобы немного остудить горячую кровь. Только самые настырные и порочные революционеры-пролетарии получали длительные тюремные сроки или приговаривались к высшей мере наказания. Мать это понимала, она сознавала, что полицейские делают свою работу. Когда они звонили в дверь, их всегда радушно принимали и приглашали к столу – поесть пирогов и выпить чаю из нашего самовара. Я помню большие сине-золотые мундиры, висевшие у печи. Мое впечатление от этих мужчин не имело ничего общего с ужасом. Я восхищался их роскошной форменной одеждой, ухоженными бородами и усами. Помню, как однажды порадовал наших гостей, сообщив им совершенно серьезно, что, если бы мне не было суждено стать великим инженером, я хотел бы стать полицейским или солдатом на царской службе. Свершилось так, что оба моих желания необычайным образом исполнились, хотя и здесь меня поджидали неудачи и недоразумения. Матушка была горда мной и удостоилась комплиментов от офицеров. Один из них, видимо знавший моего отца, заметил, что я значительно разумнее своего родителя. Мать улыбнулась, но я видел, что ее это покоробило. Она не принимала критики в адрес отца, даже если та звучала в ее пользу и в пользу ее единственного сына. Полицейские покинули нас в хорошем настроении, очевидно помимо чая хлебнув еще и водки, и мать, тяжело вздохнув и странно посмотрев на меня, велела продолжать ужин, прерванный неожиданным визитом. Она прислонилась к печи, на которой я обычно спал зимой. У нее перехватило дыхание, как будто ее облили ледяной водой. Будучи сильной женщиной, мать очень скоро пришла в себя, но оставалась рассеянной до конца вечера. Позднее выяснилось, что мой отец был не единственным красным в семействе. Брат матери оказался вторым. Насколько я знаю, он никогда не попадал под суд. Ходили слухи, что он жил в Женеве. Матушка никогда не получала от него писем. Газет и брошюр радикального содержания в доме никогда не хранили. У нас под запретом находились даже самые умеренные националистические издания. Мать была настолько осторожна, что осматривала бумагу, в которую заворачивали мясо или рыбу, – нет ли там пропаганды мятежников. Она однажды развернула большой сверток, чтобы выбросить из него листок «Киевской мысли»[36], – лишь бы не нести его домой. Матушка страдала от нервных припадков, и в этом я также виню ее мужа. У нее случались кошмары, у женщины, которую мне приходится называть Елизаветой Филипповной (это имя я позаимствовал у одной из соседок, которые были добры к нам; а по-настоящему ее звали так же, как знаменитую княгиню). Часто я просыпался посреди ночи, слыша лихорадочный шепот, доносившийся с ее кушетки. Я смотрел поверх высокой спинки кровати и видел, как мать поднимается, подобно трупу на Страшном суде. Потом она кричала, издавая длинный, жалобный звук. Иногда выкрикивала: «Прости меня!» Потом молилась во сне или заламывала руки и тихо плакала, распущенные черные волосы вздымались вокруг ее бледного лица, как демонический нимб. Я знал, что мне следовало проявлять больше сочувствия, но слишком боялся. Казалось, матушка чувствовала себя виноватой (возможно, потому, что не была рядом с отцом в момент его смерти), но был ли этот грех подлинным или выдуманным – мне не известно. Она часто засыпала, даже не понимая, что произошло, но иногда я будил ее, если мне казалось, что ей грозит опасность. Через некоторое время я привык к этим кошмарам и, поскольку очень много занимался, зачастую спал, не замечая их. Способность засыпать в самых неподходящих обстоятельствах стала для меня и преимуществом, и недостатком. Кошмары моей матери чаще всего случались осенью и зимой. Именно из-за них я больше не приглашал Эсме к нам, когда ее отца забирали в больницу; мать не позволяла мне ходить домой к революционеру, но капитан Браун заботился о моей подруге, когда мог. Он стал все чаще напиваться, и матери приходилось выпроваживать его, потому что сосед был слишком пьян. Впрочем, он никогда не выходил за рамки приличий. У матери появились и другие причины для беспокойства, связанные с нашими одесскими родственниками, – многие из них имели неприятности с законом по разным мелким поводам, позоря тем самым семью. За исключением дяди Сени, все они были двоюродными или троюродными братьями матери. Время от времени они приезжали в Киев, изредка останавливаясь у нас, к ее превеликой тревоге. Мы всегда получали какие-то вещи в качестве платы за гостеприимство: душистое мыло, импортные консервы или французское вино. Мать старалась по возможности продать эти подарки, случалось, что даже раздавала их, лишь бы не держать в доме. Я думаю, что молодые люди из Одессы занимались контрабандой. Они, конечно, казались более состоятельными по сравнению с бедными киевскими родственниками. Дядя Сеня был преуспевающим посредником по морским перевозкам, куда более представительным и богатым, чем сомнительные фарцовщики, так цинично пользовавшиеся кровным родством, но он утверждал, что не в состоянии контролировать своих подручных. Именно к дяде Сене, полагаю, моя мать чаще всего и обращалась, когда требовалась помощь с оплатой счетов за обучение. Помимо литературы, языков и математики я изучал географию и основные научные теории. Полноценное образование лежало за пределами возможностей доброжелательного немца. Я очень много читал и особенно увлекся американской книгой, доставшейся от одного из моих одесских кузенов, – в ней описывались современные методы строительства летающих машин. В то время можно было не только научиться летать самостоятельно, без инструкторов и лицензий, но и построить свой собственный летательный аппарат. В книге обнаружилось множество подробных чертежей, а также рукописных указаний, которые показались бы совершенной загадкой всякому, кто не au fait[37] с современными летающим машинами: оптимальный угол падения, центр тяжести, центр сноса, вращающий момент пропеллера и так далее. Сверяясь с ней, я мог построить весь самолет, за исключением двигателя, самостоятельно – от сооружения каркаса до пропитки холста. Эта книга тоже пала жертвой революции и Гражданской войны. К тому времени, когда мне минуло тринадцать с половиной лет, герр Лустгартен решил, что больше ничему не способен меня научить. Полагаю, я превзошел его ученостью. Незадолго до войны Киевский политехнический институт, где, по логике, я должен был продолжить свое обучение, стал рассадником радикализма. Мать отказалась отправлять меня туда, несмотря на заверения, что я хочу только учиться. Я бы никогда не заразился нигилистическими чувствами молодых людей, которые вместо того, чтобы познать мир, собирались изменить его и заставить принять их невежество. Институтская система квот была слишком либеральной. Встал вопрос о документах, удостоверяющих личность. Мой покойный отец вновь препятствовал моей карьере. Я полагал, что достаточно будет просто подать заявление, но мать посчитала, что прежде мне следует подготовиться к устным вступительным экзаменам. Это решение приняли после заключительной беседы с герром Лустгартеном, который предостерег мать, что приемная комиссия сочтет меня «больно умным». Увы, в этом мире у человека с мозгами нет никаких преимуществ. Чтобы не терять времени, наконец договорились, что я начну зубрить по вечерам, готовясь к вступительным экзаменам в институт, а в течение дня стану приобретать то, что герр Лустгартен называл «практическим опытом». Меня отправили на работу к Саркису Михайловичу Куюмджану. Так звали знаменитого местного механика, которого я поначалу глубоко презирал. Куюмджан был обрусевшим армянином, родившимся в Батуми, и христианином. Он служил инженером на корабле, а потом повстречал в Одессе украинскую девушку и в конечном счете обосновался в Киеве, работая сначала на компанию речного судоходства, позже – на трамвайную компанию и, наконец, на себя. Этот человек мог справиться с любыми механизмами – от электрических генераторов, паровых двигателей, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания до оборудования, принадлежавшего мелким предприятиям, процветавшим тогда в Киеве. Его основными клиентами являлись евреи с Подола, владевшие жуткими грязными заводиками. Услуги Куюмджана стоили дешево, а сам он был всегда весел. Я полагаю, что англичане назвали бы его словом «bodger», лататель. Ему платили не за обслуживание новых машин, а за поддержание в рабочем состоянии старых с минимальными затратами. Он жил в нескольких кварталах к востоку от нас, за Кирилловской, в ветхом деревянном домишке, заваленном обломками механизмов и различных изобретений, которые он начинал, но никак не мог закончить. Он не прислушивался к моим советам, которые уже тогда были исключительно разумными. Ему недоставало воображения, которое необходимо великому инженеру. Саркис Михайлович рассказал мне, что он последний в роду. Вся его родня, мужчины, женщины и дети, оказались среди тех ста пятидесяти тысяч армян, которых турки согнали в пустыню на верную смерть в самом начале столетия. В наше время все считают нацистов изобретателями современного геноцида, но они, возможно, многому научились у турок, которые решили армянский вопрос не так суетливо и с меньшими расходами. Мы на Украине научились бояться угрозы с Востока до того, как обнаружили себя воюющими с Западом. Слово «турок» было самым грубым ругательством, которое я слышал от Саркиса Михайловича, но пробирало сильнее любой брани. Мне не хотелось становиться учеником армянского кустаря-механика, пробавляющегося случайной работой, но мать настояла на том, что я должен узнать, как ведутся дела. Таким образом, в июне 1913‑го я стал помощником Саркиса Михайловича Куюмджана, отправлялся с ним почти по каждому вызову, даже сам делал небольшой и простой ремонт, и впервые ознакомился с азами инженерного дела. Матушка оказалась права. Мне стала нравиться моя работа. То лето было чудесным. Даже гетто на Подоле раскрасилось зеленью и яркими цветами. В одном отношении, однако, учиться у моего первого начальника было трудно. Он никогда не хвалил и никогда не ругал. На его маленьком смуглом лице всегда виднелась слабая улыбка, черные глаза лучились непонятным весельем, независимо от того, что творилось вокруг. Саркис Михайлович как будто жил в своем собственном мире. Он был опрятен, работал споро и умело, на всем экономил, редко разговаривал с клиентами, но всегда внимательно слушал, а потом решительно брался за дело, чтобы поскорее устранить проблему, если это было возможно. В борьбе с механизмами он никогда не уклонялся от брошенного вызова – и обычно становился победителем, хоть на время. Независимо от того, оказывалась ли работа трудной или легкой, он брался за нее с одинаковой серьезностью – и с той же легкой улыбкой. Манеры и гримасы Куюмджана могли раздражать. Люди думали, что он выражает презрение или, по крайней мере, иронию. Зачастую разгневанные клиенты кричали на него и заявляли, что он может не браться за работу, если не желает. Мастер не обращал внимания на крики, раскладывал гаечные ключи, отвертки и прочие инструменты и делал свое дело. Потом вытирал руки, по-прежнему улыбаясь, давал мне знак собрать инструменты, мысленно подсчитывал стоимость работы и коротко называл цену, которая устраивала даже самых скупых клиентов. Саркис Михайлович знал, что его услуги стоят дешево; в отличие от всех других известных мне армян, он ненавидел торговаться. Я быстро понял, что Куюмджан был чрезвычайно застенчив. Он оказался доброжелательным человеком, относился ко мне очень терпеливо. Общаясь с ним, я оценил положительные качества армян. Естественно, несмотря на все мои теоретические познания, я совершал немало ошибок на практике. Но никогда не слышал от мастера обидных слов и насмешек. Он мрачно показывал мне, как правильно сделать ту или иную вещь, – и этим ограничивался. С его помощью я изучил все рабочие районы Киева, хотя трудились мы в основном на Подоле. Украина тогда переживала настоящий бум. Она оставалась самой развитой частью империи в сельскохозяйственном отношении, но теперь началось и промышленное развитие, угольные шахты и железные рудники снабжали заводы Юзовки, Харькова, где строили огромные локомотивы, и Екатеринослава[38], а также других городов, которые вырастали вокруг новых шахт и заводов. Следует заметить, что я был не единственным молодым украинцем, которого вдохновили чудеса современной техники. Сикорский, изобретатель вертолета, родился в Киеве и провел свои первые эксперименты за пару лет до моих опытов. В отличие от него я не имел преимуществ, которые давало богатое и влиятельное семейство. Нас были тысячи, и мы стали первым поколением, увидевшим и постигшим будущее и в последующие годы давшим России и миру множество великих инженеров. Нас, украинских казаков, кто-то назвал «русскими шотландцами», и в этом отношении, как и в других, сравнение вполне уместно. Киев, однако, ни в коем случае нельзя было назвать развитым промышленным городом. Здесь занимались в основном торговлей и банковским делом. В детские годы я ни разу не видел больших заводов и фабрик. Как правило, в поле моего зрения попадали маленькие машиностроительные мастерские, текстильные фабрики и другие, им подобные, обычно состоящие всего из одного-двух навесов. Но ни в каком другом городе я не смог бы работать с таким человеком, как Саркис Михайлович, который не специализировался на чем-то одном. В итоге я стал разбираться в автомобильных двигателях, паровых насосах, динамо-машинах, механических ткацких станках. Это всестороннее обучение сослужило мне хорошую службу в будущем, но, с другой стороны, поставило меня в несколько невыгодное положение – кое-кто считал меня одним из тех, кто за все берется, но ничего не способен сделать. Работа у армянина пробудила мое воображение и изобретательность. В это время я начал должным образом развивать собственные идеи, основанные на том, что вычитал в «Пирсоне» и прочих журналах. Мне казалось, что я смогу построить одноместную летающую машину без обычного фюзеляжа, использующую возможности человеческого тела. Центр тяжести будет определяться положением двигателя, а не позицией пилота. В то время как Сикорский работал над все более и более крупными самолетами типа «Илья Муромец»[39], я мечтал о своеобразной летающей пехоте. Каждого человека можно было бы снабдить крыльями и двигателем. Крылья пристегнуть к рукам пилота, двигатель на станине прикрепить к его спине, чтобы обеспечить вращение пропеллера. Хвостовое оперение и руль присоединить к ногам летчика. Я изложил свой план Эсме, которая к тому времени целыми днями ухаживала за больным отцом; ее это впечатлило. Она захотела знать, когда увидит первых людей, летающих над куполами собора Святой Софии. Я пообещал ей, что это случится скоро; полечу я, а она станет свидетельницей моего самого первого полета. Дав обещание, я решился сдержать его. Я не хотел выставлять себя дураком в глазах Эсме. Она стала прекрасной юной девушкой, с длинными, восхитительными золотистыми волосами, огромными синими глазами, бледной кожей и сильным, полным телом, типичным для украинских женщин. И все-таки я по-прежнему видел в ней лишь давнюю близкую подругу, хотя сексуальные желания уже одолевали меня. Самое сильное возбуждение я испытывал, гуляя ночью по Крещатику и разглядывая дорогих шлюх, прохаживающихся туда-сюда по бульвару. А еще я мог зайти днем в кондитерскую Кирхейма, знаменитую своим кофе и пирожными с кремом, и смотреть на молодых красоток, которые появлялись там в сопровождении матерей. Немало темноглазых юных особ бросали на меня страстные взгляды, но все же не было ни одной, способной сравниться с моей замечательной, утраченной Зоей. Тоска по ней все еще увлекала туда, где когда-то стоял цыганский табор; но цыгане там больше не появлялись. С тех пор как у меня зародилась мысль о летающем человеке, подобные проекты уже не раз воплощались в жизнь, но тогда принципы соотношения силы и веса были еще не вполне ясны. Кроме того, двигатель, который я собирался использовать, не совсем подходил для моей цели. Я пообещал Эсме, что совершу свой первый полет в следующее воскресенье. Я ничего не сказал своему начальнику, который только посмеялся бы, о моем будущем изобретении; однако единственный двигатель, доступный мне в то время, находился в его цехе. Вполне надежный маленький бензиновый двигатель, он использовался в моторном трехколесном транспортном средстве, принадлежавшем одной из самых крупных пекарен Подола. Двигатель был в превосходном рабочем состоянии; его просто сняли, чтобы Куюмджан мог слегка отрегулировать цепи и заднее колесо. Мелкий ремонт. Конечно, теперь я понимаю, что не стоило заимствовать двигатель, особенно принадлежащий таким серьезным клиентам, но обещание, данное Эсме, оставалось для меня важнее всего остального. Когда в субботу вечером Саркис Михайлович, по обыкновению, оставил меня запирать мастерскую, я взял маленькую тележку и отправился за прочим оборудованием. Я соорудил раму, которая должна была поместиться у меня на спине и обеспечить достаточное пространство для движения пропеллера. Это устройство мне удалось совместить с зубчатой передачей на моторе. Я испытывал сильнейшее волнение, заканчивая подгонку механизма. Потом прикрепил к деревянной раме, укрытой плотным холстом, крылья и две части хвостового оперения, которые присоединялись к моим ногам. Я не сомневался, что, сжимая лодыжки, смогу управлять этими деталями как хвостовой частью планера. Я проверил двигатель и с удовлетворением обнаружил, что винт вращается как следует. Минула полночь, так что я отложил дальнейшие приготовления до утра и возвратился домой. Мать сильно волновалась, представляла, что меня убили. Ее беспокойство вызвало то, что совсем неподалеку от нашего дома и в самом деле убили ребенка. Это было ритуальное убийство, устроенное бандой фанатиков-сионистов, и я не верю, что удалось поймать истинных убийц – евреев. Тело спрятали в пещере в долине; его обнаружение, насколько я могу припомнить, привело к жестокому погрому. Я очень сожалел о той боли, что причинил моей бедной матери своими выходками, но она никогда не могла понять: жертвы приходится приносить не только тем, кто посвятил себя науке, но и их близким. Рано утром в воскресенье я встретил Эсме и отвел ее в мастерскую. Там она помогла мне погрузить все оборудование на тележку, и мы покатили ее к Бабьему Яру, достаточно широкому и потому лучше всего подходившему для моего эксперимента. Мне пришлось несколько раз заверить Эсме, что полет будет совершенно безопасным. Конечно, небольшой риск все-таки существовал, потому что предстояло лишь первое испытание, но я не ожидал серьезных проблем. С помощью Эсме я нацепил на себя раму, привязал крылья и встал на вершине склона, на тропинке, которая вела к маленькому выступу и скамейке, где обычно сидели влюбленные пары. Я планировал пробежать по тропинке, пока не достигну выступа, а потом взлететь над оврагом, по дну которого протекала речушка. Утро было прекрасным. Эсме надела белое платье с красным передником. Я нацепил свою самую старую одежду. Над ущельем поднимался туман, сквозь него сияли лучи солнца. Небо над нами было абсолютно синим, лишь дым от неутомимых заводов Подола поднимался вдалеке над сверкающими куполами и шпилями церквей. Вокруг стояла абсолютная тишина. Когда я объяснял Эсме, как завести пропеллер, со всех сторон раздался воскресный колокольный перезвон. Я начал свой первый полет под благовест сотен колоколов! Помню, как рев двигателя заглушил все колокола. Потом я сорвался с места и побежал, ускоряя шаг, вниз по тропинке. Эсме поначалу следовала за мной, но потом отстала. Я достиг уступа, раскинул руки, поднял ноги – и начал падать… Падение продолжалось пару секунд. Несколько движений руками – и я снова набрал высоту. Я поднимался все выше и выше над ущельем, пока не смог разглядеть весь Киев, увидеть, как Днепр течет по степным просторам, мчится к запорожским быстринам, приближаясь к океану. Я мог разглядеть леса, деревни и холмы. И, планируя вниз, я увидел Эсме в красно-белом наряде, глядящую на меня с удивлением и восхищением. Ее лицо отвлекло меня. Каким-то образом я потерял управление. Двигатель заглох. Раздался свист рассекаемого воздуха, затем крик. А потом снова зазвонили колокола, а я беспомощно падал под их перезвон – прямо к реке в нижней части ущелья. Прежде чем мое тело ударилось о воду, я подумал о том, что по крайней мере умру благородной смертью. Второй Икар!Глава вторая
Новость о моем полете появилась во всех киевских газетах. Я парил над городом в течение нескольких минут. Свидетелями эксперимента стали люди, которые шли в церковь воскресным утром. До тех пор, пока большевики не завоевали Украину, мое достижение имело документальное подтверждение: я спикировал и совершил пируэт в ясном небе; меня видели над Святым Андреем, Святой Софией и Святым Михаилом[40]. Я помню рисунок в одной из газет, где меня изобразили взгромоздившимся на зеленый центральный купол церкви Трех Святых. Но свидетельства моего подвига были уничтожены вследствие безумного желания ЧК, упростив прошлое, упростить настоящее, так удивлявшее чекистов и противоречившее их чрезмерно рациональному кредо. Если бы я оказался коммунистом, членом союза революционной молодежи или кем-то вроде того, все сложилось бы совершенно иначе. Но у меня было слишком много недостатков. Какие-то солдаты видели, как я упал, и вытащили меня из реки. Я ненадолго очнулся (пропеллер рухнул вперед и оглушил меня, когда я свалился в воду), услышав, как один из солдат, смеясь, сказал: «Еврейчик пытался взлететь!» Прежде чем снова потерять сознание, я произнес: «Я не еврей. И я точно взлетел». Думаю, это было странным совпадением: великое множество еврейских душ вознеслось к Небесам из этого самого ущелья, в котором немцы во время Второй мировой войны создали печально известный концлагерь. Здесь, впрочем, стоит отметить, что не только евреи погибли в Бабьем Яре: солдаты и гражданские славянского происхождения также умирали здесь тысячами. Но, как обычно, о других жертвах забыли, а удел мучеников достался евреям. Они умеют поведать о своих страданиях. Эсме, скатившись вниз по склону холма и порвав платье, обнаружила, что солдаты вытаскивают меня из воды. Она сказала им, где я живу, и меня отнесли к матери, которая немедленно упала в обморок и была приведена в чувство уже несколько выпившим капитаном Брауном, который незадолго до этого отправился меня искать. Впрочем, мне повезло в одном: двигатель остался неповрежденным, и через пару часов Саркис Михайлович привел его в порядок. Я разбил голову, сломал руку и лодыжку, но ликовал. Я взлетел! Я смог! Мне не терпелось провести новый эксперимент как можно скорее, хотя в следующий раз я решил нанять кого-нибудь помладше и полегче меня – и научить его летать. В таком случае я мог бы увидеть, каковы будут последствия, если что-то пойдет не так. В первые дни, когда Эсме приходила в больницу, я, желая лишний раз удостовериться, снова и снова расспрашивал о своем полете. Я обезумел, не мог доверять собственной памяти. Эсме горячо уверяла, что мне первому удалось взлететь в воздух с мотором, но без корпуса летательного аппарата. Мои достижения подтверждались ее словами и газетными новостями, которые появились снова много лет спустя в британском журнале «Ревейл» и в американской газете под названием «Нэшионал Инквайрер»[41]. Мне очень жаль, что не сохранилось российских публикаций, они пропали вместе с остальными вещами. Даже тогда не все поверили мне. Лишь через несколько недель я узнал, что Саркис Михайлович, обеспокоенный тем, что я позаимствовал мотор, решил в дальнейшем отказаться от моих услуг, отчасти, я полагаю, для того, чтобы успокоить владельца пекарни. Моя мать ничего об этом не говорила, пока я не выздоровел. Пригласили герра Лустгартена, чтобы не прерывать моих занятий; мать проводила большую часть свободного времени за сочинением длинных писем родственникам, в том числе и очень дальним, по поводу моего образования. Ее самоотверженность была безгранична, и, когда дело коснулось моего благополучия, ничто не могло ее остановить. Эсме разрешали навещать меня, и я делился с ней планами усовершенствования механизма «человека-птицы». Говоря о тех, кто с сомнением относился к моим достижениям, я упоминал о солдатах, утверждавших, что я просто упал в ущелье. Она возмущалась: «Конечно, ты летал! Конечно, ты это сделал! Ты облетел весь Киев!» Это было, разумеется, преувеличением, основанным на преданности, но Эсме славилась правдивостью, ее прозвали в округе «маленькой святой» за то, как она заботилась об отце. Когда Эсме не было рядом, а это случалось часто, я удовлетворялся чтением книг на разных языках и совершенствованием своей «летающей пехоты». Я отправлял в Министерство обороны письма, в которых излагал суть своего опыта, но ответа не получил. Весьма вероятно, что какой-то ревнивый бюрократ, возможно, сам Сикорский, позаботился о том, чтобы они никогда не попали в нужные руки. Я также разработал новую модель телеграфа и решил проблему связи между Бердянском и Еникале на Азовском море с использованием плавучих понтонов. Это только два из множества моих проектов, утраченных в годы Гражданской войны, но они значительно опередили свое время. Я очень сожалею, что не запатентовал ни одного из своих изобретений. Я был слишком доверчив. Слова чести и рукопожатия вполне хватало для порядочных людей в годы моего детства, а к тому времени, когда я достиг зрелости, этим начали пользоваться абсолютные мерзавцы. Будь я менее легковерным, уже давно стал бы миллионером, мне хватило бы одного только прожектора ультрафиолетовых лучей. Находясь в госпитале, я разработал жизненный план на немецкий манер: составил график на следующие несколько лет, обозначив все свои цели. Среди них были образование, работа в правительстве, наем агентов для поиска Зои, дом, который я намеревался приобрести для матери, где о ней могли бы заботиться Эсме и капитан Браун, которым я смогу платить хорошее жалованье. И тогда не находилось никаких причин считать этот план нереалистичным. Революционеры и фанатики вновь сговорились помешать моему счастью, когда в августе 1914 года я достаточно оправился от увечий, чтобы сдать вступительные экзамены в техническое училище. На сей раз убийство в Сараево – «выстрел, который облетел весь мир» – привело к чудовищному армагеддону, Первой Великой войне. Мать поведала неутешительные новости: герр и фрау Лустгартен сбежали из страны, очевидно, в Богемию, опасаясь антигерманских настроений, с которыми уже столкнулись многие люди с немецкими именами и фамилиями, владевшие лавками в киевских предместьях. Так, оказавшись между армянами и немцами, я разом лишился и наставника, и работодателя. Теперь только родственники могли спасти меня. Некоторые из тех, кому написала моя мать, включая моих бабушку и дедушку по отцу, которых я никогда не видел, и дядю Сеню, ответили к осени. Наверное, именно тогда начались разговоры о том, чтобы получить образование в Санкт-Петербурге (это меня радовало, поскольку там находились лучшие технические училища), но дядя Сеня хотел, чтобы сначала я навестил его в Одессе; все расходы он брал на себя. Дядя никогда не говорил мне прямо, почему хотел со мной увидеться. Я предполагал, что он собирался посмотреть на объект своих инвестиций. Мать сочла интерес дяди Сени ко мне подозрительным. Она не слишком любила его. Теперь мне кажется, что он возлагал на меня большие надежды, потому что его сыновья не интересовались наукой. Ни один из моих кузенов не отличался особенной грамотностью. Я думаю, что это разочаровывало дядю, но напрасно. Его дети были готовы к жизни в будущей России. По крайней мере двое из них стали влиятельными комиссарами во время страшного голода двадцатых и тридцатых годов. Большевики считали грубую силу, хитрость и слепое повиновение намного более ценными качествами, чем образованность. Я не слишком интересовался причиной, по которой дядя Сеня согласился с матерью относительно моей дальнейшей судьбы. Того, что он собирался оплатить мне и образование, и каникулы, оказалось вполне достаточно. Следующие несколько месяцев представлялись по-настоящему восхитительными. Если я уже потряс Киев, чего мне стоило поразить ленивых жителей южного, свободного от предрассудков города или пресыщенных столичных граждан? Все три недели до моего отъезда мать непрерывно плакала. Она снова и снова упаковывала мои немногочисленные пожитки, заставляла клясться, что я не свяжусь с радикалами, что не стану подражать поведению и речи одесситов. Она вынудила меня пообещать, что я не буду якшаться с «бандитами с Молдаванки»[42] (читатели комиссара-журналиста Бабеля знают, о ком идет речь). Она плакала, напоминая о судьбе отца. Плакала, наказывая, чтобы я менял нижнее белье. Она была самой замечательной, заботливой матерью, какую только мог пожелать мальчик. Я теперь сожалею, что не слушался ее так, как следовало бы. Моя зажившая голова была полна мечтаний о будущих деяниях. В ночь накануне моего отъезда из Киева Эсме пришла к нам и принесла медаль Святого Христофора[43], которую ее отец привез из каких-то чужих краев. Она со всей подобающей серьезностью повесила медаль мне на шею, обняла меня, расцеловала в щеки и заплакала. После ее ухода мать осмотрела медаль, подозревая, что эта вещь могла быть как-то связана с мятежом. Затем с большой неохотой, немного всплакнув, вернула ее мне. Я считал эту медаль символом утешения и носил в течение долгого времени; она напоминала, что у меня есть по крайней мере один верный друг. Вскоре после ухода Эсме явился мой кузен Александр. Он предпочитал, чтобы его звали Шурой, и был хитрым и дерзким молодым человеком, коротко стригся и носил на шее краснобелый шарф по моде того времени. Он оставил у нас свои вещи, отказался от предложенного матерью завтрака, снисходительно выпил полстакана чая у нашего старого самовара, а потом отправился в город по делам. Кузен вернулся с коробкой шоколада и каким-то грузом в мешке, который немедленно уложил в свой багаж, к превеликому беспокойству моей матери. Изрядно выпив водки (даже в дни «сухого закона» немногие обращали внимание на суровые запреты), Шура встал у печи, грея руки и подмигивая мне. Моя бедная мать едва не лишилась чувств; она поспешила проводить кузена в другую комнату, где тому предстояло переночевать. Матушку можно было понять: он казался не самым подходящим спутником для ее сына, впервые покидавшего семейный очаг. Однако Шура не сразу уснул. В темноте, в последний раз лежа на своей кровати, я слышал, как он напевал какие-то загадочно-непристойные песни с мягким, музыкальным одесским акцентом, в то время как мать выводила носом сложный контрапункт у себя на кушетке. Матушка проводила нас на станцию. В сентябре 1914 года железнодорожное сообщение начало ухудшаться (хотя назначались дополнительные поезда в крупные города – такие, как Одесса), и приобрести билеты становилось все труднее. Тем не менее Шура энергично преодолел все формальности, провел нас через утренние скопища полицейских в форме, солдат и матросов – сквозь разноцветные мундиры и золотые галуны, мимо продавцов конфет, напитков, карт и скандальных журналов и газет. В те времена всю Россию заполонили лоточники – мужчины, женщины, дети. Продемонстрировав хорошее знание вокзала, его особых нравов и обитателей, Шура по крайней мере сумел успокоить мою мать. «Раз уж ты отправляешься в мир, лучше это делать в сопровождении кого-то практичного», – сказала она, когда он удалился на мгновение, чтобы переговорить с какой-то худощавой девицей; потом Шура вернулся – развязной походкой, держа в руке несколько длинных сигарет, одну из которых он предложил мне. Я, разумеется, отказался. Мать напомнила Шурео вреде курения и предупредила, как расстроится дядя Сеня, если узнает, что его «маленького ученого» развратили. Шура все терпеливо выслушал, явно сочувствуя нам обоим, а затем объявил, что поезд прибыл и нам следует занимать места. Мать последовала за нами, мешая мне восхищаться чудесами железнодорожного состава: кухней, топкой и всем прочим. Это был один из самых лучших экспрессов Юго-Западной железной дороги. Его тянул поразительной красоты локомотив (вероятно, 4-6-4, хотя я уже не могу теперь вспомнить модель), цвета которого – темно-зеленый, золотой и кремовый – повторялись на всех вагонах. Этот длинный поезд, экспресс Киев-Одесса, преодолевавший весь путь меньше чем за четырнадцать часов, состоял только из вагонов первого и второго класса, третьего класса в нем не было. Даже пар локомотива казался белее, чище и солиднее, чем пар других поездов. На дальних платформах я видел несколько военных составов с тяжелой артиллерией на плоских платформах; это, вместе с большим количеством вооруженных людей на самом вокзале, напоминало о том, что страна находилась в состоянии войны. Я снова ощутил давнее желание надеть форму. Я сказал Шуре, что ему следует с нетерпением ждать призыва на военную службу. Единственным ответом стал выпущенный мне в лицо дым папиросы; потом кузен, подмигнув, снова предложил мне закурить. Матушка разрыдалась при мысли о войне, и Шура попытался утешить ее – терпеливо и слегка презрительно. Каким-то невероятным способом он нашел для нас места в купе и оставил меня наедине с матерью. Воротник моего нового пальто промок от ее слез прежде, чем проводник доброжелательно сказал, что пора выходить. Кузен крикнул, что нечего бояться: если машинист собьется с пути, Шура сумеет отыскать верную дорогу. Это вызвало смех у других пассажиров в вагоне; мать всхлипнула еще пару раз и вышла на платформу, вытирая глаза и нервно улыбаясь. Я занял свое место. Мы с Шурой выделялись среди пассажиров, поскольку были моложе и не носили форму. Большинство наших попутчиков оказались солдатами, матросами и санитарами; они улыбались нам с тем особенным самодовольством, с которым люди, носящие форму, смотрят на тех, кто ее не носит. Это было первое долгое путешествие на поезде, которое мне хорошо запомнилось (сохранились очень туманные воспоминания о нашей поездке из Царицына в Киев). Путешествие длилось целый день, с половины девятого утра до поздней ночи, но мне бы хотелось, чтобы оно продолжалось вечно. Поезд уносил меня в новый, романтический мир, мир Руритании Хоупа, поэзии Пушкина и книги Грина «Шапка-невидимка»[44], с ее историями об экзотических портах и дивных сапфировых морях. Я был готов всю дорогу просидеть на месте, но Шура заставил меня подняться, едва поезд покинул станцию и мать, которая ковыляла, размахивая промокшим носовым платком, осталась позади. Шура хотел показать мне вагоны первого класса, так что мы совершили прогулку по поезду, разыгрывая невинность всякий раз, когда служащие спрашивали, что мы здесь делаем; мы отвечали, что потеряли свой вагон. Я дивился роскоши первого класса, темно-зеленой плюшевой обивке, полированной меди и дубовым панелям. Шура сказал, что не раз путешествовал первым классом, но я не поверил. Он знал, по его словам, как вести себя по-джентльменски: «Когда-нибудь это станет частью моей работы». Как мой кузен мог стать своим в этом мире бархата и роскоши? Я не представлял, чем он собирался заниматься, однако с одобрением отнесся к его амбициям. Эти чудесные вагоны напоминали ангельскую обитель и пахли, как ухоженные животные. И люди, находившиеся здесь, казались полубогами. Я полюбил их, жаждал разделить их жизнь, войти в их круг. Мне следовало запомнить все радости путешествия в роскоши – неважно, насколько часто я буду испытывать их в дальнейшем. Я поднялся из глубочайшего мрака к вершинам невообразимого благополучия. Минуло еще несколько лет, прежде чем я всесторонне ознакомился с этой поразительной формой транспортного сообщения. Теперь она практически исчезла с лица земли. Сегодня ее заменили утилитарные детали из пластмассы и нейлона; холодные, безличные, эффективные государственные железные дороги и авиалинии. Не только прежние поезда умчались в бездну забвения. Большие корабли, властелины линий «Cunard» и «Р&О»[45], окончательно исчезли. Что мы получили взамен? Паромные перевозки. Неудивительно, что все транспортные системы работают в убыток. Неужели люди в самом деле захотят путешествовать в чем-то, напоминающем грязную больничную палату? Как человек, который пользовался почти всеми средствами современного транспорта, от огромных довоенных лайнеров до преданных забвению цеппелинов, я могу прямо сказать, что демократизация не принесла пользы никому, в том числе и народу. За исключением нескольких нелепых круизных кораблей, не осталось летательных аппаратов и роскошных пароходов, которые в прежние времена являлись подтверждением изречения о том, что путешествие приятнее прибытия. Когда я в пабе с ностальгией вспоминаю о самолетах класса «С» Имперских авиалиний, надо мной просто смеются. Эти безграмотные полукровки, обитающие в безликих жилищах, возмущаются, слыша, как кто-нибудь вспоминает дни, когда слово «цивилизация» означало нечто большее, чем название бирж труда и муниципальных художественных галерей. Из их жизней исчезла романтика, которую они не разглядят, даже если ее преподнесут на тарелочке, как подносят все остальное. Они потешаются над прошлым, копируя лишь самые безвкусные, «очаровательные» элементы ушедшей жизни. Сенсации заменили им все. Эти люди демонстрируют свой цинизм, как их матери и отцы демонстрировали утонченность. Они смешны, подобно торговкам и унылым клеркам, заполонившим танцевальные залы в двадцатых и тридцатых годах, сопровождаемым презрительными взглядами представителей настоящего высшего общества. У них есть и еще кое-что общее: отсутствие малейшего уважения к старшим. Они лишены воображения, и все-таки заполняют огромные залы, чтобы посмотреть фильмы вроде «Убийства в „Восточном экспрессе“»[46]. Неужели они полагают, что им позволили бы даже просто ступить на подножку такого поезда? В свое время «бритоголовые» и «пижоны» знали свое место. В грязи! У них есть тот транспорт, которого они заслуживают: скрытый в подземных глубинах, шумный, грязный и тесный, пригодный только для морлоков Герберта Уэллса[47]. Когда мы вернулись на свои места, я сам себе казался разве что не принцем. Я чувствовал комфорт и безопасность во всем поезде. И, очевидно, многие из наших спутников ощущали то же самое. Все места в купе, разумеется, были заняты. Люди в форме заполонили коридоры. Казалось практически невозможным разглядеть за их спинами прекрасные пшеничные поля Украины; в это время мякина была отбита, сено уложено в стога, поскольку урожай уже собрали. Небо приобрело те дивные бледно-золотистые и серебристо-синие оттенки, которые иногда появляются в девять часов утра, в преддверии теплого осеннего дня. Две католических монахини, одна – двадцати с небольшим лет, другая – совсем юная, спросили, можно ли открыть окно, и все согласились, что было бы неплохо подышать свежим воздухом. Я предложил помощь, но не сумел разобраться, как действует запорный механизм. Шуре пришлось вмешаться, к великому моему смущению. Воздух наполнился ароматом сельской местности, сладостным и густым, и мое настроение снова улучшилось. Помимо монахинь, занимавших места у окна, мы делили купе с двумя моложавыми лейтенантами флота; есаулом в серой папахе и кафтане, с патронташем и широким поясом, за который был заткнут кинжал и к которому крепилась традиционная казачья шашка; джентльменом в темной фетровой шляпе и пальто с каракулевым воротником и греческим священником, который мало говорил по-русски, но улыбался нам, как будто благословляя. Есаул сидел рядом с Шурой, напротив меня. Подбородок его был чисто выбрит, но лицо украшали огромные вьющиеся седые усы с вощеными концами. Он сидел, сжимая шашку коленями, спину держал очень прямо, не опираясь на сиденье, как будто ехал на невидимой лошади. Казаки часто ведут себя так, словно лошади постоянно рядом, и я вообразил, по всей вероятности, ошибочно, что в грузовом вагоне в хвосте поезда путешествует каштановый жеребец. Попросив отворить окно, монахини начали внимательно рассматривать друг друга, очевидно устанавливая телепатическую связь. Они не произнесли ни слова за всю поездку, и поэтому нам было очень неудобно приближаться к окну, чтобы купить что-то у торговцев на платформах во время остановок поезда. Этим торговцам не хватало лоска киевских лоточников, но они были очень шумными. Босые крестьянки предлагали нам пироги и парное молоко, а их дедушки возили самовары на тележках и хриплыми голосами расписывали чудесные целительные свойства своего чая. На станциях вертелось множество детей, из них мало кто торговал, в основном они просто попрошайничали. Монахини сидели, чуть приподняв ступни, их юбки полностью скрывали ноги. Мы старались избегать контакта с ними, все, кроме Шуры. Он, влетев в вагон после небольшой прогулки по платформе, пошатнулся и опустил руку на колено одной из монахинь, но тут же извинился. Позже, в коридоре, когда они не могли услышать, он пробормотал какую-то грубость – подивился их «невероятной вместительности». Я с трудом уяснил смысл сказанного, но морские офицеры, услышавшие его слова, от души повеселились. Я покраснел. Греческий священник, ничего не поняв, рассмеялся вместе с моряками, в то время как мужчина в пальто с каракулевым воротником что-то проворчал из-за страниц журнала «Нива». Шура завел разговор с казаком, которому, казалось, он очень понравился. Есаул сказал, что служит интендантом и едет в Одессу для закупки провианта и снаряжения, ничего больше он сообщить нам не мог. Он удивился, когда я упомянул, что мой отец тоже был казаком. Шура рассмеялся, посоветовав мне поменьше болтать: «Такие заявления, – заметил он, бросив взгляд на есаула, – до добра не доведут». Офицеры возвращались из Москвы, где проводили отпуск, и непрерывно рассказывали о чудесах второго по величине города России. На эти чудеса они постоянно намекали Шуре – взглядами, жестами и шепотом. Кузен был ненамного старше меня, но казался куда более осведомленным и понимал все намеки, достаточно тонкие, чтобы не шокировать монахинь, прислушивавшихся к беседе очень внимательно. Добродушный казак предложил всем водки, священник принял предложение, джентльмен в шляпе отказался, монахини как будто ничего не расслышали. Есаул сдвинул папаху набок и расстегнул кафтан, распахнув ворот расшитой черным и красным рубахи. На нем были синие галифе и мягкие кожаные сапоги; он выглядел свободнее и в то же время воинственнее остальных пассажиров поезда. По нашей просьбе он показал нам шашку, кинжал и пистолет, но не позволил прикасаться к оружию, сказав, что шашку следует доставать из ножен лишь для того, чтобы пролить кровь, но все же показал нам несколько сантиметров клинка, так что мы смогли разглядеть гравировку в виде мотылька (грузинскую, кажется) на рукояти. «Этот клинок, – сказал есаул, – такой острый, что мотылек, коснувшись его, будет разрублен пополам, прежде чем поймет, что случилось. Он все поймет, лишь попытавшись снова взлететь!» Увиденное меня весьма впечатлило. Я сказал, что у моего отца, наверное, тоже имелся подобный клинок. Казак весело поинтересовался, к какой сечи он принадлежал. Я сказал, что к Запорожской. Он спросил, когда родился отец. Я ответил, что не знаю. Есаул уточнил, уверен ли я, что отец не был «москалем». Я его не понял. Он объяснил, что так казаки пренебрежительно называют великороссов. Слово приблизительно переводилось как «чужак». Я уверил его, что мой отец никогда не был чужаком. Он служил в казачьем полку в Санкт-Петербурге. Казак спросил, в каком именно. Я вновь ответил, что не знаю. Он рассмеялся, очевидно, довольный тем, что кто-то притязает на казачье происхождение, даже не имея на то оснований. Я разволновался и начал настаивать, что говорю правду. Шура решительно заявил: «Поймите, его отец умер». После этого казак смягчился, коснулся рукой моего колена, протянул мне шашку и улыбнулся: – Не переживай, малыш. Я тебе верю. Мы скоро будем скакать рядом, ты и я. И убивать евреев и немцев направо и налево, а? Морские офицеры, веселый священник и мой кузен рассмеялись вместе с ним, и на душе потеплело. Путешествие на поезде осталось в моей памяти одним из самых светлых воспоминаний. Казака, кстати, звали капитан Бикадоров. Шура спросил офицеров о ходе войны, о настроениях в Москве. Они сказали, что все уверены в победе, от царя до рабочих. Наши союзники предсказывали, что «российский паровой каток раздавит немцев за несколько недель». Танненберг[48] оказался случайной неудачей просто из-за нашей самонадеянности. Мы выучили свой урок в Японии, стали сильнее, чем когда-либо прежде, и будем разыгрывать нашу военную партию осторожней, но при этом намного разумнее. – Особенно, – заметил один из них, – теперь, когда Япония стала нашей союзницей! После этих слов джентльмен в фетровой шляпе снова что-то проворчал. – А турки? – спросил я. – Когда их разобьют? Когда царь придет на службу в собор Святой Софии Константинопольской? – Только дайте начать, а потом все пойдет как по маслу, – сказал капитан Бикадоров. – Хотя нет лучших врагов, чем эти ваши турки. Было бы неплохо освободить Царьград (Константинополь), но во французах он был не уверен. Они сильно сдали после Наполеона. Их уже не раз поколачивали немцы. Кроме того, есаул сомневался, что англичане были надежными союзниками, «потому что они и сами – почитай что немцы». Но французов он считал действительно слабым звеном. Морские офицеры согласились, что французы, которых они встречали в Одессе, просто лягушатники, слабые и в то же время напыщенные. – Французы не способны даже думать о смерти, – добавил старший. – В то мгновение, когда француз сталкивается с мыслью о ее неизбежности, как правило, еще в начале сражения, он сходит с ума. Они не трусы. Они просто невероятно самодовольны! Джентльмен, читавший «Ниву», встал, поклонился морскому офицеру и сказал, что родился в Одессе и имеет честь носить французскую фамилию. Его дед был французом. Он снова сел, раскрыл свой журнал, а потом, будто поразмыслив, снова отложил его и добавил: «Наполеона победили не солдаты, друзья мои, а снег. А за наш снег мы можем благодарить только Бога». – А я возблагодарю Бога и за наших солдат, – сказал Шура. При повторном упоминании о Боге священник молитвенно сложил руки, а монахини разом отвернулись к окну. Спросив их, не будут ли они возражать, если он закурит, есаул Бикадоров вытащил огромную трубку и начал набивать ее, в то время как Шура, по его примеру, предложил спутникам несколько папирос. Морские офицеры приняли предложение, старый джентльмен французского происхождения отказался, фыркнув, но вытащил сигару, как только все остальные закурили, и вскоре купе наполнилось табачным дымом. К счастью, окно было открыто, а значит, ни монахинь, ни меня самого это не слишком беспокоило. Теперь этот запах связан с давними приятными переживаниями. Я испытывал такой восторг, что позднее, когда мы насладились совместной трапезой, в которой приняли участие все, кроме монахинь и старого джентльмена, я впервые затянулся сигаретой. И тут же пожалел о съеденном – колбасе, хлебе, телятине, цыплятах, даже о чае, который мы купили на станции. Мой дискомфорт смешался с довольно приятным ощущением легкого головокружения. Я вышел на перрон на следующей станции. Думаю, это был Казатин, очень приятное место с ивовыми деревьями, резными фронтонами и колоннами. После настойчивых предложений Шуры я взял у него еще одну сигарету. – Всегда садись на лошадь сразу после того, как с нее упал, – заметил он. Под действием его обаяния и умения убеждать я впервые в жизни испытал радость греха. Мы помчались назад, вместе с остальными пассажирами, потому что поезд тронулся. Заняв свое место, Шура предложил мне глотнуть водки. Я подмигнул и согласился. К вечеру я был немного пьян. Я следил, как красные и черные тучи проплывали на горизонте, на котором изредка вырисовывались шпили или купола, побеленные деревенские домики, стройные тополя и кипарисы на землях добрых помещиков, которых, возможно, описывал Толстой до того, как сошел с ума. Когда солнце село, есаул затянул печальную песню о девушке, лошади, реке и саване. Он пытался заставить нас подпевать хором, но только Шура сумел запомнить слова:Глава третья
Я проснулся, открыл глаза – и сразу зажмурился от яркого солнечного света. Несколько мгновений я прислушивался, улавливая новые, незнакомые прежде звуки: звон трамваев, гул товарного поезда, стук лошадиных копыт и скрип тележных колес по мостовой; крики, смех. А еще чувствовался удивительный запах: смесь ароматов океана, переспелых фруктов, цветов, как будто все богатства восточных морей принесло сюда утренним приливом. Я медленно направился к окну. Большинство величественных зданий на площади оставались закрытыми, поскольку было слишком рано. И над Одессой взошла осенняя заря. Все крыши, ограды, кирпичи, деревья, кусты и стены словно светились. Сочные краски неуловимо сияли в теплом городском воздухе. Киев был наделен особой красотой, но она казалась скучной по сравнению с этим великолепным очарованием. Каждый силуэт: животного, цветка, камня или дерева – окружало слабое сияние. Красно-золотистый автомобиль пересек площадь и остановился возле недавно открывшейся бакалейной лавки. Он был похож на машину из волшебной страны. Мужчины и женщины, сидевшие в нем, были разряжены в белые костюмы, павлиньи перья, японские шелка, лакированную кожу – казалось, они явились прямо из роскошной постановки «Веселой вдовы»[49]. Не хватало лишь музыки, но я ожидал услышать ее в любое мгновение. Я вытягивал шею поверх железной оконной решетки и смотрел в ту сторону, где, как я надеялся, находилось море. Но увидеть удавалось только тротуары и деревья – возможно, там был парк. Я почувствовал запах кофе. Увидел, как девочки в черно-белой униформе выходят на улицу, вынося кувшины, которые заполнятся, когда приедет тележка молочника. Я почувствовал аромат свежего хлеба и определил его источник, булочную в дальнем углу площади. Почтальон медленно прошагал по улице, разнося письма. Женщины из близлежащих домов окликали друг друга. Именно так я представлял себе город, подобный Парижу, но никак не нашу Одессу. Можно было понять, почему многим русским она казалась вульгарной, но полюбилась художникам и писателям, например Пушкину, который хотел поселиться здесь. Я чувствовал одновременно и возбуждение, и умиротворение. Я отдыхал. Такое раньше попросту не приходило мне в голову – от занятий я отвлекался, работая по дому. Но здесь, насколько я знал, этого не требовалось. Я был гостем, меня следовало развлекать. Я почувствовал голод. Ванда постучала в дверь и позвала меня. Я осознал, что не одет, и устыдился своего тела, пожалуй, в первый и единственный раз (хотя я так всю жизнь и стыдился отметины на моем члене). Возможно, я вспомнил свои фантазии о Ванде. Я попросил ее подождать, надел брюки и рубашку и отпер дверь. Она вошла, улыбаясь. – Скромный маленький мальчик. Она была только на год старше меня, но все одесситы выглядели взрослее киевлян. У меня сложилось впечатление, что они наделены каким-то первобытным, язвительным лукавством. Возможно, это связано со смешением разных кровей. В местных жителях соединились черты характера разных народов, но самые примечательные пришли с Ближнего Востока. Сама Одесса названа в честь греческого героя Одиссея, и примерно половину ее населения в те времена составляли евреи и иностранцы. Вероятно, именно поэтому погромы были такими жестокими. Людям не давало покоя могущество чужаков, хотя я первым признаю, что Одесса обязана своей атмосферой иноземцам. Разумеется, не только евреи и преступники обитали на Молдаванке. Такую репутацию район приобрел благодаря Исааку Бабелю, прожившему там не более недели и изгнанному рассерженными обывателями, которых оскорбляло его любопытство и вранье. Говорят, кого-то даже убили из-за его лживых россказней. Мой дядя Семен был уважаемым коммерсантом, торговал со множеством иностранных держав через свою контору. Он занимался импортом и экспортом самых разных товаров. На него работали более двадцати служащих в конторе по соседству; с его фирмой не было связано никаких скандалов. Следует добавить, что никто никогда не пытался напасть на него или выкрасть деньги, хранившиеся в сейфе. Многие говорят, что проблема русских – в неумении отличать правду от вымысла. Мы верим всему, что слышим. Может быть, это так. Но лично я всегда легко мог провести границу между истиной и ложью. Ванда принесла мне на подносе маленький завтрак – кофе и рулет. Роскошь никуда не исчезла. Ванда казалась еще эффектнее этим утром, но ее речь уже звучала не так сексуально. Возможно, в голосе девушки ночью была просто усталость, которую я принял за тайну. Я почти равнодушно поприветствовал Ванду и взял поднос. – Что мне делать после завтрака? – Я спущусь и все узнаю. – Она крутила рыжий локон у шеи. – Мадам в хорошем настроении. Месье тоже. Мне следовало привыкнуть к тому, что в Одессе многие говорили по-французски. Город считался практически наполовину французским, хотя на самом деле большинство иностранцев были немцами; они даже издавали собственную «Одесскую газету»[50]. Многие из книг, прочитанных мною тогда, тоже были немецкими. Кроме того, я читал английские издания Таухница – Уильяма Кларка Расселла, Герберта Уэллса и Уильяма Петт Риджа[51]. В конце концов за мной пришли – но не Ванда, а мой кузен Шура. Он в это утро казался более представительным – в рубашке, галстуке-бабочке, сером костюме с жилетом, с соломенной шляпой в руке. Шура был добр, он понял, что мне будет не по себе в незнакомом городе. Он вошел без стука, прислонился к дверному косяку и, как обычно, подмигнул. Затем закрыл дверь и спросил, нравится ли мне моя одежда (вполне приличный темный пиджак и галифе). Я сказал, что у меня практически ничего больше нет. Шура ответил: «Сейчас что-нибудь придумаем», – а потом посоветовал мне причесать волосы на английский манер с пробором посередине и предложил свою расческу, пропахшую бриллиантином. Я взялся за дело и попытался соорудить пробор. Шура усадил меня перед маленьким туалетным столиком и, высунув язык от усердия, расчесал волосы точно по линейке. Потом сосредоточенно пригладил расческой свои короткие волосы и удовлетворенно кивнул. Я надел свитер и пиджак. – Думаю, сойдет, – заявил Шура. – Все полагали, что ты будешь похож на школяра. – Я и есть школяр, – подтвердил я. – Потому дядя Сеня и послал за мной – посмотреть, кого он отправляет на учебу. Шура цинично усмехнулся: – Конечно, он – старый филантроп. Я рассердился: – Дядя Сеня очень добр, он столько сделал для нас с матерью! Он в меня верит. Верит сильнее, чем мой собственный отец! Шура смягчился: – Ты прав. Что ж, пойдем. Мы встретили на лестнице раскрасневшуюся Ванду. Она была очарована Шурой так же, как и я. Он коснулся ее щеки и что-то прошептал на ухо. Девушка радостно вздохнула и зашагала дальше. Мы спускались по лестнице. В воздухе пахло едой. Мы достигли первого этажа. Солнечный свет проникал сквозь грязные стекла. Его лучи сияли на портьерах, на картинах, на вешалках для шляп и зеркалах. Мы прошли в заднюю часть дома, мимо комнаты, где я повстречал тетю Женю, мимо гостиной, где мы накануне ужинали, и приблизились к двери из красного дерева, в которую Шура, внезапно остановившись, постучал. – Входите! Голос был приветливым и радушным. Мы перешагнули порог. – Максим Артурович! Я твой двоюродный дед, Семен Иосифович. Я ожидал увидеть дородного патриарха, богатыря с длинной серой бородой, облаченного в деловой костюм. А столкнулся с невысоким мужчиной с резкими чертами лица, заостренной бородкой, одетым в льняные пиджак и брюки; из-под блестящего воротничка виднелся аккуратно завязанный старомодный черный галстук, выделявшийся на фоне накрахмаленной рубашки. На руках были серебряные кольца, на нескольких пальцах темнели чернильные пятна. Дядя Сеня казался слегка смущенным. Он снял очки, взял их в левую руку и, вытянув вперед правую, бросился ко мне через всю комнату. Схватив меня за локоть, постепенно, в несколько приемов, нащупал ладонь, которую сжал и потряс. Он оказался лишь на несколько сантиметров выше меня. – Мой мальчик! Мой внук! Единственный сын моей племянницы. Какое счастье! Твоя мать гордится тобой, как следует? Так же, как я горжусь ею? Я твой двоюродный дедушка; можешь звать меня дядя Сеня. Шура все тебе расскажет. Он позаботится о тебе. Он хороший мальчик. Но ты должен помочь ему с учебой. Ты должен стать самым умным в нашей семье, да? – Он провел по бороде очками, которые все еще сжимал в руке, как будто придя в восторг от этой мысли. – Ты отправишься в Питер и станешь там Иисусом в синагоге, а? – Столицу тогда часто называли Питером. Мой двоюродный дед выражался более четко, чем большинство одесситов, но и он время от времени переходил на одесский говор, как будто пытаясь придать своим словам особое значение. – Ты вернешься к нам и станешь нашим голосом. У тебя нет призвания к юриспруденции? – Боюсь, что нет, Семен Иосифович… Наука… – Вот именно. Законник в семействе нам не нужен. Пока нет. Но ученый прекрасно подойдет, конечно. Профессора постоянно общаются с юристами, так что ты будешь полезен семье не меньше, чем адвокат. Адвокаты в Одессе, Максимка, сплошь негодяи. И так можно сказать, полагаю, о большинстве профессий. Но как только ты станешь интеллигентом, получишь доступ к лучшим из них, а? Они поделятся с тобой секретами, будут считать своим. Ты единственный интеллектуал, который у нас есть. Тебе цены нет! Ты должен стать гордостью нашего семейства. Любишь Шекспира, Пуччини, как и я? Мы будем вместе ходить в оперу и в театр. Он сдержал свое слово. Мне было скучно, но я смог получить знания в области драматургии и музыки, которых в противном случае был бы лишен. Я начал понимать, почему дядя Сеня так хотел, чтобы я преуспел в Санкт-Петербурге. Все прочие родственники добились успеха в различных коммерческих предприятиях. Мне же следовало заняться чем-то более отвлеченным. – Шура предложил тебе посмотреть город? – спросил дядя Сеня. – Должен был. Я и сам бы этим занялся, но у меня контора. Корабли никого не ждут. Мыло нужно отправить в Севастополь. Из Рио-де-Жанейро должен прибыть груз кофе. И это несмотря на то, что немецкие мины угрожают мирным судам. Не скажу, что война так уж вредит делу. Откровенно говоря, наоборот. Если, конечно, нам и впредь позволят работать. Пусть Шура покажет тебе нашу Одессу. Она тебе понравится. – Дядя Сеня расстегнул пиджак и отыскал во внутреннем кармане бумажник. Он протянул Шуре десятирублевую банкноту. – Позавтракайте где-нибудь за мой счет. Увидимся вечером за ужином. До свидания. И старайся не перенапрягать мозги, пока ты здесь. Прибереги их для Санкт-Петербурга. – Он растягивал звук «р» в каждом слове, будто хотел описать какой-то необычайный деликатес. Мы откланялись. Возле кабинета моего деда мы столкнулись с тетей Женей. Она держала в руках ворох светлой одежды. – Ты не можешь выйти наружу в таком наряде. Уже сейчас жарко. Вот Ванины вещи. Они будут тебе впору. А он уже надел свою форму. Сын тети Жени служил в армии. Она была намного моложе дяди Сени, который вполне разумно подождал, пока его дела не пойдут в гору, – а потом решил жениться. Я подумал, что постараюсь последовать примеру деда. Мой отец, в конце концов, женился молодым, и ничего хорошего из этого не вышло. Взяв старую летнюю одежду Вани, мы снова поднялись по лестнице. Под присмотром Шуры я переоделся в костюм цвета шоколада, шелковую рубашку с мягким воротником и шляпу. Мне, привыкшему к северной сдержанности, эти вещи казались немыслимо яркими и безвкусными, но Шура удовлетворенно вздохнул. – Настоящий денди, – заметил он. – Ваня, конечно, был щеголем, пока его не забрали. – Забрали? – В армию. Ваню убили полгода спустя. Я так никогда и не смог поблагодарить его за то, что он помог мне вписаться в жизнь «русской Ривьеры». Я повесил свои галифе на спинку кровати. Мы с Шурой спустились вниз, попрощались с тетей Женей и Вандой, которые были заняты какими-то домашними делами, и вышли из дома. Сверху площадь казалась фантастическим миром, сценой для музыкальной комедии. При ближайшем рассмотрении она предстала еще более чудесной. С самого утра ее заполонили люди. Теперь вокруг маленького сквера в центре площади появились прилавки, где расположились мужчины в кепках и темных передниках, беседовавшие друг с другом. Полные женщины в красных или синих косынках раскладывали бутылки и коробки, демонстрируя прохожим свои товары – фрукты и овощи, некоторые из них казались мне очень странными; цветы и ткани добавляли красок этому миру. В тени больших деревьев скрывались зеленые холщовые навесы. Пахло лошадьми, сладостями, кровью (когда мясники раскладывали свой товар на деревянных лотках и отгоняли мух). И все-таки самым сильным оставался запах моря и цветов. Собаки лаяли на мальчишек с тюками, бежавших, не разбирая дороги. Шарманщик начал настраивать свой инструмент. На него закричала огромная круглолицая женщина в украинской рубахе, и он ушел, не сыграв ни единой ноты. Издалека слышались долгие завывания и короткие гудки – должно быть, корабельные сирены. Шура спросил меня, как я хочу отправиться в гавань – на трамвае или пешком. Я сказал, что предпочту пройтись, несмотря на то что мне не терпелось поскорее увидеть море. – Отлично, – ответил он, – тогда мы пройдем через старое кладбище, это кратчайший путь. Мы свернули за угол и вышли на улицу. Несмотря на то что здесь находилось множество людей, кричавших на поливальную машину, которая проехала мимо и промочила их обувь, было почти тихо. Ошеломленный, я свернул на центральную улицу как раз в то время, когда там проходил эскадрон; пики были украшены небольшими вымпелами, красные и синие гусарские мундиры казались совершенно обычными в этом разноцветном мире. Думаю, что увидел тогда часть парада рекрутов. Мы прошли через ворота и окунулись в тишину старого кладбища; помпезные памятники из черного мрамора, гранита и известняка, огромные мавзолеи, древние ивы. Дойдя до конца, Шура сказал, что можно пролезть через трещину в стене, но не хочется портить костюм. – Я теперь редко здесь бываю, – произнес он, желая пояснить, что отказался от детских забав. Я увидел еще одну большую улицу, очень широкую, похожую на Крещатик. Вдоль нее росло множество деревьев, полагаю, вязов. Роскошные магазины, витрины которых были скрыты синебелыми жалюзи; киоски, напоминавшие миниатюрные готические соборы; небольшие деревянные прилавки, у которых инвалиды продавали газеты роскошным дамам, носившим зонтики из белой парчи или японского шелка. Экипажи, открытые четырехдверные повозки с izvoshchiks в униформе, стояли у обочин, ожидая клиентов, которые могли выйти из гостиниц, ресторанов, магазинов и контор. В те дни извозчиков было больше, чем пассажиров. В наше время стало много такси, и практически любой может воспользоваться ими. Я даже видел, как женщины из рабочего класса с пятью детьми останавливали машины в Лондоне. Улицы Одессы уходили в бесконечность. Когда мы мельком увидели море в проходе между двумя высокими зданиями, я уже почти вымотался. Затем мы поднялись по лестнице на железнодорожный мост и увидели гавань – зеленую воду и множество кораблей. Я лишился дара речи. Шура решил, что я разочарован увиденным. – Подожди, пока не увидишь все остальное. Вот там прогулочные шлюпки. Оглянись. Я замер, изучая изогнутую линию огромного каменного мола, который тянулся, как мне показалось, на многие мили к морю. Я посмотрел дальше, в сторону горизонта, уходящего в бесконечность, широкого и бескрайнего, как степь. Весь остальной мир внезапно стал очень далеким и в то же время более реальным. За горизонтом находились Китай, Америка, Англия, а корабли, среди которых были и военные суда, могли увезти меня в эти дальние страны. Я видел, как небольшие буксиры пересекали гавань с тяжелым пыхтением, вспенивая зеленую воду; видел, как лениво поднимался дым над большими лайнерами; видел красные корпуса наемных грузовых пароходов; и над всем этим простиралась сверкающая сеть подъемных кранов и вышек. – Наверное, – сказал Шура, – я уже привык. Я вырос здесь, поэтому так люблю все это. – Он зашагал вперед по мосту. – Мы спустимся по лестнице. Тебя это должно впечатлить. А потом можем проехать на трамвае к Фонтану[52] или пойдем к лиманам. Ты слышал о лиманах? Я знал о соленых озерах Одессы, куда богачи ездили поправлять здоровье, но не испытывал никакого желания осматривать их. Мне хотелось просто стоять на этом мосту, в то время как поезда проносились взад и вперед у меня под ногами, от центральной железнодорожной станции к гавани иобратно; хотелось мечтать о Шанхае, Сан-Франциско и Ливерпуле, о которых никогда не мечтал прежде. Я не желал никуда идти, пока Шура не потащил меня вперед. – Знаешь, есть еще много чего интересного. В тот момент я не хотел разговаривать и переубеждать его и позволил отвести меня вниз, в гавань, мимо ангаров, складов и величественных труб огромных кораблей, мимо еще одного мола и совсем другой гавани (в Одессе их было много), мимо занятных машин, осуществлявших разгрузку и погрузку, починку и бункеровку, мимо магазинов, торговавших инструментами и провиантом. Наконец прибрежная дорога стала бульваром, деревья и окрашенные в зеленый цвет железные ограды пришли на смену подъемным кранам, и теперь можно было разглядеть другую гавань, куда приплывали маленькие шлюпки и быстрые пароходы. Шура привел меня к подножию знаменитой гранитной лестницы, к месту, где снимался тот жуткий эпизод из большевистского фильма «Броненосец Потемкин»[53]. Мне это сооружение показалось лестницей в небеса. Позади нас была церковь Святого Николая с огромным золотым куполом. Я хотел продолжить прогулку по гавани, но Шура настоял на том, что нам следует свернуть к лестнице. С правой стороны располагалась маленькая касса; мы заплатили четыре копейки за двоих и разместились в небольшом вагончике фуникулера. Как только сторож решил, что пассажиров собралось достаточно для подъема, мы начали движение вверх по склону. По мере того как мы приближались к вершине, море становилось зеленее, а горизонт – шире. Наконец мы оказались на залитом солнцем, восхитительном Николаевском бульваре. Здесь, как сообщил Шура, летом можно встретить самых модных обитателей Одессы. На бульваре находились рестораны и гостиницы, обращенные фасадами к морю. Внизу раскинулась Угольная гавань, в которой расположились два фрегата и канонерская лодка Императорского флота, украшенные яркими вымпелами. С одной стороны от нас располагались неоклассические здания, с другой – деревья городского сада. Мы слышали, как играет оркестр. Частные экипажи приезжали и уезжали. Изящные леди и джентльмены прогуливались по бульвару. Шум гавани звучал приглушенно, почти нежно. Я был очень рад, что надел костюм Вани, потому что все кругом было светлым: белые шелка, страусиные перья, бледные сюртуки и кремовые мундиры. Лестница и впрямь вела в небеса. – Теперь мы снова спустимся вниз. Шура взял меня за руку. Мы медленно пошли вниз мимо продавцов сувениров, торговцев газетами, лотков с игрушками и фотографиями. Шура купил нам мороженого и указал далеко вправо. Там находился Фонтан, а вокруг раскинулись летние дачи и парки. Можно было повернуться в одну сторону и посмотреть на море, повернуться в другую – и окинуть взглядом степь. Но «самая богатая пожива» была слева от нас – там, где находились лиманы и курорты. – Там полно глупых старых дам, которым совершенно нечего делать; целыми днями они только обналичивают чеки или просят кого-то этим заниматься. Рядом еще есть казино. У меня там друзья. Мы как-нибудь вечером сходим туда. Вдалеке виднелись роскошные здания, церкви и памятники (в Одессе их было множество) и участки, скрытые зеленью. – Там живут настоящие богатеи. Сидят в своих неприступных крепостях и уязвимы, лишь когда прогуливаются по Никитской или отправляются за покупками к Вагнеру[54]. Я не совсем понимал, о чем говорил Шура. Неужели завидовал богатым? Сочувствовал революционерам? Но он никогда в открытую об этом не упоминал. Возможно, так думали и говорили все одесситы? Шура повел меня обратно в город. Я надеялся позавтракать в одном из маленьких кафе с видом на гавань. Шура сказал, что там слишком дорого. Да и кормили там плохо. – Пойдем в одно место, где я постоянно бываю, познакомишься с моими друзьями. Эта перспектива меня встревожила. Обычно мне не слишком-то удавалось сходиться с людьми. Но теперь я стал гораздо спокойнее. Я шагал рядом с Шурой сквозь розоватые солнечные лучи, восхищаясь всеми подряд рекламными объявлениями, даже теми, что призывали вступать в армию. Большинство иностранных надписей было на знакомых мне языках, за исключением нескольких греческих и азиатских; мне они казались бессмысленными, несмотря на приобретенное на Подоле поверхностное знание иврита. Одесса казалась одновременно и древним, и современным городом. Подобно Нью-Йорку, она объединила все нации в одну. Улицы наводнили толпы солдат и матросов из гавани – встречались французы, итальянцы, греки, японцы, турецкие моряки, главным образом с торговых судов, а также англичане разных чинов и званий. Турки и японцы держались вместе большими группами. Их считали ближайшими союзниками немцев в городе, в котором военные события переживали достаточно остро. Мы находились неподалеку от Галицийского фронта и после наших первых успехов в Восточной Пруссии столкнулись с трудностями. Город был, по словам Шуры, «слегка переполнен», но это позволяло местным жителям успешно вести дела. Черный рынок быстро развивался; шлюхи «обслуживали трех клиентов разом. Они сразу принимали бы и четверых, имей пупки побольше». Я тогда еще оставался настолько невинным, что совершенно не понял смысла его слов. Мы протолкались сквозь группу французов, которые были сбиты с толку куда сильнее, чем я. Благодаря Шуре я начал чувствовать себя так, будто всегда жил в Одессе. Мы, рискуя жизнью, проскочили перед звеневшими трамваями, заставив лошадей подняться на дыбы; на нас гневно кричали старые дамы – а мы просто потешались над этим. Мы глазели на переполненные витрины «Английского магазина» Вагнера и флиртовали с цветочницами, потом покинули шумные парадные улицы и скрылись в лабиринте маленьких переулков. Здесь находилось гетто. Крошечные лавки торговали подержанной обувью и инструментами; еврейские мясники и пекари развешивали объявления на идиш; ателье, похоронные бюро и заведения, где совершались обрезания (мы называли их еврейскими пивнушками), располагались рядом. Я увидел и выстиранное белье, и вопящих детей, и говорливых старух, и одетых в черное торговцев-хасидов, и раввинов, и нищих, и невообразимую смесь барахла, консервов, резного дерева, немецких игрушек, готовой одежды, скобяных товаров, домашней птицы, рыбацких снастей, музыкальных инструментов, готовящейся еды – такого я ни раньше, ни позже не встречал. Как и сами евреи, этот район и отталкивал, и привлекал одновременно, он казался страшным и романтичным, спокойным и тревожным. Если бы я был один, никогда не посмел бы зайти туда. Шура свернул в темный маленький подвал, поманив меня за собой. Миновав разбитую дверь, мы оказались в шумном, дымном полумраке кабака. Стены украшали старые рекламы туристических контор, исписанные язвительными комментариями. На полу виднелись остатки красивой кафельной плитки. В дальнем конце помещения располагался облицованный плиткой прилавок с жутким самоваром и двумя кувшинами с водкой или гренадином. За ним сидел древний бородатый еврей, опустив руку на железную кассу и сохраняя на лице неизменное выражение одновременно свирепости и добродушия. Он был одет практически во все черное, за исключением серой рубашки без воротника, его жилет был наглухо застегнут, несмотря на дым и жару. Шура фамильярно приветствовал еврея, но не дождался никакого ответа, за исключением легкого кивка. В помещении находились женщины и девушки, а также юноши и взрослые мужчины, одетые на роскошный одесский манер. Все ели одно и то же – жирный bortsch, ножки ягненка (клефтико), шашлык в жирном соусе, с макаронами и черным хлебом. Также на столах стояли блюда с салатом из перца, соленых огурцов и помидоров. Возможно, что-то еще подавалось в заведении «У лохматого Эзо», как его называли, но я никогда не видел, чтобы это ели, и не мог набраться храбрости, чтобы заказать. Надменная, с тонкими чертами лица, черноглазая еврейка принесла нам с Шурой тарелки с борщом и немного хлеба почти сразу же, как только мы нашли свободные места. Я немного нервничал; моей матери всегда не нравилось, если я связывался с евреями, но они, казалось, принимали меня с большой охотой, и я был готов жить и дать жить другим. В самом деле, надо сказать, среди одесских евреев, ни на кого не похожих, я чувствовал себя почти как дома. Около прилавка, поставив одну ногу на скамью, аккордеонист наигрывал модные песни об известных актерах и актрисах, о Распутине, о наших поражениях и победах на войне, о местных знаменитостях (эти песни были самыми популярными, но непонятными для меня). Эти песни встревожили меня гораздо больше, чем здешнее общество. Некоторые куплеты казались очень радикальными. Я прошептал Шуре, что в кабак, вероятно, скоро явится полиция. Шура расхохотался. – Кабак под Мишей, – сообщил он мне. – А Миша главный на Слободке. Никто: ни армия, ни полиция, ни сам царь – не посмеет совершить налет на Эзо. Только сам Миша, но зачем ему это? Он ведь один из владельцев этого заведения. Я поинтересовался, кто такой Миша. Несколько посетителей услышали вопрос и похлопали меня по плечам. – Спроси еще, кто такой Бог! – сказал один из них. Я узнал, что речь шла о скандально известном местном бандите, одесском Аль Капоне, известном как Миша Япончик. У него в банде было якобы пять тысяч человек, и власти предпочитали вести с ним переговоры, нежели угрожать ему. Почти все в Одессе имели прозвища. Меня Шура представил как Макса Гетмана из-за того, что я рассказал ему в поезде о своей казачьей крови. – Он киевский гетман, – пояснил Шура. Хотя Шура преподнес это как шутку, его друзья все равно посмотрели на меня с уважением. Я понял, что меня приняли. Еще несколькими днями ранее я бы испугался, оказавшись в компании богемы, но теперь начал учиться одесской терпимости. Я решил не судить об окружающих по внешнему виду – так же, как они не судили обо мне. Шура ловко пользовался своими преимуществами и умело использовал всех вокруг. Он восхищался и вызывал восхищение. Кузен был в большом фаворе у взрослых завсегдатаев Эзо. У него имелось множество друзей-ровесников, и он гордился ими: – Это Витя Скрипач, он когда-нибудь станет великим музыкантом. Это Исаак Якобович, самый ловкий зазывала на рынке. Это Малышка Граня, тебе нужно посмотреть, как она танцует. Познакомься с Борей – он ничего не видит без очков, но числа слушаются его; все хотят, чтобы он занимался их счетами… Вот Лева, он живописец получше Мане, попроси, чтобы он пригласил тебя в гости… Купи картину, если сможешь… У него там такие холсты! Новый Шагал! По словам Шуры, все были героями и героинями, и хотя он говорил шутя и никогда не относился к своим словам серьезно, все-таки мог возвеличить самого что ни на есть обычного человека и воодушевить его. Еще до конца завтрака я сам превратился в великого изобретателя, ожидающего патентов на дюжину различных машин, получившего десять золотых медалей от академии и уже готового пожинать плоды успеха в Петербурге. Я начал в это верить. По крайней мере, я верил Шуре. Он всегда оставался оптимистом. Я опьянел от водки и гренадина и от общества девиц в ярких блузах и юбках, с густыми темными волосами, нежными восточными глазами, громким смехом и быстрым, мягким, почти неразборчивым говором. Мир теперь не был ограничен домашними делами и учебой. В нем нашлось место развлечениям и радостям. Я начал смеяться. Я пытался подпевать, моя рука обвилась вокруг толстой дамы, от которой пахло одеколоном и грузинским вином; она любезно подсказывала мне слова. Подпевая, я заметил: кто-то указывает рукой в нашу сторону. Мужчина в костюме в тонкую полоску, в желтом жилете, в желтом галстуке-бабочке, в желтых с белым ботинках остановился в дверном проеме, поглаживая пальцем усы. Он казался неуверенным в себе и в то же время необычайно высокомерным. Он походил на короля, оказавшегося рядом с простолюдинами, который сам не мог понять, как следует себя вести. Мужчина прошел между столами, приблизился к Шуре и вежливо заговорил на идеально правильном русском. Я повернул голову и предположил, что он француз. Он еле заметно улыбнулся и ответил, что это правда. Мы обменялись несколькими фразами. Потом мужчина обратился к Шуре: – Я все еще интересуюсь зубными протезами. Их сейчас в Париже не найти. – Идет война, сейчас все в дефиците, месье Ставицкий, – рассмеялся Шура. – В прошлом году вы занимались экспортом, теперь перешли на импорт. Вы увидите, что с голландцем легко иметь дело. Он сам заинтересован, и у него большие связи. – Как его найти? – спросил Ставицкий. – Позвольте мне устроить встречу. Он не любит, когда приходят к нему в операционную. Есть на чем записать? Ставицкий вытащил отделанную серебром записную книжку. Шура взял карандаш и написал там несколько слов. – Увидимся там около шести. Я вас не подведу. Ставицкий стиснул плечо Шуры: – Знаю. Я слышал, что голландец в деле. Когда Ставицкий ушел, я спросил про дантиста: я чувствовал приступы зубной боли уже давно, возможно, что-то случилось с коренным зубом. Шура улыбнулся: – Вся семья к нему ходит. Если болят зубы, надо его навестить. Услуги дантиста стоят дорого, но у нас совместные дела, так что можно договориться подешевле. Но лучше в Одессе никого нет. Мы можем как-нибудь сходить к нему вместе. Идеальный предлог. Я сказал, что, если зубная боль усилится, я воспользуюсь Шуриным предложением. Связи моего семейства преодолевали все социальные барьеры. В Англии или Америке это было обычным делом, но в России в 1914 году существовало бесчисленное множество замкнутых каст. Они могли пересекаться лишь в богемных или интеллектуальных кругах, но даже здесь присутствовала некоторая натянутость. Вот почему, мне кажется, заведение Эзо в Слободке произвело на меня столь сильное впечатление. Больше никогда я не чувствовал такого товарищества. Несомненно, я ощутил это, потому что не знал механизмов, управлявших отношениями между людьми, встречавшимися у Эзо. Я был, попросту говоря, невинен. Тем не менее я отбросил предвзятость и предубеждение в одно мгновение. Здравый смысл не посещал меня все те несколько месяцев, что я провел в Одессе. – Он голландец, – добавил Шура, – хотя я могу поклясться, что на самом деле – гунн. Надеюсь, никто об этом не узнает. – Ты хочешь сказать, что он шпион? – Я внимательно читал газеты. – Это мысль. – Шура усмехнулся. – Но я не совсем это имел в виду. Идем, у нас есть время прогуляться к Фонтану. Тебе нужно немного осмотреться, а я смогу подышать свежим воздухом. – Я лучше бы остался здесь, – ответил я. Шуру это обрадовало. – Можешь приходить сюда, когда захочешь, – теперь все знают, что ты – мой друг. Когда мы уходили, все пели шуточную песенку о китайце, который влюбился в русскую девушку и, не добившись взаимности, сжег дотла ее дом. Это на самом деле недавно случилось в Севастополе. Китайцам в России всегда не доверяли. Ирония, конечно, заключалась в том, что они трудились рука об руку с евреями в годы революции: евреи действовали умом, китайцы – силой. Нашу славянскую настороженность по отношению к азиатам легко объяснить: ведь они пытались вторгнуться на нашу территорию многие сотни, если не тысячи, лет. Шура повел меня к остановке трамвая, расположенной на тихой широкой улице. В конце концов мы сели на трамвай номер шестнадцать, который шел к Малому Фонтану[55]. Шура, устроившись на переднем сиденье, показывал мне достопримечательности, ни одной из которых я не запомнил. Я хорошо помню номера трамваев и имена людей, но в моей памяти не остается никаких сведений о соборах и музеях. Мы оставили позади длинные прямые улицы и оказались на открытой местности. Вдали было бескрайнее изумрудное море. Шура сказал, что у нас нет времени. Мы сели на открытый трамвайчик до Аркадии и отправились обратно. Кузен обещал привести меня домой к ужину, а в шесть у него были какие-то дела. Я с невинным видом поинтересовался, чем он занимается. Вероятно, я смутил его, но он никак этого не выдал: – Я все для всех устраиваю. Но работаю в основном на семью. – На дядю Сеню? – Верно. Чтобы торговать, ему нужна информация. Я своего рода связной. Я понимал, что связи Шуры могли оказаться полезными для делового человека, желающего быть в курсе событий. Мое восхищение усилилось, когда я понял, насколько прагматичен дядя Сеня. Вместо того чтобы принудить Шуру заниматься обычной работой в конторе, он платил ему, чтобы тот налаживал связи с людьми, с которыми дядя Сеня по какой-то причине не мог иметь дело лично. С людьми, которые не поверили бы ему, даже если бы он все-таки решился подойти к ним. Я спросил Шуру, как он впервые попал к Эзо. Оказалось, что случайно; он вырос в том районе. Ему приходилось самому зарабатывать на жизнь в течение многих лет. Мать Шуры, как и моя, была вдовой. Когда ему исполнилось десять, она сбежала в Варшаву вместе с торговцем оружием, должно быть, решила, как выразился Шура, что он уже достаточно взрослый, чтобы жить самостоятельно. Я посочувствовал, но он усмехнулся и потрепал меня по руке: «Не волнуйся обо мне, малыш. Я ее содержал. А когда она исчезла, стал богачом». Я не стал упоминать о дяде Сене. Было очевидно, что он пожалел Шуру точно так же, как пожалел меня. Он в полной мере использовал Шурины таланты и таким же образом собирался использовать мои. Проходя мимо парков и лужаек, деревьев и datchas близ Фонтана, мы вдыхали аромат отцветающих акаций. Ровные пляжи; скалы, поросшие желтой травой, цветом напоминавшей яичницу-болтунью; белые готические особняки промышленников; более скромные дома людей, приехавших в Одессу для поправки здоровья. «Здесь, кстати, жили и знаменитые художники», – сообщил Шура. Мы расстались на площади, перед домом дяди Сени. Кузен не хотел опаздывать на назначенную встречу. Было уже около пяти. У меня оставалось время, чтобы вымыться и переодеться во что-то более привычное. Я перебросился парой слов с Вандой и спросил, когда мы будем есть. Она сказала, что около шести. Я мог спуститься на первый этаж, если пожелаю, и встретиться с тетей Женей. Окно уже не привлекало меня, как утром, поэтому я решил согласиться на предложение Ванды. Я постучал в дверь комнаты. До меня донеслось приятное воркование тетушки, которая приглашала войти. Комната была залита светом с улицы. Здесь находились книги, журналы и газеты, растения в горшках, фотографии и глубокие кресла. Зеркало с многочисленными открытками, прикрепленными к раме, главным образом от Вани, висело над модной этажеркой в стиле ар-нуво. Я увидел и картины на стенах, в основном романтические пейзажи украинской деревни. Тетя Женя отложила свою книгу, предложила мне сесть в одно из удобных кресел напротив нее (в комнате не было печи, зато у дальней стены и окна стояли обогреватели) и спросила, понравилась ли мне Одесса. За исключением нескольких эпизодов, которые могли ее встревожить, я рассказал тете обо всем, что увидел, в том числе и о поездке на трамвае к Фонтану. Тетя Женя согласилась, что там очень красиво, что она сама туда переедет, если Бог даст. В этом районе изначально располагался источник, снабжавший всю Одессу водой. Теперь половина домов зимой пустовала. Это началось еще во времена тетушкиного детства – все больше и больше домов отпираются только летом. По ее словам, там стало слишком много ресторанов и увеселительных садов. – Ты видел Аркадию? – Да, – ответил я. – Это ужасное место, – сказала тетя. Прозвенел гонг. Она со вздохом встала. – Пора обедать. У Фонтана слишком много детей летом и слишком мало зимой, в то время как у лиманов на другом конце города обитают только старухи, пытающиеся продлить себе жизнь на несколько мучительных месяцев. Подобные женщины ищут бессмертия в грязевых ваннах или в монашеских кельях. Выбор не слишком богат. Я задумался, не относится ли это и к Распутину. Одесситы, несмотря на то что были окружены осведомителями, рассуждали на удивление свободно. Дядя Сеня переоделся к обеду в темный костюм, и на пальцах у него больше не было чернильных пятен. Ванда подала нам еду, а затем тоже села за стол. Дядя Сеня некоторое время говорил о грузах и накладных, наслаждаясь восхитительной холодной yushka. Когда Ванда отправилась за маринованной селедкой, он пожаловался на московских мошенников, задешево купивших у него несколько бочек маслин. К тому времени, когда мы перешли к основному блюду, отварной говядине с хреном и картофелем в масле, он достаточно смягчился, чтобы перейти к рассуждениям о ходе войны. Я не мог сосредоточиться на словах деда, потому что был поражен обилием еды. Одно блюдо следовало за другим. Я думал, что наелся супом. Потом нашлось место и для сельди. Теперь мне следовало управиться с говядиной. Я впервые в жизни волновался из-за того, что еды слишком много. Но, судя по тому, как дядя Сеня отнесся к обеду, это была самая обычная трапеза. – Ты устал, – сказала мне тетя Женя. – У тебя совсем нет аппетита. Ты переволновался? Я кивнул. В тот момент я не мог говорить. Мне казалось, что если я открою рот, картофель вывалится наружу. Но случилось кое-что похуже. Дядя Сеня прекратил говорить о военных возможностях немцев и их превосходстве в оружии и спросил меня: – Чем ты сегодня занимался? Я поперхнулся. Дядя Сеня спокойно улыбнулся: – Надеюсь, что Шура не научил тебя ничему дурному. Я предупредил его, что ты вырос в приличной семье и в Киеве жил в уединении. Он не водил тебя в то казино? Я энергично затряс головой, опасаясь, что Шуру обвинят уже потому, что я слишком испуган, чтобы отвечать. – Или в тот дом… Как зовут девушку? – Мы ходили в гавань, – ответил я. – И к Фонтану. – Да… – Дядя Сеня, казалось, был почти разочарован. – Так ты видел море? – Мм… – Я все никак не мог справиться с картошкой. – Впервые в жизни. – К нему быстро привыкаешь. И все же, живя на берегу океана, как мы, гораздо проще сохранять остроту ума. Не только благодаря бодрящему воздуху, конечно, но особому мироощущению. Чувству перспективы. Кроме того, здесь можно ощутить собственную уязвимость. Нас одолевают стихии, не говоря уже о наших собратьях, людях. – Он явно наслаждался. – Мы, городские жители, склонны забывать, что смертны. Но море напоминает нам об этом. Из него мы вышли и в него возвратимся. – Перед ним поставили компот. – Море – наша колыбель. Так я впервые столкнулся с умеренным пантеизмом дяди Сени. Тогда мне показалось, что он излагает нечто вроде эволюционной теории. После обеда дядя Сеня удалился в свой кабинет, а я остался с тетей Женей и Вандой и начал читать научную статью в «Знании»[56]. Этот журнал, считавшийся радикальным, у нас дома был под запретом, а здесь я обнаружил несколько номеров. В каждом имелись статьи, которые могли бы меня заинтересовать, но сегодня я был переполнен свежими впечатлениями. Прочитав пару абзацев, я обнаруживал, что думаю о теплых телах и смеющихся ртах, о непристойных песнях и дружеском обществе. И вот ощущение причастности к чему-то большому полностью овладело мной. Одесса была самой жизнью, и эта жизнь легко меня приняла. Возможно, сейчас мне следовало бы совсем по-другому относиться к Шуре – но я не могу. Полагаю, он делал все возможное, чтобы познакомить меня с миром, который нежно любил и который, по его мнению, мог полюбить и я. Я был счастлив здесь в течение нескольких месяцев, и мне очень жаль, что все закончилось. Я не оценил тогда великодушия кузена. Шура познакомил меня с Одессой в ее последние, славные, декадентские времена, до того как война, голод, революция и торжество буржуазии превратили Одессу в обычный портовый город, построенный для торговли, наполненный людьми, сбивающимися в серые толпы вокруг автострад, эстакад и обводных каналов. Он показал мне упадок, а я увидел лишь жизнь, красоту и дружелюбие. Этот плод созрел под жарким солнцем Одессы. Возможно, он начинал гнить – наступило последнее лето старого мира. Тетя Женя посмотрела на меня поверх страниц своего романа. Ей показалось, что я очень бледен. Она заметила, что мне следует позаботиться о себе ради матери, загореть под солнцем Аркадии, пока стоит хорошая погода, и ни в коем случае не шататься по темным закоулкам с Шуриными сомнительными приятелями. Я согласился, что немного устал, но о сне не могло быть и речи. Я пытался обдумать все свои впечатления разом. – Ты уснешь, – сказала она, – я дам тебе кое-что послушать. Она подошла к большому граммофону, то ли немецкому, то ли английскому, и спросила, есть ли у меня музыкальные пристрастия. Я сказал, что нет. У тети было очень много плотных черных пластинок с красивыми ярлыками; они как раз вошли в моду в те времена. Она поставила несколько оперных арий в исполнении Карузо (тогда я впервые услышал Пуччини и Верди), что-то из Моцарта, пару популярных песенок в исполнении самой модной тогда певицы (думаю, это была Иза Кремер[57]) и модное танго, которое, быть может, потому, что инструмент немного расстроился, звучало как-то необычно. Эта мелодия преследовала меня, когда я отправился спать, и преследует до сих пор. Я погрузился в глубокий сон сразу, как только лег.Глава четвертая
В последующие дни Шура познакомил меня со множеством новых удовольствий, против которых я был абсолютно беззащитен. Мать предостерегала меня о революционной опасности, но ничего не говорила о настоящих соблазнах Одессы: веселой, циничной компании вульгарных богемных одесситов, которые не проклинали ни Карла Маркса, ни царя, полагая, что их город – целый мир и нигде на Земле не может быть так красиво. Они во многом оказалась правы. Я очень быстро начал перенимать вкусы и манеры моих друзей. Жители России относились к одесситам так же, как жители Нью-Йорка – к калифорнийцам. Яркая одежда, которую мы носили, казалась вполне естественной, прекрасно сочетающейся с ярким светом, заливавшим город; она выглядела вульгарной лишь вдали от привычных мест. Случаи воровства в Одессе не воспринимались серьезно. Могло даже показаться, что собственность в этом городе уже стала общей; люди пытались завладеть как можно большим количеством вещей, но не обижались, если их обманывали и вынуждали с ними расстаться. Конечно, не все разделяли такую точку зрения. Встречались и люди иного склада, как правило, чиновники или приезжие, вроде напыщенных обитателей приморских особняков или отдыхающих, собиравшихся поплавать в море и позагорать. Женщины хотели флиртовать с моряками и нашими одесскими ребятами. У одесских парней были темные глаза, белые зубы и сияющие шарфы. Они носили разноцветные галстуки с булавками, рубашки с широкими манжетами и изысканными запонками, огромные кольца, вызывающие шляпы и гамаши цвета шоколада; жилеты у них были из желтого мохера или китайской парчи. Одесские девушки наряжались в шляпки с перьями и темные украинские шали, ослепительно-белые блузы и светлые широкие юбки. Они целыми днями, хихикая, стайками прогуливались по бульварам, а вечерами устраивались в парках, освещенных вереницами крошечных электрических ламп. И тогда в свете огромной одесской луны море становилось похожим на ртуть, столь же изменчивую и не поддающуюся описанию, как одесский характер; в это время аккордеоны и оркестры наигрывали модные мелодии и новые французские, американские, английские и даже немецкие песни. В толпе встречались солдаты и моряки, прогуливавшиеся с подружками; альфонсы, охотившиеся за женами или вдовами самодовольных торговцев; торговцы, наблюдавшие за девушками; карманники, мошенники, фотографы, шарманщики и продавцы открыток. Здесь также появлялись хасидские семьи, которые можно было опознать по темной одежде, платкам и прочим внешним признакам; они в равной мере раздражали всех, в том числе и еврейских торговцев. И все-таки этих фанатиков терпели здесь, как нигде более, несмотря на то что муниципалитет Одессы почти полностью состоял из членов черной сотни, которая начала погромы за десять лет до этого. Шура познакомил меня с девушками. Они расцеловали меня в щеки, назвали милашкой и душкой, но я‑то надеялся произвести на них совсем другое впечатление. Я учился понимать богатый, сложный одесский диалект и, поскольку уже знал несколько иностранных языков, скоро преуспел в этом. Эта способность, утраченная с возрастом, часто помогала мне. Когда дело касалось языка, я становился хамелеоном. Мои успехи очень радовали Шуру. Он отвел меня к лиманам, к тем удивительным темным, изумрудно-зеленым отмелям, полным грязи и полезных ископаемых. Большей частью они необитаемы: там носятся птичьи стаи и плавают рыбы, колышется тростник и под искрящейся, покрытой рябью поверхностью воды скользят странные тени. Но там, где рядами стоят огромные гостиницы, лиманы выглядят совсем иначе. Здесь я научился выполнять поручения богатых дам. Мы неплохо зарабатывали, потому что чаевые давали все участники сделок. Иногда мы подрабатывали в доках, где стояли судна: пароходы, парусные лодки, шхуны; они загружались и разгружались. Рыбу, фрукты, вино, ткани или даже уголь продавали зачастую прямо с пристани. Торговцы были повсюду; они платили за разную информацию. Шуру знали все, и я стал почти столь же известен под немного офранцуженной кличкой Гетман Макс. К тому же дружба с Шурой обеспечивала мне место в богемных кругах. Уже распространилась легенда, согласно которой я в Киеве был большим человеком. Скоро я уже мог свободно блуждать по району без сопровождения кузена и воспользовался этим, чтобы завести собственные знакомства. Однако я никогда не ходил без Шуры в доки. Этот серый мир железных дорог, кранов и изнуренных тяжеловозов казался опасным. Именно оттуда вышло множество революционеров. Между тем я пытался следовать желаниям моей матери – продолжал заниматься по вечерам, хотя они становились короче, поскольку мои дни были все длиннее, и пребывал на свежем воздухе достаточно, чтобы цвет моей кожи изменился; это успокаивало тетю. Дядя Сеня, казалось, ничего от меня не требовал, за исключением того, чтобы я слегка изучил мир, прежде чем вернуться к занятиям. Я был благодарен ему за философию и опыт, которые заставляли меня еще больше ценить образование. Но вино и эйфория не могли бесконечно поддерживать меня, и иногда мне приходилось проводить целые дни в постели, оправляясь от излишеств, к которым приводил чрезмерный энтузиазм. В один из таких дней ко мне явился усмехающийся Шура. – Слыхал, тебе нехорошо. Я же предупреждал тебя насчет того крепкого армянского вина, так? Кузен схватил один из моих журналов. Его губы зашевелились, когда он попытался прочитать по-немецки. – Что это такое? – Шура указал на статью о работе Одди над химическими изотопами[58]. Это было началом конца практической науки. Вместе с атомными теориями Бора, труды Одди скорее походили на безумные абстракции модернистских картин, авторы которых были представителями того же общества взаимного восхищения. Я объяснил Шуре, что это, скорее всего, ерунда. В ответ он рассмеялся и произнес: – Вижу. Ты здесь ничего не понимаешь, а? – Нечего тут понимать, – ответил я. – Что ты здесь делаешь? Шура почесал нос. – Я думал, что тебе захочется сегодня прогуляться в Аркадию. Надо найти тебе девчонку. – У меня нет сил, – ответил я. – Даже думать не могу. – Тебе нужен доктор. – Ерунда! Шура явно сочувствовал мне. Немного неохотно он вытащил что-то из кармана своего жилета. Отбросив шарф за плечо, он развернул сложенную газету и протянул мне листок. – Не сопи, Макс, не то сдуешь кучу денег. Я смотрел на кучку белого порошка, лежавшую на газетной бумаге. Это вещество напоминало лекарства от расстройства желудка или головной боли. – Что это? От похмелья? – Ага. Шура подошел к моему туалетному столику и аккуратно разложил на нем газетный лист. Потом вытащил из бумажника рублевую купюру и свернул ее в маленькую трубочку. Я был заинтригован и удивлен. – И что это значит? Кузен протянул мне свернутую купюру и газетный лист: – Ты знаешь, как это делается? – Нет. – Нужно втянуть это через нос. – Но что это? – Это кокаин. Он поможет тебе собраться с силами. Всем помогает. – Как лекарство? – Точно. В те дни мало кто знал о кокаине и пристрастии к нему. Продажа и употребление наркотика не были запрещены, но, слишком дорогой, он оставался развлечением для богачей. Нерешительно втягивая в ноздрю первые кристаллы, я не считал, что совершаю нечто дурное; я просто приобщался к еще одному удовольствию, до сих пор доступному лишь высшим классам. Сначала нос просто утратил чувствительность, и я испытал разочарование. Я сказал Шуре, что либо на меня порошок не действует, либо мне нужно больше. Он продолжал листать мои книги. Постепенно меня охватил восторг. Хороший кокаин не просто создает ощущение, что все тело переполняет жизнь, он одновременно рождает эстетическое чувство, любовь к самому наркотику, к миру, который создает такие чудеса, к себе и ко всем людям, исключительную веру в себя, утонченную чувствительность, глубокое понимание всех тайных пружин, управляющих Вселенной. Обычно кокаинисту, неважно, вводит ли он наркотик в вену или нюхает, непросто различать реальность и фантазию, управлять энергией, освобожденной наркотиком, но тогда я целиком и полностью подчинился новым ощущениям – точно так же, как подчинялся Шуре. Конечно, мне казалось, что я совершенно другой человек. – Действует превосходно, – сообщил я. – Чувствую себя в сто раз лучше. – Я так и знал. Пошли в Аркадию? Я подумал о симпатичных девушках, о прекрасном впечатлении, которое на них произведу. Я подумал об иностранцах, с которыми могу там встретиться и поговорить, об изобретениях, которые могу создать, просто лежа на песке. Я оделся в лучший Ванин костюм, дополнив его парой безделушек, которые уже успел себе купить. – Который час? Шура тряхнул головой и громко расхохотался: – О дружище Макс, с тобой не соскучишься. Сейчас около полудня. Мы сначала позавтракаем у Эзо. В Аркадию мы так и не попали. Вместо этого провели большую часть дня в кабаке, и я говорил обо всем, что знал, на всех языках, на каких только умел; о том, что собирался совершить. Самой внимательной слушательницей была маленькая Катя, на пару лет младше меня, но уже очень известная проститутка. Она, протянув свою крошечную теплую ручку, отвела меня, все еще не пришедшего в себя от кокаина, в какой-то переулок, в залитую солнцем комнату, из окна которой виднелись туманные холмы Молдаванки и Воронцовки и древние степи. Здесь Катя сняла с меня всю одежду и обнажила мое тело, любовалась им и ласкала его; затем разделась сама, легла на белую кровать и обучила трепетным радостям любви. С тех пор наркотические и сексуальные наслаждения неразрывно смешались в моем сознании. Я регулярно принимал наркотики всю свою жизнь и, кроме мелких неприятностей с носом, никаких отрицательных эффектов не обнаружил. Я не одобряю курения марихуаны и опиума, потому что они убивают ум и желание действовать, а это – важнейшие человеческие свойства. При этом я повидал немало людей, нуждающихся в кокаине, чтобы работать. Конечно, наркотиком можно злоупотребить – это относится, например, к большевикам и поп-звездам, – но то же самое можно сказать и о прочих земных дарах. После того, что произошло с Катей, я очень крепко заснул. На следующее утро, очнувшись, я увидел ее рядом, по-прежнему нежную, но настойчивую. Катя хотела, чтобы я ушел, – из-за меня она могла опоздать на работу. Я спросил, когда можно будет прийти к ней снова. Она ответила, что мы можем встретиться на следующий день, когда она закончит свои дела. Моим читателям это может показаться странным, но я не ревновал ее к клиентам. Я никогда не пытался анализировать свои чувства. Моя любовь к Кате, к ее маленькому, полудетскому телу, роскошным черным волосам, нежным и добрым глазам, тонким губам и пальцам, была одним из самых чистых чувств, которые я испытал в жизни. Даже видя ее с «приятелями», я сохранял дружеские чувства к ней. Несмотря на случившееся позже, не думаю, что хоть раз сталкивался с настолько гармоничными отношениями. Моя жизнь с госпожой Корнелиус оказалась куда сложнее, и ее отношение ко мне, по крайней мере поначалу, было в большей степени материнским. Моя первая встреча с Гонорией Корнелиус произошла через пару дней после моего первого сексуального опыта. Зубная боль усиливалась, и дядя Сеня решил, что я должен получить самое лучшее лечение. И снова прозвучало имя дантиста Корнелиуса. Чтобы вырвать зуб, Ванда повезла меня на Преображенскую, одну из самых роскошных улиц Одессы. Из-за развеселой жизни я побледнел, глаза налились кровью. Наверное, дядя Сеня предположил, что моя зубная боль могла оказаться симптомом чего-то более серьезного. Он не хотел брать на себя ответственность и сообщать матери о моем недуге. В шикарном авто (водитель оставался просто силуэтом на переднем сиденье) мы с Вандой проехали по туманным осенним улицам. Колеса ворошили шелестящие листья, которые казались золотыми в желтом морском тумане, приглушавшем все цвета осени, звуки судов в гавани и шум движения на центральных улицах. Мы миновали кладбище, облаченное в канареечный саван. Призрачные дамы в коричневых осенних пальто и шляпах и господа в темных одеяниях ожидали наступления зимы. К тому времени как такси выехало на длинную, прямую Преображенскую улицу, я чувствовал себя чрезвычайно солидным – в новом костюме, в белой рубашке с жестким воротничком и шейном платке; будто какой-нибудь граф отправился нанести визит принцу. Мой страх перед дантистом исчез – отчасти после soupçon[59] кокаина, принятой прямо перед отъездом, отчасти из-за ощущения собственной элегантности. Мы вышли из машины возле внушительного здания (оно располагалось неподалеку от театра и университета) как раз в тот момент, когда город утонул в лучах солнечного света. Мы вошли в холл и поднялись по изогнутой каменной лестнице прямо к двери, на которой висела медная табличка с надписью «X. Корнелиус, дантист». Нас ожидали, но в хорошо обставленном вестибюле находилась еще одна посетительница, очень модно одетая дама. Рукава ее платья были отделаны мутоном, а шляпу с маленькой вуалью украшали цветы и фрукты. От нее пахло дорогими духами. Как я теперь понимаю, она была ровесницей Ванды, но казалась какой-то нездешней и романтичной. Судя по всему, ее никто не ждал. По крайней мере, так утверждала регистраторша в приемной дантиста. Я не могу передать удивительный английский язык необычной леди, пусть попробует кто-нибудь другой. Она казалась очень уверенной в себе, когда стояла посреди комнаты, держа оранжево- розовый зонтик в одной руке и такой же ридикюль в другой. Девушка была одета почти во все розовое с редкими вкраплениями белого, а шляпка поражала настоящей радугой цветов. Казалось, что ожила картинка из одного из моих французских или английских журналов. Перья взметнулись, как шлейф какого-то короля-варвара, когда она обернулась и посмотрела на нас. У нее были светлые волосы (не слишком модные в те времена) и слегка накрашенное бледно-розовое лицо. Она улыбнулась нам сверху вниз, хотя была ненамного выше нас; возможно, именно так сама государыня могла бы снисходительно обратить на меня внимание. Девушка говорила по-английски, как я уже заметил; похоже, ее раздражала глупость регистраторши, которая обращалась к ней по-немецки, а затем по-французски. – Я го’орю ей: я тут, шоб ви’ить его. Я узнавал английские слова, хотя не вполне точно улавливал смысл сказанного. – Эта леди – англичанка, – сказал я девушке, похожей на сбитую с толку овчарку в своем переднике и форменном платье. Я снял шляпу. – Я могу вам помочь, мадемуазель? Английская леди пришла в восторг. Казалось, она расслабилась. – ’Кажите той ’лупой к’рове, – попросила она, – шо я тут, шобы ви’ить маво кузена Эйч… миста Корнелиса. Я мысс Гонория Корнелис, к’торую он ’спомнит, – та маль’кая де’ачка, к’торую он када-то держал на к’ленях. У м’ня непрятности, мне б пого’орить с им с глазу на глаз. – Вас не интересуют услуги дантиста, мадемуазель? – Шо? Я как сейчас помню ее речь, сбивавшую меня с толку. Девушка добавила: – Еще раз? – Судя по всему, она меня не поняла. – У вас нет проблем с зубами? – Ка’ого черта! Сверкаат как жемчуга и кречче ж’леза. Думать, я ст’руха? Я постарался как можно медленнее и доходчивее объяснить регистраторше по-русски. – Эта леди – родственница его превосходительства, дантиста. Ее зовут госпожа Корнелиус. Она, кажется, его кузина. Девушка успокоилась, улыбнулась и сопроводила английскую леди в другую, еще более роскошную комнату. Сказав мне: «’Пасибо те, Иван», – госпожа Корнелиус исчезла. Намного позже я выяснил, что дантист на самом деле не был ее родственником. Она увидела его фамилию в Бедекере в ближайшем книжном магазине и решила навестить. Мисс Корнелиус путешествовала с персидским аристократом, известным плейбоем тех лет. Они остановились в номере гостиницы «Центральная», но слегка разошлись во взглядах, и ее друг уплыл первым пароходом, оплатив счет только до утра. Она ни слова не знала по-русски, но попыталась справиться с ситуацией. Гонория была мне очень признательна, потому что это был ее последний шанс, и поэтому сразу узнала меня, когда мы встретились снова. Она потеряла надежду отыскать кого-то, говорящего по-английски, в Одессе, и я оказался «находкой», хотя, с ее точки зрения, и «говорил, как жалкая книга». После ухода Гонории мы с Вандой сели; об английской леди напоминал лишь аромат ее духов. Меня пригласили в кабинет. Ванда по-прежнему сопровождала меня. Полагаю, ей очень хотелось увидеть рабочее место дантиста. Красивый мужчина средних лет, бормотавший что-то, насколько я понял, по-голландски, заглянул мне в рот, цокнул языком, опустил маску на мое лицо и попросил регистраторшу повернуть клапан на ближайшем баллоне. Аромат духов сменился странным запахом. Я вдохнул газ. Послышалось странное жужжание – жжж-у, жжж-у – и перед глазами завертелись черно-белые круги. Я почувствовал слабость, мне привиделись Зоя, Ванда и маленькая Эсме, а потом теплое, нежное тело моей Кати. Все девушки были одеты в оранжево-розовые костюмы английской леди, кузины Хенрика – или Ханса? или Хендрика? – Корнелиуса. Я помню, что уходил, чувствуя пустоту во рту и пульсирующую боль в голове. Когда я спросил, что случилось с мадемуазельКорнелиус, Ванда захихикала: – Ее кузен, кажется, был только рад ей помочь! Я успокоился. Регулярно принимая кокаин, я мог продолжать заниматься и вести свою новую, полную приключений жизнь, а также встречаться с Катей. В конце концов я влюбился в нее почти так же сильно, как когда-то – в Зою. Каникулы, казалось, никогда не закончатся. Дядя Сеня уверял, что я могу оставаться, пока мое место в политехническом не будет окончательно устроено. Когда это произойдет, никто не знал. Иногда я бодрствовал по двадцать часов в сутки. А случалось, не ложился спать вообще. Письма матери были формальными и оптимистичными. При этом моя жизнь не ограничивалась одними только приключениями. Мы с дядей Сеней регулярно посещали театр и оперу, как правило, вдвоем. Он оставался удивительно терпеливым хозяином. Тетя Женя все сильнее беспокоилась обо мне – она догадывалась, не без оснований, что я переусердствовал. Но дядя Сеня за обедом обычно смеялся, говоря: – Им нужно перебеситься, Женя. Эти слова не совсем соответствовали его положению в обществе (высокопоставленные чиновники неоднократно обедали у нас, и тогда мы с Вандой ели на кухне вместе с поваром). Конечно, жизнь среди любящей удовольствия одесской богемы не была лишена проблем. Почти каждый день случались драки. Чаще всего мне удавалось избегать неприятностей, занимая мирную или нейтральную позицию (это стало моей второй натурой) или, наоборот, выражая свое мнение предельно ясно и резко. Но я не всегда мог избегать встреч с революционерами, от которых меня предостерегала мать. Чаще всего я мчался прочь, лишь только разговор касался политики, хотя такое поведение считалось непочтительным. Когда все узнали о моих научных опытах и инженерных навыках, вокруг меня начали увиваться разные социалисты. Был один негодяй, от которого я ожидал неприятностей в любую минуту: угрюмый и сосредоточенный на самом себе грузин в отпуске, как он выражался, из Сибири. Он хотел, чтобы я сделал несколько бомб для нападения, которое он собирался устроить в почтовом поезде Одесса – Тифлис. Я содрогался от ужаса при одной мысли о том, что нас подслушают, уже не говоря о возможном участии в деле. Моя мать умерла бы, узнав об этом. Но я не мог просто уйти от него. Этого зловещего бандита с удивительным именем Со-Со природа наделила низким, убедительным голосом и горящими глазами, которые выделялись на его давно не бритом, рябом лице. Учитывая это, я не мог не общаться с ним по крайней мере вежливо. Я пообещал заняться созданием бомб. При следующей встрече я собирался пожаловаться, что невозможно раздобыть материалы. Мне казалось, что будет вполне разумно вернуться в таверну в назначенный день, но, к моему великому облегчению, грузина там не оказалось. Больше мы никогда не встречались. Возможно, его арестовали. Возможно, застрелили полицейские. Возможно даже, подобно человеку, который надул Мишу Япончика с какой-то партией морфия, он отправился на корм рыбам в Карантинной бухте. У воров с Молдаванки были свои, особые представления о чести. Любой не оправдавший доверия получал скорое и внезапное воздаяние; если бы царская полиция решилась действовать подобным способом, то мгновенно предотвратила бы разом все революции, как большевистские, так и прочие. Возможно даже, что турки спасли меня от ярости Со-Со. Буквально на следующий день, когда я лежал в постели рядом с Катей, моя дивная, мечтательная полудрема была прервана свистом, криками и звуком далекого взрыва. Я подумал, что произошел несчастный случай на одной из фабрик или взорвался корабль в гавани. Но крики и взрывы повторялись, и, когда мы с Катей спустились вниз, мой тощий приятель по кличке Никита Грек промчался по улице, крича, что немцы обстреливают город. Мы шагали в тумане, полагая, что оставаться в доме опасно, миновав крошечную, окруженную деревьями площадь, напоминавшую осенние пейзажи импрессионистов; и эта нереальная, чарующая смерть, неведомая нам до тех пор, свистя, кружилась над нами. Всех охватила паника. С ужасом я смотрел на испуганных людей, то появлявшихся, то исчезавших в тумане. Большинство атак было направлено на гавань и на корабли союзников, стоявшие там, и вскоре защита Одессы начала действовать. Основной ущерб немцы нанесли Пересыпи, фабричному приморскому району, где находились верфи. Нападение удалось отбить сравнительно легко. На следующее утро мы узнали, что город обстреляли турки. Турция официально еще не выступила против России. Несколько дней спустя мы объявили войну жестоким и коварным мусульманам. До этого налета я мечтал навсегда остаться в Одессе и поступить здесь в техническое училище, очень хорошее, хотя не настолько престижное, как в Санкт-Петербурге. Думаю, что дядя Сеня не стал бы возражать, если бы не та бомбардировка, которая показала, насколько уязвима Одесса. – Море достаточно ясно напомнило нам о смерти! – с чувством высказался он в тот вечер за столом. Впервые мне позволили присоединиться к нему и двум его гостям. Один оказался начальником местной полиции, другой – капитаном французского корабля, поврежденного во время обстрела. Дядя Сеня сказал, что очень сожалеет о том, что не может забрать всю семью в Киев или в Москву. Его коммерческие дела были настолько сложны, что он никому не мог их доверить. После этих слов начальник полиции рассмеялся. Дяде Сене это явно не понравилось, но он заставил себя улыбнуться и сказал, что подумывает заняться синематографом, который будет необходим людям в военное время. Все согласились, что это выгодное дело. В Америке на синематографах уже делались целые состояния. – Мне было бы полезно, – сказал дядя Сеня, – стать покровителем искусств – хотя бы одного. Он подумывал открыть театр, но в наши беспокойные времена вложения казались весьма сомнительными. А вот оборудование для синематографов можно было перевозить с места на место и устраивать сеансы в сараях, по ночам, под открытым небом в случае необходимости. Дядя представлял себя и тетю Женю во главе каравана, называя это цыганской жизнью на открытой дороге, с проектором и запасом фильмов, говорил о том, как они будут странствовать от города к городу. – Мы могли бы прославиться, делали бы людей счастливыми. – Люди и так всегда счастливы видеть вас, Семен Иосифович, – сказал начальник полиции. – Вы так много делаете для нашего города! – И для всего мира, – сказал капитан, сторонник интернационализма. – Вас знают в Марселе и Кардиффе. Я слышал, что люди говорят о вас. – Как, во Франции и в Англии? – Насколько мне известно. Дядя Сеня чрезвычайно обрадовался, услышав это. – Надеюсь, они считают меня честным торговцем! – О, разумеется, я уверен в этом! – Полицейский, кажется, изо всех сил боролся с приступом смеха. Меня до сих пор смущает подобный, если можно так сказать, юмор. Я с уважением относился к должности этого человека, но его красное, опухшее лицо, пегая бородка, хитрый взгляд показались мне весьма отталкивающими, особенно после того, как он выпил несколько бокалов вина. Капитан производил более приятное впечатление. У него были яркие зеленые глаза и загорелые обветренные щеки. Он вел себя осмотрительно и даже осторожно, как будто явился к обеду только из чувства долга или для того, чтобы обсудить дела с дядей Сеней. Возможно, грубость начальника полиции тоже его расстроила. На следующее утро я получил печальное письмо от Эсме. Ее отец заболел гриппом и в одночасье умер в больнице. Моя подруга писала, что у матери все хорошо, но она по мне скучает. Эсме пару раз ходила в театр с ней и капитаном Брауном. Они смотрели кино о войне. Я узнал, что наши солдаты бьют врагов на всех фронтах. Новости из Киева теперь казались совсем провинциальными. Я прочитал письмо с каким-то ощущением превосходства. Также Эсме написала, что решила стать медсестрой на фронте. Я ответил ей сразу, заметив, что это занятие идеально подойдет человеку ее склада и темперамента. Но прежде чем я отнес письмо на почту, дядя Сеня вызвал меня в свой кабинет. Он спросил, от кого письмо. Я ответил, что от Эсме, подруги детства. Казалось, дядя почувствовал облегчение. – Я думаю о том, стоит ли тебе оставаться в Одессе. Ты набрался опыта, вырос, повзрослел. По правде говоря, именно этого я и хотел. Ты не сумел бы выжить, держась за материнскую юбку… Я начал было защищать свою мать, но он жестом остановил меня: – Я не критикую бедную Елизавету Филипповну. Она много сделала для тебя. Гораздо больше, чем прочие члены нашей семьи для своих детей. У Вани немало достоинств, но я не могу гордиться им так, как она гордится тобой. Я покраснел от удовольствия. – Именно поэтому я боюсь, как бы ты не попал в беду. Потребуется еще немного времени, чтобы подступиться к нужным людям в Петербурге, но я думаю, что мы близки к успеху. Тебе, кстати, придется сфотографироваться. Пока не знаю, сможешь ли ты приступить к занятиям в январе, как мы планировали. Я думаю, как поступить: позволить тебе продолжить познавать жизнь в Одессе – я вижу, у тебя здесь много друзей, – или отправить тебя назад, в безопасный Киев? – Вы думаете, что обстрел повторится, Семен Иосифович? – Турки застали нас врасплох. Они не смогут этого повторить. Вероятно, все будет в порядке. Но твоя мать обо всем узнает. И как она к этому отнесется? – Естественно, она захочет, чтобы я вернулся домой. – А ты как думаешь, стоит тебе ехать? – Только в случае крайней необходимости. Я счастлив здесь. Дядя Сеня остался доволен. – Мы с Евгенией Михайловной говорили о том, как ты изменился, повеселел, стал более уверенным в себе. Я надеюсь, ты не откажешься мне помочь, когда приедешь в Питер. – Конечно, дядя. Почту за честь. – Что ж, теперь передо мной не мальчик, но муж. – Дядя Сеня нахмурился. – Ты должен быть осторожен с девушками, Макс. – Он уже не впервые называл меня так. – Бывают разные болезни. Ты о них знаешь? – Думаю, да. – Я очень хорошо знал об опасности венерических заболеваний, распространенных в портах вроде Одессы, и, по совету Кати, пользовался необходимыми средствами. Пока мне удавалось избегать серьезных проблем. – А ты был в казино? Я сознался, что был. Дядя Сеня развеселился: – Я любил казино. Весь трюк в том, чтобы никогда не играть на свои деньги. Придумай систему, а потом предложи кому-нибудь войти в долю за половину прибыли. Ты удивишься, обнаружив, сколько найдется желающих. Если выиграешь, они будут довольны и продолжат вкладывать средства. Если проиграешь… Ну, в общем, ты потеряешь их деньги, и придется признать, что система нуждается в усовершенствовании. Именно так я заработал свой начальный капитал. Такая откровенность меня удивила, даже потрясла. Но я понял, что дядя успокоился достаточно, чтобы дать мне совет как мужчина мужчине. Это свидетельствовало о том, что я достиг совершеннолетия – по крайней мере, с его точки зрения. Дядя Сеня призадумался, затем вздохнул. – Мы подумывали об эмиграции. Меньше года назад планировали переехать в Берлин к моему брату, а теперь вынуждены ждать и наблюдать, как пойдут дела. До меня дошел слух, что мы создали новый союз с немцами против турок. В Питере турок боятся не так сильно, как немцев. Нам нужно переехать поближе к центру. Возможно, в Харьков. В центре страны всегда немного безопасней. Но есть причины… – Он таинственно взмахнул рукой. – Давай посмотрим, что скажет твоя мать. Выражение его лица изменилось, он помрачнел, сказал что-то, как мне показалось, по-немецки, о евреях, но так неразборчиво, что понять было невозможно. Дядя Сеня подошел к столу, вытащил паспорт, задумчиво улыбнулся, а потом убрал документ обратно в ящик. Чувствуя, что мне дают даже больше свободы, чем прежде, и надеясь, что мать не встревожат новости о бомбардировке (хотя я знал, что она будет волноваться), я вернулся в свою комнату. Поддержав силы небольшой порцией кокаина, отправился к Кате, чтобы узнать, не пойдет ли она со мной к Эзо. Когда я добрался до ее обиталища над скобяной лавкой, мать Кати, тоже шлюха, занимавшая заднюю комнату на первом этаже, сказала, что моя подруга занята. С обычной предупредительностью я оставил записку и в одиночестве отправился в кабак. Я ожидал встретить там Шуру, но он был занят какими-то делами, и я увлекся беседой с парой танцоров из одного кабаре. Они только что вернулись с гастролей по провинции и сильно ругали Николаев, который описывали как «город с одним трамваем». Вскоре появился Шура. Он поприветствовал меня, стукнув по спине и хитро подмигнув: – Слышал, ты едешь в Питер. Я сказал, что это еще не решено окончательно. Шура заказал стакан чая и сделал большой глоток. Потом он кивнул. – Когда ты окажешься там, заведи дружбу с этими юными университетскими дамочками с хорошими связями, дочками богачей. Я говорил вчера с одной. Она проводит каникулы в особняке у Фонтана; я ей понравился. Ее отец, владелец фабрики в Херсоне, посоветовал мне убраться, когда заметил, как мы переглядываемся. Но он как раз тот, кто нам нужен, – промышленник, заинтересованный в твоих патентах. – Шура снова подмигнул. – Не предлагаешь ли ты мне сделать ставку? – спросил я. Шура рассмеялся: – Разве все это не жульничество, Максик, дорогой? А если война продлится вечно? И мир не изменится до конца наших дней? Нам нужно подумать о себе. Я разделял общее мнение, что Германия и Австро-Венгрия откусили гораздо больше, чем могли проглотить. Да и вся Габсбургская династия давно прогнила насквозь. – А ты не думаешь, что это касается и Романовых? В Одессе я услышал о скандалах в царском семействе гораздо больше, чем за всю свою жизнь. Мне пришлось согласиться, что дела шли плохо. Поговаривали, что царица и большая часть придворных были наркоманами. Все царские министры и командующие армиями брали взятки. В Одессе легко верилось в такое. Я не стал обсуждать скользкую тему, прежде всего из уважения к наставлениям матери, и просто сказал: – Россия достаточно сильна, чтобы справиться со всеми врагами. К нам присоединились несколько наших приятелей, только что появившихся в кабаке. – О, конечно, где же еще есть столько пушечного мяса! Когда парни и девушка уселись рядом с нами, Шура посмотрел в сторону стойки. Там молодая женщина под аккомпанемент аккордеона пела какую-то безумную песню. Она выглядела худой и нервной, в то время как ее друг-музыкант был огромным и грязным, как будто явился прямиком из какого-то убогого штетла; я читал о подобных местах, но, слава богу, никогда там не бывал. – Но, как говорили викинги, свободные люди лучше сражаются. Я сказал ему, что такой вещи, как свобода, не существует; на мой взгляд, это просто фантазия революционеров о рае. Он удивился. Никита Грек (от грека у него было только прозвище) сдвинул свою рабочую кепку на затылок и склонился над столом, изобразив одну из своих странных, угрожающих ухмылок. – Свободен только человек без души, – сказал он. – Можно прожить жизнь свободным, но лишь отказавшись от бессмертия. Я так думаю. Никита учился в семинарии до того, как сбежал из Херсона. Он добавил: – Нельзя сохранить и Бога, и свободу. Он повторил мою мысль. Я торжествующе обернулся к Шуре, но он утратил интерес к беседе и отвлекся. Кузен беззаботно грыз семечки и, не отрываясь, смотрел на истощенную певицу. За спиной у него Никита вытаращил глаза и сделал неприличный жест, как будто подчеркивая особый интерес Шуры к девушке. Я усмехнулся. Не раз мне приходилось вспоминать ту усмешку с горечью, но в тот момент я произнес: – Все, что сделали турки, должно еще раз напомнить нам о реальной опасности. Теперь мы будем сражаться как следует. Никто не сможет уничтожить Россию. Лева, художник, принес всем выпивку и поставил на стол. Он отбросил назад темные волосы, которые лезли ему в глаза. – То же говорили о Карфагене. Люди, вероятно, отвечали так: «Карфаген нерушим. Это одна из древнейших цивилизаций в мире». И взгляните, что случилось. Римляне все уничтожили за одну ночь. А почему? Из-за недостатка воображения. Они просто не задумывались о своей судьбе. Сделай они это, сегодня были бы здесь. – Они и так здесь, – сказал Боря Бухгалтер, протирая круглые очки. – Почему, думаешь, в Одессе так много семитов? Это новый Карфаген. – Скорее, новая Гоморра, – сказал Шура, оборачиваясь и допивая стакан чая. – Давайте возьмем водки. Он казался мрачным и не смотрел на меня. Я подумал, что он расстроился из-за нашего скорого расставания. – Ерунда, – сказал Никита, презрительно усмехнувшись. – Русские и евреи слишком наивны. В глубине души они все еще рабы. Мы ведем себя как дети, мы по-детски жестоки друг к другу, потому что и есть дети. А к нашим детям мы относимся… Граня, кудрявая танцовщица с лицом в форме сердечка, с этим не согласилась. Она неодобрительно вздохнула: – Никто не любит детей сильнее, чем русские! Боря с чувством произнес: – Казаки не слишком разборчивы, когда дело касается еврейских детей… – Думай, что говоришь, Беня, – с улыбкой предупредил его Лева. – У нас здесь настоящий казачий гетман. Все развеселились. – Мы – дети, – настаивал Никита, – любящие своих батек. А материалисты мы, потому что бедны, большинство из нас бедны, как дети. У нас нет власти, нет денег, нет справедливого суда, за исключением суда диктатора. Мы всегда ссоримся из-за имущества. Мы, должно быть, единственный народ в целом мире, приравнявший сентиментальность и лирику к эмоциональной зрелости. В нашей литературе полно деревьев и наивных героев. В русских романах деревьев гораздо больше, чем нужно, чтобы их напечатать. Я не думаю, что кто-нибудь из нас внимательно следил за странными рассуждениями Никиты, впервые изложившего тогда свои убеждения. Он стал журналистом в большевистской газете и исчез в середине 30‑х – об этом мне поведала его сестра, которую я однажды встретил в Берлине. Боря Бухгалтер, казалось, соглашался с Никитой. – Мы во власти безумных детей, – произнес он. – Русские сделают все что угодно, лишь бы не расти. Из-за этого ими очень легко управлять. – И именно поэтому мы можем проиграть войну, – обратился Шура к Боре, давая понять, что считает его мысль необычайно глубокой. Тот, получив поддержку, продолжил развивать тему: – Русские – многочисленная незрелая нация. Подобно романтическим юнцам, они считают себя взрослыми и впадают в сентиментальность, рассуждая об общих идеях вроде любви, смерти и природы. Мы рассмеялись так, как могут смеяться лишь сентиментальные юнцы, которые так и не смогли расстаться с подобными мыслями. Я пересказываю эти беседы не потому, что они были особенно глубоки, – они дают представление об идеях, которые владели умами одесситов в те дни. – Вот почему Толстой так нравится молодым и пылким, – заметил Боря. – Наташа – это Россия. Даже старейший и благороднейший седовласый герой – ребенок в душе. Иначе как можно с такой легкостью принять марксизм? Поскольку разговор зашел о политике, я, повинуясь инстинкту, встал из-за стола. Большинство евреев, подобно Боре, были радикалами; их следовало избегать. Марксисты, кропоткинцы, прудонисты – мне все равно. У них были симптомы болезни мозга, которая могла оказаться очень заразной, поскольку передавалась, как я сказал однажды об ипохондрии, в устной форме. К тому же я все еще боялся Со-Со. Стоит заговорить о дьяволе, и он тут же появится. Я было решил проверить, ушел ли Катин клиент, как она сама вошла в таверну, бросилась ко мне, обняла и поцеловала, но как-то необычно. Обстрел заставил многих из нас по-новому взглянуть на жизнь, и, возможно, поэтому мы стали придавать слишком большое значение некоторым отношениям. Шура пребывал в странном настроении. Он слишком недружелюбно встретил Катю, по-прежнему проявляя интерес к певице, которая все пищала странные еврейские песни, перекрывая шум нашей беседы. Принесли еще водки. Мы подняли тост за певицу. Боря потерял интерес к политике, когда явилась его толстая подружка. Она сообщила, что их родители встретились и решили: им следует пожениться. Боря побледнел и начал делать какие-то расчеты на полях анархистской газеты. И тут казаки проскакали по Молдаванке, и все евреи в городе задрожали от страха. Певичка перестала вопить, и мы замерли, пораженные. Катя ушла домой, чтобы подготовиться к вечернему выходу, но еще не стемнело. Звук конницы, скачущей по городу, необычен, особенно для тех, кто не слышал его прежде. Сначала мы решили, что нас снова обстреливают, и притихли. Издалека звук, который издает кавалерия в городе, напоминает о странном, свистящем ветре, дующем из степи; приближаясь, он становится громче и беспорядочнее, пока не сменяется серией синкопированных, рваных ритмов, то усиливающихся, то слабеющих; это похоже на воду, бегущую, меняя направление, по камням; затем он внезапно становится громче – как шум гремящего скоростного поезда, мчащегося по туннелю, – и тогда лучше убраться с дороги любой ценой. Казаки промчались мимо нашего переулка, и самые храбрые или, в моем случае, самые любопытные из нас высунули головы за дверь и проследили, как они скачут по Молдаванке. – Они пугают нас, потому что не смогли запугать турок, – сказал Боря. – Они всегда так поступают. Шура посмеялся над ним. – Они просто-напросто скачут в гарнизон. Это самый короткий маршрут от товарной, где они высадились. Посмотри на них. Эти парни – не парадная конница и не милиция. Это военное подразделение. И правда казаки были одеты в поношенные кафтаны; форму покрывал слой пыли. Их оружие выглядело так, будто его использовали в настоящем бою, а не во время погрома. – И все равно, – сказал Боря, – по какой-то причине городской совет позволил им высадиться на товарной и проехать этим путем. Почему они скачут по улицам? По мостовой? Это плохо для лошадей. Мы все в один голос сказали, чтобы он умолк. Казаки не причинили вреда, если не считать сильного волнения, и я в одно мгновение был очарован ими. С такими воинами можно поверить в победу. Их были тысячи – возможно, сотни тысяч – всадников из полудюжины главных войск, не говоря уже о мелких отрядах; и теперь, когда турки осмелились напасть на нас, все казаки сплотились. Я представлял, как обрадуются в казачьих станицах, когда узнают, что снова могут убивать турок. Я завидовал им. Только предателей и отъявленных сионистов тревожил вид наших диких степных кавалеристов. У меня начался приступ головной боли, от которой я страдал всю жизнь; мне пришлось извиниться перед друзьями и вернуться домой. Улицы были необычайно тихими, пустынными. Я обнаружил, что в доме тоже стоит тишина. Он пустовал. Я пошел к себе в комнату, подумывая о новой дозе кокаина, но потом решил прилечь в полутемной комнате (жалюзи были закрыты) и попытаться уснуть. Прием стимуляторов все-таки причинял кое-какие неудобства. Рано или поздно ресурсы приходилось пополнять. Я провел тот вечер в постели, но к ужину спустился вниз. Там я увидел дядю Сеню, тетю Женю и Ванду. Дяде явно недоставало сегодня его обычной благожелательности, а тетя Женя говорила много, но еще менее внятно, чем обычно. В конце концов она предложила всем нам подумать о переезде в Киев. Дядя Сеня сказал, что жилье там стоит дорого, и мы не сможем себе позволить такую жизнь, какую ведем в Одессе. После ужина я спросил Ванду, что случилось. Она не сказала ничего определенного. Новости о войне были неутешительными. Дядя Сеня позвал всех сходить к Фонтану, чтобы осмотреть datcha, которую собирался снять на зиму. Меня это озадачило – никто не жил на летних datchas в Одессе зимой; могли ударить очень сильные морозы. Потом он отказался от этой мысли, как сообщила мне Ванда. Я предположил, что это была легкая военная истерия, мне доводилось читать об этом. Нас предупреждали о подобных проблемах. Ванда согласилась со мной. Она казалась опечаленной, сидела в моей комнате и не собиралась уходить. Я чувствовал, что нужно успокоить ее, но боялся, что любое мое движение будет неверно истолковано. Я сказал, что очень устал и хочу спать, и попросил не приносить мне утром завтрак. Я собирался проспать по меньшей мере до полудня. Обычно Ванда понимала, что мне нужно, но сейчас пыталась тянуть время; в конце концов она ушла. Я подумал, не влюбилась ли она в меня и не этим ли объясняется ее необычное поведение. Все стали немного странными после обстрела. Многие восприняли его гораздо серьезнее, чем я; возможно, предчувствовали грядущие бедствия. Сейчас необычное поведение родственников кажется плодом моего воображения. Наверное, я был излишне наблюдателен. Иногда после длительного употребления кокаина человек начинает слишком тщательно все анализировать, подозревая у окружающих такие мотивы и чувства, которых на самом деле нет, – по крайней мере, в сколько-нибудь явной форме. Я принимал кокаин почти каждый день больше недели и, вероятно, находился в опасной близости к тому состоянию замешательства и неуверенности, которое возникает при злоупотреблении (с тех пор я стал осторожнее – все дело в умеренности, как говорят поляки). В юности, конечно, я не знал меры ни в одном из стимулирующих средств – ни наркотических, ни алкогольных, ни, скажем так, духовных. Впервые с самого приезда в Одессу я, засыпая, испытал приступ депрессии и тоски по дому. Я думал о сирени под летним дождем, о тумане над крутыми желтыми улицами, о материнской доброте и заботе. Даже моя прекрасная Катя не могла мне этого дать. Это настроение исчезло на следующее утро, но время от времени оно возвращалось. Однако я был настроен оставаться в Одессе как можно дольше, несмотря на то что надвигалась зима и дивная, восхитительная летняя и осенняя жизнь сменялась другой, более прозаической и холодной. Мне показалось, что Шура догадался о моей легкой депрессии. Он начал приглашать меня на вечеринки в частные дома, которые зимой становились местами общих встреч, и знакомить с разными девушками. Стало сложнее встречаться с Катей. Сначала я не осознавал, что виделся с ней лишь два-три раза в неделю, хотя прежде мы встречались каждый день. Я стал в чем-то подозревать девушку. Мне не хватало ее душевности. Я все сильнее тосковал по дому. В ноябре выпал первый снег. Мне казалось, что вся Одесса усыпана слоем кокаина. К началу декабря я принимал около двух граммов в день, большей частью из запасов Шуры. Мне написала мать; она считала, что я должен вернуться. Я ответил, что новости в газетах сильно преувеличены, а сам я в полной безопасности и приеду домой ближе к Рождеству. Она не писала дяде Сене, и я с чистой совестью сообщил ему, что матушка успокоилась. В то утро, когда выпал первый настоящий снег, я получил письмо от Эсме; в нем говорилось, что у матери грипп и моя подруга переехала к ней, потому что отцовская пенсия не выплачивается после его смерти и она не в состоянии платить за квартиру. Это казалось идеальным решением. Я обрадовался, что у матери есть близкий человек, который сможет позаботиться о ней, – Эсме лучше всего подходила для этого. Я ответил, что навещу их после Рождества, что занятия и разные дела удерживают меня в Одессе, и дядя Сеня считает, что мне нужно извлечь как можно больше пользы из пребывания здесь. Все это нельзя было назвать ложью, но после роскошного отдыха я не был готов вернуться к бедности и простой еде. Я мало чем мог помочь матери в Киеве. Более того, Эсме было бы гораздо труднее заботиться обо всех нас. Конечно, я не предполагал, что грипп – очень опасная болезнь, и не собирался тотчас возвращаться домой. Через пару дней Шура спросил, не хочу ли я вместе с ним подняться на борт английского парохода. Я ответил, что предложение очень заманчивое. Шуре требовался переводчик в одном деле, которое он вел со старпомом. Капитана на борту не было. Он заболел и сошел на берег в Ялте. Я предполагал, что по этой причине помощник спешил избавиться от груза и закупить новый товар. В Одессе становилось все меньше иностранных торговых судов, так как наступила зима, а также из-за того, что турки контролировали пролив. К тому же кораблям приходилось менять курс, чтобы избежать нападения немецких подлодок. Время от времени в гавань прибывали австралийские военные корабли, но мы редко общались с их командами. Я с радостью воспользовался редкой возможностью поупражняться в английском. Тем вечером мы спустились в Карантинную бухту, показав полученные Шурой пропуска. Там нас встретили два моряка на корабельной шлюпке и отвезли к кораблю «Кэтлин Сайссон», стоящему на якоре. Судно оказалось не слишком внушительным; похожие грузовые корабли плавали вдоль побережья – от Эгейского моря до Азовского. После того как Турция вступила в войну, они начали исчезать настолько внезапно, что торговля в Одессе прекратилась буквально за один день. Я думаю, что «Кэтлин Сайссон» отозвали в порт приписки, Пирей; возможно, офицеры, единственные англичане на борту, желали убраться подальше от театра военных действий. Остальную часть команды составляли греки и армяне, которые находили общество ласкаров весьма приятным. Мы поднялись по трапу на капитанский мостик и встретили там мистера Финча, старпома. Тогда он показался мне приятным, очень спокойным и общительным ирландским джентльменом, но подозреваю, что теперь отнесся бы к нему по-другому. Мистер Финч был высокого роста, одетый в грязную белую форму. Он предложил нам выпить – судя по всему, это был арак, но я по глупости решил, что имею дело с шотландским виски. У меня после первого глотка начались такие сильные спазмы в горле, что я не мог нормально разговаривать в течение нескольких дней. Мы уселись вокруг штурманского стола, и мистер Финч спросил Шуру, принес ли он деньги. Кузен попросил меня ответить, что деньги лежат на депозите и будут выплачены в оговоренное время в оговоренном месте. Мистер Финч, казалось, рассердился, но вскоре успокоился и налил нам еще (я с тех пор почти никогда не пил даже настоящий виски). Шура сказал, что стоит сделать пробу, и мистер Финч увел его, а я остался ждать, увлекшись осмотром каюты, разглядывая инструменты, карты и прочие мореходные приспособления. Я впервые оказался на борту корабля, и даже старая торговая шхуна привела меня в восторг. Шура с мистером Финчем вернулись. Старпом сказал, что если Шура доволен, то стоит обсудить время и место, чтобы встретиться на нейтральной территории. Шура предложил морской клуб возле гавани, излюбленное место английских и американских моряков. Мистер Финч мог почувствовать себя там непринужденно. Старпом согласился, и они пожали друг другу руки. Мистер Финч сказал, что он проделал долгий путь из Малакки и будет очень рад вернуться в Дублин. Я удивился, что он так много проплыл, но мистер Финч рассмеялся: – Я сел на эту старую калошу в Трапезунде. Путешествуя на чертовых поездах из Басры, я чувствовал себя невыносимо каждую минуту, пребывая на суше. Я начал дело до войны, понимаешь. Теперь жалею, что ввязался. Было непонятно, что подразумевалось под словом «дело». Я предполагал, что это что-то незаконное. Похоже, Шура ступил на скользкую дорожку, из-за чего у нас могли возникнуть неприятности с полицией. Мы вернулись в гавань и попрощались. Я радовался, что дело – по крайней мере, для меня – завершилось. Шура пришел домой два дня спустя и дал мне столько кокаина, что могло хватить на весь сезон. Казалось, он стал относиться ко мне еще дружелюбнее, чем обычно. Я решил, что кузен считает себя виноватым, поскольку втянул меня в какое-то опасное дело. Кокаин оказался превосходным. Вероятно, именно его мистер Финч и доставил из Малакки.Глава пятая
Туман над Одессой сгущался и приглушал гудки последних кораблей, остававшихся в гавани. Похолодало. Люди все реже выходили на улицы, достали пальто, шарфы, меховые шапки. Приближалось Рождество, и лучшие магазины были залиты светом, витрины заполнялись дивными товарами; афиши зазывали на зимние балы и благотворительные мероприятия, проводившиеся с целью помощи фронту. Продавцов мороженого сменили торговцы каштанами, портовые грузчики надели теплые куртки и перчатки; пар их дыхания смешивался с густым паром кораблей. Мое настроение ухудшалось. Зимой Одесса стала самым обычным городом. Я все реже виделся с Катей (она говорила, что очень устает) и все чаще употреблял кокаин, чтобы одолеть почти убийственную депрессию. Я, кажется, переусердствовал по части приключений. Годы опыта уложились в несколько месяцев. Я пренебрегал своей работой как раз тогда, когда стоило сконцентрироваться на ней. Я попытался уединиться с книгами и позабыть о Кате. Это оказалось невозможно. Однажды утром я решил встать пораньше и отправиться к ней, предложить все что угодно, лишь бы она бросила свою профессию и осталась со мной. Катя была неглупой, красивой девушкой и легко могла бы получить место в конторе или в магазине. Дядя Сеня помог бы ей. В магазине Вагнера я купил Кате подарок – декоративного клоуна из лучшей украинской керамики. За несколько дней до сочельника завернул его в фольгу, обвязав зеленой ленточкой, и отправился в Слободку. В темном костюме, белой рубашке, галстуке-бабочке, темно-коричневом котелке и такого же цвета английском пальто, с подарком, я, должно быть, выглядел молодым человеком, готовым сделать предложение руки и сердца (хотя мне еще не исполнилось и пятнадцати). Для пущего эффекта я купил дорогой заморский цветок, из тех, что уже стали дефицитом, а в руке держал белую трость из слоновой кости с резным набалдашником, подаренную мне Шурой около недели назад. Я дошел до старого дома в переулке, где жила Катя. Передняя часть, где торговали скобяными изделиями, еще не открылась, но я уже знал, как одним резким движением отворить дверь, даже если она заперта. Я вошел в темную, заваленную вещами лавку и на цыпочках пробрался к узкой лестнице, ведущей в комнату Кати. Она должна была выставить к этому времени всех клиентов, но я не хотел рисковать и беспокоить ее. Решив уйти, если у нее кто-то есть, я пробрался вверх по лестнице, приоткрыл дверь и увидел, что в кровати кто-то лежал и крепко обнимал Катю. Я пытался сдержать ревность, но потом понял, что узнаю эти мальчишеские плечи. Разумеется, это был Шура. Сейчас я поступил бы иначе, но тогда утратил контроль над собой, закричал и хлопнул дверью. Мне стало понятно, почему Шура был так добр ко мне, почему Катя стала проводить со мной мало времени, почему они с Шурой никогда не разговаривали, встречаясь у Эзо. Меня предали. Я помню лишь эмоции; как кровь стучала у меня в голове, как моя горячая рука сжала холодную слоновую кость набалдашника, как я бросился к Шуре. Он с криком вскочил, рассмеялся, испугался, попытался защитить Катю, швырнул в меня подушку. Я взмахнул тростью. Он набросился на меня и обхватил ниже талии. Я ударил его по спине и по ягодицам. Я упал. Драка ничем не кончилась, мы быстро вымотались. Я выронил трость. Катя заплакала. – Разве ты не видишь – я любил тебя! Шура сидел, задыхаясь, прижавшись к стене, по которой, как будто желая стать свидетелями драмы, ползали тараканы. – Она любит нас обоих, Максик. И я люблю вас обоих. Я говорил обычные вещи о предательстве, обмане, лицемерии. Меня с тех пор слишком часто предавали, и я не могу вспомнить что-то определенное. Катя нуждалась и в зрелости Шуры, и в моей невинности. По существу, она так и осталась шлюхой. Не могла устоять ни перед кем из нас. Вероятно, были и другие возлюбленные, в противоположность клиентам. Я думаю, она оказалась одной из тех добрых, слегка напуганных девочек, которые подчиняются малейшему давлению, а потом проводят жизнь, пытаясь всех примирить, боясь сказать правду, которая могла бы спасти от подобных ситуаций. Это свойственно нашим милым славянским девушкам, особенно на Украине. Даже некоторые еврейки ведут себя так же. Они неспособны на коварство, но ткут самые запутанные сети лжи. Этих девочек часто считают роковыми женщинами, но это совсем не так. Вот с чем я столкнулся в четырнадцать лет. Истощенный наркотиком, который позже оказался мне полезен, измотанный неравным поединком, рыдающий из-за того, что сотворила моя маленькая Катя, я лежал в углу и стряхивал паутину и пыль с моего прекрасного костюма, в то время как Шура, пытаясь успокоить меня, начал одеваться, а Катя вопила, что хотела бы никогда не встречать нас обоих. Кузен предложил пойти выпить чего-нибудь. Я согласился. Мы отправились к Эзо, где Шура грыз семечки и говорил о том, что мы должны помириться, что он собирался все рассказать мне, но Катя боялась ранить мои чувства. Постепенно вся вина пала на женщину. После двух или трех рюмок водки мне показалось, что нас обоих жестоко обманула маленькая сучка. Еще несколько рюмок – и я был готов зарыдать. Я сказал Шуре, что едва не убил его. Он ответил, что проститутки вроде Кати могут заставить двух друзей подраться, и это ужасно. Мы выпили за погибель всех женщин. Потом за вечную дружбу. Когда встал вопрос, кто из нас должен перестать встречаться с Катей, оба настаивали, что ни у кого нет никаких прав; потом каждый из нас сообщил другому, что у него прав больше, потому что его любовь сильнее. Это продолжалось довольно долго, мы обвиняли друг друга, Шура вскакивал и отворачивался, и я решил отправиться к Кате и заставить ее пообещать, что она навсегда расстанется с Шурой. Мы вышли из кабака и направились в одну сторону. Остановились на углу переулка, где жила Катя. Мимо прошла женщина, которая вела за собой двух коров (их тогда еще держали в городах ради свежего молока), и мы оказались по разные стороны улицы. Затем оба бросились вперед, прячась за коров, чтобы опередить соперника и первым добраться до скобяной лавки. Эта абсурдная, недостойная сцена закончилась тем, что мы пьяно шатались посреди кучи горшков и кастрюль, которые раскидали по мостовой. Из лавки выскочил хозяин, еврей средних лет, крича и размахивая руками, проклиная пьянство мужчин и продажность женщин. Почему Бог решил, что он, солидный владелец магазина, должен поддерживать безупречно добродетельное семейство, сдавая комнаты женщинам легкого поведения? (Я знал, что вдобавок к непомерной арендной плате он получал еженедельный «сеанс» с Катиной матерью.) Мы потребовали, чтобы он отошел в сторону и не мешал нам войти. – Чтобы пьянчуги разнесли мою лавку? – Он схватил с прилавка огромный топор. – Чтобы полиция взяла и обрушилась на мою бедную голову! Вей, чудно! Казаки на Молдаванке! Таки устроим новый погром, а! Держитесь подальше, вы оба, или у полиции и впрямь появится причина меня навестить. Ой, я лучше раскрою вам головы и повешусь, а не впущу вас. Рыжеволосая неряшливая мать Кати появилась позади него. Она была одета в грязный китайский халат. – Шура? Максим? В чем дело? Где Катя? – Мы к ней пришли, – сказал я. – Она должна выбрать одного из нас. – Но она ушла полчаса назад. – Куда? – спросил Шура. – К Эзо, я думаю. – Она смеялась? – многозначительно спросил я. – Я не заметила. Чего вы от нее хотите? Вы, мальчики, не должны ссориться из-за девочки. Она любит вас обоих. – Она обманщица, – сказал я. – Лгунья. – Она слегка нерешительна, вот и все, – сказал Шура. – Я говорил ей… – Нечего рассуждать об этом на улице, возле моей лавки. – Еврей с топором в руках двинулся на нас. Мы отступили. Мать Кати покачала головой. – Вам нужно успокоиться. Идите прогуляйтесь, поплавайте. – Казалось, она не знала, что наступила зима. – Она нечестно поступила со мной, – сказал я. – Нечестно? А что честно? – спросил лавочник, взмахнув своим огромным топором. – Евреи – не киевские богатыри. Они не могут себе позволить такую роскошь, как подвиги. – Взамен они испытывают склонность к лицемерию, – ответил я. Он улыбнулся: – Если хочешь развлечься какой-нибудь раввинской беседой, устроить-таки настоящую оргию самобичевания – давайте возьмемся за книги, мой юный литвак[60]. Неужели он подумал, что я еврей? Я был потрясен. Посмотрев на его грязные руки, курчавую бороду, крючковатый нос и толстые губы, я понял, какую ужасную ошибку совершил. Кто бы мог подумать: евреи – мои друзья, и я находился в их обществе так долго, что перенял некоторые их черты! Я зашагал обратно. Помчался по переулкам, расталкивая в стороны стариков и детей, наступая на котов и собак, срывая бельевые веревки, пиная молочные бидоны; так я вернулся к дому дяди Сени, растрепанный, в расстегнутом пальто, без шляпы, потеряв трость из слоновой кости во время драки у Кати. Я поднялся по лестнице к входной двери. Потом взлетел наверх, в свою комнату. Я лежал на кровати и плакал, обещая себе, что у меня никогда больше не будет ничего общего с евреями, с Молдаванкой, с Шурой, с грубой, испорченной, вульгарной Одессой. Когда вошла Ванда, я уже оправился от приступа ярости, но плакал, все еще одетый в то, что осталось от моего роскошного костюма. – Что случилось, Максим? Несчастный случай? Я смотрел на ее теплое, пухлое тело, на простое, встревоженное лицо. Я подумал, что Ванда как раз та девушка, которая мне нужна, она могла отдаться лишь одному мужчине и была бы благодарна, что он у нее вообще есть. – Всего лишь любовь, – мрачно ответил я. – Девушка изменила мне. – Это ужасно. Дорогой Максим! – Женское сочувствие буквально переполняло ее, оно просачивалось в комнату, как пот сквозь поры. – И кто только мог сотворить с тобой подобное? Какой она должна быть сукой! Я помню, что почувствовал угрызения совести, услышав это, но, обдумав ситуацию, решил, что Катя оказалась более циничной, чем я предполагал. Я попытался защитить ее, вспомнив слова Шуры. – Она просто слабая… – Не верь в это, Максим, дорогой. Не верь ни единому слову. Слабость – стена, за которой прячутся женщины. И эта стена, уверяю тебя, крепка как сталь. Тебя обманула… – Еврейская проститутка, – закончил я. Это, казалось, заставило ее задуматься. Возможно, она была немного расстроена, что я спал с еврейкой. – Больше никогда, – произнес я. – Она тебя ничем не… Я покачал головой. Ванда, сидя на кровати, начала поглаживать мои пыльные волосы. Затем помогла мне снять пальто и пиджак, а потом и остальную одежду. Ванда разделась и улеглась на узкую кровать рядом со мной. Ее мягкая, податливая плоть, массивные груди, большие жаркие бедра, ягодицы, напоминавшие две удобные подушки, сильные ноги и руки, широкий, горячий рот – все это немедленно помогло облегчить мои страдания. Я мысленно поздравил себя с тем, что не только оправился от боли, но и обрел другую женщину, всегдаготовую ждать меня. Ванда так сильно отличалась от Кати, что я как будто занимался любовью с существом совершенно иного вида. Стройные, с мальчишескими фигурками девушки вроде Кати и огромные крестьянские девицы наподобие Ванды – у всех есть свои достоинства. Познать сто женщин означает познать сотню разных форм удовольствия. К счастью, мне удалось это понять еще тогда, когда я был совсем молод. Поднявшись с влажной горячей постели, Ванда сказала, что у нее есть дела по дому, поцеловала меня и спросила, стало ли мне лучше. Призналась, что была девственницей, что сразу полюбила меня. Теперь мне не стоит никуда ходить в поисках утешений. Неловко подмигнув и послав воздушный поцелуй, она удалилась. Я проспал пару часов, а проснувшись, обнаружил, что комната скрыта холодным бледным полумраком. Теперь я думал, слегка остыв, что неплохо бы навестить Катю. Возникла перспектива заполучить двух возлюбленных – и она мне очень нравилась. Но я понял, что это будет нелегко. Ванда могла следить – и следить ревниво – за каждым моим шагом. Мне хотелось отомстить Шуре. Я доверился ему, признался, что люблю Катю. Кузен дал мне кокаин, белый костюм, дорогую трость, чтобы отвлечь от своих темных замыслов. Он притворился моим другом и наставником в гетто и познакомил с самыми темными сторонами жизни. А сам втайне все время насмехался надо мной. Я не мог победить его в честной драке – он был слишком силен. Я не мог пойти в полицию и сказать, что он преступник, так как участвовал в некоторых из этих делишек, как и мои приятели с Молдаванки. Не то чтобы я по-прежнему считал их друзьями. Вероятно, все они видели, как Шура выставляет меня дураком, и веселились. Меня считали простаком. Деревенским идиотом. Наверное, немало хороших историй о Максе Гетмане рассказывают по всей Одессе. Я потерял лицо. Я пытался придумать, как мог бы в свой черед оскорбить Шуру. Ничего не приходило на ум. Он слишком уверен в себе. Что бы я ни сделал, он мог это использовать в своих интересах. Существовал лишь один человек, которому он был должен, которого он уважал (кроме Миши Япончика), и этот человек – дядя Сеня. Я усмехнулся. Я просто исполню свой долг – пойду к дяде и предупрежу его о Шуриных преступных делах. Он испугается, вызовет Шуру, накажет его. И это будет идеальная месть, потому что я предстану в хорошем свете, а Шура – в дурном. Я задумался о Кате. Можно было бы заодно отомстить и ей, рассказав дяде Сене, что есть девица, которая сбила моего кузена с пути истинного. Но дядя снисходительно относился к таким вещам. Он спокойно смотрел на молодых людей, которым нужно перебеситься. Что он подумает, если я ему скажу, что Шура был Катиным сутенером? Из-за этого дядя Сеня не станет мстить Кате. Так что мне следовало придумать для нее особую месть. Я не слишком горжусь своими мыслями. Но я был испорченным мальчиком, уверенным, что его предали друзья и соплеменники. Я вел себя как фанатик. Конечно, у меня нет склонности к расизму. Моя неприязнь по отношению к евреям, моя ярость, когда меня сочли одним из них, появились по очень простой причине: нас, украинцев, всегда окружали евреи. Революцию начали евреи. Быть славянином в Одессе означало быть в меньшинстве. Как представитель меньшинства, я пытаюсь противостоять выходцам с востока, которые управляют нашими газетами, издательствами, радио- и телестанциями, промышленностью, заводами, финансами. Сколько украинцев занимают в Англии подобные посты? О Кате можно было бы просто сообщить в полицию. Но так как они с матерью приехали из Варшавы, это означало бы ее арест и высылку, возможно, даже тюремное заключение. Несмотря на самое мстительное настроение, я не мог и подумать о том, что она отправится в тюрьму. К тому же мне требовалась личная, тайная месть. Я вспомнил клоуна из магазина Вагнера, который теперь валялся, разбитый вдребезги, на полу в ее комнате. Я пошлю ей другой рождественский подарок. От неизвестного поклонника. Она ненавидела пауков, боялась их больше всего на свете. Я соберу их в огромную коробку и отправлю под видом подарка, завернутого в прекрасную бумагу. Катя откроет его в Рождество, и ее крики напугают всю Молдаванку. А пока я решил отвлечься от своей будущей мести. Милая, улыбающаяся Ванда принесла мне чай с пирогами, а потом начала ласкать меня и разговаривать с интимными частями моего тела, как будто мой член был совершенно независим от меня, как будто она играла с ручной мышью или ящерицей, которую могла целовать, гладить и называть шутливыми именами. Она обладала тем, чего никогда не было у Кати: когда Ванда занималась со мной любовью, я мог думать о чем-то другом, оставался предоставлен сам себе. Я всегда ценил ее за это. Другое преимущество Ванды, разумеется, состояло в том, что она больше ни с кем не спала. Она была чиста. Мне не следовало принимать никаких мер. Это было очень удобно. В ту ночь я размышлял о том, как отомщу кузену и Кате. Дядя Сеня не пришел к обеду, так что у меня не было возможности выдать Шуру – или себя. После трапезы тетя Женя включила граммофон, и мы послушали несколько популярных еврейских мелодий. Мы с Вандой извинились и удалились пораньше. Мне с ней было гораздо удобнее, чем с Катей. Наши отношения были совершенно другими. Я стал учителем, преподающим внимательной, покорной ученице основы восхитительного разврата. Мои развлечения с Вандой никак не повлияли на страстное желание отомстить. Я стал собирать пауков для Катиного рождественского подарка. Скоро в старой чайной коробке их было больше десятка. Но я хотел раздобыть побольше. Чтобы пауки не начали поедать друг друга, я ловил различных насекомых и кормил своих пленников каждый вечер. Ванда не знала, что у меня в коробке, я не стал ей говорить. Тем временем я покупал подарки, которые следовало вручить за столом в сочельник. Дядя не хотел отмечать Рождество. Как и моя мать, он не слишком много внимания уделял церковным службам. Накануне сочельника я сказал дяде Сене, что хотел бы побеседовать с ним в кабинете. Он казался рассеянным. Война, конечно, существенно затрудняла бизнес. Частичная блокада помешала доставке некоторых важных грузов. Я решил отомстить Шуре как можно быстрее. Дядя Сеня сидел за столом спиной к окну. На нем был тяжелый черный пиджак и черный галстук. – У меня тревожные новости, Семен Иосифович, – начал я, – но я обязан вам рассказать, в чем дело. Вы, конечно, можете поступить так, как сочтете нужным. Это позабавило дядю. Его настроение, казалось, улучшилось. Он предложил мне сесть на один из любимых жестких стульев с плетеными сиденьями. Дядя Сеня откинулся на спинку кресла, отделанного кожей, и зажег бирманскую сигару. Комната начала заполняться тяжелым маслянистым дымом. – Надеюсь, ты не попал в беду, Максим. – Я тоже на это надеюсь, дядя. Мать пришла бы в ужас, если бы узнала о том, что произошло. – Произошло? – Он встревожился. – Или могло произойти, как мне кажется. Я уверен, что Шура связался с мошенниками. Дядя был удивлен. Он положил свою сигару в медную персидскую пепельницу и почесал голову. Наконец недоуменно улыбнулся. – И почему ты так решил? – Он впутался в аферу и, похоже, работает с Мишкой Япончиком. – Каким Мишкой? – Япончиком. Это очень известный бандит из Слободки. – Да, я слышал о нем. Это было не удивительно. Подвиги Мишки описывались во всех известных одесских газетах. Его упоминали даже в дешевых романах о Нике Картере и Шерлоке Холмсе, которыми мы тогда зачитывались. – Он вымогатель, – сообщил я, – и налетчик, заставляет местных жителей платить ему деньги за защиту. Если они отказываются. убивает людей или сжигает их лавки. Он связан с торговлей наркотиками, проституцией, нелегальным алкоголем, владеет кабаками и кабаре, подкупает полицейских и городских чиновников. Дядя Сеня снова удивился: – Такой еврей мог бы присоединиться к черной сотне. – И он нанимает на работу молодых парней, – продолжал я. – Самых разных. Украинцев, кацапов, как они называют русских, греков, армян, грузин, мусульман – всех. Он плетет сети, как, – я замялся, – как паук. – Боже, сохрани нас! Ты уверен, что этот бандит существует не только в твоих журналах о Пинкертоне? – Да, – ответил я, – Шура попал к нему в лапы. – Не могу в это поверить. – Шура и меня пытался заманить, использовал как переводчика. Я поднимался на борт английского корабля, где он покупал наркотики. Дядя Сеня отвернулся от меня и посмотрел в окно. Он наблюдал за маленьким ребенком, шагающим по бревну. Мальчик пошатнулся и упал. Дядя Сеня снова обратился ко мне: – Думаю, ты ошибаешься, Максим. Шура работает на меня. – Конечно, он передает сообщения с кораблей и от торговцев и следит за разгрузкой. Но все остальное время проводит с ворами и проститутками. Есть такое место, называется «У Эзо». Еврейский кабак. Возможно, вы слышали о нем? – Я не часто хожу по кабакам в Слободке. – Это ужасное место. Шура попал в плохую компанию и пытался втянуть туда меня. Я отказался, и теперь он злится. – Вы поссорились? – Я сказал, что он ведет дурную жизнь. – Он молодой бездельник. Такой же, как и ты. – Есть разница, Семен Иосифович, между бездельником и преступником. – И молодые люди не всегда ее замечают. – Он взмахнул рукой. Я был разочарован. – Мне кажется, что Шуру надо отослать из Одессы. – И куда? В Сибирь? – язвительно произнес он. – Возможно, отправить в плаванье. Это пошло бы ему на пользу, научило бы чему-нибудь. – Он просил тебя поговорить со мной об этом? – Вовсе нет. – Шура ни за что не захотел бы уехать из Одессы, от Кати. А если бы его отослали, я заполучил бы обеих девушек. Открыв коробку с пауками, Катя не поймет, что она от меня. Я мог продолжать с того места, на котором мы остановились. Предложение отправить Шуру в плаванье возникло как будто по наитию. – Шура – тот еще моряк. К тому же идет война… – Дядя Сеня вновь зажег свою сигару. – Думаю, он сможет научиться. – Ты сказал ему, что пойдешь ко мне? – Нет, Семен Иосифович. – Возможно, ты поступил бы по-мужски, сказав ему? – Нужно, чтобы с ним поговорил старший. – И ты ни с кем из взрослых это не обсуждал? – Только с вами. – Я поговорю с Александром. Но ты должен держать это в секрете, Максим. – Чтобы не было семейного скандала? – Именно. Он вздохнул. Возможно, обрадовался, что по крайней мере один из младших членов семейства оказался честен. – Тебе лучше уйти, Максим. Если увидишь Шуру, попроси его зайти ко мне. – Попрошу, Семен Иосифович. Не прошло и часа, как я спустился вниз, чтобы подыскать упаковочную бумагу для подарка Кате, и увидел, что Шура вернулся и прошел в дверь, соединявшую контору дяди Сени с домом. Я был в этом помещении лишь однажды: темное дерево и маленькие окна, столы из дуба и красного дерева с медной отделкой, служащие, сидящие за ними, вероятно, с пушкинских времен. Я удивился, почему это Шура отправился в контору, а не в кабинет. Я замер, следя за дверью, но Шура больше не появлялся. Я решил, что он вышел через другую дверь. Будучи довольным собой, я отправился к тете Жене за цветной бумагой. Она вручила мне лист, дала ножницы и ленту и попросила не беспокоить дядю Сеню, если я его увижу. Он был в необычайно мрачном настроении. – Это связано с Шурой? Она пожала плечами: – Возможно. Он, кажется, и тобой не слишком доволен. Ты что-нибудь натворил? – Ничего, тетя Женя. Я вернулся к себе в комнату, немного озадаченный, и занялся упаковкой подарка. Потом позвал Ванду и спросил, можно ли нанять одного из уличных мальчишек отнести пакет в Слободку. Она пообещала узнать. Я поставил на пакете инициалы Кати и ее польскую фамилию – кажется, она звучала как Граббиц. – Для кого этот подарок? – спросила Ванда. – Он очень красивый. Я поцеловал ее. – Не думай, это не для возлюбленной. Он для моего друга, перед которым у меня должок. Взяв несколько копеек, она забрала коробку. Вернувшись, Ванда сказала, что один из уличных пострелят с площади согласился ее отнести. Теперь, если Катя спросит, кто дал мальчику коробку, он ответит, что это Ванда, а я буду ни при чем. Мы с Вандой занимались любовью – но очень недолго. Я в самом деле был не в настроении, раздумывал, что же случилось с Шурой. Учитывая, как удачно все складывалось, он мог сесть на первый же корабль, отправлявшийся из Карантинной бухты. Я попросил Ванду оставить меня в покое на полчаса и уже потянулся к ящику, где держал свой кокаин, как дверь бесшумно открылась и тотчас закрылась. Я ожидал увидеть Ванду. К моему ужасу, это оказался Шура. Он ухмылялся и выглядел угрожающе. Кузен снял галстук и рубашку и надел крестьянскую рубаху со шнурком у ворота, обмотал вокруг шеи яркий плотный шарф; сверху набросил шубу, истертую до дыр. В руке держал треух. Выглядел он почти что жалко. – Ты мелкий стукач, – произнес он. – Глупый, тупой мелкий киевский золотарь. Ты же ничего не видел. Какой же я жулик? Это просто смешно. Дядя Сеня – вот кто самый настоящий жулик. Мне эти революционные доводы были хорошо знакомы. – Капитализм – не преступление. – Неужели? Что же, твой план провалился. Меня не отошлют на галеры. Мне просто придется быть поосторожнее, чтобы мелкие зеленые ябеды не увидели ничего лишнего. – Так сказал дядя Сеня? – Не совсем. Но смысл именно таков. – Не могу в это поверить. – Как хочешь. Я думал, что мы были друзьями, Макс. Шура говорил так, будто я предал его! Сейчас я вспоминаю его с теплотой и давно простил, но в тот момент Шура, считавший себя жертвой, был почти смешон. Я улыбнулся: – Шура, это ведь ты разрушил нашу дружбу. – Ты идиот. Я спал с Катей еще до того, как ты здесь появился. Я попросил ее позаботиться о тебе, заплатил ей. Почему, ты думаешь, тебе было так легко? – Она полюбила меня. – Не сомневаюсь в этом. Полюбила, как могла. Она была моей подружкой долгое время. Спроси у кого угодно. – Ты лжешь. Это подло. Шура раскраснелся. Его лицо пылало так же, как и его коротко остриженные рыжие волосы. – Ты мне, кажется, не веришь? Спроси Катю. Дверь медленно отворилась. Вошла Ванда. – В чем дело, Шура? Кузен сказал, чтобы она ушла. Я кивнул. – Это наше дело. – Не вздумайте драться, или я позову тетю Женю. – Я его не трону, – заявил Шура. Это меня успокоило. – По крайней мере, ты доходчиво объяснил, что чувствуешь, – сказал я. – А как же я? Мой соперник – мужлан, любитель евреев, с трудом выговаривающий собственную фамилию. Бандит. – Любитель евреев? – рассмеялся он. – Почему бы и нет? Ты знаешь, какую фамилию мы раньше носили? – Ты о своем отце? Удивлен, что ты знаешь его имя. – Ты о своем не знаешь даже этого. Мы ранили друг друга слишком сильно, такую боль могут причинять только очень близкие люди. Я остановился первым, отказавшись продолжать ссору. Если Шура собирался козырять тем, что он наполовину еврей, – меня это не касалось. Это лишь подтверждало мои подозрения. – Мне тебя жаль, – произнес он. – Ты мог бы стать здесь счастливым. У тебя были друзья. Люди тебя любили. Но теперь – все. Я советую тебе убираться из Одессы как можно скорее. Неужели он мне угрожал? Я сказал: – В Одессе для меня больше нет ничего интересного. Шура отворил дверь, потащив за собой изъеденную молью шубу. – Ты заговоришь по-другому, когда у тебя закончится снежок. Снежком называли кокаин. Потом Шура ушел. Неужели он решил, что сделал меня зависимым от наркотиков? Я встревожился, но быстро успокоился. Я не из тех, кто становится наркоманом. Я в течение многих месяцев не прикасался к наркотикам. На самом деле, в последние годы, когда цены поползли вверх, я совсем завязал. Временами я могу пуститься во все тяжкие, но что касается ломки – я никогда ее не испытывал. А наркоманом считается тот, у кого бывает ломка. Кокаин запретили после Первой мировой войны. Это была одна из самых глупых вещей, какую только можно сделать. В таком случае следовало объявить вне закона и аспирин, и джин. Утром в сочельник меня позвали в кабинет дяди. Он отправил моей матери телеграмму, обеспокоенный тем, что давно не получал вестей. Ответ пришел от капитана Брауна. У матери была тяжелая форма гриппа. Она тревожилась обо мне. Казалось, что само Провидение дает идеальный повод покинуть Одессу и не позволить Шуре отомстить. Дядя Сеня согласился, что я должен вернуться к матери, как только закончатся рождественские каникулы и поезда начнут ходить регулярно – насколько это вообще возможно в военное время. Я получил место в Петроградском политехническом институте, занятия начинались в январе. Мне уже подобрали полный гардероб. Дядя будет выдавать небольшое пособие через своих агентов в столице. Они же подыщут квартиру. За это мне придется иногда участвовать в переговорах в качестве переводчика и передавать небольшие посылки другим дядиным агентам. Я сказал, что буду рад помочь ему. Дядя Сеня сообщил о моем прибытии телеграммой. Он получил и отправил множество телеграмм за последние двадцать четыре часа. Дядя поговорил с Шурой и заставил его поклясться, что больше не будет никаких происшествий, способных потревожить спокойствие семьи. Моя месть не удалась. И не оставалось времени спланировать что-то другое. По крайней мере, подумал я, Катя уже обнаружила своих пауков. Я поднялся наверх, чтобы рассказать обо всем Ванде. Мы решили провести с пользой оставшееся время. Я дал ей немного кокаина, чтобы поддержать силы. Почти все рождественские праздники мы занимались любовью. Когда мои чемоданы уже стояли собранными и билет первого класса, подарок тети Жени, лежал у меня в кармане, я понял, что буду скучать по Ванде. Пообещал вернуться в Одессу как можно скорее. Она планировала навестить меня в Киеве, но я никогда ее больше не видел. Ванда забеременела, родила сына и жила у дяди Сени до тех пор, пока не исчезла три-четыре года спустя, в ужасные дни голода и революции. Ванда и тетя Женя проводили меня на киевский поезд. На перроне оказалось полно военных. Я уже скучал по Одессе, с ее доками и магазинами, туманом и угольной пылью, яркой, шумной жизнью. Кажется, я слегка всплакнул. Ванда, разумеется, ревела. Тетя Женя рыдала. Поезд начал отходить от платформы, унося меня в глубь страны. Мне показалось, что я увидел у входа на станцию Шуру; он злобно улыбнулся, приподняв шляпу; Катя стояла рядом. Когда поезд выехал на открытую местность, пошел сильный снег. Я радостно устроился в просторном теплом вагоне. Он был гораздо удобнее того, в котором я ехал в прошлый раз. Я делал успехи. На мне был петербургский костюм, дорогая меховая шапка, английское пальто с меховым воротником и черные ботинки из мягкой кожи. За несколько месяцев, подумал я, мне удалось стать не просто мужчиной. Я стал джентльменом. Обслуживание в поезде показалось мне превосходным. С билетом первого класса я мог сидеть в глубоком шикарном кресле, книги и журналы лежали рядом на небольшом складном столике. Вскоре после того, как мы покинули Одессу, началась настоящая снежная буря. Чем дальше поезд продвигался на север, тем сильнее становился снег. Все, что я мог разглядеть, – холмистые белые равнины, редкие крыши, дым, купола деревенских храмов, силуэты деревьев, иногда – укрытый снегом подлесок. Я почти ощущал снежные хлопья, хотя, разумеется, вагон был закрыт, и поезд двигался так плавно, что казался неподвижным. Просто из любопытства я заказал большой завтрак в вагоне-ресторане. Я ел сыр и холодное мясо и смотрел, как снег прилипает к окнам. Иногда он успевал покрыть всю поверхность стекла, прежде чем скорость и тепло поезда уносили снежинки прочь, вновь открывая степной пейзаж. Я забрел в вагон класса люкс, на двери которого был изображен герб Романовых – двуглавый орел. Здесь я задержался, присев на маленький стул возле декоративной печи, и прислушался к бормотанию генералов, священников, аристократов и прекрасных дам; многие из них уже выпили – запреты военного времени касались только низших классов. Благовоспитанные речи время от времени прерывались взрывами резкого, громкого смеха. Разговоры были циничными, в основном – о военных событиях. Меня угнетало то, что я находился в салоне, но не мог присоединиться к его обитателям. Я вернулся в свой вагон, где старая дама, одетая во все черное, неожиданно проявила ко мне интерес. Она рассказала, что была вдовой какого-то генерала, убитого во время войны с Японией. Дама говорила с легким французским акцентом – на петербургский манер. Я быстро распознал его и сумел воспроизвести. Женщина решила, что я образованный, воспитанный мальчик, и угостила меня конфетами. Она спросила, куда я направляюсь. Я ответил, что сначала в Киев, а затем почти немедленно в Санкт-Петербург. Дама сказала, что мне стоит навестить ее, и записала свой адрес в маленькую книжку. В вагоне были и другие путешественники: высокопоставленный военный, который ничего не говорил, только изучал карты, читал «Голос России»[61] и иногда уходил в салон, чтобы выкурить сигару; напыщенная, даже надменная, молодая женщина, уверявшая, что выступала на московской сцене и собралась отправиться на гастроли в провинцию. От нее пахло теми же духами, что и от мисс Корнелиус, которую я все еще вспоминал с огромным удовольствием. Эта актриса ничем не напоминала ту чудесную леди; она была типичной невротичной московской красоткой. Я даже сомневался, была ли она актрисой. Вероятно, просто любовница генерала, которая путешествовала отдельно, чтобы не вызвать скандала. Ее роскошное платье и меха казались трофеями, а не повседневной одеждой. Снег не прекращался. Очень быстро стемнело, и в вагонах зажгли газовые лампы. Поезд был таким удобным и теплым, что мне хотелось путешествовать вечно. Я надеялся на задержку в пути, на какие-нибудь мелкие поломки, которые позволят продлить приключение хотя бы на день. Миновал завтрак, потом – обед. Я беседовал со старой леди, рассказывал ей о своих идеях, планах, намерении принести пользу России. Она сказала, что мне понравится в Питере. – Там настоящие русские, не то что в этих ужасных краях. Здесь земля евреев. От них некуда деться. Я от всей души согласился с ней. – Но в Санкт-Петербурге, – сказала она, – вы увидите воплощение всего лучшего, что есть в России. Актриса заявила, что Москва более русский город, чем столица. В Питере слишком много европейцев. Этот город был основан царем, искавшим вдохновения в Германии. – Взгляните, – продолжала она, – к чему это нас привело. На нас напали люди, перед которыми мы заискивали, которым мы оказали гостеприимство. Половина царской семьи – немцы. Они – сущее проклятье. Актриса сожалела, что не может навсегда остаться в Москве. Там нет ни социалистов, ни нигилистов, ни убийц. А также евреев и немцев. Это истинно славянский город, а не какой-нибудь поддельный Берлин или Париж. Старая дама слушала с удовольствием. Ее муж был таким же радикалом, панславистом, мечтавшим повернуться спиной к Западной Европе. – Но Западная Европа не отвернется от нас, моя дорогая. – Конечно, нет! – воскликнула актриса. – Она бросится к нам с распростертыми объятиями. С ножом в одной руке и мечом в другой. Нам нужно было давно вышвырнуть всех иностранцев. Включая тех, которые называют себя русскими. Она намекала на нашу царицу и петербургских дворян, носивших немецкие фамилии. Даже некоторые генералы на фронте и министры в Думе, в том числе премьер-министр, были немцами. Ходило множество слухов о предателях, уничтожавших Россию изнутри; появилась склонность, особенно в Москве, возлагать вину за наши военные неудачи на столичных взяточников; возникли подозрения, что царский двор на самом деле не стремился к победе, что царь в любой момент мог начать мирные переговоры. Мне хочется рассказать об этом более подробно – нужно объяснить, как низко пал моральный уровень нации. Россия никогда не начинала больших войн. Мы не хотели воевать; Германия напала на нас. В результате почти весь цивилизованный мир теперь был охвачен огнем войны. Хотя я чувствовал себя большим патриотом, чем многие мои современники, я мог понять, из-за чего они так переживали. Сегодня можно смело утверждать, что Германия, давшая миру Карла Маркса, подготовила почву, на которой его пагубные доктрины могли принести плоды. Многие верят, что немцы сотворили тот ужас и хаос, которым переполнено наше двадцатое столетие. Я не согласен с этим приговором. Они очень любезно обходились со мной в тридцатых, в общем и целом. Моя мечта о задержке в пути частично исполнилась. Поезд опоздал. Из-за сугробов на путях, пропуска военных составов и общего беспорядка на железной дороге, вызванного тем, что лучшие сотрудники транспортной компании теперь находились на фронте, мы часто останавливались. Было не очень холодно, но салон, в котором находилась печь, в конце концов оказался переполнен, и мы надели верхнюю одежду и вернулись на свои места. Актриса осталась в салоне и начала пить коньяк. Мы утешались чаем. К рассвету старая дама в черном начала дрожать. Наконец поезд медленно двинулся вперед, преодолев высокие снежные заносы. Было невозможно разглядеть что-то, кроме снега. Казалось, будто мы путешествовали по сверкающей ледяной пещере, по туннелю с крышей, подсвеченной светящимся серым войлоком. Мы поползли вперед, и когда до Киева оставалось совсем немного, опять пошел снег. Словно огромная простыня опустилась прямо на нас. Ветра не было. Я очень устал, но все равно отправился на смотровую площадку за вагоном охраны и посмотрел назад, на дорогу. Я увидел два темных параллельных следа, оставленных колесами поезда. И пока я смотрел, снег заполнял их. Казалось, будто оставшийся позади нас пейзаж стирала невидимая рука. У меня возникло ощущение свободы, которое быстро сменилось чувством утраты. Я вспомнил летнюю Одессу: живых, разговорчивых людей, их радость, остроумие, доброту, товарищество. Снежная буря скрыла это одесское лето – словно в конце пьесы опустился занавес. Боги мороза отомстили людям, в течение нескольких коротких месяцев осмелившимся быть счастливыми. Вскоре, выпуская пар и свистя, как будто радуясь тому, что избежал катастрофы, поезд прибыл в Киев. Вокзал показался пустынным, хотя здесь было так же тесно, как прежде. Большие причудливые столбы, на которых гнездились голуби, каменные стены и потолки, неясные барельефы в стиле Ренессанса создавали ощущение неприветливости. Подхватив чемодан, в котором лежала новая одежда и подарки, я спустился на платформу, сбитый с толку быстрым бегом носильщиков, криками пассажиров, паникой, охватившей всех в тот момент, когда остановился поезд. И Шура меня уже не сопровождал. Я начал, как мог, протискиваться сквозь толпу, не обращая внимания на носильщиков, продавцов, зазывал. Я рассчитывал как-нибудь сесть в трамвай, идущий на Подол, а оттуда пройти пешком или пересесть на другой трамвай и доехать до дома. Когда я добрался до главного входа и увидел, как люди сражались за извозчиков, толкали друг друга, протискиваясь в трамваи, – я пожалел, что рядом нет Шуры с его ободряющей улыбкой. Мне больше никогда не случалось столкнуться с такой душевной теплотой и открытостью. Я прошел мимо конечной остановки. Крыши и улицы были покрыты снегом. На тротуарах стояли жаровни, возле них грелись старые дворники, мужики продавали горячий чай и каштаны, тройки мчались мимо. Все было так знакомо. И я ненавидел все это. Странным образом я стал человеком, утратившим связь с окружающим миром. Мы, русские, готовы на все, чтобы сохранить эту связь, даже ценой рабства – если оно будет единственной возможностью, мы примем ее, лишь бы не остаться ни с чем. Кропоткин это понимал. Вот почему Красный Наполеон, Ленин, вместе со своей бандой добился такого успеха. Как незнакомец, я осматривал город, который покинул несколько месяцев назад и в котором провел много лет. Как незнакомец, я не мог радоваться тому, что видел. Война уже влияла на нас. Люди вокруг не были такими дружелюбными, или, по крайней мере, общительными, как в Одессе. Я не замечал улыбок, разговоров на ходу, непонятных и забавных жестов. Мне казалось, что все переменилось. Я добрался до улицы, которую прежде называли Столыпинской. Если пойти по ней, можно добраться до Владимирской улицы и Андреевской церкви и там сесть на трамвай, идущий прямо к дому. Стараясь избегать толп, я свернул на Столыпинскую; высокие желтые здания, покрытые снегом сверху и снизу, напоминали какие-то неаппетитные кексы с тмином… Но вдруг у меня за спиной раздался крик. Я покрепче сжал в руке чемодан и почувствовал легкий приступ тревоги – но, обернувшись, понял, что это был капитан Браун, хромой старый медведь в черной шубе; он гнался за мной по улице. – Максим! Я думал, что потерял тебя. Разве ты не получил мое сообщение? Капитан отправил телеграмму в Одессу. Из-за военных условий она не пришла вовремя, до моего отъезда. Мне следовало ждать у платформы, где он собирался встретить меня. Никакого транспорта все равно не было, так что мы зашагали по Столыпинской вместе. Капитан настоял на том, чтобы нести мой баул, сказал, что прождал несколько часов из-за опоздания поезда. Он думал, что я очень устал, но, разумеется, мне было куда удобнее, чем ему. Капитан Браун постарел. Его лицо стало соответствовать представлениям современных художников – покрылось красными и синими пятнами. Но я был рад видеть его, несмотря на то что от него пахло водкой. Моя мать тяжело болела. Они с Эсме выхаживали ее. Теперь матушка сидела и жаловалась, пила бульон и больше не готовилась встретить старуху с косой. Я понятия не имел, что она так тяжело болела. Я предполагал, что грипп совершенно обычный. Но в беднейших районах города началось что-то вроде эпидемии. Многие умерли, по словам капитана Брауна. Эсме не сообщала об этом, потому что не хотела меня волновать. Капитан написал дяде Сене, попросив не говорить мне о серьезности заболевания. Матери теперь стало намного лучше; она очень хотела меня увидеть. Капитан обратил внимание на мою прекрасную одежду: – Не слишком ли шикарно для Киева, а? Также отметил здоровый цвет моего лица, которое одновременно стало и более зрелым. Я сильно урезал дозы кокаина, прекратил принимать его ежедневно. Запас в моем чемодане был невелик, а в течение некоторого времени я не надеялся его пополнить. Поэтому мне следовало беречь то, что осталось. Мы сели в трамвай номер 10, который шел в наш район. Улицы Подола выглядели беднее и грязнее, чем прежде, несмотря на снег, и люди казались гораздо несчастнее тех, с которыми я встречался на Молдаванке. Отвращение к еврейской бедности, слабости, жадности и гордости охватило меня, но я подавил его. Евреи были добры ко мне. Готов поспорить, евреи встречаются разные. Но все вместе, однако, они наводят тоску. Наша улочка оказалась укрыта сугробами выше моего роста. Сквозь них прорыли тропинки от входных дверей до дороги. Все вокруг выглядело ужасно неухоженным. Я чувствовал себя подавленным, когда мы входили в дом, в котором я провел большую часть жизни. Поднявшись по лестнице, пропахшей капустой, дешевым чаем, квасом и кислыми клецками, мы вошли в квартиру и окунулись в ее гнетущую темноту – шторы были наполовину прикрыты; мать лежала на кушетке, придвинутой к черной железной печи. Эсме, бледная, усталая и, как всегда, очаровательная, бросилась ко мне, взяла за руку и подвела к матери, заходившейся в таком ужасном кашле, какого я прежде никогда не слышал. Матушка заговорила хриплым, каркающим голосом, хорошо знакомым мне после прежних ее болезней; это был ее «больной» голос. – Максим, мой дорогой сынок! Какая радость! Я думала, мы никогда больше не встретимся в этом мире. Я обнял мать, позволив ей поцеловать меня, а сам коснулся губами ее щек. От нее сильно пахло какими-то притираниями. Она была замотана во множество халатов, рубашек и платков; надо признать, что я, уже привыкший к стилю и богатству Одессы, испытывал легкое замешательство. В комнате было очень жарко. Я наконец вырвался и погладил мать по голове. Она задрожала. Я остановился, положив руку ей на лоб, и сказал Эсме: – Ты так добра. Мне очень жаль твоего отца. Ты настоящая принцесса. Эсме зарделась. Казалось, что она вот-вот сделает реверанс. – Ты стал таким мужественным, Максим. Какие манеры! По меньшей мере принц. – Она говорила с легкой иронией, но мне это льстило. Раздался глубокий, сильный кашель матери. – Ему нужно поесть! – Я приготовила бульон. – Эсме скрылась в другой комнате и вернулась с горшком, который поставила в печь. – Еще теплый. Скоро будем есть. Я с тоской смотрел на старый, хорошо знакомый горшок. Запах, исходивший от него, больше не казался аппетитным. Я ел из этого горшка с тех пор, как меня отняли от груди. И он всегда был полон, благодаря усилиям матери. Я помнил репу, лук, свеклу, картофель – все готовилось в нем. Но мне хотелось пряной, вкусной одесской еды. Сколько всего – борщи, юшки, кулеши, щипанки, затирки и рассольники, сельди, жареные осетры и сардины, жаркое с квашеной капустой и черносливом, хаш с гречневой крупой… – Ты, должно быть, голоден, – сказала мать. – Я поел в поезде, – ответил я. – Там хорошо кормили. Я не хочу есть, не волнуйся. – Суп с мясом, – сказала она. – Цыпленок. Ты должен поесть, – Мать снова начала кашлять, на ее глазах выступили слезы. – Я поем позже, – наконец произнес я. – Я привез тебе подарок. Мне было неловко, потому что я ничего не привез для капитана Брауна. Из баула я достал черно-красную шаль, купленную для матери. – Какая красивая, – прошептала она. – Настоящий шелк. Это от Семена? – От меня, – сказал я. – Я сам заработал. – Заработал? Как? – Грузил суда. – Ты помогал Сене? – Нет, он ни при чем, – ответил я. – Вот, Эсме. Что скажешь? Для нее у меня был нарядный передник, украшенный сложной вышивкой. Я купил его у Вагнера. Эсме от радости всплеснула руками. Ее синие глаза засверкали, когда она осмотрела вышивку. Я сделал хороший выбор. Передник идеально подходил к ее фигуре и цвету волос. Я разыскал пачку табака «Сиу» на дне чемодана. Сам я не особенно много курил, поэтому решил отдать табак капитану Брауну. Он пришел в восторг. – Самый лучший привозной американский табак, – заявил он. – Виргинский. Такой нечасто попадается. Я видел, как он растет, знаешь ли, в южных штатах Америки. Многие мили полей, черномазые, которые собирают табак и поют. Их музыка прекрасна, особенно издалека. Я когда-то пересек Америку от Чарлстона до Нантакета по железной дороге, повидал Нью-Йорк, хотя находился там всего несколько часов. Еще я был в Бостоне. И в Вашингтоне. И в Чикаго, где у меня еще остались друзья. Он погладил пачку табака, и я обрадовался, что сделал ему такой подарок. Капитан казался самым счастливым из людей. – Как странно, – продолжал он, – что я в итоге оказался здесь. Он начал что-то бормотать по-английски себе под нос. Я разобрал всего несколько слов и обрывок фразы, которая, кажется, относилась к «никчемным родичам в Инвернессе». Как-то раз капитан Браун решил обратиться к семье и узнать, найдется ли для него койка, но не получил ответа. Он утверждал, что был в семье черной овцой, хотя мне трудно понять, почему. Он заменил мне отца, а матери – любящего мужа. – Из-за войны многого не хватает. – Капитан Браун убрал табак в карман. – Теперь ничего не достать. Подозреваю, что дело в спекулянтах. Но, мне кажется, на севере и западе дела еще хуже. Люди из Москвы говорят, что нам повезло. – Они всегда завидовали Украине, – заметила Эсме. – Отец полагал, что немцы начали войну только для того, чтобы захватить эту часть империи. У нас лучшая промышленность, большие запасы продовольствия, превосходные порты. Причина вполне понятна. – Твой отец знал, о чем говорил, Эсме. – Капитан Браун попытался прислониться к печи – так, чтобы согреться, но не обжечься. – Я скажу по-солдатски. Они хотят заполучить Россию до самого Кавказа и поделиться с Турцией. Можете быть уверены, какой-то опьяневший от власти гунн и какой-то хитроумный мусульманин уже сговорились между собой. Иначе с какой стати Турция ввязалась в войну? – Мы сражались с татарскими ордами, – произнес я. – Нам будет легко отбросить немцев и турок прочь от границы. – Бог на стороне России, – сказала Эсме. – В итоге мы всегда побеждаем, и сейчас победим. – Уверен, ты права. Этот разговор был прерван ужасным приступом кашля. Волосы разметались по белому лицу матери – как будто ей привиделся один из обычных кошмаров; она наполовину свесилась с кушетки. От кашля ее тело раскачивалось из стороны в сторону. Она пыталась на что-то указать, опираясь о пол одной рукой и яростно размахивая другой. – Воды? – спросила Эсме. – Лекарства? – спросил капитан Браун. Я помог матери подняться. Она дрожала в моих объятиях. Это была особая, судорожная дрожь, как будто сначала она напрягала, а затем расслабляла мышцы. Зубы матери начали стучать. – Может, послать за доктором? – спросил я. – Это звучит бесчеловечно, – ответил капитан Браун, – но он только возьмет деньги и скажет нам то, что мы и так знаем. Твоя мать переволновалась, ожидая, когда к ней вернется единственный сын, все время говорила о тебе. Она гордится тобой, Максим. – Горжусь, – задыхаясь, прошептала мать. – Поешь супа. Я подумал, что она чувствовала разом и беспокойство, и радость. – Вам нужно поспать, Елизавета Филипповна, – проговорила Эсме. Она достала бутылку хлороформа, сообщив мне: – Она ждала тебя всю ночь. Мы думали, что ты приедешь раньше. – Поезд задержался, – ответил я. – Война. Шумно, почти жадно, мать приняла снотворного. Вскоре она откинулась на подушки и захрапела. Я печально осмотрел комнату, которая теперь казалась невероятно маленькой и захламленной. Увидел свою лавку, на которой когда-то очень любил спать, а теперь мечтал о кровати, пусть даже самой маленькой, с белыми простынями и подушками. Почти неделю мне пришлось провести в этой квартире; мать то кашляла, то храпела; иногда начинала кричать от одного из прежних, давно знакомых мне кошмаров. По крайней мере, теперь на лавке спала Эсме, а я расположился на матраце в другой комнате. Все было совсем не так плохо, как я ожидал. У меня осталась возможность уединения, хотя рядом со мной хранились запасы еды и стояла кухонная посуда. Вода подавалась с помощью насоса с лестничной площадки внизу, но у нас имелись сточная труба и раковина. Уборную мы делили с парой пьяниц, живших в соседнем помещении. Им было чуть больше двадцати, но оба казались законченными алкоголиками. Когда вступили в силу строгие запреты на продажу спиртного, они оставались такими же пьяными, как и прежде, – пили весь дрянной алкоголь, какой могли достать. В итоге оба умерли спустя несколько месяцев после моего отъезда в Санкт-Петербург. Однако в те дни они тревожили меня каждую ночь. Часть первого моего дня в Киеве мы провели с Эсме, отправившись на прогулку. Я вкратце поведал ей о своих приключениях. Мой рассказ произвел на нее впечатление. Более подробно я остановился на нескольких эпизодах – происшествии на борту английского корабля и встрече с греками и ласкарами. В основном я ограничивался рассказами об увиденных чудесах: курортах и развлечениях Фонтана и Аркадии, ярмарочных развлечениях, куда более впечатляющих, чем те, которые мы видели в Киеве, бесчисленных кораблях и людях разных национальностей. Эсме держала меня за руку, пока мы блуждали по присыпанным снегом улицам вокруг Кирилловской церкви. Улицы были пусты, только одинокий старый дворник в валенках, казалось, трудился там ради нас двоих. Мы стояли, глядя на серо-желтый мир вокруг, а я рассказывал о бирюзовом одесском море, о солнечных днях, о дружелюбных, веселых людях. Эсме сжимала мою руку так сильно и слушала так внимательно, что я заподозрил: у нее есть планы на мой счет. Но эта мысль пугала. Эсме была слишком чиста, возвышенна для плотских желаний. По крайней мере, она не отдавала себе в этом отчета, и жесты оставались вполне невинными. Я выпустил ее руку. Мы двинулись дальше. Киев казался маленьким и провинциальным по сравнению с Одессой, несмотря на то что был крупным городом. Мне не хватало моря, не хватало ощущения влекущего к себе мира по ту сторону океана. Я сказал об этом Эсме, когда она спросила, рад ли я своему возвращению. – Мне нужна возможность побега, – сказал я. – Меня влекут дальние края. Я хочу путешествовать. Хочу строить машины, в которых все мы сможем плавать по воздуху. Помнишь, как я летал, Эсме? – Помню. – Мы полетим вдвоем. Я отправлюсь в Петербург и получу диплом. Тогда у меня будет достаточно влияния, чтобы убедить скептиков. Потом поеду в Харьков, найду средства и начну строить разные летающие машины: пассажирские лайнеры, частные самолеты, все, что только возможно. И вагоны с автоматическим управлением. И парусные дирижабли, которые смогут опускаться на воду или летать, в зависимости от желаний и потребностей пилота. – Ты прославишься, – сказала Эсме. – В Киеве тебя зауважают. Твое имя будет в газетах каждый день, как имя Сикорского. Сикорский уже перебрался в Санкт-Петербург. Отказавшись от замыслов, целиком позаимствованных у Леонардо да Винчи, он больше не экспериментировал с вертолетами. Я отклонил данное направление исследований как совершенно непрактичное. Другая идея, связанная с использованием велосипедиста, который сам запускает двигатель, была выдвинута примерно пятьдесят-шестьдесят лет спустя. Сикорский так и не ответил на мое письмо, в котором я предлагал ему пятьдесят процентов прибыли, если он поможет мне доработать изобретение. Его планы оказались более грандиозными. Он фактически изобрел страшное оружие, самолет-бомбардировщик. Однако это случилось слишком поздно и уже не успело дать России того преимущества в воздухе, в котором она нуждалась. Мы могли бы переместить театр военных действий в верхние слои атмосферы. Нам больше не пришлось бы зависеть от ненадежных, неподготовленных крестьян, пустые головы которых стали прекрасными хранилищами красной пропаганды. Сталина, «человека из стали», обвиняли во многом, но он, подобно Ивану Грозному, понял необходимость поддержать русских, которым следовало положиться на свой простой ум и навыки. Сикорский, возмущенный этим, вскоре отправился в Америку, где заработал состояние и преувеличенную репутацию. Другие русские так никогда и не удостоились заслуженных почестей. Сталин знал, чего стоило нашевоздухоплавание. В годы Первой мировой войны нам нужен был кто-то вроде него. Есть все-таки некая ирония в том, что подобный вождь достался нам позже. Конечно, я не говорил Эсме ничего подобного, когда мы гуляли по саду у Кирилловской церкви в последнюю неделю 1914 года. У меня был дар предсказывать развитие технических идей, но не стоит сравнивать меня с Калиостро! В те дни, проведенные дома, я с удовольствием наблюдал, как улучшается состояние матери. Вскоре она смогла передвигаться по квартире. Дядя Сеня, как выяснилось, назначил ей пенсию. – Ему нужен джентльмен в семействе. – Мать показывала всем дядино письмо. – Он сделает все, лишь бы ты добился успеха. – Ты бросишь прачечную? – спросил я. Теперь я страдал от того, что мать зарабатывала на жизнь столь недостойным способом. – Я получаю с нее небольшую ренту, – ответила она. – Сейчас я слишком плоха, чтобы много работать. – Вам будет только хуже, если сразу вернетесь к работе, – поддержала меня Эсме. – Тебе следует весной поехать в Одессу, – предложил я. – Там чудесно. Солнечный свет сделает тебя новым человеком. Это позабавило мать. – Тебя старый не устраивает? – По крайней мере, в нынешнем состоянии. Поживешь у дяди Сени. – Чтобы турки меня пристрелили? Сейчас не время для поездки к морю, Максим. – Мать почти обвиняла меня; как будто я предложил, чтобы она подвергла себя опасности. – Мы подождем, а? До конца войны. – Все закончится к весне. Посмотрим, что русская зима сделает с нашими врагами. Мы одержим победу, и они миллионами полягут в Галиции. Земля пропитается вражеской кровью. Далее последовали: испуганное восклицание Эсме «О Максим!», слабый стон матери и усмешка капитана Брауна, который как раз вышел из другой комнаты, где он умывался. – Ты стал русским воином, Максим. – Мы все должны стать немного воинами. – Я прочел это в одной из газет. – Каждый русский – солдат, помогающий приблизить победу. – Каждый русский? – Капитан Браун подмигнул мне. Он признал, что я повзрослел, а мать все еще считала меня тем же мальчиком, который уехал из Киева в сентябре. – Как насчет Распутина, а? Ты думаешь, он тоже вносит свою лепту? Если так, я хотел бы ему помочь. Он был пьян. Мать воскликнула: «Капитан Браун!» – и предложила ему прогуляться, пока он не почувствует себя лучше. Эсме покраснела. Старый шотландец меня удивил. Обычно, пьяный или трезвый, он оставался джентльменом. Возможно, он стал пить больше водки в последнее время. Пробормотав извинения, капитан отвесил поклон матери и Эсме, удалился и не возвращался несколько часов. Все это время я провел за столом, стараясь, как делал с самого возвращения, освежить свои познания в основах инженерии. Я получил место в политехническом, но мне придется пройти предварительное собеседование. Я хотел убедиться, что справлюсь с этим испытанием, и продолжал заниматься по ночам, когда Эсме и мать спали. Мой небольшой запас кокаина уменьшался, зато запас знаний быстро увеличивался. По мере того как я продолжал занятия, ко мне возвращались идеи и замыслы, проекты, которые я отложил, уезжая в Одессу. Я разрабатывал метод строительства подводных туннелей, чтобы связать разные части Петербурга, разделенные каналами и реками; обдумывал уничтожение Берингова пролива, чтобы напрямую соединить Россию и Америку; естественно, необходимы были новые виды стали, и я исследовал различные сплавы. Я начал, короче говоря, возвращаться к прежнему настрою, к усердию и творчеству. Иногда я в одиночестве отправлялся на прогулки: к лощине, теперь покрытой толщей снега, где находился цыганский табор; к Бабьему Яру, над которым я летал. Посетив жалкое обиталище Саркиса Михайловича Куюмджана, я узнал, что армянин оставил свое дело. Очевидно, случай с двигателем из пекарни вынудил его в конце концов покинуть Киев. Стало гораздо труднее вести дела – возможно, потому, что во время войны люди возвращались к доиндустриальным методам; механик отправился в Одессу через некоторое время после моего отъезда. Оттуда, как я узнал, он перебрался в Англию. У него, по словам старой соседки, были родственники в Манчестере. Я ощутил нечто вроде раскаяния и спросил, не думает ли она, что в этом есть и моя вина. Она пожала плечами. – Он боялся турок, всегда волновался, когда о них вспоминали, ты же сам знаешь. Воображал, что хан-мусульманин сядет на киевский престол. И отправился в страну, в которой, по его убеждению, никогда не столкнется с мусульманами. Какая ирония! В Манчестере теперь полно сыновей Аллаха. Они заседают в органах местного самоуправления, ссужают деньги под огромные проценты и сдают жилье внаем. Здоровье матери улучшилось, и она начала беспокоиться о моей предстоящей поездке. – Одесса – это одно, – говорила она, – но Петербург – совсем другое. В Одессе у тебя были родные, а там нет никого. – Это не так, мама. Дядя Сеня дал мне адрес своих агентов. Это солидная английская фирма. От господ Грина и Гранмэна я буду получать пособие и смогу обратиться к ним в любое время, если возникнут неприятности. – Петербург – центр революционных заговоров. Все об этом знают. Твой отец никогда не интересовался политикой, пока не поехал туда. Там начались все беды – аресты, погромы. Для них все просто, они дети богачей. Если их поймают, то сошлют в Швейцарию. А нас расстреляют. – Меня никто не расстреляет, мама. – Ты должен обещать не делать ничего такого, что может вызвать подозрения, – попросила меня Эсме. – У меня нет времени на красных, – посмеялся я над их опасениями. – Кадеты, эсеры и анархисты – я ненавижу их всех. В те дни не ленинские социал-демократы, а эсеры считались самыми фанатичными радикалами. О Ленине, само собой разумеется, скрывавшемся в каком-то роскошном замке, еще никто не слышал. Гораздо позже, уверенный, что всю грязную работу за него уже сделали, он получил деньги, вернулся в Россию с помощью немцев и провозгласил свою революцию. Люди вроде него есть во всех слоях общества. Они позволяют настоящим работягам трудиться, а потом приписывают себе их заслуги. Нечто подобное случилось и со мной, со всеми моими изобретениями. Репутация Томаса Алвы Эдисона основывалась на достижениях его помощников. Так обычно происходит в научной среде, и нет ничего удивительного, что это случается и в бизнесе, и в политике. Немцы рассказывали мне, что Эйнштейн украл все свои идеи у собственных учеников. В пабе я встретил молодого человека, который поведал мне, что написал все песни «Битлз» и не получил ни пенни взамен. Даже прославленным испытаниям вертолета Сикорского предшествовала успешная попытка французов, братьев Корню[62], в 1907 году: но о них в киевских газетах два года спустя никто не упоминал. В мире науки и политики есть люди, которым сопутствует удача, они приобретают известность, встречают нужных людей. В их честь называют города и крупные компании. Я примирился с безвестностью, но по крайней мере эти вспоминания помогут восстановить справедливость. Вероятность остаться неизвестным казалась невозможной мальчику, рассказывавшему Эсме о своих планах на будущее; об огромных изящных небоскребах, возносящихся над руинами трущоб; о городах с движущимися тротуарами и крытыми улицами, с воздушным транспортом, автоматами для продажи еды, генетическими селекторами, которые гарантируют всем детям совершенное здоровье. Мы развивали технику, которую следовало использовать именно так. Эсме, со своей стороны, говорила о том времени, когда станет достаточно взрослой, чтобы работать сестрой милосердия. – Скоро станет слишком поздно, – сказала она. – Война закончится. – Молись об этом. Что она станет делать в мирное время? Она по-прежнему мечтала ухаживать за больными: – Я хочу сделать в жизни хоть что-то полезное. Я с благодарностью пожал ее руку, когда мы сидели на скамье в лучах зимнего солнца, смотря на Бабий Яр. – А пока ты спасаешь жизнь чудесной женщины. Я обязан матери всем, Эсме. – Когда человек знает лишь одного из своих родителей, он ценит его гораздо сильнее, – ответила она. Я согласился. Она загрустила, вспомнив об умершем отце. – Он был храбрым человеком, – произнес я. Эсме побледнела. – Достаточно храбрым. Этот твой чистый, научный мир будет справедлив, Максим? – Справедливость – редкий товар, – ответил я. Она улыбнулась: – Ты мог бы стать великим учителем. Я задумался. – Может быть, я стану управлять своей лабораторией, у меня появятся помощники, которым я смогу передать свои знания. – А я стану вашей штатной санитаркой. – Мы оба постараемся, каждый по-своему, сделать мир лучше. Это была несвойственная мне ошибка – поверить, что знание можно поставить на службу чувствам. Как монахиня не может находиться в миру, так и настоящий ученый не может создавать эффективные бесплатные столовые. Вера в то, что наука может одолеть человеческие беды, – просто амбиция интеллигента. Но в компании Эсме я зачастую ненадолго заражался женской сентиментальностью. И первым готов признать, что без таких созданий мир стал бы хуже. В свой день рождения я получил полезные подарки от всего небольшого семейства. Книги, карандаши, бумага, роскошная немецкая точилка и приличный портфель – все это должно было пригодиться мне в Петрограде. Мать плакала и кашляла, лежа на кушетке, глядя на меня сонными глазами и умоляя Эсме и капитана Брауна повторять, чтобы я не связывался с красными и с распутными женщинами. Я сказал ей, что в Политехническом институте очень строгие нравы. Я отыскал его на карте. Институт располагался даже не совсем в Петербурге. На следующий день я получил письмо и несколько рублей серебром из Одессы. Дядя просил меня с пользой проводить время в Питере, встречаться с нужными людьми и производить хорошее впечатление на профессоров. Он предупредил, что теперь мне следовало представляться Дмитрием Митрофановичем Хрущевым, и прислал паспорт на это имя. Туда была вклеена моя фотография. Это потрясло меня. Из-за войны дядя Сеня, очевидно, воспользовался какими-то особыми связями, но я не ожидал, что придется поступать в институт под вымышленным именем, которое, возможно, мне придется носить всю оставшуюся жизнь. Оно появится на всех моих дипломах. Я не мог тогда привыкнуть к мысли, что человек может менять имя так же, как меняет одежду. Революция скоро познакомила меня с этой процедурой. Я уже знал от Шуры, что у многих людей были документы на разные фамилии. Некоторые меняли свои имена десятки раз. Но тогда речь шла о преступниках, радикалах, которым приходилось совершать подобные вещи. Паспорт казался подлинным. Дядя Сеня упомянул, что следует сообщить матери мое новое имя. Я не смог сразу сказать об этом ни матери, ни Эсме. Надел свое английское пальто и вышел прогуляться в парк. Здесь, на холме, я все обдумал. Понятно, как это вышло. Во время войны место в политехническом получить было нелегко. Многие украинцы хотели учиться в Петербурге. Очевидно, имелось слишком много претендентов. Возможно, этот Дмитрий Митрофанович Хрущев отказался от своего места, чтобы его мог занять я. Может, он умер или ушел в армию. Было великое множество разных вариантов. Но, если я хочу учиться, придется поступать в институт под псевдонимом. Это никак не повлияет на качество обучения. Возможно, позже я смогу назвать настоящее имя и подписывать свои патенты должным образом. Я всегда ненавидел лицемерие и обман и при этом всегда становился жертвой и того, и другого. Какая ужасная ирония… Теперь мне приходилось жить во лжи не потому, что совершил что-то дурное, а потому, что мой дядя Сеня готов был пойти на все, чтобы обеспечить мне хорошее образование. Я узнал, что мир полон лжи. Я рассказал обо всем матери. Она не удивилась. По ее словам, в недавних письмах дядя Сеня уже намекал на это. Хрущев – хорошая, достойная фамилия, с которой можно появиться в обществе. Однако я заметил, что мать волновалась. Возможно, это казалось ей частью одного общего бедствия. Ей почему-то становилось хуже от того, что я так долго оставался дома. Даже Эсме обратила внимание, что, хотя настроение и состояние здоровья матери улучшались, ее нервы все больше расстраивались. Вечером накануне отъезда мы с Эсме пошли прогуляться. Я сказал, что должен играть роль Дмитрия Митрофановича и ей придется хранить тайну моего настоящего имени. Этот секрет стал моим прощальным подарком девушке. Эсме улыбнулась и ответила, что очень ценит мое доверие. Впрочем, ее не особенно озадачила эта внезапная смена имени. Мы держались за руки, как брат и сестра, и Эсме уверяла, что позаботится о матери, что мне нужно изо всех сил трудиться, чтобы стать великим инженером. Если я прославлюсь как Хрущев – какое это имеет значение? Мать все равно будет мной гордиться, и я в любом случае смогу заботиться о ней. На следующее утро я сумел вжиться в роль и стал Дмитрием Митрофановичем Хрущевым, который садился в спальный вагон, чтобы с привычными ему удобствами добраться до столицы. Дядя Сеня вместе с билетом прислал инструкции: куда следует направиться и как вести себя в Петербурге. Он настаивал, чтобы я вел себя как джентльмен, и ради этого готов был пойти на любые расходы. Меня глубоко тронула его доброта. Матушка искренне радовалась. Она была слишком больна, чтобы сопровождать меня на станцию, и, надо признать, я не огорчился. Было бы слишком унизительно, если бы меня увидели вместе с болезненной, плачущей матерью, которая сквозь приступы кашля пытается прошептать последнее «прощай». Вместо этого со мной отправились Эсме и капитан Браун. Они помогли мне с багажом и проследили, чтобы носильщик отнес его в правильное купе. Я был перевозбужден. Мне не доводилось путешествовать в спальном вагоне. Войдя в купе, я увидел, что верхняя койка уже занята. Мне следовало разделить помещение с другим джентльменом. Это было обычным делом, особенно для не слишком богатых людей, и я знал, что в поезде очень мало свободных мест. Почти весь вагон оказался заполнен высокопоставленными военными и членами их семей. Я никогда не слышал такой плавной, грамотной русской речи, да и французской, кстати говоря, тоже. Девочки предпочитали беседовать по-французски. Я думаю, им даже нравилось притворяться француженками. Но их выдавал акцент. Я мог это определить, хотя по-французски говорил не слишком свободно. Это язык любви; язык, на котором те же девочки говорили через несколько лет, пытаясь привлечь возможных покровителей из числа большевиков на улицах Петрограда и Москвы. Купе поразило Эсме, она о таком никогда не слышала. По ее словам, девушка ожидала увидеть в вагоне ряд кроватей, что-то вроде спальни на колесах. Здесь находился небольшой умывальник с полированной деревянной верхней частью, которая могла использоваться как стол. Даже унитаз оказался замаскирован под стул, по цвету сочетавшийся с остальной частью купе. Стены были окрашены в темно-розовый и белый, в снежном сиянии из окон все вокруг искрилось. Обивка по цвету напоминала десерт, который позднее продавался в Париже под названием «Клубника а-ля Романов»[63], возможно, потому, что нравился царю. Простыни казались идеально белыми, и одеяла превосходно сочетались по цвету с обивкой. В купе обнаружились маленькие выдвижные ящички и крошечные платяные шкафы. Мой спутник уже распаковал свои вещи. Запах одеколона заполнил помещение, на вешалке висел изысканный арабский халат. Я прочитал объявления на двери, написанные по-русски, по-французски и по-немецки. В них шла речь о звонке, до которого можно дотянуться, лежа в кровати, и о предоставляемых услугах разного рода. Требовалось не курить в кровати и вызывать дежурного при малейших признаках пожара. Также перечислялись все обычные правила путешествия по железной дороге. Капитан Браун сказал, что это купе можно сравнить с лучшими из тех, в которых он путешествовал по Индии и другим местам, и что ему хотелось бы отправиться со мной. Эсме согласилась и призналась, что завидует мне. Я уже привык к некоторым удобствам, но моей подруге этот вагон казался по-настоящему волшебным. Она то и дело касалась одеял, простыней, креплений, как зачарованная. Наконец Эсме спросила меня: – А у твоего дяди было так же? Я рассмеялся: – Нет, по-другому. Она смотрела на меня как на божество. – Ты должен хорошо учиться, – сказала она серьезно. – Это большая честь, Максим. Я сжал ее руку. – Дмитрий, – шепотом напомнил я. – Я здесь оказался потому, что меня зовут Дмитрий Митрофанович и я сын священника из Херсона. – Об этом свидетельствовали мои документы. – Я надеюсь, что ты не встретишь семинарских дружков из Херсона. – Капитан Браун коснулся моей руки. – Пусть твоя мать будет счастлива, мальчик. Это стало возможным благодаря ей. Если б она не бросилась в ноги твоему дяде… Что ж, он – единственный приличный член этого семейства. Я думал, моя собственная семья недостаточно хороша, но, по крайней мере, они не притворяются, что я мертв. Об этом я прежде не слышал. – Не понимаю вас, капитан Браун. Он сочувственно улыбнулся: – Все в порядке, мой мальчик. Вы с матерью не виноваты. Твои родственники не одобряли того, что сделал твой отец. Они и судили, и вынесли приговор. Все дело в религии, я полагаю. Больше я ничего не услышал. Проводник прокричал, что провожающие должны выйти из поезда. Раздался громкий свист. Капитан Браун пожал мне руку, Эсме поцеловала в щеку. Я ответил на поцелуй; она покраснела. Они стояли у окна купе, улыбаясь, кивая и жестикулируя, а потом раздался еще один свисток, вагон дернулся, и я вновь умчался в белую степь. На сей раз мой родной город был скрыт падающим снегом. Поезд помчался в тишину замерзших озер, голых, сверкающих серебром берез, сосен, маленьких станций, увешанных сосульками телеграфных проводов, старых, серых, тесных деревень, где крестьяне тянули сани с дровами, рядом с которыми лежали младенцы. Белый густой дым поезда был единственным источником тепла во всем этом холодном пейзаже. В купе вошел крупный молодой человек, одетый в рубашку с высоким воротником, сиреневый шейный платок, черный шелковый жилет, узкие брюки и пиджак. У него были широкие синие глаза и толстые губы, которые обыкновенно вызывали у меня недоверие, напомаженные светлые волосы, уложенные волнами на большой, красивой голове. Но сосед выглядел очень дружелюбным. Он протянул мне свою большую руку и наклонился; эта поза показалась мне знакомой. Когда он заговорил, я понял, что юноша как-то связан со сценой. – Bonjour, mon petit ami. Его акцент звучал как-то нарочито. Я ответил подобающе: – Bonjour, m’sieu. Commentallez-vous? – Ah, bon! Très bon! Et vous? – Très bien, merci, m’sieu[64]. Этот смешной обмен фразами из учебника продолжался, пока не прозвучали наши имена. – Je m’appelle[65] Дмитрий Митрофанович Хрущев, – сообщил я. Соседа звали Сергей Андреевич Цыпляков, и он, по его словам, на день отстал от своей «банды». К нашему общему облегчению, мы перешли на русский. – Банды? – переспросил я, удивившись. – Вы что, бандит? Он долго смеялся. Смех показался искусственным, наигранным, театральным. – Можно и так сказать. Я могу звать тебя Димой? – Сосед отбросил формальности гораздо быстрее, чем следовало, но помешать этому я никак не мог. Он, в конце концов, был гораздо более опытным путешественником. Я согласился. – Можешь звать меня Сережей, – сказал он. – Мы с тобой подружимся. В конце концов, дорога долгая. Подмораживает, не правда ли? Мне казалось, что в купе довольно тепло, но я решил промолчать, пока не услышу мнения своего спутника. – Моя банда – это балет «Фолин». Вот что объясняло его нарядную одежду, легкое панибратство, мягкость рук и изысканность жестов. Я слышал об этой труппе, видел ее афиши в Киеве и чувствовал себя польщенным, оказавшись в одном купе с таким выдающимся человеком. Я сказал, что пробыл в Одессе несколько месяцев и не смог попасть на их выступления. Он ответил, что гастроли были ужасными, сцена – отвратительной, но труппа выступила очень хорошо. А сам я из Одессы? Или путешествую? Я признался, что путешествовал очень мало. – Мы объездили весь мир, – сообщил он. – Ты был в Париже? Тебе нужно там побывать. А в Лондоне? – Он поморщился, видно, не слишком высоко ценил Лондон. – Мещане, – пояснил он. – В Нью-Йорке с культурой дело обстоит куда лучше. Не верится, да? Ох уж эти ковбои! А ты бывал в Нью-Йорке? Я не стал обманывать его и покачал головой. – Тебе стоит поехать туда как можно скорее. Подальше от этой войны. В Нью-Йорке ценят искусство. Они, знаешь ли, не могут жить без него, бедняжки. Я был очарован Цыпляковым почти так же, как когда-то Шурой. Мне льстило внимание, дружеское и прямое обращение моего спутника. Мы пошли в ресторан. Он угостил меня завтраком и настоял, чтобы я выпил бокал шампанского. Мы вернулись в купе и уселись на моей койке. Сергей рассказывал мне о своих приключениях за границей, о провалах и триумфах их труппы, маленькой, но хорошо известной в столице. Он жаловался, что война сильно мешает гастролям. Именно поэтому труппа и оказалась в Киеве. Они собирались отправиться в Берлин на Рождество. – Мы с таким нетерпением ждали этого, Дима, mon ami! Рождество в Берлине! Чудесные украшения на деревьях, рождественские песни, имбирные пряники! Немцы изобрели этот праздник, сдается мне. Это все так прекрасно! Мишура, бархат… и все так счастливы. Цыпляков возлагал ответственность за всю войну на нескольких прусаков и жадных австрийцев. Он думал, что венгры ни в чем не виноваты. – Они любят музыку, танцы и прочие виды искусства. Австрийцы же думают, что вальс – высочайшее достижение культуры из всех возможных. Он жаловался, что не может теперь поехать даже во Францию, разве что в военной форме. Он вызвал проводника и заказал бутылку «Круга». Я с крайним удивлением обнаружил, что заказ приняли. Через четверть часа нам принесли ведерко со льдом, в котором виднелся не «Круг», а темно-зеленое горлышко прекраснейшего и сладчайшего «Моэ Шандон»[66]. – Теперь в России практически невозможно раздобыть «Круг», – сказал Цыпляков. – К счастью, на железных дорогах еще осталось шампанское. Если хочешь выпить, нужно путешествовать в спальном вагоне! Он рассмеялся, катая бутылку по льду. – Все столицы для нас закрыты, по той или иной причине. Конечно, люди в провинции очень рады нам. Мы собираем полные залы везде, где бываем. Здесь можно заработать больше, чем в Европе. Но это так скучно. Я люблю развлекаться, Дима. Я упорно тружусь на сцене, так что мне нужно расслабляться при любой возможности. Как ты думаешь? – Он вытащил бутылку из ведерка. Я подставил бокал, и мой новый друг изящным движением наполнил его. – Мы чудесно проведем время. С Новым годом! – Он осушил свой бокал. Потом перевел дыхание и как раз собирался что-то сказать, когда проводник постучал в дверь и отворил ее. У него было грубое красное лицо, седеющие усы, темный мундир, перетянутый золотыми галунами. Он поприветствовал нас. – Мне очень жаль, ваши превосходительства. Родители просили меня проследить за молодым джентльменом. Если будут проблемы, сразу обращайтесь ко мне. – Он закрыл дверь. Сережа нахмурился и назвал проводника назойливым старым дураком. Мне польстило такое внимание. Под словом «родители» он, должно быть, подразумевал капитана Брауна. Несомненно, тот дал чаевые проводнику, чтобы он следил за мной до самого Петербурга. Снег продолжал идти, а мы с Сережей пили. Он рассказывал мне о Марселе, Флоренции, Риме и обо всех замечательных теплых местах, которые мы не сможем посетить в течение многих месяцев. Чем больше мой попутчик выпивал, тем свободнее становилась его речь. К счастью, я уже привык к этому. Действительно, я обнаружил, что мое стремление быть джентльменом в компании Сережи несколько уменьшилось. Я смеялся над его шутками и даже рассказал несколько своих, над которыми он смеялся так же, как и над собственными. – Нам нужна музыка, – заявил он. – Как жаль, что остальные члены труппы уехали более ранним поездом! У нас так много замечательных ребят, которые играют на гитарах, мандолинах, балалайках и аккордеонах. Мы могли бы устроить небольшую вечеринку. С девочками. Ты любишь девочек, Дима? – Он улыбнулся и положил свою большую руку мне на плечо. – Полагаю, ты еще слишком молод и потому не знаешь, что тебе нравится, а? Но у тебя же есть чувства? – подмигнул он. Я уверил его, что чувства у меня есть. Цыпляков сжал мое плечо, а потом – колено. Он предложил заказать еще бутылку шампанского, чтобы согреться, и позвонил в звонок. Явился проводник. Сережа раздраженно заявил: – Я требую официанта. – Он скоро придет, ваше превосходительство. Но прошел час, и шампанское закончилось прежде, чем появился официант. – Еще бутылку, – сказал мой друг. – А лучше две. Официант покачал головой: – Все шампанское вышло. – Мы же едем только час! – Мы едем уже три часа, ваше превосходительство. – И у вас кончилось шампанское? – Очень жаль. Война. – О, это восхитительная война, не так ли? Артисты лишились тех немногих удовольствий, которые у них оставались. Вы отдаете публике все, а что получаете взамен? Лишь одну-единственную бутылку шампанского. – Это не наша вина, ваше превосходительство. – Тогда принесите мне бутылку бренди! – У нас нет бренди в бутылках. Весь запас хранится в вагонах-ресторанах. – Вы имеете в виду, что если мы желаем выпить, нам следует и поесть? Официант вытащил свой блокнот. – Заказать вам столик? – Давайте сделаем по-другому. – Сережа встал, его тень нависла над нами. Он размял ноги, потом руки. – К утру я буду в агонии. – Он дотянулся до кармана сюртука, который бросил на свою кровать. – Разве вы не можете раздобыть нам всего одну бутылку, а, официант? – Он достал серебряный рубль. Мужчина смотрел на него так, будто видел, как умирает его ребенок, и не мог спасти его. – Никак нельзя, ваше превосходительство. Со своего места я мог заметить тень проводника за спиной официанта. Он следил, чтобы того не подкупили. – Все в порядке, Сережа, – сказал я. – Мы уже выпили много шампанского. Гораздо больше, чем могут себе позволить другие. Танцор резко опустился вниз, отодвинув официанта. – Когда будет обед? – С пяти часов, ваше превосходительство. – Тогда закажите на пять. – Очень хорошо. – И проверьте, чтобы у нас был аперитив. – Постараюсь, ваше превосходительство. Сережа вскочил, охваченный гневом, но официант уже скрылся в коридоре. – Дима, мой дорогой, из-за войны мы все обречены на страдания. – Он посмотрел на меня как-то странно, сквозь прикрытые глаза. – Ты же не станешь меня винить? – Конечно, нет. – Я старался. – Я видел. – Думаю, я немного отдохну перед обедом. Почему бы тебе не поступить так же? Я почувствовал сонливость и согласился, что это неплохая идея. Сережа вскарабкался на свою койку. Матрас прогнулся под тяжестью его тела. Я лег, не снимая рубашку и брюки, аккуратно повесив пиджак и жилет, и попытался уснуть. Но сильное волнение, которое я испытал чуть раньше, теперь сменилось чем-то вроде депрессии. Я с нетерпением ждал второй бутылки. Пару минут спустя я услышал шорох, доносившийся с постели Сережи. Он сел по-турецки, судя по тому, как провис матрас, и через некоторое время сильно втянул носом воздух – один раз, потом еще. Звук был мне знаком. Я резко встал, чтобы застать соседа врасплох, и тотчас убедился, что он прижимал к носу короткую серебряную трубочку. Она вела к небольшой шкатулке, похожей на табакерку. Лишенный вина, Сережа перешел на кокаин. Он посмотрел на меня и убрал приспособление. – Я как раз принимал свое лекарство. – Болит голова? – спросил я, изображая полную невинность. – Совсем чуть-чуть. Шампанское, сам понимаешь. И затем этот ужасный разговор с официантом. – Тебе стоит поспать. – Что-то мне не спится. А тебе? – Меня клонит ко сну. – Это было не совсем верно, но я решил, что так правильней. Я надеялся заполучить немного кокаина. В моем багаже все еще оставалось чуть более грамма, но я решил приберечь этот запас на крайний случай, когда потребуются силы для занятий. Теперь нашелся новый источник. Я решил заполучить адрес танцора, чтобы не потерять его из виду. Через него можно будет связаться с поставщиком, и одна из моих тайных проблем разрешится. Сережа приподнял свою мягкую руку и взъерошил мне волосы: – Не волнуйся обо мне, мой темноглазый красавец. Я уже чувствую себя лучше. Я отшатнулся. В то время я очень мало знал о нравах, царящих в мире балета, но какой-то инстинкт предостерег меня. Я уверен, что официант и проводник, должно быть, догадались о намерениях танцора и сделали все, что могли, чтобы помешать ему. В наши дни такие наклонности, как у Сережи, считаются современной проблемой. Но они существовали всегда. Практически все, что характерно для нашего времени: пороки, политические теории, тирания, споры, явления искусства, – зародилось в России в ту эпоху. Петербургские дегенераты задали тон целому столетию. Я отобедал с Сережей, потому что решил, что должен, но пил очень мало, считая каждый глоток. Когда мы вернулись в купе, он позволил мне переодеться в маленькой уборной. Я надел ночную рубашку и улегся в кровать. Мой сосед скрылся в туалете. Я услышал вполне естественные звуки. Потом он вышел. Сережа был совершенно голым. Это не выглядело чем-то необычным – в те времена среди мужчин было принято вместе посещать баню и купаться обнаженными. Меня встревожило другое – его член раскачивался перед моим лицом, поскольку Сережа как будто никак не мог залезть на свою постель. Поезд начал двигаться немного быстрее, но мой спутник раскачивался надо мной совсем не из-за этого, его горячий, напряженный член касался моей шеи и плеча. Он начал извиняться. Я, конечно, будучи в замешательстве, ответил, что ничего страшного не произошло. Он сел на край моей кровати, как будто приходя в себя, и сжал мое плечо. – О Дима. Какой ужас! Все хорошо? Я сказал, что у меня все в порядке. Он коснулся пальцами моей руки. – Мне очень жаль. Я совсем не хотел испугать тебя. – Я не испугался, – ответил я. – Но я вижу, что ты расстроен. – Нисколько. – Ты стал таким строгим. – В глазах Сережи блеснули слезы. – Тебе совершенно не нужно извиняться. – Ах, но я хочу извиниться. Я чудовище. Ты понимаешь? – У тебя исключительно благородная профессия. Русские всегда были великими танцорами. Это, казалось, огорчило его. Что-то проворчав, Сережа выпрямился и медленно забрался на свою койку. Вскоре я услышал какой-то шум и понял, что он начал мастурбировать. Чувствуя какое-то оживление ниже пояса, я и сам слегка поразвлекся. Я заснул, а когда проснулся, почувствовал какое-то неудобство. Было темно. В поезде царила полная тишина. Похолодало. Я оказался прижат к стенке вагона – Сергей улегся на мою койку. Когда я попытался шевельнуть затекшей рукой, в темноте зазвучал его низкий, медленный голос. Я почувствовал, как моего лица коснулось несвежее дыхание. – Мне показалось, что тебе холодно, и я решил согреть тебя. – Здесь недостаточно места для двоих. – Ты замерзнешь. – Сережа положил руку мне на плечо. Он вспотел. Я подумал о том, могли ли выпивка и кокаин вызвать такую форму безумия. – Мне очень неудобно, – сказал я. – Я могу обнять тебя. – Спасибо, Сергей Андреевич. Не стоит меня обнимать. – Я должен. – Вовсе нет. Разве в купе так холодно? – Поезд стоит. С отоплением что-то не так. Мы застряли среди снегов. Я сопротивлялся. Он попытался одолеть меня. – Ценю такую заботу, Сергей Андреевич, но мне в самом деле больно. – Я люблю тебя, – произнес он. – Что? – Ты знаешь, что любишь меня. – Все люди – братья, Сергей Андреевич. Но мы почти не знаем друг друга. Я попытался переползти через него. Мои руки коснулись ковра. Я почувствовал, как его рука скользнула по моей спине вниз и начала поглаживать задницу. – Ты прекрасен, – заявил он. – Я позову проводника! – воскликнул я, затем встал и зажег светильник. – Немного черного кофе – и все снова будет в порядке. – Что ты знаешь о мужчинах? – Свет озарил крупную фигуру Сережи. Он впился в меня взглядом, прищурив глаза. – Зачем ты играешь в такие игры? Давай, вызови проводника. Сделай так, чтобы я отправился в тюрьму. – В тюрьму? – Я был озадачен. – Почему? Он не мог отправиться в тюрьму за то, что пытался согреть меня в постели. Я, конечно, подозревал, что он хотел заняться со мной любовью, но мне не хватало опыта, чтобы быть в этом уверенным. Он посмотрел на меня – грустно и в то же время с признательностью. – И на том спасибо. Я еще в Одессе усвоил правила деликатного поведения, так что не стал развивать тему. Однако мне хотелось избавиться от гнетущей атмосферы, царящей в купе, поэтому я надел халат и тапки и отворил дверь. Он замер: – Что ты собираешься делать? – Размять ноги, – сообщил я. – Подышать свежим воздухом. Полагаю, тебе стоит вернуться в кровать, Сережа. – Спасибо. Когда я уходил, он начал карабкаться на свою койку. Прохаживаясь по коридору и рассматривая серые снежные заносы сквозь заледеневшие окна, я чувствовал одновременно и смущение, и ликование. Похоже, Сергей Андреевич теперь мой должник. Я был готов воспользоваться этим при первой же возможности, хотя пока еще не знал, как именно. Меня некому защитить, и в Санкт-Петербурге мне следовало полагаться только на себя, и чем больше друзей с хорошими связями я смогу отыскать, тем лучше пойдут мои дела. Стоя у окна, я увидел, что в дальнем конце коридора появилась тень; по направлению ко мне медленно шла молодая женщина в красно-зеленом платье, с аккуратно уложенными темными волосами. Она была немного старше меня, круглолицая и приятная, с овальными карими глазами и крупными ровными зубами. Незнакомка улыбнулась мне: – Не можете заснуть? – Мне показалось, что я задыхаюсь. – Я кивнул в сторону своего купе. – Я путешествую с моей ужасной старой няней, – прошептала девушка, – настоящей крестьянкой, хоть и из Шотландии. Она сохранила тамошние привычки. Тьфу! – Привычки? – Она все время говорит по-английски. Во сне. – Вряд ли это можно назвать крестьянской привычкой, – удивился я. – В Англии – конечно, не правда ли? Эта встреча показалась мне столь же нелогичной, как и предшествующая. – В Англии тоже есть крестьяне, – сказал я. – Хоть и поблагороднее наших. – Вы бывали в Англии? – Мне знакома эта страна. Это было правдой. Знакомство произошло прежде всего благодаря капитану Брауну и «Пирсону». Я произвел впечатление. – Я путешествую впервые. Мы из Молдавии, у нас там имение. Очень красивый край. Слышали о ней? Я сказал, что, к сожалению, нет. – Вам бы понравились эти места, но там скучно. Отец уединился в имении, отойдя от дел. До этого он путешествовал по Англии. Там и подыскал мне няню, но она на самом деле не настоящая шотландская гувернантка. Она заботилась обо мне, потому что мама часто хворала. – Ваша мать умерла? – Конечно, нет, причем совершенно здорова. Она страдала от анемии. Теперь вылечилась, много ездит верхом – увлеклась английской охотой. С собаками, лошадьми, красными куртками и тому подобным. Но я думаю, что вас интересуют другие виды лис. – Английская лиса – осторожный маленький зверек, – заметил я. – И очень красивый. Девушка приоткрыла часы-кулон, висевшие у нее на груди; уже минула полночь. Я не хотел расставаться с ней. – Вы путешествуете? – спросил я. – Нет, я собираюсь поступить в университет в Питере. – На koyorsy? – Я ознакомился с большинством учебных заведений столицы. Кoyorsy[67] предназначались для женщин. – Да! – восторженно ответила девушка. – Я тоже студент, – продолжал я. – Буду учиться в политехническом. Я моложе большинства студентов, но у меня есть медаль. Ее это не слишком впечатлило. В те времена у политехнического была репутация второсортного учебного заведения. Точные науки и инженерное дело во многих слоях общества все еще считались неподходящими занятиями для людей благородного происхождения. – Война, – пояснил я, – требует новых типов оружия. И новых людей, способных его создать, потому меня и пригласили в Питер. Она захихикала: – Вы всего лишь мальчик. – Я уже летал на собственном аэроплане, – сообщил я. – Может быть, вы читали об этом в прошлом году? В Киеве. Я летал в течение нескольких минут на машине совершенно нового типа, которую сам построил. Об этом писали во всех газетах. – Я что-то припоминаю о новом виде летательной машины. Это было, действительно, в Киеве. – Вы разговариваете с ее изобретателем. Я одержал победу. Она немного смущенно произнесла: – Я не могу вспомнить вашего имени… Это, конечно, было сложно. Я колебался. Она поднесла руку к губам: – Извините. Вам не дозволено, потому что война? Я кивнул: – Я себе не хозяин. Могу сообщить вам только то имя, которым пользуюсь сейчас. – Опасаетесь шпионов? – Вполне возможно, мадемуазель. – Меня зовут Марья Варворовна Воротынская. Я поклонился: – Можете называть меня Дмитрием Митрофановичем Хрущевым. Под этим именем я буду жить в Петербурге. Девушка пришла в восторг от таких романтических обстоятельств. Избегая преднамеренного обмана, я узнал, как использовать женскую тягу ко всему таинственному. По крайней мере, в данном случае я вышел из затруднительного положения вполне успешно. – Вы сможете навестить меня в Питере? – спросила она. – Попытаюсь, если вы напишете адрес. – Подождите здесь. Я ждал, мое воображение рисовало узоры на замерзших окнах, а дыхание добавляло новые слои к ватной белизне, окружавшей нас. Скоро Марья вернулась с клочком бумаги, оторванным от книжного листа. Я взял его, поклонился и убрал в карман халата. – Вы не обязаны приходить, – прошептала она, – но, знаете, у меня совсем нет знакомых в Питере. Надеюсь, что на курсах я смогу с кем-нибудь подружиться. – Я сделаю все возможное, – церемонно ответил я, – чтобы удостовериться в том, что вы не чувствуете себя одинокой. – Вы будете очень заняты. – Естественно. Однако красивой и умной женщине трудно отказать. Я льстил ей отчасти из-за врожденной учтивости, к которой всегда был склонен в обращении со слабым полом, отчасти потому, что помнил совет Шуры насчет знакомств с девушками, отцы которых могли бы финансировать мои изобретения. Этот мотив мог показаться постыдным, но в нем присутствовало определенное благородство – я был готов пожертвовать собой ради продолжения научной работы. Марья улыбнулась, когда я поцеловал ее руку. – Няня Бьюкенен проснулась, – сказала она. – Услышала, как я рву бумагу. Мне нужно идти. – Мы еще встретимся. – Надеюсь на это… – она понизила голос, – …m`sieu Хрущев. Девушка умчалась по коридору. Возвращаясь в купе, я был очень доволен собой, тем, что уже успел завести два исключительных полезных знакомства. Мое настроение испортилось, когда я увидел жирного майора в шинели. Усы его топорщились, как руль велосипеда, один глаз сверкал, подобно прожектору, второй был закрыт кепкой; он выскочил откуда-то сзади и зарычал: – Вы должны быть в постели, молодой человек. В чем дело? Думаете, боши захватили поезд? – Я захотел узнать, почему мы остановились. – Из-за снега. Я все разведал. Мы опоздаем на несколько часов. Рельс сломался, очевидно, из-за мороза. Слишком много поездов. Говорят, что делают все возможное, там сейчас много рабочих. Мне следовало присоединиться к своему полку, но он уже будет на фронте к тому времени, когда я появлюсь в Питере. Путешествуя на экспрессе Одесса-Киев, я с удовольствием проводил время в поезде, но сейчас своеобразное поведение Сергея Андреевича действовало мне на нервы. После некоторых колебаний я вернулся к себе в купе. Танцовщик лежал, свесив с кровати руки, словно изображая мертвого лебедя. Мне пришлось преодолеть это препятствие, чтобы добраться до своей постели. Я ненадолго оставил свет включенным и начал читать старый номер журнала «Флайт»[68], который раздобыл для меня капитан Браун. Самая большая статья была посвящена экспериментам Кертисса[69] с гидропланами в Америке. Мысль о судне, способном путешествовать по воздуху, земле и морю, уже приходила мне в голову. В тени медленно раскачивавшегося в такт движению поезда тела Сергея Андреевича я уснул, воображая гигантское транспортное средство, отчасти – воздушный корабль, отчасти – самолет, локомотив, океанский лайнер. Размером с «Титаник», оно пролетало бы над препятствиями, такими, как айсберги, и благодаря этому стало бы самым безопасным транспортным средством на свете. Я представил свое имя, написанное на борту корабля. Все, что мне требовалось, – несколько промышленников, наделенных воображением и верой; тогда я смогу изменить все представления о путешествиях. Поезда больше не будут останавливаться из-за снежных заносов, а движение – зависеть от состояния путей, погоды и рабочих с лопатами. По одному щелчку переключателя корабль сможет подняться в небо. А может, создать пушку, стреляющую горячим воздухом, чтобы растапливать снег перед поездом? Старомодные снегоочистители не очень эффективны. Движение поездов в России в те дни не слишком зависело от погоды, но война повлияла на многое. Или, точнее, на мой взгляд, ею оправдывали беспорядки; позднее таким же оправданием стала революция. Теперь эти отговорки просто стали частью системы. Задержки поездов – преднамеренны. Пятилетний план предполагает, что рельсы должны ржаветь по причине редкого использования. И если читатели станут удивляться, почему все идеи, о которых я мечтал полвека назад, до сих пор не воплощены в жизнь, – пусть обвиняют в этом не изобретателей, а дураков, слишком ленивых, лишенных воображения бюрократов, которые смешивали политику и науку и вместо разработки, например, воздушных кораблей типа «Цеппелин», или удобных летательных аппаратов, или скоростных монорельсов, тратили силы на бесполезную экономию. Я иногда думаю, что Икар упалпросто потому, что кто-то подсунул ему некачественный воск. Поезд к утру немного продвинулся вперед. На завтрак Сергей Андреевич выпил лишь чашку кофе, а затем вернулся в купе, когда в ресторане отказались подавать водку. Я решил, что он собрался принять кокаин. Марья Варворовна бросила в мою сторону долгий заговорщицкий взгляд, который меня очень порадовал. Она сидела через несколько столов от меня, рядом со своей чопорной нянькой: эта женщина носила шотландку так, как будто отправлялась на битву в Каллоден[70]. Ее наряд был настолько ярким, что сам по себе мог стать оружием. Я подумал, что люди очень радовались, когда она надевала обычную уличную одежду, цветом напоминавшую линкор. У няни был длинный красный нос, редкие рыжие волосы, и даже глаза ее казались красными. Хорошо, что Марья Варворовна решила скрыть нашу предшествующую ночную встречу. Если б нянька приблизилась ко мне, я нырнул бы в сугроб, лишь бы не вступать в борьбу с таким отвратительным существом. Даже Марья оказалась одета в клетчатое платье, хотя и менее вульгарной расцветки. Эта ткань, как я позже узнал, именовалась «Роял Стюарт». Только специальным указом человеку нешотландского происхождения дозволялось носить подобный наряд. Нянька, как мне теперь известно, носила цвета своего клана – Бьюкененов. Правда, эта расцветка подчеркивала желтоватый, болезненный оттенок ее кожи. Я никогда не разделял романтической привязанности славян к шотландцам. Эта болезненная склонность проявлялась у многих европейцев. Помню, как гораздо позже повстречал итальянца, владевшего рыбной лавкой в Холборне, – он был настолько увлечен шотландцами, что держал у себя под кроватью полное снаряжение горца на протяжении всей Второй мировой. Когда британцы окружили его гарнизон, он просто переоделся и, прихватив волынку, присоединился к английскому отряду, в котором его приняли, учитывая необычный акцент, за отставшего от Хайлендского полка. Его в конечном счете репатриировали в Англию, где он открыл свое дело, назвав магазин «Катти Сарк»[71], что в переводе с гэльского означает «рубашонка». Но в тот момент я находился очень далеко от рыбных магазинов – сидел в роскошном, земляничного цвета вагоне-ресторане экспресса Киев-Санкт-Петербург и объедался восхитительными круассанами, мармеладом, абрикосовым джемом, сырами, холодным мясом, вареными яйцами, чувствуя на себе пристальный восхищенный взгляд очаровательной девушки, в котором читалось обещание сексуальных отношений, мне уже необходимых. Я вспомнил, что нужно раздобыть адрес Сергея. Познакомившись с его друзьями, я бы мог узнать, где продают кокаин, а также приобщиться к богемной жизни. Кокаин, как сказал мне однажды Шура, в столице был намного дороже. Большую часть наркотиков привозили из Одессы. Поезд прополз вперед еще немного и снова остановился. На сей раз мы ждали на запасном пути, пока мимо проходил длинный военный состав. Этот поезд, покрытый защитного цвета краской, состоял из бронированных вагонов; огромные стальные листы защищали локомотив. Над поездом развевались разноцветные флаги; на крыше находились места для пулеметчиков. На плоских вагонетках стояли орудия, защищенные мешками с песком; артиллерию охраняли озябшие солдаты в шинелях и теплых шапках, им было трудно держать длинные винтовки из-за огромных теплых рукавиц. Пассажиры жестами и криками приветствовали невозмутимых солдат, не обращавших на шум никакого внимания. – Едут в сторону Западного фронта, – сказал молодой капитан своей очаровательной жене. – Вот что мы посылаем бошам. Все будет кончено через несколько недель. Эти новости меня обрадовали. Я сообщил их Сереже, который лежал в купе, полностью одетый и все равно дрожавший. Он жаловался на холод. – Я все равно не смогу приехать вовремя. Мне многие завидуют. И кому-то другому отдадут мои лучшие роли. Это станет концом моей карьеры. Ты не знаешь, как трудно сделать себе имя в балете, Дима, особенно в России. За границей гораздо легче, там конкурентов почти нет. – Отправляйся в Париж, – посоветовал я, – и удиви их всех. Он как-то неестественно мне улыбнулся. – Я лучше останусь в Питере. – Наверное, все поезда опоздают, – сказал я. – Судя по всему, большая часть труппы застряла где-нибудь неподалеку от Киева, и мы их обгоним. Такое не раз случалось. Сергей назвал меня милым, сказал, что у меня доброе сердце и он благодарен мне за все. Я счел, что настало время воспользоваться возможностью и попросить у него адрес. Однако танцор дал мне адрес своего друга, Николая Федоровича Петрова, так как еще не нашел постоянного жилья в городе. Если же что-то случится и мне срочно понадобится с ним связаться – он всегда будет рад видеть меня в «Фолине». Он надеялся, что труппа весной отправится в Америку. Сергей Андреевич молился, чтобы Америка не ввязалась в войну, – иначе будет абсолютно некуда поехать. – По крайней мере, в военное время люди рады развлечениям. Говорят, в Питере за последние два месяца открылось невероятное количество театров и кабаре. Раньше этот город был очень неприветлив, в отличие от Москвы. Я люблю Питер. Это единственное цивилизованное место во всей стране. Но даже теперь он не очень дружелюбен. Услышанное меня встревожило. Я всегда подозревал, что жителям Санкт-Петербурга свойственно тевтонское высокомерие. Когда мы наконец прибыли на станцию, она показалась мне серой, задымленной и какой-то безликой. Вокзал был слишком большим. Сергей спешил покинуть поезд и отправиться на поиски труппы, чтобы сохранить свое положение в театре. Он расцеловал меня в обе щеки и потащил свой багаж по проходу, а старые дамы и генералы ворчали на него. Я обрадовался, что он ушел в такой спешке, поскольку мне досталась его табакерка, брошенная на кровати. Он легко сумел бы наполнить ее. Но мне следовало подождать… Я верну табакерку лишь после того, как использую ее содержимое.Мое первое впечатление от благородного города, созданного основателем современной России, Петром Великим, оказалось неблагоприятным. Петербург напоминал мавзолей. Вокзал был переполнен, здесь бродило множество людей в форме, но явно не хватало веселой суматохи, царившей на украинских вокзалах. Попадалось сравнительно мало лоточников, носильщики казались резвее и раболепнее тех, которых я видел раньше. Мне с легкостью удалось воспользоваться услугами одного из них. Выяснилось, что снаружи ожидает множество извозчиков, а также моторных экипажей, так и притягивавших к себе, – мне ни разу не доводилось кататься на таких. Но я не сомневался, что стоили они гораздо дороже извозчиков. Улицы столицы выглядели необыкновенно широкими, но при этом практически безжизненными. Люди как будто уменьшались здесь. Возможно, вся жизнь была сосредоточена в рабочих окраинах. В некотором смысле это место напоминало Вашингтон или Канберру, искусственные города, переполненные чувством самодовольства. Двуглавых орлов я видел повсюду. Портреты царя Николая и других членов царской семьи также висели в самых разных местах. Весь город как будто состоял из сплошных рядов вытянутых в длину царских дворцов. Казалось, здесь нельзя было даже повысить голос – разве что для того, чтобы обругать слугу. Меня удивило то, как относились к носильщикам, извозчикам и прочим. Резкие приказы разносились в холодном воздухе, вещи загружались в экипажи, лошади резко срывались с места. Все транспортные средства в Петербурге мчались с невероятной скоростью, как будто участвовали в гонке. Трамваи и автомобили были, похоже, самыми лучшими из всех. Они двигались почти беззвучно, но мне пришлось повторить извозчику адрес Грина и Гранмэна, агентов моего дяди, несколько раз, прежде чем он расслышал меня, – частично из-за огромной меховой шапки, к тому же прикрытой поднятым алым воротником пальто, частично – из-за моего мягкого южного акцента, который был ему незнаком. Щелкнул кнут, лошадь рванула вперед, и мы понеслись мимо высоких зданий, в которых, казалось, не было людей – только лучи яркого электрического света. Меня сильно впечатлила и ширина улиц, и классическая красота зданий. Нашу столицу называли Северной Венецией из-за рек и каналов, разделяющих улицы; дворцы и общественные здания, гостиницы и казармы располагались таким образом, чтобы подчеркнуть великолепие. Одессу нельзя было сравнить с этим городом – ни по размеру, ни по размаху; она казалась маленькой, удобной и уютно провинциальной. Я сожалел о ссоре с Шурой и о том, что не смог остаться в Одессе. Я чувствовал себя каким-то мужланом. Если Санкт-Петербург так действовал на всех, за исключением, возможно, местных аристократов, то не было ничего удивительного в том, что город стал рассадником революции. Такие места рождают не просто зависть, но и чувство неловкости. И люди, чувствующие себя униженными, начинают действовать агрессивно. Здесь присутствовало нечто сумрачное и надменное, высокомерное. Небо казалось слишком высоким. Я смог понять наконец, как создавалась традиционная русская литература, почему авторы веселых историй становились меланхоликами, едва оказавшись в центре здешней культурной жизни. Экипаж остановился перед высоким серым зданием. Надменный швейцар шагнул вперед, чтобы взять мои вещи и помочь мне спуститься. Я заплатил извозчику и добавил немного на чай. Швейцар был облачен в синюю с золотом ливрею. Я привык к обилию форменных мундиров, которые в России носили почти все; но никогда раньше не видел их в таком количестве. Я попросил швейцара присмотреть за моим багажом и вызвал электрический подъемник, чтобы добраться до третьего этажа, где размещалась контора Грина и Гранмэна. Я постучал в стеклянную дверь. За ней зашевелились чьи-то тени. Последовала пауза. Одна тень приблизилась. Дверь отворили. Высокий светловолосый мужчина стоял, склонившись надо мной. Это был один из самых худых людей, которых я встречал. Его волосы закрывали лицо и почти достигали длинных белых усов, которые переходили в свою очередь в бородку, в те дни называвшуюся голландской; а борода естественным образом сливалась с воротником и рубашкой. Мужчина говорил на хорошем русском языке, но сильно шепелявил – я принял это за английский акцент. Он спросил, чем может быть полезен. Я назвал имя дяди и понял, что меня ждали. Мужчина вздохнул с облегчением и проводил меня внутрь. Мы миновали две конторы, где машинистки и служащие напряженно работали за маленькими деревянными столами, и оказались у полированной дубовой двери. Он постучал, затем произнес: – Мистер Грин? – Войдите, – откликнулся мистер Грин по-английски. Когда мы вошли, мистер Грин направлялся от книжного шкафа к внушительных размеров столу, украшенному вставками зеленой кожи. Он опустился в большое кресло, приоткрыл пухлый рот и произнес по-русски: – Dobrii dehn! Я ответил: – Zdravstvyiteh! Он приподнял темные брови и, обратившись к шепелявому светловолосому джентльмену, спросил: – Мальчик говорит по-английски? – Немного, – ответил я. Мистер Грин улыбнулся и погладил рукой подбородок. – Хорошо. А по-французски? По-немецки? – Немного. – А на идиш? – Конечно, нет! Кто-то еще мог бы пожелать изучить иврит, но никак не эту уродливую смесь худшего, что есть во всех языках. Кроме того, кому это могло понадобиться в Петербурге, откуда евреи были практически полностью изгнаны? Он засмеялся: – Хоть немного? – Несколько слов, конечно, знаю. Куда же в Киеве без этого? – И в Одессе. – И в Одессе. – Превосходно! – Мистер Грин казался удивленным и смущенным одновременно. Он взял серую папку. – И мы даем вам имя – Дмитрий Митрофанович Хрущев. Хорошее русское имя. – Согласен, – отозвался я. – А этот человек на самом деле существует? – А разве вы не существуете? – Мистер Грин глядел доброжелательно, но в то же время недоверчиво, как будто я был симпатичным зверьком, который в любой момент мог его укусить. – Его место в политехническом… – Он без труда получил его. С золотой-то медалью. – Надеюсь, сэр, вы не думаете, что я слишком любопытен, просто интересно узнать что-нибудь еще. В конце концов, я, как предполагается, явился из Херсона, где мой отец служит священником. Я никогда не был в Херсоне. Мне очень мало известно о формальной стороне религии, моя мать – богобоязненная женщина, но она редко ходит в церковь. – Православный священник. Вам повезло, трудно найти что-то более благопристойное, а? – Я ценю благопристойность, сэр. Таинственность, однако, трудно объяснить. Мне же будут задавать вопросы. – Конечно. Дмитрий Митрофанович получил домашнее образование под руководством отца. Он был болезненным ребенком. Непосредственно перед тем, как получить место в политехническом, юноша заболел. Грипп. В итоге несчастный парень слег с туберкулезом, понимаете? Священник, бедный человек, зашел в тупик. Друзья вашего дяди в Херсоне предложили ссуду, чтобы отправить мальчика в Швейцарию, но сделали гораздо больше. Они оплатили поездку в Швейцарию, в превосходный санаторий, где его вылечили. Хрущев продолжит обучение в Люцерне под вашим именем. Вы приехали под его именем в Санкт-Петербург. Все довольны, и каждый получает хороший шанс в жизни. – Это кажется очень сложным, – заметил я, – и дорогим способом. В конце концов, не думаю, что стою… – Кажется, ваш дядя в этом не сомневается. Вы потом сможете ему помочь. Вы говорите на разных языках, быстро усваиваете науки, красивы, обаятельны, представительны, умеете держать себя в обществе – прямо настоящий царевич! Мне было приятно. – Но гораздо здоровее, – добавил мистер Грин, приподняв руки, – слава богу! – Где будет жить Дмитрий Митрофанович? – спросил я. – Мы думали, что поближе к политехническому. Но оттуда очень далеко до центра, а было бы удобно, если бы мы могли время от времени встречаться. Так что мы подыскали вам жилье недалеко от Нюстадтской. Это очень удобно, недалеко до парового трамвая, Финляндского вокзала и так далее. Трамвай идет прямо до политехнического. Какой адрес, Паррот? – Ломанский переулок, дом одиннадцать, – сказал светловолосый Паррот. Это звучало превосходно. – Мы немедленно отвезем вас туда. Я представил, как толстый мистер Грин и тонкий мистер Паррот ведут меня по улице, каждый из них несет один из моих чемоданов. Но в данном случае «мы» означало одного из сотрудников фирмы. – Проследите за этим, Паррот? – Да, сэр. – Занятия начинаются через четыре дня? – спросил я. – Да, так что постарайтесь за это время успеть как можно больше. – Спасибо, сэр. – Мистер Паррот покажет, где останавливается трамвай, и сообщит, с кем из профессоров нужно встретиться. Насколько я знаю, предполагается какой-то устный вступительный экзамен. Это формальность, мы говорили с профессором. Не будет никаких трудностей. Как его зовут, Паррот? – Доктор Мазнев, сэр. – Мы ему угодили? – Да, сэр. Его сын уехал сегодня днем. – Значит, все улажено. Доктор Мазнев будет вам полезен, мой мальчик, вот увидите. – Мистер Грин расплылся в улыбке и погладил меня по голове. Эти загадочные слова привели меня в замешательство. Влияние моего дяди оказалось очень значительным. У него повсюду имелись связи. Я по праву мог рассчитывать на золотую медаль и лишился ее только из-за войны и отъезда герра Лустгартена. Я обрадовался, узнав, что получил заслуженную награду. Дядя Сеня оказался большим специалистом по восстановлению прав. Для меня стало большим облегчением то, что профессор будет расположен ко мне. Санкт-Петербург больше не казался таким угрожающим, как прежде. Мистер Грин протянул мне конверт, в котором лежало десять рублей. Я буду получать пособие ежемесячно, но мне следует стать бережливым. Плата за проезд в политехнический составляла двадцать копеек в день, туда и обратно. Возможно, появится шанс увеличить пособие в будущем. Я поблагодарил мистера Грина, положил деньги в карман рядом с Сережиной табакеркой и обменялся рукопожатием с хозяином конторы, потом спустился на первый этаж вслед за мистером Парротом, уже одетым в темнобордовое, отделанное мехом пальто и цилиндр. Здесь мне вернули вещи, и швейцар вызвал для нас экипаж. Шел снег. Верх экипажа был поднят. Уже стемнело, но эта часть города ярко освещалась. Я снова заметил, что почти все на улице, гражданские или военные, носили мундиры. Мы преодолели длинный мост через внушающую ужас Большую Неву, покрытую льдом. К моему удивлению, вдалеке я увидел трамвай, очевидно мчавшийся по поверхности реки. Мистер Паррот сообщил, что Нева промерзла настолько, что стало возможным проложить рельсы прямо по льду. Район, в который мы попали, показался мне гораздо более людным и привычным. Думаю, его можно было бы назвать бедным. Меня окружили простые люди, газовые фонари, лавки с открытыми витринами, переполненные жилые дома, лотки с едой, одеждой, посудой, журналами, запахи еды, звуки музыки, крики детей, ссоры и смех. Здесь попадались темные лестницы, переулки, полуголодные собаки. Я разволновался – мне еще не доводилось бывать в подобном месте: однако улица, на которую мы выехали, казалась довольно тихой; попав сюда, я почувствовал себя лучше. Санкт-Петербург был не самым уютным городом, и мне не хотелось оставаться здесь навсегда. Пропасть между классами в столице стала просто огромной. Даже в Киеве, где встречалось много снобов, где беднякам не находилось места в парках или на некоторых улицах, все выглядело не так плохо. Мне требовалась уверенность в собственных силах и даже немного храбрости, которую следовало искать в украденной табакерке. В Петербурге я понял природу богатства и бедности. Мало того, что это был город крайностей; здесь царили восточный упадок, жестокость, бестолковая власть. Я понял, почему представители среднего класса так не любили царя Николая. Двор подчинялся грубому, безумному сибирскому монаху, впоследствии по-средневековому хладнокровно убитому группой аристократов. Они отравили его, застрелили и в конце концов столкнули тело под лед Невы, чтобы не сомневаться в его смерти. От царского двора до самого захудалого переулка – вся столица была испорчена суевериями. Продавцы амулетов, оккультисты, медиумы всех сортов процветали. Их предсказания занимали целые полосы в самых уважаемых газетах. И все это в двадцатом столетии, когда телефоны, автомобили, беспроводная связь и самолеты уже использовались повсеместно. Жестокость большевиков была жестокостью рабов. Они не имели ничего общего с цивилизованными европейцами. Они были дикарями, в руки которых попало самое страшное оружие и самые сложные средства сообщения. Сам же царь и весь его двор, вероятно, оказались более цивилизованными; по крайней мере, они могли предчувствовать свою судьбу. Конечно, я обвиняю во всем советников царя. Не забывайте: в большинстве своем эти люди были иностранцами.
Глава шестая
Форма, которую мне полагалось носить в институте, была не слишком красивой: всего лишь простой студенческий сюртук из темно-серой саржи с серебряными пуговицами и фуражка с кокардой политехнического. Эта одежда показалась мне очень практичной, ведь мой ограниченный гардероб останется в целости и сохранности, и никто не догадается, что я беден. Большинство мальчиков, учившихся в институте, располагали ограниченными средствами; сыновья богатых людей получали образование в различных военных академиях, где преподавались точные науки и инженерное дело, или в самой Академии наук. Их мундиры были роскошными, с золотыми пуговицами и галунами. Но все равно у нас имелась и летняя, и зимняя форма: пальто, предписанные по уставу перчатки, ботинки, шапки и так далее. Всем этим меня на следующий день после приезда обеспечил портной, которого мне порекомендовали господа Грин и Гранмэн. Мистер Паррот в тот сумрачный снежный день проводил меня на задворки Латинского квартала, где располагалось огромное ателье. Мне предстояло проживать в одной из комнат дома, принадлежавшего обычной русской женщине средних лет, доброй, немного глупой, любившей посплетничать, горячо осуждавшей радикалов (она даже не одобряла признания царем демократической Думы и радовалась недавнему сокращению полномочий этого органа). Эта дама не могла понять, в чем смысл изучения инженерного дела, ненавидела автомобили, трамваи, поезда, телефоны и была не вполне уверена, следует ли доверять пароходам: как и многие люди, проживавшие поблизости от Невы, она думала, что их дым вредит легким, несмотря на то что кашляла только зимой, когда корабли не могли плавать. Находившийся поблизости Финляндский вокзал, конечная остановка парового трамвая и различные фабрики также давали ей основания для тревоги. Через пару часов после моего прибытия хозяйка дома спросила, как я со всем этим разберусь. Она была готова обвинить меня в даже том, что идет война. У меня сложилось впечатление, что если бы только что изобрели колесо или открыли огонь, эта женщина им тоже воспротивилась бы. При всем при том я почти сразу же проникся к ней самыми теплыми чувствами. Ее дом был одним из тех невыразительных петербургских зданий с плоскими крышами, которые стояли чуть в стороне от тротуара, зданий с узкими внутренними двориками и комнатами одинакового размера. Моя комната располагалась на третьем этаже и оказалась намного больше моей одесской спальни. В ней находились небольшая печь, умывальник, большая удобная кровать, которую можно было придвинуть к стене и использовать днем как диван, стол, отделенный шторами альков для переодевания и все прочее. Уборная находилась этажом ниже. Я жил под одной крышей с хозяйкой, двумя ее дочками, горничной и четырьмя другими жильцами, мелкими чиновниками. Мы ели за общим столом на первом этаже. Пища, как мне показалось, была грубой и, по сравнению с украинской, неудобоваримой, но при этом достаточно здоровой. Хозяйка дома гордилась тем, что предоставляет жильцам все самое лучшее. Поскольку продолжалась война и дефицит становился все более заметным, нам предоставили выбор: платить чуть более высокую арендную плату и получать прежнюю качественную еду или оставить аренду на том же уровне и получать меньшие порции. Попробовав тушеную конину в тех заведениях, в которых питались студенты, я при любой возможности старался поесть у мадам Зиновьевой (она не была родственницей печально известного большевика). Кроме того, что хозяйка дома носила парик и густо красилась, чтобы скрыть шрамы, оставшиеся после какой-то болезни, в ней не было ничего примечательного. Совершенно обычными оказались и ее дочери, Ольга и Вера. Они посещали близлежащую школу и интересовались русской литературой – этот предмет никогда не имел для меня особенного значения. Они вели бесконечные романтические беседы о Толстом, Достоевском, Башкатцевой[72] и о поэтах, из которых я могу вспомнить только Ахматову. Они читали роман за романом, поэму за поэмой и говорили о героях Лермонтова и Пушкина так, будто те на самом деле существовали. Меня эти девицы раздражали – они казались слишком наивными, к тому же в общении отличались исключительной откровенностью. Позже я узнал, что они считали меня надменным и гордым, похожим на одного героя популярного в те годы романа, и были немного влюблены в меня. Русские девушки всегда немного влюблены в кого-то. Но главный объект их привязанности – они сами. Я признаю, что если происходит падение русской девушки, то оно полное и окончательное. Подобное, однако, в реальной жизни случается гораздо реже, чем в беллетристике, где страстные существа навеки губят себя духовно и физически ради удовольствия какого-нибудь пьяного офицера или преступника с поэтическими наклонностями. Я никогда не слышал, чтобы русская девушка погубила себя, скажем, ради чиновника или контролера машиностроительного завода. Вряд ли имеет смысл завоевывать сердца таких особ – и уж точно не стоит тратить на это денег. Хотя получается довольно странно: выйдя замуж, они уделяют большое внимание доходам своих драгоценных мужей. Я обрадовался, когда на следующее утро, в субботу, Ольга предложила показать мне город. К тому времени мои впечатления оставались неопределенными. Я видел несколько широких улиц, переулки, каналы и причалы, какие-то казенные здания, пару мостов, фабричные трубы. Я с огромным удовольствием проехал с Ольгой на трамвае по Александровскому мосту. Снега не было. Небо очистилось, стало бледно-голубым и отражалось на поверхности покрытой льдом реки. Очень скоро мы оказались в месте, которое Ольга назвала лучшим в городе, – на Невском проспекте, главной улице Петербурга. Движение было таким же быстрым, как в наше время, но более пугающим. Мы вышли из трамвая на остановке посреди Невского. Ольга, спрятав руки в муфту, сказала, что нужно перейти улицу, чтобы осмотреть огромный пассаж на другой стороне. Под сенью колонн этого здания виднелись окна, полные блестящих товаров. Меня привлекло нечто иное – демонстрация новой механической игрушки; именно из-за этого я бросился на проспект и едва не был раздавлен мчащимися экипажами и автомобилями. Позади раздался свист, но я уже не мог остановиться, в панике промчался через дорогу и встал на противоположной стороне проспекта, переводя дух. Перчатка «синего архангела» (петербургского жандарма) коснулась моего плеча. Белая полицейская дубинка стукнула меня по руке. Огромный бородатый старик покачал головой, выражая неодобрение: – Есть и менее заметные способы покончить жизнь самоубийством. Подошла Ольга. Она объяснила полицейскому, что я только приехал в город. Он кивнул и пошел своей дорогой, а я приблизился к пассажу и остановился под навесом, глядя на медные паровые локомотивы, выставленные за стеклом. Ольга покачала головой, сказав, что мне повезло – жандарм был в хорошем настроении. День выдался солнечным. Невский оказался не таким многолюдным, как я воображал. Здесь были только офицеры и дамы, проезжавшие мимо в экипажах. И в этом месте встречалось гораздо больше полицейских, чем в Киеве или Одессе. Ольга показала мне главные улицы и достопримечательности: большой Зимний дворец, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и прочие здания, которые по-прежнему упоминаются в путеводителях. Однако меня раздражали размеры всего вокруг – я чувствовал себя еще более незначительным. Казалось, что Петр намеренно строил свой город для богов, а не для людей. Мы видели знаменитые магазины «Фаберже» и «Братья Грачевы»[73], Марсово поле, где проводились парады и праздники, памятники и музеи в районе Спасской. Немногое из увиденного меня заинтересовало: я уделял больше внимания будущему, а не прошлому. В самом деле, город угнетал меня. Не потому, что представлял собой собрание грандиозных зданий, окруженных трущобами (это свойственно большинству столиц), в котором богатство и бедность противостояли друг другу столь же резко и грубо, как в романах Золя; дело в другом: это было искусственное место, у которого не имелось иного назначения, кроме управления остальной частью страны и прославления ее правителей. Как и Вашингтон, Питер оказался творением наивных идеалистов восемнадцатого столетия, подражавших модам, распространенным тогда во Франции и Англии. Оба города были названы в честь современных основателей наций, но не имели никаких природных географических преимуществ или выгод от расположения на главных торговых путях – такими преимуществами обладали Нью-Йорк и Москва. Что их отличало, так это всеобщая бездуховность. Единственное исключение – районы, которых вполне заслуженно стыдились жители городов: трущобы. Все общественные здания были помпезными и неприветливыми. Они создавались наивными зодчими, от которых требовали соперничества с архитекторами Древней Греции, а те смогли возвести лишь здания вдвое большего размера. Оба города – и Питер, и Вашингтон – отличались скудостью деталей: они напоминали декорации для сказочного голливудского фильма; Вашингтон с его вишневыми рассветами, Петербург с его сиренью. Воплощение дурного вкуса нуворишей, эти города были построены, когда их создатели осознали ущербность, незрелость, даже варварство своих наций. В Вашингтоне внутренняя часть Капитолия украшена наивными картинами, насколько я понимаю, итальянских иммигрантов. В Петербурге подобная наивная живопись, в форме икон и сусальных портретов Романовых и их предшественников, заполняла все дворцы и соборы, возведенные на французский манер. Эти здания были слишком велики, а украшения – скверны. В обоих городах, кроме того, существовали стандартные проекты жилых домов; большей частью эти здания отличались изяществом – однако изысканные здания часто становились жуткими обиталищами для самых нищих! Неудивительно, что зависть привела к преступности, и угроза революции стала наиболее очевидной в том месте, которое находилось ближе всего к обиталищу верховной власти. Естественно, что богачи создают себе убежища вроде того, которое Говард Хьюз[74] построил высоко над улицами Лас-Вегаса. Существует мнение, что Лас-Вегас был не зловещим, циничным изобретением, созданным для того, чтобы вытянуть у американской публики побольше денег, а воплощением того, что мог построить разбогатевший итальянский крестьянин, дабы порадовать свою матушку. Таким образом, всеобщее веселье, азартные игры в окружении розово-золотых интерьеров отражали вкусы некоей процветающей мамаши какого-то гордого сына Сицилии. Естественно, вкус петербургских дворян не был грубым, как мне поначалу казалось. Наши российские аристократы были одними из самых космополитичных в мире, они постоянно путешествовали в Париж и Берлин, в Швейцарию и не только. Многие из них были не славянского происхождения, носили немецкие, французские, скандинавские и даже британские фамилии. Из-за решительной антипатии царя евреи не могли пробиться ко двору, но там имелись армяне, поляки, грузины и представители многих других наций, все с русскими титулами. Они становились российскими подданными еще со времен Петра Великого. Это одновременно и усиливало, и ослабляло нашу империю. Перекупщики процветали. Крупнейшие торговые династии, промышленники, даже аристократы продолжали увеличивать свои состояния, поставляя военное снаряжение и зарабатывая на этом огромные деньги. Они в самом деле не верили, что немцы, австрийцы, а возможно, даже турки обманывают русских. Война была игрой, шансом продемонстрировать прекрасную форму, произвести впечатление на дам, совершить театральное самопожертвование (если говорить о женщинах) и восславить славянскую душу. В первые несколько месяцев именно это настроение, как мне показалось, преобладало в Санкт-Петербурге. Поскольку наша армия оказалась плохо подготовлена к войне, частично из-за спекуляций, частично из-за недостатка внимания к деталям, типичного для романтичных русских, и терпела поражения снова и снова (точно так же десятью годами ранее нас разбивали на море японцы), эйфория сменилась меланхолией. Только профессиональные военные пытались спасти то, что осталось от русской славы. Но было слишком поздно. Эмигрировав в Германию после Гражданской войны, Краснов, гетман донских казаков, рассказал в своих книгах, как упадок, уже воцарившийся в столице, распространился по всей России. Когда начались мятежи, больше всего пострадали, как всегда, мелкие землевладельцы. Люди, которые несли ответственность за происходящее, сбежали. Только бедный, ничего не подозревающий царь, его глупая, суеверная жена и невинные дети заплатили в полной мере за свое недомыслие. Будь царь сильным, а двор более достойным, – и вообще никакой революции не случилось бы, объяснял Краснов. Мы могли двигаться к великой славе и вместе с Америкой стать предметом зависти для всего мира. Я говорю это, чтобы дать общую картину Санкт-Петербурга того времени и показать, что не только Ленин, Троцкий и им подобные протестовали против тогдашних методов управления страной. Едва ли нашелся бы в столице человек, который сомневался в том, что многое нужно менять. Царь был не самым популярным из наших правителей. Его иностранка-жена продолжала флиртовать с сибирским starets, даже не настоящим священником (их переписку обнародовали), и все знали, что она – конченая наркоманка, не способная прожить без дозы морфия. Во влиятельных семействах начались разговоры о сложении полномочий, избрании более сильного, более популярного царя, способного поддержать трон, который Николай, по правде говоря, никогда не хотел занимать. Здесь следует добавить, что привычка к употреблению кокаина в те времена широко распространилась в России, Вене, Берлине и в других городах. Когда большевики взяли бразды правления (как будто схватились за вожжи безумной лошади, на полном скаку мчащейся к утесу), они все принимали кокаин – и мужчины, и женщины. Ни один комиссар не обходился без дозы. Вот из-за чего сложилось отрицательное представление об этой привычке. Все высокопоставленные представители Третьего Рейха, например, прекрасно знали о возможностях, которые дают самые обычные растения – какао, например. Иногда мне кажется, что вся история двадцатого столетия – это история привыкания к наркотикам и злоупотребления ими. Наркотики рождали энергию, в свою очередь питавшую большинство переворотов (не все из них оказались вредными), с которыми я сталкивался в своей жизни. Я сам на какое-то время стал реже употреблять кокаин, прежде всего из-за рутины, в которую погрузился на несколько месяцев. В понедельник я отправился на встречу со своим профессором в Политехническом институте. Я решил проехать на паровом трамвае от конечной остановки – клиники Виллие[75]. Моя первая поездка на паровом трамвае оказалась волнующим опытом. Я пришел на конечную остановку рано утром. Трамваи напоминали маленькие поезда с единственным вагоном, бежавшим по рельсам вслед за локомотивом, по форме напоминавшим ящик (возможно, то был «Хеншель» или английский «Грин»[76]). Эти локомотивы и теперь еще можно увидеть на узкоколейках. Летом использовались открытые вагоны, но зимой пускали только закрытые. В самом локомотиве могли разместиться примерно десять пассажиров. Зимой эти места были самыми желанными. В вагонах отопление отсутствовало. Разумеется, во время первого путешествия в институт на трамвае номер 2 я ехал в конце вагона, близко к двери. В новой форме и пальто мне было сравнительно тепло. Мы долго двигались по заводским пригородам. На туманных улицах виднелось множество закутанных фигур, которые направлялись к фабрикам, похожим на известную Путиловскую. Потом мы очутились в какой-то сельской местности, где голые деревья и деревянные заборы казались вкопанными как попало в грязный снег и пахло мочой и нефтью; затем мы миновали пригороды, где жили люди среднего достатка, и в конце концов, примерно через три четверти часа, достигли зданий политехнического. Это были ничем не примечательные, типовые постройки; мне они показались неприветливыми. Поблизости я заметил нескольких студентов. Я спросил, как пройти в кабинет доктора Мазнева; мне указали путь через множество холодных коридоров, мимо череды запертых дверей… Наконец я обнаружил ту, на которой висела табличка со знакомой фамилией. Я постучал. Меня пригласили войти, и я оказался в скудно обставленной комнате темно-зеленого цвета. Я снял шапку, подумав, не стоит ли мне отдать честь, потому что профессор был одет в великолепную военно-морскую форму – такие носили отставные военные, занимавшие должности в гражданских школах. Мы с профессором обменялись рукопожатием. Он казался грустным и усталым и нисколько не походил на людоеда, которого я ожидал увидеть. Его волосы были редкими и седыми; усы, насквозь пропитанные табаком, свисали книзу. Профессор стоял у маленького окна, выходившего во внутренний двор. Он разглядывал что-то за латунной решеткой, закрывавшей нижнюю часть окна, но я был слишком мал ростом, чтобы понять, на что он уставился. – Вы Дмитрий Митрофанович Хрущев? – Да, ваша честь. – Вы собираетесь учиться здесь, под моим руководством? – Его голос был уставшим. Без всяких оснований я проникся сочувствием к этому человеку. – Надеюсь на это, ваша честь. – Вы кажетесь воспитанным юношей. – Я хочу стать выдающимся инженером, ваша честь. Я счастлив, что получил возможность… Он медленно обернулся, его грустные глаза теперь смотрели прямо на меня. – Вы в самом деле хотите учиться здесь? – Да, я стремился к этому всю жизнь. Возможно, он привык беседовать со студентами, которые не могли поступить в более престижные учебные заведения и потому считали политехнический последним прибежищем. Он немного повеселел, хотя казалось очевидным, что не был жизнерадостным человеком. – Хорошо, хорошо. – Профессор сел за стол. Я остался стоять, сжимая шапку в руке. – Это, по крайней мере, очень утешает. Я удивлен не меньше вашего. – Удивлены, ваша честь? – Вы попали сюда при не совсем обычных обстоятельствах, прибыли по моей рекомендации. При других обстоятельствах вы бы никогда не получили этого места. – Полагаю, что я хорошо подготовлен, ваша честь. – Это похвально. И даже больше, чем я ожидал. Желаете, чтобы я проэкзаменовал вас? – Я готов, профессор. Он достал из ящика стола лист бумаги и, глядя на него, начал задавать вопросы о различных научных и технических принципах. Я с легкостью отвечал. В конце экзамена у него на лице появилась слабая улыбка. – Вы правы, Хрущев. Вы идеально подходите для этого места. Я не понимал, что его удивляло. Профессор пожал плечами. – Поскольку вы оказались здесь, у вас есть возможность очень многого добиться. Но ради чего? – Я хочу стать великим инженером, профессор. Работать во имя славы и процветания России. – Вы идеалист? – Не радикальный, ваша честь. – Это тоже очень радует. Мой сын… Ну, вам сказали об этом, да? – Нет, ваша честь. – Ну что ж, это конфиденциально. Между мистером Грином и мной. Мой сын не отдавал себе отчета в том, что делает. Я благодарен мистеру Грину за помощь… Он был очень любезен. Я рад оказать ему ответную услугу. – У вашего сына неприятности, профессор? – Он путешествует за границей, – вздохнул доктор Мазнев и потер свои усы. – В этом институте есть горячие головы, Хрущев, старайтесь держаться от них подальше. – Постараюсь, ваша честь. – Мы все находимся под подозрением. Особенно во время войны. Все не так плохо, как в девятьсот пятом или девятьсот шестом, но все равно плохо. Людей убивают, Хрущев. – Я знаю, ваша честь. – И ссылают. – Я, ваша честь, испытываю отвращение к политике. Единственная газета, которую я читал, – «Русское слово»[77]. Последовал еще более глубокий вздох. – Читайте ее и впредь и верьте написанному, Хрущев. Все, что вам нужно, – это учебники, не так ли? – Согласен, ваша честь. Мы пожали друг другу руки. Профессор сказал, что мы встретимся на занятиях завтра. Я сел на паровой трамвай и отправился домой, за Финляндский вокзал. От однокашников я услышал, что доктор Мазнев в юности был радикалом. Сын пошел по его стопам. Агенты моего дяди, вероятно, подкупили чиновников, чтобы заменить тюремный срок высылкой за границу. Таким образом мне нашли научного руководителя в институте. Дядя Сеня и его партнеры занимались филантропией гораздо серьезнее, чем многие благотворительные общества. Весьма отрадно, что не все тайные братства – революционеры, «вольные каменщики» или сионисты. Из духовных учений армянина Гурджиева, русской Блаватской или даже австрийца, еврея-христианина Штайнера мы узнаем о Белом братстве: группах великих, разумных мужчин и женщин, хранящих мудрость веков, пытающихся помочь человечеству, не вмешиваясь в ход истории. Некоторое время я был членом Теософского общества, потом антропософом и, наконец, участником группы Гурджиева, к которой ненадолго присоединился в Лондоне. Естественно, я не могу здесь поведать о том, что узнал. Это стало бы нарушением всех законов. Я совсем недавно видел человека, который попрал законы гурджиевского учения. Он подвергся гипнозу в телефонной будке и не проснулся (мы провели в одной больничной палате несколько недель – должно быть, произошла типичная административная ошибка, и меня поместили со слабоумными пациентами). Я не стану заходить слишком далеко и предполагать, что дядя Сеня принадлежал к этому Белому братству, но он создал часть международного сообщества бизнесменов, которых я называю «людьми доброй воли». Это сообщество существовало во всех цивилизованных странах, и именно благодаря им я и получил высшее образование, пускай и под чужим именем – возможно, это связано с секретностью их деятельности. Я уже привык играть роль Хрущева; в те времена я так легко приспосабливался, что иногда почти забывал свое настоящее имя. Вскоре мадам Зиновьева и ее дочери стали звать меня Димой, выражая таким образом свое хорошее отношение. Я не возражал, когда мы оставались одни, но меня немного смущало, когда при этом присутствовали другие жильцы. Я привык держать дистанцию – и дома, и в институте. Адрес Марьи Варворовны я сохранил, но не мог найти времени для визита. Регулярные поездки на трамвае оставались моим единственным развлечением. В это время я читал романы, как правило, Герберта Уэллса или Джека Лондона, дешевые красные книжки, изданные в Лондоне и продававшиеся в английском книжном магазине на Морской. Иногда, если очень везло, можно было купить подержанную книгу на одном из уличных лотков. Немало денег ушло на приобретение этой роскоши, но оно того стоило. Иногда я также покупал книги на немецком и французском. Большинство лучших технических трудов были изданы в Германии, а самые хорошие книги по авиации выходили во Франции. Поэтому мои познания в языках незаметно улучшались – увы, я не мог ни с кем практиковаться в устной речи. Целый год я вел безупречно унылую жизнь прилежного студента. Главными событиями становились редкие прогулки по Невскому проспекту, самой длинной и широкой улице из когда-либо виденных мной. Я заглядывал в окна больших магазинов, изучая великолепные образцы товаров, посещал крытые рынки, которые были исключительной особенностью российской жизни (эту идею использовали на Портобелло-роуд); водном большом здании располагалось великое множество маленьких киосков и прилавков. Обычно я сопровождал Зиновьевых во время походов по магазинам; случалось, мы ходили в кино или театр, иногда – в маленькое кафе, где пили кофе или чай и ели пирожные по-венски[78]. Я почти не использовал кокаин из моих собственных запасов, не говоря уже о том, что оставался в табакерке, – она хранилась во льду на подоконнике, чтобы порошок сохранил эффективность. Учеба давалась мне сравнительно легко. Устные экзамены с доктором Мазневым превратились во что-то вроде дружеских бесед. Экзамены в России – почти всегда устные; вот почему мы так хорошо запоминаем разговоры и события. Профессор относился ко мне все доброжелательнее. Он понял, что я не только внимательный ученик, но и умный человек. Я очень мало общался с другими студентами. Большинству из них, казалось, я не нравился. Меня пару раз спросили, нет ли во мне чужой крови. Когда я сказал, что приехал с Украины, поинтересовались, не еврей ли я. Это меня сильно обидело и испугало. Евреям позволялось находиться за чертой оседлости лишь по специальному разрешению. У меня такого не имелось, потому что я в нем не нуждался. Я был настоящим славянином, до кончиков ногтей. И это злило немногочисленных студентов-евреев. К счастью, мне удалось избежать серьезных проблем: кое-кто из однокашников поддержал меня и помог поставить жидов на место. Лицо мое было ничуть не темнее, чем у большинства окружающих. Старые дамы часто сравнивали меня с цесаревичем, бедным маленьким мальчиком, которого Распутин, по его утверждению, вылечил. Конечно, во мне не было ничего еврейского, за исключением последствия отцовского поступка – глупой операции ради здоровья. Но самые дурные слухи обычно распространяются с удивительной скоростью, и не всегда возможно их предотвратить, как бы уединенно ты не жил. В Германии, как и в Англии и Канаде, эта операция стала обычным делом, доктора зачастую даже рекомендовали ее. То же самое относилось и к Америке. Но, конечно, не к царской России! Проклятие мертвого отца все еще преследует меня и будет сопровождать, полагаю, до самой могилы. Может, я обрету покой на еврейском кладбище в Голдерс-Грин. Это будет забавно. Раввины подпрыгнут, узнав, что язычник лежит рядом с ними. Но надеюсь получить настоящее православное отпевание. Я постараюсь как можно скорее побеседовать на эту тему с архиепископом Бэйсуотерской православной церкви, которую я посещаю всякий раз, когда позволяет здоровье. Они всегда так возвышенны, русские церковные службы – все в белом и золотом, запах ладана, люди стоят вокруг священника, когда он благословляет их; потом выносят иконы. Я отмечал важнейшие церковные праздники в Санкт-Петербурге вместе с Зиновьевыми. Впервые в жизни мне довелось испытать удивительное чувство единения и радости, знакомое истинно верующим. Как странно: люди, которые лучше всего постигли смысл поклонения Богу, сегодня изгнали Его из своей страны! Мои отношения со сверстниками оставляли желать лучшего, но жизнь у Зиновьевых была спокойной. Я регулярно получал письма от Эсме, реже – от матери и капитана Брауна. Доктор Мазнев с восторженным интересом следил за моими успехами, и вскоре я стал его любимчиком. Поскольку я не мог ездить в Киев на каникулы, я проводил их в Петербурге, и доктор Мазнев позволял мне навещать его дома. Его квартира, хотя и выглядела темной и пустой, производила впечатление когда-то счастливого и богатого жилища. Здесь были книги по всем предметам, которые я изучал: физика, прикладная механика, электрическая и строительная техника, черчение, математика и так далее, и я мог брать их, как и книги по предметам, не связанным с моими занятиями, но также интересовавшим меня, – по архитектуре, географии и астрономии. Лишь однажды доктор Мазнев задал мне вопрос о моем прошлом. Он предположил, что я стал Хрущевым из-за своего низкого происхождения. Я подтвердил, что моя семья небогата, что мать не могла оплатить обучение в известном институте или училище. – А как ваш дядя связан с мистером Грином? – Мистер Грин – его агент в столице. Мой дядя занимается торговлей. Этого объяснения оказалось достаточно. – Вы не могли получить необходимое разрешение на передвижение, так что пришлось воспользоваться… именем другого человека? Я уверил профессора, что мой дядя не сомневается в том, что Дмитрий Хрущев не сможет занять положенное ему место в политехническом. Доктор Мазнев тактично приподнял руку и сказал, что мне больше ничего не следует говорить. Это было совершенно справедливо. Кроме того, я мало что смог бы добавить. После нашего разговора профессор начал уделять мне еще больше внимания, и, само собой разумеется, я почти тотчас же столкнулся с жестокостью и оскорблениями, которые терпел несколькими годами ранее, когда учился у герра Лустгартена. Из-за этого я мало общался с другими студентами. В некотором отношении это было даже хорошо: многие из них увлекались самыми циничными и кровожадными радикальными идеями. Охранка часто появлялась в институте. Обычные фараоны тоже не сводили глаз с политехнического. Мне порой не хватало духа товарищества, которым я наслаждался в Одессе. В Петербурге, как мне показалось, было невозможно установить естественные товарищеские отношения. Я даже не хотел встречаться с Марьей Варворовной. Все мальчики моего возраста из модных военных училищ уже заводили любовниц – продавщиц и актрисок, которые только и мечтали отдаться джентльменам. Даже катки и танцевальные залы предназначались для узкого круга богачей. Санкт-Петербург казался городом, застроенным чередой замков, за стенами которого свободные люди предавались всевозможным порокам и удовольствиям. А тем временем далеко, в городских предместьях, как будто разбила лагерь огромная армия проклятых отщепенцев, которые угрожали России гораздо сильнее, чем какие-то пруссаки. В центре города были крепости, полные света, стекла, алмазов, здесь обитали прекрасные люди. На окраинах, среди огромных мрачных фабрик, из высоких труб которых вырывались кроваво-красные искры и клубы серного желтого дыма, среди грязных каналов, сирен, вопящих подобно погибшим душам, стояли крепости тьмы. Из них вытекали бесчисленные грязные толпы. А кого в этом винить? Прежде всего Думу. Этот нелепый орган власти подражал западным парламентам, но не смог укорениться на русской почве и пробудить доверие в русских сердцах. Дума стала подачкой революционерам. Этого нельзя было допускать. Она никогда не имела никакой власти, за исключением власти слов, – и злоупотребляла ею ежедневно. Дума задушила Россию словами. Она убедила нас начать войну. Она убедила нас сдаться. Она убедила нас устроить революцию. И все ее глашатаи попали в большевистские тюрьмы и были расстреляны – именно такого конца они все и заслуживали. Россия никогда не хотела демократии, она нуждалась в сильном лидере. В конечном счете, лишившись всего святого, Россия снова получила желаемое. Во время пасхальных каникул, когда мы ходили в церковь, чтобы кричать «Христос воскресе!», обменивались крашеными яйцами, ели рыбу и клюкву, я решил отдохнуть от занятий и отправиться вместе с девицами Зиновьевыми и их приятелями на военный парад на Марсовом поле. Пока мы смотрели на кавалерию, гвардию, стрельцов и прочие старинные полки, шедшие строем с оружием в руках, под флагами и вымпелами, развевавшимися на первом теплом весеннем ветру, возможность того, что какой-то враг может нанести нам поражение, казалась нелепостью. Царь не присутствовал на этом параде, но его портрет возносился над полем, и все мы искренне приветствовали его и пели государственный гимн:Настала петербургская весна. Ее приветствовало все население города, как будто Иисус сотворил чудо! Сверкающие зимние дни были единственным источником радости с октября по апрель. Но я, приехавший с юга, с трудом мог поверить, что унылая балтийская весна наполнила сердца горожан такой великой радостью. Пробираться по грязи и слякоти в поношенных ботинках, смотреть на маленькие зеленые бутоны, которые уже увядали, как бы намекая, что приближается лето, наблюдать за шествием футуристов в оранжевых цилиндрах и желтых сюртуках по центру Невского с плакатами, провозглашавшими смерть искусства, конец «великого невежества» и тому подобное, – это стало одним из самых больших разочарований в моей жизни. Я ожидал чего-то совершенно иного. На мой взгляд, Санкт-Петербург был прекраснее всего в тумане. Тогда все, кроме огромных зданий, скрывалось в тени, и деревья напоминали окаменевших многоруких марсиан, охранявших редких прохожих. Квартиры и конторы, окна которых выходили на проспекты, казались утесами, ровными, тихими и безжизненными, особенно по утрам. Вечерами желтое газовое освещение и электричество, включая разноцветные рекламные надписи, превращали каждое здание в пещеру, жители которой толпились вокруг своих очагов и замышляли вылазки во внешний мир. В этом самом искусственном из городов, предшественнике огромных жилых массивов и высотных псевдогородов современного мира, скука казалась повсеместной. Во время войны процветали маленькие театры и кабаре; вандализм, жестокий террор и отвратительное современное искусство достигли пика. Революционная литература печаталась в подпольных типографиях, несмотря на то что полицейских и солдат становилось все больше. Они оказались такими же продажными, как и их начальники, их заставляли держаться в стороне спекулянты, красные жирные пальцы взяточников и страх смерти. Еврейские агитаторы знали, как примазаться к солдатам; а еврейские спекулянты были в курсе слабостей друзей, полицейских и политиков. Русских снова продали в рабство люди, которые по долгу службы должны были их защищать. Что касается меня, я очень мало знал обо всем этом во время учебы. Мои занятия не прекращались даже во время летних каникул. Я с удовольствием учился у доктора Мазнева, который с радостью стал моим наставником и поклялся восстановить справедливость. Он, казалось, сосредоточил на мне весь свой идеализм. Я полагаю, что в итоге он нажил себе врагов среди учеников и коллег. Профессор поощрял меня во всех сферах обучения, научил думать самостоятельно, размышлять. Когда настало время ежегодных экзаменов, он сказал, что мне не следует их бояться, поскольку я со всем справлюсь. И я преодолел эти испытания (они в основном были устными). По словам доктора Мазнева, я закончил первый год обучения великолепно. Если я буду и дальше заниматься на том же уровне, то диплом мне обеспечен. Я стану квалифицированным инженером и смогу начать работать. Студенты иногда посещали фабрики. Это было нечто вроде ознакомительных визитов. Мы видели литейные заводы: раскаленные докрасна тигели, реки жидкого металла, потных, темнокожих рабочих. Мы посещали локомотивные мастерские. Наблюдали, как изготавливаются переплетные машины и печатные станки, как ремонтируют автомобили. Большая часть подобных экскурсий не представляла для меня интереса. Я узнал гораздо больше от моего армянского наставника двумя годами ранее. В Киеве я просто работал, а не смотрел со стороны, как хмурые мужчины обменивались мнениями о господах рабочих. Студенты военных академий, считавшие себя элитой петербургской молодежи, называли нас «синим мясом». Мы, по их мнению, вообще не были джентльменами. Мы прекрасно понимали, что лучше не сталкиваться с ними. Мало того, что кадеты собирались большими группами; к ним гораздо лучше относились полицейские и солдаты, всегда принимавшие их сторону. У всех кадетов имелись превосходные связи, среди них встречалось немало князей и графов.
Я вернулся в Киев на рождественские каникулы и увидел, что Эсме повзрослела, а мать вполне поправилась. Она все еще не очень хорошо себя чувствовала; поэтому прачечная по-прежнему была сдана в аренду одной знакомой. Эсме теперь работала в ближайшей бакалейной лавке. Она надеялась, что я расскажу ей о Петрограде, как раньше рассказывал об Одессе, но мне пришлось признаться, что я вел скучную жизнь, наедине с книгами, и с помощью доктора Мазнева добился успеха. Моя подруга призналась, что очень рада. Эсме стала очень женственной. Я спросил ее в шутку, есть ли у нее приятель. Она покраснела, ответив, что кое-кого ждет. Я пожелал ей удачи. Каникулы быстро пролетели. Я отправился в Петроград в вагоне второго класса, вместе с еще одним студентом и несколькими младшими офицерами, бывшими кадетами, которые получили первые назначения и собирались выиграть войну. Они ликовали, потому что мы недавно одержали победу в Польше. Казалось, что немецкие захватчики отступают. Новости из Франции были печальными. Сотни тысяч людей погибли. Моему собрату, студенту, который учился в университете и потому чувствовал себя очень значительной персоной, казалось, что война будет продолжаться вечно, пока все вокруг не превратится в одно обширное поле битвы; жители Земли в конце концов погибнут от газовых атак или от шрапнели. Я не заинтересовался этим пораженческим разговором и присоединился к младшим офицерам, которые осуждали моего соседа за цинизм. Дело едва не дошло до драки. На некоторое время я покинул купе и попытался перекусить в ресторане, но еда там уже закончилась. Мне пришлось укрыться в уборной и съесть колбасу с картошкой, которыми мать снабдила меня в дорогу. Из-за трудностей путешествия мне пришлось покинуть Киев в свой день рождения. Так что я отметил этот праздник, сидя на деревянном сиденье в уборной в холодном, медленном поезде, который подпрыгивал на каждой шпале, и поедая дешевую колбасу с полузамерзшей картошкой. Само собой разумеется, я был не единственным русским, который вспоминал о зиме 1916 года как о настоящем золотом веке! Когда я вернулся в дом Зиновьевых, меня встретили хозяйка, вся в слезах, и ее радостно улыбающиеся дочери. Они покорили сердца молодых людей и теперь были официально обручены: старшая, Ольга, – с хлеботорговцем по фамилии Павлов, младшая, Вера, – с коммивояжером, представляющим «Компанию безалкогольных напитков и минеральных вод Грицкого». Таким образом, за один год они отказались от грез о Евгении Онегине и нашли себе спутников жизни, имеющих неплохой доход и виды на будущее. Чем занимались их мужья после 1917‑го, я не знаю. Возможно, первый, если ему повезло, мог остаться управляющим в государственном зерноуправлении с каким-нибудь уродливым названием вроде «Госзернупр» и продолжать обвешивать клиентов при первом удобном случае. Другой мог представлять управление Госминвод в Ленинграде и Новгородской области, подкрашивая все напитки красным. В том случае, если продавать стало бы нечего, он мог устроиться в информбюро Госминвод, прославляя достоинства коммунистических шипучек по сравнению с упадочными напитками капиталистов. У него не было бы настоящей работы, зато имелись увеличенная суточная норма хлеба и риск попасть под пули чекистов, если «партийная линия» по части безалкогольных напитков изменится и он скажет, что вишневый напиток лучше земляничного, когда следовало говорить обратное. Но это еще было впереди. У нас оставался целый год свободы. Год, в течение которого продовольственные нормы продолжали урезать, а жизнь столицы постепенно начинала принимать черты той жизни, которую мы вели под властью красных. Выделяя немного денег из своего пособия, я, по крайней мере, оказался избавлен от ужасного вкуса конины. Мадам Зиновьева продолжала подавать на стол то, что могла достать. Ей помогали, так же как многим, Грин и Гранмэн. У них когда-то служил ее муж. Его убили, когда он исполнял какое-то поручение фирмы в Дании. Мое пособие увеличили, поскольку инфляция усиливалась. Доктор Мазнев продолжал давать мне дополнительные уроки. Поскольку девицы Зиновьевы работали, а свободное время проводили со своими женихами, мне редко удавалось общаться со сверстниками. Из-за учебы я утратил уверенность в себе, которая была необходима, чтобы написать Марье Варворовне, заполнявшей мои фантазии. Ее адрес надежно хранился у меня, как и адрес Сережи. Иногда, когда мои глаза уставали от чтения при свете керосиновых ламп (и газ, и электричество часто отключали, а свечи было очень трудно найти), я обдумывал, как бы мне связаться с ними, – а может, даже попросить Ольгу познакомить меня с приятной девушкой. Но я слишком уставал. Если переставал читать, то немедленно засыпал. Я чаще всего ложился в кровать сразу после ужина, чтобы, заснув над раскрытой книгой, по крайней мере не проснуться утром в верхней одежде. Тоскливая петроградская зима сменилась тоскливой весной, во время которой продолжались мелкие демонстрации, придворные скандалы, связанные с Распутиным; все больше казаков и полицейских появлялось на улицах. Последовали новые визиты «гороховых пальто» в наш институт, очередные известия о поражениях наших войск. Меня злило смехотворное публичное позерство так называемых художников-футуристов, которые праздновали наступление «машинного века». Они не могли отличить один конец велосипеда от другого и до полусмерти перепугались бы, если б им пришлось провести полчаса в грязи, дыму и саже на обычной фабрике. Снег сменился грязью и слякотью; несчастные бутоны осторожно распускались, трамвайные рельсы исчезли с невского льда, на смену белым ночам пришли ночи странного зеленоватого оттенка, и проспекты, так часто погружавшиеся во тьму из-за перебоев с электроснабжением, едва ли стали веселее, когда на них появились десятилетние изможденные девчонки, торговавшие иссохшими пучками фиалок за огромные деньги; если поблизости не было полицейских, они не намного дороже продавали свои грязные тела. Пребывая в утомленном и несколько подавленном состоянии, я начал тосковать по Одессе, по Кате и даже по Ванде, сообщившей мне в письме, без малейших на то доказательств, что я был отцом ее прекрасного, здорового мальчика, по веселой компании Шуры, который теперь мог оказаться безработным по моей вине. Нет ничего удивительного в том, что украинские писатели перестают сочинять беззаботные, счастливые, оптимистические произведения в тот момент, когда они прибывают в столицу. Они тотчас начинают писать мрачные рассказы о бедности, смерти и несправедливой судьбе, подражая невротику Достоевскому и его товарищам. Я начал чувствовать, что тоскую по дому, но решил вернуться в Киев со всеми надлежащими документами. Став квалифицированным инженером, я устроился бы в хорошую фирму, там меня бы постепенно оценили и предоставили собственную лабораторию. Я думал о работе в государственной авиакомпании, куда мог бы с легкостью устроиться, если бы не отсутствие официальных бумаг, доказывающих мои способности.
Еще одна Пасха. Обмен яйцами. «Христос воскресе!» Звучное пение в церкви, процессии, молитвы за нашего царя, за Россию, сражающуюся с хаосом и варварством. Нас со всех сторон по-прежнему атаковали турки и гунны. Когда я преклонил колени рядом с сестрами Зиновьевыми, мне показалось, что огромное зеленое пространство, которое было Российской империей, одной шестой частью земного шара, могло внезапно исчезнуть, подобно Карфагену. Я поднялся на ноги, задумавшись, не должен ли присоединиться к армии, бороться против наших врагов, отстаивать будущее славян. Но это желание быстро исчезло. Я был все еще слишком молод, чтобы стать солдатом. В то мгновение я пережил один из немногочисленных всплесков истерического патриотизма. Мое понимание терпеливой славянской души сложилось много лет спустя. В изгнании, в Англии, я имел возможность сравнить наши достоинства с недостатками англо-саксонских, скандинавских и германских народов. Эти люди – материалисты до мозга костей, развращенные наукой, они ограниченны и не допускают никаких альтернативных точек зрения. Все фантазии, связанные с тем, чтобы служить своей стране пушечным мясом, а не пушечным мастером, исчезли, когда я вернулся в институт после Пасхи и выяснил, что треть студентов исчезла и три профессора недавно уволены. Охранка побывала у директора. У них имелся список «нежелательных» – вероятно, опасных в военное время – людей, которые могли оказаться вражескими шпионами. Все явные красные исчезли, и за это, конечно, я был признателен, но, войдя в класс доктора Мазнева, осознал, насколько мне не повезло. Профессор отсутствовал. На его месте стоял его конкурент, чернобородый, огромный профессор Меркулов, одетый в темный мундир. Он посоветовал мне занять место в задних рядах аудитории и быть повнимательнее, потому что никаких любимчиков больше нет. Сказал, что мой друг Мазнев лишился работы; ему еще повезло, что он не попал в тюрьму. Я был потрясен, столкнувшись с нескрываемым злорадством Меркулова. – Вам придется очень усердно заниматься, если желаете сдать выпускные экзамены в конце этого года, Хрущев, – добавил он. Меркулов прекрасно знал, что я был лучшим студентом в институте, что я разбирался практически во всех предметах, которые там преподавались, и во многих других. Но теперь я столкнулся с явным противодействием. Профессор Меркулов ненавидел доктора Мазнева и всех его любимчиков. Покидая институт в тот вечер, я чувствовал себя совершенно разбитым; я начал думать, что заблуждался во всех своих фантазиях, – и захотел навестить своего наставника в его мрачной квартире. Я знал, что это глупо. «Гороховые пальто» следили за всеми студентами, которые могли якшаться с предполагаемым предателем. Это означало бы конец моего обучения. Я вернулся домой, и мадам Зиновьева вручила мне письмо. Его принесли вскоре после моего ухода. Почта, как и все прочие службы, находилась не в лучшем состоянии из-за войны. Письмо было от доктора Мазнева. Он сообщал, что его уволили, так как в юности он симпатизировал идеям Бакунина и Кропоткина, анархистов-интеллигентов. Его сын, как я уже знал, находился в изгнании в Швейцарии, по-прежнему оставаясь убежденным эсером. Ему только чудом удалось избежать тюремного заключения или ссылки в Сибирь. Доктор Мазнев советовал мне не вступать с ним в контакт, разве что ситуация станет совсем отчаянной. Если мне понадобятся какие-то книги, следует попытаться раздобыть их через посредника. Тогда подозрение не падет на меня. Он знал, что я не интересовался политикой, и мысленно был со мной. Мне не следовало унывать. Если я буду упорно трудиться, смогу стать лучшим студентом политехического, несмотря на все трудности. Письмо было трогательным и ободряющим. Я решил доказать профессору Меркулову, что «покровительство» являлось всего лишь признанием выдающегося таланта. Я стану заниматься еще больше, если понадобится – и днем и ночью, – и получу дипломы с отличием по всем предметам. Я заставлю своих противников умолкнуть. Дни становились все длиннее. Богатые люди начали уезжать из Петрограда: не к морю, в Крым, как когда-то, а на свои дачи, поближе к Москве. Я готовился к экзаменам, предстоявшим в конце года. Мне нужно было обратить внимание начальства на свои успехи. Я позабыл обо всем ради занятий. Конечно, учиться становилось тем труднее, чем глубже я погружался в знания. Я без особенных затруднений справлялся с обычными экзаменационными задачами, но хотел добиться большего. Я хотел сдать экзамены так, чтобы меня перевели по крайней мере на год вперед или даже выдали мне диплом немедленно. Это освободило бы меня от Меркулова. Я мог бы научиться большему у преподавателей, не разделяющих его предубеждения против меня. Я забросил чтение романов и пикники с Зиновьевыми, стал меньше спать, чтобы больше учиться, прекратил думать о Марье Варворовне, прочитал все имевшиеся учебники, а также те, которые предназначались для высшего уровня, внесенные в библиографические списки. Я начал постигать общие идеи науки, принципы инженерного дела; мой разум совершал один интеллектуальный прорыв за другим. Конечно, мне снова приходилось пользоваться кокаином, но это помогало мне создавать уникальные связи. Я начал постигать самую структуру Вселенной. Всякий раз, засыпая, а это случалось нечасто, я видел все планеты Солнечной системы; я видел другие планетарные системы, галактики. Вся Вселенная представала передо мной. И мир атомов отражался, как на картине. К этой величественной концепции я мог приспособить онтологическое понимание мира, заключающее в себе всю сумму человеческих знаний, и даже больше. То были видения, в волнении постиг я, которые привели Леонардо, Галилео и Ньютона к их открытиям. Я прикоснулся к тайнам Гения. Я знал, что не должен открывать слишком многое своим преподавателям, особенно Меркулову, обычному человеку с обычным разумом. Другие преподаватели были гораздо умнее, но даже они не смогли бы распознать ценность моих новаторских теорий. Я стал причастен к божественному знанию, был способен записать его, но пока не мог поведать миру. Мадам Зиновьева забеспокоилась, что я переусердствовал. Она заметила, что я стал бледен, что мои глаза налились кровью, что я слишком мало ем. Я нетерпеливо отмахнулся от нее. Это огорчило добрую женщину. Я извинился, объяснил, что усердно готовлюсь к экзаменам, от которых многое зависит. Она успокоилась. Ольга и Вера больше не замечали меня. Они погрузились в мечты о семейной жизни с хлеботорговцем и продавцом минеральных вод, готовились стать хорошими домашними хозяйками; весь наивный романтизм остался в прошлом. Теперь их занимали качество зимних пальто и цены на мебель. Я с трудом узнавал тех двух девочек, с которыми познакомился всего пятнадцать месяцев назад. Я шел на трамвайную остановку и чувствовал себя гигантом, шагающим среди зданий, крыши которых – не выше колена. Было все еще очень холодно. Я не обращал внимания на погоду. Перед собой я видел звезды и силовые линии, объединяющиеся, чтобы создать то, что мы называем Вселенной. Природа самой материи вот-вот должна была открыться мне. В институте я посещал лекции, но уже постиг их смысл. Я с вежливым нетерпением слушал профессора Меркулова. Он был дураком. Я не обращал внимания на замечания моих товарищей. Я возвращался домой и продолжал заниматься. Но запасы кокаина уменьшались. Я знал, что мне понадобится больше, если я хочу продолжить исследования, которые теперь занимали множество больших записных книжек. Я находился в расцвете сил и не мог позволить себе терять время. Я отыскал клочок бумаги с адресом друга, у которого собирался остановиться Сергей Андреевич Цыпляков. Я решил употребить остатки кокаина и вернуть табакерку. Это стало бы идеальным оправданием. Я бы сказал, что коробочка открылась и все лекарство рассыпалось. Он был бы благодарен за табакерку, которая казалась довольно ценной, а я узнал бы, где можно купить кокаин, и потратил бы на порошок деньги, предназначенные для покупки дорогих иностранных книг. Я доехал на трамвае до Михайловского сада, отыскал указанный дом. Он был не так велик, как я воображал, но значительно больше тех домов, в которых мне приходилось бывать в Санкт-Петербурге. Швейцар остановил меня у входа, я вынужден был назвать ему имя Сережиного друга, Николая Федоровича Петрова. Швейцар что-то проворчал о крутящихся под ногами хулиганах и объяснил, куда идти. Следовало пересечь внутренний двор, потом подняться на самый верх здания; квартира занимала целый этаж, выглядевший весьма роскошно. Вокруг было очень тихо. Я позвонил в звонок. Дверь мне отворила молодая девушка, одетая только в японское кимоно. Нечто неопределенно восточное было в ее сильно накрашенном лице; она двигалась с особенной скользящей грацией, одновременно и застывшей, и естественной. Возможно, тоже балерина. Девушка ничего не сказала, впустила меня и тут же ускользнула во внутренние комнаты. Я снял кепку, закрыл дверь и последовал за ней. Я вошел в большое помещение, обставленное в стиле «Искусств и ремесел»[80], своего рода русском варианте ар-нуво, очень модном в то время. В комнате я увидел множество павлиньих перьев и слегка вздрогнул: вспомнилось старое суеверие, согласно которому павлиньи перья приносят в дом несчастье. – Вы что, друг Коли? – спросила девушка. – Я хотел бы увидеть Сергея Андреевича Цыплякова. Она тотчас бросилась в одно из глубоких кресел; кимоно распахнулось. Ее соски были подкрашены, а груди выглядели совсем крошечными. И открылись мужские гениталии. Оказалось, это юноша, накрашенный, как девушка. Я смутился, но недавно принятый кокаин помог мне прийти в себя и сохранить внешнее спокойствие. Существо поправило свое кимоно и бесцеремонно произнесло: – Не думаю, что Сережа и Коля разговаривают друг с другом. А вы что, действительно Сережин друг? – Мы познакомились в поезде из Киева. – Вы – тот жиденок, которого он пытался совратить? Я улыбнулся и покачал головой: – Вряд ли. Он здесь живет? – Жил, пока они не поссорились. – Он переехал? – Ну, его здесь нет. Чего вы от него хотели? – У меня его табакерка. – Там остался порошок? – Там никогда не было никакого порошка. Юноша понимающе улыбнулся. Очевидно, он был опытным нюхачом. В мои планы не входило ссориться с человеком, который наверняка поможет мне отыскать то, что кокаинисты на всех языках называют «снежком». Я сказал: – Меня зовут Дмитрий Митрофанович Хрущев. – Вы с юга. Я изменил свой акцент, чтобы придать ему резкое, петербургское звучание. – Могу ли я узнать ваше имя? – Я поклонился с насмешливой любезностью, с которой можно было обратиться к даме не слишком строгих правил. Это ему понравилось. Он встал, сделав жест, который можно было принять за реверанс. – Enchanté[81]. Можете звать меня Ипполитом. – Вы тоже связаны с балетом? – Связан, да. – Ипполит захихикал. – Выпьете? У нас все есть. Шампанское? Коньяк? Абсент? Абсент только что запретили во Франции. – Я бы выпил абсента. Я никогда его не пробовал и хотел воспользоваться возможностью, пока не вернулся владелец квартиры. Он мог оказаться не столь гостеприимным. Еще раз ловко вильнув бедрами, Ипполит направился к буфету и плеснул мне немного абсента. – Воды? Сахара? – Как обычно. Ипполит пожал плечами. Он подал мне узкий бокал на длинной ножке, в котором сияла желтая жидкость. Надеюсь, на моем лице не отразилось удовольствие, с которым я потягивал горький напиток; однако именно в тот момент я пристрастился к новому пороку. Тому самому, которому, как ни печально, все труднее и труднее сопротивляться. Ипполит легко распоряжался абсентом. Он принес мне бутылку. На этикетке стояло название «Терминус». Современные читатели не вспомнят старых рекламных объявлений, висевших лишь в лучших российских магазинах. Я, кажется, ни разу не видел таких в Париже. «Je bois a tes succès, ma chère, – говорит Арлекин своей даме fin-de-siècle на рисунке Мухи, – et a ceux de lAbsinthe Terminus la seule bienfaisante»[82]. Я приготовился терпеливо ждать развития событий. В самом худшем случае явится рассерженный хозяин, который подскажет, где найти Сережу, прежде чем выставить меня. Можно было бы также отправиться в Малый театр на Фонтанке, где балет «Фолин» еще исполнял какой-то бессмысленный спектакль, поставленный великим обманщиком Стравинским. Мы вступили в эпоху блестящих фокусников, корчивших из себя творцов. Они использовали приемы странствующего цирка и превращали их в искусство. Это позволяло каждому чувствительному молодому человеку стать художником: требовались только способность к саморекламе и убедительный голос еврейского рыночного зазывалы. Ипполит посмотрелся в зеркало, на серебряной раме которого, как на всей отделке комнаты, были изображены голые нимфы и сатиры. Дверь отворилась, и появился хозяин дома. Очень высокий, в огромной желтовато-коричневой волчьей шубе. Я тотчас почувствовал восхищение и зависть. Никто не пожелал бы расстаться с такой шубой, даже в разгар лета. Волчья шкура упала на пол. Коля был одет во все черное: черную широкополую шляпу, черную рубашку, черный галстук-бабочку, черные перчатки, черные ботинки и, конечно, черные брюки, жилет и сюртук. Его абсолютно белые волосы могли быть как натуральными, так и окрашенными. Красноватый оттенок его глаз наводил на мысль, что передо мной альбинос, но я предположил, что это следствие нездорового образа жизни и природной меланхолии. Кожа мужчины казалась бледной, как подснежники в руках цветочниц на Невском. Увидев меня, Коля отшатнулся в притворном изумлении. Сжав в длинных пальцах черную трость с серебряным набалдашником, он улыбнулся с такой сочувственной усмешкой, что будь я девушкой – тут же упал бы к его ногам. – Мой дорогой! – сказал он по-французски Ипполиту. – И что этот маленький серый солдатик делает у нас дома? – Он пришел к Сереже, – ответил Ипполит по-русски. – Его зовут Дмитрий Алексеевич как-то там… – Дмитрий Митрофанович Хрущев. – Я поклонился. – Я хотел вернуть это господину Цыплякову. – Я вытащил табакерку. Изящным движением руки (я сразу понял, кому подражал Ипполит), Коля вырвал коробочку из моих пальцев и тотчас открыл ее. – Пусто! – Да, ваше превосходительство. Я льстил и в то же время развлекал этого вельможу. – Вы друг Сережи? – Знакомый. Я хотел вернуть ему табакерку, но из-за учебы не смог. – И чему вы учитесь? Вижу, вы наслаждаетесь абсентом. Смакуйте его и осушите стакан до дна, мой дорогой. Это последняя бутылка. – Коля говорил очень спокойно. Он даже не выказал недовольства по отношению к Ипполиту, как я ожидал. Я оказался рядом с настоящим джентльменом, денди старинного английского образца, а не debauchee[83] российского типа. – Ваш французский хорош, – заметил он. – Произношение почти идеально. Ипполит хмурился, очевидно с трудом следя за беседой. – У меня талант к языкам. – Так вы изучаете языки? Где? В университете? – Нет, нет, m’sieur. Я изучаю естественные науки. Я уже разработал множество изобретений и проектов новых транспортных средств. Придумал способ преодолеть океаны. Ну, и тому подобное… – Вы как раз тот, кто мне нужен! – Коля, казалось, искренне обрадовался. – Я одержим наукой. Вы читали Лафорга?[84] Я никогда не слышал о нем. – Изящный поэт. Лучший из всех нас. Умер очень молодым. От обычной болезни. – От сифилиса? Он рассмеялся. – От туберкулеза. Мой дорогой сэр, я невежда. Вы раскроете мне тайны двигателей внутреннего сгорания, электромобилей, состава материи? – Был бы счастлив… – Вы станете моим наставником? В самом деле? Вы подадите мне идеи? – Идеи, m’sieu… Я не уверен… – Символы двадцатого столетия, мой дорогой Дмитрий Митрофанович. Это в науке мы должны обрести нашу поэзию. И обязаны отдать поэзию науке. – Он говорил так, будто репетировал эту речь уже не раз. Я встретился с футуристом, но не с одним из тех вульгарных парней, которых видел во время шествия на Невском. В Коле я разглядел нечто такое, что произвело на меня сильное впечатление; футуристы и прочие современные мошенники ничего подобного не добились. Он был наделен особым магнетизмом и, по крайней мере, немного разбирался в науке. Если он действительно богат – а, похоже, так оно и было, – он мог платить за частные уроки. В свою очередь, эти деньги пошли бы на кокаин, который он сможет раздобыть. Ипполит теперь впился в меня взглядом. Думаю, что он заподозрил во мне конкурента, претендующего на внимание Коли. Это было смешно. Мне иногда случалось развлекаться мелкими интрижками с представителями моего пола. С кем не бывает? Я знаю, что это не шокирует английскую аудиторию, потому что подобное здесь в порядке вещей. Но мои отношения с Колей должны были ограничиться горячей дружбой и уважением. Я и впрямь нашел покровителя! – Вам нравится Бодлер, Дмитрий Митрофанович? – Поэт? – Поэт, безусловно! – Коля шагнул к окну и раздвинул жалюзи; в комнату проник слабый петербургский свет. – Les tuyaux, les clochers ces mats de la cite![85] – улыбнулся он. – Торжество городской жизни. Величайшие поэты никогда не были обитателями Аркадии, славившими пастухов и их спутниц. Величайшие поэты мира всегда воспевали достоинства улиц, трущоб, переулков и домов – того, что сотворил не Бог, а их собратья, люди. Быть истинным поэтом значит воспевать город. Воспевать город значит быть истинным революционером! Этот метод революционных действий казался вполне безопасным. Я был не особенно встревожен, хотя начал сомневаться, что Коля окажется подходящим работодателем. В полиции мое имя уже связали с одним радикалом, и здесь я, кажется, случайно столкнулся с другим. Но мне требовался кокаин, если я хотел продолжить работу, получить диплом, начать карьеру и даровать миру плоды моих исследований. – Вийон, Бодлер, Лафорг, даже Пушкин, мой юный Дима. Все прославляли город. Невинность таится в сточных канавах мира, да? Это наша естественная окружающая среда, и для нас естественно воспевать ее. Природа – фабрика, жилой дом, газовый вентиль, локомотив. Разве они не прекраснее полей и цветов? Не сложнее коров и овец? Если Россия вознесется, если скифы явят миру свое величие, мы будем вынуждены прекратить гадать на ромашках, любоваться маками, восхищаться нежными закатами над Ладожским озером. Мы начнем описывать желтый дым фабрик, который искажает кровавые лучи солнца; создавать человеческое искусство из того, что, по нашим убеждениям, было делом одних только богов. Ты видел закаты над доками, Дима? Ты видел, насколько прекрасней они становятся от дыма и пара кораблей? Как он озарял кирпичи зданий, ржавые борта судов, деревянные шхуны и паруса? Как он касался пятен нефти на черной воде, создавая тысячу образов в одном? Ты заметил, как паровой локомотив вносит шум жизни в мертвый пейзаж? Так же огромные первобытные животные некогда несли жизнь. Ты наблюдал, как золотые лучи солнца скользят по прекрасной угольной пыли? Разве все эти вещи не возбуждают тебя, не заставляют твою кровь кипеть, а сердце – биться от радости? Ты, ученый, должен понять то, чего не понимают многие из моих товарищей-поэтов! Ибо все они напыщенно рассуждают о рычагах и двигателях, но лишены истинного воображения и поэтому не могут разглядеть, что подобные вещи – не объекты их насмешек, а вдохновители человечества! Не знаю, с чем это было связано – с восхищением собственной деятельностью или влиянием кокаина, – но меня, признаюсь, вдохновили Колины речи. Он выражал в поэзии все, о чем я думал, и вдохновлял меня на новые мечтания. Я видел, как мы, поэт и ученый, меняем весь мир. Те марширующие футуристы казались лишь хвастливыми подмастерьями. У них было мало общего с этим замечательным человеком. – Я хотел бы прочитать ваши стихи, – сказал я. Коля рассмеялся: – Это невозможно. Садись, выпей еще абсента. Я зимой сжег все свои стихи. Они не дотягивали до нужного уровня – всего лишь подражания Бодлеру и Лафоргу. Нет никакого смысла добавлять второсортные стихи к той куче, которая уже завалила наш город. Я подожду, когда кончится война, или наступит революция, или случится армагеддон или апокалипсис, и тогда снова начну писать. Он опустился на большой диван посреди комнаты и взял бутылку. – Ты уже допил? – Если больше не осталось… – Я коснулся рукой своего бокала. – Наслаждайся. Почему бы и нет? Если эта война продолжится, если апокалипсис действительно настанет, у нас больше не будет абсента – только полынь, и то если повезет. – Черный рукав простерся в мою сторону, черная перчатка сжала горлышко фляги. Желтая жидкость полилась в высокий бокал. – Пей, мой ученый друг. За поэзию, которую ты вдохновляешь. – И за науку, которую ты вдохновишь. – Он заразил меня своим энтузиазмом. Я выпил. Ипполит исчез и, недовольный, вскоре появился снова, в достаточно обычном, хотя щеголеватом костюме; он сказал, что пройдется до «Танго», чтобы подыскать себе компанию, так как ему стало скучно. Коля любезно простился с ним. Затем, задержавшись у двери, Ипполит произнес: – Лучше сразу скажи, когда мне вернуться домой? – Когда будет угодно, дорогуша! – Коля оставался спокойным. – Мы с Дмитрием Митрофановичем будем обсуждать ученые дела. Ипполит нахмурился, застыл в нерешительности, потом все-таки ушел, но через минутувернулся. – Я мог бы еще куда-нибудь пойти, – заметил он. – Как пожелаешь, Ипполит. – Коля обратился ко мне с вопросом: – Хочешь пойти в «Алое танго»? Или тебе скучно в подобных местах? Я сообразил, что «Алое танго» – это заведение вроде тех богемных кафе, что я посещал в Одессе, в которых всегда можно добыть кокаин, и, должно быть, проявил излишнее нетерпение, ответив: – Не думаю, что мне будет там скучно. Коля сказал Ипполиту: – Увидимся там через пару часов. Дверь хлопнула. Коля вздохнул. – Красота нынче дешева, Дима. И, как правило, неотделима от дурных манер. Какая радость – встретить ученого человека! Я был очарован этим облаченным в черное призраком, этаким русским Гамлетом. Я окончательно расслабился. Несомненно, абсент заставил меня раскрыть, почти тотчас же, истинную цель моих поисков. – Ты наркоман? – удивился Коля. – Ну и ну! Людям начинают открываться лучшие стороны жизни. В конце концов, происходит революция! – Хочу отметить, – гордо произнес я, – что я не совсем обычный студент политехнического и не очень известен. Мой жизненный опыт – не только опыт аудиторий. Коля извинился, продемонстрировав хорошие манеры. – А что ты делал до политехнического? – Жил в Киеве, – ответил я, – летал на машине собственного изобретения. – В столь юном возрасте? Где же теперь аэроплан? – Не аэроплан – это было нечто совершенно новое. О нем писали в газетах. – Ты прилетел на этом в Питер? Я рассмеялся: – Нет, я потерпел крушение. Мне нужно время, чтобы усовершенствовать проект. Но когда это случится – полечу. – А куда ты отправился после? – На некоторое время – в Одессу. Я уже получил небольшой практический инженерный опыт, а в Одессе приобщился кокаину и плотским утехам. Я, должно быть, казался ему немного наивным, но он не подал виду. Я рассказал Коле, что с тех пор о развлечениях мне пришлось забыть, так как я сосредоточился на занятиях и рассчитывал преуспеть, несмотря ни на что. Сообщил, что ради этого я начал снова использовать стимуляторы и успешно продолжал работать – развил теории, которые удивят настоящих ученых, но не рассчитывал, что они произведут впечатление на скучных, унылых поденщиков, которые сейчас преподают в институте. И надеялся, что Цыпляков поможет мне раздобыть еще немного кокаина. – Ты Сережин друг? – Просто знакомый. – Так что тебя интересует скорее сам «la neige»[86], а не место, откуда он падает? – Коля добродушно улыбнулся. – Точно. – Что ж, нет ничего сложного в том, чтобы раздобыть немного. Особенно во время войны. Бог знает, как они могут обеспечивать всех воинов, поэтов и ученых тем, что им необходимо в эти трудные голодные времена. Тебя не интересует морфий? – Я никогда не увлекался опиатами. Мир грез – не спасение для меня. Я намерен принести в мир свои грезы. Его обрадовал такой поворот беседы. Он плеснул мне остатки абсента. – Надеюсь, что ты не осудишь меня, если я скажу, что иногда принимаю морфий. Когда нужно удалиться от мира, наркотики могут помочь. Я тогда не вполне понимал то, что хорошо знаю сегодня: кокаин – стимулятор, но морфий – убийца. Я никогда не пользовался успокоительными средствами. Слишком коротка дорога от сонных галлюцинаций до холодных объятий смерти; от рая на земле до подлинного ужаса. Не зря поляки говорят: как от ада ни беги, все равно в него попадешь. Я допил остатки абсента. – Должен заметить, что не пользуюсь наркотиками ради удовольствия. Они мне нужны, чтобы поддерживать работу тела и разума. – И ты не боишься, что сойдешь с ума, работая так много? – Это возможно, но я способен владеть собой. – Вдохновение и безумие, мне кажется, весьма схожи. – Коля направился к буфету и вытащил фарфоровое блюдо с белой крышкой, отлитой в виде Пьеро, глядящего на полумесяц. – У меня здесь есть немного. Кажется, недурного качества. Сейчас приходится быть осторожным: морфий очень популярен, так что полно жуликов, которые смешивают кристаллы со всем, что попадает им под руку. Следует проявлять осторожность. Ты не сталкивался с подобным в Одессе, перед войной? – В Одессе есть пара жуликов, – пошутил я. – Я слышал. Он взбодрил меня так же, как когда-то Шура. И даже лучше. Ведь Коля был искушенным литератором, театральным критиком, автором статей в толстых журналах, человеком, наделенным вкусом, чувством собственного достоинства и глубоким пониманием жизни, умеющим разглядеть интеллект и творческий потенциал. Мне пришло в голову, что он считал себя скорее агентом талантов, чем, собственно, талантом. Николай казался одним из тех выдающихся незаменимых людей, которые вдохновляют других добиваться лучших результатов, причем не важно, в какой области. Его полное имя было князь Николай Федорович Петров, и он находился в родстве с Михишевскими – одной из самых влиятельных аристократических петербургских семей, родовые имения которой находились на Украине. Николай Федорович посещал украинские деревни, но ни разу не бывал в городах и на побережье, однако ему довелось повидать более теплый Крым. – Нам следует отправиться туда, – заявил он, – нынче летом. Если война закончится. Эта фантазия привела меня в восторг. Я спросил, неужели он вообще не останавливался ни в Киеве, ни в Одессе. Коля рассмеялся: – Эти места всегда казались мне занятными, Дима, но только в воображении. Смуглые, романтические евреи всегда вызывали у меня интерес. Я очень сочувствовал Шейлоку, бедному Фейгину, самому яркому из персонажей Диккенса, благородному Исааку в «Айвенго»[87]. А ты? Я не читал ни одной из названных книг. Конечно, я видел упоминания о них в «Пирсоне». Англичане были терпимы по отношению к евреям. Одним из наиболее почитаемых английских писателей в те времена был Израэл Зангвилл, и, как нам всем известно, премьер-министром Англии стал еврей[88]. Коля продолжал хвалить английского поэта Шелли, герой которого, Агасфер из «Эллады», вдохновил его; по его словам, особенно сильное впечатление произвел один монолог, который он часто цитировал:
Глава седьмая
Именно тогда начался самый насыщенный этап моей творческой жизни. В будние дни я посещал лекции, читал книги, на много лет опережавшие те знания, которые входили в официальную программу, вечером отправлялся домой на паровом трамвае и занимался собственными исследованиями. Затем, около восьми-девяти вечера, несмотря на то что мадам Зиновьева качала головой и поджимала губы, я присоединялся к Коле у него на квартире или в одном из наших любимых кабаре. Он читал бесконечные стихи на французском, английском, русском и отвратительном немецком. Я рассказывал ему, как строятся цеппелины, работают танки и создается электричество. Полагаю, что он уделял моим лекциям столько же внимания, сколько я уделял его стихам. Я стал для него своеобразным талисманом нового века. Мой друг был всегда вежлив, никогда не допускал грубостей и никому не позволял оскорблять меня. В «Алом танго» и «Бродячей собаке» собирались богемные художники, иностранцы, преступники и революционные crème de la crème[96], позднее ставшие служить Керенскому или Ленину; они встречались, беседовали, слушали музыку, искали сексуальных партнеров и иногда дрались. Этот опыт стал для меня бесценным. Я наконец смог встречаться с женщинами и позабыть о Марье Варворовне. Эти дамы относились к любви так же легко и радостно, как моя Катя. У меня были и поклонники-мужчины, я флиртовал с ними, но не уступал их домогательствам. Многие девушки, да и зрелые дамы, возбуждались от чтения вслух порнографического бреда Мандельштама и Бодлера и увлекали меня в свои восхитительные постели. Иногда я спал на дорогих шелках, умывался по утрам теплой, ароматной водой. Я вновь обретал уверенность в себе. Решил, что могу меньше читать. Теперь я мог поддержать беседу практически на любую тему. Тем временем начались летние каникулы, и я решил позволить себе отдохнуть. С Колей, Ипполитом, девушкой, которая называла себя на английский манер Глорией (хотя была полячкой), и несколькими так называемыми поэтами мы гуляли по Летнему саду и широким набережным Невы, арендовали речные пароходики, наслаждались пикниками на берегу реки и обедали в тех великолепных деревянных многоэтажных заведениях, которые мало чем отличались от швейцарских лыжных домиков; раньше там обслуживали клиентов с пароходов, а теперь радовались любым посетителям. Когда из города исчезли представители высшего света, Санкт-Петербург заполонили раненые солдаты и матросы, медсестры с фронта, искавшие утешения в объятиях здоровых гражданских мужчин, которых осталось немного. Это обилие женщин отвлекало даже агитаторов вроде Луначарского, который стал наркомом просвещения при Ленине, или Онипко[97], печально известного анархиста, участника короткой революции 1905 года. По очевидным причинам люди вроде них для воинской службы не подходили. К счастью, у Коли было мало подобных дружков, хотя владелец «Бродячей собаки», некий Борис Пронин, считавший себя местным Родольфом Салисом из прославленного «Черного кота»[98], с удивительным радушием приветствовал всяческих подстрекателей, бомбистов и прочих. Хотел бы заметить: я никогда не был лицемером. Я очень часто высказывал свои взгляды и столь же часто встречал единомышленников, особенно в панславянском кругу. Даже люди, которые со мной не соглашались, казалось, слушали меня вполне доброжелательно. Если бы не печальный урок отца, то, возможно, меня привлекло бы детское стремление к разрушению и переменам. Я пил абсент в компании красивых шлюх. Мои соратники были революционерами, бродягами, поэтами. Они называли меня «профессором» или «безумным ученым», угощали вином и слушали так внимательно, как мало кто слушал с тех пор. Такие люди могли пережить революцию только благодаря чувству юмора, иронии и складу характера. Они стали мрачными спутниками Ленина и его преемников. Некоторые умерли рано, например Блок и Грин, и не узнали, к каким разрушительным последствиям привели их глупые надежды. Большей частью они, подобно Мандельштаму, увидели, как их мечты разрушаются, все надежды гибнут, храбрость и великодушие оборачиваются против них, принося лишь оскорбления и унижения. В последний предреволюционный год, год 1916‑й, воодушевление этих людей было вызвано мечтой об Утопии, а не реальностью, которой следовало заманить меня в ловушку так же, как заманила в ловушку их. К счастью, мне удалось сбежать. Для некоторых, к примеру для Маяковского, единственным способом бегства стало самоубийство. «Бродячую собаку» закрыла полиция, но богемная жизнь продолжалась. Война, казалось, шла своим чередом; нам все чаще сообщали о победах. Британские бронированные автомобили и русские казаки бросились в грязь болот Галиции и вынудили уланов и австрийскую пехоту отступить. Но доставать хлеб становилось все труднее. Ряды несчастных рабочих, закрывавших лица шапками и платками, как будто в трауре, стали привычным явлением: поэты скорбели, революционеры предрекали восстания, обычные представители среднего класса, по-русски прозванные «буржуями», все чаще становились жертвами воров, которые отнимали у них еду и деньги. Война истощала наши силы. Нужно было тратить все деньги на продовольствие и свободно раздавать его. Тогда мы, возможно, избежали бы хаоса. Но царские министры были слишком заняты войной, а революционеры фактически хотели, чтобы люди голодали, – так они скорее восстанут. Буржуи могли думать только о своих семействах; их призывали забыть обо всем, чтобы помочь выиграть войну и обеспечить всем необходимым солдат на фронте. Мне не следует в этих мемуарах рассуждать о причинах и предпосылках революции. Слишком много эмигрантов, слишком много историков, слишком много большевистских «корректоров прошлого» уже занималось этим. У нас есть тысячи версий «Десяти дней, которые потрясли мир». Возможно, пора составить десяток версий «Тысячи книг, которые утомили мир». Мне ко всему этому нечего добавить. Что было, то было. Мы в самом деле не могли подумать, что такое случится, хотя нас предостерегали. Поэзия редко кому-то нравится, становясь реальностью, и меньше всего – поэтам. Пронин открыл новое заведение под названием «Prival Котепdiantoff»[99]. Мы сочли это очень уместным и поздравили Пронина, когда он появился, ведя за собой на веревке паршивую дворнягу – единственное, что осталось от «Собаки», и пообещал, что это заведение станет еще лучше прежнего. Здесь, конечно, было больше выдумки. Негритянских мальчиков, работавших официантами, одели так, будто они только что явились из дворца Гаруна аль-Рашида. Картины явно радикального содержания покрывали стены и потолок. Со стен на нас смотрели негритянские маски, лучи света лились из их глазниц. Тот же негритянский оркестр играл ту же надрывную музыку всякий раз, когда нам не приходилось слушать очередного нового поэта или миленькую певичку или следить за какой-нибудь пантомимой Пьеро, во время которой женщина с лошадиным лицом в длинном фиолетовом платье что-то бубнила о луне. Черные травести пели джазовые песни. Травести вошли в моду в клубном обществе. Несколько противоречили всему этому авангардизму девочки в крестьянских костюмах; яркие скатерти в народном стиле; народная керамика, напоминавшая нам, что мы, в конце концов, в России; что мы не французы и даже не немцы. Виолончели стонали, и мимы крутили свои бездушные тела, пародируя обычные человеческие движения. Ревел джазовый оркестр. Маленькие певички пели слабыми, невыразительными голосами о мертвых птицах и насекомых. Мы говорили, пили и предавались разврату. Иногда уже светало, когда я в бархатном жакете, красных украинских ботинках, брюках для верховой езды и казачьей рубахе появлялся, пошатываясь, на Марсовом поле. Здесь солдаты в ярких мундирах все еще маршировали над нашим зверинцем, который, как обычно, располагался в подвале. Гусары скакали, стрельцы шагали строем, их сапоги блистали полированной кожей, мундиры были тщательно вычищены, медные и золотые галуны сверкали на солнце. Мы брели мимо, некоторые из нас едва стояли на ногах; и мы в удивлении взирали на эти остатки старого мира. Мимо нас проходили полицейские, которые, казалось, все чаще разделяли наше отношение к происходящему. Футуристы прерывали свои бесконечные споры с акмеистами (художественных объединений было не меньше, чем политических). Эсеры на полуслове прекращали свои дискуссии с толстовцами и, раскрыв рты, замирали, глядя, как играющий оркестр или колонна солдат в синих мундирах и красных шапках проходит мимо, салютуя под звуки патриотических маршей. Я заразился всеобщим цинизмом. Думаю, что едва ли кто-то в Петрограде мог к тому времени противостоять этому настроению. Мне кажется, что если бы однажды утром мы вышли из «Привала» и увидели марширующие немецкие отряды, то едва ли обратили бы на них внимание. А если бы и обратили, то не стали бы особенно переживать. Художники объявили бы появление немцев первым признаком новой эры в искусстве. Революционеры сказали бы: это явный признак того, что люди восстанут в любой момент. Циники отметили бы, что немецкая эффективность лучше русской некомпетентности. На том бы все и кончилось. Мы почти поверили, что эта странная греза будет продолжаться, пока все мы не умрем юными романтиками; правда, мы предполагали, что это случится в достаточно отдаленном будущем. Никто ни к чему не относился серьезно, я думаю, кроме Коли, который вместе с Толстым верил в природную божественность человеческого духа. Я же склонялся к вере в торжество человеческого разума над всеми превратностями природы, включая и природу самого человека. Мы оба, я уверен, были виноваты не меньше и не больше прочих – мы склонялись к риторике отчаяния. Как легко было шиковать, пить шампанское и провозглашать тосты за торжество рабочего класса! Все забывали о медленных переменах, происходивших повсюду. Санкт-Петербург, неестественный город, который было легко блокировать, отрезать все коммуникации, воспользовавшись его географическим положением, – этот город не вспоминал о приближающихся врагах и убеждал себя в том, что до победы осталось не более двух месяцев. К осени, когда казалось, что мы окончательно разбиты, как были разбиты японцами у Порт-Артура, изысканных экипажей на Невском стало совсем мало. Торговцы и землевладельцы считали Москву более безопасным местом, чем Питер. И Коля с немалым удовольствием цитировал Киплинга, которого очень любил: «Вожди уходят и князья!»[100] Рим, по его словам, эвакуируется, потому что гунны снова угрожают ему. – Византия! Византия! – напевал он, провожая меня домой в своем экипаже однажды утром в конце августа. – Все бегут на Восток. Подожди, пока царь не уедет в Москву, Дима. Тогда ты поймешь, что нам настал конец. – Царь никогда не покинет столицу. – Он редко здесь бывает. Как часто ты видишь царский штандарт над Зимним дворцом? – Царское Село не слишком далеко от города, – напомнил я. – Нет никаких доказательств, что он там. Ходят слухи, что он, его семейство и Распутин уже собирают вещи, чтобы уехать к кайзеру. Они же родственники. Наш экипаж остановился на перекрестке, когда мимо промаршировала колонна кадетов. Гремели барабаны, ревели трубы, свистели флейты; кадеты двигались единым строем. Коля печально улыбнулся. Он, как обычно, был одет во все черное. Единственным белым пятном выбивалась прядь волос, свисавшая из-под шляпы. На бледном лице выделялись красноватые глаза. Он коснулся рукой подбородка и пожал плечами. – Ты знаешь, что я когда-то был кадетом, Дима? – Предполагал. – Для аристократа было вполне естественно поступить в военную школу. – Я сбежал, когда мне было пятнадцать. Сбежал в Париж, потому что хотел увидеть поэтов. Мне встретилось множество шарлатанов, некоторые из них совращали меня – как мужчины, так и женщины. Но я не думаю, что видел хотя бы одного поэта, пока не возвратился в Питер! Теперь все русские поэты, художники, импресарио едут в Париж! Какая ирония! И нам нужно последовать за ними, Дима? – Немцы скоро будут разбиты, – произнес я. – Газеты единодушны. Такой уверенности не было никогда. – Явный признак близкого поражения! – рассмеялся он. – Наши союзники не допустят этого. Англия, Франция, Италия – даже Япония – придут на помощь. – Они в таком же положении, что и мы. Немцы разве что Париж еще не взяли. – Тогда нам следует остаться здесь, – сказал я. – Пока война не закончится, по крайней мере. Тебе нужно заниматься только немецкой наукой и философией, а я буду изучать Гёте. Я поеду… куда же?., в Мюнхен? Или к моравским братьям, как Джордж Мередит[101]. Там я стану настоящим мистиком, немецким интеллектуалом. В новой немецкой империи – Священной Римской империи – мы станем добрыми готами, позабудем о Париже. Париж и Петербург станут провинциальными городами, а Берлин – столицей мира. Искусство будет процветать там, питаемое нашим русским гением, как оно процветало в Берлине перед войной. Мы станем действовать как китайцы, Дима, – позволим завоевать нас, но тайно одержим победу, благодаря великой культуре, нашему славянскому наследию. Мы больше не станем подражать французам, англичанам и итальянцам. Мы будем архитекторами новой империи – представим новые кремлевские планы в Берлине, и наша энергия и оригинальность произведут такое впечатление на немецкого Цезаря, что все вокруг примет русский оттенок. К чему нам переживать о военных победах, когда наше величайшее оружие – славянский гений! И ты, Дима, покажешь миру, чего может достичь русская наука, потому что ты – русский в душе. Такой же русский, как я! Я подумал, что таким образом он намекал на мое украинское происхождение. Иногда он высказывал загадочные соображения, которые сбивали меня с толку. Но я никогда не прерывал монологи графа Николая Петрова, даже пытаться остановить его было бессмысленно. Они звучали, словно вдохновляющая мелодия, и прервать ее – как будто заглушить пение русского гимна, как будто закричать в соборе Александра Невского посреди «Господи, помилуй» или «Помышляю день страшный». Ибо при всем его увлечении иностранными поэтами и восхищении иностранными художниками, которых выставляли чудаки-коллекционеры Щукин и Морозов, мой друг был настоящим русским. Он воплощал невероятное возрождение славянской души, которое началось в девятнадцатом столетии. Этот процесс продолжался бы и в двадцатом, если бы его не прервали людишки с мелкими западными идеями, принесенными из Германии, Америки и Англии; переносчиками этих политических болезней стали вездесущие евреи. Не удивительно, что прежняя черта оседлости стала самой опасной областью империи в годы Гражданской войны. К сентябрю мы с Колей сблизились сильнее, чем когда-либо. Я возвратился к занятиям, чтобы по-прежнему казаться прилежным студентом. Санкт-Петербург теперь источал не апатию, а страх, который чувствовался даже тогда, когда я отправлялся в предместья на трамвае. Соседи перестали доверять друг другу. Группы изможденных мужчин в черных пальто и шляпах перемещались между фабриками и рабочими пригородами молча, выражая скорее угрозу, чем недовольство. Мадам Зиновьева все резче осуждала меня, дочерей и их женихов, да и весь город целиком. Во время ежемесячного визита к мистеру Грину меня предупредили, что следует ходить осторожно, и посоветовали купить пояс для денег, чтобы прятать там мое пособие. Дядя Сеня написал мистеру Грину и попросил узнать, как идут мои занятия. Я ответил, что все очень хорошо. Я должен был перейти на другой курс, сэкономив целый год обучения. Мистер Грин сказал, что мне скоро понадобятся способности к языкам и знание механизмов – придется отправиться за границу по делам дяди Сени, который собирался импортировать машины для фермерских хозяйств. Я захотел узнать подробности, но мистер Грин больше мне ничего не сказал, за исключением того, что мое образование наконец принесет пользу. Значит, дядя Сеня уже придумал, чем я займусь после окончания политехнического? Я обрадовался тому, что смогу отправиться за границу. Как будто в надежде преодолеть охвативший город страх, военные парады стали еще более роскошными. Золотые флаги, портреты царя, грохочущие барабаны, пронзительные трубы ежедневно заполняли столицу. Государственный гимн исполняли по каждому поводу. Именно тогда, чтобы скрыться от нелепой показухи, я начал бродить по докам, держа под мышкой книгу, осматривая корабли и механизмы, которые начали исчезать подо льдом Невы. Я размышлял о том, куда меня направит дядя Сеня, смотрел, как лебедки вытаскивают рыбу с небольших парусных лодок, восхищался паровыми баркасами с короткими трубами, их странными, суетливыми перемещениями. За баркасами стояли на якорях огромные броненосцы и маленькие пассажирские суда «Балтийского пароходства», являя собой картину безмятежности или застоя. Иногда дикий вопль, похожий на крик банши, доносился то с одного, то с другого корабля. Изредка можно было увидеть старомодный бриг или парусную шхуну – возможно, они отплывали в Финляндию или Норвегию или даже брали курс на Англию, которая, я был уверен, станет моим новым местом назначения, ведь она находилась не более чем в двух-трех днях пути отсюда. Окруженный суматохой, среди скрипа буксировочных тросов, гудения двигателей, криков докеров, я обрел покой. Доки простирались на многие мили вдоль берегов Невы. Это был один из немногих районов, не источающих той особой атмосферы ужаса, которая проникала всюду, даже в богемные кафе. Женщины, к которым я наведывался, больше не давали мне ни отдыха, ни облегчения, как прежде. Они уже не казались теплыми, беззаботными, нежными. Их квартиры производили впечатление очень удобных, отрезанных от внешнего мира; они все так же были пропитаны ароматом «Quelques Fleurs»[102] и задрапированы японскими шелками и белыми тканями. Дамы нарушали наш молчаливый договор и становились все более нервозными. Женщины лучше чувствуют дух времени. Они первыми начинают задумываться об эмиграции в трудные времена, и почти всегда правы. Они первыми замечают предательство и трусость. Женщины наделены такой чувствительностью, уверен, потому, что могут потерять гораздо больше, чем мужчины. Увы, я был слишком молод, чтобы обратить внимание на пророчества наших Кассандр. Вместо этого я стал нетерпеливым. Я перестал спать с интеллигентными девушками хорошего происхождения и искал общества обычных шлюх, работа которых – успокаивать, утешать, прогонять страхи. Думаю, многие из нас бросали красавиц, за которыми когда-то ухаживали, и удовлетворялись глупыми, добродушными существами, крашеные волосы, дешевые меха и еще более дешевые платья которых становились все более привлекательными по мере того, как мы уставали от размышлений. Мыслить означало размышлять об окружающем мире и его ужасах. Мир был переполнен страхом и уже не казался приятным местом. Из-за подобных настроений, подозреваю, моя вторая встреча с госпожой Корнелиус не увенчалась любовной интрижкой. До меня доходили слухи о великолепной английской красотке, фаворитке Луначарского, Савинкова и других радикалов, но я никак не мог связать их с девушкой, которой помог в Одессе. У революционеров были собственные излюбленные места. Те, кто претендовал на литературный или артистический вкус, изредка появлялись в «Привале». 5 сентября 1916 года я увидел ее снова. Она была единственной женщиной за столом, за которым очкастые мужчины с безумными глазами в плохо сидевших европейских костюмах обсуждали реорганизацию поэтической отрасли. Девушка, казалось, находилась в изрядном подпитии. Она носила красивое и в то же время простое синее платье. Ее светлые волосы скрывала маленькая шляпка нового фасона, который только входил в моду. Шляпка превосходно сочеталась с платьем. Длинное страусиное перо нежного кремового оттенка изгибалось книзу, его кончик раскачивался под подбородком девушки. Она пила грузинское шампанское, которое заменяло нам настоящий французский напиток, но делала вид, что наслаждается им. Турецкая сигарета дымилась в мундштуке, объединявшем цвета шляпы и пера. Ее юбки слегка задрались, так, что виднелись шелковые чулки над синими замшевыми ботинками. Она была единственной женщиной в кафе, которая явно наслаждалась происходящим. Все остальные скрывали свои чувства яркими улыбками проституток или возбужденными усмешками интеллектуалок. Я не сомневался, что она не узнала меня, когда я взмахнул рукой. Моя знакомая нахмурилась, обернулась, спросила о чем-то своего отчаянно спорившего спутника, возможно, Луначарского, – у него была козлиная бородка, модная среди этих товарищей. Он отвел взгляд, посмотрел в мою сторону, покачал головой и вернулся к спору. Я приподнял бровь и улыбнулся. Она усмехнулась, салютуя мне стаканом шампанского. Я услышал знакомый голос, донесшийся сквозь общий шум: – Д’вай сюда, Иван! Это, разумеется, была мадемуазель Корнелиус. Я собрался присоединиться к ней, но она кивнула, указав на пустой столик. Он находился у самой сцены, на которой негритянский скрипач извлекал из инструмента звуки, способные напугать создателя скрипки. Моя знакомая присоединилась ко мне. От нее по-прежнему пахло розами. Она опустила свою нежную ладонь на мою руку без малейшей двусмысленности, которую я привык ожидать от русских женщин. – Ты тот парень с Одессы, так? – Она говорила на своем обычном английском языке. Я поклонился и сказал: – Именно. Она заметила, что это была удача, а не ошибка. Мир оказался гораздо меньше, чем все говорили. Она чудесно проводила время в Питере и неплохо изучила «русски». Девушка продемонстрировала мне, вероятно, худший образец грамматики и самый романтичный акцент, который я когда-либо слышал. Мне стало понятно, почему у нее так много поклонников. Я спросил, как она оказалась в столице и что у нее общего с Луначарским. Разве она не знает, что всех этих людей разыскивает полиция? Госпожа Корнелиус сказала, что эти жулики гораздо приличней тех, которых ей приходилось встречать раньше. Она чувствовала, что им известно, что происходит. Девушка неодобрительно добавила: об остальных идиотах в этой проклятой стране такого сказать нельзя. Она покинула Одессу с одним из пациентов доктора Корнелиуса, аристократом-либералом, который проводил там отпуск. Когда их роман подошел к концу, она присоединилась к радикалам, которых считала забавными «чудесный бездельники». Она также, уверен, задумывалась о будущем, но ее интерес к мужчинам, вместе с ее чувством юмора, часто сбивал меня с толку. Я первый признаю, однако, что часто не понимал ее шуток и что ее вкус не раз выручал нас обоих в последующие годы. Моя знакомая сказала, что я выгляжу «тощеньким», и если мне что-нибудь нужно по части продовольствия, она попробует помочь. У нее есть кое-какие связи. Я ответил, что питаюсь гораздо лучше большинства, просто очень много занимаюсь перед экзаменами. Она пожелала мне удачи; по ее словам, она очень жалела, что не закончила школу, но в Дейле было слишком мало мест. Как я выяснил, госпожа Корнелиус говорила о Ноттинг-Дейле[103], своей родине. Она позже переехала в Уайтчэпел, где встретила много русских, которые на самом деле были евреями-эмигрантами, спасавшимися от погромов. Когда госпожа Корнелиус предложила отправиться «куда-нибудь в тихий местечко», чтобы поговорить о моих успехах, я отказался. У меня тогда было полно женщин. Я пресытился и стал осторожным, даже если речь шла о ней. Шлюхи просто спрашивали, какая часть тела требуется клиенту; желает ли он остаться на всю ночь за пару рублей сверху. Кроме того, мне не всегда приходилось платить шлюхам. Несколько дней я совершенно бесплатно жил в публичном доме возле одного из каналов. Я, возможно, остался бы там подольше, если б мне не нужно было возвращаться в институт. Я ответил, что поздно вечером буду занят. Она рассмеялась. – Как и все мы, да? Еще свидимся, Иван. – Она погладила меня по руке и встала, чтобы вернуться к своей компании. Я тотчас пожалел, что отказался от ее предложения. Не думаю, что речь шла о сексе. Она хотела именно того, о чем говорила, – спокойно побеседовать. Мои друзья поздравили меня с победой, а одна из благовоспитанных красоток наклонилась ко мне и громко поинтересовалась, на что похожа английская шлюха в постели. Оскорбленный, я покинул «Привал комедиантов».Осенний семестр был примечателен только тем, что нам разрешили сидеть на занятиях в шапках, шарфах и пальто. Топлива для политехнического никто не выделил. Лекции стали еще скучнее. Чем холоднее становилось, тем сильнее было ощущение энтропии. Общественная жизнь как бы сжималась. В первую неделю после моего возвращения в институт вместо паровых трамваев появились конки. Ими управляли измученные, бледные существа, обмотанные темным войлоком; над головами возниц поднимались тонкие клубы белого пара. Этим мужчинам уже давно следовало уйти на покой, они походили на кучеров, везущих повозки с мертвецами. Их лошади, тощие, болезненные животные, в конечном счете, возможно, попали в желудки сирот – на улицах появились первые bezhprizhorni, они вертелись вокруг железнодорожных станций и в парках. Продолжали проводить великолепные и помпезные парады. Нас призывали стойко выносить все неудобства – война почтивыиграна. На улицах появлялось все больше раненых. Театры процветали, но для ресторанов не хватало продовольствия, поэтому никакого резона работать у них не было. Даже «Донон» на набережной Мойки, излюбленное место золотой молодежи и редакции «Аполлона», располагавшейся в том же здании, вынужден был закрываться на время обеда; он стал скорее баром, чем рестораном. Осетр в грибном соусе, белые куропатки с клюквенным джемом и черникой, другие восхитительные лакомства от «Донон» уступили место конине под соусами, которые не могли скрыть горький привкус того, что Коля называл «длинной коровой». Мы продолжали шутить: заказывали «фаршированного воробья» или «Chat Meunier»[104], не всегда догадываясь, что нам принесут. Вместе с сиротами и ранеными на улицах появились чумные крысы. Газетчики сообщили о «скандальном происшествии», предположив, что грызунов завезли иностранные корабли; однако бездомные собаки и кошки, выброшенные на улицу хозяевами, которые больше не могли их кормить, бесспорно, были нашими, местными. Меньше чем через год люди, прогнавшие своих животных, начали на них охотиться ради пропитания. Это напоминало времена Парижской коммуны. Запасы продовольствия неуклонно уменьшались, а контрабандного алкоголя становилось все больше. Нам было некогда спать. В воздухе витало ужасное напряжение, болезненное предчувствие гибели. Все длиннее становились очереди за хлебом, все больше – ряды раненых, ожидающих транспорта или койки в больнице, все плотнее – толпы нищих, торгашей и проституток на причалах и бульварах. Множество аристократов отправилось в Москву, давнюю соперницу Петрограда. Газеты все чаще упоминали об Отечественной войне с Наполеоном, словно подготавливая нас к участию в партизанском движении. Многим казалось, что мы уже потерпели поражение. Даже в «Алом танго» царила меланхолия. Негритянский оркестр играл «Остановись, дивная колесница» и «Никто не знает моих бед»[105], в то время как тощие молодые особы с накрашенными щеками читали мрачные стишки о смерти и погибели любви. Я сочинял все более длинные и оптимистичные письма матери, Эсме, капитану Брауну: жизнь в столице легка и весела; царь с семейством появляются на публике ежедневно; немцы должны вскоре отступить; этой зимой им настанет конец. Из-за трудностей с транспортом маловероятно, что я приеду к Рождеству. Их нисколько не удивляли мои успехи в политехническом. Я писал в кафе и ресторанах, писал в аудиториях. Иногда отправлял письма дважды в день. Я тосковал по дому, по привычным неудобствам киевской жизни. Грязные, неровные тротуары Петрограда, толпы озлобленных, пугающих нищих казались гораздо страшнее, так как я к такому не привык. Письма, которые я получал, были не менее оптимистичными. Матушка сообщала, что ее здоровье улучшилось. Благодаря Божьей помощи и теплой зиме она с нетерпением ждала, когда сможет вернуться к работе в прачечной. Эсме собиралась вскоре уволиться из бакалейной лавки и устроиться на военный поезд сестрой милосердия. Капитан Браун писал странные, длинные письма на английский манер, в которых русские буквы казались слегка измененными латинскими. Он настаивал, что младотурки вот-вот отступят, – им удается только защитная тактика. Фрицы были совершенно безопасны без своих офицеров, которых осталось совсем мало. Британская броня скоро выманит гуннов из их крысиных нор. Это поднимет боевой дух лягушатников, которые не умеют воевать, что уже неоднократно демонстрировали. Он присылал карты, на которых обозначал военные позиции. Он показывал, как мы пробьемся сквозь немецкие отряды, как румыны зажмут фрицев в клещи. Ни одного из этих сражений так и не случилось. В самом деле, окопная война оказалась бесконечно скучной. Множество людей было убито и ранено. Казалось, лето никогда больше не наступит. Фимбулвинтер и Рагнарёк[106] были совсем рядом. Немногочисленные рысаки все еще тянули по Невскому прекрасные экипажи. Когда выпал снег, реки замерзли и мостовые покрылись ледяной коркой, на улицах появились тройки. По городу слонялось великое множество калек. Некоторые из них, одетые в военную форму, были без рук или ног, с перевязанными лицами, странно хромали. Калеки часто замирали на месте, как будто ожидая друга, который должен подойти и помочь. Они выстраивались рядами около газетных киосков. Стояли, тихо бормоча, у оград парков и частных садов. «Петербургские ведомости», специальный номер которых ежедневно печатался на особом пергаменте для царя, называли этих негодяев героями и размещали картинки, на которых они улыбались, салютовали, принимали торжественные позы, выражающие отвагу и надежду. Благотворительные учреждения не могли вместить такого количества калек. Тысячи дезертиров возвращались с фронта вместе с ранеными. Некоторых ловили и расстреливали. Слухи о Распутине становились все более пугающими. Однажды Коля пригласил меня в большой особняк, располагавшийся на живописном берегу реки. Члены семейства Михишевских собрались здесь к чаю. Ясно, что и мне, и самому графу они не слишком обрадовались. В роскошно обставленном доме старинные, тяжеловесные диваны и столы соседствовали с самой модной современной мебелью из Франции и Англии. Здесь я впервые встретился с аристократами в домашней обстановке. Они оказались вполне обычными людьми. Все были роскошно одеты, отличались идеальными манерами, пили чай из тончайшего фарфора, но разговор оказался совсем не таким выдающимся, как я надеялся. Когда старшие удалились, две девушки и молодой человек, двоюродные сестры и брат Коли, который, казалось, был их героем, окружили моего друга и начали обсуждать придворные сплетни. Влияние Распутина на царицу усилилось. В результате царь, который любил жену до безумия, утратил интерес к войне. Только его честь и Румынская кампания мешали начать переговоры с Германией о мире. Я уделял беседе очень мало внимания, так что не смогу воспроизвести ее во всех подробностях. Меня интересовали изделия Фаберже: лягушка, вырезанная из сибирского жадеита, несколько пасхальных яиц, маленькая статуэтка полицейского, также вырезанная из камня и раскрашенная в яркие цвета. Тонкая работа привлекла меня. В огромной комнате стояли голые нимфы, поддерживающие светильники, зеркала, подносы с конфетами и цветочные вазы – вся эта обстановка, возможно, гораздо больше подошла бы публичному дому. Думаю, это было показателем упадка русской аристократии. Поменьше либерализма – и у нас до сих пор на троне сидел бы царь. Меня отвлек звук голоса симпатичной молодой девушки, очень деятельной, настоящей Наташи. Каштановые волосы тяжелыми локонами спадали на плечи, на ней было желтое шелковое платье, отделанное собольим мехом. – Анна Вырубова говорит, что мы должны последовать примеру Распутина и найти спасение в разврате. Коля был удивлен: – Знаешь, Лолли, я что-то пока не чувствую себя спасенным! – О Коля! – Она взмахнула сигаретой, которую зажег ее брат, носивший форму лейтенанта инженерного полка. – Она говорит, что это был восхитительный опыт. Он освободил ее дух. – Я слышал. Я знал одного политического, убийцу, который утверждал, что убийство также освободило его дух. Вы бывали на сеансах Распутина? – Да, однажды. Мать не позволила мне пойти снова. – И вы почувствовали, что спасены? Лолли вздохнула: – Конечно, нет. Это салон, наполненный замечательными ароматами и тканями. Вы сидите за обычным чайным столиком и пьете обычный чай. Но старец все время говорит с вами. Какие у него глаза! – А как он пахнет? – спросил Коля. – Я слышал, он никогда не моется. – Он пахнет как… – Лолли покраснела. – Как грязный крестьянин, – сказал молодой человек. Девушки рассмеялись: – Это правда! Пахнет от него ужасно. Пахнет потом! – Это пот мошенника, его цена слишком высока. Коля посмотрел на меня, требуя одобрения, но я не понял шутки. Молодой инженер, однако, засмеялся. Лолли продолжала: – Он говорит о Боге и мире. О наших душах, наших телах, нашей потребности в опыте, который не всегда связан с той жизнью, которую мы ведем, даже… даже с нашими мужьями… – Она вздохнула. – Распутин умеет убеждать! Он близок простым людям. – Распутин вылечил царевича, – сказала другая девушка, одетая в красное платье. – Бедный мальчик по-прежнему умирает, – заметил Коля. – Находясь рядом с Распутиным, – продолжала Лолли, – вы чувствуете, что освобождаетесь от всех забот. Нам разрешили задавать ему вопросы. Он напоминал чудесного, искреннего родителя. Затем вызвал одну из дам – я не буду называть ее имя, – и они удалились в другую комнату. Вскоре он вернулся один. Дама вышла через другую дверь. Или осталась на некоторое время. Сделала так, как он велел. Коля нахмурился: – Вас это не смутило? – Это духовное единение, Коля. Он показывает нам свет во тьме. Божественный свет. – И вы на все готовы ради него? – На все. Он святой, Коля, но притворяется шарлатаном. Он иногда так и говорит. У Распутина превосходное чувство юмора. В нем что-то сокрыто. Я, конечно, изучала труды мадам Блаватской и теософов, но его учение гораздо более реально и значительно. – Он загипнотизировал их, – сказал лейтенант. Его звали Алексей Леонович Петров, и он, казалось, хотел произвести впечатление на старшего кузена. Петров игнорировал меня; из-за этого мне было немного неловко. – Как ты думаешь, Коля? Анна Вырубова говорит, что они полностью повинуются ему. Наверное, он дает им наркотики. Чем дольше женщины находятся рядом с ним, тем больше соперничают, демонстрируя свое повиновение. Вспомните о самоубийствах… – Он потер усы, а затем подхватил некстати упавший монокль. Лолли опустила голову. – Так говорит Анна Вырубова. – Они убивают себя, чтобы доказать преданность? – Алексей засмеялся в надежде получить Колино одобрение, посмотрел на меня – и тут же отвел взгляд в сторону. – Я не думаю, что причина в этом. Это спиритуализм, – сказала девушка в красном. – На дне каналов полно молодых женщин, которые прямо сейчас постигают все спиритические истины Распутина. Разве это не грех? Разве они не отправились в ад? – донимал девушку Алексей Леонович. Мне его глумливый тон показался неприятным. Он был всего лишь на пару лет старше, но, похоже, одновременно считал меня и ребенком, и вмешавшимся в чужие дела взрослым. Коля прервал его: – Григорий Ефимович отменил ад в загробной жизни, Алексей. Он теперь на земле. Разве вы не слышали? – Ты ужасный циник, Коля. – Монокль наконец вернулся на место. – Я реалист. Почему люди должны верить в обычного Бога? Нет никаких доказательств, что Он еще существует. Идеи Распутина могут быть верны. – Вы чудовище, Коля, – произнесла Лолли. – Я замолчу, если пожелаете. Но только вчера я разговаривал с одним солдатом. Не с бедным mouzhik, который не знал, почему его забрали в армию, а с обычным молодым человеком. Он был кадетом и стал лейтенантом. Как и вы, Алексей. У него лишь одна рука, один глаз, одна нога; часть его правого уха… – Коля! – Я учусь летать, – сказал лейтенант, – так что это ко мне не относится. – Я умолкаю, – снова предложил Коля. – Продолжайте, – попросила Лолли голосом, полным сочувствия и сострадания, до сих пор свойственных русским женщинам. – Он был счастлив, что оказался в тылу, потому что уже собирался сбежать с фронта. – Это недостойно джентльмена, – сказал Алексей Леонович. – Возможно, теперь он не джентльмен, – Коля спокойно посмотрел на своего кузена, – а всего лишь раненый солдат. Он сказал, что эта война похожа на самый страшный сон. Случаются ужасные вещи, но вы не можете даже пошевелиться, не можете сделать ничего, чтобы помочь себе или кому-либо еще. Алексей снова прервал его: – Воздушная война не такова. Рыцарство все еще существует – и его законы действуют. Коля терпеливо продолжал: – Это нисколько не похоже на старые кавалерийские атаки и маневры, на сражения вроде Бородинского, где подобное еще было возможно. Это странная война. Сначала вы боитесь ее; потом подчиняетесь ее гипнозу; потом устаете настолько, что можете наблюдать, как у вас на глазах умирает ваш товарищ, и при этом не осознаете, что это происходит на самом деле. – Говорят, что люди, которых разрывают на части львы, чувствуют лишь восхитительную эйфорию, – сказала Лолли. – Но какое отношение этот разговор о фронте имеет к Григорию Ефимовичу Распутину? – спросил Алексей. Он казался обеспокоенным. – О, самое прямое, разве вам так не кажется? – Коля отдал свою чашку слуге, который подошел, чтобы убрать со стола, и встал. – Смотрите, как бы паршивый старый лев не разорвал вас, – предупредил он Лолли. – Как вам известно, я никогда и ни в чем не соглашаюсь с вашей матерью. Но сейчас я с ней согласен. Starets наживается на горе, на скорби, которую мы не можем осознать и не осознаем, пока не закончится война. Никто из нас не понял моего друга. Когда мы покинули большой дом, взяли экипаж и поехали к нему на квартиру, он пребывал в странном настроении, словно ушел в себя. Я не мешал ему. Первый выход в высшее общество разочаровал меня. Возможно, за столом отсутствовали лучшие представители семейства. Однако я ощутил эротическое волнение, увидев Наташу и услышав ее голос; я понял, как мне не хватает общества неиспорченных, нециничных девиц и решил, что настало время навестить Марью Варворовну. Я направился к зданию неподалеку от Крюкова канала. На канале вместо барж появились сани, которые тянули изнуренные кобылы. На берегу было так много полицейских, что мне показалось, будто вот-вот должны схватить важного преступника. Консьержка, старая благородная дама польского происхождения, очень злобная, как и большинство поляков (они так и не оправились от потрясения, когда их завоевали сначала мы, а потом немцы) оскорбила меня, сделав такой знак, словно оберегалась от дурного глаза. – Никаких евреев! – завопила она. Когда я громко заявил, что я украинец, по происхождению казак, она начала сетовать, какие украинцы ужасные люди и что натворили казаки в ее бедной стране. Все состояние польки было конфисковано. А ведь она родственница самого Шопена. Давно знакомое унылое нытье! Я слушал очень терпеливо, сдерживаясь, чтобы не выйти из себя. – Все, что я хочу знать, пани, – дома ли Марья Варворовна Воротынская. – Я уже заметил имя девушки рядом с именем какой-то другой дамы на двери здания. – Конечно, нет. Она учится. Ее не будет дома до шести. Кто вы такой? Я поклонился: – Дмитрий Митрофанович Хрущев. Я остановился у моего друга, графа Николая Федоровича Петрова. – Я оставил адрес Коли и сказал, что меня можно найти у него. Она успокоилась и извинилась. Точнее, дала некоторые сомнительные объяснения касательно своих дурных манер. Сказала, что передаст Марье Воротынской мое послание; если я смогу зайти снова, то почти наверняка застану ее дома. В тот день я был занят, потому что договорился поужинать с госпожой Корнелиус и ее друзьями, и ответил, что надеюсь вернуться завтра вечером. Я обедал в заведении, которое называлось «У Агнии»; им управляла суровая вдова, кажется вообще не умевшая улыбаться. Это было одно из тех кафе, в которых на столах лежали американские клеенки; буржуа считали, что в подобных заведениях царит атмосфера рабочего класса. Конечно, весь зал занимали буржуа-революционеры, совершенно серьезно планировавшие уничтожение своего класса. Мне очень не хотелось оставаться в этом месте. Существовала вероятность, что полиция вот-вот устроит здесь облаву. Еда мне показалась несъедобной. Общество Луначарского и его друзей было скучным и грубым, и госпоже Корнелиус отчаянно хотелось поговорить, но я, как ни старался, не мог сыграть роль идеального собеседника. Все мои интересы ограничивались наукой. Я не часто вступал в разговоры со случайными людьми. Колины друзья иногда просили у меня разъяснений каких-то научных вопросов; я всегда охотно отвечал, но сохранял молчание в тех случаях, когда сказать было нечего. Госпожа Корнелиус была, конечно, прелестна, и я наслаждался ее обществом, но та ерунда, которую несли ее спутники, вызывала у меня ярость; только природная вежливость не позволяла мне вмешиваться. Я рано ушел, но надеялся увидеть ее снова. Она понимала мое состояние, думаю, и чувствовала себя слегка виноватой. Когда я уходил, девушка поцеловала меня в щеку, благоухая розами, и мягко проговорила: – Да-да, Иван. Не делай то’о, чо не сделала б я. Охваченный беспокойством, я шел назад по унылым улицам нашей осажденной столицы. Я остановился на Сампсониевском мосту, чтобы посмотреть на мужчин, которые пробивали отверстия во льду, еще слишком тонком, чтобы по нему ездить. Они походили на бродяг. Единственное, что отличало их от всех прочих, – мундиры. Зачем они пробивали лед железными и деревянными палками, я до сих пор не знаю. Возможно, собирались ловить рыбу. На следующий день в институте на меня набросился профессор Меркулов. Он ужасно замерз, и его нос был ярко-красным, глаза сверкали из-под смешной шерстяной шляпы, поля которой касались очков. Лекция была совсем простой, об устройстве динамо. Он с сарказмом поинтересовался, известно ли мне, что такое динамо. Я спокойно ответил: – Прекрасно известно. Меркулов попросил меня дать определение обычной динамо-машины и принципов, которыми регулируется ее действие. Я дал обычное определение. Он, кажется, был разочарован, спросил, что мне еще известно. Я описал различные виды динамо, которые тогда использовались, и назвал производителей. Потом заговорил об экспериментах с новыми типами машин, об энергии, которую можно производить, о ее источниках и возможностях усовершенствования машин и так далее. Он явно разозлился и закричал на меня: – Это все, Хрущев! – Нет, есть еще много чего, ваша честь. – Я задал простой вопрос. Мне был нужен простой ответ. – Вы попросили меня уточнить. – Садитесь, Хрущев! – Возможно, вы желаете, чтобы я подготовил письменную работу о разработке динамо? – спросил я. – Я желаю, чтобы вы сели. Вы или высокомерны, или просто скучаете, Хрущев. Может быть, вы просто педантичный идиот. И, несомненно, вы дурак! Как раз это и хотели услышать мои завистливые однокурсники. Сарказм профессора вызвал смешки. Я хотел осадить Меркулова; показать недостаток знаний и воображения профессора. Он был приспособленцем и получил эту работу только благодаря войне. Но конфликт неминуемо привел бы к отчислению из института, а я не мог позволить себе этого. Тем самым я бы плюнул в глаза дяде Сене и разбил сердце матери. Так что я сел. Именно тогда я и решил наконец продемонстрировать глубину и многогранность своих познаний и показать всему институту, что знаю больше всех преподавателей и учеников вместе взятых. Я дождусь наилучшей возможности, и когда она представится, я разоблачу Меркулова, покажу всем, какой он самоуверенный идиот. Наши экзамены, как я рассказывал, были в основном устными. Итоговый выпускной экзамен проводился в присутствии всех преподавателей. Во время него я и собирался отомстить. Я забыл о презрении и насмешках моих однокашников в тот момент, когда сел в конку и отправился домой. Я читал статью о работах Фрейкине с железобетоном (он строил знаменитые ангары для воздушных кораблей в Орли), а также нашел упоминание об Эйнштейне – тогда я не сумел до конца понять его идеи. Но теперь я знаю, что мы оба работали в одном направлении. Он создавал общую теорию относительности, в то время как я собирался поразить профессоров своими онтологическими идеями. Такие совпадения в науке вполне обычны. Позднее тем же вечером, надев костюм, я снова подошел к дому неподалеку от Крюкова канала. На сей раз консьержка, жеманно улыбаясь, поприветствовала меня и сообщила, что мадемуазель Воротынская с нетерпением ждет встречи со мной. Если я пройду через внутренний двор, молодая леди сама встретит меня на первом этаже. Старуха ядовито-ласковым голосом добавила, что, к сожалению, обязанности вынуждают ее остаться здесь, в противном случае она почла бы за честь указать мне дорогу. Я пересек внутренний двор, заваленный грязным снегом. Тощий далматинец, сидевший на цепи, залаял на меня. Здание было старинным, довольно уютным. Я немедленно почувствовал себя здесь в полной безопасности и пожалел, что подобной атмосферы нет в доме мадам Зиновьевой. Я нашел нужную лестничную площадку и дверь, на которой Марья Воротынская и ее подруга Елена Андреевна Власенкова повесили аккуратно надписанные от руки таблички с фамилиями. Я нажал на кнопку, и по другую сторону двери зазвенел звонок. Я подождал. Потом юная девушка, очень милая, с огромными синими глазами и каштановыми волнистыми волосами, одетая в простое бархатное платье, которое называли «женским монастырем», одарила меня одной из самых светлых, самых открытых улыбок, которые мне случалось видеть; она с поклоном пригласила меня войти. – Вы, должно быть, мсье Хрущев? Меня зовут Елена Власенкова, и я очень рада с вами познакомиться. Я поцеловал ей руку. – Очарован, мадемуазель! – сказал я по-французски. Она сказала с восхищением: – Вы не русский! – Я чистокровный русский. – Ваш французский совершенен. – У меня талант к языкам. Я снял шляпу и пальто и передал ей. Мы вошли в светлую просторную комнату, очень теплую благодаря большой голландской печи, на каждом изразце которой были изображены разнообразные сцены из сельской жизни Нидерландов. Повсюду виднелись крестьянские ткани. На стенах висели прекрасные картины – обычные репродукции русских пейзажей. Я попал в замечательное, уютное место и немедленно подумал о том, чтобы остаться там навсегда. Затем из другой комнаты появилась, в темно-зеленом платье, отделанном французским кружевом, моя давняя знакомая из экспресса Киев-Петроград. – Мой дорогой друг! Почему вы так долго не появлялись у нас? Девушка шагнула вперед и крепко сжала мою руку. Мне показалось, она сделала это, чтобы произвести впечатление на Елену Андреевну, на лице которой по-прежнему сверкала все та же яркая, веселая улыбка. – У меня есть причины не привлекать особого внимания. Было невозможно… – Конечно. Мы все понимаем. И она, и Елена Андреевна, казалось, знали о моей «тайной жизни» больше меня самого. Я старался вспомнить, что наговорил в поезде. Я стал очень осторожен. – Но ничего, уже скоро… – прошептала Елена Андреевна, опускаясь на кушетку и расправляя юбку. – Да, конечно, – ответил я. – Хотите чая, мсье Хрущев? – спросила Марья Воротынская. – Очень жаль, но ничего другого у нас нет. – С удовольствием выпью чая. – Я принесу стаканы. Елена Андреевна вскочила и вскоре вернулась с подносом, на котором стояли три стакана в плетеных подстаканниках. Большой медный самовар дымился у печи. – Вы, кажется, устали, tovaritch, – сказала Марья. – Много работали? – Она использовала слово, которое было в то время популярно, особенно среди революционеров, социал-демократов и эсеров, но не имело никакого особого значения. Сидя на кушетке и потягивая превосходный чай, я соглашался с хозяйками дома: – Я был очень занят. – Знайте, что можете во всем положиться на нас, – решительно заявила Марья. – Мы всегда к вашим услугам. На меня произвело впечатление и ее великодушное предложение, и страсть, с которой оно было высказано. – Я вам очень признателен. Меня интересовало, общая ли у них спальня. Это было вполне возможно. Мне они обе показались привлекательными не столько из-за приятной внешности, сколько из-за детского энтузиазма и невинности, которых мне не хватало. Они сразу предложили помощь, хотя даже не представляли, в чем состоит моя работа. – Не бойтесь прервать нас, если мы скажем что-то не то. – Елена была очень серьезна. – Мы уважаем то, чем вы занимаетесь. – Я признателен вам за такую осмотрительность. – Вы путешествовали за границей? – спросила Марья. Она сидела на коврике у моих ног, поставив стакан чая на пол. – Или оставались в России все это время? – В России, – ответил я, – в основном. – Вы можете остаться здесь, если понадобится, – сказала Елена. – Мы это обсудили. Думаем, стоит об этом сказать. Это может быть полезно. – И еще раз – очень признателен. Для меня действительно не имело значения, что девушки думали о моей работе. Они обещали дать мне все, о чем я мечтал. Я не мог поверить в свою удачу – думал, что они принимают меня или за военного курьера, или за инженера, работающего над созданием таинственного секретного оружия, или за доверенное лицо самого царя. Неважно. Если бы я пожелал, мог бы поселиться здесь и проводить в этом доме целые дни, а со временем, возможно, и ночи. Я задумался, какой из девушек следует уделять больше времени. Всегда необходимо позаботиться о том, чтобы не оставить без внимания девушку, которую на самом деле не хочешь. А здесь свои преимущества имелись у каждой. Я решил, что простая вежливость требует уделять больше внимания моей первой знакомой. Для меня будет гораздо безопаснее, если Елена уступит. Она знала обо мне даже меньше, чем ее подруга. Я наслаждался их вниманием в течение нескольких часов. Затем вспомнил, что договорился встретиться с Колей в «Привале комедиантов», и мне пришлось откланяться, выслушав невинные и восторженные уверения. Я был на седьмом небе, когда появился в кабаре. Этой ночью, решил я, следует взять лучшую девочку в публичном доме и насладиться ею так, чтобы она к утру не могла шевельнуть ни единым мускулом. Я чувствовал себя настоящим царем, когда спускался по лестнице, обмениваясь приветствиями со старыми знакомыми. В «Привале» я раздобыл дрянной абсент, но вполне пристойную шлюху. С новым запасом кокаина в кармане я вернулся к себе на квартиру, отперев дверь ключом, который выдала мне мадам Зиновьева после долгих убеждений. Я обнаружил четыре письма с разными датами; они лежали в небольшом черном оловянном ящике, украшенном разноцветными розами, – моя домовладелица повесила его на стене для корреспонденции гостей. Я был пресыщен – так хорошо я себя не чувствовал уже очень давно. В своей комнате проверил, остался ли еще керосин в лампе. Я решил подождать до утра, а потом прочесть письма. Спал гораздо лучше, чем обычно, рано проснулся, вскрыл письма и разложил их на стеганом одеяле. Первые два были от Эсме, третье – от матери. Четвертое, как ни странно, от дяди Сени. Эсме работала в госпитале, ухаживала за ранеными – как за нашими, так и за пленными немцами в Дарнице, на другом берегу Днепра. Она писала, что все они выглядели жалкими и потерянными. Было трудно принять, что немцы – совсем не несчастные рабы, которых заставили сражаться жадные господа. Наши солдаты, по ее словам, были отважными и всегда веселыми, истинными русскими до кончиков пальцев. Мать писала, что ее здоровье окончательно восстановилось. Мне не следовало волноваться; ее слегка знобило, но холодной зимой это вполне естественно. Река замерзла. Матушка надеялась, что с запасами продовольствия в Петрограде гораздо лучше, чем в Киеве. После Брусиловского прорыва она ожидала улучшения ситуации. Кроме того, в письме она просила меня питаться как можно лучше, ради нее. Письмо от дяди Сени было загадочным. В Одессе дела обстояли прекрасно. Война осложнила жизнь, но решение Румынии перейти на другую сторону наилучшим образом повлияло на состояние людей. Случались мелкие погромы, но не настолько ужасные, как десять лет назад. К счастью, весь гнев был направлен на лиц немецкого происхождения. Это удивительно, добавил дядя Сеня с обычным суховатым юмором, насколько в Одессе теперь стало больше русских по сравнению с довоенными временами. Доктору Корнелиусу пришлось покинуть страну. Все, казалось, шло неплохо, но на случай непредвиденных обстоятельств имелись планы. Возможно, я понадоблюсь дяде, чтобы отправиться за границу по его поручениям. Он подготовит все необходимые бумаги. Он имел в виду, что может обратиться ко мне, если потребуется. Я немедленно сочинил ответ. Я был всем обязан дяде. Я добился блестящих успехов в институте и, когда настанет время выпускных экзаменов, произведу впечатление на всех преподавателей, как Пушкин в Царскосельском лицее. Дядя Сеня мог надеяться, что и мой портрет вскоре появится на стенах учебных заведений! Естественно, я оставался в его распоряжении и ждал новостей о работе, которой следовало заняться. Мистер Грин уже намекал, что следует ожидать чего-то подобного. Мне не терпелось отправиться за границу. Мог ли дядя через мистера Грина хоть как-то намекнуть, куда мне предстоит поехать? А пока я просил его передать мои наилучшие пожелания тете Жене, Ванде, Шуре и всем остальным моим друзьям и родственникам в Одессе. Я с нетерпением ждал новой встречи с ними. Попросил непременно передать Шуре мои извинения. Было глупо не доверять ему. Мне хотелось, чтобы кузен понял, что я протягиваю ему руку дружбы. Я написал короткое письмо Эсме. Дела в Петрограде шли очень хорошо. Мы, подобно жителям других регионов, кое-чем пожертвовали, но очень скоро отбросим варваров обратно в их логово – и уже навсегда. Тем временем она могла помочь пленным, обучая их русскому. Ведь именно на этом языке им придется разговаривать после войны! Я ответил матери. Стыдно сказать, но я ничего не спросил о приступах озноба. Вместо этого я написал: очень рад, что ее здоровье более-менее улучшилось. Я был уверен, что она скоро оправится от хрипов; кроме того, рядом с ней теперь находилась опытная санитарка. Матушка всегда отличалась отменным здоровьем. Она жаловалась на разные болячки, подобно многим из нас, когда ей требовалось немного сочувствия. Я предпочитал делиться с ней иным: любовью, уважением и пониманием. Это казалось мне более благородным. И мать это понимала. Она говорила, что, будучи интеллектуалом, я не всегда мог выражать примитивные эмоции, свойственные обычным людям. Этим она еще раз демонстрировала свою неизменную проницательность. Если мне предстояло путешествовать за границей, то следовало учиться как можно лучше. Я стал реже посещать кабаре, перестал бывать с Колей в театрах и в кино, проводил меньше времени со шлюхами. Вместо этого я все чаще бывал в квартире, которую про себя называл «гнездом девственниц». Здесь мне разрешали читать, писать. Я мог, если хотел, находиться там сутки напролет, прилично питаться и получать столько чая и кофе, сколько мог выпить. Отец Марьи был зажиточным торговцем напитками, изначально работавшим в Ялте, а затем переехавшим в Молдавию. Отец Елены, как она сообщила с некоторым презрением, – фабрикант в Минске. Мой интерес к Елене возрос настолько, что я едва не сделал Марье предложения руки и сердца. Однако ни к одной из этих девственниц я не приближался. Хотя они часто мурлыкали вокруг меня, как кошки, просящие сливок, я не выказывал своего любовного интереса. Мне они были нужны ради безопасности и спокойствия. Их сексуальные потребности могли и подождать – я пока не был готов. Оставаясь у них ночевать, я спал на кушетке. Я редко позволял им посмотреть, что я читаю и что пишу. Они не только не смеялись надо мной, но и сильно смущались, если случайно трогали книгу или даже заглядывали на одну из страниц. Лишь постепенно я начал понимать, что девушки считали меня безрассудным молодым Бакуниным, готовящим покушение на царя, – за это они иногда шепотом провозглашали тосты за чашкой чая. В каком-то смысле их заблуждение меня порадовало. Я стал еще меньше уважать их. Я не чувствовал никакой вины из-за того, что использую девушек. Зная столько, сколько я знал, я мог иногда назвать случайное имя какого-нибудь революционера. Это значило для них гораздо больше, чем для меня. Некоторых людей, так надоевших мне в кафе, девушки считали героями. Елена и Марья были типичными русскими барышнями из среднего класса, готовыми, подобно многим другим, пожертвовать работой, свободой, возможно, даже жизнью ради никчемного нарушителя спокойствия или ради того, кто хладнокровно обдумывал их уничтожение. Пусть лучше они посвятят свои жизни мне – человеку, у которого есть настоящее дело. Квартира была набита номерами «Искры» и «Голоса труда»[107] и возмутительными брошюрами. Уверен, что девушки хранили их, чтобы произвести на меня впечатление. В конце концов мне пришлось объяснить, что не стоит привлекать внимание к некоторым фактам и будет лучше, если они спрячут анархистскую литературу в другом месте. Они начали извиняться. Плохо напечатанные и бездарно написанные манифесты и декларации скоро исчезли. Моя работа продолжалась. Я встречался с Колей, но чаще всего у него дома, где по-прежнему жил Ипполит, а не в старых привычных местах. Его все сильнее беспокоили военные события. Он утверждал, что мы близки к гибели. Я думаю, что петроградская зима, которая в этом году началась раньше обычного, вызывала меланхолию. Коля говорил, что царь обречен. Ненависть к Распутину усиливалась. Царь руководил армией (он стал главнокомандующим) так же бестолково, как и страной. Многие офицеры, включая значительную часть старой гвардии, чувствовали, что Николая следует заменить. – Революция, – заметил Коля, – в этот раз начнется не с уличного восстания. Она начнется изнутри. Я сказал, что газеты писали о наших победах над немцами и турками. Брусилов стал главным героем. Журналисты утверждали, что мы вскоре займем обе столицы Римской империи. Брусилов стал новым Кутузовым. Услышав это, Коля улыбнулся. Как обычно, он был одет во все черное. Его лицо казалось бледнее, чем прежде, волосы стали почти незаметными при белом свете, лившемся из окна. – Кто нам действительно нужен, – произнес он, – так это новый Наполеон. Французский или русский. У нас нет ни одного великого генерала. Они не могут понять условий игры. У них нет образцов для подражания, и это, мой дорогой друг Дима, уничтожает их. Они так привыкли действовать по образцу. – Ты говоришь о традициях? – Я говорю об образцах. Образец – примитивный способ навести в мире порядок. И все-таки он лишает всех, кто им пользуется, способности делать собственный нравственный выбор. Принимать решения, соответствующие ситуации. – Коля, ты начитался Кропоткина. – Даже Кропоткин обращается к истории как модели. История уничтожит нас всех, Дима. Скоро ее вообще не будет! Анализ – вот что могло нас спасти. Основание всей современной науки, а? Анализ, Дима, не план. Ты склонен планировать, когда волнуешься… – Неужели! Ведь я – настоящий ученый. – Я решил, что он, вероятно, шутит. – Маркс, Кропоткин, Энгельс, Прудон, Толстой – все пользовались готовыми образцами, и поэтому они совершенно ненаучны. Кропоткин мог бы подойти к науке ближе прочих. У него была надлежащая подготовка. Но молодой радикал уже считает его каким-то ветхозаветным пророком, цитирует его слова, не пользуясь его методами. Неужели это все, что у нас есть? Замена прежней веры? Язык науки заменит язык религии и станет бессмысленной литанией во славу авторитета? – Встречаются такие ограниченные ученые, – согласился я. – Но есть – и всегда будут – другие, выступающие против них, которые постоянно, как я, создают новые теории и новые аналитические приемы. – И их принимают? – В конце концов – да. Готов поставить на это свою жизнь. – В конце концов? Когда их слова включают в литанию. – Наука в меньшей степени поддается общему упадку. Она процветает в эпоху перемен. Но стоит ли считать лучшим мир, в котором вещь кажется не заслуживающей внимания, если она хотя бы на пару дней устарела? – Не может быть ничего скучнее этого мира. Но я выжил и в итоге увидел именно такой мир – в эпоху свингующих шестидесятых на Портобелло-роуд, когда научные идеи стали простыми причудами, обсуждавшимися в течение нескольких дней в дрянных газетенках и затем исчезавшими. По крайней мере, в России люди все еще уважают прошлое. Сама наука не в состоянии излечить мировые недуги. Разве Аристотель смог остановить Александра Великого, опустошившего Персию? Разве Вольтер удержал Екатерину Великую от террора? Я сделал немало хорошего в жизни, но многие мои действия извратили, неправильно использовали или в лучшем случае не совсем верно истолковали. На то же мог бы пожаловаться и другой великий русский мыслитель, Георгий Иванович Гурджиев. Он был знаменитостью, когда я встретил его в Петрограде в сопровождении его группы. Он всю жизнь оставался ярым противником большевизма и потратил многие годы и все состояние, пытаясь остановить поток демократии, республиканства и социализма, затопивший весь мир. Он утверждал, что Распутин, при всех его ошибках, давал лучшие советы, чем царские министры. Распутин по крайней мере понимал, что существовали и высшие миры, превосходящие разрушающийся мир, который лишался своих главных ценностей. Я посетил дом на Троицкой улице, поблизости от Невского, однажды вечером. Коля хотел, чтобы я встретился с самым преданным последователем Гурджиева, журналистом Успенским, служившим тогда в армии. Гурджиев, конечно, гораздо больше интересовался миром духовным, нежели материальным, но некоторое время я был увлечен его идеями, как и многие другие интеллигенты. В итоге я вернулся к православию, которое предлагало почти то же, что и Гурджиев, и, если так можно сказать, требовало гораздо более скромной платы. Цена за лекции Гурджиева даже тогда составляла примерно тысячу рублей. В годы между войнами философия Гурджиева привлекала многих замечательных людей, которые справедливо считали ее заменой текущих политических движений и фантазий. На какое-то время этим учением увлеклись и некоторые важные политические деятели. Мир, возможно, был бы сегодня совершенно иным, если б учение Гурджиева укоренилось в умах, скажем, Гитлера и Геринга. Гурджиеву следовало бы в 1917 году остаться в Петрограде, а не возвращаться в Тифлис. Он, возможно, изменил бы весь ход российской истории. Он был благородным противником анархизма и социализма, считал их ничтожной имитацией истинного мистического опыта. При этом я неоднократно видел, как он спокойно беседовал с решительными большевиками и, кажется, соглашался с ними. Но таков уж был его метод – обратить их собственную логику против них, чтобы одержать победу. В последние месяцы перед отречением царя на улицах становилось все хуже. Широкие тротуары стали еще более грязными и мрачными. Питер превратился в город смерти и опустошения. Военные репортажи обещали решительные успехи до начала декабря, но непосредственно перед тем, как я приступил к сдаче экзаменов, пришли новости о взятии Бухареста. Румыния капитулировала[108]. Мы внезапно лишились союзника. Раненые солдаты заполонили город. Франция и Англия, по слухам, готовились объединиться с Германией против России. Даже я, поглощенный своей диссертацией, не мог пренебречь тем фактом, что мы оказались в большой опасности. И тогда мне пришло в голову, что все мои экзаменаторы чувствовали то же самое. Я решил поведать им о некоторых изобретениях, которые могли бы помочь выиграть войну. Я решил не сообщать подробности, которые могут напугать этих бедных, лишенных воображения людей, а просто упомянуть о новых идеях. В психологическом отношении это был бы самый подходящий момент, чтобы продемонстрировать свои знания и получить высокие отметки. Это не был цинично продуманный план, хотя, конечно, я собирался поразить и профессора Меркулова, и прочих ученых, и других студентов, но я знал, что это может оказаться полезным, если я хочу добиться места в правительстве. Я репетировал свой доклад перед девушками. Они находились под впечатлением, хотя большая часть того, что я говорил, не задерживалась в их головах. Отдельные фрагменты выступления я проверял на Коле, который заметил, что я рассуждаю «блестяще», и радостно смеялся, слушая, как я разъясняю научные теории. Я писал письма домой, обещая, что вскоре будут хорошие новости. Написал дяде Сене о том, что у него есть племянник, которым он вскоре сможет с полным основанием гордиться. Домовладелице и ее дочерям я казался, по их словам, невыносимым, потому что моя самоуверенность стала просто чрезмерной. Я думаю, что они предпочитали более застенчивого Дмитрия Митрофановича, только приехавшего в Санкт-Петербург. По мере того как приближался день итогового экзамена, я становился все более возбужденным. Окна в конках к тому времени покрылись изнутри льдом толщиной в полдюйма. Стало настолько холодно, что длинные сосульки свисали с крыши у меня над головой, но я едва замечал их. Я представлял, как обращусь к профессорам и экзаменационной комиссии, как однокашники будут удивленно слушать меня и вскакивать с мест, внезапно понимая смысл моих речей. В первые дни экзаменующиеся просто встречались с профессорами и отвечали на простые вопросы. Я тщательно продумывал свои ответы, намекая на то, что мои знания выходят далеко за пределы программных требований. К середине испытаний я включал в свои ответы все больше информации, как бы случайно намекая на некоторые современные изобретения, на определенные материалы и фабрики, на результаты новейших исследований и продвинутые теории. В последний день, когда настала моя очередь защищать диссертацию перед всем институтом в большом зале, я решил отбросить все ограничения. Я научился, подобно многим в то время, вводить кокаин внутривенно. Я ввел себе большую дозу незадолго до того, как сел в трамвай. К тому времени, как я достиг политехнического, ни холод, ни беспокойные взгляды товарищей меня ничуть не волновали. Я был готов ко всему. Помню, что расстегнул пальто, пересекая скрытый туманом внутренний двор по пути к главному залу, демонстрируя презрение к погоде, да и ко всему остальному тоже. Я проявлял нетерпение (это заметили даже некоторые экзаменаторы), пока четверо других студентов делали нелепые, неуверенные доклады по незначительным техническим вопросам. Потом наконец произнесли мое имя, и я шагнул на возвышение, на котором за овальным столом сидели все сотрудники и руководители политехнического. Над их головами висел большой портрет милосердного царя Николая; передо мной собрались студенты. Было заметно, что некоторые из них посмеиваются и перешептываются, глядя на меня. Я мог одним суровым взглядом легко успокоить их. Насмешливый голос профессора Меркулова донесся со стороны стола: – Что ж, Хрущев, о чем собираетесь поведать? Полагаю, вы что-товынесли из долгих занятий? Я обернулся и рассмеялся ему в лицо. То был вовсе не наглый смех, а смех человека, который наслаждался шуткой вместе с равным (или – на самом деле – с низшим): – Я собираюсь говорить об онтологическом подходе к проблемам науки и техники, – сообщил я экзаменаторам, – уделив особое внимание тому, как техника может помочь нам одержать верх в военных действиях. – Довольно обширная тема, – сказал Ворсин, один из старших профессоров, маленький старичок с желтой морщинистой кожей, – особенно для человека ваших лет. – Это тема, ваше превосходительство, в которой я весьма легко ориентируюсь. Я посвящал свободное время дополнительным занятиям. Причина, по которой меня направили в ваш институт, в некотором смысле просто завершение некоей формальности. Мне требовался допуск к научным данным, которые не везде можно получить. Я также хотел изучить некоторые академические дисциплины. Полагаю, это произвело впечатление на профессора Мазнева и вызвало враждебность некоторых других профессоров. Я в любом случае очень благодарен вашему превосходительству и преподавателям за оказанную мне помощь. Казалось, Ворсина это впечатлило. Он улыбнулся своим коллегам. – Теперь, ваше превосходительство, могу ли я начать?.. – Я поклонился с чувством собственного достоинства. – Начинайте, – сказал старик, взмахнув рукой. Этот жест выражал великодушие и доброту. Ворсин наклонился, чтобы прошептать что-то на ухо Меркулову. Я знал, что он спрашивал обо мне и получил в ответ пристрастное суждение Меркулова. Но меня удивила глупость и самонадеянность недавнего лектора. Я начал доклад почти мгновенно. Я отбросил свои записи и обратился к аудитории, иногда заговаривая с профессорами, которые почти тотчас же стали выказывать удивление. Все выглядело так, будто Иисус сел рядом со старейшинами в синагоге. Действительно, я чувствовал себя в чем-то подобным Богу. Отчасти это происходило, полагаю, из-за воздействия кокаина. Если я и не был мессией века науки, то чувствовал, по крайней мере, что мог бы стать его предтечей! Бесспорно, мои слова немедленно оказали сильнейшее воздействие на слушателей. Я затронул проблемы ньютоновской науки в связи с современными познаниями, последние открытия в области сверхпрочных материалов, которые позволят нам построить совершенно новые типы машин – гигантские самолеты и воздушные корабли; привлек внимание к возможностям ракетных установок, позволяющих преодолеть ограничения, обычные для двигателей внутреннего сгорания; говорил об аэропланах на газовом топливе – в них следовало использовать нагревательную систему, которая позволила бы довести некоторые газы до необходимой температуры; рассказал о разновидности многоцилиндровой машины, которая могла использовать энергию сжатого воздуха, – она расстреливала бы врагов тысячами игл с полыми наконечниками, в которые несложно поместить смертоносный яд, убивающий мгновенно, независимо от того, куда попадет. Яд можно заменить наркотическими препаратами, и тогда у нас начнутся войны без смертей. Это будет гораздо эффективнее газовых атак, которым, так или иначе, можно противостоять. Я также описал чудовищные машины, в тысячу раз превосходившие размерами самые большие танки, способные пробиться сквозь вражеские позиции, хороня всех, кто оказывался у них на пути. Я коснулся нашего понимания всех современных технологических процессов и собирался перейти к более абстрактным вопросам, к электрическим атомам, когда Меркулов – этот завистливый недоумок! – вскочил и закричал: – Я думаю, мы услышали все, что нам было нужно, Хрущев! – Я только начал, – спокойно заметил я. – Можно еще многое сказать. – Садитесь. Я объяснил: они просто не поняли, что это мои вводные замечания. – Мы поняли все, что хотели понять. – Очевидно, он страдал от угрызений совести, осознав, до какой степени недооценивал меня. Профессор говорил очень вежливо. Возможно, он хотел, чтобы я берег силы. Но в тот момент, однако, я решил, что Меркулов пытался помешать мне. – Если вы хотите правильно оценить мой доклад, – ответил я, – то будет справедливо, если я представлю максимально полную картину. В наше время сама информация является оружием. Старый профессор Ворсин прервал меня: – Возможно, ваши идеи представляют интерес для врагов? Любой шпион… – Он указал в зал. Я понимал скрытый смысл его слов, но уже давно ожидал чего-то подобного. – Именно поэтому, ваше превосходительство, я не приводил в своей диссертации никаких точных расчетов. Если правительство пожелает ознакомиться с моими планами, я буду счастлив встретиться с соответствующим человеком в надлежащее время. Здесь я всего лишь скользил по поверхности. – На нас это произвело впечатление, – сказал Ворсин. Потом Меркулов сказал: – Вы можете покинуть зал, Хрущев. Неужели этого человека все еще могла мучить зависть? Неужто он решил уничтожить меня? Это было невероятно. Но думаю, что недооценивал его. Я не вполне понимал причины его замешательства. Председатель комиссии вынудил профессора вернуться на место. Ворсина явно расстроило отношение, проявленное Меркуловым. Он обратился ко мне весьма уважительно: – Мой дорогой Дмитрий Митрофанович, я уверен, что вы проделали огромную работу, но затронули столько новых идей, что нам трудно осмыслить все сразу. Я кивнул, внимательно вслушиваясь в его слова, тонувшие в шуме огромного зала. Студенты признали мой гений. Это был великий момент. Я мог видеть, что других профессоров также ошеломила моя диссертация, и решил немедля обеспечить свое будущее. – Значит, я могу рассчитывать на получение диплома в этом году? – Несомненно, – сказал Ворсин. – Мы подготовим для вас специальный диплом. Это превосходило все мои ожидания. – Специальный диплом не так уж необходим, ваше превосходительство. – Думаю, я продемонстрировал подобающую скромность и самодисциплину. – Нет, он должен быть именно специальным, – сказал Меркулов, который начал сдаваться. Никогда мне не доводилось испытывать такого дивного восторга. Я и впрямь не ожидал быстрого успеха. Все складывалось просто превосходно. – Очень хорошо, ваши превосходительства. Я согласен. – Я поклонился экзаменаторам и кричащей, топающей ногами толпе в зале и поднял руку, призывая их к тишине. – Но я продолжу работу в политехническом, по крайней мере до тех пор, пока мне не предложат правительственный пост. – Ликовать было бессмысленно – мои противники достойно приняли поражение. Мне следовало так же достойно принять победу. – Конечно, – сказал Меркулов неестественным тоном. – В следующем семестре мы все решим. – А диплом? Я смогу получить его до Рождества? Я предполагал, что последуют обычные бюрократические проволочки, поэтому не удивился, когда профессор Ворсин покачал головой: – Требуется время, чтобы его подготовить. Мы все сделаем, когда вы вернетесь. Меня это удовлетворило. И Меркулов, судя по тому, как он сидел, закрыв голову руками, был наконец окончательно повержен. Я отомстил за профессора Мазнева. Как счастлив будет мой наставник, когда, томясь в изгнании, узнает эту новость. Триумф продолжался. Ворсин лично проводил меня со сцены. Студенты окружили меня, хлопали, свистели, выкрикивали приветствия, даже хохотали от восторга. Старший профессор приподнял руку, призывая их к тишине, но шум продолжался. Позади меня, подобно побежденному тирану, крался Меркулов. Профессор Ворсин собственноручно надел мне на голову шапку и приказал, чтобы Меркулов подозвал тройку. Я спросил, не следует ли пояснить какой-нибудь из моих тезисов. – Позже, – сказал добрый старик, – когда у нас будет больше времени и когда вы отдохнете. Я уверил его, что не нуждаюсь в отдыхе. Так хорошо я не чувствовал себя в течение многих месяцев. Полагаю, профессор просто не мог подумать, что подобный расход умственных сил не сопровождался физическим истощением. Само собой разумеется, меня поддерживала инъекция кокаина; мне в конечном счете понадобилось выспаться, но гораздо позднее. Меня вывели во внутренний двор. Личная лошадь Ворсина и тройка стояли наготове. Студенты все еще приветствовали меня. Я слышал обрывки их фраз: – Это великий Хрущев! – Он как Галилео и Леонардо вместе взятые! Я поклонился, махнул им рукой. Они вновь приветствовали меня. И снова доброжелательный Ворсин призвал их к тишине. Мне льстила его забота. Он извинился, что не может сопровождать меня лично, но мой профессор проследит, чтобы я благополучно добрался домой. Было очевидно, что Меркулов собрался возразить: он нахмурился, начал протестовать. Он не настолько «квалифицирован», чтобы поехать со мной. Как изменился его тон! Теперь настала моя очередь выразить великодушие. Я сказал, что для меня было бы удовольствием проехаться в его обществе. Трепеща, он сел рядом со мной. Дружески простившись со старшим профессором и шумными студентами, я сделал знак извозчику. И мы помчались по старому Санкт-Петербургу; щелкнул кнут, зазвенел колокольчик – тройка понеслась почти так же стремительно, как мои мысли, а я продолжал развивать свои идеи, обращаясь к разинувшему рот Меркулову. Он по-прежнему не мог подыскать слова, чтобы выразить, насколько он меня недооценивал. – Специальный диплом, конечно, для меня очень важен, – уверял я Меркулова. – Но прежде всего меня интересует работа на правительство. Он сказал, что абсолютно уверен: правительство предоставит мне все необходимое. Меня обрадовала его проницательность. – Нужны, прежде всего, материалы и средства. Тогда я смогу начать работу. Меркулов посоветовал мне следить за собой. Я был перевозбужден. – Это едва ли возможно в настоящее время, – заверил я. – Мне нужно решить, следует ли остаться в политехническом, помочь в преподавании, или посвятить все мои таланты военному делу? Профессор сказал, этот вопрос следовало тщательно рассмотреть. Вероятно, его придется обсудить уже в следующем семестре, после того, как я отдохну. Я вновь повторил, что нахожусь на пике возможностей, однако было бы неплохо, если бы у меня оставалось больше времени для личных дел. Он согласился и предложил взять творческий отпуск, пока будут проводиться необходимые встречи на высоком уровне. В этом семестре просто не оставалось времени обсудить все детали. Преподавателям нужно встретиться с представителями правительства в следующем семестре. Меркулов предложил мне подождать, пока не поступят известия из политехнического. Это совпадало с моими планами. Я согласился, что это также позволит подготовить мой специальный диплом. Наши мнения совпадали. Мы мчались сквозь сверкающий туман белой ночи. Когда мы приблизились к центру Петербурга, Меркулов спросил, где я живу. Я решил не давать ему адрес своей бедной квартиры и приказал извозчику ехать к дому на Крюковом канале, где обитали мои девственницы. У входа меня приветствовала старуха-полячка; теперь она явно заискивала, даже стала обращаться ко мне «ваша честь». Очевидно, она удивила Меркулова, который по-прежнему держался неприветливо и тяжело дышал. Он объяснил, что я переутомился, и попросил удостовериться, что я отдохну. Профессор сказал, кто-то, возможно, и он сам, приедет удостовериться, что со мной все в порядке. Я ответил ему, что в этом нет необходимости. Полячка несколько удивилась, пообещала заботиться обо мне как о родном сыне. Отношение профессора Меркулова ко мне наконец переменилось. Он сказал привратнице, что она хорошая, добрая женщина, что я очень чувствителен и нуждаюсь в покое, что мой мозг и тело нуждаются в отдыхе. Если потребуется доктор, его пришлют из института. Я положил ему руку на плечо, показывая, что ценю деликатность потерпевшего поражение противника. – Девочки ему как сестры, – сказала старая карга. – Они сделают все что нужно. Полячка проводила меня до квартиры. Елена открыла дверь, ее лицо засияло, когда она увидела меня; пани объяснила, что я приехал на тройке, профессор попросил позаботиться обо мне. Девушка отвела меня в свое уютное гнездышко, уверив консьержку, что сделает все, что нужно. Я по-прежнему пребывал на вершине мира. Мы вошли в гостиную. – Вы скрываетесь? Она была возбуждена. Я обнял ее и крепко прижал к себе. – Это был лучший день в моей жизни. Я понял, что теперь она моя. Можно было праздновать победу. Я нежно поцеловал ее в губы. Елена прошептала, что Марья еще не вернулась домой, попыталась вырваться, но я крепко сжал ее маленькое запястье и сказал, что люблю ее. И я не обманывал. Я всех любил в то мгновение. Я поразил весь институт своими блестящими познаниями, вернулся домой в личном экипаже профессора. Весь политехнический был охвачен волнением. Девушка спросила, сделал ли я что-то «политически опасное». Я рассмеялся. – Зависит от того, что вы имеете в виду, Леночка. Я показал им будущее! Я показал им век науки! Я показал им всем, как можно изменить наш старый мир! – И вы убедили их? – Они аплодировали мне. – Все? – Все. Она не совсем поняла меня. Я снова ее обнял и поцеловал еще более страстно. Мне нужна была эта кульминация. Эта награда. Маленькая Лена была идеалом. Девственницей. Ее груди начали вздыматься, руки сомкнулись у меня за спиной в объятии. Потом она отступила, покраснев, сказала, что приготовит чай. Я бросился на кушетку, покрытую стеганым одеялом крестьянской отделки с замысловатым узором, от которого исходил слабый, волнующий аромат. Я следил за девушкой, когда она, шелестя шелковым платьем, шла по комнате. Через некоторое время Елена принесла мне стакан чая. Я взял его, жестом указав, чтобы она присела рядом. Двигаясь томно, неуверенно, она оказалась на кушетке, свернувшись клубком в моих объятиях. Мы вместе пили чай. А потом я – очень медленно – начал заниматься с ней любовью: гладил руки, лицо, бедра, затем подхватил ее, плачущую, и отнес в спальню. Она пыталась сопротивляться, но ни одна женщина не могла бы противостоять мне в тот день. Мои руки скользнули ей под одежду и коснулись плоти, потом опустились ниже – и она застонала. Но, несмотря на ее трепет, подобный трепету птичьих крылышек, она была моей. Я раздел ее, потом разделся сам. Лицо Елены выражало умиротворение и покой, но глаза напоминали глаза газели, влюбленной в леопарда. Она охотно умерла бы за одно прикосновение моих лап, за одно прикосновение моего рта к ее плоти. Мое тело переполнялось сдерживаемой агонией восхитительных страстей и обостренных чувств. И тогда я оказался сверху и резко овладел ею. Девушка плакала, стонала, кричала. Я впился в нее так, что на коже выступила кровь. Я укусил ее. Я вошел в нее, и вновь пролилась кровь. И тем не менее мне еще не хотелось останавливаться. Я откатился в сторону. Ее глаза цветом стали подобны раскаленной меди, волосы обратились в пламенный ореол, тело покрылось сетью царапин, мелких укусов и небольших ран. Потом она зарыдала – от удовольствия, от желания выплакаться; и тогда я снова овладел ею. Когда я закончил, в комнату вошла Марья. – Лена! Дмитрий? Она была напугана, дрожала, стоя посреди комнаты в меховой шапочке, все еще не сняв с руки муфту. Девушка онемела от изумления. Я улыбнулся и жестом пригласил присоединиться к нам. Думаю, я без труда удовлетворил бы их обеих. Марья закрыла дверь и ушла прежде, чем я успел предложить. Я засмеялся. Лена лежала неподвижно, рассеянно глядя на закрытую дверь. Я овладел ею в третий раз. Моя сперма заполнила ее зад, как расплавленная сталь. Она вновь отдалась страсти. Марья больше ее не интересовала. Пусть осуждает! Лена согласилась со мной. Она стала по-настоящему дикой, как восхитительное животное. Мы целовались, кусались, наслаждались теплом и молодостью друг друга. Мы собирались заняться любовью в четвертый раз, когда Марья вновь отворила дверь. Позади нее светилась газовая лампа – начинало темнеть. Она сняла верхнюю одежду. Она была в отчаянии. – Я думала, ты любишь меня, – сказала она. – Я люблю вас обеих. Иди к нам, – предложил я. – Это неправильно. Разве ты не видишь? – Нет ничего неправильного – мы живые люди. – Мы скоро выйдем, – сказала ей Лена, – и все объясним. – Твое тело! Что он с тобой сделал? Лена не замечала следов любви, но теперь посмотрела на свои груди и бедра, улыбнулась, трогая их, но потом сникла. Глупая Марья вошла в Рай. Она сделала то, что Люцифер сделал с Адамом и Евой: внезапно пробудила в нас стыдливость. Маленькая дурочка оказалась змеей, принесшей грех в Сад. Я был в ярости. Я вскочил, бросился к ней, ухватил ее за волосы. – Избавься от этих предрассудков! – Это – не свобода… это… – Она разрыдалась, попыталась вырваться. Но я крепко держал ее. – Присоединяйся к нам, ты, сучка! Будь женщиной! А потом как будто завертелось колесо. Гигантское маховое колесо, на котором мы все раскачивались. Лена кричала, танцевала нагишом между нами. Я впился в Марью, в ее одежду, волосы, тело. Мы кружились и кружились, неспособные управлять движением. Мы были уничтожены в механизме, казавшемся белым, горячим и податливым, но давившем нас, как будто мы – высокопрочный сплав. Его зубцы разрывали нас на куски. Сверкали капли крови. Постепенно визг и вопли становились все громче. Это было невыносимо. Я посмотрел на девушек. Елена была совершенно голой, одежда Марьи изодрана в клочья, одна грудь торчала наружу. Обе плакали и истекали кровью. Они умоляли меня о том, что отказывались принять. Они умоляли меня о прощении и смерти. Они умоляли о любви и неведении, которого лишились. Они просили у меня веры, которую я даровал и которую теперь они считали утраченной. Они просили Бога, кроткого, карающего Христа, который явился к ним в час откровения. Внезапно я почувствовал усталость. Я испытывал к ним только презрение. Они сопротивлялись тому, чего сильнее всего желали. Они сопротивлялись просвещению, отказались довериться мне. И, отказавшись, раскрыли свою истинную сущность – глупые, ничтожные, мастурбирующие существа. Они были готовы развлекаться невнятными романтическими фантазиями о свободной любви и революции, даже об убийстве, но не смогли отказаться от своих убогих, нелепых представлений. Они не хотели рисковать. Я взял свою одежду и посмеялся над ними. Они плакали и истекали кровью в объятиях друг друга. Умоляли меня вновь стать иллюзией, которую я позволил им создать. Я застегнул пиджак. Я не был ничем им обязан. А они были обязаны мне всем. Моя одежда стала моей броней. Рыцарь предложил спасти их разум: восславить их женственность, их первобытную сексуальность, но они отвергли мой дар. Я покинул их квартиру. Я уверен, что в годы революции они стали большевистскими шлюхами, наркоманками-морфинистками. Сталин, несомненно, уничтожил все, что от них осталось. Лишь глупцы и жертвы гипноза погибали в этих лагерях. Никого не заставляли умирать. Я шагал в темноте вдоль замерзшего канала, отталкивая голодных и убогих, попадавшихся мне по пути. Я надеялся встретиться с Колей у «Комедиантов», но там мне сказали, что он ушел домой. Я отправился к нему и отворил дверь своим ключом. Ипполит лежал с ним в постели, среди меховых покрывал. Сам Коля спал. Ипполит разозлился: – Убирайся! Я направился в кабинет, чтобы выпить и отыскать еще кокаина. Я нашел какую-то польскую темную водку и залпом выпил, открыл банку с Пьеро, взял щепотку белого порошка, попробовал его и втянул в нос, наслаждаясь восхитительным оцепенением. Ипполит встал и прошептал: – Что ты делаешь? – Я пришел повидать Колю. – Что с тобой такое? – Ничего. – Ты с ума сошел! – Возможно, я воодушевлен. Мне не хотелось вам мешать. – Я протянул руку, попытавшись погладить его. – Тебя я тоже люблю. – Я любил весь мир. Тогда Ипполит усмехнулся тонкой, бессмысленной усмешкой проститутки: – О, я понимаю. Обнаженное тело Коли сверкало золотом и серебром, когда он вошел в комнату. – Добрый вечер, Дима. Уже поздно? – Он взял бутылку водки у меня из рук и плеснул немного себе в стакан. – Как твоя диссертация? Я успокоился и не имел ни малейшего желания хвастаться своими достижениями. – Думаю, защита прошла весьма успешно. – Хорошо. Я ожидал увидеть тебя в кабаре. – Мне надо было повидаться с женщинами. – Отпраздновать? – спросил Ипполит. Он явно смутился. – Попытаться. – Женщины пришлись не по вкусу? – Слишком молоды. Я предложил им изведать благодать моего тела, утолить мою жажду, разделить мой триумф. А они отказались. – О, я знаю, о чем ты говоришь! – Коля рассмеялся вместе с Ипполитом. – Они – робкие маленькие создания, совсем еще девочки. – Он наклонился ко мне, как будто пьяный, и начал расстегивать мое пальто. – Они ранили твои чувства, Дима? – Нисколько. Я просто раздражен. – Им не хватает выносливости. Ипполит развязал мой шарф и расстегнул мундир. Я ощутил некое томление, зевнул, почувствовав заботу, наслаждаясь пассивностью. Коля и Ипполит отвели меня в спальню, заваленную шкурами волков и пантер, лис и тигров. Я был готов позволить им поклоняться мне. Именно этого я пытался добиться от девушек, но Марья и Елена меня не поняли. Коля и Ипполит инстинктивно знали, что следует делать. И снова возникла водка. Появился кокаин. Я был великолепен – об этом свидетельствовало каждое их прикосновение. Я был языческим богом. Я не могу объяснить случившегося. Нет, это не было извращением. Я был Паном. Я был Прометеем. Прометеем в мире, который не боялся меня так, как боялись те маленькие дурочки. Глупые мыши! Я был бронзовым Титаном, владыкой Фив, этрусским правителем, египетским божеством. Я был императором Карфагена! Больше я ничего не помню. Я очень долго спал. Коля принес вещи из моей квартиры. Он обращался со мной очень нежно. Кажется, Ипполита поблизости не было. Я устал. Доброта Коли казалась безграничной, поистине христианской. Некоторое время я пытался подражать ему, но подобное совершенство возможно лишь в среде благородных и избранных, для меня это было недостижимо. И еще было письмо. Я распечатал его лишь утром, когда вновь проснулся среди волков и лис; Коля сидел рядом, подобно ангелу-хранителю. Он не сделал ничего неестественного, просто помог мне. Прекрасно отдохнув, я вновь пережил мгновения своего триумфа. Я почувствовал, что, раскрывшись перед девушками, совершил глупость. Я не смогу вернуться к ним еще некоторое время; надо подождать, когда они успокоятся. Я знал, что Марья и Елена не предадут меня, потому что этим они предали бы свои идеалы. Конверт был запечатан красным воском. Я сломал печать и обнаружил еще одно доказательство победы над собственным прошлым. Оправдание всего, через что мне пришлось пройти. Паспорт. И письмо от мистера Грина. После Рождества мне предстояло отправиться в Англию, в Ливерпуль, и заняться там важным делом. Мне следовало как можно скорее встретиться с мистером Грином, чтобы узнать основные детали поездки. У меня был паспорт. У меня был специальный диплом. У меня было признание. И все почти одновременно. Конечно, подобные вещи часто происходят. Также случается, что все плохие новости обрушиваются разом. Но я не стану портить это воспоминание какими-то печальными рассуждениями. Я не из тех людей, которые зацикливаются на том, что не свершилось. Моя судьба – в руках Божьих. Небеса – моя награда. Я грешил, признаю это. Но я даровал свое знание и свою невинность миру, и если мир не вознаградил меня так, как я надеялся, – всему виной то, что временно он был завоеван моими врагами. Почти все согласятся, что мои враги были и врагами Божьими. Мир находится во власти Антихриста. Именно поэтому я знаю, что припаду к благословляющей длани Христа, буду прощен и признан; буду стоять рядом со святыми, беседовать с Богом, преклонять колени пред алтарем Его великой любви, пред Его сиянием и милостью. Коля сказал, что до отъезда в Англию я могу оставаться в его квартире. Это меня вполне устраивало. После той ночи Коля не оказывал мне знаков внимания, а Ипполит делал это очень редко. Распутина убили. Застреленный, избитый, отравленный и сброшенный под лед, он все-таки по-прежнему жил и кричал. Он был Россией. О запятнанная Русь, мистическая, трепещущая и отвергающая смерть! Но за отказ от очищения наукой и современным знанием Россия заплатила ужасную цену. Она не должна была отдавать свою душу. Следовало сохранять равновесие. Ни спасение через грех, ни огромная российская всесокрушающая сила не могли помочь нам. К тому времени надежды не осталось. Нас не могла спасти предсказуемая безответственность самодержавия, поразительная славянская цельность наших чувств, безудержная храбрость казаков, вера в побежденного Христа, у которого украли Россию, пока Он спал.
Не было никакого смысла возвращаться в Киев на Рождество. Поезда ходили не по расписанию. Вражеские войска могли в любой день захватить Белоруссию и часть Украины. Мои письма и телеграммы вовремя попали к адресатам. Матери я написал: «ДИССЕРТАЦИЯ БОЛЬШОЙ УСПЕХ. ПОЛУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ. ВЕСЬ ИНСТИТУТ ЛИКУЕТ. ВАШ ЛЮБЯЩИЙ СЫН». Благодаря связям капитана Брауна вскоре пришел ответ: «ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ЛЮБИМ. ГОРДИМСЯ. НАИЛУЧШИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ». Дяде Сене я послал почти такое же сообщение, но добавил еще несколько слов: «БЛАГОДАРЮ ЗА ДОВЕРИЕ. РАД СЛУЖИТЬ ЧЕМ СМОГУ. БОЖЕ БЛАГОСЛОВИ ЦАРЯ И БОЖЕ СПАСИ РОССИЮ». Это означало, что все члены моей семьи могли встретить Рождество в самом лучшем настроении. Я спокойно провел праздники вместе с Колей. К счастью, мы сумели отыскать кое-какую приличную еду в нашем городе бедствий. Призрак Распутина, угроза гражданской войны и революции висели, как туман, над улицами и каналами. Еда стала ужасно дорогой. Ипполит не присоединился к нам, он давно съехал с квартиры. Коля уверял, что это событие не имело ко мне никакого отношения. Мы по-прежнему оставались близки, но не в сексуальном смысле. Ночное происшествие, случившееся после защиты диплома, было не плотским соитием, а, скорее, актом любви и торжества. Я искал религиозного совета. Уверен, что не совершил никакого греха пред Богом. Нигде Господа не постигли так глубоко и не возлюбили так страстно, как в России. Нигде Ему так не повиновались и не почитали Его. Россия была самым благородным созданием Божьим. Но Он уснул, устав от войны. Христа предал Люцифер. Россию похитили. И нигде в мире, за исключением греческих церквей, я не мог отыскать Его. Великодушный Сын Божий остался в Константиновой Византии, в городе, который мы называем Царьградом, городом императора. Он спас Римскую империю. Кроткий Сын, замученный восставшими евреями, явился в России и обрел здесь пристанище. Христос – грек. Христос – Бог. Они едины. Еврейский Бог – ложный бог. Евреи предали Бога и предали Россию. Они принесли нам безумие, отчаяние и погибель. Царь провел на карте линию. Он сказал: «Евреи, вы не должны заходить за эту черту». Но они пробрались вперед, и они столкнули царя с трона. Они убили его. Они продали Россию Дьяволу. Христа отвлекло великое множество душ умерших. Христос спал, Он уснул вместе с миллионами убитых на войне. А когда пробудился, Россию у Него похитили. Разве евреи могут утверждать нечто подобное? Я отвергаю еврейского бога. Я принимаю Христа. Ни один еврей не может так поступить. Карфаген восстал на Востоке и угрожал Риму. Карфаген вышел за границы Африки. Древняя, доисторическая, дикая кровь. Карфаген был призраком, который скакал вместе с татарскими ханами, разрушившими Киев и унизившими Москву. Ханы явятся снова, иначе с какой стати честные русские все еще опасаются своих «китайских товарищей»? Им свойственны одни и те же заблуждения? Возможно. Но их разделяют происхождение и культура. Пусть китайцы зовут нас «чужеземными дьяволами», если им это нравится. Мыто знаем, кто дьявол и кто его слуги. Россия не дремлет. Она отвернулась от Христа, но Он не забыл своих славян. Пусть евреи пускают в ход свои мерзостные идеи, как в течение многих лет пускали в ход свои мерзостные деньги. Все это сгинет. Мы уже видим знаки грядущего. Уже при Сталине евреи начали осознавать, что к их идеям проявляют все больший интерес. Сталин узнал. Он начал бы чистку России, если бы его не отравили. Не думайте, что я прощаю Сталина, этого священника-ренегата. Но к старости он осознал свои ошибки, собрал силы для войны против призрачных семитских империй, против Вавилона и Тира, Финикии и Карфагена, против Израиля, против восточных орд, которые мечтают о славе Чингисхана… Распутин заслужил смерть. Он проповедовал невежество, а не знание. Истинную веру можно обрести лишь посредством мудрости. Он развратил царя. Бог наказал их всех – возможно, они это заслужили. Царя обманули. Когда он возвратился к Христу, Сын Божий спал. Уже было слишком поздно. В отчаянии царь отрекся. Его молитвы исказились и стали слишком земными из-за советов распутного шарлатана, который, возможно, был на содержании у международного сионизма. Царь отвечал за свои поступки лишь перед Христом, но Он не мог наставить его на путь истинный. В итоге Николай отрекся – он приблизил ужас, он уничтожил будущее, он отнял у меня все. Но тогда я ничего подобного предположить не мог – меня очень возбуждало предстоящее путешествие. Я уже полюбил Англию. Мне казалось, что она населена очаровательными дамами и благородными, надменными господами. Все мои впечатления основывались на популярных рассказах русских писателей и статьях из «Пирсона». Прочитав Уэллса, я узнал, что там существовала бедность, но она не походила на нашу русскую нищету, была уютной. Никто в Великобритании или в Америке никогда не знал подлинной бедности, так хорошо знакомой нам. Я не вижу в бедности ничего дурного. Дайте ребенку слишком много молока, и ему не к чему будет стремиться, как говорят в Сибири. Я начал читать на английском все, что только мог отыскать; беседовал на английском с Колей, который не слишком хорошо освоил устную речь, зато разбирался в литературе; пополнял словарный запас и оттачивал грамматику. Я каждый день доставал свой новый паспорт, рассматривал фотографию, которую туда вклеил дядя Сеня, одну из тех, что он сделал в Одессе, и наслаждался. Паспорт был на имя Максима Артуровича Пятницкого. Жизнь становилась все сложнее, но я пребывал в таком хорошем настроении, что меня совсем ничего не беспокоило. Я поспешил к мистеру Грину. Он сказал, что мне следует отправиться в Ливерпуль через Хельсинки – взять билет на поезд в Финляндию, там сесть на корабль и, вероятно, вернуться тем же маршрутом. Мне, возможно, придется проехать через Гетеборг или даже через Данию. Торговые корабли все чаще подвергались атакам немецких подлодок. Риск меня не тревожил. Перспектива увидеть мою дивную Англию была важнее всего остального. Но вышло так, что я попал в эту страну лишь тогда, когда большевизм и сионизм (какая ирония!) пустили корни на духовной почве, привнесенной туда из моей собственной страны. Я отдыхал до конца января, но потом забеспокоился, поскольку из политехнического не поступало никаких новостей о моем дипломе. Затем мистер Грин сказал, что международная ситуация значительно ухудшилась. Тот груз, который он первоначально планировал передать с моей помощью, был безвозвратно потерян. Пройдет некоторое время прежде, чем появится другой. Бездействие мучило меня. Мои попытки увидеть Елену и Марью завершились неудачей. Глупые распутницы стали меня бояться. Елена расшибла лицо. Она обвиняла меня, но я, разумеется, не помнил, что бил ее. Мистер Грин наконец сообщил мне, что готов новый пакет. Уехать сразу не получалось – начались морские сражения между английским и немецким флотами; это могло ослабить блокаду. Мистер Грин сказал, что лучше подождать несколько недель. В пакете находились секретные письма из фирмы дяди Сени, конторы мистера Грина и фирмы Роулинсона и Голда, у которой было отделение в Ливерпуле. Их главные конторы, как я узнал, располагались в Уайтчэпеле, в Лондоне. Я очень сожалел, что не смогу поехать в Уайтчэпел. Мистер Грин сказал, что очень важно добраться до Ливерпуля и вернуться обратно как можно скорее. Я должен был стать его тайным курьером, путешествующим под видом студента, разыскивающего родственников-эмигрантов. Я надеялся, конечно, что вскоре секретные курьеры начнут развозить мои собственные проекты по правительствам наших союзников. Я написал профессору Ворсину о своем дипломе и получил учтивый ответ, из которого становилось ясно, что диплом готовится. Они даже написали моему отцу, сообщив об успехе. Моим отцом, конечно, считали священника, сын которого в настоявшее время лечился от туберкулеза в Швейцарии. Оставалось надеяться, что он сможет им ответить. Теперь у меня было письмо, которое, по крайней мере, подтверждало мое право на диплом. Я начал снова выходить на прогулки с Колей. Но революционеров становилось все больше, и они занимали наши любимые кабаре. Я пару раз виделся с госпожой Корнелиус, которая сообщила, что ей все надоело и она собирается уехать из Питера. Я ответил, что скоро побываю в Ливерпуле. Она предложила отправиться в путешествие вместе. По ее словам, Ливерпуль ей был знаком превосходно. Это и впрямь показалось хорошей идеей. Я описал маршрут моей поездки и пообещал уточнить расписание поездов и кораблей. Забастовки повторялись все чаще, особенно на рабочих окраинах. Теперь их поддерживали очень многие. Я слышал, что у моей домовладелицы начались неприятности – ее дом находился на Выборгской стороне, где вооруженные дезертиры не брезговали задерживать и грабить «буржуек». Раненые солдаты с мрачными лицами совершенно открыто рассуждали о ходе войны, роптали на Бога и царя, и никто не арестовывал их. 14 февраля 1917 года я получил еще одно письмо от профессора Ворсина. Диплом был готов и отправлен мне. Профессор сомневался, что в политехническом меня могли еще чему-то научить. Он с радостью встретился бы со мной в институте или у меня на квартире, чтобы обсудить дела. Я ответил, что хочу побеседовать. Было бы лучше всего, если бы он сразу рекомендовал меня на правительственный пост. Я получил довольно краткий ответ, подписанный его секретарем. Мое письмо получено. Профессор с самым пристальным вниманием отнесся к нему. Это меня очень ободрило. К тому времени, как царь выехал в Могилев, чтобы следить за ходом войны, я был готов занять место командующего Петроградским фортом. Нет нужды описывать все случившееся в феврале 1917‑го. Несмотря ни на что, нас все-таки застали врасплох. Забастовки, мятежи, отречение царя, создание Временного правительства князя Львова, дикие слухи, хаос на улицах. Наши враги, красные и евреи, праздновали свою замечательную победу, в то время как люди голодали, солдаты бунтовали, преступления совершались и оставались безнаказанными. Профессор Ворсин сбежал из Петрограда вместе с половиной сотрудников политехнического. Мистер Грин закрывал свою контору. Он сообщил мне, что теперь собирается сам отвезти пакет в Англию: – Это уже не так важно. Коля вступил в партию эсеров. Я остался один и пребывал в растерянности. Петроград стал чужим, безумным городом. Каждый день проходили демонстрации и митинги. Люди открыто оскорбляли своих начальников. Приличные мужчины и женщины не могли беспрепятственно выехать за границу. Вот каковы оказались демократия и социализм в действии. Все было уничтожено. Царь жил в изгнании со своим семейством. Люди, у которых оставалось хоть немного здравого смысла, уже вывозили свои деньги за границу. И тем не менее Временное правительство утверждало, что в состоянии продолжать войну. Они, разумеется, беспокоились о том, как бы не лишиться дружбы и финансовой поддержки таких стран, как Англия и Франция: знали, что без этого Россия развалится. Я посетил политехнический и обнаружил, что профессор Мазнев вновь приступил к работе. Это, по крайней мере, было уже кое-что. Я рассказал ему о своих делах. Он уверил, что в курсе моего дела и проследит, чтобы обо мне должным образом позаботились. Множество документов пропало. Он подозревал, что кто-то из преподавателей их просто уничтожил. Вероятно, мне лучше отправиться домой на некоторое время, пока все не успокоится. В конце концов институт вернется к обычной работе. Я смогу приехать, и профессор поможет мне все уладить. – Мне обещали специальный диплом, – объяснил я. – Следует ли по-прежнему ожидать его? – Конечно. Но сейчас непростые времена. Не хватает бумаги – у нас трудности с печатью. – Это важно для меня. Я получил письмо от профессора Ворсина. Он уверял, что диплом готов. Я надеялся показать его матери. – Ну, письмо подойдет… э-э-э… по крайней мере, пока? Я согласился, что письмо было вполне удовлетворительным подтверждением, оставил свой адрес (профессору я сообщил свое настоящее имя) и решил ждать известий. Я собирался специально приехать Петроград, чтобы забрать диплом. Было опасно доверять почте во время беспорядков. Я, к примеру, слышал о почтальонах, которые выбрасывали свои мешки в снег или в мусорные кучи, услышав об отречении царя. Полагаю, что мой старый друг Мазнев также задумывался о трудностях, ожидающих нас впереди, и пытался уберечь меня от худшего. Через несколько месяцев к власти пришли большевики. Гражданская война опустошила нашу огромную страну; она причинила гораздо больше ущерба, чем все действия немцев. Я пожал Мазневу руку, пожелал удачи, надеясь, что он сумеет сохранить политехнический во время так называемых беспорядков. Я повторил свое прежнее предложение, поскольку чувствовал, что должен помочь в преподавании, если необходимо. Он сказал, что очень это ценит, но сейчас гораздо нужнее самые обычные преподаватели. Он пытался вернуть обратно Ворсина и некоторых других. Они отчасти побороли свои страхи и теперь могли вернуться. Я очень рад, что последовал тогда совету профессора. Не сделай я этого – почти наверняка, подобно Ворсину, стал бы жертвой ЧК. Я дружески простился с профессором Мазневым и вернулся на квартиру, чтобы попрощаться с Колей. Он обещал послать за мной, как только все успокоится. Мой друг внезапно приобрел политическое влияние. Он обещал, что как только станет премьер-министром, тут же назначит меня министром науки. Это утешало. Даже если революционеры победят, будет неплохо, если у власти окажутся расположенные ко мне люди. В перспективе все казалось не таким уж страшным. Я отправился в «Привал» и спросил о госпоже Корнелиус. Зал был переполнен. Здесь происходило нечто вроде поэтического вечера и политической сходки разом. Всюду виднелись красные банты. Это был сумасшедший дом. Я пробился сквозь толпу (я уже научился называть всех подряд «товарищами»), искал свою знакомую, но ее там не оказалось. Я попросил одного приятеля передать ей сообщение о том, что моя поездка в Англию откладывалась. Я надеялся вскоре связаться с госпожой Корнелиус. На улицах повсюду были группы студентов, размахивавших огромными красными флагами. «Марсельеза» исполнялась на всех инструментах, звучала из граммофонов, ее играли военные оркестры. Трамваи и омнибусы заполнили громко кричавшие студенты и пьяные солдаты. Это напоминало Парижскую коммуну. Я помнил, чем закончился давний социальный эксперимент, и надеялся, что Николай достаточно умен и будет проводить более умеренную политику. Я остался на ночь у Коли. Его квартиру заполонили политические газеты и плакаты – барахло, которое принесла с собой революция. Мой друг отправился на встречу в Думе и не возвращался. Утром я собрал свои сумки, позаимствовал у Коли кокаин, две бутылки польской водки и несколько серебряных рублей, а потом пошел к мистеру Грину. В офисе царил беспорядок. Все уезжали. Только мистеру Парроту пришлось остаться. Он казался очень несчастным. Я сказал мистеру Грину, что мне нужно немного денег. Он, очевидно, не хотел делиться оставшимся имуществом, но выдал сколько-то бумажных рублей. Сказал, что этого должно хватить на дорогу до Киева. Если понадобятся еще деньги, мне следует писать напрямую дяде Сене. Я поблагодарил его за помощь. Паспорт у меня оставался, я был бы рад стать его курьером, если это понадобится в будущем. Он кивнул и сказал, что запомнит мое предложение. Пробиваясь сквозь снег и туман, я направился на станцию. Там царил настоящий хаос. Дезертиры, освобожденные заключенные, калеки, жучки, сутенеры, честные ремесленники, аристократы, деловые люди, студенты – все пытались сбежать из города. Рассчитывать на путешествие с удобствами не приходилось. Заплатив втридорога, я сумел раздобыть билет третьего класса и оказался в переполненном вагоне, одно окно в котором уже разбили: «Будет легче дышать», – сказал мне небритый солдат. От спальных мест исходила страшная вонь. В вагоне находилось множество цыган, евреев, татар, армян, поляков и просто пьяниц – все пропахло мерзким табаком, дешевой водкой и рвотой. Я вцепился в свои сумки, вынужденный прижаться к старому еврею в черном пальто и молодому однорукому солдату, который также пытался добраться до Киева. И вот наконец поезд медленно отошел от станции. Санкт-Петербург стал скорбной тенью, захваченной все-таки силами хаоса. Мы оставили его позади. Затем вихри снега полетели через разбитое стекло, лишая меня возможности что-то разглядеть. Я утешался тем, что, в конце концов, за короткое время достиг в столице гораздо большего – того, на что даже не рассчитывал. Я возвращался домой с победой!
Глава восьмая
Четыре дня спустя поезд прибыл в Киев. Пока я выбирался из холодного купе, у меня в темноте вытащили несколько книг, недорогие статуэтки, купленные для матери, и пару перчаток. К счастью, у меня остались Колины меховые рукавицы. Я надел их, прежде чем подхватить сумки и направиться пешком в сторону Кирилловской. Мой город захватили подонки всех мастей: дезертиры, убившие своих офицеров, крестьяне, прикончившие своих господ, рабочие, ограбившие своих хозяев; все явились в Киев, чтобы потратить золото на выпивку и женщин. В поезде я встретил множество деловых людей, дворян и интеллигентов из Петрограда и еще некоторое количество спасавшихся бегством жителей Москвы. Они надеялись добраться до Ялты, Одессы или какого-то другого города на побережье. Я не знаю, куда они собирались отправиться дальше. Турки и немцы перекрыли все морские пути. Возможно, те места в меньшей степени были охвачены революционным безумием. В Киеве красные знамена висели на всех домах; на стенах виднелись прокламации, некоторые из них были на украинском языке – это меня весьма огорчило; митинги проводились на каждом углу; оркестрыиграли песню на стихи Шевченко «Еще не умерла Украина»[109] и «Марсельезу». Пол в вагонах был загажен шелухой от семечек и прочим мусором (это слово подходило также многим моим попутчикам). В городе творилось то же самое – и на тротуарах, и в парках. К власти пришли бездари. Прежний цивилизованный Киев исчез. Трамваи больше не ходили по расписанию; экипажей не стало; толпы пьяных бандитов в матросской и солдатской форме бродили повсюду, требуя денег, выпивки, еды, сигарет у прохожих. Поскольку не поступило соответствующих распоряжений от демократической Рады, полиция и казачья милиция сомневались в том, каковы их полномочия. Следует ли задерживать бандитов или просто просить оставить других товарищей в покое? Нужно ли стрелять на поражение или просто игнорировать действия новых аристократов? Вооруженные до зубов дезертиры и преступники могли убить всякого, кто им не нравился, – эта ситуация была типична для всех российских городов во времена Керенского, и она ухудшалась. Большевики просто узаконили террор и обеспечили ему моральное оправдание. Все жертвы именовались ликвидированными буржуями; теперь их просто вносили в списки пострадавших от несчастных случаев. Город выглядел так, будто одна половина населения была пьяна, а другая пребывала в безнадежном унынии. Я прошел по Подолу. Все гетто стало красным: евреи праздновали победу. Я купил «Голос Киева»[110]. В газете уже проявились националистические настроения. К тому времени, как я добрался до нашей тихой, темной улочки, я понял, что готов поддержать любую власть, даже социалистическую. Мои руки и спина ужасно ныли. Я затащил свои сумки по мрачной, вонючей лестнице на наш этаж и постучал в дверь квартиры. В ответ не раздалось ни звука. Я поднялся выше и позвонил в дверь капитана Брауна. Вскоре старый шотландец появился в дверях. Он трясся, от него разило самогоном. Его взгляд с трудом сфокусировался на мне. – Это я. От неожиданности он поперхнулся, вытер свои длинные усы, как будто смахивая с губ остатки пищи. – Твоя мать будет очень рада. – Ее нет дома. – Заноси свои вещи. – Он жестом пригласил меня в комнату. – Повсюду воры. Тебя могли убить. Завистливые негодяи прикончат любого, если почуют хоть малейшую наживу. Капитан Браун, спотыкаясь, пошел за мной и попытался поднять чемодан, но потерпел неудачу. Я никогда не видел его таким беспомощным. Он стал старым и жалким. Мы вошли в его пустую квартиру. В годы моего детства это был маленький кусочек Великобритании, которую я любил: трофеи на стенах, английские картины и книги. Даже ковры казались английскими. Теперь капитан продал все ценности. Я был потрясен. Пожалел, что никто не сообщил мне о его затруднениях. Он сел за пустой стол и извинился: – Тяжелые времена. Война. Твоя мать допоздна работает в прачечной. Им пришлось уволить половину людей. Другие ушли бог весть куда. В деревню, вероятно, – там они присоединятся к грабителям. Правительство пытается остановить это. Могло быть и хуже. Первые дни – это настоящий ужас. – Он налил мутную водку в стакан. – Выпьешь глоток? Я согласился. Водка оказалась отвратительной. Капитан сказал: – Если нам повезет – все скоро будет нормально. Князь Львов[111] не интересуется украинской независимостью, а Керенский хочет, чтобы мы шли сражаться с немцами. Я улыбнулся и глотнул мерзкого напитка. – Вы заразились политикой, капитан Браун. – Это мир политики. – Он резко сменил тему. – Эсме отправилась в Галицию. Она тебе писала? Я огорчился. – Когда она уехала? – Две недели назад. Смешанные силы – британский моторный дивизион и казачья конница. Много дезертиров. Надеюсь, у малышки все хорошо. – Капитан помрачнел. Он снова вытер усы, как будто в смущении. – Они ведь дурно обращаются с женщинами, так? Они мобилизовали крестьян. И монголов? Я начал волноваться: – Сестер милосердия следует отозвать с фронта. – Она не вернется. Слишком благородная… Я признался капитану Брауну, что мне нужно отдохнуть. Может ли он впустить меня в квартиру матери? Он, раскаиваясь, признался, что произошло нечто, причем он не мог вспомнить, что именно, но впоследствии настоял, чтобы мать забрала у него ключи от своей квартиры. Запасные ключи теперь хранились в прачечной. У меня не было сил идти туда, поэтому я разместился на одном из последних ветхих кресел капитана. От водки я повеселел. Мне не хотелось встретить мать, благоухая дешевым алкоголем, но этот напиток бодрил меня всякий раз, когда я начинал дремать. Капитан Браун перешел на английский язык. Он поведал историю о патанах[112] на Северо-Западной границе, смешивая ее с похожими рассказами о Малайском архипелаге и о шахтах в уэльсских долинах, где динамит вызывал обвалы, уничтожавшие целые деревни. Динамит был общей деталью всех трех рассказов: его неправильно использовали люди, которые не понимали сути вещества, необходимости правильного размещения и подбора подходящих детонаторов. Капитан Браун и дальше продолжал путать различные места и события. Патаны появились в Мертир-Тидвиле, а кельтские шахтеры оказались в Сурабае[113]. Через некоторое время с нижнего этажа донесся шум. Я подошел к перилам и посмотрел вниз. Моя мать, стройная, как всегда, с изумительными волосами, аккуратно уложенными, в элегантном черном пальто, черном платье и черных сапогах отпирала нашу дверь. – Мама! – Я спустился по лестнице. Она обернулась ко мне и заплакала. Мать не попыталась приблизиться ко мне, а я не мог пошевелиться. Возможно, она примирилась с мыслью о моем исчезновении или даже о моей смерти и теперь не могла поверить, что ее сын, изящный и спокойный, хотя немного уставший, стоял перед нею. В конце концов я подошел к матери и обнял ее, потом поймал и поцеловал ей руку, а она поцеловала меня в лоб. Спросила, останусь ли я на ужин. Я уверил ее, что задержусь на некоторое время. Дрожа от прилива чувств, матушка взяла меня за руку и отвела в квартиру. Я убедился, что дома так же уютно, просто и спокойно, как прежде. Вздохнув, я остановился, осмотрелся по сторонам и улыбнулся: – Как же здесь хорошо! – О мой дорогой сынок… Мы снова обнялись. Мать взялась за дело: растопила печь, поставила самовар и разогрела суп. Капитан Браун негромко постучал в дверь, прежде чем внести в комнату мои вещи. Я объяснил, что купил подарки, но их украли. Мне посочувствовали. Капитан уселся на мамину кушетку и сказал, что мне еще повезло – удалось сохранить довольно много вещей. Как идут дела в столице? Я ответил, что не очень хорошо. Капитан Браун слышал, что американцы прислали огромные воздушные корабли с какими-то лучами, которые могут мгновенно уничтожить тысячи людей. – Это положит конец войне и позволит царю восстановить порядок. Конец окопной войне! Но педики, кажется, забились в щели и застряли там. Можно подумать, все они – проклятые валлийцы! Он от души смеялся над своей невнятной, грубой шуткой. Моя мать не поняла, что он выругался. В ее присутствии капитан никогда не сквернословил по-русски – одно русское ругательство стоит двадцати греческих. В мужской компании он, возможно, одержал бы верх в любом споре в любой киевской таверне лишь с помощью убедительных и экспрессивных фигур речи. Голова капитана опустилась на грудь, и он захрапел. Он оставил бутылку у себя в комнате, но действие ее содержимого продолжалось в течение часа. Моя мать поспешно накрыла на стол, принесла суп, нарезала хлеб, жалуясь, что он напоминает опилки. Она обнаружила двух тараканов в последней буханке. Мама простояла в очереди за этими тараканами почти весь вечер после работы, на сильном морозе. Она знала нескольких женщин, которые заболели бронхитом или пневмонией и умерли, стоя в хлебных очередях. Это было нелепо – все знали, что Украина была житницей России. Это звучало как националистический лозунг. Я сказал, что нам повезло больше, чем жителям Петрограда, но некоторые обитатели Сибири и Кавказа жили по-царски. Поезда с провиантом ходили редко, и приходилось либо съедать все продукты, либо просто оставлять их гнить. Всё, к чему стремились националисты, – толстые животы и глупое довольство. Я так и вижу их с идиотскими плакатами, голодающих около российского посольства. Я могу лишь смеяться над ними. Если бы я оказался тогда в здании посольства и выглянул наружу – подумал бы: что там за идиоты? Их «нация» теперь независима как никогда. Интересно, почему они не возвращаются? Может быть, предпочитают жизнь в стране, где можно свободно жаловаться, набивая каждый день животы супом и мясом? Дома они неделями не видели ничего, кроме капусты или – совсем редко – кусочка гусятины. Я долго мечтал, что буду похоронен в родной русской земле. Но у большевиков хорошая память. Они повесили Краснова, которому уже перевалило за семьдесят, потому что он был гетманом Войска Донского, – разыскали его в Германии в 1945‑м. Его имя значилось в их списке врагов. Он не сделал ничего дурного – водил своих казаков в бой и сочинял хорошие книги о бедах России. Но красные схватили этого дрожащего, безвредного старика и повесили его. А ведь я тоже сражался с большевизмом. Капитан Браун проснулся и уселся за стол, поближе к краю. Он некоторое время разглядывал тарелку с супом, а потом взял ложку и начал есть, как будто не привык к подобному. Мать нежно наблюдала за ним: – Я не могла кормить его как следует. Мне показалось, что, несмотря на долгие часы работы и трудности жизни, матушка хорошо выглядела. Она согласилась – ей отчего-то стало гораздо лучше, силы восстановились. Работать самой оказалось намного легче, чем следить за нанятыми девочками. Она подчас больше походила на мать-настоятельницу, чем на прачку. Капитан Браун рассмеялся над этими словами и расплескал часть супа. Извинился и, аккуратно положив ложку в тарелку, снова погрузился в сон. – Ему нехорошо, – сказала мать. – Все из-за выпивки. Я слишком уставала, чтобы готовить для него каждый день, понимаешь? Мы обедаем в прачечной, чтобы экономить время. Я прихожу домой, – она пожала плечами, оглядевшись по сторонам, – как видишь, только на ночь. И впрямь дом казался каким-то заброшенным, но мне все равно было здесь хорошо. И квартира, и мать стали какими-то спокойными. – Мне не хватает Эсме. Такая милая девушка! – вздохнула мать и спросила, когда я намерен возвратиться в Петроград. – Мне посоветовали подождать, пока все немного поутихнет, – ответил я. – Через пару месяцев я смогу забрать свой специальный диплом. Он мне очень нужен. Я надеялся работать на правительство, но теперь постараюсь найти хорошее место в Харькове. У меня множество идей, на которые я получу патенты. Если повезет, смогу работать независимо. – Чем ты займешься до получения диплома? – Буду спать. – Я погладил ее по плечу и, нагнувшись, поцеловал в щеку. – Можешь занять кровать Эсме, – сказала мать.Глава девятая
Вскоре в суматошном Киеве я почувствовал себя более непринужденно, чем в Петрограде. Я знал все улицы родного города, все переулки, все узкие проходы между зданиями. Я знал районы, где бродили хулиганы, и знал, где избежать встреч с самыми злобными. Я знал дома, где мог укрыться. Наш район, который, по существу, являлся пригородом, оставался относительно спокойным. Он был слишком беден и потому не очень интересовал бродяг и бандитов. Нам повезло: грабителей в основном привлекал Подол. Когда лед на Днепре начал ломаться и громкий скрип, стон, треск отозвался эхом по всему Киеву, я обнаружил, что перенял от матери способность к восстановлению сил. Призрак отца остался в прошлом. Мать, будучи вдовой замученного революционера, теперь заняла в обществе определенное положение. Пусть хуже, только б по-другому – так мы говорили. Вообще-то и дела мои пошли лучше. Я решил, что стоит наладить отношения с некоторыми из старых клиентов Саркиса Михайловича Куюмджана. Инженеров не хватало. Я встретил пару человек, которые отчаянно разыскивали моего бывшего мастера. С тех пор как он уехал из Киева, половина местных механических цехов закрылась. Я обладал лишь десятой долей практического опыта и интуиции армянина, но все равно был уверен, что могу рассчитывать на хорошую работу. Я выполнил несколько мелких заказов для евреев с Подола, которые были главными клиентами Куюмджана. Они преисполнились благодарности и заплатили, почти не торгуясь. Подобно моему прежнему начальнику, я стал мастером на все руки, чинил электрическое оборудование, паровые двигатели, двигатели внутреннего сгорания. В самом деле, я мог совершить что угодно с устройствами, в которых были винтики или рычаги. Таким образом, у меня скоро оказалось достаточно денег, чтобы приобрести более сложные инструменты; я даже отложил некоторую сумму. Деньги я хранил дома – банки не заслуживали доверия. Я пользовался услугами капитана Брауна – иногда мне был необходим помощник. Когда появилась работа, он стал меньше пить. Мать, возможно, могла бы бросить работу в прачечной, но она любила ее. Иногда мне очень хотелось повидаться с Эсме – ведь мы были такими хорошими друзьями. Она порадовалась бы моим успехам. В Киеве обнаружилось более чем достаточно женщин, готовых удовлетворять мои сексуальные аппетиты. С деньгами в карманах я стал очень популярным гостем в кабаре, где проводил пару вечеров в неделю. Единственное, что меня смущало, – я до сих пор не получил вестей от профессора Мазнева о своем дипломе. Пока у меня не было этого документа, я не мог обратиться в крупные промышленные концерны и предложить свои услуги. Работа также помогла бы мне избежать армии. Я почти перестал употреблять кокаин, хотя наша «мать городов русских» стала одним из основных центров наркоторговли. Среди женщин, с которыми я встречался, были мои старые знакомые из Петрограда. В Киев приехали поэты, художники и актеры, с которыми я был хорошо знаком. Мои связи в обществе расширялись и становились все более полезными. Я начал одеваться в дорогие и модные костюмы. Весна была в самом разгаре. Я купил себе соломенную шляпу с лентой в английском стиле и трость с серебряным набалдашником. Я имел возможность войти в любой магазин на Крещатике и купить все, что пожелаю. Я мог нанимать экипажи. И все это на честно заработанные деньги. Днем, и иногда ночью, я был механиком в грязном синем халате, покрытом масляными пятнами. Появляясь в центре Киева, я становился самым изящным из молодых людей. Я всегда принимал меры предосторожности: носил с собой очень мало денег и предпочитал передвигаться в компании. В городе открылось много новых маленьких театров и синематографов – как ранее в Петрограде. Балетная труппа «Фолин» прибыла в Киев, а с ней – мой старый друг Сергей Андреевич Цыпляков. Он вежливо приветствовал меня, явившись по моему приглашению в частный номер отеля «Арсон». Помещение было выкуплено и отремонтировало Ульянским. Его украшали причудливые фрески явно сексуального свойства, которые сочли бы непристойными всего за несколько месяцев до этого. Мне заведение показалось удобным по ряду причин, на его вульгарность я закрывал глаза. Отель стал одним из основных мест встреч артистов и прочих эмигрантов в Киеве. Сережу впечатлила и моя элегантность, и окружающая обстановка. Он обнял меня. Я тоже ему обрадовался. Если бы не он, я никогда бы не встретился с Колей. Мы сели обедать. Я спросил Сережу, давно ли он видел нашего общего друга. Оказалось, что Коля возгордился и всех позабыл, стал большим человеком, участвовал в работе Наркомпроса и не желал заботиться о старых друзьях. Сережа сообщил, что собирается покинуть труппу и при первой же возможности уехать в Америку. Он спросил, где можно найти симпатичных мальчиков и немного кокаина. Я подсказал места, и мы расстались. Странно, но я начал тосковать по Коле и по Петрограду. Я даже подумал, не вернуться ли туда. Но фанатики в правительстве постоянно одерживали верх. Большевистский переворот в октябре стал естественным следствием, все ожидали его. Керенский выпустил на волю ураган и сгинул в нем. Как жаль, что Сталин не пришел к власти сразу. Увы, история, та мистическая сила, которую большевики поставили на место Бога, была против него. Он так и не смог избавиться от татарина Ленина и еврея Троцкого – они сидели у него на плечах и нашептывали ему в уши, даже несмотря на то что он убил их обоих. Ивана Грозного иногда называют русским Макбетом. Сталин был нашим Ричардом III. Он убил миллионы людей. Сидел в огромном кремлевском кинозале и смотрел мультфильмы про Микки-Мауса, в то время как Россия умирала по его приказу. Он приблизился к Богу. Да, он сопротивлялся изо всех сил, но Бог пребывал в нем и изрекал Свою волю. Сталин убивал во имя будущего, как казаки убивали во имя Христа. Но он не мог избавиться от призраков большевистских князьков, погибших подобно боярам во времена Ивана Грозного, которых, по словам Сталина, царю следовало уничтожить полностью. Если бы Сталину даровали мафусаилов век, он бы никого, кроме себя, не оставил в живых – устроил бы на земле мир и покой. Он убивал, надеясь избавиться от осуждающих взглядов. Говорят, убийцы не могут спать. Но есть и другой вариант: тот, кто не может уснуть, становится убийцей. Лишившись своих грез, он превращает безопасный кошмар в ужасную реальность. Я собирался воплотить в жизнь собственные грезы. Продолжая трудиться в мастерских, я одновременно создавал множество изобретений, составлял детальные чертежи на хорошей миллиметровой бумаге, уточняя все элементы новых конструкций. Я смогу произвести наилучшее впечатление, когда буду искать место в Харькове или Херсоне. Лето было хорошим. Стоя возле собора Святого Александра, я мог разглядеть Дарницу, где располагался большой лагерь немецких военнопленных, видел, как купаются заключенные. Выглядели они жутко. Этим людям сильно досталось во время войны, а мы не могли позволить себе накормить их – они ели вшей. У меня были планы насчет пленных. Я надеялся заинтересовать местных промышленников некоторыми уже готовыми изобретениями. Немцев можно использовать в качестве рабочих при воплощении в жизнь моих идей. Они будут счастливы работать за еду. Но материалов не хватало – как и людей. Помимо этого, я работал еще над одним очень интересным механизмом – машиной для концентрации света, этакой примитивной предшественницей современных лазеров и мазеров, использующихся в медицине и астрономии. Я собирался использовать невидимый свет (теперь его называют «ультрафиолетовым»). Если бы у меня было надлежащее оборудование, а трусливые украинские дельцы, которые тянули деньги из России и не интересовались вложением средств в наши военные кампании, поверили бы мне, – тогда я, возможно, изменил бы ход войны. Механизм был несовершенен, его трудно было бы транспортировать, но он вызвал бы во вражеской армии гораздо большее смятение, чем самые массовые и решительные кавалерийские или танковые атаки. Мать начала демонстрировать знания, удивившие меня. Мои самые простые идеи вызывали весьма интересные вопросы. Я рассказал ей о своем пулемете со сжатым воздухом и о беспилотном «огненном» дирижабле, который мог перемещать огромные бомбы; его буксировал в нужную точку аэроплан, потом дирижабль сбрасывал свой груз, и его нарочно сбивали. Я с удовольствием объяснил матери, как это можно осуществить. У меня теперь было гораздо больше проектов, чем в Петрограде, – появились и время, и уверенность, чтобы внести ясность в свой замысел. Я предвосхитил в числе прочего спутники связи (и не получил за это ни копейки), телевидение, газеты, печатающиеся через радио, военные и транспортные ракеты. Домашние автоматические устройства – еще одна моя идея; чешское слово для обозначения раба, «робот», еще не было выдумано левацким писакой по фамилии Чапек[114]. Я также работал над схемой беспилотного самолета, который управлялся с земли радиосигналами. Теперь понимаю, что был болтлив и неосмотрителен. Не только в России, но и в Германии, Америке и Англии, где многие из моих проектов были украдены недобросовестными людьми, присвоившими себе мои изобретения и продавшими их, само собой разумеется, еврейским фирмам, по-прежнему делающим на этих машинах состояния. Я не стану называть имена. Достаточно заметить, что кальсоны изобрели не Маркс и Спенсер[115]. Вспоминая те странные киевские дни, мне кажется, что я представлялся окружающим необычной личностью. Мать, однако, нисколько не тревожило, что я приходил домой измазанным маслом механиком, а уходил светским человеком. Я набирался опыта. Изначально я не выходил за пределы Подола – работы в гетто оказалось более чем достаточно. Евреи готовы были на все, лишь бы не прекращали работать их потогонные заводишки. Мне редко приходилось путешествовать на большие расстояния. Трамваи начали ходить почти по расписанию. Казалось, что все идет на лад. В белом костюме, соломенной шляпе, с тростью с серебряным набалдашником я отправлялся по воскресеньям на прогулку вдоль берега реки. Я нанимал экипаж, если хотел поехать за город на пикник с капитаном Брауном и матерью. На время отпуска приехала Эсме, она казалась усталой и похудевшей. На этот раз я мог ей хоть чем-то помочь. Так как жить у нас было неудобно, я решил, что ей следует остановиться в «Европейской», хорошей гостинице на Крещатике. Эсме приняли за графиню и оказывали всяческое почтение. Она пришла в восторг, обняла меня, поцеловала и сказала, что это замечательный подарок. Моя подруга очень обрадовалась, когда я рассказал ей о моем дипломе, и расспросила обо всем. Я заметил, что ей следует отдохнуть, и ушел, оставив ее в изящной летней комнате, сияющей серебром, золотом и шелком. Я рассчитывал вернуться к ней вечером, а тем временем отправил в гостиницу целый гардероб и приказал, чтобы извозчик ждал нас у входа в шесть часов. К вечеру Эсме надела красивое синее платье с перьями, туфли «танго», на голову повязала модную ленту. Она использовала немного косметики, и ее большие голубые глаза, оттененные розовым и золотым, казались еще прекраснее. Когда экипаж доставил нас на Царскую площадь, к одному из лучших ресторанов в Киеве, я гордился тем, что нахожусь с нею рядом. Эсме пробовала одно блюдо за другим, но от волнения не могла много есть. – Мне рассказывали, что дома голодают! – Не все, – ответил я. – Продовольствие просто не доходит до солдат, так что его кто-то должен есть. – Я рассказал, что знаю людей, которые специально отправлялись в Москву и Петроград лишь с несколькими корзинами провизии и возвращались домой почти миллионерами. – И ты так живешь? – спросила она. – Боже правый, нет! Я занят настоящим делом. – Меня очень обидели подозрения Эсме. Она начала извиняться. Я плеснул ей в бокал французского вина и успокоил. – Я открыл мастерскую Саркиса Михайловича. Спекулянты, можно сказать, обеспечивают мой доход. Но в основном они достаточно честны. Все что-то покупают и продают. Ты видела рынки? Бессарабку? Ярмарка, которая длится круглый год! Крестьяне приносят свои продукты в город, потому что до деревень невозможно добраться. Они гонят в Киев целые стада. На Бессарабке можно раздобыть все что угодно. – Я был слишком деликатен, чтобы говорить прямо, но Эсме меня поняла. Работая среди солдат, она, похоже, многое узнала. Оркестр заиграл очень грустную цыганскую музыку. Эсме начала расслабляться. Она стала очень красивой, но я все еще видел в ней только сестру и не представлял в качестве любовницы. Мне хотелось, чтобы она сохранила девственность. Я мог подыскать ей хорошую партию. Я был для нее братом и отцом и хотел сделать все, чего желал бы ее отец. Множество моих друзей и деловых знакомых видели нас вместе, подмигивали, а когда Эсме не могла ничего услышать, даже поздравляли. Я ничего не объяснял. Когда война закончится, мне придется давать обеды крупным промышленникам. Эсме стала бы идеальной хозяйкой. Я бы пригласил ее в свою фирму. Я начал разрабатывать то, что немцы называют жизненным планом, старался построить свою жизнь по образцу Томаса Эдисона, американского изобретателя и предпринимателя. Мое имя стало бы таким же известным по всей Европе, как его имя – на его родине. Оно превратилось бы в синоним прогресса и просвещения, возможно, упоминалось бы в одном ряду с именами Галилея и Ньютона. Но я бы стал практиком, сохранил контроль над своими патентами. Я рассказал Эсме об этом, а также о некоторых деталях, которые уже успел продумать. – Ты будешь полноправным партнером, – сообщил я. – Это совершенно справедливо. Ваша с матерью поддержка сделала меня тем, кто я есть. Она смотрела в тарелку и слабо улыбалась. – Я хотела бы стать врачом, – сообщила она. – Думаю, у меня к этому призвание. – Возможно, и капитан Браун мог бы стать прачкой! – Шутка показалась мне безобидной. Когда я представил женственную Эсме в мужском костюме, с докторской сумкой в руке, то едва не расхохотался. – Почему бы и нет? Все возможно в новой России! – Я перефразировал известный лозунг Временного правительства, а потом сменил тему: – Все говорят о мятеже. Ты будешь в безопасности на фронте? Она посмотрела на меня и внезапно рассмеялась: – Это безопаснее, чем гулять по Крещатику. Дорогой Максим, солдаты – как дети. Конечно, встречаются подстрекатели. Но преданность солдат основана на уважении. Если им нравится офицер или сестра милосердия, они сделают для них все что угодно. Условия жизни на фронте отвратительны, поэтому солдат будет признателен, даже если ты просто вытрешь ему пот со лба. Наши воины – честные, порядочные русские парни. – Достоинства, о которых ты говоришь, могут за одну ночь превратиться в недостатки. Эсме не хотела ничего слышать, нахмурилась и покачала головой. – Дети могут восстать против тебя, – сказал я. – Мы – их няньки. Они доверяют нам. Солдаты знают, что мы тоже страдаем, знают, что мы добровольно помогаем им. Я попросил счет. Эсме немного успокоила меня – она по-прежнему была невинна. Мы ехали в экипаже по крутым киевским улицам. Кое-где горели огоньки свечей и керосиновых ламп. Я сожалел, что мы не могли осветить город как следует, как в старые времена, когда Крещатик был залит электрическим и газовым светом, а в увеселительных садах вдоль реки висели разноцветные фонари, озарявшие деревья, и немецкие оркестры играли вальсы. Я подумал, что тогда на самом деле смог бы насладиться своим триумфом и радостью Эсме. Моя подруга сказала, что чувствует себя виноватой. Стало так много бездомных, больных и изувеченных. Я ответил ей, что не обращал внимания на страдание. Я легко тратил деньги, раздавая нищим и различным церковным организациям, созданным для помощи нуждающимся. Даже евреи с Подола знали, что на меня можно рассчитывать, подсовывая ящик для сбора пожертвований. Жадность никогда не относилась к числу моих недостатков. Когда у меня были деньги, я их отдавал. И, конечно, многих спас. У меня имелись обязательства по отношению к матери, к самому себе, ко всем тем, кого любил, – я должен был убедиться, что политические события их не коснутся. Наступит день, когда мать станет слишком слабой, чтобы работать в прачечной. Человек может жить так, как он хочет, говорил я, – но лишь пока он обеспечен. Свобода основана на чувстве ответственности. Именно этого большевики никогда не понимали. Единственный лозунг, который мне хотелось увидеть на уличном плакате, – «Живи и давай жить другим». Эсме спросила, куда я намерен отвести ее потом. Я назвал какое-то популярное кабаре, с обычным названием вроде «Фиолетовой обезьяны» и «The Chartreuse Sioux»[116]. Она спросила, можно ли вместо этого пойти к нам домой, выпить в тишине стакан чая с матерью и капитаном Брауном. Впрочем, капитан к тому времени выпил в тишине уже не один стакан водки и если не спал, то наверняка пел какие-нибудь мрачные шотландские песни. Но я понимал, что светская жизнь может быть очень утомительной, и без всяких колебаний попросил извозчика отвезти нас с Кирилловской на нашу улочку. Эсме оказалась права. Внезапно я вновь почувствовал легкость и непринужденность. Здесь почти ничего не изменилось: лес и ущелья, маленькие домишки, далекий лай собак, ссоры и ругань. Мы могли бы быть теми двумя счастливыми детьми, посещавшими школу герра Лустгартена. Так мало времени прошло с тех пор, как мы испытали мою первую летающую машину. Теперь отец Эсме обрел покой и, как ни странно, внутреннее успокоение нашла и моя мать. Хотя у меня был ключ, я постучал в дверь. Нам тотчас отворили. Матушка успела увидеться с Эсме до того, как я устроил ее в гостинице, но обняла гостью так, будто приветствовала впервые. – Какая очаровательная девушка! Все такой же ангел! Ты только посмотри, Максим! Я осмотрелся: – Ты ждала нас, мама? Она заволновалась: – Вы были в хорошем ресторане? – В самом лучшем. Тебе стоит сходить туда. – О, я всегда так нервничаю. У меня начнется расстройство желудка, прежде чем я съем кусок хлеба! – Вот почему я отказался от попыток отвести ее туда. Эсме уселась на свое обычное место и сняла ботинки. Она приподняла юбку и погладила совершенной формы лодыжку, скрытую бледно-голубым шелковым чулком. Я уже привык к женщинам, конечно, и у большинства из них не осталось вообще никакой скромности, но от Эсме я ожидал другого поведения. Это было глупо с моей стороны. Она, в конце концов, находилась в кругу семьи, и она сражалась на фронте. Мать положила в чай Эсме кусок сахара и дольку свежего лимона, который я купил утром. – Я заварила покрепче. Ты привыкла к крепкому чаю, да? – Не так чтобы очень, – коротко ответила Эсме. – Все хорошо, Елизавета Филипповна. Моя подруга посмотрела на меня с улыбкой: – Лучшее, что мне довелось сегодня попробовать. – Я потратил целое состояние! – воскликнул я в притворном отчаянии, уселся в кресло и взял стакан чая. – Ты не питаешься как следует, – сказала моя мать Эсме. – Кормят плохо? – Не хуже, чем солдат. – Долгоносики в хлебе попадаются? – Иногда. – Мама, – сказал я, – ты стала таким критиканом! Она пожала плечами: – Теперь нам разрешают критиковать – вместо еды. Эсме улыбнулась: – Мы все становимся революционерами. – Мы гнемся на ветру, – сказала мать. – Разве у нас есть выбор? Я знал, о чем она думала. Мой отец никогда не сгибался. Он изо всех сил держался за свою веру – веру в анархию и насилие. Странно, но теперь, когда хаос угрожал нам со всех сторон, мать избавилась от своих тревог. Эсме объяснила, что не хочет говорить о войне, по крайней мере, не сегодня вечером. Мы обсудили письмо, которое моя мать получила в тот день от дяди Сени. Он послал сразу несколько – все остальные пропали. – У него все хорошо. Пишет, что они в полной мере воспользовались передышкой, сняли виллу в Аркадии. Это хорошее место, Максим? Кажется, да. – Было хорошим, – сказал я. – Возможно, что и теперь… – Я так хотел, чтобы в это мгновение мы все втроем оказались там, насладились теплым, соленым воздухом одесского вечера. Я скучал по тому южному волшебству, по запаху гниющих водорослей и морской воды, по простому обществу Шуры и его друзей, которые тогда казались очень искушенными, а теперь – милыми и провинциальными. – Давайте все вместе отправимся туда завтра? Сядем на поезд? – А они еще ходят? – Мать оживилась. – Должны, ведь это главная железнодорожная линия. – Превосходная идея! – воскликнула мать, но она явно сомневалась. Эсме допила чай. – Мне нужно вернуться через два дня. А вы можете ехать. Фантазия увлекла меня. – А как насчет отпуска по семейным обстоятельствам? Эсме загрустила: – Это неправильно. Нас слишком мало. – У нее есть обязанности, Максим. – Да, мама. – Да и у нас они тоже… – Мать собрала стаканы. – Без меня прачечная развалится. Дамы будут получать мужские воротнички, а мужчины – ложиться спать в дамских ночных сорочках. Она засмеялась, налила себе еще чая и сделала глоток, не переставая хохотать. Мы смеялись вместе с ней. – Все как в старые времена, – сказала мама, и ее лицо стало грустным и суровым. – Все наладится, – сказал я. – Мы купим собственный дом на Трухановом острове, яхту и будем плавать вверх и вниз по Днепру. Обзаведемся автомобилем и станем ездить в Одессу, когда пожелаем. И в Севастополь. И в Ялту. В Италию и Испанию. И в Грецию. Мы отправимся на воды в Баден-Баден, который к тому времени станет частью России, а на время высокого сезона – в Англию. Париж станет нашим вторым домом. Мы будем накоротке со знаменитостями. За тобой, Эсме, будут ухаживать герцоги и сам принц Уэльский. Вокруг меня соберутся титулованные леди, которые станут бороться за мою благосклонность. А ты, мама, станешь хозяйкой салона! – Я очень скоро заскучаю. – Я изобрету новый метод стирки – универсальную прачечную. Одно нажатие – и весь мир засияет! – Я буду одновременно хозяйкой салона и этой вселенской прачечной? – Почему бы и нет! Мы снова рассмеялись. Эти минуты были одними из самых счастливых в моей жизни. Мать рассказала, что дядя Сеня очень обрадовался новости о моем дипломе. Если мне понадобится помощь в поисках подходящей работы в Одессе, он с радостью предложит ее, однако намекнул, что были и другие возможности. По мнению матери, дядя имел в виду, что мне будет гораздо лучше за границей. Я задумался: может, он по-прежнему хочет, чтобы я направился в Англию? Эта мысль взволновала меня. С тех пор как я стал таким светским человеком, я мог поехать куда угодно. Паспорт оставался одним из моих самых ценных сокровищ. Он был открытым, такой труднее всего получить, особенно во время войны. Я мог покинуть Россию в любое время и посетить все дружественные страны. Я имел возможность побывать в Англии, Америке, Франции. Если заключат мир, я смогу отправиться даже в Берлин, стоит только захотеть. В семнадцать лет я стал весьма значительной персоной. У меня было уже почти все, о чем я когда-то мечтал, за исключением средств на разработку моих изобретений. Я отвез Эсме в отель и, возвращаясь, продолжал размышлять. За последний месяц я пару раз писал профессору Мазневу. Вероятно, письма не дошли до Петрограда или мой наставник покинул институт. Еще несколько писем я передал через друзей, которые считали, что могут спокойно вернуться в столицу. Все равно требовалось некоторое время, прежде чем придет какой-то ответ. На телеграммы больше не следовало надеяться. Я несколько раз пытался связаться с представителями киевского технического училища, но они были слишком заняты политикой и не проявили интереса к моему делу. Один седобородый мужчина в пенсне, всем своим обликом напоминавший типичного сторонника старого режима, сказал, что у меня российская профессиональная квалификация. Если я хочу получить диплом в Киеве, то мне следует сдать экзамены еще раз, на украинском. Я с отвращением отказался. Тем временем мне сопутствовал успех. Крестьяне, рабочие, дезертиры, беженцы, деловые люди прибывали в Киев, и им требовались услуги механиков. Так что приток людей приносил мне одновременно и выгоду, и неудобства. Я понимал, что наука и техника должны были стать спасением России. Путилов, мечтательный промышленник, разделял мое мнение. Так же думал и Сталин. Нам нужны были вовсе не революции, а знамение Божье, являвшее Его одобрение науки. Столыпин считал невежество самым опасным из врагов России. И ведь мой город опозорился навеки – он стал местом убийства этого великого политического деятеля. Возможно, Столыпин был истинным посланником Божьим? Силы Антихриста, скрытые под видом полицейских, уничтожили его. Царь, как я слышал, не жалел о потере. Он думал, что Столыпин – любитель евреев. Возможно, это правда, возможно, в этом была его слабость. Он говорил, что немцы «разумно» использовали евреев в своей стране, но те внедрялись в немецкую культуру, пока не захватили ее. Они всегда будут так действовать, если дать им хотя бы малейший шанс. Немцы заняли Ригу; в Киев приезжало все больше людей. Ливония начала требовать государственного статуса; в некотором смысле победа была одержана не на русской земле, но все истинные русские считали рижское поражение ужасной трагедией. Конечно, евреев не интересовало, кто победил. Они, возможно, рассчитывали, что при немцах жизнь их улучшится. Вскоре меня должны были призвать в армию. Но я не был готов стать пушечным мясом. Я сделал множество копий письма, в котором профессор Ворсин упоминал о моем специальном дипломе. Каждая копия была четко помечена: «Дубликат». Так никто не смог бы обвинить меня в грубом подлоге. Я разослал копии, вместе с пояснительной запиской, в различные украинские учреждения, предлагая свои услуги. Моя единственная проблема состояла в том, что в письме меня называли Д. М. Хрущевым, тогда как мое новое имя было совсем другим – М. А. Пятницкий. Из-за этого мне пришлось внести одно-единственное изменение. Почерк профессора Ворсина был очень аккуратным – его легко было имитировать. После нескольких попыток я создал факсимиле, в котором повторялось все, что написал профессор, но стояла та же фамилия, что и в моем паспорте. Это может показаться мелким жульничеством. Но поймите: я просто добивался справедливости. Нет ничего дурного в том, чтоб слегка подправить баланс, когда возникает опасность потерять все, чего достиг. С помощью местного печатника я воспроизвел почтовые бланки Петроградского политехнического института, на которых разместил письмо профессора о специальном дипломе. Проделав это, я почувствовал, как развеиваются все мои сомнения. Я был уверен, что ветер скоро переменится и я получу все, что заслужил. С помощью знакомых бандитов с Подола я сделал две копии своего паспорта с фотографиями. Одна была на имя Дмитрия Митрофановича Хрущева – я мог бы использовать ее вместе с дипломом, если б в нем указали неверные сведения. Другая копия была абсолютно точной. Капитан Браун познакомил меня в киевском госпитале с британским солдатом, который собирался возвратиться домой через Архангельск. Он лишился правой ноги. Я предложил солдату неплохое вознаграждение, чтобы он захватил с собой паспорт, поместил документ в надежный сейф и оставил ключ в Лондоне, чтобы я мог его забрать. Он загадочно подмигнул, забирая у меня золотые рубли. – Не волнуйся, дружище. Я все сделаю. Солдат сказал, что, приехав в Лондон, мне следует зайти на почту на улице Св. Мартина; там я смогу забрать ключ. Я не очень доверял англичанину, но капитан Браун заверил меня, что тот был абсолютно надежным парнем. Он также согласился взять письмо, которое обещал, вернувшись домой, отправить родственникам капитана в Шотландии. Фамилия молодого солдата была Фрейзер. Он преуспел, управляя обувным магазином в Портсмуте. Я все еще задумываюсь, не начал ли он с того, что продавал свою собственную непарную обувь. В конце концов, в послевоенном Лондоне могло обнаружиться немало мужчин, которым нужны были только левые ботинки. Я вовремя принял меры. В сентябре 1917‑го, когда в Киеве стояла золотая осень, Керенский провозгласил себя главой правительства и объявил Россию республикой. Какая гордыня! Он перешел все границы, слишком увлекся собственной миссией спасения России. Он недооценил Ленина. Почти в тот самый момент, когда мы могли выиграть войну, когда нам на подмогу прибыли первые американские подразделения, Ленин и его банда стали правителями России; они готовы были заключить сепаратный мир с Германией. Это лишь подтверждало мои сомнения в стратегических способностях товарища Бронштейна. Мир был совершенно не нужен. Мы почти победили. Это было типичное большевистское решение. Они, похоже, предвосхищали и планировали хаос, который сами же и создавали. История? Люди дезертировали из армии еще до того, как их успевали отправить на фронт. Большевики заявляли, что это было частью их замысла. Позднее, очень скоро, они запели по-другому. Большая часть населения восстала против них. Им пришлось создать ЧК и Красную армию, чтобы запугивать людей, которых они, по их словам, спасли. В день первого важного танкового сражения в Камбре наша Украинская Рада объявила весь регион республикой[117]. В одно мгновение мы перестали быть российскими гражданами. По крайней мере, мы больше не подчинялись большевистскому безумию. Хотя мои связи с Петроградом были почти полностью прерваны, я почувствовал, что мы получили передышку. У нас все еще сохранялась свободная экономическая система, которая позволяла мне работать и копить средства. Снег засыпал Киев. Река начала замерзать. Перемирие практически было заключено. Большевики официально подписали его. Это не означало немедленного окончания войны. И состояние простых людей нисколько не улучшилось. Такие бумажные соглашения редко дают результат; но солдаты вернулись домой, а вместе с ними – Эсме. Думаю, город согревался в ту зиму волнением огромных толп, телами, прижимавшимися друг к другу на площадях, горячим воздухом, вырывавшимся из каждого рта. Эсме отказалась оставаться в гостинице. Я позволил ей жить с моей матерью, а сам отправился в «Европейскую», где было полно делегатов всех мастей; рассчитывать на спокойный отдых не приходилось. В конце концов я переехал в более дорогой «Савой». Но и здесь меня настигли политиканы. Через пару недель я вернулся к Ульянскому. Теперь это место именовалось не «Арсоном», а «Кубом»; это слово меньше всего подходило для характеристики ветхого здания, казалось целиком состоявшего из имитаций готических башенок и кремлевских куполов. Однако смесь архитектурных стилей снаружи была не такой гремучей, как смесь художественных стилей внутри. Акмеисты, футуристы, конструктивисты, кубисты; поэты, музыканты, художники и журналисты пили не меньше политических деятелей и так же много болтали. Они, конечно, и развратничали ничуть не меньше, а то и больше; но по крайней мере не трогали окружающих. Я на всю жизнь насмотрелся на кокарды и мундиры, проведя несколько недель в гостиницах на Крещатике. «Куб» стоял неподалеку от Château des Fleurs, поблизости от городских садов. Château (сад удовольствия и театр) сгорел перед войной во время большого пожара; так исчез один из конкурентов лондонского «Хрустального дворца». Попав в «Куб», я как будто вернулся в Петроград, в добрые старые времена. У меня был маленький отдельный номер на верхнем этаже; из окон открывался вид назаснеженные парки, голые деревья и на Днепр. Я по-прежнему работал механиком. Инструменты и комбинезон хранились у матери. Эсме успокоилась, увидев, что я занят честным трудом. Она продолжала ухаживать за больными, работала в Александровской больнице, недалеко от моей гостиницы. Иногда мне удавалось подвезти ее в экипаже. Когда извозчиков стало совсем мало, мы вместе ездили на трамвае. Когда пропали горючие и смазочные материалы, мои клиенты на Подоле начали закрывать свои фабрики или осваивать более примитивные методы производства. Я вскоре очутился в положении врача, все пациенты которого умерли, так что решил ввязаться в большую игру. Возможность представилась почти тотчас же. Крупные инженерные фирмы, склады с частными генераторами, больницы и общественные учреждения – все нуждались в моих услугах. Это мне нравилось гораздо больше, чем прежняя работа. Постепенно я стал специалистом по диагностике и сам практически не занимался физической работой. В те дни в Киеве были и другие внештатные инженеры: люди, уволенные из армии по инвалидности или получившие досрочное освобождение. Мои знания о сложных машинах поначалу были почти исключительно теоретическими. Потребовалось немного времени, чтобы набраться опыта, хотя иногда это происходило за счет клиента. Скоро я обменял свой комбинезон и инструменты на солидный темно-серый костюм, серую фетровую шляпу и серое пальто с лисьим воротником. Я, вероятно, казался забавным и слишком юным в этом прекрасном наряде, но знал свое дело и мог внушить доверие тем, кто нуждался в помощи. Иногда выяснялось, что механизм был в полном порядке. Люди, которые им управляли, просто пали духом. Я мог все исправить несколькими таинственными движениями и знаками. Я рассказал матери, что преуспел. Она спросила, не зашел ли я слишком далеко и слишком быстро. Но я брал все, что мог, и тогда, когда мог. Никто не знал, сколько продержится наша Республика. И большевики, и немцы стремились захватить украинское зерно и полезные ископаемые. Я устроил для матери лучший праздник в ее жизни. Мы обедали в сочельник в кабинете прекрасного ресторана, я сумел уговорить ее выпить пару бокалов шампанского. Она пришла в восторг. Официанты относились к ней как к королеве. Эсме и капитан Браун пели рождественские песни, и мы обменивались подарками. Все было изумительно. Я никогда не думал, что в чем-то виноват перед матерью. Как только появилась возможность, я сумел возместить ей все перенесенные страдания. В тот вечер она испытала райское блаженство. Когда мы выпили, я изложил всем свой самый важный план. Я собирался начать настоящее дело. Я буду не просто консультантом, а руководителем целой инженерной фирмы. – Неважно, что случится в Киеве в будущем, – говорил я, – несомненно, спрос на наши услуги сохранится. Мы будем проектировать новые фабрики, строить машины, давать полезные советы. Если Украина преуспеет, то и мы преуспеем очень скоро. Если она окажется в беде – мы поможем ей выпутаться. Моя мать, казалось, была очень удивлена. Ее лицо омрачилось: – И как ты это назовешь? – «Всеукраинские инженеры-консультанты», – ответил я, – это звучит неплохо. Она примирилась с моим замыслом. Эсме улыбнулась, как будто я сумел сделать удачный ход, требующий и хладнокровия, и ума. – И под какой фамилией ты будешь работать? – спросила она. – Пока, временно, – Пятницкий. – Твой отец… – начала было мать. Но потом просто кивнула: – Так лучше. Ты же будешь осторожен? – Времена изменились, – сказал я. – И я изменился вместе с ними. Я был рожден для этих времен. – У тебя неплохие перспективы на будущее, – пробормотал капитан Браун, поднимая бокал шампанского, и провозгласил тост: – С Новым годом тебя! Мать заплакала. В то же время Эсме засмеялась. Это выглядело странно. Я не знал, как реагировать. Наконец попытался успокоить мать: – Почему ты плачешь? – От счастья, – сказала она.Глава десятая
Большевики распродали Россию по частям, и Украина снова стала республикой. Я оказался в тюрьме, куда красные, по причинам, известным только им, заключили меня. Рада не сочла возможным меня освободить. А ведь я ничего не сделал. В конце концов мне удалось обратиться в тайную полицию гетмана Павла Скоропадского и помочь установить подлинных нарушителей спокойствия. После этого я оказался на свободе. Переходя мост, я увидел своего спасителя, возглавлявшего военный парад. Скоропадский выглядел настоящим казаком на английском жеребце, в белом пальто, белой шапке, шароварах, роскошных красных сапогах, с саблей с серебряной рукояткой. Немцы верили, что он знал, какие настроения царят на Украине. Он бесконечно превосходил социалистов и анархистов. Скоропадскому было под силу поддерживать порядок в Киеве с помощью немецких союзников и удерживать в сельских районах бандитов, убивавших уланов так же легко, как вартовцев[118]. Его Светлость Ясновельможный Пан Гетман Всея Украины, как его называли в официальных обращениях, был вдвое глупее и хвастливее Муссолини, но носил густые казачьи усы и брил голову на старый запорожский манер. Он заставил нас вспомнить о том, за что сражались казаки; был самоуверен и храбр. Единственное, что мне в нем не нравилось, – это очевидное желание уничтожить все признаки современного мира. Три ужасных недели большевистской оккупации лишили меня большинства деловых связей. Множество людей погибло. Но немцы хотели, чтобы наши фабрики продолжали работать. Скоропадский не мог этого игнорировать. Было очевидно, что гетман испытывал сентиментальную склонность к театральным действам; он постоянно устраивал военные парады, во время которых его «свободные казаки», в основном завербованные из городского отребья и не имеющие отношения к славянскому племени, не то что к казачеству, маршировали вместе с австро-венгерскими, немецкими и галицийскими солдатами в серо-синих мундирах. Эти парады заменили уличные митинги, запрещенные новой властью. Я легко сблизился с немцами, которые были в основном практичными и доброжелательными людьми. Крестьяне – вот главная причина всех наших тогдашних бедствий. Немцам обещали зерно. Но осторожные украинцы сопротивлялись нашим попыткам отобрать урожай. Они научились прятать целые поля, целые стада так же легко, как раньше прятали золото и иконы. Немецкие отряды по официальным приказам гетмана Скоропадского обыскивали сараи и дома и не находили ровным счетом ничего. Когда солдаты прибегали к угрозам, крестьяне сбивали их с толку, демонстрировали свою бедность, утверждали, что махновцы, григорьевцы и прочие бандиты уже все отобрали. Поверить в это было легко. Махно, в частности, при нападениях демонстрировал изобретательность – носился под черным знаменем анархии и, казалось, появлялся и исчезал быстрее, чем скорый поезд. Его любимой уловкой было переодеться вартовцем, заявить, что преследует самого себя, войти в гарнизон варты и перестрелять там всех. Многим он уже казался Робин Гудом или Джесси Джеймсом[119], и о его смелых деяниях ходили легенды. Газетам запрещалось восхвалять Махно, народные герои были тогда Украине не нужны. Нужны были порядок, транспорт и связь. В Киеве, по крайней мере, теперь установилось подобие законной власти. Немецкие коммерсанты начали приезжать в город по делам. Я мог обсуждать мою новую компанию и ее будущую деятельность. Было важно увеличить производство для экспорта и домашнего потребления. Я упоминал новые британские и американские машины, которые, вероятно, превзойдут все те, что были у нас раньше. Я обсуждал проекты новых заводов, генераторов, технологического оборудования. Это впечатляло дальновидных немцев. Они и сами тогда подвергались сильному давлению. Многие из них доверительно сообщали, что Германия не могла выиграть войну. Было совершенно необходимо восстановить страну как можно быстрее, чтобы она не попала в руки социалистов. Они предложили мне подумать над тем, чтобы создать отделение моей фирмы в Берлине. Чем раньше наши страны вернутся в нормальное состояние, тем скорее будут уничтожены красные. С помощью деловых партнеров я завел знакомства в среде высокопоставленных чиновников; благодаря этому я смог познакомиться с элитой киевского общества. Теперь на вопрос, как меня зовут, я автоматически отвечал: Пятницкий; я родился в Царицыне, моя семья была убита крестьянами в 1905 году, меня растили родственники в Киеве, Одессе и Петербурге. Это, конечно, в основных чертах было истинной правдой. Если бы я упомянул наш убогий пригород в беседе со сливками общества, передо мной закрылись бы многие двери. Семейство моей матери, конечно, было достаточно почтенным, так что я от природы приобрел способность на равных общаться с самыми уважаемыми людьми. Многие благородные киевляне завидовали моим петербургским манерам. Они даже пытались подражать мне. Очень часто люди копировали мои жесты или повторяли мои высказывания. Я подумывал добавить к своему имени титул «князь», но счел это неуместным; следовало принимать в расчет нестабильную политическую ситуацию. Я продолжал встречаться со своими подругами в «Кубе», но жить вернулся в «Европейскую», где останавливались многие из моих немецких знакомых. Я предпочитал классическую элегантность серебра и золота, большие яркие зеркала, бархат и хрусталь, элегантно одетых официантов и чистые белые простыни. Все это вернулось, как только исчезли большевистские мясники. Немцы ценили эти удобства, как и вновь прибывшие русские эмигранты. Киев вновь стал многолюдным городом, но теперь, по крайней мере, его населяли люди высшего уровня: люди с деньгами, здравым смыслом и конкретными представлениями о том, как противостоять большевизму. Фабриканты из Петрограда и Москвы всегда выступали за ускорение индустриализации. Они предвидели революцию и обвиняли царя в близорукости. Они говорили, что социалистический эксперимент продлится столько же, сколько Содружество наций Кромвеля[120]. Это будет дурное время, время разрушения и нетерпимости. Кромвель убил короля, разорил церковь, разрушил храмы, но короли, церковь и храмы сохранились в Англии до сих пор. Это был сильный, обнадеживающий довод, но он оказался ошибочным. Теперь я знаю, что единственное спасение мира, перефразируя Ленина, – Бог плюс электричество. Моя мать считала перемены тревожными. Когда большевики захватили город, над домами взвились красные флаги, а я очутился в тюрьме, она казалась веселой и довольной. Каждую превратность судьбы она встречала шутками. Мы с Эсме поражались ее храбрости. Матушка не пустила красных к себе в дом. Она добилась того, что ей выделили дополнительный паек, стала личной прачкой комиссара ЧК, знала многих мелких большевиков по именам, превозносила товарища Ленина до небес, небрежно упоминала Зиновьева и Радека[121], как будто они были ее старыми друзьями. Она почти наверняка отсрочила мою казнь и таким образом спасла мне жизнь. Но напряжение в итоге не могло не сказаться. Когда большевики отступили, мать вновь начала страдать от прежней болезни бронхов и слегла. К тому времени, когда к власти пришел гетман, она все еще кашляла, но настояла на том, что должна вернуться к работе. От нее вновь запахло нюхательной солью и карболовым мылом. Квартира вернулась в прежнее безупречно чистое состояние. Она продолжала извиняться за свой эгоизм, говорила, будто была мне плохой матерью и виновата в том, что я вырос без отца. – Мне не следовало бежать с ним из дома, – говорила она. – Он не подходил мне, а я не подходила ему. Мы никогда не могли ужиться вместе. Но ведь целых десять лет… И эти годы не были совсем уж дурными. Мне трудно было следить за ее мыслями. Она слишком уставала. Мать взволновали новые погромы на Подоле. Я уверил ее, что пожары не распространятся на весь город. Потом она сказала, что боится, как бы меня не призвали в армию гетмана. Я вновь успокоил ее. Мои друзья могли обо мне позаботиться. – Ты никогда не причинял никаких неприятностей, – сказала она мне однажды вечером за ужином. – Все так говорили. Все завидовали мне: «Он так хорош! Как вы этого добились?» Ты всегда был хорошим. С самого детства. Ты слишком мягкосердечен, Максим. Не позволяй женщинам причинять тебе боль. – Не позволю, мама. Мне только восемнадцать… Она улыбнулась: – Девушки любят тебя, а? Эсме! Он нравится девушкам? – Должен нравиться, – сказала Эсме. – Он настоящий денди. – Помнишь, как ты спал здесь рядом с Эсме? Ты – на печи, а Эсме – в своей комнате? – Она заволновалась. – Разве нам не было хорошо вместе? Я не помнил подробностей, но признаться в этом не мог. – Нам было очень хорошо, – произнес я. А потом уехал по делам. Было все еще светло, когда я повернул за угол на Кирилловскую и начал спускаться с холма к городу. В летнем вечернем воздухе было что-то расслабляющее и в то же время неспокойное. Дымилось слишком мало фабричных труб. Множество мелких предприятий окончательно закрылось. Темный густой дым поднимался над Подолом. Уличные звуки были приглушенными, и все-таки я расслышал сирену речного судна так ясно, как будто она загудела всего в нескольких футах от меня. Золотые и зеленые купола далеких церквей сияли тусклым, таинственным светом; желтый кирпич, казалось, излучал жар; и запах травы, деревьев и цветов из лесистых ущелий смешивался с ароматами дыма, нефти и тем едва уловимым запахом кожи, который всегда указывает на присутствие многочисленной армии. Еще я чувствовал, как пахло лошадьми. Казалось, будто город и деревня встретились и обрели почти совершенную гармонию. Я хотел остановиться, надеясь, что придет трамвай, но знал, что могу стать легкой добычей для бандитов, засевших в отдаленных парках. Я машинально осмотрел набережную. Лишь вечерний туман висел над оградами. Спускаясь с холма в город, я испытал ощущение того, что вот-вот Бог исполнит все обещания. До сих пор меня удивляет: почему же мы потерпели неудачу? Ведь церкви, и православная, и католическая, никогда не были так переполнены, с утра до ночи, как в то смутное лето. Я вернулся к себе в гостиницу, чтобы насладиться обедом с прусским майором, австрийским полковником, украинским банкиром и двумя эмигрантами, недавно прибывшими из Вологды, где, по их словам, любого, кто знал больше двухсот слов, сразу хватали и расстреливали чекисты. Я слышал истории о том, как большевики задерживали чиновников из правительства, раздевали донага и вырезали у них на теле все знаки отличия, прежде чем убить несчастных. Дни французской революции, дни Коммуны оказались ерундой по сравнению с долгими годами большевистского террора. И что нам следовало противопоставить ему? Гуманизм? Религию? Все, что у нас было, – это жухлость, то унылое, полумертвое состояние духа, в котором все пребывали в течение зимы, когда ничто не имело смысла и оставалось только надеяться, что удастся дожить до весны. В те дни привычных военных действий не совершалось; сама военная система разладилась. Вот так, постепенно, и началась наша Гражданская война. На северо-востоке были чехи, японцы, русские белогвардейцы, немногочисленные американцы и англичане. Финны, латыши, литовцы, балтийские немцы, поляки, французы, греки, итальянцы, румыны и сербы – все где-то сражались. Лишь немногие из этих отрядов, несмотря на то что все они объединились против немцев, могли согласовать стратегию и выработать общие цели. Из-за китайской границы даже совершались набеги смешанных отрядов, состоявших из китайцев и изменников-казаков; они занимались грабежом и мародерством всюду, где было возможно. Все это напоминало Средневековье, только куда более страшное. Танки, пулеметы, самолеты и бронепоезда попали в распоряжение порочных, необразованных варваров. В Америке считалось преступлением продавать оружие индейцам, но это было лишь мелким проступком по сравнению с тем, что сделали британцы, вручившие оружие татарским племенам. Это напоминает сегодняшнюю Африку, где гранаты и ракетные установки приходят на смену дубинкам и копьям. Малая война с немногочисленными жертвами перерастает во всеобщую войну, во время которой погибают тысячи граждан. Мы вступаем в Средние века, насвистывая «Красный флаг»[122], как будто это песенка из мюзикла. Лишь немногие останавливаются, выкрикивая предостережения. Но скоро и они сгинут в черном водовороте. На сей раз не останется никакого спасения, никаких маленьких островных монастырей, где могло бы процветать просвещение. Весь мир будет завоеван во имя Сиона и Мао. И все же мы должны сопротивляться. Если это – испытание, мы либо преодолеем его, либо Бог навеки покинет нас. Иногда я боюсь, что Он уже оставил эту планету на произвол судьбы; и есть другая планета, в далекой галактике, которая оказалась более достойным местом; там по-прежнему существует Рай. В течение нескольких недель мать посылала мне записки, в которых извинялась за беспокойство, просила не навещать ее и требовала, чтобы я заботился о себе и был осторожен. Ее письма доставлялись разными способами, часто их оставляла в гостинице Эсме по дороге на работу. Иногда она тоже передавала сообщения, настаивая, чтобы я оставался в стороне «ради собственной пользы и пользы матери». Моя бедная матушка страдала от истерического истощения. Она скоро поправилась. Но я все-таки чувствовал себя чрезвычайно неловко. Мои дни и вечера были заняты тем, что я давал людям советы по поводу установки, обслуживания или ремонта машин. За эти услуги мне платили самыми разными способами – иногда наличными, иногда акциями или облигациями. Я мог инвестировать деньги во Франции, Швейцарии, Англии и, конечно, в Германии. Даже не имея конторы, ведя все дела в гостинице, я становился состоятельным человеком. Я знал, что это не могло длиться вечно. Я все еще не получил серьезной поддержки моих основных проектов. Политический климат оставался слишком сомнительным для всех, кто мог бы заняться серьезными инвестициями в Украину. Не следовало забывать о погромах в Киеве и в отдаленных областях. Это тревожило немецких финансистов. У многих из них были серьезные связи в еврейском мире – с еврейскими хозяевами, перед которыми они несли ответственность. Я обдумывал путешествие в Берлин, но здоровье матери помешало мне принять окончательное решение. Когда вечера стали темнее и холоднее, до нас начали доноситься слухи о тяжелых поражениях немцев, о революционной деятельности, похожей на ту, с которой начинались восстания в Петрограде. Стало очевидно, что мои немецкие знакомые задумывались, смогут ли они благополучно вернуться в страну, которую покинули. Тем временем атаман Петлюра собирал силы. К его казачьей коннице и сечевым стрельцам присоединились различные нерегулярные части. Похоже, его войска были более многочисленными и надежными, чем войска Скоропадского. Немцы решили, что поддерживали не того человека. Гетману следовало хотя бы притвориться, что он собирается удовлетворить требования крестьян, но он был слишком благороден и бездействовал – лишь повиновался велениям собственной совести и воле Божией. И вот он пал. В Киеве наступила зима, уничтожившая все мои надежды. Почти внезапно уехали мои немецкие партнеры, контакты с правительством гетмана остались в прошлом, и политики снова изгнали меня из «Европейской». Линия Гинденбурга[123] была прорвана. Немецкий канцлер предложил принять план перемирия, составленный американцами. Британцы отказались от этого предложения. Они жаждали крови. К ноябрю советские коммунисты появились в Баварии, революция вспыхнула в самом Берлине. Кайзер отрекся. Макс Баденский[124], канцлер, уступил свой пост социалисту. Германия стала республикой и больше не связывалась с большевиками. Появились новые карты с новыми границами. Мы отдали наши крымские территории татарам. Несмотря на соглашение, подписанное с донскими и кубанскими казаками, мы не получили реальной поддержки в борьбе против социалистов. Как раз накануне Рождества 1918 года Петлюра вернулся, пообещав Украине безопасное будущее. Не только русские находили его позицию крайне опасной; многие украинцы считали, что было бы гораздо мудрее отказаться от борьбы. Половина промышленников исчезла. Во время праздников я вновь отдыхал в кругу семьи в хорошей гостинице; я снова говорил о планах развития своего инженерного дела. Но оказалось, я достиг совсем немногого – разве что заработал денег; впрочем, большую их часть я, вероятно, никогда не смогу получить. Даже моя работа, скорее всего, будет остановлена социалистами. И у меня так и не было специального диплома. Я не мог сделать приличной карьеры. В тот момент на Украине практически не осталось промышленности. Я не мог читать большинство газет, потому что они внезапно стали печататься на чужом языке. Мне было трудно заполнять самые простые документы. Меня оскорбляли, если в трамвае я обращался к кондуктору не на украинском. Я снова стал человеком второго сорта. Я думал переехать в Одессу, откуда по крайней мере можно было уплыть на корабле. Но следовало обождать хотя бы некоторое время, пока власть зеленых установится. Я вернулся в квартиру матери. Она снова стала веселой и здоровой. Это меня успокоило, но ее причуды и сейчас остаются для меня загадкой. Эсме продолжала работать в госпитале – уже при третьем режиме. Она стала очень нервной, теперь настала ее очередь страдать от переутомления. Моя мать с невообразимым упорством занималась изучением украинского, обращаясь к скверно отпечатанным книгам. Появились новые школы и университеты. Везде, конечно, преподавали на украинском. У меня больше не было ни единого шанса стать преподавателем. Я ни разу не получил ответа на свои обращения, хотя и мои друзья, и деловые партнеры признавали, что я добился блестящих успехов в Петрограде. Следует сознаться, что это иногда помогало. В те дни меня часто называли доктором и даже – неоднократно – профессором. Это немного успокаивало и казалось вполне безвредным. Когда я получу специальный диплом, смогу наконец получить и докторскую степень в любом достойном заведении. Не подумайте, что я предъявлял такие уж большие претензии. Но жизнь зачастую очень трудна, и глупо тратить энергию на разрушение иллюзий, так необходимых людям. Эсме иногда разговаривала снисходительно, раздражалась и иронизировала, когда я обсуждал планы на будущее, – несомненно, из-за переутомления. С другой стороны, мать иногда называла меня доктором только ради того, чтобы услышать это обращение. К примеру, она останавливалась на лестнице и говорила: – Ну что ж, доктор, вот пришел наш старый друг капитан Браун. Капитан слабел с каждым днем. Его лицо покрылось пятнами, а руки тряслись, как у заправского алкоголика. Его тяга к спиртному усилилась. Иногда мне хотелось его остановить. Но Эсме говорила: «Ради чего еще ему жить?» Возразить мне было нечего. Истории капитана становились все более запутанными, несмотря на то, что рассказывались уже не раз. Его сбивало с толку то, что он называл фальшивым языком с его фальшивым правительством, фальшивыми деньгами и фальшивой историей. Мы успокаивали его, когда он выражал подобные чувства по-русски. Но это было неважно, если он рассуждал по-английски, как чаще всего случалось в последние дни. Эсме немного научилась английскому от меня, но недостаточно, чтобы ясно понимать капитана. Однажды она сказала мне, что его нашли на Бессарабском рынке, где он подошел к одному из сечевиков Петлюры и спросил, из какого цирка тот сбежал. Он говорил сначала по-английски, потом по-французски, по-немецки, по-русски и затем, кажется, по-польски. Солдат или не понял его, или решил не придавать значения этим словам. Какие-то знакомые привели капитана домой. Я и сам побывал на Бессарабке. Кокаина там оказалось много, и он был дешевым, хотя и не слишком хорошего качества. Я сделал запасы на черный день – или на дождливый, как говорят в Англии. Рынок быстро развивался, старые семейные реликвии продавались и покупались за пару chag[125]. Chags и karvovantsis – так именовались новые деньги. Банкноты подделывались без труда, никто не проверял их, разве что в почтовой конторе. Инфляция была просто нелепой. Но, по крайней мере ненадолго, проститутки стали моложе и симпатичнее, мне даже довелось встретить пару девственниц. Я снова готов был наслаждаться всеми удовольствиями, пока есть возможность. Если бы только все казаки и люди, ратующие за их свободу, сумели действовать вместе, единой армией, мы бы легко загнали красных обратно в Москву, их нынешнюю столицу. Троцкий, Ленин, Сталин и остальные закончили бы свои дни ворчливыми старыми эмигрантами. Настоящие гуманисты поддержали бы российский Ренессанс. Наша страна стала бы величайшим центром искусства и науки, какого мир не знал со времен Италии Медичи. Все так говорят. Подумайте… Кто изгнал Сикорского? Большевики. Кто изгнал Прокофьева? Большевики. Я помню двадцатые, эти годы поющих сирен. Красные пытались заманить обратно художников, ученых и интеллигентов. Сладкие голоса обманули многих. Они возвратились: Горький, Алексей Толстой, Замятин и прочие; почти все они были мертвы к концу тридцатых. Вот как большевики ценили русские таланты. Когда пришли нацисты, Сталин вынужден был выпустить голодных, несчастных бывших героев Красной армии, чтобы вести войну. Нет, это не имело значения. Войну вел Сталин. Ему повезло с миром, как кто-то сказал о Гитлере. Это была война нескольких психопатов, наделенных особым талантом становиться всем для множества людей. Война погубила впустую миллионы жизней и привела лишь к ничтожному изменению границ. Лучше было бы запереть где-нибудь этих вождей с картами и игрушечными солдатиками – так они не причинили бы никакого вреда. Именно такой совет дал одному моему другу Герберт Уэллс. Моя мать процветала при Петлюре – ее дела шли даже лучше, чем при большевиках. Я никак не могу это объяснить. По общему мнению, жизнь в отдаленных предместьях стала спокойнее. На Подоле больше не было пожаров. Матушку беспокоила любая жестокость. Когда люди выражали свою неприязнь к евреям, она огорчалась и отказывалась участвовать в этом. Обычные беседы были достаточно безопасны. Но мать говорила, что Бог создал роли для каждого из нас. Дело не в расе и не в религии, гораздо важнее простые роли – мужчины или женщины. Так что я вырос в более терпимой атмосфере, чем большинство киевских детей. Это помогало мне понимать людей, любить их, позволяло без малейших неудобств общаться с самыми разными личностями, черными или белыми, богатыми или бедными. Когда мы услышали, что французские зуавы заняли Одессу вместе с отрядами Деникина, что город колонизирован черными, как выражались газетчики, всех нас это испугало. Но мать обратила все в шутку. – Как это прекрасно, – сказала она, – увидеть на Украине необычный цвет! Я начал понимать, что объединяло ее с отцом. Она была наделена широтой души, человечностью и верой в красоту мира, в природное стремление людей помогать друг другу. Отец разделял ее идеалы, но чувствовал, что его предали те, кого он пытался спасти. Люди были гораздо сложнее и в то же время гораздо проще, чем ему хотелось. Социалистическая Утопия не могла появиться посреди чистого поля за одну ночь. Отец начал сражаться с теми, кого винил в разрушении его надежд. Все очень просто – моя мать была зрелой, как все женщины, она видела, что самый верный способ сделать мир лучше – вести хорошую, чистую, простую жизнь. Революционеры неизменно пытаются упростить деятельность человеческого сердца. Наша планета полна щедрых, душевных, добрых и разумных женщин, которые поддерживают одержимых, нелепых дураков – таких, как мой отец. Все, что было предано, – это его собственная человеческая природа. Как долго женщина может прожить с ревнивым мужчиной? Вот простой вопрос, ответ на который, думаю, теснейшим образом связан с моей историей. Во время правления Директории[126] жить стало относительно легче. Я снова начал заводить связи. Многие из новых политических деятелей сочувствовали моим проектам механизации и индустриализации. – Мы должны использовать богатства Украины! – говорили они. – Должны стать сильными и независимыми! Так что я на некоторое время стал националистом и излагал свои теории, представляя интересы региона, а не страны. К счастью, у меня уже были фирменные бланки и визитки с надписью: ВСЕУКРАИНСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ-КОНСУЛЬ ТАНТЫ Управляющий директор, доктор М. А. Пятницкий У меня был обширный круг знакомств, а гостиница «Европейская», ставшая чем-то вроде штаба для прихвостней Петлюры, оказалась просто идеальным местом. Я въехал в свой прежний номер и начал развлекаться, как и прежде. Инфляция, отступление немцев, недоверие российских и украинских инвесторов к реформам – все это означало, что мне вновь следовало позаботиться об увеличении доходов. Все получалось довольно просто. Я обзавелся связями по всему городу. Но очень раздражало, например, служить курьером для какого-то человека, не желавшего, чтобы о его пристрастии к кокаину узнали окружающие; или доставать девочек для министерских чиновников, скрывающихся от своих жен; или работать посредником хозяина фабрики, которому нужны какие-то срочно отпечатанные бумаги… Однако подобные занятия помогали мне жить на широкую ногу и общаться с друзьями. Я стал своего рода химическим веществом, катализатором. Многие из наилучших инициатив правительства Петлюры были прямо или косвенно связаны с моими действиями и проектами. Теперь меня не отвлекали постоянные советы матери. Однако Эсме в свободное время мне очень помогала. Привлекательная внешность и превосходный вкус позволили ей стать идеальной хозяйкой на моих особых вечерах. Все гости говорили комплименты в адрес мадам Пятницкой, если полагали, что мы женаты, а в противном случае хвалили мою подругу или кузину. Близким людям я сообщил, что она моя единокровная сестра. Думаю, что в духовном смысле она и впрямь была моей сестрой. Так что я никого не обманывал, говоря о кровном родстве. Да и кровь наша достаточно часто смешивалась во время ребяческих игр. Эсме находила удовольствие в том, что называла моими выходками. Она предоставляла в мое распоряжение свою энергию и фантазию, но всегда настаивала, что ее мир, мир снаружи был реальным. Все дело в том, что, работая сиделкой, она видела болезни, голод и физические страдания. Банды бездомных детей, bezhprizorni, становились серьезной проблемой. Они были бесстрашными и злобными – как голодные псы. Калек и раненых на улицах было не счесть. Нищим официально раздавали пожертвования, но их было слишком много, система с ними не справлялась. Требовалась сильная полиция. Гайдамаки-милиционеры были склонны или к внезапной ярости, или к абсолютной лени, когда речь шла о защите закона. Были попытки снова принять на службу прежних полицейских, но безуспешно. Со временем Петлюра мог бы изменить и улучшить условия жизни и даже избавиться от бремени национализма. Он не испытывал ненависти к России, по его словам. Он ненавидел орудия порабощения. Он также, насколько мне известно, ненавидел и православную церковь. Петлюра вырос католиком, подобно многим другим украинцам, и здесь крылось важнейшее разногласие, о котором мало кто упоминал. Мы стали свидетелями скрытой религиозной войны. Один из моих друзей-петлюровцев выразил это лучше всего, пошутив над собой: – Некоторые говорят, что иезуит – всего лишь еврей, который случайно родился христианином. Вот в чем было дело. Многие старые большевики, да и новые тоже, в сегодняшней партии сохраняют тайную связь с церковью, которую не осмеливаются признать. Насколько было бы лучше для нас всех, если б они сказали правду. Тогда в Россию вернулось бы хоть какое-то здравомыслие. На наших глазах возрождалось древнее соперничество римской империи Запада и греческой империи Востока. Киев повидал многих императоров, приходящих и уходящих так же быстро, как императоры в Риме или Константинополе накануне падения империй. Как говорила моя мать, когда была в хорошем настроении: «По крайней мере, под властью русских или татар люди успевали привыкнуть к своим правителям. А теперь непонятно, какого вождя приветствуешь». Однако ей нравился Петлюра, его белый конь и разряженные гайдамаки с их мешковатыми брюками, странными мундирами и чубами. Гайдамаки спасли Украину от польского гнета в восемнадцатом столетии. Они стали еще одним напоминанием о прошлом накануне желанного будущего. Середина всегда привлекательнее крайностей. Прошлое всегда ближе и понятнее будущего. Прошлое – полезная метафора, но оно же – ужасный прецедент. Мать надеялась, что прачечная будет национализирована. Став просто управляющей, она оказалась бы в безопасности и при этом избавилась от ответственности. Представление Петлюры о социализме, по ее словам, было вполне приличным. Он нуждался в советах еще уцелевших деловых людей. Я снова стал значительным лицом. Я всех знал. Меня приглашали на различные встречи высокого уровня, называли доктором Пятницким и считали ученым-вундеркиндом. Мне позволяли рассуждать о перспективах украинских монорельсовых дорог, украинских гражданских авиалиний, украинских общедоступных городских садов. Мои идеи больше не казались людям фантастическими, ведь следовало использовать потенциал всей Украины. Я упоминал об особых кинотеатрах, образовательных центрах, воздушных сторожевых кораблях, которые могли защитить наши границы от большевистской агрессии. Скоро в Киеве снова будут собираться величайшие российские гении, говорил я. Киев мог стать столицей новой Российской империи, которую я дипломатично называл расширенным Украинским государством. Я рассказывал о своих мечтах и помогал мечтать другим. Это был мой дар. Я предложил его правительству, и наконец оно пожелало его принять. Я не занимал никакого официального положения. Я считал, что глупо на это соглашаться. Мне только что исполнилось девятнадцать лет. Наконец я отыскал подходящую аудиторию для самых сложных идей, вроде моей машины невидимых лучей. Я не позволял себе никаких чрезмерных требований. Подобные механизмы могли, однако, создать защитное кольцо («железное кольцо света», как сказал кто-то) вокруг города и сделать его почти неуязвимым. Эта идея предвосхищала недавние военные изобретения американцев. Нам срочно требовалась помощь. Поляки нападали с запада, белые – с юга, красные – с севера. Румыны вторглись в Бессарабию. Французские и греческие отряды высадились в Одессе. Многие казачьи и псевдоказачьи вожди, atатапу, и бандиты-анархисты вроде Махно переходили на сторону противника почти так же быстро, как и регулярные части; многие до сих пор все еще поддерживали Скоропадского. Атаман Григорьев выступил против Директории и присоединился к большевикам. Он собрал большую толпу так называемой повстанческой конницы; все до одного были грабителями и погромщиками. Мы в Киеве не верили ни единому слуху. Если нам говорили, что большевики захватили левый берег Днепра, мы просто прислушивались. Если не слышали сильной артиллерийской канонады или ружейных залпов, все продолжали заниматься своими делами. Тогда казалось возможным, что Петлюра вообще прогонит большевиков из России. А потом он устроил фарс с украинизацией церкви. Внезапно православные службы перевели на украинский, и многих церковных интеллигентов разогнали или даже убили прихожане только за то, что они высказывали непреложную истину: нет такой вещи, как Украинская церковь, с тех пор как вся церковь была подчинена патриарху Константинопольскому. Националистическое помешательство усиливалось. Оно и уничтожило мою родину, место рождения русской культуры.Глава одиннадцатая
Однажды вечером в середине января 1919 года меня пригласили на обед в гостиницу «Савой», где собирались промышленники, ученые и политики. Мне сообщили, что встреча будет иметь большое значение. Мое присутствие считали абсолютно необходимым. Я приехал в гостиницу, нарядившись в свой лучший костюм, надел лисью шубу, шляпу, перчатки и теплые галоши, в руке держал неизменную трость. Все это я оставил в гардеробе. Управляющий извинился за то, что подъемник временно не работал. В темном костюме-тройке, с классическим воротничком и галстуком, я поднялся по широкой лестнице на второй этаж и остановился у огромной двери, которая, судя по всему, вела в танцевальный зал. Меня сопровождал слуга в униформе. Я оказался в настоящем номере класса люкс. По сравнению с ним мой маленький номер в «Европейской» выглядел просто постыдно. Я прошел по короткому коридору, стены и потолок которого были полностью зеркальными. Слуга отодвинул зеленый занавес, открывая мне проход в общую гостиную, в которой обилие хрусталя и позолоты напоминало о былых временах. В комнате находились несколько мужчин, куривших сигары. Некоторые были в смокингах, некоторые – в военной форме. Кто-то из гостей оказался одет примерно так же, как и я, – в сшитые на заказ костюмы свободного покроя. Меня приветствовал журналист Еланский, кроткий с виду человек в очках и с козлиной бородкой. Его все считали сторонником большевиков и террористом. Мы познакомились в «Кубе», где меня принимали за социалиста только потому, что я постоянно отмалчивался и сохранял спокойствие. Еланский представил меня множеству мужчин, имена которых я уже не раз слышал. Они пожимали мне руку и благодарили за то, что я нашел время с ними встретиться. Эти люди, очевидно, считали меня важной персоной, но я не очень понимал, в чем заключается моя важность. Вскоре после моего появления зеленый занавес раздвинулся, и в гостиную вошел наш самопровозглашенный Верховный главнокомандующий, Симон Петлюра. Он был ниже ростом, чем я предполагал; я еще отметил розовую, гладкую кожу, считавшуюся признаком типичного украинца, маленькие усики и привычку на птичий манер шевелить пальцами во время разговора. Он был одет в зеленую с золотом форму. Я, приветствуя, назвал его «паном»; это обращение использовали только на Украине и в Польше. Он, улыбаясь, сказал, что предпочитает именоваться товарищем Петлюрой, так как это позволяет ему вести себя свободнее, чувствовать, что он среди друзей. Он также поблагодарил меня за то, что я нашел время присоединиться к собранию. Мы сели обедать. К моему удивлению, меня усадили слева от Петлюры, в то время как Еланский сел справа. Рядом со мной сидел генерал, напротив генерала – высокопоставленный министр, отвечающий за ведение Гражданской войны. Меня именовали товарищем Пятницким; я находил это обращение весьма забавным. Во время трапезы я почувствовал настоящую эйфорию – казалось, я вот-вот займу значительный политический пост. Поразмыслив, в будущем я решил держаться от политики подальше. Все собравшиеся рассуждали о победах большевиков. При отсутствии союзников мы очень скоро лишимся и поставок продовольствия, и линий связи. Киев вскоре придется сдать. Повстанцы ненадежны. Большинство не вполне осознавало важность железных дорог и телеграфов. Они сражались лишь за свои мелкие территории; Петлюра думал, что повстанцы рассчитывали создать крошечные государства вдоль старых казачьих границ. Он не доверял даже собственным отрядам запорожцев, которые уже получили все, чего хотели. – У нас много всадников, пехотинцев, немало пулеметов, поездов, но нет самолетов, не хватает артиллерии, достойной такого названия, нет ни танков, ни бронемашин. На деле мы подготовлены к современной войне немногим лучше Стеньки Разина. – Пока мы смеялись над этой шуткой, маленькое лицо Петлюры приобрело серьезное выражение. Он поджал нижнюю губу, как бы пытаясь подчеркнуть волевую линию челюсти. – И именно поэтому, товарищ доктор, мы просим вас дать некоторые рекомендации. Я был озадачен: – Я отнюдь не стратег. – Но вы ученый. – Еланский склонился ко мне. – И блестящий. О вас все говорят. Я встречал людей из Петрограда, из Москвы, из Одессы. Все говорят, что вы – один из самых дальновидных людей современности. Юный гений, который построил свою первую летающую машину в возрасте восьми лет. Я улыбнулся, взмахнув рукой. Я стал носить кольца из украинского филигранного серебра, придававшие облику что-то националистическое, но при этом никак не характеризовавшие человека, который их носил. – Подобные истории всегда преувеличены. У меня множество изобретений, немало теорий, несколько практических идей. Но без надлежащих материалов я не могу проводить необходимые эксперименты. Таким образом, господа-товарищи, мое положение несколько неопределенно, как в лимбе. – Вы можете обеспечить нас аэропланами? – спросил генерал по фамилии Коновалец[127]. Он был ненамного старше меня, хотя его лицо казалось выточенным из древнего камня. – Нет, если не будет фабрик и опытных рабочих. Вы и сами уже это знаете. Французские аэропланы – ваша главная надежда. Потом заговорил Петлюра: – Мы должны выиграть время в переговорах с Лениным и Троцким. Я вопросительно посмотрел на Еланского, который пожал плечами: – Они ничего нам не обещают. Я сохранял осторожность. Если большевики войдут в Киев на следующей неделе, Еланский может заговорить по-другому. В России многие вели себя подобным образом. – Мы слышали о каком-то луче. Вроде концентрированного солнечного света, – донесся чей-то голос с другого конца стола. – Вы его создали? И тут я громко рассмеялся. Несколько месяцев назад никто не относился к этой идее серьезно, а сегодня вечером они забыли о практической механике, в отчаянии ухватившись за идею, обычно отметаемую как дешевая фантазия, так как красные уже стучали в ворота Киева. Впрочем, я заметил, что некоторые из присутствующих все еще немного сомневались, но даже не пытался переубеждать их. Я не мог ничего утверждать, пока не будет построен опытный образец. – Лучевую установку нелегко собрать. Потребуется много денег и оборудования. Петлюра был нетерпелив. – Вы получите все, что нужно. Доктор Брон, – он указал на пожилого джентльмена, – научный сотрудник Киевского университета. Он может предоставить в ваше распоряжение все свои ресурсы. – Когда я выслушаю предложение молодого человека, – произнес Брон низким голосом, пристально глядя на меня. – Я провел некоторые исследования, – сказал я. –Полагаю, что вполне возможно сконцентрировать луч света, тогда он станет настолько мощным, что сможет пробить даже сталь. – Это известная гипотеза, – согласился Брон, – но я не понимаю, как вы собираетесь ее подтвердить. – Нужна специальная вакуумная труба. Вроде очень большой радиолампы. Я опишу ее как можно проще? – Бога ради, – ответил он. Старик обладал чувством юмора, которого недоставало большинству его коллег. Возможно, ему было уже нечего терять. Я описал, как ртуть введут в трубку и нагреют, чтобы вытеснить воздух. Пары ртути начнут скапливаться внутри, трубу запечатают, а провода выведут наружу. Низкое напряжение можно использовать для нагрева трубы. Как только температура достигнет 175 градусов по Цельсию, на электроды подадут высокое напряжение, тогда пары ртути произведут электрический разряд. Возбужденные ионы ртути при этом будут излучать свет, выходящий за пределы спектра, воспринимаемого человеческим глазом. – Я называю этот свет ультрафиолетовым, – сообщил я. – Зеркала или кварцевые линзы можно использовать для его фокусировки. – И сколько электрической энергии вам понадобится? – Броня услышанное впечатлило. Он нахмурился, изучая заметки, которые сделал карандашом на скатерти. – Очевидно, чем мощнее источник энергии, тем сильнее луч. – Этот луч действительно будет фиолетовым? – спросил кто-то еще. Я начал объяснять, но Петлюра схватил меня за руку: – Сколько таких машин вы сможете для нас построить, скажем, за месяц, пока не придет подмога? – Сначала следует создать экспериментальную модель. После этого мы с легкостью сделаем гораздо больше. Если у нас будут генераторы для обеспечения работы машин. – Генераторы с электростанций подойдут? – спросил Петлюра. – Думаю, да. – Я не ожидал такого предложения. Это означало, что он собирается отключить все электроснабжение Киева. Я был польщен. – Придется прокладывать кабели. – Где лучше поставить машины? – На возвышении. – Генерал Коновалец был настойчив. – Это обеспечит хороший обзор местности, поймите. Если их потребуется применить в отдаленных предместьях… Машины ведь окажутся слишком тяжелыми для быстрого перемещения, да? – Сами машины можно перевозить как обычные артиллерийские орудия, проблема в источниках энергии. – Я восхищался тем, как быстро он все схватывал. – Нельзя протянуть кабели по всему Киеву. Люди, а также улицы и здания, нам помешают. – Они всегда мешают! – произнес Коновалец с притворным огорчением. – Андреевская церковь – самое подходящее место. – Вы говорите о галерее у самого купола? – Я обдумал предложение. – Единственное, что меня в данном случае останавливает, это… – Я заколебался, не зная, стоит ли обсуждать религиозные вопросы с социалистами, многие из которых могли оказаться воинствующими атеистами. – Кощунство, – сказал Петлюра. – Так вот что вас тревожит? Вы верующий? И ученый? – …проблема вывода энергии на такую высокую точку. – Нет никакого кощунства в том, – спокойно сказал Коновалец, – чтобы противостоять большевизму. Они поклялись уничтожать все религии. Я сразу понял, что он был прав. Действительно, могло показаться, что сам Бог даровал нам место, где мы сможем встать на защиту Его веры. – Мы построим экспериментальную модель в Андреевской церкви. – Петлюра закурил сигарету, пока официанты убирали наши тарелки. – Провести туда энергию не сложно? – Он посмотрел на своего министра. – Сложно, Верховный главнокомандующий. – Но возможно? Брон сказал, что лучше было бы отыскать какой-то аварийный источник энергии. Маленький бензиновый генератор или гальванические элементы. – Гальванические элементы немного старомодны. – Я улыбнулся. – Я всегда считал их надежными. Они не ломаются. – Но их трудно регулировать. И проблема соединения… Брон пожал плечами: – Я по-прежнему предлагаю отдельный источник энергии. Если в разгар сражения большевики захватят наши электростанции, то у нас вообще не останется оружия. Мне пришлось согласиться. Теперь я понял его логику. Моя ошибка, как обычно, состояла в том, что я не учитывал практических деталей, увлекшись отвлеченной идеей. Само название «луч смерти» было мне отвратительно. Сегодня есть понятные определения, например «противопехотное оружие». Немало таких формулировок немцы позаимствовали у большевиков, а американцы – у немцев; это случилось, когда лучшие ученые Германии перебрались за океан после Второй мировой. Они не занимаются отвлеченными рассуждениями о войне. Они позволяют техникам делать их работу, не смущаясь ненужными соображениями. Пусть священники и романисты решают, в чем состоит моральная ответственность, если таковая вообще существует. В эпоху индивидуализма человек утратил способность ясно рассуждать. Искусство и наука смешались, поскольку человек верит, что должен принимать независимые решения в каждом конкретном случае. А ведь нужно просто признать авторитет Церкви, чтобы обрести истинную ясность видения. Мой статус в научном и деловом мире изменился: первоначально он был несколько сомнительным, но теперь я стал участником петлюровского социалистического движения. Это меня тревожило. Я решил узнать у Петлюры, какие полномочия получаю. – Вы должны выполнить свою задачу, несмотря ни на что. – Он был резок. – Вы можете реквизировать все что угодно – людей и материалы, – если это не помешает нашим нынешним военным действиям. Нам приходится бороться с русскими и польскими шовинистами. И есть вероятность, что Деникин окажется очень ненадежным союзником, если его вообще можно считать таковым. Он тоже шовинист, но сейчас ненавидит Троцкого еще сильнее, чем я. Что с ним станет, если французы решат, что он для них помеха? – Пусть отправится в Турцию с сотней всадников, – сказал Коновалец. – Там дела настолько плохи, что он сможет за неделю завоевать всю эту проклятую страну и стать царем. Петлюра поднял бокал: – Смерть врагам Украины! Я неохотно выпил за это. Будучи русским шовинистом, я не во всем соглашался с нашим атаманом. – Современные методы обеспечат нам современную революцию, – сказал Петлюра. – И суеверные крестьяне поймут важность науки. Я слышал, что вы переводчик, товарищ Пятницкий? – Я знаю английский, немецкий и немного французский, – ответил я, – а еще польский и чешский. – А украинский?– Местный диалект? – На мгновение я перепугался. Петлюра сменил тему. Тогда я считал его джентльменом, неважно, каких взглядов он придерживался. Моя дипломатия не сработала, но нельзя сказать, что я совсем уж промахнулся. Официальный украинский был вариантом галицийского, его с трудом усваивали даже киевляне, говорившие на своем диалекте. Язык был настолько же подлинным, как и стандартные республиканские купюры. Все мы, сидя в зале при свечах, беседовали, само собой разумеется, на чистейшем петербургском русском. Петлюра сказал: – Полагаю, французы готовы заплатить за тайну вашего луча? Это не приходило мне в голову. Я решил, что Петлюра обо всем догадался по выражению моего лица. Он ободряюще улыбнулся, погладив меня по плечу: – Все в порядке, гражданин. Вы бы здесь не сидели, если б я считал вас предателем. Но я пошлю курьера. Мы скажем Фрейденбергу, что занимаемся созданием секретного оружия. Он должен как можно скорее привести свои войска, иначе оно достанется большевикам. – Вот это стратегия! – одобрительно произнес Коновалец. – Это дипломатия, – сказал Петлюра. Его розовые щеки вспыхнули. – Ведь мы думали, что легко сможем спасти Украину. – Мне необходимы полномочия, – произнес я. – Дайте ему звание, Коновалец, – небрежно бросил Петлюра. Коновалец пожал плечами: – Вы теперь майор. Так я получил свое первое военное звание. Совершенно законно, но не пролив ни капли крови. – Вам следует утвердить это решение, – сказал Петлюра своему помощнику. – Что-нибудь еще, товарищ доктор? – Я ожидал бумаги из Петрограда, мой специальный диплом, – сказал я. – Его задержали. Вероятно, теперь он уничтожен. – Российский диплом? Он бесполезен здесь. Профессор Брон? – Эти люди внимали каждому слову Петлюры. Профессор понял все так же быстро, как и генерал: – Что вам нужно? Какой-то диплом? Мы можем дать почетную университетскую степень. – Это не одно и то же. – Я объяснил, что случилось в Петрограде. – Моя диссертация давала право на специальный диплом, как вы понимаете. Эквивалент докторантуры. – Я сунул руку в карман и вытащил бумажник, а потом вручил Петлюре копию письма профессора Ворсина. Брон сначала прочел подпись: – Я знаю Ворсина. Это его рука. Если товарищ секретарь… Ах, пан… – Он обернулся к Петлюре, как будто внезапно усомнился в своем решении. – Это для вас так важно? – спросил меня Петлюра. Он взял из рук Брона письмо и прочитал его. – Что ж, письмо подтверждает все услышанное. Такова ваша цена, товарищ? – Мне не нужна плата, – ответил я, – за то, чтобы сражаться с Троцким и Антоновым[128]. Как раз из-за них у меня и не осталось никаких бумаг. – В письме все ясно сказано, не так ли, Брон? – Абсолютно. Мы можем… у нас есть дипломы… – Профессор развел руками. – А если доктора наук? Петлюра быстро повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза, потом перевел взгляд на свою салфетку: – Это вас устроит, майор Пятницкий? Я вздохнул и приподнял свой хрустальный кубок: – Сейчас ненадежные времена. Петлюра обратился к сидевшему у дальнего конца стола своему старому товарищу, Винниченко, тоже стороннику большевиков: – Вы это одобряете, товарищ председатель? Винниченко, литератор, мало интересовавшийся происходящим, казался утомленным. Он кисло заявил: – Конечно, товарищ Верховный главнокомандующий. Если преторианцы согласны… Коновалец почесал затылок. – Это глупо. Сечевики лояльны. У нас нет власти. Мне показалось, что я вот-вот стану свидетелем открытого спора различных фракций Директории. Винниченко сказал устало: – Прошу прощения, Коновалец. Но вы, кажется, единственный, кому французы вообще доверяют. – Это потому, что они никогда не слышали обо мне, – улыбнулся генерал. Я вежливо рассмеялся. Коновалец казался человеком, который вскоре сможет взять бразды правления в свои руки. Этого не должно было произойти. Полковник Фрейденберг, французский командир, считал, что невозможно отличить одного социалиста от другого. Он настаивал, как мне удалось выяснить, чтобы всех красных изгнали из Директории. Но ее возглавляли Петлюра, Винниченко и другие. Ультиматум Фрейденберга, по существу, представлял собой требование сместить правительство прежде, чем он придет на помощь Киеву. Фрейденберг считал Петлюру и его команду всего лишь сборищем бандитских главарей. Он сочувствовал только Деникину. Российская Добровольческая армия была и больше, и надежнее; к тому же поддерживала царя. Галицийские снайперы Коновальца были опорой Директории. Вот почему Винниченко назвал их «преторианцами». Они размещались в отдаленных предместьях, готовые встретить большевиков на пути к городу. Ни одна газета не сообщала об этом. Я также не мог представить, насколько велика опасность, – даже после встречи с Петлюрой. В Киеве стояла тишина. Зима была холодной. Снег покрылся ледяной коркой. Не верилось, что до марта что-то изменится. Тем временем я получил и ученую степень доктора наук, и воинское звание майора. Как я и мечтал, мои заслуги признало правительство. Увы, я терпеть не мог его идиотские политические методы, но признаюсь, что меня на время увлекла возможность наконец-то реализовать одно из моих изобретений. Я послал матери записку, кратко изложив хорошие новости. С тем же посыльным она ответила, что мне следует быть осторожным и не волноваться о ней. Мой успех всегда страшил мать. Наверное, она слишком долго жила в тяжелых условиях. И трудно было винить ее. На следующий день мне в номер принесли диплом Киевского университета. Максим Артурович Пятницкий стал доктором наук, получив степень 15 января 1919 года. Вскоре после этого офицер сечевых стрельцов приветствовал меня, назвал майором и вручил обычный бумажный конверт, содержавший все необходимые знаки отличия. Очевидно, предполагалось, что я сам раздобуду себе форму. Следовало обзавестись особой формой белого цвета. Я очень серьезно обдумал эту проблему, убрав конверт в ящик своего секретера. Я стал представителем определенной политической группы. В случае прихода к власти большевиков меня, вероятно, схватят и на сей раз, конечно, расстреляют, если я не буду проявлять осторожность. Я молился, чтобы мой так называемый «фиолетовый луч» сработал в сражении с красными. Петлюра подсказал мне, как можно доставить изобретение в Одессу. Французские военные передадут устройство в распоряжение Деникина. Вся судьба России была теперь в моих руках. Мне прислали новое сообщение: приказ Петлюры, согласно которому я мог требовать любой помощи и получал полный карт-бланш. Монахи и священники больше не заправляли Андреевской церковью, я стал ее новым хозяином. Я почувствовал себя несколько неуверенно. Но у Бога свои планы. И быть может, мой тонкий луч, исходящий от огромной сине-белой башни, внушит большевикам страх перед могуществом Всевышнего? Работа началась в тот же день – мы изготавливали подходящую вакуумную трубку. Нам мешали почти во всем. Дезертирство в стекольном цехе; обещания доставить медный провод, которые никак не исполнялись; внезапно исчезающие инженеры; русские механики, услышавшие о какой-то победе большевиков или повстанцев и пытающиеся пробраться в Одессу или в Ялту, пока не все пути перекрыты. На улицах вновь воцарился хаос. Силы Петлюры таяли. Французы были правы, когда не доверяли ему. Тем временем колокольня Андреевской церкви стала базой для альтернативного источника энергии, питавшего мое оборудование: банки гальванических батарей, соединенные тяжелым медным проводом и управляемые громадным выключателем. В нижнем помещении я осматривал и отвергал трубу за трубой, зеркало за зеркалом. Силовые кабели тянулись по священным коридорам и лестницам этого удивительного здания, их нужно было присоединить к моей машине, когда она будет готова к работе. Монахи перепугались, но Петлюра убедил их, что храм необходимо использовать для того, чтобы сражаться с большевиками. Труба была закреплена на мощной треноге из алюминия и дерева и выглядела несерьезно. Зеркала у самой трубы были очень большими, они постепенно уменьшались, сужаясь до почти невидимой точки. Кварцевые линзы подошли бы куда больше. Их удалось реквизировать, но они нам так и не достались. С галереи мы смотрели вниз, на гетто. Я мог разглядеть свою родную улицу, чуть выше на склоне холма. Как заметил один из солдат: «Если мы не сможем уничтожить Антонова, хоть прикончим нескольких евреев, прежде чем уйдем». С помощью кокаина мне удавалось быстро работать над созданием устройства. Петлюра трижды приезжал посмотреть на мои успехи. На третий раз я смог продемонстрировать потенциал машины, направив луч на лист газеты, который почти немедленно загорелся. Его это впечатлило. – Этот луч сможет выжечь большевиков? – Все дело в энергии, – ответил я. – Возможности машины безграничны, пока достаточно электричества. Петлюра, похоже, вообще не спал. Он казался больным. Его взгляд был направлен куда-то в сторону. – Я отдам вам весь город, всю Украину, – сказал он мне, – если это сработает. Это привлечет к нам людей, вернет солдат. Он явно отчаялся. Я начал задумываться, что же мне делать дальше. При первой же возможности я отправился на служебном автомобиле к дому матери. Там я предупредил ее, что большевики могут снова захватить город. Мать посмеялась надо мной. – Большевики были здесь прежде. И мы все еще в безопасности. Так о чем же волноваться? – Мама, может быть, придется ехать в Одессу. Французы там все держат под контролем. В Одессе мы будем в безопасности. – В безопасности в Одессе? – Она почему-то захихикала. Я подождал возвращения Эсме и сообщил ей свои новости. Было уже поздно. Мне следовало вернуться к оборудованию. Я не мог позволить себе ссориться с Петлюрой, тем более что он, очевидно, слишком устал. Я вкратце пересказал Эсме все происшествия и попросил быть готовой к тому, чтобы уехать с матерью и капитаном Брауном, если он согласится. Она смутилась: – В деревнях полно бандитов. А у меня здесь работа. – В Одессе у тебя будет такая же работа, как и здесь. Она все поняла: – Когда нам нужно ехать? – Было бы разумно уехать раньше меня. Я могу послать за вами, если все пойдет на лад. Я работаю… – Я придержал язык. – Есть кое-какая надежда. – Я не поеду, – сказала мать. – Я никогда не была в Одессе. Я достал из кармана часы. Было уже слишком поздно. – Почему ты думаешь, что тебе там будет плохо? Ты сможешь остановиться у дяди Сени. – Сеня был очень любезен, но сомневаюсь, что Евгения хотела бы, чтобы я остановилась у них. Она написала занятное письмо о тебе и какой-то девочке. Я сожгла его. Она всегда ревновала. – Мама, большевики могут захватить Киев в любой момент, если я не добьюсь успеха. Я прошу, готовься к отъезду. Как только они окажутся здесь, сесть на поезд будет невозможно. – Это правда, – согласилась Эсме. – Вы должны сделать, как говорит Макс, Елизавета Филипповна. Мы вас любим. – Моя прачечная, – заявила она, – вот моя жизнь. Было бы глупо бежать в Одессу. Я что, должна переехать на дачу у моря? – Возможно, – сказал я. – Тебе бы там понравилось. – Нет, не понравилось бы. У меня больше не оставалось времени на уговоры. – Ты должна пообещать, что возьмешь с собой капитана Брауна и мать. Как только получите мое сообщение. – Я посмотрел в дивные синие глаза Эсме. Прощаясь, я поцеловал ее в губы. Киев казался уже не осажденным, а захваченным городом. Гайдамаки грабили Подол так старательно, что для обычных погромов времени уже не оставалось. Обошлось без пожаров, убили лишь несколько евреев, которые сопротивлялись солдатам. Мужчины с мешками и винтовками прятались в темных углах, когда мой автомобиль под флагом Петлюры мчался по булыжной мостовой, которую уже много дней не чистили от снега. К счастью, мне удалось возвратиться на относительно безопасный Крещатик. Его защищали многочисленные дисциплинарные отряды. В полупустой гостинице «Савой» я быстро прошел в номер люкс, чтобы рассказать о своих успехах взволнованному Петлюре, который смеялся, обернувшись к Винниченко. Занавески были задернуты. Винниченко выглядывал сквозь них – как будто старая дева, шпионящая за соседями. – Мы услышим еще о сотрудничестве и эвакуации? Винниченко пожал плечами. Он был, вероятно, разочарован, что не сможет лично приветствовать Троцкого, Сталина и Антонова. Петлюра спросил меня: – Как обстоят дела в городе? – Отряды грабят его, Верховный главнокомандующий. – Нам никогда не следовало доверять людям, которые пришли со Скоропадским. – Нам никогда не следовало думать, что мы сможем удержать Киев. – Винниченко повернулся к нам спиной. – Нужно было оставаться с крестьянами и не связываться с русскими и евреями. Петлюра хлопнул меня по спине: – Не позволяйте никому говорить, что я противник вашего племени. Я улыбнулся, чувствуя свое превосходство. Неужели он пытался умиротворить русских «кацапов», козлов, которых так презирал? – Вы нас больше не ненавидите? – Это все крестьяне, – сказал он. – Русским и евреям принадлежат все магазины, все фабрики, все машины. – Он заговорил громче, но почти тотчас овладел собой: – Луч в самом деле готов к последним испытаниям? Я не мог проверить машину, пока не получу больше энергии. Я считал, что бессмысленно реквизировать гражданское электричество и подрывать боевой дух населения, пока не настанет самый решительный момент. Петлюра немедленно успокоился, как будто только что принял морфий. Он разгладил усы и ободряюще подмигнул: «В таком случае за дело, профессор». Шаги в «Савое» отзывались эхом. Некоторые из зеркал уже сняли, как будто все здание собирались вывезти. На Крещатике работало совсем мало магазинов. Многие были заколочены досками. Мне захотелось прогуляться по Бессарабке и разыскать какую-нибудь совсем юную девушку – из тех, которые там работали. Я к ним уже привык и, конечно, был лучшим из клиентов. Но, почувствовав некоторую усталость, я приказал шоферу вернуться к Андреевской церкви, купол которой светился, подобно маяку среди тьмы и хаоса. Поднимаясь по лестнице наверх, я слышал доносящиеся издалека выстрелы, крики и вопли. Все это было уже знакомо. Я подумал, что вряд ли стану тосковать по этим звукам, если они когда-нибудь прекратятся. Поставили какие-то новые, большие трубки. Я восхитился тонкостью работы. Капрал, который помогал мне, сказал, что это, вероятно, последние детали, которые нам удалось получить. Я спросил, почему. Он усмехнулся: – Стекольную мастерскую разграбили примерно два часа назад, вот почему. – На что им стекло? – Они думали, что найдут там золото. Я осмотрел свои трубки. Они были сделаны превосходно. Я начал тщательно отвинчивать винты, которыми меньшая трубка крепилась к вращающемуся основанию. Я заменил ее новой. – Золото? – Они решили, что евреи делали золото, – сказал солдат. – Все из-за того, что там были тигели и разные материалы. – Но ведь стекольное производство принадлежит не евреям. – Я соединил провода. – Они разозлились еще сильнее, когда об этом узнали. – Капрал рассмеялся. Я остановился, восторженно осматривая машину. Как только зеркала должным образом совместятся и выработается больше энергии, можно будет испытать луч на одном из деревьев около яхт-клуба. Это пустое здание стояло на Трухановом острове, по другую сторону скованной льдом реки. Я зажег сигарету и затем, будучи демократично настроенным, вручил ее солдату. Его впечатлил этот жест: – Спасибо, товарищ. – Что насчет большевиков? Мы побьем их? – Я решил, что очень важно узнать, о чем думает обычный солдат, у которого достаточно опыта. На него можно было положиться – в отличие от Петлюры. – Это зависит от… Почти все русские смотрят на украинцев сверху вниз. Поэтому они держатся вместе. Но украинцы даже не могут договориться, кто ими будет командовать. – Я кивнул. – Они, кажется, готовы присоединиться к кому угодно: к гетману, Петлюре, Григорьеву, Троцкому, Корнилову… – Солдат достал длинную самокрутку. – Хороший табак. И правда турецкий? – Думаю, да. Он махнул рукой в сторону предместий: – У этих бедных ублюдков ничего нет. Они не верят в правительства – националистическое, царское, большевистское, польское, французское. Они верят в свободу и владение землей. – Чтобы возделывать свой сад[129], – произнес я. – Как вам угодно. – Это Вольтер, – пояснил я. – Я знаю. – Солдат улыбнулся. – Поэтому они и оставили меня с вами. Я дивизионный умник. – Он рассмеялся. – До призыва я год отучился в техническом училище. – Вы были на фронте? – В Галиции. – Вы будете сражаться с большевиками, когда они нападут? – Вы сошли с ума, – ответил он, погладив рукой мое изобретение. – Вот что будет сражаться с большевиками, товарищ профессор. А я помчусь как угорелый к ближайшему поезду. Я рассмеялся вместе с ним. Мы думали об одном и том же. Оставив его на страже, я выстроил в линию все доступные зеркала и еще раз испытал проектор на бумажном листе. За всю неделю я спал лишь несколько часов, но не испытывал ни малейшего желания вздремнуть. Я приказал водителю ехать на Бессарабку. Он ответил, что сейчас четыре часа утра. Отовсюду слышался истерический смех, звон разбитых стекол, скрип ручных тележек, на которых увозили награбленное. Мы вернулись в гостиницу, где я обнаружил записку от Эсме. Утром отправлялся поезд в Одессу. Она сделает все возможное, чтобы попасть на него, но ей нужны были особые бумаги, разрешающие выезд. Я телефонировал своему хорошему другу в соответствующее министерство. Мне удивительно повезло. Он тоже не спал. В течение часа я получил документы для себя, для матери, капитана Брауна и Эсме. Я вложил разрешения в свой паспорт, вызвал солдата снизу и послал его к моей подруге. Меня очень успокоило то, что на этот раз ни она, ни мать мне не возражали. Я внезапно уснул и проснулся в полдень от кошмара: я, только гораздо более юный, корчился в грязи; я был единственным человеком на обширном, пустынном поле битвы. Пули попали мне в живот. Я не сразу открыл глаза, потому что на секунду мне показалось, что я снова нахожусь в Одессе и слушаю дивный звук прибоя. Мои глаза были залиты желтым светом, как кровью. Я понял, что взошло солнце. Впервые за долгое время я увидел рассвет. Я перевернулся на бок и осмотрелся. Мое жилище оказалось просто ужасным. Я прежде не замечал, какой в нем царит беспорядок. Желтая кровь солнца. Она струилась по веренице каналов, рассекавших степь. Она лилась стремительно, за ней нельзя было уследить, ею нельзя было управлять. Шум не прекращался. Это был, разумеется, артиллерийский огонь. Возможно, стреляли из наших орудий. Стало невозможно отличить друзей от врагов. Они сражались за Киев. Они приходили и уходили. Они все говорили, что спасают нас. Некоторые города просто обречены стать символами. В те дни мы переживали символические события в символическом городе. Безумная вселенная символистов на некоторое время стала реальностью. Неужели все те люди, которых я презирал в Петрограде, действительно обладали даром предвидения? Или они создали этот мир, потому что только в нем могли чувствовать себя непринужденно, – мир безумцев? Кто-то стоял в моей комнате. Молодой капрал в казачьем мундире. Он вертел в руках свою папаху. Мне показалось, он сказал, что ситуация требует немедленных действий. Желтая кровь все еще заливала мои глаза. Я встал. Я был полностью одет. Нумидийская конница Ганнибала пробиралась все глубже и глубже в Испанию, в этот набожный край; она приближалась к алтарю Святой Девы. И в степи стояли черные деревья. Бронзовое пламя пожирало киевские низины. И я был в огне; и черная одежда моей матери была в огне. – Поезд? Казак произнес: – Они думали, что вас убили. Враг поблизости. Вас зовут, пан. Он говорил с сильным польским акцентом. Я слабо владел польским. Мать когда-то учила меня. И я слушал ее кошмары. – Поезд ушел? Утренний поезд в Одессу? – Чрезвычайный поезд. Да. – Он хорошо защищен? – Кажется, бронированный… Я отправился с этим польским казаком. В голове у меня звучал огромный хор нежных девичьих голосов. Чистых, русских голосов. Нет звуков, подобных этому. И тем не менее в глазах моих мерцала кровь солнца. Это был Лист[130]. Мы с дядей Сеней слушали его в оперном театре в Одессе. Данте. Нет… Мой разум был слишком слаб. Что-то поразило его, когда я спал. Нет в мире более чистого звука, чем это пение маленьких русских девочек. Magnificat anima mea Dominum![131] В «Чистилище». Так много «Божественной комедии». Они меня окружали. Неужели я обидел их? Я не мог никого обидеть. Я взял лишь то, что взяли бы другие. Я не святоша. Я никогда не утверждал этого. Это случилось в Альберт-холле. Мне не стоило ходить туда. Все красным-красно, круг за кругом уводят меня в ад на сцене; это хор Большого. Но я одинок. Я потерял все. Кто-то завел бы собаку. А я устал от собак. У нас было слишком много собак в России. И дети никогда не доверяли мне. Неужели они знали? Я не какой-нибудь неуч. Казак посадил меня в красный экипаж, и меня отвезли к Андреевскому спуску. Тот красный ад Альберт-холла. Я помню огни и маленьких девочек в белых платьях. Они должны были в конце отвести меня домой. Я хотел слушать эти голоса, не думая о том, что они там пели на латыни. Рим, Рим и снова Рим. Они говорили, что Великобритания была новым Римом. И что ей досталось в наследство? Одни только аристократы. Москве достались священники. Рим и Византия, Киев и Москва. Голоса по-прежнему мелодичны, и я не нанес им вреда. Я остался чист. Я оказался чище других. Мы добрались до церкви, нас ждал Петлюра собственной персоной. Он был в ярости. – Спите, товарищ? – Я работал всю ночь. – Как и этот товарищ? Речь шла о солдате, с которым я поделился сигаретой. Он казался мрачным. Петлюра, очевидно, кричал на него. Вокруг стояли разные генералы в мундирах. У некоторых не было никаких знаков отличия. Некоторые сорвали свои эполеты. Я научился распознавать такие признаки. Это выглядело почти так же хорошо, как поднятие белого флага. Внизу в церкви шла служба. Звучал киевский распев Дилецкого[132]. По-моему, «Khvalite iтуа gospodevi, аlilиуа». «Это предзнаменование», – подумал я. Церковь и наука объединились, чтобы уничтожить красного жида. – Моя машина практически готова, – с достоинством произнес я. – Жду инструкций. – Войска Антонова приближаются со всех сторон. – Петлюра нахмурился. – У нас нет времени, чтобы подготовить другие позиции. Вот все, чем мы можем воспользоваться. Сегодня вечером мы направим машину туда. – Он небрежно указал в сторону моего дома. Я обрадовался, что Эсме с матерью уехала. Солнце пропало. Я, прищурившись, смотрел на Петлюру. Он спросил: – Вы уверены, что свет будет невидим? Я ответил: – Да. – Это ослабит их боевой дух. И даст нам время привести в действие следующую часть нашего плана. – Вы переходите в контрнаступление? – Ваше дело – наука, профессор. Солдат с усмешкой смотрел на меня. Я избегал его взгляда. Я не хотел неприятностей. Моя голова раскалывалась. Я забыл кокаин и попросил разрешения вернуться в гостиницу за лекарством. «Возьмите мое», – сказал Петлюра. Он протянул мне маленькую золотую коробочку, полную кокаина. Я нисколько не удивился. Вся эта революция, вся гражданская война – битвы на «снежке». Это топливо питало всю военную машину, топливо, гораздо более важное, чем политика или порох. Восстановив силы, я заметил солдата, который нагло ухмылялся: – Думаете, я не знаю, что делаю? – Думаю, что вы единственный, кто знает, товарищ. Петлюра мрачно произнес: – Вас могут расстрелять, капрал. – Думаю, что сегодня у меня есть шанс, товарищ Верховный главнокомандующий. Капрал нисколько не боялся, потому что слишком устал. Я почувствовал симпатию к нему. Нас перехитрили. Даже Сципион[133] нуждался в армии, чтобы уничтожить карфагенских слонов. И все в те дни было залито солнечным светом. Все битвы велись на жаре, а не в снегах. Только Ганнибалу был знаком снег, и то это были уютные снега Альп, а не снежные пустыни России. Рагнарёк наступал снова. Энтропия. И в России так много подтверждений этого. Нам повезло – у нас есть наши краткие мгновения тепла и жизни. Вот почему мы почитаем Бога. Петлюра что-то пробормотал, повернувшись к капралу. Он не мог позволить себе кого-то расстрелять. Его армия, вполне возможно, теперь состояла только из притихших генералов, капрала и моей лучевой машины. Он сказал что-то по-французски единственному человеку в гражданском, кроме меня. Но Петлюра говорил со столь сильным акцентом, что, кажется, никто ничего не понял. Человек, возможно, был французским консулом. Он кивнул. Петлюра попросил меня навести линзу на леса Труханова острова: – Вы можете уничтожить те деревья? – Конечно. Но мне нужна энергия. – Мы подключим. Я направил свою машину на днепровский лед. Нажав на соответствующий выключатель, я провел тонкую линию по белой поверхности. – Все, лед растаял. Подумайте, как можно было бы применить эту машину. – Растопить лед – неподходящая цель… – начал один из генералов. – Это может быть полезно на кораблях, – сказал другой. Все они говорили как автоматы, как будто получали энергию и вдохновение от Петлюры, но этот источник иссяк и больше не мог обеспечить их всем необходимым. Мое устройство мало что значило для большинства из них. Они не знали, почему здесь оказались. – Вы прожгли лед? – Петлюра взял походный бинокль. – Я вижу трещину. Превосходно. Само по себе это будет полезно, когда они попробуют перейти реку. Это напоминает битвы Александра Невского. Наши враги погибнут в нашей реке. Петлюра протянул мне бинокль, но я в нем не нуждался. Генерал наклонился и, криво улыбаясь, восстановил настройку. «Спасибо», – сказал он медленно, как будто я не понимал русского языка. Священники все еще пели для своей паствы. Звук становился все громче и громче. Петлюру возмутили их голоса; а я был рад их слышать. Даже тогда, не понимая, что делаю, я получал вдохновение от Бога, не от человека. Мне следовало запомнить это мгновение – ведь я, один из всей собравшейся компании, был наделен силой. – Эти крестьяне… – произнес Петлюра. – Они скоты. Они предатели и глупцы. Они предали меня. Они примитивные животные. – Мы все такие, товарищ, – сказал солдат. Он прислонился к парапету, выглянул в окно. – Но некоторые из нас – невинные животные. Вот единственное отличие. Вы провели не слишком много времени в стаде. Петлюра прикусил тонкую нижнюю губу. Его бесцветные глаза обращались то к одному генералу, то к другому – и не видели ничего, кроме пустоты. – Коришенко, – проговорил он, – вы должны сделать так, чтобы вся энергия была переключена на машину профессора. Коришенко отдал честь и удалился, явно обрадованный возможностью уйти. – Мы дождёмся сумерек, – произнес Верховный главнокомандующий. – Возможна ли опасность? Какая-то обратная реакция механизма? – Это маловероятно. – А что, если люди окажутся на пути луча? – Скажите всем: пусть остаются в укрытиях, – предложил я. – На всякий случай. – Мы не хотим разрезать какого-нибудь бедного еврея надвое, – заметил капрал. Петлюра и его прихвостни уже покидали башню. Петлюра начал что-то говорить на своем ужасном французском. Я слышал, как человек в гражданском произнес: – Что там с евреями? Еще один погром? – Естественно, нет. – У нас во Франции есть евреи. Мужчины исчезли, голоса их смешались с раскатами хора, и я остался наедине с капралом. – Он говорил что-нибудь этому французу об отступлении из Киева? – спросил мой помощник. – Нет. – Что он говорил о евреях? – Ничего. Капрал поднял руку, как будто хотел повалить мою машину. – У меня нет предрассудков, но предупреждаю вас… – О чем вы говорите? Его поведение начало беспокоить меня. Этот идиот считал меня евреем, потому что я занимался наукой? В этом отношении я был согласен с Петлюрой и большинством крестьян. Евреи на Украине и в Польше сделали саму землю белой, они обескровили обе страны. Чернозем был истощен так сильно, что только кровь могла вернуть земле жизнь. Кровь и солнце и наши широкие реки, которые, по утверждению красных, они смогли покорить. Но кто может приручить русскую реку? Она навеки свободна. Они пытались сделать из нас европейских буржуа, но потерпели неудачу. Мы не относимся к среднему классу. Мы – интеллигенция, мы – рабочие, мы – крестьяне. Пусть евреи ищут свой Сион в другом месте. Они не получат Россию. Только славяне выживут на славянской земле. Татарам не удалось здесь уцелеть. Земля уничтожила их ханства. Ведь это одно и то же: финикийские торговцы и пятая колонна сионистов. Мне это известно – точно так же, как известно, что дьявол кроется во всех мужчинах. И во мне таится дьявол. Я предложил солдату сигарету. Солнце уже садилось. В Киеве было тихо. Повсюду было тихо. Поезда удалялись от города. Я мог разглядеть клубы дыма. Я видел фигуры на льду. Я не знал, кто эти люди. Пение внизу утихло. Я ощутил свое одиночество. Возможно, я заплакал. Я хотел девочку. Я хотел утешения, хотел отдыха. Я вспомнил Колю. Где он теперь – в петроградской тюрьме? Эмигрировал? Отправился с Корниловым или Деникиным, чтобы пробиться обратно к центру силы? Почему поляки вторглись на Украину? Они хотели вернуть свою империю. Не удивительно, что немцы начали бояться их, как боялись чехов. Чехи прославились своей храбростью и боевыми навыками. Они проложили дорогу домой через всю Сибирь. Тевтонцы боялись славян так же, как упадочные латиняне боялись викингов. Если б только империя сохранилась. Славянская империя. Тогда мы уже сегодня возродили бы эллинистический мир. Мы – наследники греков. Это наша славянская кровь объединяет нас, а не коммунизм. Англосаксы и китайцы пережили свою славу. Они обрели стабильность и погибель. Отрицание никогда не было свойственно славянам. Мы всегда предпочитаем действие бездействию. Если бы поляки доверились немцам, не дошло бы до второй войны. Национализм противостоит всему разумному и прогрессивному, всем плодам учености, всему опыту человечества. Израиль! Свежая шутка: теперь евреи стали националистами. Вот почему нам следует опасаться худшего. Варшава, Прага и Киев были прекрасными городами. И кто разрушил их? Евреи-большевики. Гитлер, возможно, никогда не сделал бы того, что сделал, если б не их угрозы. Ему приходилось сопротивляться им, укреплять и защищать свои рубежи. Россия всегда была союзницей Германии. И кто разрушил этот союз? Еврейский фабрикант, еврейский интеллигент, еврейский политик. Чувствует ли мир эту угрозу? Не истерически, как Гитлер, а разумно? Пусть забирают Израиль. Пусть забирают весь Ближний Восток. А затем мы возведем вокруг евреев огромную стену и простимся с ними навеки. Они могут сколько угодно вопить у себя за стеной. Я не стану их слушать. Когда стало темнее, я понял, что необходимая энергия накапливается. Капрал ушел за едой, но вернулся с сообщением о том, что всем приказали укрыться в подвалах. Кто-то думал, что ожидается налет цеппелинов, кто-то слышал рассказы о моем «фиолетовом луче». Удивительно, как быстро распространяются новости в осажденном городе. Сплетня, как говорят на Украине, рождается от голода. Мои запасные гальванические батареи были наготове. Я подсоединил их к трансформатору на случай внезапных перебоев в подаче энергии. Темнота принесла мне облегчение. Мои глаза болели. Я не мог изгнать образы крови и смерти, заполнившие мой разум. По крайней мере, Эсме, мать и, возможно, капитан Браун были теперь далеко, они мчались в Одессу, где французы поддерживали порядок, где еще оставалась надежда. Если все станет еще хуже, дядя Сеня поможет им уехать из страны на некоторое время. Я уверял себя, что если точно определю направление ветра, то смогу использовать свой луч, продемонстрирую его возможности, соберу машину с помощью капрала и отправлюсь вместе с опытным образцом к французам. Следующий поезд увезет в Одессу меня и мое изобретение, а оттуда корабль доставит нас в Париж. Нигде не было ни единого огонька, но зазвучали артиллерийские залпы. Где-то в районе Труханова острова появлялись вспышки света. Я направил проектор на остров. Капрал попросил у меня сигарету. Я отдал ему портсигар. Он вытащил папиросу, положил портсигар мне в карман и закурил. Я подумал, видят ли большевики в бинокли огонек его папиросы. Если так – чего же они ждут в молчании и в темноте? Время от времени раздавались выстрелы. Я слышал крики, звук моторных двигателей, стук лошадиных копыт на деревянных настилах улиц – там, где снег растаял под ногами петлюровцев. Я нажал на рычаг проектора и увидел вспышку света. Думаю, я уничтожил орудие. Я обернулся к капралу, чтобы он мог разделить мой успех. Но он исчез. Церковь опустела. Киев заполонили призраки. Я доверял инстинктам капрала больше, чем инстинктам Петлюры или своим собственным. Я позвал его, но было уже слишком поздно. Он ушел, чтобы присоединиться к большевикам или вернуться в свою деревню. Я хотел разобрать проектор, но в этот момент услышал звук шагов на лестнице. Я был так напуган, что решил: сейчас передо мной возникнут призраки или Антонов собственной персоной. Но это был Петлюра, в зеленой форме, черной шапке и с плеткой в руке. Он выглядел гораздо эффектнее, чем гетман, – стремился походить на аристократа, а на самом деле казался смешным, как герой «Узника Зенды»[134]. – Вы еще не использовали луч? Я сообщил ему, что уничтожил орудие. – Одного орудия недостаточно. – Машину нужно навести на цель. Каждый выстрел требует большого количества энергии. Пока я все делал верно. – Вы дали мне надежду. Но вы же и отняли ее. Два генерала стояли рядом с ним, вместе с несколькими военными, младшими по званию. Все носили разную форму: одни были одеты в синее, другие – в белое, третьи – в зеленое. – Я говорил вам, на что способен. Нужен еще день-другой. – Антонов почти вошел в Киев. Его войско приближается. Нам нужно эвакуировать жителей. Вы могли бы остановить их своим лучом. – Один? – Вы же майор республиканской армии, товарищ. Вас могут расстрелять за неподчинение приказу. Кто-то из генералов усмехнулся: – Это правда! – А вы уходите? – Я не мог поверить в такое вероломство. – Мы оставляем эти позиции. У нас все еще есть сильная поддержка. Думаю, мы можем положиться на Григорьева. Велика вероятность, что Антанта пришлет нам отряды. Деникин и Краснов присоединятся к нам. Им это будет выгодно. – Как я смогу спастись, если меня отыщут большевики? – Этот вопрос казался вполне резонным. – Вы сможете бежать, – сказал какой-то капитан. – Вы же в гражданской одежде. Я подумал, можно ли еще вернуться в гостиницу и собрать вещи, или их уже украли. Я отсалютовал по-военному: «Тогда я исполню свой долг». Естественно, я имел в виду долг перед теми, кто мне доверился, и перед самим собой. Не осталось никакой надежды на этот ультрафиолетовый проектор, который должен был один противостоять всей армии большевиков. Петлюра во всем ошибался. Я спросил его, где мне следует встретиться с основной армией. Он заколебался: «Вы обо всем услышите». Он предполагал, что меня схватят, и не хотел рисковать – ведь я мог раскрыть его новые позиции. Некоторые из генералов, казалось, явно мне сочувствовали. Другие улыбались. Я, видимо, стал для них чем-то вроде яблока раздора. – Что, если Антонов захватит машину? – спросил я. – Вы должны успеть уничтожить устройство. Я думал, что он слишком верил в мою преданность, – я так и не понял, почему. – А если они схватят меня прежде, чем я смогу егоуничтожить? Петлюра отвернулся. Жестом, выражавшим крайнее высокомерие и нетерпимость, он приподнял нагайку и стукнул по корпусу прибора. Я испугался. Тренога пошатнулась, но устояла. – Они никогда не поймут, что это такое. У них нет денег. Они не смогут заплатить вам. Передайте это французам. Они дадут все, что попросите. – Петлюра что-то подозревал. Он был безумцем. Я растерялся и не успел выровнять механизм прежде, чем драгоценная вакуумная труба вышла из состояния равновесия. Петлюра уже все испортил. Требовались долгие часы, чтобы перенастроить механизм. Я ничего ему не сказал. – Вы попросили меня построить эту машину. – Но она не работает! – Вы ее не испытали как следует. – Очень хорошо. Запустите ее сейчас. Уничтожьте остров. – Я постараюсь. Вы, скорее всего, сделали это невозможным… – Уничтожьте Труханов остров. Я пожал плечами и направил проектор в сторону острова. Я начал поворачивать его, как будто это был пулемет, стреляющий очередями во все стороны. Естественно, ничего не произошло. Петлюра рассмеялся: – Я спешу, товарищ. Я проверил свои датчики и обнаружил, что на трансформатор подавалось недостаточно энергии. – Напряжение упало. Мне придется использовать запасные батареи. – Я указал в сторону лестницы – туда, где располагались устройства. – Кто-то должен потянуть этот большой рычаг до упора вниз, когда я подам сигнал. Петлюра уставился на меня, как на сумасшедшего: – И это сработает? – Потяните за рычаг! Какой-то дурак пошел к рычагу, гремя шпорами и орденами; военный гений, который мог усидеть на лошади и поэтому стал генералом в идиотской армии Петлюры. Он потянул за рычаг, прежде чем я отдал команду. Над батареями появилась вольтова дуга. Солдаты отпрянули. Раздался грохот, вспыхнул огонь. Петлюра закричал и бросился бежать, его люди последовали за ним, в то время как я сражался с уцелевшим оборудованием. Но сделать ничего уже было нельзя. Я открыл один из заполненных соломой ящиков для боеприпасов, в которых доставили мои вакуумные трубы. Труба все еще оставалась там. Мне требовались только линзы. Я начал снимать их как можно быстрее. Кто-то вернулся. Раздался пистолетный выстрел, труба на треноге взорвалась, и, закрыв глаза, я ощутил, как осколки стекла врезаются в мои руки и в лоб. Второй выстрел предназначался мне. Петлюра, очевидно, хотел убедиться, что большевики не получат никакого преимущества. В тот момент это показалось мне странным актом мести. Тогда я подумал, что стрелял сам Петлюра. Но теперь полагаю, что ошибался. Я видел вспышки пистолетных выстрелов и темный силуэт. Я отодвинулся за одну из колонн, укрывшись снаружи на балконе. Всю обойму разрядили, а потом человек убежал. В огне еще что-то уцелело. Там остался мой ящик с соломой. Я попытался вытянуть по крайней мере одну из труб в безопасное место, но в любой момент она могла перегреться и взорваться – тогда моя смерть была бы неминуема. Раздавалось шипение электрических разрядов. Все провода были проведены просто ужасно. Но самая большая опасность, которой я подвергался, – сгореть заживо. Я не смог спасти ни одной линзы, ни одной трубы. Я осторожно спустился по лестнице, прислушиваясь, готовый к встрече с убийцей. Но он исчез. Я услышал, что отъезжали какие-то автомобили. Появились монахи с тонкими свечами; они смотрели на меня с укором. Я пытался жестами и взглядами извиниться, но они отвернулись от меня. Я соблюдал осторожность и не открывал рта. Я все еще не мог поверить, что подобная ненависть и насилие могут быть направлены на меня. Я выскользнул из церкви. Мимо пробежал еврей в ермолке. Он задыхался и что-то прижимал к себе. Сверток. Я подумал, что это ребенок. Но это была, вероятно, семейная реликвия, которую он надеялся спасти от новых захватчиков. Мужчина был довольно молод, лет двадцати, и рыжеволос. Но при всей его очевидно еврейской внешности его можно было назвать красивым. Когда еврей удалился, остались лишь горы грязного снега. Все было мертво. Я нервно зашагал обратно к Крещатику, но меня никто не побеспокоил. Жители попрятались в свои подвалы. Все гайдамаки исчезли. Я добрался до «Европейской», вошел в пустой вестибюль и поднялся в свою комнату. Там никого не было. Мой номер обыскали. Ничего существенного, впрочем, не взяли. Я спрятал свой диплом, паспорт и другие бумаги, а также немного золота, в особый потайной карман брюк. Я собрал свои заметки и понял, что большая часть записей, касавшихся прибора, вместе с описаниями производственных процессов, исчезла. Я разложил пакетики кокаина в заранее пришитые потайные карманы в жилете и пиджаке. Я подумал: неужели Петлюра сам решил продать мои чертежи врагам? Но я ничего не мог поделать. У меня больше не осталось никаких доказательств того, что я построил и испытал смертельный луч. Меня грубо и цинично предали. После недолгих размышлений я решил взять все, что смогу, и отправиться на станцию. Ночью это могло быть опасно. Мне следовало подождать до рассвета. Я лег спать прямо в одежде, потому что отопление в гостинице было отключено. Я слышал выстрелы. Желтая кровь заливала мне глаза. Я корчился в грязи. Моя мать горела в огне. Бронзовые потоки текли по киевским улицам. Солнца вставали и останавливались над полем битвы, которым стал весь мир. Уходили годы – а я все что-то искал. Утром я выглянул из окна и увидел, что красноармейская конница скачет по Крещатику.
Глава двенадцатая
Казалось, что красно-коричневая грязь выплеснулась на широкую холодную улицу и залила ее. Безжалостная и организованная, она растекалась под гул двигателей и стук копыт, заполняла здания, дисциплинированная, как немцы, и пугающая, как гайдамаки. Я наконец увидел настоящую армию и испугался. Вот что Троцкий, Сталин и Антонов создали из нашей старой царской армии: они пропитали ее большевистским фанатизмом и распалили обещаниями земли и Утопии. Мечта, за которую стоило убивать. И это была российская армия. Звучали песни. Люди ехали на лошадях, в автомобилях или шли пешком и смеялись так беззаботно и отчаянно, как смеются только русские во время сражений. На всем Крещатике не было ни единого националистического или республиканского флага. В тот холодный солнечный день не открылся ни один магазин. На улицах остались только лед и большевизм. Без особенной надежды я собрал все вещи. Я оделся в свой старый безликий черный с белым костюм. Я успел зажечь сигарету прежде, чем дверная ручка повернулась и усталый голос спросил, кто занимает номер. Я немедля подошел к двери и распахнул ее. «Доброе утро, товарищ, – произнес я. – Рад вас видеть. Наконец-то! Я Пятницкий». Это был чекист-комиссар в кожаной куртке; они все носили такие, а многие носят до сих пор – эти кожанки так же легкоузнаваемы, как анораки сотрудников спецслужб. У комиссара были золотистые волосы, большой рот и ходил он, поджав губы. Позади него стояли трое солдат-красноармейцев в матросской форме с красными звездами и нагрудными патронташами. В руках они держали длинные винтовки с неподвижно закрепленными штыками. Чекист, перелистывая регистрационную книгу гостиницы, спросил: – Вы здесь часто останавливались, гражданин. Это ваш дом? – Я лишился дома, – сказал я. – Его разграбили люди гетмана и Петлюры. – Вы, похоже, не остались внакладе. – Он вошел в комнату. – Я был беден. Я работал в Советах. Пятницкий… – Я с трудом придумывал, что же соврать. Я отчаянно пытался отговориться, чтобы спастись от этого ужасного человека. – Вы приезжали сюда и уезжали, приезжали и уезжали. Почему? – Я был в тюрьме, – сообщил я. – По какой причине? – Без причины. Симпатии к большевикам было вполне достаточно, чтобы оказаться в киевской тюрьме. – Вас здесь не было, когда мы в прошлый раз вошли в город? – Я был в Харькове, у товарищей. – И кого же вы поддерживаете? Киевскую группировку? Я знал о разных партийных фракциях ровно столько же, сколько о видах цветов, которые можно увидеть во время прогулки по полю. – Я был неприсоединившимся, – ответил я. – Поддерживаю линию Москвы. Я пытался вернуться туда. – У вас есть документы? Я знал, что лучше не показывать настоящие документы, но в моем багаже все еще хранились запасные. Я открыл чемодан и вытащил их: – Видите, я ученый. – Доктор Пятницкий? Вы очень молоды. – Я преуспел в Петрограде, товарищ. – Вы получили степень в Киеве. – Меня перевели. Именно поэтому я и оказался здесь. Товарищ Луначарский – мой знакомый. Он поручится за меня. – У вас хорошие связи, – сказал он с усмешкой. – По ночам можно повстречать немало большевиков с хорошими связями. – Я был знаком со многими товарищами в Петрограде перед революцией. У меня есть определенная репутация. Чекист вздохнул и потер подбородок моими бумагами. Он снял шляпу с широкими полями и посмотрел на меня зелеными глазами, выражавшими едва ли не сочувствие. Это был взгляд человека, который собирался меня убить. Он отвернулся. Начался ритуал. – Вы позволите этим товарищам обыскать комнаты? – Если вы считаете, что это необходимо. – В воздухе повеяло смертью. Этот запах был мне знаком. Впоследствии я научился легко его распознавать. – Вы жили очень хорошо. – Мне везло. – Откуда у вас деньги? – Я работал механиком. Он фыркнул. Я пожалел, что не остался у матери и не встал пораньше, чтобы успеть на одесский поезд. – Моей рабочей одежды, конечно, здесь нет. Он снова снял шляпу. Один из матросов нашел в ящике конверт и подал ему. – Нам по-прежнему нужны квалифицированные механики, товарищ. – Он высыпал себе на ладонь все петлюровские воинские знаки отличия. Я рассмеялся. Он уставился на меня. Чекист был одним из тех лишенных воображения людей, которые просто не умели смеяться. Я сдержал эмоции: – Мне предложили звание. Конечно, я от него отказался. Это всего лишь сувенир. – Майор? У меня обычно вызывал раздражение этот профессиональный сарказм, входящий в арсенал средств очень многих чекистов – да и всех прочих стражей порядка. Они лишены остроумия, но у них есть сила. Дурные шутки – худшее злоупотребление этой силой. – В самом деле? Майор? Я впечатлен! – На самом деле я был напуган. – Почему они предложили вам звание? – Они хотели, чтобы я им помог решить промышленные проблемы. – Какие? Запустить фабрики? Собрать автомобили? Или что-то еще? – Я просто консультировал промышленников. Чекист потер бесцветные брови. Он сжал суровые губы, как будто припомнил какое-то особо неприглядное прегрешение – свое или чужое. – Вы имеете какое-нибудь отношение к огню из той церкви? Это было похоже на чертов маяк. Он помог нам перемещаться прошлой ночью. Я слышал, Петлюра или французы установили там секретное оружие. Что-то пошло не так, как надо. Вы находились там? – Да, я устроил диверсию. Чекист улыбнулся. – В это время я находился под прицелом петлюровцев, – сообщил я. – Меня попросили заняться этим. Я согласился. Оружие должны были направить против наших сил, но я сбил прицел. Началась драка, и устройство взорвалось. – Думаю, вас следует расстрелять, – сказал комиссар. Я раздражал его. За время своей работы, он, очевидно, перестал прислушиваться к словам, различал только звуки, которые издавали его жертвы. Он научился замечать отчаяние и беспокойство и, по простоте душевной, принимать их за чувство вины. Я мог только продолжать упоминать имена большевиков, знакомых мне по Петрограду, вызывавшие то, что Павлов называл условным рефлексом. Они заставили его усомниться. Он, вероятно, ненавидел неопределенность, равно как и тех, кто заставлял сомневаться его самого, так что я играл в опасную игру. Эти московские чекисты в кожаных пальто славились поспешными решениями: взгляда на одежду и на руки было достаточно, чтобы проверить, занимался ли человек физическим трудом, затем следовали быстрая проверка на предмет буржуйского происхождения и команда «Расстрелять!». Кто-то отметил, что, руководствуясь этим критерием, в ЧК должны были расстрелять всех большевистских главарей. Мои руки не были нежными. Я протянул их к чекисту, ничего не говоря. Он нахмурился. Я протягивал к нему руки, демонстрируя пальцы и ладони, покрытые мозолями от физического труда. Комиссар заколебался, покашлял, затем вытащил папиросу из картонной пачки, которая лежала в одном из его карманов. Для этого ему пришлось передвинуть кобуру. Он чиркнул спичкой. Я осмотрелся по сторонам в поисках собственных сигарет. Мои документы исчезли в другом глубоком кармане чекиста. – Вы тратите впустую мое время. Вы арестованы. – Домашний арест? Что я сделал? – Нам нужна эта комната. Из коридора донесся звук шагов. Потом раздался женский голос. Вошла мисс Корнелиус, в свободном платье из яркого красного шелка, с красной же шляпкой-клош на голове. Губы и щеки были ярко накрашены и подчеркивали синеву ее глаз и золото волос. Увидев меня, она замерла на месте и засмеялась. –’Ривет, Иван! – Она обняла меня. – Шо, плохи твои дела? – Вы с красными? – спросил я по-английски. – ’Сё ’ремя с ими? ’От повезло, да? Ну, они посмешее других бу’ут. Или были. У мня новый прятель. Эт щас оч важно. Чекист внимательно разглядывал носки своих начищенных туфель. Он нахмурился и что-то резко приказал матросам. Они начали вносить чемоданы госпожи Корнелиус в комнату. Девушка огляделась по сторонам. – Я ж нико’о не потре’ожу? Они ’се сделают для м’ня. Но эт уж слишком, да? Прям ч’харда какая-то – никагда не знашь, в чьей постели окажься завтра? – Она резко подняла голову и разразилась хохотом. Потом опустила мягкую ладонь на мою руку. – А ты маленько подрос. Я попытался улыбнуться и принять непринужденный вид, чтобы убедить чекиста, остававшегося в комнате, в том, что перед ним представитель партийной элиты. – Луначарский здесь? – спросил я. – Он стал скучен. И эт его жена, или кто она там, оч зла. Не. Мне б быть с Лео, но он уехал куда-то. А мне его не догнать. Да я и не волнуюсь. – Какой Лео? – Лев, – пояснила она. – Ты знашь. Троцки. Малыш Трошка, как я его зову. Ха-ха-ха! – Вы… его… любовница… – Ха-ха! Так многие го’орят, Иван. Главн, у мня ’се в порядке. Точнее, эт лучше всео. Я птаюсь вернуться обратно. Как и ты, да? Я не выдержу тут ще зиму. – Собираетесь в Одессу? – П’чему б и нет. Он ни слова не го’орит по-аглисски, – сообщила она, указывая на комиссара, весьма злобно на нас глядевшего. – И ненави’ит мня. Да и тьбя, судя по всему. – Думаю, так и есть. Вы и правда собираетесь на побережье? – Я ’сегда любила эт море. – Она подмигнула. – Самое время для отдыха. Она знала, что я попал в беду. В таких делах на нее можно было положиться. – И как тут с трансп’ртом? – небрежно спросила она. – Зависит от того, кто вы. Человек в кожаной куртке произнес: – Постарайтесь говорить по-русски, товарищ. Живя в Риме… – Русски? – произнесла госпожа Корнелиус на своем отвратительном и одновременно прелестном русском. Было легко понять, как она, с ее красотой, очарованием и акцентом, завоевывала сердца большевиков высшего ранга. Она мешала чекисту гораздо сильнее, чем я. Девушка рассмеялась. Комиссар отвернулся, чтобы скрыть свой угрюмый вид. – Если хотеть, Иван. – Казалось, что она всех называла этим именем. – Это очен хороши товарыш. Он ехать в Одесса, работать там для партия чтоб. Его знать многи товарыш исчо с петроградски время. Думай, вы знать: он с товарыш Сталин – старый други. Так называемые сибирские большевики имели тогда больший авторитет среди рядовых членов партии. Сталин для меня оставался тогда только именем, которое связывали с различными неудачными кампаниями во время Гражданской войны; он не пользовался популярностью в среде еврейской интеллигенции, определявшей политику партии. Я сказал, вытащив часы, что, вероятно, опоздал на одесский поезд. Чекист сделал шаг назад и взял свою папиросу, лежавшую в пепельнице. – Поезд остановили. Его будут обыскивать в Фастове. – Тогда все в порядке. – Я даже не стану пытаться передать русский язык госпожи Корнелиус. – Вы можете послать телеграмму и приказать им немного задержать отправление. – Но как мне добраться до Фастова? – резонно спросил я. – Так же, как солдат, – ответила она. – На машине. – Я не настолько богат… Она хлопнула меня по плечу и начала надевать огромную лисью шубу и такую же шапку. – Брось! – сказала она по-английски. – Мы пое’ем на моем черт’вом автом’биле, ’от так! По ее приказу матросы собрали мои вещи, уложили чемоданы в большой «мерседес», который стоял у дверей отеля. По снегу разлилась маслянистая лужа. Мне на миг показалось, что это кровь. «Садись», – сказала госпожа Корнелиус. Я опустился на заднее сиденье. Мне не доводилось ездить в такой машине. Крышу подняли, и внутри было тепло. Она по-русски спросила водителя: – Что с бензин? – Куда нужно ехать? – На водителе была красноармейская шапка-ушанка с огромной красной звездой спереди. Вся прочая его одежда показалась мне обычной для царской армии походной формой: полушинель, перчатки, шарф, чтобы защитить лицо от холода, и защитные очки. – Фастов? – обернулась ко мне госпожа Корнелиус. – Фастов, – подтвердил я. – Хватит, чтобы добраться туда и обратно. – Водитель был удивлен. – Превосходно. Чекист стоял у входа в гостиницу, засунув руки глубоко в карманы. Он выглядел очень внушительно. Тут я вспомнил: – У вас мои бумаги, товарищ. Как будто лишившись последнего утешения, он вернул мне документы. Он, должно быть, крепко держал их. Чекист явно не одобрял поведения госпожи Корнелиус, но не имел никакой власти над ней. Теперь он лишился власти и надо мной. Он стал похож на демона, изображенного в пентаграмме. – Не забывать о телеграмма, – сказала ему госпожа Корнелиус. – И если товарыш Троцки на связь выходить и обо мне спрашивать, говорить ему, что я посажу товарыш Пьят на поезд до Одесса. – Да, товарищ! – Чекист впился в нас взглядом. Усмехающиеся матросы помогли завести двигатель «мерседеса», машина начала трястись и реветь. Двое моряков вскочили на переднее сиденье рядом с водителем. Третий встал на подножку, вскинув винтовку на плечо. Водитель нажал на рычаг, и мы с шиком рванули с места под красным флагом с серпом и молотом. Мы ехали в официальном большевистском автомобиле! Не раз по дороге нас приветствовали красные победители. Думаю, что госпожа Корнелиус оценила иронию происходящего. Она часто махала рукой остающимся позади, но при этом была больше похожа на королеву, чем на товарища. Именно тогда – едва ли не впервые – я почувствовал, как обретаю свободу. Позднее мне довелось часто испытывать подобное, и я всегда ценил такие моменты. Они все связаны с новым столетием. Я имею в виду не сексуальное освобождение, а свободу полета, свободу плавания, свободу скоростного передвижения на поезде, свободу моторных машин. В том чудовищном немецком автомобиле, охраняемом элитой революционной армии, рядом с красивой иностранкой (ее духи с ароматом роз, ее меха, ее замечательный цвет лица, ее элегантную самоуверенность я помню до сих пор), я познал свободу мотора. Я решил обзавестись таким же автомобилем как можно скорее. Госпожа Корнелиус также наслаждалась поездкой. Она смеялась: «Мы прям пара уцелевших, ты и я, Иван. Вот за что я люблю тьбя». Я все еще пребывал в изумлении от всего происшедшего. Именно она, в конце концов, спасла меня. Если бы не вмешательство госпожи Корнелиус, меня бы убили. Она толкнула меня в бок: «Никада не думай о смерти!» Внезапно я рассмеялся – такой смех могла вызвать лишь она одна. Я хохотал как ребенок. Мы мчались по направлению к Фастову вдоль бесконечной липовой аллеи. Я вспомнил свою цыганку Зою. Вообразил, что везу ее в этом автомобиле. Моя фантазия не имела ничего общего с неверностью по отношению к моей спасительнице. Госпожа Корнелиус не вступала со мной в сексуальную связь. Я даже не мечтал об этом. Она – моя лучшая подруга. И все потому что я оказался в Одессе у дантиста и умел говорить по-английски! Все мои успехи с тех пор были, как правило, связаны с ней. Она стала моей матерью, сестрой, богиней, ангелом-хранителем. И все же, по большей части, она едва замечала меня. Я забавлял ее. Она привязалась ко мне, как к любимому коту. Не больше – но и не меньше. И, подобно любимому коту, я выжил, чтобы обеспечить ей немного комфорта на склоне лет. Она почти не старела. Наверное, только на шестом десятке она начала хворать и набирать вес, хотя всегда отличалась внушительными женскими формами. Я ненавижу тощих девочек, пытающихся подражать мальчикам. Нет ничего удивительного, что сегодня кругом гомосексуалисты. В двадцатые годы встречались худышки, но госпожа Корнелиус всегда оставалась женственной. Я не могу сказать, что с той же определенностью, как она, способен обозначить свои сексуальные предпочтения, но в этом, полагаю, мне следует винить князя Николая Федоровича Петрова и, возможно, даже моего кузена Шуру, невольно показавшего мне, что женщинам нельзя доверять: они слишком стараются угодить множеству мужчин сразу. Это мужской мир. Те жеманные идиоты, которые приходят в мой магазин, понятия не имеют, что я повидал в жизни. Я понимаю каждое слово, каждый намек, каждый жест. Мир начался не в 1965‑м. Возможно, именно тогда он кончился. Любовь, спокойствие, понимание… Эти ценности теперь важны только для пожилых людей. А стариков больше не уважают. В России, если бы я жил там, меня назвали бы старым занудой, boltun. Мы смеялись над такими в Киеве. Я их хорошо помню: евреи с Подола, у которых не было ничего, кроме сплетен и воспоминаний, ошибочно принимавшихся за жизненный опыт. Подобная сентиментальность всегда раздражала меня и бесит до сих пор. Нет ничего удивительного в том, что дети этих людей бунтуют и становятся жестокими, прагматичными революционерами; цинизм – оборотная сторона всякой сентиментальности. Матросы на удивление обрадовались поездке. Я думаю, что им просто понравился автомобиль. Они повидали мир, знали, что рискуют жизнями, были в своем роде людьми доброй воли. Они не слишком изменились, наши русские моряки. Приходя в доки за водкой, я встречаюсь и беседую с ними. Они все так же уверены в себе и суровы. Тогда им нравилась госпожа Корнелиус. Они делали ей трогательные комплименты, которые, возможно, говорили и своим возлюбленным. Она отвечала, посылая воздушные поцелуи и делясь едой и сигаретами. Вдоль дороги на Фастов мы видели множество мертвых лошадей. Их тела окоченели. Некоторые были еще теплыми; чувствовался отвратительный запах. В сиянии зимнего солнца я видел и трупы людей; тела молодых крестьян, брошенные так, как Петлюра хотел бросить мое тело, чтобы прикрыть свое бегство. Петлюра оказался еще одним чувствительным человеком, предавшим все, за что, по его словам, он боролся. Как обычно, он назвал предателями тех, кого сам ввел в заблуждение; он принес их в жертву своим врагам, когда они начали сомневаться в его лжи. Эти мертвецы, вероятно, заслужили такую участь. Некоторые все еще держали в руках свою добычу – пару женских туфель, отрез ткани, декоративный кинжал. Но большинство мертвецов уже было ограблено последователями Маркса и Ленина. Мы миновали черную линию мертвых православных священников. Тела аккуратно лежали вдоль сугроба. Позади снежного завала, почти параллельно череде тел, возвышались деревья. Казалось, что тени падают в противоположную сторону, – солнце находилось не со стороны деревьев, а с нашей стороны. На снегу также виднелась кровь, и она была черной. Священники умерли уже давно. Распятия, конечно, с них сорвали, как и все прочие украшения, но одежда осталась нетронутой. Какая-то набожная женщина обнаружила мертвецов утром и попыталась придать им более-менее пристойный вид. Я вспомнил церковь и пение. Голоса нежных девочек. Я думаю, это католики-петлюровцы расстреляли священников. Госпожа Корнелиус отвернулась. – Меж нами, Иван, – доверительно прошептала она, – я не ож’дала ниче’о подобного. Вот що значит быть англичанкой! Там такому б не бывать. Те нужн’ ехать в Лондон, дружок. – Я думал об этом. – Там ты увидел бы м’ня совсем другой. – Она протянула моряку, стоявшему на подножке, уже раскуренную сигарету и подмигнула, улыбаясь ему. – Эт слабое место матросов: всегда п’нятно, чо им надо. Из-за них м’ня сюда и занесло. – Так вы не собираетесь в Одессу? – Не-а! Я как бы надеялась запрыгнуть на финский поезд и ехать туда, вроде как остановить лош’дь. Но все п’шло не так. И Лео может быть такой ревнивой свиннёй. Да не он один! – Почему бы не поехать со мной в Одессу? Французы там держат все под контролем. – Слыхала, там слишком много черт’вых большевиков. – Вы боитесь? Они как-то могут вам навредить? – Не! Они не уважают женщин. Понима’шь, в чем моя сила? – Думаю, да. – Они обращают внимание на женщин, только они в партии. Я для них всего лишь фантазия. У меня все будет х’рошо. Если Лео узнает, что я с т’бой в этом черт’вом поезде, он развернет его? – Полагаю, именно так он и сделает. – Я скорее сожалел о принципах, которые мешали (и всегда будут мешать) мне сотрудничать с коммунистами. Они, конечно, знали, как получить и удержать власть, – гораздо лучше, чем все их конкуренты. Они не допускали никаких неопределенностей. Многие противники большевиков в конце концов вернулись обратно к Ленину. Большевистский порядок все-таки гораздо лучше, чем полное отсутствие порядка. Когда мы въехали в довольно непривлекательный городишко Фастов, я увидел, что над куполом церкви развевается красный флаг. Синагога горела. Повсюду были красные казаки, кругом грязь и беспорядок. В небе над нами завис биплан, затем он снизился, пронесся над городком и улетел на запад. Как будто стремясь погрузиться в поезд, пушки и лошади запрудили улицу, ведущую к станции. Длинный одесский состав отвели с главной ветки на запасной путь. Люди толпились вокруг него. Здесь стояли красноармейцы, чекисты, женщины с младенцами, которых выставляли вперед, как талисманы, евреи, отчаянно спорившие с чиновниками, люди в форме с оторванными знаками отличия: их срывали так резко, что на месте прежних погон виднелись дыры. Юноши по-большевистски отдавали честь, старики бродили по глубокому снегу, отыскивая выброшенные вещи, красивые девушки опускали глаза и пытались флиртовать с людьми в кожаных куртках. Казаки с красными звездами на шапках бездельничали возле коней и грязно ругались на прохожих (нет ничего хуже казака, который сбился с пути истинного); в это время матросы построили рабочих и крестьян около поезда и погрузили их в купе первого класса, которые быстро переполнились и провоняли мочой. Богатые пассажиры вынуждены были перебраться в купе четвертого класса или даже в вагоны для животных в конце состава. Автомобиль промчался почти до самых путей и наконец остановился. Офицер в обычной военной одежде, в плаще и старой царской сине-белой форме с неизбежными красными звездами подошел к машине. Он никак не приветствовал нас. Обычная военная дисциплина осталась в прошлом. Потом она вернулась – и стала гораздо суровее. Люди в годы Второй мировой удивились, когда Сталин вернул воинские звания и армейские почести. Он все понимал. Когда война становится реальностью, должны существовать солдаты; а пока существуют солдаты, должны быть и способы управлять ими. Госпожа Корнелиус узнала офицера и приветствовала его. Он усмехнулся в ответ: – Что я могу для вас сделать? – Эт мой друг, – сказала она. – Он должен сесть на одесска поезд. Партийный дело. Он курьер комиссара Троцки. – В начале состава есть вагон для представителей пролетариата. Они собираются провести переговоры с французскими солдатами. Как вы думаете, они сумеют, товарищ? – Казалось, он с тревогой ожидал моего ответа. – Есть вероятность, – ответил я. Про себя же я взмолился: пусть язва большевизма никогда не коснется Франции. Но она напоминала газ, который пускают в траншеи. Она коснулась всех. С большевиками могло бы быть покончено, если б не тот выстрел в Сараево. Красноармейцы окружили группу людей в гражданской одежде. Я видел некоторых из них совсем недавно. Тогда они носили петлюровскую форму. Их отвели в сторону, за насыпь. Раздалось несколько пулеметных очередей, потом кто-то расхохотался. Охранники вернулись уже без заключенных. Я поблагодарил Бога и госпожу Корнелиус за свое спасение. Я проспал, пропустил поезд и, вероятно, поэтому смог спастись от расстрельной команды. Госпожа Корнелиус, сделав жест, который напомнил мне о матери, сразу начала заигрывать с моряками; она спросила, какие девушки им больше всего нравятся. «Сейчас мне подошла бы любая, – сказал один из них. – Я согласен даже на лошадь, если казак оставит ее одну на минутку». Я никак не мог прийти в себя. Я чувствовал, что мои губы пересохли, и гадал, заметно ли мое смятение. Один из матросов наклонился ко мне с переднего сиденья и потрепал по плечу: – Это не твоя вина, товарищ! – Я с благодарностью улыбнулся ему. Он усмехнулся в ответ. – Бог знает, что вы, большевики, замышляете. – Я смутился. – Не беспокойся, – добавил он. – Я не ссорюсь с большевиками. Пока они исполняют приказы Советов. Он говорил угрожающим тоном, как будто бросал вызов самому Ленину. Я никак не мог понять смысла этих слов. Я сказал моряку, что полностью с ним согласен и что у нас почти нет разногласий. Он уже отворачивался, чтобы вмешаться в спор между чекистом и женщиной с тремя маленькими сыновьями, которые отказались выдать свои сумки для осмотра. Я прошептал по-английски госпоже Корнелиус: – Почему они так безжалостно всех расстреливают? Это только приведет к новым смертям. Она нахмурилась; я решил, что оскорбил ее. Затем хмурый взгляд сменился подмигиванием. Она серьезно сказала: – Они жутк напуганы, Иван. И Лео, и эт мерзавцам плевать, кого убивать. Будто они хотят остаться на вершине черт’ва вулкана, к’торый вот-вот вз’рвется. Им его не остановить. Орать тут бесп’лезно! Вот и пробуют динамит. – Миссис Корнелиус внезапно расхохоталась. – Бедные гомики! – Вулкан извергается, унося куда меньше жизней, – заметил я. – Не на черт’вом Бали. – Госпожа Корнелиус была уверена в себе. – Они поднимаются, пока не встанут у самой чертовой лавы. Если их соберется достаточно, тогда, по их мнению, все застопится. – Она вытащила носовой платок из муфты, лежавшей на сиденье, и протерла нос. – Я читывать об этом, – гордо заявила она, – в… как его… «Иллюстрированном Пенни»[135]. Ты не видел нигде поблизости «Иллюстрированный Пенни», так? – Я никогда его не видел. – А я видала. Я могу много наделать, если читаю что-то хорошенькое. Мне было не так скучно, пока все это не пошло наперекосяк. Сколько уже прошло? Два годка? Ну, чуть больше годка после старикашки – он не любить меня. Нет – едва не упустил свой последний шанс. Он ведь не доверится Антонову, ведь так? Я с трудом ее понимал. Она так глубоко погрузилась в тайную политику большевиков, что была уверена: все могут постичь смысл ее слов. – Никогда не встречала такой кучи важных педерастов. Они, похоже, желают зацапать свое собственное королевство. Ясно дело, что я не могу зенок отвести от этих чертовых моряков! – Она вздохнула. – Ну, это было забавно, когда только началось. Пока они только и делали, что болтали. Мне надо бы быть умнее – не ошибаться. Ты поехаешь в Англию? – Надеюсь. – Я дам тебе мой адрес в Уайтчэпеле. Кто-то узнает, если я вернусь и куда я уйду. Но, скажу тебе, Иван, я отправлюсь на Запад при первой же возможности. Произнеся эти загадочные слова, она, окутанная дорогими мехами и ароматом французских духов, наклонилась надо мной и открыла дверь автомобиля. Когда я собрался выйти из машины, она, не снимая перчаток, полезла в сумочку, вытащила брошюру, напечатанную на грубой бумаге, и карандашом медленно написала на обложке одну-единственную строчку. Потом она отдала книжицу мне: «Не прочь, если я скажу здесь тебе „пока“, да? Я не проеду по этому чертову снегу, если получится». Два моряка повесили винтовки на плечи и вытащили мои чемоданы из ящика, крепившегося к задней части автомобиля. Сопровождаемый ими, я пошел по грязи и слякоти к вагону, который находился ближе всего к локомотиву. Множество головорезов, и мужчин, и женщин, следили за мной через запотевшие окна. Моряки свалили мои вещи на металлические ступени. Спотыкаясь, я протиснулся в дверь и оказался в спальном вагоне. Купе, однако, оказались настолько переполнены, что невозможно было вытянуть ноги. Большинство пассажиров напоминали крестьян и фабричных рабочих. Была парочка интеллигентов в темных пальто, подобных моему собственному. Я инстинктивно решил присоединиться к ним. Я уложил свой багаж, включая маленькую корзину от госпожи Корнелиус, но почти тотчас же понял, что совершил серьезную ошибку. Я не мог ответить на их вопросы и понять их намеки. Они освободили мне место, называли меня товарищем. Я пожал несколько рук и затем возвратился к двери вагона, чтобы помахать на прощание госпоже Корнелиус. Рука, скрытая лисьим мехом, взметнулась в воздух. Автомобиль уже разворачивался. Один из моряков теперь сидел рядом с нею, улыбаясь мне и своим приятелям. Я услышал негромкое: «Не вешай носа, Иван!» – и она исчезла. Я остался с грубыми казаками, бледными чекистами, усталыми матросами. Я вернулся в относительно безопасное купе, где мне тут же предложили флягу водки. Я сделал глоток. Это был дешевый самогон; такой гнали в Шуляевке, одной из самых грязных киевских трущоб. Мне показалось, что я тотчас ослепну; кроме того, адское зелье подействовало на мои голосовые связки посильнее одесского арака. Мужчина, который предложил мне выпить, круглолицый украинец в очках с толстыми стеклами и с густой рыжей бородой, рассмеялся и сказал: «Привыкли к лучшему, а?» Я сумел сказать, что не очень много пью. Это его еще сильнее развеселило: «Тогда вы не можете быть кацапом. Кто же вы? Мусульманин?» Я хотел было сказать, что я из Грузии или Армении, но испугался, что кто-то еще в вагоне мог знать те места. Я покачал головой и сказал, что я из Киева, просто прожил некоторое время в Петрограде и кое-где еще. – Я Потаки, – сообщил мой собеседник. Фамилия казалась как будто польской, но на Украине это не было редкостью. – А вас как зовут? – Пьят. – Так меня окрестила госпожа Корнелиус. По-русски это означало просто «пять». Я подумал, что это имя мне подходит, и решил продолжать свою игру. Он сказал в ответ, что у большинства из нас только два, и представил меня троим мужчинам и женщине, сидевшим в нашем купе. Я запомнил лишь имя дамы. Ее звали Маруся Кирилловна, и она была смуглой, худощавой и мрачной. Моя мать в молодости, должно быть, походила на нее. У нее были такие же темные глаза с тем же выражением, то ли откровенным, то ли наоборот. «Добрый день, товарищ», – проговорила она, расправила тугие кожаные перчатки и положила на колени маузер в кобуре. Она сидела ближе всех к окну и читала книгу – сборник стихов Мандельштама, изданный совсем недавно, судя по качеству бумаги. Прочие соседи оказались благодушными идиотами, но Маруся Кирилловна производила впечатление женщины весьма основательной. Я решил не разговаривать с ней, если она не станет задавать прямых вопросов. Россия в те времена рождала женщин, которые были гораздо лучше мужчин. Все достойные внимания мужчины погибли. А они были еще более безжалостны, некоторые из этих женщин. Они сурово судили себя. Они были настолько одержимы самоконтролем, что представляли опасность для всех, кто не демонстрировал того же. Поэтому я и хранил молчание. Единственный способ произвести впечатление на таких женщин сводится к тому, чтобы позволить их воображению работать в вашу пользу. Они склонны считать молчание достоинством и полагают, что неразговорчивый мужчина более умен. У меня бывали весьма продолжительные связи (и в России, и позднее), которые сохранялись только потому, что мне хватало ума держать рот на замке. Я мог бы быть истинным Софоклом. Это совершенно неважно. Две или три фразы – и я бы прослыл фальшивкой. Такие женщины избегают зеркал, считая их признаком тщеславия, и при этом всегда ищут свое отражение в возлюбленных. Я абсолютно уверен, что не успел поезд оставить позади трупы и удалых казаков, Маруся Кирилловна уже начала смотреть на меня с подчеркнутым уважением. Я опустил шляпу на глаза, притворившись спящим. История изгнания Данте вдохновила Листа, создавшего те болезненные звуки, звучащие в Большом, те латинские песнопения, которые исполняют русские девочки. Что англичане знают об изгнании? Они не испытывали ничего подобного. Куда бы они ни отправились, везде создадут очередной Суррей, новозеландскую баранину и мятный соус. Даже волнующую, жуткую Австралию, с ее ящерицами, они попытались превратить в некий одухотворенный Торки[136]. Римляне оставили после себя дороги и виллы, англичане же оставляют чашки с холодным чаем, несвежие блины и пансионы, засоряющие весь мир от Китая до Рио-де-Жанейро. Они не испытывают эмоций, не могут смириться с потерей, хотя бы так, как американцы, и прикрываются вежливыми приветствиями и кофе по утрам. И потому, что смерть настолько неприятна, они не могут взглянуть страху в лицо и улыбнуться в ответ. Они уничтожили свой закон и разрушили свою Империю – и точно так же лишились своего благородства. Финикийцы сгинули, ушли куда-то под парусами. Что может спасти мир? Не еврейско-мусульманский Бог. Мы уже испытали прелести власти раввинов и ханов. Наши казаки встречались с ними и встретятся снова, если возникнет необходимость. Только Сын может спасти нас. Христос – грек. И греки знали об этом. Они смеялись над евреями, высказывая неожиданные новые идеи, которые обнаружили в Палестине и воскресили в Византии. Необходимо защитить Грецию. Как англичане защищали Кипр? Они позволили турецким крестьянам осквернить его. Эти сыновья ислама ничего не знали. Они не могли заботиться о зданиях, которыми завладели, об оливковых рощах и виноградниках. Греки лишились всего. Ислам набирает силу. Сионизм набирает силу. И с востока снова надвигаются ханы, с черепами на знаменах, но теперь это череп Мао, который скалится на нас с копейного древка. Россия должна защищать Запад в одиночку? До сих пор? Украина должна утонуть в свежей крови? Я поклоняюсь Ему: Кyrios[137]. Боже. Христос Святого Павла. Греческий Христос. Я поклоняюсь Ему. Платон, Архимед, Гомер и Сократ – Бог предназначил их стать первыми пророками Иисуса, греческого Мессии. Вот почему евреи ненавидели его. Он проповедовал Разум и Любовь. Их завистливые черные глаза были обращены за Средиземное море, они видели восходящий Свет. Ах, Иерусалим. О Карфаген. Они разделят весь мир великой стеной. Что такое раса? Ничто. Свойство духа. Христос – грек. Ислам и сионизм обращают горящие черные очи на запад. Свет слишком ярок для них, чужд им. Они терзали его. Эти древние дьяволы, эти примитивные души. Что они знают о смирении, со своими коранами и талмудами? Все, что им ведомо, – месть. Смотрите, как они сражаются. Все, что им ведомо, – месть. Что мы им сделали? Огни горят на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии, огни на алтарях невежества. Бог пытался убить собственного Сына и не смог. Его Сын вернулся из изгнания в Византию и сражается там до сих пор. Где гармонично слились Восток и Запад, там – Христос. И это знание каждый русский хранит в сердце своем. Вот что пытался поведать нам Тихон, наш мученик Тихон. Ирод. Нерон. Сталин. Они стремились убить Пастыря. Но они только резали овец. Бандиты-правители приходят и уходят. Они умирают, недоумевая, удивляясь, почему же они ничего не выиграли, почему не смогли одержать победу. И великодушие Пастыря сильнее, чем когда-либо. Он – наш защитник, наше успокоение и наша надежда. Когда настала ночь, в поезде похолодало, и я вынужден был достать цыпленка и салями из моей привлекающей внимание корзины. Все соседи были мне благодарны. Даже Маруся Кирилловна ела не по-женски жадно. Поезд двигался очень медленно. Мы до сих пор еще не проехали Винницу – значит, пройдет немало времени, прежде чем мы достигнем Одессы. Пару раз мы слышали выстрелы или видели вспышки ружейного или артиллерийского огня вдалеке, но ни один из нас не мог даже предположить, кто с кем сражался. Маруся Кирилловна высказала мнение, что бьются отряды гайдамаков. Я думаю, что она была права. Тысячи атаманов пытались удержать ничтожные территории, пока основные силы сближались, готовясь к решающим сражениям нашей Гражданской войны. Иногда выстрелы доносились из поезда. Нас сопровождали красноармейцы, которые должны были высадиться, когда поезд достигнет территории, занятой бандитами; эти негодяи, подобно вьетнамцам, сочли весьма благоразумным провозгласить себя большевиками. Так они получили оружие и деньги и теперь могли добиваться собственных ничтожных целей. Потаки заскучал. Он то и дело выходил из вагона, возможно, чтобы посетить уборную, хотя одна была рядом с нашим купе, и возвращался, стуча башмаками и хлопая руками. Женщина смотрела на него все более раздраженно. – Пытаетесь заставить поезд двигаться побыстрее, товарищ? – Я надеюсь завтра утром оказаться в доках, – объяснил он. – Туда прибывает французский корабль. – И что вы сделаете? – Другой пассажир поддержал Марусю Кирилловну. – Побеседуете с каждым французским моряком, сходящим на берег? Объясните, как они мешают делу мировой революции? – Они выгружают боеприпасы. – Потаки уселся рядом со мной и вытащил бутылку водки. – Мне нужно узнать, с каким оружием нам придется столкнуться. – Сделав внушительный жест, он одним глотком допил водку. – Надеюсь, что вы не станете сразу разглашать полученную информацию, – сказала женщина. Она встала, расправила темную юбку, потом аккуратно уселась на место. – Кто-нибудь знает, который час? Я вытащил свои часы. Они остановились. Я убрал их в карман: – Увы, нет. – Мы, должно быть, приближаемся к территории Григорьева. – Потаки нагнулся к смуглолицему человеку, который сидел у окна и читал газету. Он протер запотевшее стекло, но увидел только лед – и изнутри, и снаружи. Он потер живот. – Эта ваша колбаса, должно быть, сделана из кошек и крыс. – Он рыгнул. – Вряд ли она из собачатины, с собаками я всегда лажу. – Он рассмеялся. Мы становились все болеераздраженными. Он почувствовал это, извинился, пустил газы и удалился в коридор, наполнив купе дурным запахом. Мы оставили дверь открытой, несмотря на холод, пока воздух не очистился. Никто не стал обсуждать источник запаха. Поезд остановился. Со стороны локомотива слышались крики. Мимо нашего вагона пробежали. Раздался стук. Шаги удалились. Труба локомотива снова задымила, мы двинулись вперед. Потаки вернулся и сообщил нам, что на линию упало дерево. Солдаты расчистили дорогу. – Они к этому привыкли. Я никогда не видел такой слаженной работы. – Он сделал паузу. – Я надеялся на более спокойную поездку. Как вы думаете, они позволят беженцам проехать? Смуглый мужчина с газетой был озадачен: – Мы не беженцы. – Они этого не знают, не так ли? Вот ублюдки! Хуже поляков. – Вы из Галиции? – спросила женщина. – Я много лет провел в Москве. И два года в Сибири. – А где в Сибири? – задал вопрос мужчина, сидевший напротив Потаки. – Поблизости от Кондинска. Потом несколько месяцев пробыл в армии. – Я бывал в Кондинске, – сказал человек, задавший вопрос. Он посмотрел на меня. – А вы тоже сибиряк? – К счастью, нет, – ответил я. – Это хороший опыт, – сказал Потаки. – Так гораздо лучше понимаешь, за что борешься. Ты живешь как крестьянин. Каждый должен испытать это добровольно, это не позволит оторваться от земли. – Или оказаться под ней, – заметил смуглый человек. Только мы с Марусей Кирилловной не стали смеяться над этими словами. – Молоко там можно резать на куски, – ностальгически произнес Потаки. – У вас было молоко? – У крестьян было. Они подчас очень добры. На это стоит посмотреть. Вы видели, как они режут молоко? Мужчина, сидевший напротив, кивнул, но теперь скептически смотрел на Потаки, как будто не верил, что его спутник вообще был политическим заключенным. Элита в те времена создавалась очень быстро. Вне зависимости от интеллектуальных способностей один только срок заключения в Сибири придавал особый вес каждому замечанию. Большевики напоминали дикарей. А ведь почти все они получили изначально неплохое образование. Поезд шел все быстрее. Скоро он мчался так же, как один из довоенных экспрессов. Это нас обрадовало. – Мы можем к утру оказаться в Одессе, – сказал Потаки. Он расслабился. Его товарищ-сибиряк спокойно сказал: – Теперь я больше не чувствую себя одиноким. Особенно после такого долгого одиночества. Каждую весну я как будто возрождаюсь. Становлюсь новым человеком. Но с теми же самыми политическими убеждениями, разумеется. Все это, однако, – разум. Разум остается. Но душа перерождается каждую весну. Он стал таким же скучным, как Потаки. Мужчина у окна зашелся в приступе тяжелого, чахоточного кашля, который усилился, и человек начал фыркать и хрипеть. – Полагаю, это астма, – сказала Маруся Кирилловна и попыталась открыть окно. Все запротестовали: – Выведите его в коридор. Потаки помог мужчине встать на ноги. Кровь выступила на губах больного. Он пытался сдержать кашель и в то же самое время набрать в легкие воздуха. – Вам нужен доктор. – От скуки и от желания показать, что я хороший товарищ, я встал и прошел по вагону, спрашивая, есть ли здесь врач. Естественно, его не было. Люди с настоящей профессией не пожелали бы ехать в политическом вагоне. Они занимались реальными делами. Кашель утих, когда я вернулся. Лед осыпался с одного из окон и растаял в клубах налетевшего пара. Я разглядел несколько голых деревьев и маленькие заснеженные холмы. Мы миновали что-то, напоминавшее цыганские костры. Я почувствовал себя намного лучше, как только мы набрали скорость. Я оставался в коридоре в течение следующего часа или двух, курил и размышлял. Мне повезло. Ни один из большевиков не стал задавать вопросы. Все решили, что я еду по важному делу, потому что меня привезли на служебном автомобиле. Наступил рассвет. Ход поезда не замедлялся. Мы были примерно на полпути к Одессе. Из купе вышла Маруся Кирилловна. Она явно закоченела, вытягивала ноги и руки, как балерина. Ее пистолет висел на бедре. Я заметил, что и юбка, и черная блуза сшиты из дорогого шелка. Она не знала лишений, привыкла к лучшему. Женщина кивнула мне и попросила сигарету, которую я охотно дал. У меня с собой было несколько сотен. Этот запас, вероятно, окажется бесценным. Мы закурили. Она то и дело потирала шею. Кажется, моя спутница побледнела еще сильнее. Я подумал, а не еврейка ли она. В линии ее рта было что-то такое… Она зевнула, разглядывая серый снег. Небо было тяжелым и мрачным. Между ним и землей повис желто-серый туман. Я никогда больше не видел ничего подобного. Казалось, все окружающее угнетало мою соседку. Я ощутил нелепое желание обнять ее за плечи (хотя она была почти с меня ростом). Я пошевелился. Она начала всматриваться в мое лицо. Казалось, ее что-то поразило. Она быстро произнесла: – Вы устали. Вам нужно отдохнуть. – Ага, – вздохнул я. Мне показалось, что это прозвучало многозначительно. – У вас, должно быть, много всякого на уме. Слишком много думать – это изматывает, да? – Да, конечно. Она запнулась: – Я… вам мешаю? – Нисколько. – Я протянул к женщине руку, но так ее и не коснулся. – Мне просто скучно. Это ее успокоило. – Не могу долго стоять без дела. Наверное, именно это важнее всего для революционера. Нетерпение. Как человек, основным достоинством которого всегда было терпение, я не мог ничего ответить. Возможно, ее обобщение оказалось совершенно точным и объясняло, почему я не стал революционером. Хоть я и не слишком терпелив с дураками, но не стану негодовать, если автобус опоздает на пять минут. Маруся Кирилловна продолжала: – Кто-то хочет создать Утопию в одно мгновение. Трудно понять, почему люди сопротивляются, не так ли? У них просто нет воображения, мне кажется. Или мечты. Мы должны дать людям все это. Вот наша задача. У каждого из нас своя роль, свои обязанности, свой долг. Я кивнул. Поезд замедлил ход, затем снова набрал скорость. Он громыхал по склону, медленно поворачивая, и все было серым, включая локомотив, часть которого я мог теперь разглядеть. Серой стала наша кожа. Серыми стали окна. Дым от наших сигарет сливался в одно серое облако у самого потолка. – Но интересно, что такое долг? – спросила Маруся Кирилловна. И тут снаружи донесся шум. Я осмотрел насыпь и увидел мужчин в тяжелых пальто. Некоторые из них сидели возле пулеметов, другие стояли во весь рост и стреляли в нас из винтовок. Стекло разбилось. Я упал на пол, потянув за собой Марусю Кирилловну. Поезд заскрежетал и закачался. Холодный воздух заполнил коридор. Состав трясся, как будто смертельно раненный; он прополз по склону еще немного, потом содрогнулся и замер, безжизненный, за исключением звука вырывающегося из топки пара, напоминавшего последние вдохи умирающего. Кровь Маруси Кирилловны залила мою рубашку и куртку. Руки стали теплыми от крови. Лицо женщины превратилось в окровавленную массу. Единственное, что я смог разглядеть, – глаз, смотревший на меня грустно и неодобрительно. Заползая обратно в купе, я подумал, что она умерла точно так, как должна была, – в соответствии с романтическим складом характера. Такая возможность выпадает немногим. Большевики в купе искали в своих сумках пистолеты, которые все они, казалось, везли с собой. Я был очень удивлен, увидев столько металла в этих мягких руках. Я снял с полки свои мешки и, подталкивая их перед собой, перебрался через тамбур в следующий вагон. Я не хотел, чтобы меня сочли одним из красных. Я очутился в толпе крестьян. Кто-то из них кричал, другие же сидели молча, прикрыв головы руками. Все стекла в этом вагоне тоже оказались разбиты. Несколько человек было ранено, кого-то убили наповал, но мертвые сидели между соседями-пассажирами, которые не могли или не хотели пошевелиться. Это было странно. Крестьяне решили, что я чиновник, и начали расспрашивать, что случилось. Я сказал, что намерен выяснить. Но для этого они должны пропустить меня. Они отпихивали друг друга, некоторые даже снимали шапки, позволяя мне протиснуться вперед. Снова застучали пулеметные очереди. На сей раз стреляли с поезда. Потом последовали еще залпы. Раздались крики со стороны насыпи и из поезда. Перестрелка прекратилась. Казалось, начались переговоры. Я дошел до конца второго вагона и решил переждать здесь. Уборная была занята. Я поставил свои мешки на кучу чьих-то вещей и сделал шаг в сторону, притворившись, что просто хочу попасть в уборную. Через разбитое стекло я увидел, что какие-то приземистые фигуры сползали с насыпи. Они казались темными шрамами на белом снегу. Люди смеялись и произносили слова «товарищ» и «советский». Я начал понемногу успокаиваться. Это были большевики, которые случайно открыли огонь. Но они находились далеко от линии фронта Красной армии и не носили красных звезд на одежде. По правде сказать, у них не было вообще никаких опознавательных знаков. Я предположил, что это люди из нерегулярных войск.Глава тринадцатая
Эти люди говорили на смеси русского и украинского – понять их было достаточно легко. По крайней мере половину того, что они выкрикивали, составляли лозунги. Нападавшие начали спорить с защитниками поезда. Им нужны были припасы. Красноармейцы заявили, что в поезде только пассажиры. Я услышал, как один из вновь прибывших расхохотался. – У них наверняка есть кое-что. Кто они такие? Кацапы? Направляются во Францию? – В поезде едут важные товарищи. У них дела в Одессе. – У нас тоже дела. Давайте нам евреев и пару кацапов. Нам нужна еда. Знаете, сколько мы здесь торчим? – Вы с кем? – С Григорьевым. – Он сражался против нас. – Теперь он снова за вас. – Откуда нам было знать? Настала тишина. Потом донесся шепот. Потом какие-то клятвы. Затем, через несколько мгновений, моряки подошли к поезду, стуча в двери прикладами винтовок: «Все на выход; досмотр, граждане». Они остановились, добравшись до партийного вагона. Я начал пробиваться туда, но теперь крестьяне сбились еще теснее, пытаясь собрать свои пожитки. Меня отпихнули обратно. Я сумел ухватить один чемодан. Другой пришлось оставить. Я решил вернуться в свое купе по земле. Галош у меня не было. Я провалился в тающий снег. Подмораживало. Мои ботинки и брюки промокли насквозь к тому времени, как я достиг вагона. Я поднимался по ступеням, когда солдат закричал: – Стой на месте! Я смотрел на него, улыбаясь: – Я просто иду в свой вагон, товарищ. Я пытался помочь людям в задних вагонах – там, где стреляли. Солдат, сохраняя мрачное выражение лица, выслушал меня. Он на мгновение задумался. Я продолжал подниматься в вагон. Он спросил: – Почему у тебя чемодан? – Я случайно прихватил его. За меня поручатся мои товарищи. Я открыл дверь вагона. Охранник передернул затвор на винтовке. – Подожди, я должен проверить. – Это глупо. – Нужно соблюдать осторожность. Я обрадовался, что при мне оказался чемодан с запасными документами. По крайней мере, они могли засвидетельствовать, что я всего лишь невинный инженер, таким было, если угодно, мое прикрытие для Одессы. На снегу оказалось теперь народу больше, чем во всем Фастове. Я слышал, что крестьянин спросил повстанца, где мы находимся. Около Дмитровки, ответил солдат. Это был городок примерно в пятидесяти верстах от Александрии. Как можно догадаться, мы ехали не прямым путем, хотя, конечно, и приближались к Одессе. Я обрадовался, что мы еще не достигли территории, управляемой печально известным батькой Махно, который, предположительно, сражался на стороне большевиков, но приобрел дурную славу из-за бесконечных предательств. Он в одиночку едва не разбил националистов под Екатеринославом в ноябре. Людей Григорьева оказалось немного; они выстроились так, чтобы останавливать любой проходящий поезд. Пассажиры начали утверждать, что над локомотивом висел красный флаг. Гайдамаки уверяли, что просто ошиблись. Националисты тоже не умели действовать честно. Появился смуглый предводитель нападавших – жирный грубый человек с тяжелыми черными бровями, одетый в темный кафтан с патронташами, подпоясанный красным кушаком, папаху, французские армейские брюки и сапоги. При себе он имел два маузера, разнообразные ножи и, конечно, казачью саблю. Мужчина зловеще помахивал нагайкой. Подобно всем казакам, он знал ценность этого орудия, вызывающего ужас. Им можно было убить. Злодей наслаждался своей властью. Я начал думать, что лучше бы было остаться у чекистов. Главарь остановился, приблизившись ко мне, – я именно этого и ждал. Он с некоторым интересом осмотрел мою приличную одежду. Брюки промокли до коленей, и на мне все еще оставались капли крови Маруси Кирилловны. – Что в чемодане? – надменно спросил он. – Золото? – Конечно, нет. Я здесь по делам партии. – Из Москвы? – Из Киева. – В Москве теперь все жиды. – Он задумчиво поглаживал свою нагайку. Я кивнул. – И в Киеве. Вот что мне не нравится. Выходит, мы помогаем жидам. – Он отвернулся от меня с отвращением и, как будто рассчитывая на поддержку, посмотрел на испуганных крестьян. – Куда едете? – В Одессу… – начал я. Он снова обернулся ко мне: – Я с ними говорю. Куда едете? Крестьяне хором произнесли названия различных городов и поселков. Он сдвинул тяжелые брови. – Хватит! – Он указал нагайкой на явных евреев, включая двоих в ермолках, и приказал им выйти вперед. Они протолкались сквозь толпу и остановились. Казалось, надежды у них не осталось. – Все остальные – обратно в вагон, – произнес он. Я начал снова подниматься по лестнице, но дальше прозвучало: «Не ты!» и «Назад!». Я почувствовал нарастающее раздражение. – Не стоит этого делать, товарищ. – Ты чертов большевистский жид. Двойное оскорбление меня возмутило. – Моя фамилия – Пятницкий. Я инженер. – Как тебя зовут на самом деле? – У меня есть паспорт, – ответил я, положил перед ним чемодан, распахнул его, достал свои запасные документы и протянул их собеседнику. Он бросил на меня злобный взгляд, и я догадался: он не умел читать. Но поднес бумаги к самому носу, медленно изучая их. Он засунул их в рукав, тщательнее всего рассмотрев фотографию. – Пятницкий. Это русская фамилия. – Ничего не могу с этим поделать, товарищ. Я работаю в интересах Украины. – Помогаешь националистам? – Мне не важно, как их называют. Я пытаюсь освободить Украину от всех иностранцев. – Включая жидов? – Естественно. – Тогда ты тоже предатель. – Я не еврей. – Наверное, среди большевиков ты такой один. – Могу я вернуться в вагон? – Почему они тоже не вышли из вагона? – Он оглядел окна. – Мы – люди партии. – Жиды, едущие домой в Одессу. – Он ударил по стеклу нагайкой. Стекло раскололось. Он рассмеялся. – Вперед, товарищи. Все вон. В снег вместе с пролетариатом. Большевики не вышли. В конце концов бандиты забрались в вагон и вытолкали всех наружу. Люди сбились в группы, как нахохлившиеся цыплята. Они спрятали револьверы в карманы и сумки. Многие спорили. Некоторые показывали пропуска и удостоверения. Они шумели гораздо громче, чем все остальные пассажиры поезда. – Заткнитесь! – крикнул наш враг. – Сколько у вас денег? – Денег? – Это, кажется, произнес Потаки. – Нет никаких денег. – Чертовы красные жиды. Золото! – Погромщики! – выкрикнула изможденная женщина, кутавшаяся в косынку. – Вы перебили здесь половину людей. Трупы повсюду. Вы убили девочку! – Мы привыкли убивать, дамочка. Это для нас обычное дело. – Троцкий обо всем узнает, – сказал кто-то из пассажиров. – Тогда Троцкий узнает, как мы на Украине относимся к жидам. Мы не работаем на жидов, красных, белых, зеленых или желтых. Мы уже их достаточно навидались. – Антисемит, невежда, капиталист… – Совершенно согласен, товарищ. Григорьев борется с вашими господами, потому что это ему выгодно. Он избавляется от землевладельцев. Вы думаете, что используете нас. Нет: мы используем вас. – Он взмахнул нагайкой. Плеть просвистела над головой женщины. Она зарыдала, у нее свело дыхание: – Ты ублюдок! – Нам нужно золото и припасы. Нам их обещал Антонов. Где все это? – Все в следующем составе, – сказал я. – В специальном поезде. – Откуда ты знаешь? – Мы говорили о вашем грузе накануне моего отъезда. Все знали, что это срочно. – Поезд пойдет по этой линии? – Следом за нами. – Верно. – Кто-то догадался о моих намерениях. – Он будет здесь через полчаса. – Хорошо, – сказал казак. – Мы подождем. – Может случиться авария, – заметил я. – Прекрасно. Тогда мы будем уверены, что поезд остановится, не так ли? – Вы нарушаете договор, – сказал Потаки. – Вы лишитесь нашей поддержки. – Мы и без нее прекрасно справлялись. Нам немедленно нужны поставки продовольствия и боеприпасов. К весне мы могли бы уже оказаться в Москве. – Казака переполняла какая-то провинциальная гордость – еще бы, он одержал несколько мелких побед. Он походил на тех викингов, которые напали на город на Сене и вернулись домой, утверждая, что уничтожили Рим. Он засопел и осмотрел меня с головы до ног. – Ты инженер. Какой именно? – Широкого профиля. – Разбираешься в моторных двигателях? – Конечно. – Можешь починить один? Я решил, что должен снискать расположение этого идиота, – иначе меня могут расстрелять. – Все механизмы, в общем, одинаковы. – Что? – Если не понадобятся новые детали. Я могу выяснить, что неисправно. Если чего-то не хватает, я могу придумать выход. Но если вы лишились какой-то важной детали… – У нас есть грузовик, он встал. Осмотришь? – Ради общего дела? Казак пожал плечами: – Ты осмотришь его? – Если пообещаете, что я вернусь в поезд, когда закончу. – Хорошо. Я не знал, собирается ли он дожидаться выдуманного поезда, или, наоборот, боится с ним встретиться. Я отнес свой чемодан обратно в купе. На первой странице записной книжки указал адрес дяди Сени, уложил ее в чемодан. В другом чемодане лежала только одежда. А этот был очень важен – в нем хранились мои планы, проекты, записи. Я присоединился к хмурому казаку. Его люди уже грабили поезд, красные матросы беспомощно наблюдали за ними. Пострадали не только евреи, хотя к ним относились хуже всего. Хасид с кровавым пятном на спине лежал мертвый между поездом и насыпью. Я последовал за казаком, который начал взбираться наверх. Я несколько раз поскользнулся и теперь был весь засыпан снегом. Я дрожал от холода. Наконец мы добрались до вершины. Мы сверху смотрели на узкую дорогу. На ней стояли жеребята, их охранял совсем молодой человек, почти мальчик, в изодранном овчинном тулупе. Пар от дыхания лошадей казался белее снега; создавалось впечатление, что здесь царило спокойствие. Дальше по дороге стояли три телеги, в которые можно было впрячь лошадей; чуть поодаль замер автофургон. От него поднимался еще более густой пар. Немецкие знаки отличия не до конца стерли с бортов машины, над которой развевался красный флаг. Капот был открыт. Два казака спорили о том, что увидели внутри, на каком-то диалекте. Когда мы приблизились, они умолкли. Один из них снял шапку, затем неловко надел ее. Их предводитель сказал: «Это механик из Москвы. Он осмотрит машину». Я тотчас же заметил, что шланг радиатора отсоединен. Требовалось всего лишь прикрепить его обратно кожаным ремешком. Я решил произвести на казаков впечатление. От этого зависела моя жизнь. – Кто за рулем? Болезненный парень, чуть ранее снявший шапку, поднял руку. – Заводите двигатель, – сказал я его напарнику. Рычаг уже был установлен. Казак начал поворачивать его, как крестьянин, достающий ведро из колодца. Наконец двигатель заработал и немедленно начал перегреваться. Я наслаждался его теплом на этом морозе. Я обошел вокруг грузовика, как будто погрузившись в размышления, приказал остановить двигатель и отойти назад. Они с готовностью подчинились. Не снимая перчаток, я взял шланг и поставил на место. Потом попросил ремешок, который почти тотчас же нашли. Я привязал шланг, снял крышку радиатора, посоветовал набрать снега в ковш и растопить его на двигателе. – Снег! – фыркнул главарь. – Эта штука ездит на бензине. Даже я был удивлен таким невежеством: – Сделайте, как я говорю. Двое мужчин нашли большую емкость для воды и начали руками собирать снег, запихивая его внутрь. Когда снег растаял, я сказал, что они могут заливать воду в радиатор, но не слишком быстро. В итоге радиатор был заполнен. Я сказал, что теперь можно снова заводить двигатель. Когда грузовик загрохотал и затрясся, предводитель заорал на меня: «Это не сработало! Что еще не так?» И тогда двигатель завелся. Казак, который проворачивал рычаг, отпрыгнул назад. По запаху дыма трудно было понять, какое топливо они использовали. Дым казался абсолютно черным – возможно, они заливали неочищенную нефть. Грузовик покатился на меня. Водитель закричал и вцепился в трясущийся руль. Водили они не многим лучше, чем разбирались в двигателях. Наконец казак нажал на тормоз. Я выбрался из сугроба и услышал звуки, доносившиеся с той стороны насыпи, увидел клубы пара. – Поезд уходит! – Ты только что спас себе жизнь, – усмехнулся предводитель. Он обрадовался, увидев, что грузовик на ходу. – Слава богу, можешь и так сказать. Какой смысл теперь ехать в Одессу? Ты только что спасся – не поехал к черту в пасть. Я не знаю, кем ты себя считаешь: евреем, кацапом или большевиком. Но теперь ты – официальный инженер в войске гетмана Григорьева, служащий под началом сотника Гришенко. Разве ты не гордишься этим? Бандиты вернулись, усмехаясь, размахивая своей постыдной добычей и хвастаясь ей. Все награбленное было брошено в грузовик. Мне пришлось залезть в фургон; я оказался частью добычи. Вокруг меня были украденные товары, пулеметы, боеприпасы, соленая свинина и две маленькие девочки, которые засмеялись, увидев меня, и предложили мне селедку. Я согласился. Эта трапеза могла оказаться последней в моей жизни. Девочки бормотали что-то с непонятным акцентом. Они спаслись из деревни, за которую сражались красные с националистами. Грузовик поехал. Сотник Гришенко ехал почти сразу за нами. На его суровом лице выразилось удовлетворение. – Закройте полог, если хотите. Так будет теплее. И не ешьте слишком много. Это продовольствие для большого отряда солдат. – Куда же, черт побери, мы едем? – Теперь не имело смысла проявлять вежливость. – Не волнуйся, жид, ты в надежных руках. Я в ответ закричал: – Я не еврей. Я еду по партийным делам! – Значит, ты едешь по еврейским делам, не так ли? – Собственная шутка ему явно понравилась. Он хлестнул лошадь и умчался вперед. Я выглянул наружу и увидел суровую, необитаемую холмистую местность. Полоса желтого тумана смыкалась с землей. Я попытался разглядеть дым – от поезда или от сельского дома, где я мог бы найти убежище. Но ничего не было видно. Все, ради чего я трудился, теперь осталось в чемодане в вагоне, полном большевиков, которые, несомненно, украдут все мои бумаги. Мать и Эсме, возможно, придут на станцию, чтобы узнать о моей судьбе. Я ничего не мог поделать – только надеяться, что мы проедем через какой-нибудь город. Можно будет попытаться сбежать и послать телеграмму в Одессу. Я пересел, устроившись поудобнее напротив пулемета на треноге. В итоге пришлось упереться локтем в кусок свинины. Становилось все холоднее. Я опустил тент, но оставил угол открытым, чтобы увидеть, поедем ли мы мимо крупного поселения. Я оказался в положении плененного волшебника. Пока я смогу показывать этим варварам простые фокусы – останусь в живых. Меня напугало утверждение бандита, что я еврей; казаки убивали жидов без зазрений совести. Обвините славянина в иудействе – и заберете дыхание из его тела, слюну из его рта, душу из его глаз. Я не боюсь смерти. У меня есть Бог, и у меня есть честь. Гордость моя исчезла. Люди смеются надо мной на рынке. Они все оскорбляют меня, даже евреи. Они разграбили мою лавку и касались своими грязными руками моей одежды; они глумились надо мной и задавали глупые вопросы. Госпожа Корнелиус кричала на них и прогоняла. Юные девушки так восхитительны! Они покупают белые ночные сорочки, тонкие блузки, шелковые панталоны, и они так красивы. Они должны петь «Данте» Листа под звуки арф. Оплакивайте изгнанников; оплакивайте Данте в его изгнании и его величии. Оплакивайте Шопена, который так и не сумел достичь гармонии со своим славянским духом и тоже стал изгнанником. Я хотел бы умереть в Киеве, глядя на сирень и каштаны. Большевики, вероятно, срубили все деревья, чтобы построить новые улицы и застроить многоквартирными домами, такими же, как и здесь. Вот ваш социализм! Рационалисты уничтожают наш мир. Там, где мы видим красоту и безграничные чудеса науки, они видят лишь аккуратную геометрию этих домов. Верните мне старую русскую изрытую колеями дорогу в бескрайней степи. Верните мне все, что было, и я позабуду Божий дар, дар науки и предвидения. Людям не нужен Прометей. А Прометей изнемогает под бременем знания. Дорога не улучшалась. Грузовик не останавливался. Машину часто заносило. Водитель компенсировал опыт внушительными порциями водки. Ему и впрямь нужна была храбрость, учитывая скорость, с которой он вел машину, и состояние дороги. Лошади и телеги остались позади. У меня появились бы неплохие шансы на спасение, если бы я тогда выпрыгнул из машины. Но я мог замерзнуть до смерти. У меня не осталось теплой одежды. У меня не было ни карты, ни представления о местности. Я даже не знал, по какой области мы ехали. Несмотря на шум от грузовика, неудобство и возню двух маленьких девочек, к вечеру я стал чувствовать себя спокойнее. Грузовик начал замедлять ход. Я выглянул из-под навеса. К своему восторгу я увидел, что мы проезжаем через большой поселок. Я ослабил крепление навеса и собирался выскочить, но тут грузовик остановился. Я свалился рядом со свининой и пулеметом. Маленькие девочки завизжали и захихикали. Я спросил, известно ли им, где мы находимся. Они не понимали по-русски. Мой плохой украинский был им тоже непонятен. Они вообще не получили никакого образования. Если бы их отправили в школу, они знали бы русский, ведь он был официальным языком. На темной улице зазвучали голоса. Я отодвинул навес и выскочил из машины. И тотчас натолкнулся на двух мужчин в синих куртках с золотыми нашивками. На мгновение я подумал, что это чиновники, и решил, что спасен, но затем заметил, что они тоже носили патронташи. У одного на голове красовалась матросская фуражка, у другого – меховая шапка-ушанка. Их густые бороды придавали им какой-то восточный облик. Они явно были бандитами. – Братские приветствия, товарищи! – Я широко раскинул руки, как будто собираясь обнять этих людей. – Пятницкий. Инженер и механик. Один из них тупо переспросил: – Что? Я повторил свои слова. К нам военным шагом подошел мужчина в чистой серой шинели и форменной шапке. Он бодро произнес: – Они не знают по-русски ни слова, кроме военных команд. Несчастные ублюдки могут выполнять приказы, но они не понимают шуток. Они с Волыни, неплохо говорят по-польски. Я подумал, что лучше сохранить в тайне мое знание польского. От знаний зачастую куда больше пользы, если ими не делишься. – Где мы? – спросил я. Он усмехнулся: – В чистилище. Мы сделали этот городок нашей базой. А вы откуда? – Мужчина был чисто выбрит и говорил как образованный человек. Он приказал перегнать грузовик к церкви, которую использовали как склад. – Я направлялся в Одессу. Гришенко попросил меня починить грузовик, так что пришлось сделать ему одолжение. Могу ли я откуда-нибудь отправить телеграмму? – Кто-то чинит провода. К утру связь заработает. По крайней мере, с Екатеринославом. Если бы удалось связаться с Екатеринославом, появился бы шанс перехватить поезд. Приехал сотник Гришенко со своими людьми; их усталые лошади еле тащились. – Так и знал, что ты водишь дружбу с евреями, Ермилов! – Он спешился и зевнул. Ермилов засмеялся: – Он сказал, что его фамилия Пятницкий. – У него даже есть документы, подтверждающие это. – Бумаги были извлечены из грязного рукава. – Видишь? Ермилов умел читать. При плохом освещении он взглянул на документы и пожал плечами: – Вполне приличные бумаги. Вы собираетесь уехать из России? – Разумеется, нет. – Я потянулся за своим паспортом. Ермилов заколебался, поглядел на Гришенко, затем передал бумаги мне. Я положил их в карман. – Я тружусь во имя партии. – Вы из Москвы? – Нет, из Киева. Я такой же украинец, как и все прочие. Я хочу, чтобы Украина вновь обрела прежнее величие. Гришенко фыркнул: – Что ж, кацапы и евреи держатся вместе. Удачи, Ермилов. Но не дай ему сбежать, да? Он нам нужен: пробормотал какие-то заклинания над нашим грузовиком, и теперь машина стала как новенькая. Гришенко направился к церкви и, ведя двух девочек за руки, шагнул за порог, будто отец, стремящийся преклонить колени в храме. Ермилов сказал: – Вам нечего бояться. Среди моих товарищей есть и евреи. – В моих жилах течет казачья кровь, – сказал я. – То, что вам кажется иначе, – просто напасть какая-то. Неужели вы считаете евреем любого, у кого нет светлых волос и розовой кожи? Даже вашего предводителя? – Для Гришенко все жиды. Так гораздо легче убивать. Вы действительно разговариваете не как еврей. Прошу прощения. Этот образованный человек мог стать полезным союзником. Я принял его извинения, надеясь в дальнейшем на его защиту. У меня всегда возникали проблемы при общении с тупыми мерзавцами – благоразумие вызывает у них подозрение, а крик – агрессию. Одному только Богу ведомо, как живут Его дети. Мы добрались до дома на одной из широких, грязных, разрушенных улиц, чуть поодаль от церкви. Это был маленький дом с внутренним двориком, в котором стояли на привязи два жеребенка и коза. – Вы в самом деле инженер? – спросил Ермилов. – Или вам просто повезло? – Он спокойно посмотрел мне прямо в глаза, изучая меня с умеренным любопытством, потом засмеялся. – Я был лейтенантом в царской армии. Теперь я капитан у нашего атамана. Как вы думаете, большевики сделали бы меня генералом? Мы отворили дверь и вошли. Одетая в черное женщина неопределенного возраста, шаркая ногами, зашагала впереди нас по грязному коридору. На стенах были пятна на месте прежних икон и картин. – Это наша хозяйка. – Сотник Ермилов спросил ее: – У нас остался чай, пани? – Женщина удалилась в свою комнату. Щелкнул замок. Ермилов отреагировал философски: – Она притворяется глухой. Вы удивитесь, сколько глухих людей в этих краях. Как везде, где мы останавливались раньше. По крайней мере три четверти населения. Они становятся глухими примерно к девяти годам. До этого они просто немые. Мы вошли в квадратную комнату, посреди которой была печь, украшенная примитивными картинками. Большей частью они облезли или почернели от сажи и времени. Три офицера, все в разных мундирах, сидели на скамьях у печи. Они ели большой кусок мяса, который передавали из рук в руки. Еще у них был черный хлеб и немного водки. – Не возражаете, если этот товарищ к нам присоединится? Ермилов подошел к печи. Офицеры посмотрели на меня. Один из них, с темной бородкой и шрамом на лбу, усмехнулся: – Пожалуйста. Берите хлеб. Берите свинину. Я уже поел селедки и не горел желанием есть мясо, обслюнявленное этими мерзавцами. Наверняка каждый из них страдал от нескольких венерических болезней. Я ограничился большим куском грубого хлеба и чашкой крепкого чая, оставленного на печи. Водки мне не предложили. Я очень устал. Я совсем мало спал в последнее время и не имел возможности поддержать свои силы порцией кокаина. Я сказал, что хочу в сортир, спросил, где он находится. – Во дворе, где лошади. Настоящую уборную разрушили вчера вечером. Мы попытались вытащить Юрия, потому что он пробыл там слишком долго, но случайно перепутали, в какую сторону тащить. Я оставил этих весельчаков и пошел на двор. Было настолько холодно, что желание справить нужду немедленно пропало. Затворив за собой дверь дома, я остановился, разглядывая жеребят. Коза теперь стояла в углу, и ее доила безумная с виду девочка. Я осторожно начал нащупывать свой кокаин и в конце концов нашел маленький пакетик, на одну дозу. Я отвернулся, вытащил носовой платок и сделал вид, что сморкаюсь. Это, конечно, не лучший способ употреблять кокаин, но в тот момент единственно возможный. Я высыпал порошок в носовой платок, потом втянул в одну ноздрю, затем в другую; в итоге я вдохнул все. Доза оказалась большой. Я злоупотреблял наркотиками, когда работал над фиолетовым лучом. И теперь даже эта доза произвела лишь минимальный эффект. Я все еще чувствовал себя медлительным и сонным. Но в голове у меня немного прояснилось. Никто не знал, что творилось на Украине в те дни: армии приходили и уходили, выигрывая и проигрывая сражения, грабя города, считаясь то надежными союзниками, то злобными врагами, то ненадежными соратниками – зачастую все менялось в течение часа: бандиты, казаки, анархисты, большевики, националисты. Слова утратили смысл. Преданность различных армий была, как говорят химики, исключительно изменчивой. Я не мог понять, был ли Григорьев, который уже сражался со Скоропадским и Петлюрой, союзником большевиков. Он мог только притворяться их другом; мог притворяться, что выступает против них. Он мог притворяться, что ведет переговоры, чтобы выиграть время для бандитских налетов. Вот, по-моему, в чем состоит сущность партизанской войны. Наша земля стала хуже прерий Дикого Запада во времена Кастера[138]. Она одичала, не контролируемая ни одним правительством. Седьмой кавалерийский полк мог бы добиться успеха; но мог и, подобно Квантриллу[139] в годы американской Гражданской войны, заключить союз с индейцами или сражаться на свой страх и риск. Керосиновая лампа в комнате едва теплилась, когда я вернулся в дом. Все офицеры, за исключением капитана Ермилова, скорчились на полу среди тряпья и собирались спать. Ермилов расстегнул пальто. Он попытался свернуть цигарку из газеты и чайных листов. Я вытащил из кармана две папиросы и предложил одну ему. Он поблагодарил. Мы закурили. Обмен папиросами и закуривание – настоящий ритуал двадцатого столетия. Исследователи человеческого поведения должны уделить ему особое внимание. Мы сели, прислонившись к стене, возле самой двери. Ермилов поставил между нами лампу. Было холодно. Другие постояльцы заняли более удобные места у печи. – Где ваш командир? – спросил я. – Григорьев? В своем штабе в Александрии. Мы просто фуражиры. – Мой отец был запорожским казаком, – сообщил я. – Так что я по крови близок атаману. – Скорее всего, вы правы. Вы оба можете быть запорожцами – это так же вероятно, как и обратное, – добродушно ответил Ермилов. – У него около пятидесяти титулов, по нынешним подсчетам. Больше, чем у Краснова. – Он медленно раскурил папиросу, потом позволил ей угаснуть и вновь зажег от слабеющего огня лампы. – Странно, всего лишь пять лет назад мы были просто крестьянами, рабочими или даже школьниками. Пехотинцы, кавалеристы… Теперь все мы – казаки. Нас, наверное, хватит, чтобы изгнать всех турок и татар на край света. Но вместо этого христиане убивают христиан и штыки социалистов вонзаются в тела других социалистов. – Он почесал голову и усмехнулся. – Вы не казак? – Я был в казачьей бригаде. – Он пожал плечами. – Я умею скакать на лошади. Этого вполне достаточно. Мы непрерывно сражаемся в кавалерийском строю. Разве это не кажется странным? Какой-то любитель атавизмов придумал все это для собственного развлечения? Мы отступили в прошлое по меньшей мере на сто лет. Взгляните. – Сунув руку под пальто, он вытащил из-за пояса два больших и очень красивых кремниевых пистолета. Я видел старые картинки с изображениями казаков, носивших такое оружие. Пистолеты были черными, покрытыми сложным серебряным узором. Типичное кавказское изделие; на месте курков были кнопки. В замках оказались кремни. Пистолеты, похоже, были в рабочем состоянии. – Я взял их из музея, в то время как все остальные занимались поисками золота и мяса. Я уже стрелял из них в двух человек. Один был ранен. Второй упал и расшиб голову. Но я убил его. Можно использовать шарики от подшипников соответствующего калибра. Я отношусь к своим пистолетам всерьез. Сейчас они заряжены. Представьте, сколько бедных еврейских задниц подпалили эти пистолеты! – Он погладил ствол. – И как антиквариат они стоят целое состояние. – Они не слишком удобны, не так ли? – Они убивают, – огорченно ответил он. – Если бы я захотел сбежать отсюда – не знаю, в Берлин или куда-нибудь еще, – я мог бы целый месяц жить, продав их только ради одного серебра. Я видел, как две мужских компании на прошлой неделе дрались, используя сабли и плети, как в дни Тараса Бульбы. Неужели такое творится во всем мире? И в самом деле вернулись Средние века? – Казалось, его очень интересовало мое мнение. – Похоже на то, – ответил я. – Но силы Антанты все еще используют самолеты и танки. Даже у большевиков есть SPAD[140]. Я видел их в деле неподалеку от Киева. Летают хорошо. – Надолго ли все это? – Вы в самом деле полагаете, что настал конец цивилизации? – Если бы я так не думал, меня бы здесь не было. Я хочу узнать, как выжить. Я хочу стать удачливым дикарем. Вы понимаете меня? – Это пораженчество. – Я дезертировал с Галицийского фронта. – Вы дезертировали? – Как и все прочие. Я не индивидуалист, товарищ. Я запорожский казак, как и вы. Я отринул и Толстого, и Достоевского. Теперь пою похабные песни и отпускаю шутки о жидах, пью дрянную водку, мочусь, стоя рядом с тридцатью другими пьяницами, все они пердят и рассказывают о людях, которых убили, о девочках, которых изнасиловали, о лошадях, которых украли. Я принял цивилизацию как дар и никогда не задумывался об этом. Теперь мой нравственный долг – принять варварство. И я не намерен задумываться и об этом. Вот и все, конец. – Он встал и отыскал стакан, в котором плескалось еще немного дрянной водки. Я отказался от угощения, и он допил сам. – Как вы попали к Гришенко? – Он остановил поезд, в котором я ехал. Я согласился починить его грузовик. Он отпустил состав, а мне пришлось остаться. Он обещал, что позволит мне вернуться на поезд. – Все верно. Он ублюдок. Никто не любит его и не доверяет ему. Люди говорят, что он – еврейский шпион, большевистский шпион, белый шпион. Как вы сами видите, ему все равно, кого грабить. Но он добьется успеха. Это его мир. И я следую его примеру. Мы друзья. Он отдал вас мне как своеобразный подарок. Он знает, что я умею читать. – Вы ему нравитесь? – Не сказал бы. Но каждому нужен друг, и я – друг Гришенко. – А что вы думаете о нем? – Он – животное. Он абсолютно лишен морали. Вместо мозга у него ненависть. Вместо сердца – злоба. Я хочу быть похожим на него. Мы оба сейчас – сотники, но он поднимется выше. Григорьев уже отличает его. Атаман делает вид, что не одобряет его действий, когда рядом оказываются большевистские эмиссары. Но на самом деле его это не заботит. Гришенко – волк. И Григорьев создал целую стаю таких волков. Как опричники царя Ивана: железный круг, оскаленные зубы. Он достаточно умен, чтобы использовать броские политические лозунги, но хочет стать царем. Когда он добьется своего, я тоже стану волком. Опричники были единственными людьми, которым не угрожала жажда крови Ивана Грозного. Ермилов казался мне безумным. – Вы могли бы эмигрировать, – заметил я. Он покачал головой: – Во всем мире творится то же самое. Россия – это только начало. Все из-за войны. В Германии все рушится. В Англии создаются Советы. Все цивилизованные нации гибнут. Это похоже на землетрясение. Его никак не остановить. Вероятно, это естественный процесс. Возможно, он как-то связан с Солнцем или Луной. Как вы думаете? – Это исключено, – с преувеличенной, пародийной серьезностью отозвался я, – мы не можем анализировать, располагая такими субъективными данными. Но вы – не первый русский, который развивает философию, основанную на отчаянии. И, может быть, не первый, кто делает ошибочные выводы. – Я могу, как уже сказал, опираться лишь на внешние признаки. Вы знакомы с современной поэзией? – Она мне не по вкусу. – Наши поэты предсказали век крови и огня, апокалипсис. Разве они не называли нашу эпоху концом времен? Я в этом сомневался. В Петрограде развелось столько – измов и – истов, что я до сих пор путаюсь. О них все позабыли, об этих акмеистах и конструктивистах. Они сошли с ума, убили себя или их убил Сталин. Как я недавно сказал, лично я был всего лишь листистом. Естественно, ни один из тех невежд в пабе не понял этого слова. Теперь я склоняюсь к мысли, что Ермилов был прав. Процесс просто шел гораздо медленнее, был менее драматичен и интересен, чем он думал. – Мне позволят отправить телеграмму матери в Одессу? – спросил я. – Мы немного побаиваемся телеграфа, мы дикари. – Он снова нагнулся к лампе, чтобы зажечь папиросу. – Сообщение должно представлять военную важность. – Атаман все еще верен большевикам? – В каком-то смысле – да. – Тогда я представлюсь товарищем. Скажу, что дело политическое. – Атаман хитер. – Сколько ему лет? – Примерно столько же, сколько мне, – сказал Ермилов. – Сорок? – Тридцать пять. Я выгляжу старше всего на пять лет? Значит, я приспособился гораздо лучше, чем предполагал. – Он не видел ничего обидного в моем грубом промахе. – Я все-таки смог пройти через все это, а? Может, я даже доживу до повторного изобретения колеса. – Григорьев похож на Гришенко? – Он намного умнее. – Почему Гришенко думает, что все кругом евреи? – Это просто. Он наслаждается страданиями других. А никто не любит страдания больше, чем евреи. Так что Гришенко устраивает, черт побери, настоящий цирк. Это что-то вроде сговора, я думаю. – Он решил, что я еврей, но не убил меня. – Он не был уверен. Он называет евреем любого, кто кажется ему немного «неправильным». Если люди начинают ныть и унижаться, он решает, что прав. Простая логика, не так ли? Здесь нет никакой тайны. Он – дикий пес и может учуять страх. Если хотите, чтобы он о вас хорошо думал, будьте таким же жестоким,как и он. – Не понимаю вашего цинизма. – Голова у меня раскалывалась. – Все мы выживаем, как можем. В мире, который нас окружает, приходится искать сильных хозяев. – А почему бы не стать самому себе хозяином? – Это второй тип выживающих. Я изучал историю, когда был кадетом. В армии я прослужил большую часть жизни. Я угадал. Такой способ расслабления был привычен всем кадровым военным; экономия собственной энергии и энергии других. Бог знает, какие страсти в самом деле дремали в нем. Но он не позволил бы им проснуться. Такое он получил воспитание. Ермилов делал все, что мог. Лишившись своих убеждений, царя, Бога, он отчаянно рационализировал ситуацию, подыскивая наиболее подходящего кандидата, способного занять место государя. По крайней мере, именно так полагал я. Меня теперь поражает, как близко мы в России подошли к основанию новой династии. Я воображаю, что мы могли получить царя Григория – Распутина. Или царя Григорьева. Или нового Петра – Краснова. Я уверен, что ни один из них не признавал величия собственных амбиций. Но они позволили бы своим сторонникам возвести их на царство. Распутин мог бы зваться теократом всея Руси. Чего бы он смог достичь? Просвещения? Или века террора, сопоставимого с ленинским? Стал бы он Лоренцо Великолепным или Савонаролой?[141] Или нам нужны оба в одном лице? Очевидно, именно так. Студент-семинарист из Грузии, Сталин, стал в конце концов и пастырем, и вождем. Он раздвинул границы Российской империи. Керенский не пожелал прибегнуть к кнуту. Он кричал на нас, как истеричная мать кричит на детей, умоляя их хорошо себя вести. Сталин объявил, что в России должна установиться дисциплина; и дисциплина установилась. Мы пережили века сумерек, и мы пережили Серебряный век. В отдаленном прошлом у нас случались и мгновения Золотого века. Мы тосковали по этим золотым векам. Но, наступив, они напоминают золотую арктическую осень, которая длится один-единственный день. А потом приходит зима. Я спросил Ермилова, прежде чем заснуть: – Почему Гришенко не стал ждать второго поезда, о котором я сказал? – Если бы это оказался большевистский поезд, ему пришлось бы перебить всех свидетелей – пассажиров, солдат, машинистов. Слишком много. Это не очень удобно. Он получил лучшее из возможного – еврейское добро и механика, способного починить наш транспорт. Вы стали настоящей удачей. Для меня честь получить вас в подарок. – Какое топливо было в том грузовике? – Спирт, – сказал Ермилов, – по всей вероятности. Он повернулся ко мне спиной и погрузился в сон. Я не спал. Я снова вышел во двор. Я пожалел, что не умею скакать на лошади. Я обдумал похищение грузовика. Но его было трудно завести, и в баке могло оказаться недостаточно топлива. Я не хотел рисковать и злить Гришенко. Решил подождать, когда мы доберемся до Александрии, а там отыскать большевиков. С политиками иметь дело легче, чем с волками, а Ермилов был для меня просто удобным спутником, а не союзником. Он служил своему персональному царю: императору разрушения, богу отчаяния. Это почти традиционно: поверить вместе с дьяволом, что Бог покинул мир.Глава четырнадцатая
Музыка создана, чтобы успокаивать нас. Даже казаки поняли это. У них были свои застольные песни, жалобные баллады о смерти и любви, колыбельные. Казак с винтовкой на спине и саблей на боку, поющий колыбельную ребенку, – одно из прекраснейших в мире зрелищ. Я видел такого казака, когда мы разбили лагерь на пути к Александрии. Меня бросили в грузовик с добычей и впереди всего эскадрона повезли по грязному февральскому снегу. Захватив Киев, Антонов теперь направлялся на юг. Так говорил Ермилов. Мы, судя по всему, теперь сражались за социализм. В эту эпоху эгоизма, как мне следовало уяснить, слово «социализм» могло означать что угодно – в зависимости от пожеланий говорящего. Все эти бандиты были католиками. Католицизм оказался последней ступенью на лестнице, ведущей к коммунизму. Социализм или масонство, как это ни назови, пропитаны все той же ложной гордостью. Только греческая православная религия свободна от заразы. В нашей религии правит Христос. Здесь нет ничего, напоминающего независимое сознание. Это единственная религия, которая может спасти нас от участи Карфагена. Арабы не подвергают сомнению свой закон, основанный на Коране. В этом – их сила. Бог защитит невинных. Пусть начнется темный век, Железный век, тогда мы снова увидим Свет; новый рассвет, дарованный нам милосердным Господом. Мы не должны предавать Его доверие. Я сужу по собственному опыту. Я думал, что Бог одарил меня достаточно. Но его дары были отняты, потому что я принял их без веры. Именно поэтому в мире теперь существуют котлеты по-киевски, бефстроганов, клубника по-романовски: все потому, что генералы, политики и адвокаты изменили Богу. И теперь они стали официантами, швейцарами и поварами в разных концах света. Вот почему я продаю поношенную одежду на Портобелло-роуд немцам, которые отпихивают меня с тротуара, пытаясь заполучить якобы серебряный индийский браслет, чтобы отвезти его домой, в Мюнхен; французским девчонкам, которые смеются надо мной и болтают друг с другом, не зная, что я понимаю все их грязные словечки; американцам с их пугающей снисходительностью. Я не ожидал увидеть в Александрии такой большой лагерь. Сам городок был средних размеров. Но он стал основной базой Григорьева; его жена и семейство жили здесь. Армия Григорьева оказалась намного больше, чем думали в Киеве. Там его считали в лучшем случае мелким полевым командиром, сблизившимся с красными. На самом деле ему повиновались тысячи казаков. Они собирались вокруг него, выполняли его приказы и считали своим атаманом. Он был столь же могущественен, как Краснов с Дона, человек, который написал очень важную книгу, раскрывающую секреты евреев, католиков, вольных каменщиков, все их предательские замыслы. Ее издали в Германии в двадцатых годах в четырех томах под названием «От двуглавого орла к красному знамени». В ней гораздо больше правды, чем во всех книгах, написанных с тех пор. Вот почему комиссары повесили Краснова, когда добрались до Германии. Ему следовало бы сменить имя. Я представляю, как его уводят в лес и казнят за то, что он сказал правду. Григорьев не обладал ни благородством, ни умом, свойственными Краснову. Его напыщенные прокламации развесили по всей Александрии и окрестностям. Лагерь находился за пределами города, за железнодорожной станцией. Здесь были собраны бронированные вагоны, фургоны с товарами, легковые автомобили, мобильная артиллерия и все прочее, что удалось награбить. Кругом стояли армейские палатки, лачуги, разнообразные временные постройки; большая бочка постоянно заполнялась водкой, пить из нее мог любой солдат. Не только казаки, но и пехотинцы, артиллеристы и гайдамаки присоединялись к Григорьеву. Все они были пьяны. «У них переменчивый нрав», – предупредил меня Ермилов. Он помог мне выбраться из грузовика, спустил девочек и позвал женщину, стиравшую белье возле вагона, снятого с колес. Он приказал ей позаботиться о девочках и накормить их. Теперь я стал талисманом Ермилова. Он повязал красную ленту мне на рукав и сказал, что я буду именоваться связным наших друзей эсеров. Большинство казаков поддерживало левую фракцию эсеров; эту группу именовали «боротьбисты» («боротьба» значит «борьба»; так называлась их газета). Они тогда имели большое влияние в Харькове. Григорьев выпускал множество прокламаций от имени этих почти большевиков. Он, возможно, не верил в их дело, но был достаточно мудр, чтобы на словах поддерживать боротьбистов. Казак служит своему атаману, только если атаман служит ему. Некоторые из них даже плевались, если кто-то произносил слово «большевик». Я заметил в городе несколько «кожаных курток». Очевидно, Антонов уже направил своих офицеров, чтобы те начали переговоры с Григорьевым. Я спросил Ермилова, можно ли посетить телеграф. Он покачал головой: – Вы находитесь под моим надзором. Моя обязанность – следить за вами. Это приказ Гришенко. – Вы равны ему по чину. Почему же подчиняетесь? Мы миновали сломанный «ньюпор» и «альбатрос»[142]. Кто-то попытался соединить части машин. Это было глупо. Ни один самолет так не смог бы взлететь. Ермилов не ответил на мой вопрос. Подобно хозяину собаки, он позволил мне задержаться возле самолетов, как будто ожидая, что я вынюхаю что-нибудь интересное. Он сказал: – Вы не должны приближаться к комиссарам. Гришенко хочет, чтобы вы остались с нами. Сами видите, нам нужен механик. – Григорьев пристрелит его. Я – важное имущество, которым Гришенко не хочет делиться. – Я был оскорблен. Я в самом деле стал рабом, заложником. – Григорьев может притвориться, что расстреляет Гришенко. Но Гришенко не погибнет. – Ермилов явно забавлялся. – Меня, однако же, расстреляют, если я позволю вам уйти. Видите, в какую игру играет Гришенко? Теперь я за вас отвечаю. – Это просто детская забава! – Такова война! У вас, между прочим, есть какие-то звания? – У меня докторская степень Киевского университета. Петлюра вопреки моему желанию произвел меня в майоры. – Майор – это хорошо. Теперь вы – майор Пятницкий из нашего инженерного корпуса. Работайте на нас, тогда сможете быстро продвинуться по службе. – Он помог мне протолкаться через толпу пьяных партизан, которые слонялись вокруг хижины. Судя по запаху, это место служило уборной. – По чину вы уже старше меня, заметьте! Я все еще чувствовал усталость. Я пребывал в растерянности. Мне приходилось оставаться с Ермиловым. Он стал моей единственной связью со здравым смыслом в этом кошмарном хаосе. И тем не менее я злился на своего спутника. Он насмехался надо мной. Лагерь простирался на несколько миль вдоль железнодорожных путей. Иногда мимо проходили длинные поезда. В них были солдаты, оружие, добыча. Казаки бродили между движущимися локомотивами, едва замечая их. Я видел, как несколько человек едва не погибли под колесами. Вот каковы были наши благородные красные воины! Большинство из них не могли даже прочесть григорьевских прокламаций. Тех, кто умел читать, ничего не интересовало из-за выпитой водки, они не могли сосредоточиться на словах. И все же многие оставались истинными казаками, сражавшимися за свободы, уничтоженные декретами дюжины никчемных царей. В тридцатых они вызывали ужас у самого Сталина. Он расформировал все казачьи отряды. В сороковых эти отряды были восстановлены, и их прежнюю славу вспомнили вновь, чтобы поднять боевой дух для борьбы с немцами. Многие немедля перешли на сторону Германии и продолжали бороться за свои идеалы. Сталин разгневался. Он отдал приказ расстрелять всех вернувшихся казаков как предателей. Не имело значения, были ли они военнопленными, партизанами или сражались на стороне Оси[143]. Либеральные англичане и добродушные американцы погрузили их в поезда и на корабли и отправили на страшную и постыдную смерть. Немногим удалось бежать. Некоторые остались в Канаде, где погода и земля, а может, и «Макдоналдс» с «Кэмпбеллом», пришлись им по вкусу. Они сбежали, но утратили русские души; они лишились духовного мира, необходимого для русских и тягостного для американцев. Некоторые, оставшись в России, продают свои души по ночам, танцуя и распевая песни для туристов. Даже партизаны Григорьева пили не для того, чтобы утратить сознание, а чтобы обрести души; чтобы найти Бога и получить подтверждение, что все, сделанное ими, было правильно. Увы, нет. И Бог не сказал им, что все сделано верно. И потому они продолжали пить. Тогда я нервничал, глядя на них. Сейчас, оглядываясь назад, чувствую жалость. Мы вошли в палатку, где стояли две походных кровати. Ермилов поскреб щеку и нахмурился: – Нам придется найти для вас тюфяк. – Вы не один живете в этой палатке? – С моим другом Гришенко. Теперь мне придется спать рядом с Ермиловым и его господином, стать рабом раба. Ермилов открыл патронный ящик. Он не был заперт. Кто угодно мог украсть то, что там лежало. Мой спутник вынул бутылку хорошей водки: эту этикетку я запомнил еще в Одессе. Я принял его предложение и сделал большой глоток прямо из горла. Алкоголь согревает и стирает воспоминания. Кокаин приносит холод и ясность ума. Я нуждался в алкоголе. Ермилов приказал мне подождать в палатке, закрыл за собой вход, но я мог следить за ним через неплотно сходящиеся края полога. Он зашагал обратно к железнодорожной станции, смеясь и шутя с солдатами, походка его изменилась; я заподозрил, что вежливость Ермилова могла оказаться просто маской. Я сел на одну из кроватей и попытался разобраться в происходящем. Но мне это не удавалось. Меня захватили в плен казаки. Я остался в живых только потому, что Гришенко решил использовать меня для повышения своего престижа, а Ермилову нужна была аудитория для его сентиментальных бредней. Меня в любой момент могли пристрелить. Меня могли пытать. Я выпил еще водки и рассмеяться. Это стало проверкой моего остроумия. Я надеялся, что выпивка поможет мне крепко уснуть; завтра я мог прибегнуть к кокаину. Я решил следовать за Ермиловым. Пока не окажусь в безопасности – буду таким же надежным партизаном, как и мой спутник. Я смогу пробиться наверх, но не так, как собирался пробиться Ермилов, а с помощью интеллекта. Я стану незаменимым для этих дикарей. Я вспоминал истории Конан Дойла и Хаггарда, в которых белые мужчины попадали к аборигенам и ставили их в тупик простыми научными опытами. Я буду равняться не на Гришенко и даже не на Григорьева, а на «Затерянный мир» и «Копи царя Соломона». Ермилов вернулся и отобрал у меня водку. – Еле нашел этот хлам, выторговал у женщины за три бутылки. – Он отступил в сторону, когда двое грязных партизан, бороды которых были покрыты инеем и замерзшей слюной, бросили на пол соломенный матрац и одеяло. Сверху кинули рваное пальто, папаху, пару неудобных с виду ботинок и какие-то изъеденные молью меховые рукавицы. – Очень дорого. – Ермилов заткнул пробкой бутылку. – Надевайте. – Но мое пальто… – Мы, казаки, не очень хорошо относимся к людям, которые слишком горды для того, чтобы одеваться как все. Он говорил беззаботно, почти весело, но сопровождал слова такими красноречивыми жестами, что я предпочел последовать его совету. Мое прекрасное пальто было снято; взамен я надел принесенное тряпье. Вши уже ползали по моему телу. Поношенные ботинки были слишком велики, и я мог их надеть поверх своих башмаков. Я почти тотчас же согрелся. «Отрастите бороду, если можете», – сказал Ермилов. Меня это оскорбило. Я пытался отрастить бороду. В результате стал похож на больного спаниеля. Прошло еще два-три года, прежде чем борода начала расти как следует. К тому времени, конечно, бороды вышли из моды, поскольку их носили люди старшего поколения, доказавшие свою никчемность, развязав войну. Маленькие усики я отрастил к 1925 году. Ермилов отступил назад и внимательно осмотрел меня. – Носите шапку повыше и чуть набок. – Он сам поправил мой головной убор. – Разве вам не знакомо выражение «Берегитесь мужчин, которые прячут под шапкой глаза»? Если шапка сдвинута вверх – вы храбрый, русский, настоящий казак, не нуждающийся ни в чьей защите. Говорите, ваш отец был запорожцем. Разве он вас этому не научил? – Он мертв. – Как все теперь переменилось. Теперь мне шло на пользу то, что до сих пор я считал своим позором. – Он был эсером. Убийцей. Его застрелили в тысяча девятьсот шестом из-за участия в восстании. Ермилов был доволен. – Вы и впрямь такой, как говорите! Вы – загадка, юный майор. Гениальный мальчик, убежденный социалист, наполовину запорожский казак. А кто ваша мать? – Ее семья из Польши. Это было важной информацией. Ермилов кивнул, но промолчал. Я снова сел на край кровати. Он откупорил бутылку. – Сделайте на сей раз небольшой глоток. Я берегу такую хорошую водку. – Вам не стоило оставлять ее здесь. Бутылку могли украсть. – Казаки не крадут друг у друга. – Ермилов был преувеличенно серьезен. – Запорожцы блюдут свою честь. – Он расстегнул пальто и протер шею какой-то тряпкой. – Вы посмели бы украсть у одного из них? – Я не вор. – Все мы не воры. Мы фуражиры, прежде всего в гетто. Мы присваиваем имущество, особенно если имеем дело с неохраняемыми поездами. – Меня учили помнить о казачьей чести. Вам не стоит напоминать мне об этике истинных запорожцев и не стоит насмехаться над ней. Те люди снаружи – просто отбросы. – Казачьи войска начинались с таких отбросов. Когда Москве понадобилась их помощь в борьбе с татарами, русские превратили их в изысканных романтических героев. То же самое происходит сегодня с трапперами и ковбоями в Америке. Это звучало просто смешно. Но мне лучше было промолчать. Ермилов вынул один из своих черных с серебром кремниевых пистолетов и осмотрел ствол. – Они бесполезны, если вы попытаетесь обращаться с ними как с современным огнестрельным оружием. Логически рассуждая, из них нельзя ни в кого попасть. Именно поэтому они мои. Кто-то может управляться с привередливыми лошадьми, а я – с этими пистолетами. Они – символ моего выживания! Меня это не впечатлило. Позднее Париж и Берлин стали напоминать арсеналы девятнадцатого столетия. Каждый атаман продавал свою добычу под видом семейных реликвий. Полог палатки распахнулся. Вошел Гришенко. Его сопровождала грубоватая с виду девица. Он ничего не сказал, но Ермилов застегнул пальто и сделал мне знак рукой. Мы удалились. Гришенко засмеялся и что-то сказал девице по-украински. В ответ раздалось ужасное хихиканье. Я не ожидал услышать подобное от такой опытной шлюхи. Ермилов посмотрел на небо. Оно было серым, как снег. Он чертыхнулся: – Я оставил водку. Гришенко может выпить сколько угодно. – Я думал, что казаки никогда не крадут друг у друга. Ермилов зашагал вперед. Он снова превратился в бандита. – Гришенко – мой друг. Все, что есть у меня, принадлежит ему, – резко ответил он. – А все, что есть у него? Ермилов остановился, а через несколько мгновений засмеялся: – Тоже принадлежит ему. – Он сделал шаг назад и положил руку мне на плечо. Я вспомнил о госпоже Корнелиус и ее шубе. Я скучал по ее «мерседесу». Я очень скучал по Одессе, по матери и Эсме. Ермилов отвел меня к цистерне. – Мы попробуем то, что пьют остальные. Бандиты не обратили на меня внимания. По внешнему виду я теперь ничем не отличался от них. Оловянную кружку передавали по очереди всем столпившимся вокруг фургона. Водка была не хуже той, которую я пил в поезде. Потаки, наверное, уже успел добраться до Одессы и наслаждался преимуществами власти закона, планируя ее уничтожение. Революция – это произведение современного искусства; нечто судорожное, недисциплинированное, эмоциональное и бесформенное. Ленин и Деникин пытались переделать ее на собственный вкус. Троцкий стал катализатором этой войны; как он гордился собой, поднимаясь на крыши поездов, произнося речи в автомобилях, гордо вышагивая перед своими генералами! Каким же идиотом этот еврей должен был казаться с первого взгляда! Гусь в одном пруду с цаплями! Он выглядел так смешно – очки, борода, форма. Нелепый, самонадеянный клоун. Я не мог понять, почему госпожа Корнелиус посчитала его привлекательным; причиной могло быть разве что его могущество. Он был растяпой. Почти за все беды, начиная с 1918 года, нести ответственность должен именно он. Его называли величайшим генералом со времен Иосифа: это – оскорбление для Иосифа. Ленин любил Троцкого. Они были два сапога пара. Антонов был интеллектуалом, но он знал, как сражаться. Госпоже Корнелиус следовало сблизиться с ним. Но, возможно, Антонов оказался слишком сильным. В те времена она любила мужчин, которыми могла управлять. Она предпочитала дураков. Ей нравились благополучные браки. Я не думаю, что Антонов был женат. Я ничего о нем не знаю. Сталин, вероятно, убил его во время одного из тех ужасных процессов. Я избегал русских между войнами, иногда даже называл себя поляком или чехом. Я не мог вынести сочувствия людей, которые завязывали дружеские отношения с эмигрантами; это вызывало у меня неловкость. Я хочу остаться собой, а не представителем какой-то там «культуры». Мы подошли к запасному пути железной дороги, где прокламации висели на телеграфных столбах. Водка подействовала на мой желудок. Я сказал об этом Ермилову. «Вы хотите есть, – ответил он. – Мы раздобудем здесь кое-какую еду». Вагон, который некогда был частью поезда первого класса, теперь использовался как столовая. С кухни доносились отвратительные запахи. Я почувствовал себя еще хуже. Ермилов поднялся по лестнице. Не желая оставаться в одиночестве и все-таки опасаясь того, что мне придется есть, я последовал за ним. Мы уселись рядом с есаулами, которые ели суп, возмущаясь его вкусом. Мальчик принес нам две тарелки и два куска хлеба. Суп был темно-желтого цвета, в нем плавали кусочки бледного мяса. Я долго набирался храбрости, прежде чем попробовать его. Ермилов присоединился к некоторым офицерам, смеявшимся надо мной: «Он новичок, инженер, майор Пятницкий». Я усмехнулся сухими губами. Это вызвало новые раскаты смеха. Я проглотил немного бульона и почувствовал, что хуже уже некуда. Вкус был омерзителен. Я пожевал мясо. Оно оказалось на удивление свежим. Я проглотил кусочек и торопливо съел немного черствого хлеба, по вкусу и запаху напоминавшего дешевое мыло. – Откуда ты, товарищ? – спросил огромный казак, который носил бороду и усы на старинный манер. На нем была красивая форма, хотя с неизбежной красной кокардой на шапке и с красной полосой на рукаве. – Из Киева. – Рано там становятся майорами. – Это просто, – ответил я. – Я был инженером на гражданской службе. – На кого ты работал? – Вопрос прозвучал не слишком настойчиво, но я не понял его смысла. Я обернулся к Ермилову, который выручил меня, сказав: – Его отец был эсером. – Ого, – сказал казак, – выходит, кумовство существует даже в революционных кругах. Где же теперь твой папаша? – Его убили в тысяча девятьсот шестом. Моя мать живет в Одессе. Он сочувственно посмотрел на меня. – Не обижайся, маленький майор. Мы уже в пути. Эти черномазые не обидят наших женщин. – Французские зуавы, судя по слухам, обезумели и вступили в союз с одесскими евреями. Азия и Африка гадили на русской земле. – Сначала в Николаев или в Херсон, чтобы пополнить боеприпасы, потом в Одессу. Мы самая большая армия на Украине. Они нас не остановят. Я подумал о моей Эсме, о моем ангеле, оказавшемся во власти какого-то ухмыляющегося негра в феске. Живот у меня свело. Я все-таки сумел более-менее легко управиться с супом и хлебом. Как и предсказывал Ермилов, от горячего мне стало намного лучше. Ермилов заговорил с человеком, который обращался ко мне. – Ты прочитал прокламацию, Стоичко? Что там говорится? – Как обычно. О наших замечательных успехах. О том, как мы хороши. О том, как мы служим атаману и помогаем боротьбистам. О том, как мы получили помощь от большевиков, чтобы противостоять хаосу, овладевшему всей землей. – Больше ничего? – Четвертый и пятнадцатый должны погрузиться в поезд для отправки на новый фронт завтра в шесть тридцать утра. – Куда мы отправляемся? Стоичко прочистил горло. Он подхватил кусок хлеба, от которого я отказался. – На юг. Как обычно, ходят разные слухи. – Он разжевал хлеб. – Как поживает этот ублюдок Гришенко? – Выплескивает мужественность в палатке. – Ермилов вытер губы. Все остальные умолкли. Я выглянул в грязное окно. Мимо, спокойно беседуя, прошли два священника. Они как будто шагали по тихой городской улице. Меня их вид успокоил. Они воплощали греческую веру. Позже я заметил, как они благословляли красные флаги. Есть священники и священники, точно так же, как есть казаки и казаки. Но плохой священник, по моему мнению, и в самом деле плох: он использует слово Божье, чтобы утвердить власть дьявола. Как легко эти священники приняли большевизм! Немногие противостоявшие этой напасти были убиты или осуждены своими же товарищами. Мне хотелось бы еще раз услышать, как киевские монахи поют «Diesirae»[144]. С чем может сравниться это сочетание архитектуры и музыки, так гармонично прославляющее труды Человека и Бога? Или «Вечерня» Рахманинова?[145] Даже атеист, даже еврей не останется равнодушным. Я слышал, что некоторые люди называют эту музыку выражением крайности. Они не в состоянии понять, что никаких крайностей в России нет. Нам всем приходится управлять своими умами, ограничивать восприятие, а не расширять его. Островитяне редко понимают это. Американцы сохранили островной менталитет. Они окружают все стенами. Я знаю такие имения: там невозможно навестить друга, не побеседовав с охранниками; в точности как в сумасшедшем доме. Стены – это безумие. Безумие – это стена. Жизнь слишком коротка. Стоичко, по-прежнему с набитым ртом, ответил Ермилову: – Хочешь пожить у нас? Найдется запасная койка. Ермилов покачал головой, снял шапку и почесал голову. Его также донимали вши. Вши – это еще не самое худшее. Часто они – единственные спутники, которым можно доверять. Они пугают не привыкших к ним людей, но доставляют неудобства лишь тогда, когда их много. С ними можно справиться – просто ловить и убивать. Это делает солдатскую или тюремную жизнь не такой скучной. Мои знакомые музыканты из военного оркестра устраивали бега на барабанах и запускали наперегонки насекомых, мышей и лягушек. Крупные суммы денег переходили из рук в руки. Хозяева утверждали, что могут узнавать любимых бегунов. Я в это не верю. По-моему, все вши совершенно одинаковы. Чистота, как полагают англичане, это почти божественное свойство. Но в России есть секты, которые проповедуют прямо противоположное. Очень богатые сектанты отрезают себе половые органы, чтобы быть ближе к Богу. Деньги, которые они зарабатывают, переходят родственникам. Я считаю, что это отвратительно, но легко объяснимо. Ермилов казнил парочку вшей, обдумывая предложение Стоичко. Потом отказался: – У Гришенко это ненадолго. – Ни одна девчонка не выдержит, – сказал один из есаулов, – если он задержится подольше. Как-то раз мне после него досталась маленькая еврейка. Я решил, что она стонет от удовольствия. Потом понял, что у нее сломана рука. Он ублюдок. Она была согласна. В таком случае не следует прибегать к силе. – Он гордился своим богатым опытом по части изнасилований. – Один взмах штыком творит чудеса. Бедная маленькая штучка. Я приказал Яшке быть с ней поосторожнее, когда пришла его очередь. Чувствовал себя идиотом. Хотя их беседа меня интересовала, мне пришлось удалиться. Я спросил, где находится уборная. Ермилов посмотрел на меня. – Та водка, видимо, оказалась дрянной. Вам нужно выйти. Я присоединюсь через минуту. – Но где нужник? – Вам не хватит времени отыскать его. Просто выходите. Эти товарищи огорчатся, если вас вырвет прямо на них. Я двинулся к выходу, сопровождаемый громким смехом. Весь вагон-ресторан был загажен. Здесь стало плохо уже не одному человеку. От мысли о супе меня затошнило еще сильнее. Я вышел на смотровую площадку, а потом наружу вырвались водка, суп и хлеб. Меня зазнобило. Я закутался в старое пальто и оглянулся. Ермилов не мог меня увидеть. Впереди, в сумраке, был город. Там находились большевики и, возможно, более цивилизованные офицеры. Слабость в ногах усилилась, но я побежал и в конце концов благополучно скрылся, оставив позади две или три железнодорожных линии. Я пролез через дыру в заборе, прошел мимо дома с высокой крышей; из окна первого этажа на меня уставилось чучело орла; потом я свернул на боковую улочку. Александрия стала святыней. Здесь располагались только сам Григорьев и его ближайшие сподвижники. Почти ничего не напоминало о близком соседстве лагерной шушеры. Я подумал, погонится ли Ермилов за мной, чтобы пристрелить. Мимо проехали два грузовика. Их двигатели работали идеально. Неужели Ермилов преднамеренно позволил мне бежать? Мне показалось, что кто-то во дворе выкрикивает мое имя. Но было слишком шумно – вероятно, я ошибся. Или Ермилов подстроил мне ловушку? Может, он вместе с Гришенко придумал какую-то жуткую хитрость? Я чувствовал, что он нарочно проявил небрежность. Возможно, Гришенко утратил ко мне интерес, и Ермилов знал об этом. Следовательно, его не волновало мое возможное бегство. Я пошел по улице. Дорогу вымостили деревянными брусками. Эти круглые деревяшки, очищенные от снега, напоминали облака в небесах. Я вернулся в цивилизованный мир. Я остановил казака, который был относительно прилично одет. Сказал, что я майор Пятницкий. Он, как я и надеялся, сделал вид, что имя ему знакомо. – Атаман Григорьев уже вернулся? – спросил я. – Не думаю, товарищ майор. Я изобразил нетерпение. – Где телеграф? Где центральный штаб? – Я проследил за его взглядом. Казак смотрел на здание, над которым был поднят большой красный флаг. – Там? – Видимо, да. – Очень хорошо. – Честь отдавать я не стал. Я слегка распахнул свое пальто, хотя уже изрядно замерз. Это позволило ему разглядеть мой «штатский» костюм и, как я надеялся, убедило казака, что перед ним комиссар. Сочетание одежды было идеальным: я казался интеллигентом и при этом человеком из народа. Я немного задержался, нащупывая за подкладкой костюма пакетик на одну дозу. Снова воспользовался носовым платком, чтобы вдохнуть кокаин. Подкрепившись, я двинулся дальше. Коротко поклонившись солдату, стоявшему на карауле, я прошел через калитку у ворот, зашагал по дорожке и вскоре столкнулся с подпоручиком в зеленой с золотом казачьей амуниции. – Я майор Пятницкий, – решительно заявил я. В мои намерения входило просто пробраться на телеграф и отправить сообщение, предположительно политического содержания, дяде Сене. – Я офицер инженерной службы. Атаман Григорьев приказал мне явиться сюда. Подпоручик был примерно моих лет. Он внимательно выслушал рапорт, потом сопроводил меня в прихожую, в которой стояла обычная домашняя мебель, включая чучело медведя. Похоже, в Александрии любили чучела животных. На стенах висели оленьи головы. Это место, очевидно, служило маленькой гостиницей. Мы вошли в контору, где молодые дамы, как молодые дамы во всех конторах мира, возились с пишущими машинками и бухгалтерскими книгами. Одна щелкала счетами, пытаясь произвести вычисления, результаты которых быстро выписывала на большой лист бумаги. Она напомнила мне Эсме. Григорьев был не просто бандитом. Здесь располагался действующий военный штаб. Мы миновали этот рабочий улей и, преодолев деревянный барьер высотой по пояс, оказались у высокого стола. Офицер в мундире с сорванными эполетами посмотрел на меня утомленным, спокойным взглядом. Он погладил свои нафабренные усы, потом повертел в руке какие-то документы. На вид ему было около пятидесяти. – Товарищ? – Он явно испытывал неловкость, рассматривая мой костюм. – Вы из Херсона? Припасы уже доставлены? – Он сверился с каким-то списком. – Я не офицер снабжения. Я майор Пятницкий. – Моя молодость и мое звание произвели эффект. Офицер подумал, что это невозможно. Но теперь мы жили в мире невозможного. Если я так молод и все же стал майором, значит, я должен быть важным политическим деятелем. Кокаин избавил меня от рези в животе и от нервной дрожи, хотя желудок у меня по-прежнему сжимало. – Мне нужно отправить телеграмму в Одессу. Он в отчаянии опустил на стол усталые руки: – Мы взяли Одессу? – Еще нет. Но у нас там есть агенты. – Телеграмма пойдет через Екатеринослав. – Меня не волнует, как она дойдет, товарищ, – спокойно произнес я. – Естественно, она будет закодирована и пойдет под видом частного сообщения. Он смутился: – Возможно, нам следует посоветоваться с политруками. – Я политрук. – Но у меня нет полномочий. Эти слова звучали по всей России. Их эхо разносится и до сих пор. Некогда полномочия перешли от Бога, через посредство царя, к его представителям. Они знали, где они и кто они. Их полномочия были основаны на Божественном изволении. Теперь, во имя коммунизма, они лишились полномочий. Мне следовало подумать, что первейшая обязанность коммуниста состояла в том, чтобы принять собственную ответственность и ответственность товарищей. Возможно, я слишком глуп, чтобы понять сложные рассуждения Маркса. – Где политруки? – спросил я. Это была опасная игра, но только в нее мне и оставалось теперь играть. – Дело чрезвычайной важности. – Наверху, товарищ. – Он указал как будто на небеса. – Разве вы не знаете? – Я только что прибыл. – Но не было никакого поезда. – Я прибыл, мой друг, в грузовике. Меня похитил недисциплинированный бандит, который должен как можно скорее понести наказание. – Не понимаю, товарищ. Кто это был? – Сотник Гришенко. Это для него что-то значило. Он нахмурился, записал имя, обвел его. Затем опустил перо в чернильницу, подчеркнул получившийся круг и поджал губы. – Гришенко может чрезмерно увлечься. – Он похитил меня из поезда, в котором я ехал в Одессу. Теперь вы понимаете меня? Эти военные клише срывались с моих губ, как звоночки. Они возвещали обо мне. Мне не нужно было задумываться. Так говорили все, кто получил хотя бы мало-мальское образование. Только неграмотные и тупые, находясь в армии Григорьева, строили оригинальные фразы. Люди из штаба просто подражали офицерам, которых они убили и ограбили во время различных мятежей и побегов. Я инстинктивно понял это. Такие инстинкты нередко помогают, но они же могут усложнить жизнь. – Вы займетесь Гришенко? – Я сообщу об этом дивизионному командиру, товарищ майор. – Многих других товарищей серьезно побеспокоили. Некоторых убили. Меня схватили. Это достаточно серьезно? – Это очень серьезно. – Гришенко нужно сделать строгий выговор. – Я хотел отомстить. – Понизить в звании. – Он толковый боевой офицер, – начал человек, сидевший сбоку от меня. Я развернулся в его сторону: – Толковый? Он стреляет в товарищей! Все женщины посмотрели на меня. Некоторые были симпатичными. Они походили на невинных монахинь, которые спокойно и легкомысленно трудились в аду. Мы еще раз миновали эту прелестную женскую обитель и поднялись по деревянной лестнице, покрытой красными коврами. На верхней площадке стояли несколько мужчин; они беседовали громко и грубо. При нашем появлении все разом умолкли. – Пятницкий, – сказал я. – Из Киева. Никто из них не принадлежал к числу партизан. Некоторые были одеты так же, как я. Другие носили аккуратную, невыразительную форму вроде той, которую предпочитали Троцкий и Антонов. У них были свежеотчеканенные большевистские знаки отличия: металлические звезды на шапках, тщательно пришитые фетровые звезды на рукавах. Красные непрерывно производили подобные детали. Многие только тем и занимались в Захваченной большевиками России, что шили новые красные флаги и чеканили новехонькие металлические звезды. Собравшиеся приветствовали меня. Некоторые протянули мне руки. – Я направлялся в Одессу. По делам партии. Меня буквально похитил с железнодорожной станции один из этих бандитов. – Сохраняйте спокойствие, товарищ, – произнес маленький, преждевременно высохший субъект с мягкими губами и белыми руками. – Я Бродманн. Мы уже наслышаны о таком. Входите. – Он положил руку мне на спину и подтолкнул вперед, в комнату, заставленную жесткими стульями с прямыми спинками. На стене висела карта Южной Украины. Кто-то тихо затворил за нами дверь. Люди, казалось, расслабились. Они были напуганы еще сильнее, чем я. Бродманн сказал: – Мы – политики. Большевики и боротьбисты. Было предложение ликвидировать Григорьева. Сейчас это не обсуждается. Он лучший из возможных командующих. Я, конечно, не стану выступать против товарища Антонова. Он также добился блестящих успехов. Григорьев командует огромной армией. Он сочувствует нашему делу, но не подчиняется дисциплине. У него нет настоящего идеологического образования. Именно поэтому так важно не ссориться с ним, пока мы обучаем его отряды. Когда мы с этим разберемся, все проблемы будут решены. Он рассуждал не меньше двадцати минут. Всякий, кому интересна подобная бессмыслица, может прочитать один из тех романов, которые получают Сталинские премии с таким же постоянством, с каким работают печатные станки. Я получил всю полезную информацию и потом спросил: – Есть ли какой-то способ пробраться в Одессу? – Вы были на последнем поезде, – произнес высокий худой мужчина в кожаном пальто, стоявший у окна. Он наблюдал за колонной грузовиков и артиллерии. – Вам очень не повезло. Французы перекрыли движение. – Я могу послать телеграмму? На мрачном лице мужчины появилось нечто похожее на усмешку. – Григорьев использует телеграф как личное средство связи. Предполагается, что один из наших людей присматривает за ним, но он целиком во власти атамана и не сделает ничего без его прямого приказа. Нам разрешают использовать телеграф только для того, чтобы связаться с Григорьевым или – иногда – с Антоновым. – А где Антонов? – Пытается перехватить Григорьева. Ублюдок очень быстро перемещается, потому его так и поддерживают. Я пришел в ярость. Вот он, социализм в действии: смерть, разруха и медленное удушение в тисках бюрократизма. Все мои отважные подвиги гроша ломаного не стоили. Мне следовало остаться с Ермиловым. Мой лучший план сводился к тому, чтобы сесть на поезд до Киева; по крайней мере, там я буду дома. Госпожа Корнелиус сумеет помочь мне. – А ходят ли поезда в Киев? – Вероятно, – сказал худой мужчина. Он сжал сигарету, как голодный ребенок сжимает материнскую грудь. – Нам не дают никакой информации. – А Гришенко? Его накажут? – Все зависит от решения Григорьева. Его самоуверенность возрастает, и он нас все больше игнорирует. Бродманн предложил мне стул, брезгливо помог избавиться от пальто, затем бросил мою одежду в угол комнаты. Я, должно быть, выглядел несколько необычно в запачканном кровью костюме и рваных ботинках. Я сел. В окно я мог разглядеть, как мимо проходит колонна. Это впечатляло. – Вы направили официальную жалобу? – спросил худой мужчина. – Если офицер внизу что-то предпринял. – Он расторопен, в отличие от остальных. Жалоба будет направлена начдиву. Меня это вполне удовлетворило: по крайней мере, Гришенко ждут серьезные неприятности. Он, конечно, заслуживал гораздо худшего за то, что разлучил меня с семейством, за то, что называл меня мерзкими прозвищами и насильно удерживал в обществе грубых тупиц и циников вроде Ермилова. Мои новые товарищи спросили, чем я занимался в Киеве. Я сказал, что подрывал петлюровскую оборону. Это произвело впечатление. Я рассказал, как Гришенко заставил меня починить сломанный грузовик. Я был опытным инженером, выполнял сложные работы в одесских доках. Я чувствовал, как становлюсь значительной персоной. Пробелы в моих представлениях о партийном этикете остались незамеченными. Я был не просто политическим деятелем; я был активистом, поэтому занял очень высокое положение в их фанатичной иерархии. Я вспоминал об одесских знакомых, о месяцах, проведенных в Петрограде. Я небрежно упоминал об уничтоженных поездах и выведенном из строя оружии. Двое или трое из присутствовавших в комнате сказали, что им знакомо мое имя. Мое похищение воспринималось теперь не как обычное дело, а как серьезное, выходящее из ряда вон событие. Мое красноречие и гнев также помогли произвести нужное впечатление. Полагаю, я мог бы тотчас же собрать свою собственную социалистическую фракцию. За мной последовали бы тысячи. В те времена легко было стать лидером. Многие русские не могли рассуждать самостоятельно. Они говорили: мы должны держаться вместе, сражаясь против общего врага. Но я не встретил ни одного общего врага, за исключением предрассудков и самомнения. Троцкий не собирался спасать Россию. Он хотел стать богом. Подобно богу, он стоял на крыше своего красного бронепоезда и провозглашал: «Да будет мир!» Троцкий отчаянно желал, чтобы его признали Спасителем, он напоминал ветхозаветного пророка. Потерпев неудачу, он выступил против Сталина. Интересно, как он предстал пред ликом Божьим после того, как Сталин изгнал его и он был убит ледорубом в мексиканском борделе. Представляю эту сцену – Бог стоит на крыше поезда и говорит Троцкому: «Ты прощен». Очень сомневаюсь. Этот ледоруб, вероятно, в аду очень пригодится. Мои новые друзья провели меня в дальние комнаты постоялого двора. Здесь располагалась маленькая гостиная. Худощавый мужчина удалился. Мы уселись за ненакрытые столы, и нам принесли хорошую, простую, сытную пищу – партийцы в России всегда получают все самое лучшее. Я съел очень мало. Недомогание еще не прошло. Принесли кофе. Я выпил несколько чашек, избавивших меня от боли в животе. Мужчина вернулся. Все обсудили вопрос о том, где меня разместить на постой. Было лишь несколько свободных мест. Многие ночевали в спальных вагонах, стоявших на запасных путях. Я, конечно, не имел ни малейшего желания туда возвращаться и объяснил, почему. – Я поговорил с нашим другом на телеграфе, – сказал худой мужчина. – У него тысяча сообщений от Григорьева. И все друг другу противоречат, как обычно. Я послал жалобу на офицера, который вас похитил. Ее получили и подтвердили. Офицер будет расстрелян. Я видел приказ. Хоть мерзавец и заслуживал такой участи, я не хотел, чтобы на моих руках осталась чья-то кровь. – Его не могли просто понизить в чине? – спросил я. – Или высечь? – У Григорьева есть только одно наказание. Смерть. Вы великодушны, товарищ. Но нам может не представиться другого случая преподать урок этим погромщикам. Одним Гришенко меньше – для мира это не так уж плохо, но я не хотел такой жестокой мести. Я не испытываю желания убивать. Я прежде всего ученый. Если бы судьба сдала мне карты получше, я теперь счастливо трудился бы в Национальной физической лаборатории или преподавал бы в Лондонском университете. Наконец решили, что я поживу в комнате Бродманна. Его сосед должен был переселиться на станцию. Прежде чем удалиться вместе с маленьким революционером, я спросил худощавого: – Когда приговор приведут в исполнение? – Немедленно. Арест. Обвинение. Расстрельная команда. Я думаю, этот Гришенко не слишком полезен. – Это правда. – Я только надеялся, что Ермиловне станет меня обвинять и разыскивать. – Тогда у нас больше не должно быть неприятностей. – Он умолк, не договорив, как будто заметив свою непростительную ошибку. – Вы хотите присутствовать при этом? – Нет-нет. – Его должны расстрелять. Григорьев может вернуться, передумать и расстрелять нас вместо него. Такое случалось. – Его губы раздвинулись в улыбке. Я шел с Бродманном по темному шумному городу, взбаламученному поспешными приготовлениями к сражению. Гудели грузовики, перевозившие оружие, ржали лошади. Конные и пешие отряды сталкивались, ссорились, а потом расходились своими дорогами. Мужчины в полном обмундировании мчались по улицам в штабы своих подразделений. Миновав все это, мы оказались на окраине Александрии, на улице, застроенной роскошными домами. Здесь, вдали от железной дороги, царило относительное спокойствие. Мы подошли к окруженному стеной саду. Бродманн отворил ворота большим ключом. Замок был очень старомодным. Его недавно отполировали. Мы зашагали по каменной дорожке. Эта часть города казалась идиллической: деревья, заборы, далеко отстоящие друг от друга домики с острыми крышами. «Наш хозяин, – сказал Бродманн, – отставной доктор. Он ненавидит нас, называет упырями. Но его любимое оскорбление – „еврей“. Мой совет – не спорьте с ним, он не представляет опасности». – Евреи! Упыри! Вы убили императора! – Пронзительный голос донесся из дальней комнаты. Мы с Бродманном поднялись по лестнице. Доктор не появлялся. Я думаю, что мы его напугали. Мышам достаточно просто пищать в своих безопасных норках. В довольно чистой комнате кровати были разобраны, белье – в беспорядке. Но это выглядело гораздо лучше того, что предложил мне Ермилов до появления Гришенко. Сотник очень скоро пожалеет о том, что сделал. Он, вероятно, уже мертв. В комнате осталось немного мебели, только старая ширма, обычная военная лампа, груда брошюр и листовок, очевидно не принадлежавших нашему хозяину, пара плетеных кресел и две деревянных кровати; на таких до революции спали крестьяне или слуги. Бродманн опустил жалюзи, зашел за ширму и разделся, оставшись в красной фуфайке и длинных трусах, потом натянул длинную ночную рубашку из толстой фланели. «Доктор все продал или раздарил. Он боится грабителей. У него, вероятно, кое-что припрятано в саду. Но я не думаю, что он много заработал на своей практике. Не в этой деревне. Он знал Григорьева, когда тот был еще ребенком. Никто в Александрии, кажется, не любит атамана. Доктор говорит, что он хороший, защищает интересы царя. Он ведь и правда в это верит, а?» – Бродманн продолжал в том же духе. Он относился к числу политиков, которые любят говорить по делу. Его дешевый цинизм больше не тревожил меня; я зашел за ширму, разделся и лег в постель. На мне была лишь запачканная кровью рубаха, с которой я снял воротничок и манжеты. Мне стало очень холодно. После дозы кокаина я чувствовал беспокойство, но храп Бродманна помог мне мирно и крепко уснуть. Меня разбудили рано утром. Снизу донесся шум. Потом по лестнице загрохотали тяжелые башмаки. Я испугался. Что-то запищал доктор. Я прочистил горло, но не мог заговорить. В полутьме я разглядел, что дверь медленно отворилась. Я сразу узнал силуэт Гришенко. Он избежал смерти и источал ярость – как источает жар только что вышедший из плавильни металлический слиток. Я знал, что это не кошмар. Я видел нагайку у казака на поясе. Я помню только силуэт Гришенко; помню, как думал о его зверствах. Ни одной детали я не смог разглядеть. Помню его мощные руки. Я знал, что он пришел убить меня. Он держал два пистолета. Я задрожал и сел на постели. Я ждал, что прозвучат выстрелы. Но он развернул пистолеты и протянул их мне. Как призрак, явившийся с упреком. Он хотел, чтобы я убил его? Я дрожащими руками коснулся предложенного дара, ермиловских пистолетов с округлыми рукоятями, и неловко сжал их. В горле у меня разлилась желчь. Я не коснулся пальцами кнопок спускового механизма. Вес пистолетов давил на мои запястья. Они были слишком тяжелыми. Понятно, Гришенко бросил мне вызов. Я промолчал. Зазвучал его голос – взволнованный, яростный шепот: «Это от Ермилова. Подарок». Бродманн застонал в кровати. Гришенко безразлично посмотрел на него. Потом он, казалось, вовсе перестал обращать на Бродманна внимание и снова повернулся ко мне. «Он сказал, чтобы я принес их. Теперь они твои». Я ничего не понимал. В левом глазу Гришенко сверкнула слеза. Он вытащил один из своих длинных кинжалов из красных бархатных ножен и наклонился ко мне. – Мы свободны. У нас свои законы. – Он прижал лезвие к моему подбородку. – Почему? – Меня душил кашель, но я постарался сдержаться, опасаясь, что напорюсь на острие кинжала. Лезвие касалось яремной вены. Я чувствовал, как кровь пульсирует совсем рядом со сталью. – Встань, жид! Я вспомнил предостережение Ермилова. Гришенко – дикий пес, который нападает только тогда, когда замечает признаки страха. Я нажал на кнопки. Оружие не было заряжено. Пистолеты не выстрелили. Гришенко склонился еще ниже. Его дыхание обжигало: – Встань! У меня не было выбора. Я положил пистолеты на кровать и встал перед ним в одной рубахе. Ноги и промежность тут же закоченели. У меня кружилась голова. Он положил свободную руку мне на грудь и подтолкнул к стене. Бродманн начал скулить какие-то лозунги, сидя в кровати в ночной рубашке. Он лепетал о правах и моей важности. Казак рассеянно бросил в его сторону: «Я тебя убью. Заткнись». Мне показалось, что лезвие распороло кожу на шее. Гришенко ухватил меня за плечо. Я подумал, что он сейчас сломает мне кость. Нож медленно опустился на мою залитую кровью рубашку и рассек ткань. Лезвие коснулось паха. – Он сказал: ты поймешь, что для него значило это оружие. Он был святым. Я любил его. Я защищал его. Я думал, ты поддержишь его. Он не был счастлив. – Острие вонзилось мне в одну ногу, потом в другую. Я почти не почувствовал боли, но увидел кровь. Я не умолял его. Моя честь осталась со мной. Я не унижался, как унижались другие. Когда он приказал мне прислониться к стене, я повиновался. – Он хотел, чтобы ты жил. Чтобы выжил, так он сказал. Я не понял его. Но Ермилов был ближе к Богу, чем я. Ты принимаешь его дар? – Да, – сказал я. Кажется, я поблагодарил его. – Ермилова расстреляли вчера вечером. За то, что он позволил тебе сбежать. Не потому, что твои большевики так приказали. Он попросил меня отдать тебе пистолеты. Вот я и принес их. Я не мог видеть его движений. Нож был прижат к моей груди, но Гришенко доставал из-за пояса что-то еще. – Он заставил меня пообещать, что я не убью тебя. – Что… – Заткнись. Я пообещал. Но сказал, что должен буду удостовериться: ты его запомнишь. Не думаю, что ты сбережешь его пистолеты. Я услышал ужасный свист нагайки, рассекавшей холодный мрачный воздух. Мы закричали. Я знаю, что такое боль. Эта боль была самой сильной, что мне довелось испытать. Я не ожидал ничего подобного. Удар был нанесен так ловко и продуманно, что все кости остались целы. Но на моих ягодицах до сих пор видны следы от маленьких свинцовых грузил. – Теперь ты запомнишь Ермилова, жид. Гришенко толкнул меня на кровать так, чтобы мое лицо уперлось в старинные пистолеты. Я заплакал. Он постоял, уставившись на меня, медленно пряча нагайку за пояс, а нож – в ножны, потом развернулся и вышел, бесшумно прикрыв за собой дверь. Выродок удалился. Выродок, убивший своего друга, чтобы спасти собственную шкуру. А пистолеты все еще у меня. Мне недавно предложили за них тысячу фунтов.Глава пятнадцатая
История не повторяется никогда; зато повторяются события, и постепенно, наблюдая за ними, вы понимаете, что люди везде и всегда похожи. Меня постоянно спешили осудить. Я редко был в чем-то виноват. Неужели моя вина лишь в том, что окружающие переносят на меня свои надежды и страхи? Я ученый, мой разум – разум ученого. Немногие это понимают. Меня унизили. Гришенко унизил меня. Бродманн говорил о произволе и недостатке дисциплины, использовал свой марксистский жаргон, осуждая поведение Гришенко, но я не мог заставить себя разбираться в этом деле. Я склонен к всепрощению. Мне нравился Ермилов. До некоторой степени я мог даже понять скорбь Гришенко. Тем не менее я не мог сидеть на твердой поверхности в течение многих недель. Позже я передал пистолеты на хранение госпоже Корнелиус и не видел их до 1940 года. Теперь они представляют большую ценность. Доктор по приказу Бродманна осмотрел меня. Я завоевал его симпатию, хотя все еще оставался «гадюкой», «евреем» и «цареубийцей». Если б я был один, то, возможно, согласился бы со всем, что доктор говорил о красных, но Бродманн вертелся рядом. Очевидно, он опасался, что бедный маленький доктор убьет меня. Теперь нам предстояло встретиться с Григорьевым. Для этого следовало успеть на поезд. Когда мы ехали на станцию, я ощущал лишь отголосок боли. Только на следующий день я почувствовал онемение и мучительные страдания, невыносимые и раздражающие. Я увидел Гришенко еще раз, когда садился в поезд. Он усмехнулся мне. Я покраснел, как девочка. Никто не заметил моей реакции. Бродманн был слишком озлоблен, воспринимая Гришенко как моего врага. В украденной роскошной одежде казак ускакал прочь, настегивая лошадь по шее и лопаткам все той же нагайкой. Округлые рукояти пистолетов касались моих бедер. Они легко уместились в карманах моего густо населенного вшами пальто. Там же были спрятаны мои документы и диплом. Мы удостоились особого внимания. Нас разместили еще лучше, чем в киевском поезде. Сиденья, слава богу, были мягкими. Бродманн сел напротив меня, у окна. Он продолжал ворчать, бормотать и осматривать грязный снег, отыскивая следы Гришенко. Я рассмеялся и сказал ему, что это ерунда. – Обычное дело! – воскликнул Бродманн. Правосудие для них – разновидность мести. Вот с чем нам приходится иметь дело! Как ни странно, я в то утро чувствовал себя хорошо и ощущал собственное превосходство. Я усмехнулся: – Худшее, что могло случиться, уже случилось, Бродманн. Побывали бы вы в моей шкуре! – Я ненавижу насилие. – Его мягкое, морщинистое лицо исказилось. – Тогда вы ошиблись в выборе профессии. – Вошел наш тощий друг; он снял длинное пальто, аккуратно свернул его и положил на верхнюю полку. – Я был пацифистом. Большевики обещали нам мир. Я работал для них на фронте – издавал газеты и брошюры. – Бродманн снова опустился на сиденье, когда поезд тронулся с места. – Кто-нибудь знает, куда мы на самом деле направляемся? – Григорьев сказал, что хочет встретиться с нами в своем полевом штабе. У него есть план: захватить Херсон или Николаев. Возможно, он уже там. – Эти города слишком хорошо защищены. Греки и французы в одном, немцы в другом. – Немцы не очень хотят сражаться за союзников и белых. Они могут присоединиться к нам. – Но не к Григорьеву. Он вслух говорит, что думает о немцах. Они ему не доверятся. Поезд мчался по широкой, необозримой степи. Грязь сменилась чистотой последнего снега. Он должен был очень скоро растаять. Война могла завершиться к весне. Успехи Григорьева и большевиков не оставляли сомнений. Скоро, вероятно, ожидалось решающее сражение. Мое единственное опасение заключалось в том, что битва начнется в Одессе раньше, чем я смогу обеспечить безопасность матери и Эсме. Наступление Григорьева казалось непрерывным и неизбежным. Если Махно присоединится к нам, белые и союзники будут уничтожены. Я молился о разногласиях между различными левыми группировками. Ничто не разъединяет людей так, как социализм. Цвет их флагов напоминал розы, которые я подарил госпоже Корнелиус, – насыщенный, блестящий кроваво-красный цвет. Цвет моей собственной крови. Когда я поранился о шипы, кровь смешалась с лепестками: она стала моей сестрой, моей матерью, моей подругой. Роза. Я не оглядывался назад. Я не чувствовал ностальгии. Меня обманули. Таков наш мир. Божий замысел откроется на Небесах. Я лишился веры. Все Божьи дары были у меня отняты. И вот я продаю в точности такие же меховые пальто, как и те, которые в прежние времена вынужден был носить, хотя и более чистые. Молодые люди с напыщенным видом шляются туда-сюда, как опереточные чекисты. Один из них носит анархические символы. Что он может знать об анархии? Он немного говорит по-русски. Я спрашиваю его: «Что это такое?» Показываю на значок. Он говорит, что «А» означает «анархия». Я говорю: почему бы не носить значки от А до Z, чтобы Z означало сионизм; ведь это – то же самое. Он решил, что я забавный. Какой идиот! Все эти убийства и похищения! Анархисты были игрушками в чужих руках и до сих пор остались идиотами. Они отвергли власть и все-таки ответили за свой терроризм. Что они получили взамен? Что получил мир? Анархию? Отсутствие правительства? Нет, то же самое правительство, только намного хуже. Вселенная расширяется. Вселенная остывает. Скоро повсюду будет снег. Снег укроет и сдавит Землю. Все покроется льдом. Лед сожмется до исчезающей точки. И тогда не будет ничего. Это закон физики. Это энтропия. Это второй закон термодинамики. Это тепловая смерть Вселенной[146]. Это конец. Теория эха[147], которую недавно разработали: что она такое, если не надежда? Но что есть надежда, если не вера? У людей остается теория эха: ничто во Вселенной не исчезает, ничто не умирает. Что они сделали? Всего-навсего заново открыли Бога! Вот в каком состоянии сегодня пребывает наука. Она расходует ресурсы и деньги народа, выясняя то, что мир знал с начала времен и будет знать до конца: Бог любит мир. Меня учили другому. Моя наука – это мир механизмов и двигателей, а не теоретическое бормотание. Все хотят быть Эйнштейнами. Эйнштейну хватило совести – он указал источник своей теории. Он был благочестивым дураком. Русские называют таких «восторженными». При этом он был евреем и сионистом. Но, возможно, я оказываю ему слишком много чести. Как эти два еврея запутали весь мир! Они принесли в двадцатое столетие больше суеверий, чем все наши ученые сумели изгнать из девятнадцатого. Секс? Фрейд спутал секс с привязанностью, с потребностью в любви. Физика? Она стала поэзией. Все так говорят. Люди строят огромные лаборатории, чтобы проверить поэтические теории. Где же былой прагматизм? Поезд остановился примерно через два часа. Мы оказались посреди голой степи. Хорошо организованный военный лагерь был разбит на ближайшем холме. Солдаты побрели к нам. Они несли большие бидоны с супом. Еду распределили по всему составу. Остановку запланировали для того, чтобы все в поезде смогли поесть. Неважно, являлся Григорьев бандитом или нет, но он достаточно разбирался в военном деле, чтобы поддерживать линии коммуникаций. Снабжение в его армии работало превосходно. Он управлял огромной территорией, контролируемой с помощью железной дороги и телеграфа. Григорьев мог быстро передавать новые приказы. Белые на юге уделяли гораздо меньше внимания средствам связи и скоростному транспорту. Они с подозрением относились к техническим новшествам. Красные, надо сказать, получили немалое преимущество. У них было меньше самолетов, но они с готовностью использовали воздушный флот. Белые надеялись только на кавалерию. Они были храбрыми романтиками. А расчетливые евреи смотрели в будущее. Но они видели не все. Я согласен, что все это было преступлением, но не хладнокровным убийством, а местью. В книгах пишут, что в лагерях погибло всего два или три миллиона человек. Я полагаю, что не менее шести миллионов. Сталин убил еще больше. Смерть властвовала в двадцатом столетии так же, как в шестом, четырнадцатом и семнадцатом. Memento mori[148]. Западные демократические страны не должны забывать о золотом веке Флоренции[149]. Савонарола через месяц уничтожил его. Свобода и ответственность – одно и то же. А молодежь позабыла об этой простой истине. Дисциплина, а не мечи – вот что спасло Спарту. Братская любовь спасла Спарту. Но она не спасла тех несчастных, благородных греков в Херсоне, когда слуги Сатаны напали на них. А еще говорят, что я ничего не знаю о вере. Нет, я пришел к вере. Мое сердце и мой разум привели меня к благородной вере в Россию; Россия противостояла Африке и Азии, Россия пустила корни здесь, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Париже – всюду. И моя вера мертва? Истинная вера Константина, который сделал Рим христианским, который основал Византию? Нет веры более чистой. Это вера греков, которые изобрели христианство. Евреи украли ее и вернули, как нечто совсем новое. Евреи всегда так торговали. Павел понимал это. Греки дали нам все – а мы снова и снова предаем их. Подумайте о Кипре. Британцы любят ислам. Они дают мусульманам землю для мечетей. Они приветствуют их в книгах; они призывают их покупать дома на Парк-лейн. Они называют своих героев в честь Аравии. Они флиртуют с исламом, как молодая девочка флиртует с демоном-искусителем, который собирается сделать ее проституткой. Они бесхитростны. Им не хватает древнего опыта России. Остерегайтесь Карфагена! Я напечатал несколько брошюр за свой счет. Нет никакого смысла что-то объяснять британцам. В лучшем случае надо мной смеются. Я храню брошюры у себя в магазине. «Национальный фронт»[150] – бессмысленная организация. Я не боюсь индусов. И не боюсь китайцев, которые владеют рыбной лавочкой напротив моего магазина. Неужели никто ничего не видит, кроме меня? На улицах полно шпионов. Это похоже на кошмар. Я единственный, кто понимает, что происходит. А что общего у нацистов и «Национального фронта»? Только прыщи и зависть. Коммунисты и иностранцы украли наши души, нашу кровь, наши умы. Но они – не марсиане. Это вам не «Война миров». Нам не следует ждать естественного решения проблемы. Тело сопротивляется раку. Оно чаще всего побеждает. Новые клетки уничтожают инородные тела. Опасность возникает лишь в тех случаях, когда в дело вступает интеллект. Многие умирают, лишь узнав диагноз. Рак приходит и уходит, тело инстинктивно сражается с ним. Вот и нам нужно бороться. Нет существа более эффектного, чем Змей Горыныч. Chur menia! Chur menia! Но кто станет меня слушать? Не китайцы, не африканцы, не индусы. Не итальянцы. Даже греки не станут слушать. Многие знают, что за публичной библиотекой расположена сербская церковь. И в Бэйсуотере есть греческая церковь. Я сохраняю оптимизм. Но теперь использую другие, более тонкие методы. Нынче повсюду мужские и женские монастыри, католические, ирландские и негритянские часовни. Некоторые из молодых людей, кажется, начали кое-что понимать. Возможно, мы еще выкарабкаемся. Когда выдворим всех иностранцев и переселим Голдерс-Грин[151] в землю обетованную. Но я думаю, что уже слишком поздно. О Византия! Приди же к нам с твоими всадниками и твоими мечами, приди и спаси нас! Поезд снова тронулся. Супом здесь именовались посредственные щи с большим куском мяса. Бродманн уснул. Другие читали или делали заметки в записных книжках. Именно так они вели нашу Гражданскую войну И все-таки у каждого в том вагоне, вероятно, на руках было больше крови, чем у дюжины казаков. Иногда рядом с поездом скакали кавалеристы. Всадники салютовали пассажирам и просто размахивали руками. Если мы ехали медленно, кавалеристы могли перекрикиваться с пассажирами. Поезд вез оружие и солдат. Все вагоны были бронированы. Некоторые, наш в том числе, просто прикрыли разнородными металлическими листами, прибитыми как попало. Окна были в основном незащищенными. В случае нападения нам следовало бросаться на пол и надеяться на лучшее. Но никаких нападений не произошло. Григорьев и большевики принесли в те края некое подобие мира. Это случилось незадолго до того, как их пути разошлись. Как и белые, они все ненавидели националистов. Но Дьявол обитал среди нас. Никогда Россия не была так разделена. Только теперь раны заживают, но ислам и сионизм по-прежнему угрожают славянской расе. Я должен был встретиться с Григорьевым на следующий день. По своему обыкновению, он разместил полевой штаб в большом городе. Сидя на белом арабском скакуне, как Скоропадский, он устраивал смотр своим отрядам: пестрым, нарядным казакам в разнообразных одеяниях, вооруженным хорошими карабинами. Их кони, как всегда, были превосходно ухожены. Запорожский атаман оказался низкорослым, с обритой наголо головой и бледным лицом монгольского типа. Григорьев ни капли не напоминал актера. Он превосходно управлялся с лошадью. Его форма была по-настоящему казачьей, без дурацких старинных украшений. Он черпал силу в своих воинах, как делал Константин, вернувшись из Англии, чтобы заявить права на Римскую империю[152]. Он был истинным солдатом, отважно сражался на войне. Он смеялся, жестикулировал, но при этом железной рукой управлял своей лошадью, она никогда не сбивалась с шага и не поднималась на дыбы. Таким образом он демонстрировал интеллект и волю, скрытые под внешней бравадой. Вот почему казаки позволили Григорьеву стать их повелителем и вести в атаку на крупные украинские города. Я понял, почему Ермилов собирался стать незаменимым для атамана, почему Гришенко был настолько полезен. Если бы Ленин или Троцкий обладали половиной мужества Григорьева, нам никогда не пришлось бы сносить ужасы и последствия военного коммунизма. Среди всей этой мерзкой шайки нет ни единого человека, которому я стал бы служить так охотно, как Григорьеву; и все же я продолжал опасаться его последователей. Делая вид, что не одобряет бандитов-погромщиков, он тем не менее использовал их в собственных целях, как королева Елизавета использовала своих пиратов. В конечном счете, несмотря на предположение Ермилова, их могли устранить так же, как вышвырнули Лафита[153], сыгравшего свою роль во время американской революции. Троцкий с легкостью уничтожил большинство своих союзников к 1921‑му. Он приглашал их для мирных переговоров или политических встреч и убивал. Троцкий усвоил жестокость бандитов, но не усвоил их отваги. А я в таких делах просто дитя. Поезд на следующий день встал на запасном пути, а затем доставил нас от лагеря Григорьева до ближайшего большевистского отряда. Несмотря на большое количество людей в форме, порядка здесь не наблюдалось. Многие красные казаки были пьяны, хотя чекисты пытались контролировать их. Эти комиссары обладали гораздо большей властью, чем обычные офицеры. Их все очень боялись – именно этого и добивался Ленин. Я был вдвойне доволен, что теперь оказался активистом; товарищи все еще обсуждали, как организовать мое путешествие в Одессу. Мы приблизились к городу, полагаю, на тридцать или сорок верст. Я не слишком хорошо умею определять время и расстояния. Николаев, если именно он был местом нашего назначения, располагался сравнительно близко к Одессе, восточнее у побережья. Херсон находился еще дальше к востоку, на Днепре, а Николаев – в устье Буга. Эти два города имели стратегическое значение. Они располагались на главных железнодорожных путях, у рек, ведущих прямо к морю. Большие корабли швартовались в обоих портах. Захватив эти города, армия, вышедшая из Александрии, могла бы атаковать Одессу, которую охранял большой, прекрасно вооруженный гарнизон белых и союзников. Вот о чем все спорили на протяжении нескольких дней. Силы союзников, интервентов, защищали Херсон, а колеблющиеся немцы занимали Николаев. Города были уязвимы, несмотря на поддержку французских и английских военных кораблей. Однако Григорьев с большевиками много спорили о стратегии. Я подозревал, что Антонов хотел приписать все победы себе. Бродманн ежедневно утверждал, что убедил партизан в правоте большевистского дела. По его словам, они теперь стали именоваться большевиками, а не боротьбистами. Меня это не впечатлило. Они хватались за лозунги и партии ради простого удобства, потому что больше не могли сражаться за Бога. Белые хотя бы понимали, что для них ценно. Если бы у них были лидеры получше, они вернули бы нам Бога и царя. Римская империя никогда не погибнет. Она живет в духовном мире. Бог вернется в Россию. Религиозное возрождение продолжается. Византия остается – на земле и в сердцах людей. Поезд проезжал по несколько верст в день. Грязный снег таял; из-под него показывалась разоренная земля; как будто повязки снимали с незаживших ран. То, что появлялось на поверхности, подобно обломкам потерпевших крушение и подорванных кораблей, было отвратительно: мы видели наполовину съеденные человеческие трупы, обглоданные не дикими животными, но мужчинами и женщинами. Крестьян теперь расстреливали за людоедство и продажу человеческого мяса под видом мяса животных. Мы видели сожженные дома; остовы благородных старых особняков; сломанные экипажи и плуги; трупы коров и овец – шкуры и шерсть гнили на протухших тушах. Это был наш позор. Мы спрятали его под покровом зимы, как поступали всегда. Но когда почки набухли на деревьях, не уничтоженных снарядами, когда ростки поднялись над землей, не оскверненной нефтью, огнем и мерзостью людской, – тогда наши прегрешения были явлены. Ни один враг не нес ответственности за эти злодеяния, разве что Карл Маркс. Все это было сделано во имя украинской нации, во имя России, во имя единства, во имя гуманизма, во имя братской любви. Такого постыдного искажения истинных целей не ведала даже история Крестовых походов. Гроб Господень выкрали из наших сердец. И грех, как всякий грех, сделал наших солдат настоящими дикарями. Истории, которые мы слышали, были ужасны: о евреях и белых, поджаренных на костре на стальных листах, о жестокостях и насилии; о самых омерзительных сексуальных извращениях, жертвами которых становились и мужчины, и женщины. Весна пришла, но мир не вернулся. По-русски Вселенная именуется «миром»; и в то же время мир – это все мы; все эти понятия имеют единый источник. Ведь мы – это Земля. Именно поэтому мы говорим о нашей земле, о нашей вселенной, о нашем мире, о нас; именно поэтому иностранцы редко понимают эту общность. Осквернить нашу землю значит уничтожить все. Мы не мистики. Все мистическое – в нашем языке. Дело в его созвучиях. Это основа нашей великой литературы, нашей поэзии, наших песен, нашей музыки. В русском языке присутствуют такие связи, которых немец, например, не может постичь, если он не говорит по-русски идеально и с любовью. Степной житель тревожится и впадает в отчаяние, если на его землю вторгаются противоестественные силы. Казаки сражались не за большевизм, не за белых, зеленых или черных; они шли в бой против шоссе, железных дорог, городов. Их идиллическая Россия – Россия бескрайних небес и маленьких деревень, лошадей и рогатого скота. Если бы казаки смогли принять двадцатое столетие, мир показался бы им прекрасным. Они смогли бы обрести свободу, которой не знали прежде. Но они нападали на города, уничтожали их, грабили и тащили добычу к себе домой. Даже Григорьев, даже Махно, хитроумные стратеги и грамотные люди, не могли понять, что города – это основа мироздания. Это непонимание стало главной причиной их поражения. Контроль над городами – вот ключ к свободе, которую они искали. Они говорили об этом, но не чувствовали. Казак должен почувствовать нутром, прежде чем что-то принять. Во всем мире евреи правили городами; еврей – первый настоящий, прирожденный современный горожанин. Даже местечковые евреи ненавидели степь. Наша украинская война стала первой большой войной между городом и селом. Чтобы выжить сегодня, нужно заключить союз с городом. Люди, которые уезжают из городов, в лучшем случае – сентименталисты, в худшем – дезертиры. Украина была страной богатых промышленных городов, использующих наши природные ресурсы; страной богатых земледельцев, возделывающих наши бескрайние пшеничные поля. Украина продемонстрировала и проблему, и ее решение – гораздо проще, чем Россия. Именно поэтому мы так много страдали – и продолжаем страдать до сих пор. Я говорю не из жалости к себе, во мне ее нет. Я рассуждаю объективно. Проблему можно было определить, найти решение. Украина могла бы стать первой по-настоящему современной цивилизацией. Троцкий и националисты, столкнувшись, помешали этому. Здесь сошлись две зловещих силы. Проклятые эгоисты – они думали, что все знают лучше других. Хаос и древняя ночь вырвались на волю. Мы с Бродманном стали в каком-то смысле друзьями. Он восхищался мной и часто просил совета. Я делал все, что мог, стремясь избавить его от крайностей. Я выдумывал случаи из предполагаемой жизни красного активиста. В итоге моя репутация укреплялась. Когда мы переезжали из одного лагеря в другой, зачастую требовались мои технические навыки. Я все еще оставался заключенным. Конечно, они не понимали этого. Я неоднократно говорил, что буду для них гораздо полезнее в Одессе, но на мои слова не обращали внимания. Они начали всерьез обсуждать убийство Григорьева – получили прямые указания от своих московских начальников. Атаман отбился от рук, отказывался исполнять приказы, склонял большевистских связных на свою сторону, сбивал с толку их лучших людей. Меня попросили изготовить адскую машину, чтобы взорвать казачьего вождя. Совесть не позволила бы мне совершить подобное. Я утверждал, что трудно достать материалы. Конечно, они предложили реквизировать все, что мне необходимо. Я сказал, что это опасно. Человек, который взорвет бомбу, может также погибнуть. Они готовы были использовать кого-то, не особенно полезного для партии. Я упомянул, что могут погибнуть и другие люди, кроме Григорьева. Мне ответили, что люди, окружавшие атамана, несли такую же ответственность за происходящее, как и он сам. Я услышал знакомые заклинания, заученное большевистское обоснование хладнокровного убийства. Нечто подобное утвердилось в сознании социалистов всех мастей, включая национал-социалистов, которые вредили своему собственному делу, перенимая тактику противников. Они также унаследовали склонность большевиков к эффектным неологизмам. Ленин, Троцкий и Сталин за многое ответственны. Сталин считал себя филологом. Узнав об этом, я ничуть не удивился. Это для него было просто – он сам изобрел язык, который собирался изучать. Замятин проницательно и доходчиво рассказал об этом в романе «Мы». Все его идеи были украдены Хаксли и Оруэллом, этими злосчастными подражателями Герберту Уэллсу[154]. Анархистам же всегда плохо удавалось изобретение новых слов, хотя их лучшие лозунги нередко использовались большевиками. В этом, вероятно, и кроется причина их краха – анархисты все усложняли. Ленин понял, насколько эффективным может быть упрощение. Cheka. Это слово – пугающая аббревиатура, образованная от словосочетания «чрезвычайная комиссия». Мы бы с настороженностью отнеслись к этим словам, но не испугались бы их. В скандинавских языках слово, обозначающее ужас, звучит как «Skrek». «Шкрек» выражает ту же смесь холодности и суровости – сугубо деловой звук. До чего чекистам нравилось использовать эту аббревиатуру! Cheka! – и все снимали шапки и шляпы. Мужчины и женщины даже падали на колени. Русские едва ли поняли, что они больше не рабы, кроме тех, которые именовались товарищами. Cheka! – и тотчас комиссарам подносили ничтожные запасы, документы и прошения о помиловании. И пулеметы стучали: cheka-cheka-cheka, давая понять, что такое помилование: быстрая смерть вместо медленной. Конечно, чекисты начали в конце концов уничтожать друг друга. Они погибали в подвалах, в канавах, в лагерях, пока прозвище не стало вызывать такое отвращение, что его пришлось изменить; и Берия начал свое правление, нашептывая Сталину в ухо пугающие слова. Говорят, он рассмеялся, когда убедился, что Сталин в самом деле умер. Он гордился, как будто это была его заслуга. Берия думал, что одержал окончательную победу. Он мог стать еврейским царем, воссевшим на российский престол, но, к счастью, повторил судьбу Распутина, всего лишь дилетанта по сравнению со своим знаменитым последователем. Сталин готов был перейти к истреблению евреев. Вот почему Берия отравил его. Но эти факты замалчивают. Что Сталин сделал, например, с трупом Гитлера? С точки зрения вечно подозрительного грузина, можно было действовать по праву вендетты. А может, Сталин был первым роботом, человеком из стали? Какую шутку сыграл Берия со всем миром? В России до сих пор КГБ называют «чека» – это слово стало жаргонным. Наконец Бродманн мне доверился: он не хотел участвовать в заговоре. Я сказал, что совершенно с ним согласен. Мне как профессиональному саботажнику убийство Григорьева казалось делом низким. «Моя агрессия направлена на механизмы и средства связи», – заметил я. Теперь мы жили в спальном вагоне. Он стоял на запасном пути где-то к северу от Николаева. Мы очень редко получали новую информацию. Григорьев, казалось, не мог решить, на какой город ему напасть сначала. Антонов вообще не хотел, чтобы Григорьев начинал наступление. Он утверждал, что желает спасти граждан от произвола. Он в самом деле должен был показать своим хозяевам, на что способен, должен был превзойти успехи Григорьева. Тот, в свою очередь, каждый день рапортовал о десятке побед. Половина якобы захваченных городов на деле были цыганскими таборами или штетлами. Но хвастовство производило желаемый эффект. По мере приближения к большим городам к Антонову присоединялось все больше людей: залпы угрожающих телеграмм предвещали другие залпы, которые могли уничтожить всех сопротивляющихся; эти вестники устрашали гарнизоны и подрывали боевой дух солдат. В марте мы узнали, что Григорьев штурмом взял Херсон. Его телеграммы «Всем, Всем, Всем!» были разосланы по всему югу Украины. Город был захвачен от имени трудящихся мира, но содержание сообщений казалось вполне ясным: Григорьев, атаман запорожских казаков, сделал то, чего не смогли сделать большевики. Погромы продолжались. Даже Антонов, управлявший Киевом, не мог остановить разграбление Подола солдатами Красной армии. Разносилось великое множество слухов. Мы находились в пятидесяти верстах от линии фронта и не получали точной информации. Меня интересовало лишь то, что касалось непосредственно меня. Я до сих пор не мог получить разрешение на проезд в Одессу. Антонов стал подозрительным, он думал, что большевики играют в счастливые кораблики с Григорьевым. Этот морской термин обозначает переход одной команды на сторону другой. Большевики, официально командовавшие нерегулярными частями, исполняли все приказы Григорьева. Мы отнюдь не были уверены в том, что вождь сможет удержать все, чего добился. Вот почему Антонов хотел ликвидировать Григорьева. В Херсоне произошло следующее: Григорьев выпустил ультиматум, адресованный гарнизонному командиру. Достойный грек ответил, что его обязанность – защищать город до последнего. Он запер на складе заложников-коммунистов и их семьи. Французские фрегаты из устья реки открыли огонь по казакам Григорьева, мчавшимся на Херсон. Французы использовали зажигательные снаряды. Они подожгли склад. Сотни мужчин, женщин и детей сгорели заживо. Месть Григорьева была ужасна. Французы бежали, но ни один грек не спасся. Их убивали – неважно, сопротивлялись они или сдавались. Григорьев сложил их тела на корабль и отправил судно вниз по течению, к Одессе: первый современный корабль мертвецов. Известие о боевом духе французских войск потрясло немецкий гарнизон в Николаеве. В Херсоне оказалось немало добычи: танки, орудия, боеприпасы, еда. Город разграбили в истинно казачьем стиле. Григорьев продолжал притворяться, что он служит советской власти. Его люди продавали свою добычу и в нашем лагере, и во всех селениях, где они останавливались: женские платья, костюмы, ботинки, распятия, иконы, картины, деликатесы, антиквариат. Множество буржуев искало убежища в Херсоне. Казаки нашли себе множество жертв. Николаев сдался вскоре после этого, и Григорьев собрал огромное войско. Тысячи казаков, гайдамаки, партизанские отряды, танки, пехота в бронепоездах – вся эта армия начала наступать на Одессу. Меня переполняла паника. В любой момент что-то могло случиться с моей матерью и Эсме. Я обратился через полевых командиров Антонова за разрешением на поездку в Одессу, но ответа не получил. До меня дошел новый слух. Один из наших поездов отправлялся на Одесский фронт. Он вез большевиков. Антонов надеялся усилить армию Григорьева и сделать вид, что победа – дело рук большевиков. Я наконец получил назначение на должность политрука, вместе с Бродманном и еще каким-то человеком: я хорошо знал город, мог связаться с большевиками, уже ведущими пропаганду среди французов, местных жителей и белых. Я разместился в штабном вагоне с дюжиной полупьяных красноармейских офицеров, Бродманном и третьим политруком. Его фамилия была, кажется, Крещенко. Когда поезд тронулся, офицеры сообщили о полученных приказах. Мы не ехали в Одессу. Наше первое задание было другим – войти в контакт с Махно, заручиться его поддержкой и помощью в свержении Григорьева, которому Махно явно не симпатизировал и поддерживал неохотно. Красноармейцы говорили, что французы слабы, раздроблены, запутаны противоречивыми приказами и не понимают, что происходит. Московские большевики могли бы то же самое сказать и о себе. Они не понимали позиции Махно и Григорьева. Их отвращение к нерегулярным войскам было очевидным – оба раньше служили в царской армии. Я сочувствовал большевикам, но мне приходилось выживать среди презренного сброда. Я по, крайней мере, знал, как разгорались страсти. Даже красные казаки полагали, что русские шовинисты не были настоящими коммунистами. Казаки, как они утверждали, были коммунистами по происхождению и опыту. Единственное, что понимал Троцкий: украинские партизаны не подчиняются дисциплине. Ему было достаточно легко смириться с остатками царской армии; но воинов-крестьян он не переносил и уничтожил бы их всех, как только они сделали бы свою работу. Сталин довел дело до конца. Каждый успех большевиков вел к возрождению царских порядков. Скажите мне, кого реабилитировали? Скажите мне, кто несет ответственность за панисламизм? Теперь у нас нет больше казаков. Призраки этих убитых греков носятся над туманными водами Днепра; они взлетают и опускаются на кровавые волны Черного моря. Их души сгинули без следа. Греция, колыбель цивилизации, твои дети опозорили твое имя! И если бы Кассандра оказалась там, если бы она увидела и предостерегла их, – разве они послушали бы? Добрый не слушает; невинный не слушает; слушает только злой. Лица греков разбиты ударами винтовочных прикладов. Одежда сорвана с их тел. Они свалены, как протухшее мясо, в лодки и отправлены вниз по течению великой русской реки к нашему собственному морю. Как, должно быть, потешались турки, когда узнали о том, какие зверства мы творим друг с другом. Благородных греков предали и французы, и русские. И мы еще говорим о демократии… Мы до сих пор используем их язык, религию, культуру, логику, и мы позволяем им гнить. Мы бросили их на растерзание неверным. Греция – наш общий источник, но мы не замечаем этого. Наш образец, наш идеал. Туристы причитают над останками Греции; извращенцы искоса смотрят на голые статуи и осмеивают учение Платона; а греки позорят себя кебабом, рециной и глупыми танцами. В Афинах греки продаются всем подряд, губят свою честь, но можно ли их винить? Греция, мать мира, подверглась поруганию от собственных сыновей. И что, она становится циничной, накрашенной шлюхой? Одиссей! Мы построили город, назвали его твоим именем – и осквернили его. Мы заполнили его отбросами, уничтожили твоих отважных соплеменников, превратили святые места в конюшни. Мы изнасиловали жриц твоих храмов, содрали золотые росписи и разбили статуи. Но Греция восстанет, как восстанет и Христос; облагороженная жертвой, в страдании обретшая силу. Они бьют меня своими розгами. И Бог нисходит ко мне. Стамбул? Какое никчемное имя – разве оно подходит для города Константина Великого, принесшего в Рим светоч веры? Византия! Есть имена, звучащие как песни. Но Стамбул! Это имя выкрикивают с мерзких башен, возведенных жалкими, жадными, жестокими турками; это имя связано с джихадом, с местью людям Агнца. Айя-София… И всем векам – пример Юстиниана…[155] Тысячу лет она хранила Восток. Даже турки не смогли одолеть ее. Под всеми новыми покровами, под надоевшими иллюзиями коммунизма – она по-прежнему жива в сиянии икон; здесь Божья Мать и Сын Божий; и здесь старик – Сталин, пускающий слюни в предсмертной агонии. Сын Божий не погиб. Его день еще не настал. Византия и Рим объединятся против татар, негров, евреев, тевтонцев. Пусть турки славят своих Сулейманов и Гарунов, своих предателей Лоуренсов. Их нефть вытечет в море, и мир погибнет. Бойтесь Африки. Но никто не слушает пророчеств. Люди – дураки. Люди – простаки. Они называют меня расистом. Я не расист. Раса – ничто. Я боюсь не расы, а религии. Религии, основанной на ненависти и зависти. Вот Карфаген, с его темными и древними глазами, его красными губами, его иссиня-черной бородой; и он жаждет мести. Византия восстанет. Барабаны умолкнут. Гонги не отзовутся эхом. Снег будет нашим, и наши реки потекут, покрываясь серебром. Мы защитили Европу. Мы построили византийскую колонию на руинах Карфагена, но она была обречена; ибо католики посвятили те руины проклятым богам и призвали зло, которое существует и поныне. Я был там. По крайней мере, в Тунисе. Нам следует подготовиться. Храбрые, свободные казаки и византийская вера. Неужто их ждет такой же конец, как у Греции? Наши казаки начнут танцевать и петь на унылых сценах, украшенных красными флагами, а наши священники – продавать грязные фотографии на ленинградских улицах? Где наш мир? Где Агнец Божий? Они схватили Краснова и повесили его на дереве. Они сплели заговор, чтобы погубить Григорьева. Они перебили командиров Махно. Они довели до самоубийства многих других. И вы хотите мне сказать, что их не стоит бояться? Вы думаете, что таков Божий замысел? Как это может быть? Бог перешел на сторону врагов? Как могут турки исполнить Его волю? Разве нас не достаточно испытывали? Мы страдали две тысячи лет. В чем наша вина? Карфаген был разрушен. Мы виновны? В чем? Бродманн нервничал, думая о предстоящей встрече с Махно. Он сидел в углу вагона и жаловался. Он ненавидел анархистов сильнее, чем белых. Он, вероятно, в свое время поддерживал и тех и других. Он утверждал, что История не была готова к фантазиям Кропоткина. Люди слишком порочны и эгоистичны; их следовало бы приучать к идее коммунизма, как собак. Бродманн напоминал неофита, восстающего против того, чем когда-то восхищался,что теперь стало казаться несовершенным. Я часто встречал подобных людей. Он стремился укрыть весь реальный мир покровом своих убогих фантазий, потому что лишился стержня, духовного мира. Неважно, видим ли мы христианина или коммуниста: нравы у них одни. В те времена все ненавидели Махно. Большевики, белые, союзники. Мало того, что он добился не меньших успехов, чем Григорьев, так у него была возможность найти им лучшее применение. Но Махно стал алкоголиком в Париже. Потерянный, несчастный, запутавшийся, больной чахоткой, брошенный семьей, он непрерывно говорил, кашлял и плакал, уходя в небытие. Я как-то встретил его там, в Париже, где живет великое множество одиноких русских.Глава шестнадцатая
Я решился бежать. Ночью, пока поезд стоял, а в вагоне все спали, я взял со стола карту, прихватил бутылку водки и немного еды и ушел. Снега практически не осталось. Мой план был прост: добраться до ближайшего более-менее крупного города. Теперь я был au fait по части тактики партизан – мог надуть кого-то из чиновников и раздобыть транспорт до Одессы. Возможно, удастся найти грузовик. Я бы починил его так же легко, как грузовик Гришенко. Я находился в каком-то трансе. Мои воспоминания о тех днях весьма туманны. Помню, что стремился добраться до матери и Эсме. Больше я ничего не планировал, разве что продать пистолеты Ермилова и купить билет на корабль, направляющийся в Ялту, которая была тогда в руках Деникина. Все сомневались в том, что французы смогут или захотят долго защищать Одессу. Проклятые боги собрались с силами. Они мчатся по ветру, который дует на Запад. Ника! Победить. Британцы виновны. Они потворствуют злу. Они впустили людей Востока в свою страну. Взгляните на Портобелло-роуд. Взгляните на Бирмингем. T’hiyyat hametim[156]. Карфагеняне разбили лагерь на острове, финикийцы создали здесь торговую базу. Разве что-то изменилось? Британцы продадут свои права финикийцам за несколько шарфов из искусственного шелка и дрянных деревянных слонов. Культура не может вечно сохранять равновесие между светом и тьмой. Персы знали об этом. И что британцы оставили от их империи? Одно лишь бессмысленное название. А Карфаген остается с нами. Боги Вавилона и Тира раздавят Лондон своими каменными ступнями. Молох разверзнет пылающую утробу, и британцы строем зашагают туда, напевая какую-то песню. Дивное избавление! Вот чего они заслуживают. Они снова станут рабами финикийцев. Они научатся унижаться. Они рассеются по всей Земле, станут народом нищих, униженных, питающихся отбросами ничтожеств и будут плакать о своей славе, позабудут о чести и начнут рассказывать о былом величии, и их будут слушать с презрением, поскольку это величие они утратили. Nicht kinder. Nicht einiklach[157]. Я добрался до селения; вокруг была кромешная тьма. Здесь воняло, как и во многих других деревнях, но стояла мертвая тишина. Дома выглядели совсем ветхими, по большей части лишь грубые соломенные хижины. Все селение напоминало большой и неухоженный скотный двор. Мне доводилось видеть, как горели подобные места – я бывал в таких вместе с казаками. На рассвете я уселся у стены и ненадолго задремал. Проснувшись, я увидел стоящего рядом со мной еврея – хасидского раввина. Он спросил меня на идише, хочу ли я есть. Я сказал «нет» и поднялся. Итак, я попал в лапы сионистов, в штетл. Всюду были надписи на идише и иврите. Солнце сияло ярким и холодным светом над этой цитаделью жадности. Я уснул рядом с синагогой. Мои кости заныли. Следы от тяжелой нагайки Гришенко казались совсем свежими. Я сказал раввину, что не говорю на идише. Он улыбнулся. Потом, запнувшись, что-то пробормотал на иврите себе в бороду. Я ответил ему по-русски, что на иврите тоже не говорю. Он не понимал моего русского. Я перешел на немецкий, подумал, что лучше уж так, чем на украинском, который мне казался похожим на идиш. Но даже это оказалось непросто. Как же они торговали? Как они выживали? Земля здесь была бедна. Очень много камней. Этот край отличался от нашей русской степи. Он скорее походил на ветхозаветную Палестину. Раввин жестом предложил мне следовать за ним. Я покачал головой. «Эммануэль», – произнес кто-то. Вокруг собрались одетые в черное мужчины и женщины; возможно, была суббота. Я нарушил правила. Я, кажется, почувствовал страх. Моя голова начала ныть. Она и теперь ноет. Я собрался с силами и заявил, что представляю советскую власть. Раввин кивнул и улыбнулся. Он, наверное, пытался заманить меня в ловушку. Вероятно, евреи рассчитывали, что у меня есть деньги. Я сунул руку в карман и нащупал пистолеты. У меня действительно оставалось немного петлюровских денег, они лежали вместе с документами в моем потайном кармане. Я был слишком осторожен, чтобы коснуться этого тайника. Они тотчас обо всем догадались бы и напали на меня, раздели бы донага. «Вы еврей?» – спросил по-русски молодой человек. Называйте меня Иудой. Или Петром. Я не стану этого подтверждать – но тогда я был слишком напуган, чтобы ответить отрицательно. Я взмахнул рукой. «Почему вы боитесь? – На нем был черный костюм, молитвенный платок и крестьянская рубаха. Черные волосы были скрыты под шапочкой. Его лицо выражало полнейшую невинность. Это меня насторожило. – Казаки? Вас преследовали?» Евреи вышли из синагоги. Они окружили меня. Я сохранял спокойствие. Мои руки касались спусковых механизмов пистолетов. Евреи отвели меня в какую-то таверну. Они открыли двери настежь. По сравнению с этим местом заведение Эзо в Одессе выглядело петроградским кабаре. Я сказал, что у меня родственники в Одессе; я направляюсь к ним. Они спросили, где живут мои родные. Молодой человек был из Одессы. Я помню, как при этом почувствовал себя униженным. Я сказал, что мои родичи живут в Слободке, – следовало отвечать хитростью на хитрость. В конце концов, я стерпел то, что меня назвали евреем. Теперь, по крайней мере, я мог обратить это себе на пользу. Я пожалел, что покинул поезд. Я вытащил карту и попросил указать наше местоположение. Оказалось, что мы где-то в районе Гуляйполя, большого поселения, название которого связано с именем Махно, как Александрия – с именем Григорьева. Эти места были настоящими казачьими крепостями. Мы находились в нескольких сотнях верст от Одессы. Как несчастны были эти евреи. Такая нищета! И с этим внушающим ужас, будто осуждающим смиренным выражением лиц, свойственным им всем. Я задрожал, хотя и пытался сдержаться. Мне не хватало самообладания. Мне нужен был кокаин. А его почти не осталось. Не следовало расходовать попусту порошок. Я спросил, где Махно. В Гуляйполе? Они так не считали. – Он где-то далеко, – сказал юноша, – сражается за нас. – За вас? – Я едва не расхохотался во весь голос. Даже анархист не вступил бы в союз с подобными существами. У них не было никакой гордости; они не сражались; они падали на колени, молились, причитали. Я на них насмотрелся. Евреи так поступают, чтобы испугать своих врагов. Они грабят христиан и все же полагаются на христианское милосердие. Христос сказал, что простил их. И Христу нужно повиноваться. Я ненавижу их не за убийство Иисуса. Я не так глуп. Я невиновен. Яхве, говорят они, уничтожает наших врагов. Но сами они этого делать не станут. Что такое Израиль, как не пристань для Европы? Пристань заброшенная и разрушающаяся. Союзники забыли о ней. Они заняты турками и африканцами. Эти евреи так гордо восседают в своих американских самолетах и британских танках. Это грех. Они бьют меня прутьями, но я не плачу. Заплакать значит умереть. Ермилов научил меня этому. Евреи предложили мне еду. Я отказался. Я достал водку и выпил. Потом предложил им. Они отказались. – Где Махно? – спросил я. – Сражается, – сказал юноша. – Вы не говорите на идиш? – Мой отец, – заявил я, – был революционером. Раввин догадался о значении этих слов и покачал головой. Он был невеждой. Сырой, пугающий запах бедности исходил и от священника, и от самой таверны. Какое унижение! Я никогда не был в таком бедном месте. Здесь все казалось древним и унылым. Все разваливалось. Разве у них вообще нет чувства собственного достоинства? Почему они не чинят дома? Я хотя бы забор поправил. Но их заборы рушились, сады зарастали сорняками. Закрытые магазины с еврейскими вывесками выглядели запущенными. Русские деревни могли выглядеть так, но там была вполне понятная причина: крестьян ограбили. А кто ограбил этих? Я промолчу. Да, синагога: внутри было чисто. В синагоге, без сомнения, хранились прекрасные, расшитые золотом гобелены. – Настали тяжелые времена, – сказал юноша. – Здесь, как и повсюду. Под каким вы флагом? – Под флагом? – Под красным или черным? – У меня нет флагов, – ответил я, – я сам по себе. Сам по себе. Я почувствовал слабость, как будто холод проник мне в желудок. Я по-прежнему чувствую его. Он всегда со мной. Как кусок холодного металла, который никогда не нагревается, даже от крови. Словно шпион, двойной агент… Я не знаю. Знамена развевались над дымом, над шкурами, над шапками, над лошадьми. Все флаги были спущены. Флаги всех цветов; дивные казаки; на добрых конях и с новым оружием. Григорьев не исполнял приказов, и в отместку Ленин и Троцкий пригнали на Украину китайцев, венгров, румын, чекистов, еврейских комиссаров. Комиссары обрушились на своих. Евреи пострадали больше всего. Красные захватили пятьдесят человек поблизости от польской границы и отрезали им языки: старикам, маленьким девочкам, молодым парням. Убили десять миллионов человек. И только кровь могла погасить пожары; кровь смешивалась с золой; густая пена покрыла нашу землю. Дым от горящей плоти забивал ноздри живым; он душил новорожденных детей, когда они пытались сделать первый вдох. Мы погрузились в бездну войны, как безнадежные жертвы кораблекрушения погружаются в воду, счастливые, потому что обретают забвение. Не осталось ничего, кроме дыма и пламени, кроме шума пулеметов. Этот шум был слишком громким. Целые города кричали от ужаса и от боли. Целые города кричали по ночам, заглушая звуки орудий, транспорта, бронепоездов, лошадиных копыт. Апокалипсис? Вьетнам? Лидице и Лежаки?[158] Ничто не сравнится с тем, что мы пережили на Украине. Потом пришел Сталин. За ним – Гитлер. А теперь немецкие туристы посещают, улыбаясь, земли Украинской Советской Социалистической Республики. Они оставляют здесь свои марки – как раньше оставляли следы. Горы больше не защищают нас. Мы знаем, что мы – гуманный народ. На кого мы напали? На Чехословакию? Но это были не русские люди. На Финляндию? Но она всегда была нашей. Вы как будто с вертолета видите маленькие фигурки, которые что есть сил передвигаются вверх и вниз по скалам, цепляясь за камни. И вы понимаете, что они поднимаются и спускаются, поднимаются и спускаются, потому что думают, что нет никого, кто их любит. У них есть только скалы. Они обезличены. Поднявшись на вершину, они остаются в одиночестве и на некоторое время обретают силу. Они приносят эту силу к себе домой. Это не сила людей, которые чувствуют себя любимыми, а сила неповиновения. Но это все, чего они ждут. Неужели они ищут Бога? Я однажды сидел на скале в Лапландии и смотрел сверху на горы, облака, тундру; и горы скрывались в синеве – вплоть до самой Норвегии. Я стал подобен стали, закаленной и холодной. Я унес свою силу из Финляндии, добрался до колючей проволоки границы и посмотрел на Россию. Охранники с собаками пришли и прогнали меня. Я заговорил с ними по-русски. Они приказали мне уйти. Они были встревожены, но любезны. Они не хотели никаких неприятностей. Русским говорят, что им следует опасаться иностранцев. Я сказал, что я не иностранец. Они не поверили мне. Я чувствую, что болен. Чувствую холод, металл у меня в животе. Русские щедры. Они хотят всех любить. А теперь им приказано опасаться любви. Неужели все потому, что Ленин, Троцкий и Сталин не могли любить? Они использовали нашу любовь. За что сражались Буденный, Тимошенко и Ворошилов? За жевательную резинку? Американские туристы дают ее российским офицерам в обмен на значки с их фуражек. Это правда. Это разрешено. Спросите кого угодно. Они сражались за Украину. Они грабили. Они преследовали крестьян. Они забирали зерно и лошадей. Они забирали даже обувь. Они говорили, что спасают Украину, что мы должны обрести свободу. Крестьяне хотели земли. Они не испытывали ненависти к евреям. Они ненавидели городских торговцев: кацапов и евреев, немцев и греков. Ведь их попросту грабили. Потом пришли большевики и стали грабить их еще больше. Когда все было украдено, они начали отбирать жизни. Вот что такое их красная конница. Обмен звездочек с фуражек на жевательную резинку в Ленинграде и фальшивые улыбки в японские фотокамеры. Где русская честь? Двуглавый орел обернулся двуличным комиссаром. И ислам растет в утробе империи. Славян превосходят числом. Что же удивительного в том, что они защищают свои границы? То, что случилось в Чехословакии, – вполне понятно. Британцы и американцы, французы и шведы… Им никогда не приходилось сражаться так, как сражались мы. Мы одолели ислам. Мы вынудили татар повернуть обратно. Еврейские поляки были побеждены, но они сумели зацепиться – древние, терпеливые, умеющие ждать. Таков был Троцкий. С этим все согласятся. Если бы я был евреем, то чувствовал бы бремя вины. Но я – сам по себе. Я не сражаюсь ни под каким флагом. Никто не понимает, насколько могущественны были эти люди. Все думают, что мы убивали, потому что были сильны. Но мы убивали, потому что были слабы. У нас не осталось ничего. Той весной вокруг Гуляйполя существовала своего рода зона покоя; возможно, это был центр урагана. Территория анархистов оказалась единственной, в которой воцарился мир. Мир полон иронии. Я остался в деревне, но сохранял осторожность. Когда прибыли отряды с хлебом для евреев, меня посадили в тачанку, прославленную Махно, обеспечивавшую ему превосходство в скорости и огневой мощи. Эти солдаты были истинными русскими, доброжелательными и открытыми. Я не знаю, почему они поддерживали Махно. Они именовались чернознаменцами, так как выступали под черным флагом, но гораздо больше напоминали идеализированных большевистских борцов из советской литературы. Мы остановились в другой деревне. Здесь жили греки. У них был хлеб, была мука. Нам предложили дзадзики[159]. Солдаты ничего не взяли. Мы остановились в сельскохозяйственной коммуне, названной в честь еврейки Люксембург. Я был пьян. Я был печален. Они спросили, в каком я чине. Я ответил, что был полковником. В ответ они расхохотались. Я был товарищем Пьятом. Я был комиссаром Пьятом. Я был полковником Пьятом. Им следовало загибать пальцы, перечисляя мои звания. Лица солдат казались свежими и здоровыми. Я полагаю, что они были истинными прислужниками дьявола, потому и казались такими нормальными. Шум утих, вся грязь исчезла. Иногда мы пересекали железнодорожные пути – вот и все. Я сказал, что должен пробраться в Одессу. Они сообщили, что там никого не осталось. Григорьев захватил ее. Французы сбежали. Атаман в открытую столкнулся с большевиками, которые теряли контроль. Григорьев, конечно, был зверем, но умным зверем. Чернознаменцы теперь выжидали своего часа. Моего лица коснулся солнечный свет. Настала весна. Поля выглядели так, как они должны выглядеть. Деревни выглядели так, как они должны выглядеть. Здесь царил покой, свойственный сельской местности. Я впервые ощутил в себе любовь к открытым пространствам. Я постиг очарование степей, полей, деревень, лесов и рек. Небо стало синим. Махновцы постоянно беседовали со мной – на привалах, у костров, в пути. Они хотели, чтобы я принял их веру. Они напоминали ранних христиан. Я верил в Бога, а не в правительства. Некоторые из них соглашались со мной. Они были слишком умны, люди Махно; им почти удалось убедить меня. Прямо перед тем, как наш отряд выехал на белую дорогу, ведущую к Гуляйполю, я притворился, что стал братом-чернознаменцем. Мы проехали большие военные лагеря и прибыли в город. Я хотел увидеть батько, старика. Меня отвели к нему. Он сидел в большой длинной комнате, возможно, в школьном классе, с несколькими соратниками в привычных разноцветных одеждах: бескозырках, армейских мундирах, с патронташами. Махно был одет в зеленое военное пальто с черным аксельбантом, папаху он сдвинул на затылок. Махно был мал ростом; он много выпил. Мне запомнились его открытое славянское лицо и широкий лоб. Его речь была мягкой и дружелюбной, как у мафиозо. Он говорил на чистом русском языке, полном силы. Махно предложил мне водки. Я выпил. Я пил постоянно, каждый день. Он спросил, эсдек ли я или эсер, поддерживаю ли какую-нибудь фракцию. Я сказал, что поддерживаю «Набат». Мужчина с маленькими черными усиками, одетый в черное пальто и черную широкополую шляпу, впился в меня взглядом: – Но ты же большевик. – Ерунда. Я анархист. – Ты Пьят? – Да. – Мы слышали о тебе. Саботажник из Одессы. Эсер. – Кто вам это сказал? – Бродманн. – Он приехал сюда? – Он все еще где-то здесь. Разве не так? – Смех Махно тоже был добрым. – Мы вернули его, – сказал человек с усами. Вошла женщина, такая же маленькая и коренастая, как Махно. Возможно, она приходилась ему сестрой. Во всяком случае, он приветствовал ее как родную. Она сказала Махно, что брат зовет его есть. Батько ответил согласием. Он хлопнул меня по плечу, назвал товарищем и, хромая, вышел из комнаты. Это был великий анархист, Нестор Махно, в зените своей славы. Я считаю его лучшим из людей, участвовавших в нашей войне, а это кое о чем говорит. Он уже тогда пил, но был весел. Он насиловал женщин – сам рассказывал мне об этом в Париже, после того, как Семен Каретник, Федор Щуса и другие его лейтенанты были преданы ЧК или погибли в сражениях. Тогда, в Париже, Махно радовался любому слушателю. Меня отвели в маленький сарай и оставили с двумя растерянными, неопрятными субъектами. Поначалу они были слишком мрачными, чтобы вступать в разговоры, но, правда, представились. Они вышагивали по сараю, засыпанному соломой, и швыряли прутики в стены. Они также были пьяны. Здесь все были пьяны. Их звали Абрамович и Казаров. Какого-то Абрамовича осудили за саботаж в двадцатых годах. Возможно, это он и был. И Абрамович, и Казаров оказались большевиками. Их арестовали за попытку организации ревкома в соседней деревне. Махно запретил революционные комитеты. Эти двое напоминали многих других; их переполняла жалость к самим себе, они были полны самолюбования – знатоки людей, злившиеся на Москву за то, что их бросили, злившиеся на Махно, который, по их словам, в политическом смысле оказался невеждой. Смуглый Абрамович лицом очень походил на еврея. Он был очень молод; шрам у него на губе подчеркивал злобную, отчаянную усмешку. Казаров выглядел гораздо старше, у него были тяжелые великорусские черты лица; когда-то он, должно быть, считался красавцем. С такой внешностью я сталкивался не раз: сначала человек напоминает Нижинского, а через год уже вылитый Брежнев. Это можно сказать и о Казарове, разжиревшем от украденного хлеба и выпивки. Я держался поодаль от них, в другом конце сарая. Я просто спросил, какой сегодня день. Оказалось, первое мая. Мои соседи сочли это забавным. Я был пленником большевиков, евреев и анархистов в течение двух месяцев. За это время я сделался более рассудительным. Странные выдались каникулы… Я оставался в сарае с заключенными большевиками всего два дня. Они ничего не знали об Одессе. Меня вывел из сарая усмехающийся махновец; он приказал мне отправиться в дом, который находился в конце улицы. Меня никто не сопровождал. В кармане у меня все еще лежали пистолеты, документы, какие-то деньги. Я, наверное, с головы до ног был покрыт грязью. Я не переодевался, не брился и практически не мылся по меньшей мере шесть недель. Мне было девятнадцать лет. Все вокруг смеялись надо мной и отдавали мне честь. Для всех проходивших мимо я был полковником Пьятом. Вот что стало моим спасением – моя юность. Дом оказался деревянным, с типичной украинской крышей, раскрашенный в разные веселые цвета, с верандой и тяжелой толстой дверью. Я отворил дверь. Солдат сказал, чтобы я прошел в заднюю часть дома. Шагая по коридору, я думал, что за мной послал Махно. Потом послышался звук льющейся воды. В доме было тепло и тихо. Я услышал девичий смех. Я постучал. Мне разрешили войти. Эсме была голой. Сидя в оловянной ванне, она смотрела на меня и улыбалась. Она протянула ко мне покрытые мылом розовые руки, выставив наружу груди. Ее золотистые волосы потемнели от воды. Тело пахло чистотой и мылом. Она была бесстыдна. Я отвернулся. Девочка в сером платье намыливала Эсме шею. «Он смущен». Это было ловушкой. Я сел на стул около ширмы и повернулся к Эсме спиной. – Как ты попала сюда? Анархисты в Одессе? – В Одессе белые, – сказала она. Вторая девушка начала насвистывать мелодию народной песенки. – Я там не была. – Эсме встала из ванны. Я слышал, как с ее тела капает вода, видел ее тень. Солнечные лучи пробивались через окно в верхней части двери. – Мы остановились на станции, чтобы раздобыть провизию. Меня схватили солдаты и изнасиловали. Меня насиловали так часто, что у меня мозоли между ног. Девочка в сером поперхнулась и захихикала. Они, конечно, собирались вывести меня из равновесия. Но почему Эсме так ополчилась на меня? – А мать? – Сошла с поезда. Она все еще в Киеве. С капитаном Брауном. – Голос Эсме стал мягче. Я почувствовал, что она подошла ближе, встал и направился к двери. Она закуталась в овчину и улыбнулась мне. – Макс? Не знаю, почему я заплакал. Вероятно, всему причиной усталость и водка. Я потратил впустую так много сил, пытаясь пробраться в Одессу. Плача, я испытывал к ней ненависть. Она гладила мое лицо, а я по-прежнему ненавидел ее. Я столько страдал из-за нее и из-за матери. А их там даже не было. Я лгал, я пережил ужас и боль. Я мог бы спокойно остаться в Киеве с госпожой Корнелиус, которая позаботилась бы обо мне; я мог остаться с матерью. В этом, конечно, не было вины Эсме, но тогда я обвинял ее. – Она никогда не хотела ехать в Одессу, – сказала Эсме. – Она слышала, что это был последний поезд, сказала, что ты не приедешь и она справится сама. – А тебя изнасиловали? – Меня больше не насилуют. У меня вполне достойная работа в агитбригаде. Мы путешествуем по деревням, развозим еду, книги и одежду. Станция примерно в тридцати верстах отсюда. Я только что приехала. Я слышала о тебе и хотела увидеться. – Ты переменилась, – сказал я. Ее это позабавило: – Посмотри на меня, Макс. Хочешь принять ванну? Вода еще горячая. Эсме – моя девственная сестра, лишенная пороков и страстей. Моя первая поклонница. Моя подруга. Моя роза. Она говорила грязные слова, не чувствуя стыда. Она предложила мне принять ванну. Я все еще был пьян и растерян. Я позволил женщинам снять с меня одежду. Я не возражал против того, чтобы они увидели мои шрамы. Я столько вытерпел от казаков, от их плетей и кинжалов! И я позволил женщинам вымыть меня. Эсме была нежна. Она что-то нашептывала, намыливая мне голову. Женщины высыпали в воду какой-то порошок. Он жег кожу. Он убивал вшей. Они вдвоем вымыли меня, одна в сером платье, другая – голая, прикрытая лишь старой овчиной. «Я представляла, что это ты», – сказала Эсме. Ее трахали так часто, что между ног появились мозоли. Я дрожал. Я все еще плакал. Мне стало совсем холодно. Я дрожал. Меня укутали. Эсме отвела меня в спальню, где в два ряда стояли пустые кровати. Она сказала, что у меня лихорадка. Легкая форма сыпного тифа. Я не знал. – Где ты был? – Всюду, – ответил я. – С большевиками? С этим Бродманном и его бандой? Я задумался. – Нет, я оказался с ними только потому, что искал тебя. Я думал, что ты в Одессе. Ты в самом деле анархистка, Эсме? Она сказала, что не совсем. Она работала сестрой милосердия в агитпоезде. Там были два доктора, оба евреи; они тоже помогали. Были швеи. По ее словам, у них сохранялся некий порядок. Хотя их и защищали солдаты Махно. – Скоро они уйдут. – Почему? – Потому что белые наступают. Донские казаки стоят у них на пути, и Махно бросил на помощь красным слишком много войск. Но время еще есть. – Кто тебя насиловал? – спросил я. – Многие, – ответила она. – Кто? – И правда, – сказала она, – казак отхлестал тебя. Животное. – Бродманн насиловал тебя? – спросил я. – Вот свинья! – Нет. – Махно? – Он спас мне жизнь, – ответила она. – Это было не совсем изнасилование. Это символ власти. Его жена знает, что он делает. Она пытается останавливать его. Ему потом становится дурно. Он пьет. Его солдаты ожидают от него чего-то подобного. Не в одном случае, так в другом. Здесь все знают его и двух его братьев. – Ему не следовало насиловать тебя, Эсме. – Это символ. Ты должен был быть там, когда все это началось. Меня трясло. Я чувствовал себя больным, но в желудке у меня не было ничего, кроме водки. Она обратилась в желчь. Эсме! Эсме! – Я присмотрю за тобой сегодня, – сказала она. – Хорошо, что я пришел сюда. Кто еще? – Кто насиловал меня? – Она рассмеялась. – Многие. Это глупо. Все кончено. Я снова делаю свою работу. У меня есть мальчик. Он хочет жениться на мне. В спальне стояла тишина, здесь, кроме нас, никого не было. Я смутился. Эсме ласкала все мое тело. Мое новое, чистое тело. Она коснулась моего члена, погладила его. Я начал расслабляться. – Я люблю тебя, Эсме. – Я люблю тебя, Макс. Она гладила мой член, мои соски, мое лицо. Растерла мазью шрамы от нагайки Гришенко, сказала, что мне станет лучше. Она любила меня. Эсме. Изнасилованная евреями и большевиками, но все еще полная сострадания. Мы могли бы пожениться, как хотела мать. Жить в деревне. Где ты? Ты сказала, что у меня лихорадка. Я не знал, что ты ушла, пока я спал. Неделю спустя она вернулась. Теперь спальню заполнили десятки раненых. Она устала, была грязной. Она стала шлюхой. Она помогла другим больше, чем мне. Я был ее братом. А она ухаживала за теми самыми мужчинами, которые насиловали ее. Я покрывался потом. Без водки, которая помогала мне, лихорадка усиливалась. Эти евреи отравили меня. Они засунули мне в живот кусок железа. Я болел в течение многих месяцев. Я умирал. Эсме утешала других, как будто каждый из них был мной. Госпожа Корнелиус так не поступила бы. Она осталась бы со мной. Они отравили меня. Я правильно делал, не доверяя им. Я так глуп. Люди слишком шумели, пахли гангреной, кровью и порохом. Они были отвратительны. Меня увезли с ними, с телег нас погрузили на поезд. Я увидел Эсме. Я думаю, что она искала меня, но не смогла разглядеть в огромной толпе, среди множества других. Потом исчезла из вида. Sie fährt morgen in die Egypte. Sie hat ihre Tat selbst zu verantworten[160]. Такие вещи обычны в Египте. Мои города – из серебра. Они возносятся в медное зимнее небо. С башен тех городов я возношу хвалу Богу. Вагнер пересек пустыню. Анубис – мой друг. Yа salaam! Ana fi’ardak! Allah akhbar! Allah akhbar![161]Глава семнадцатая
Кажется, девочка в сером подлатала мою одежду, вычистила и привела в порядок. У меня был новый мундир. Пистолеты и документы остались на своих местах. Подарки Ермилова лежали в глубоких карманах темно-синего кафтана. Но внутри я по-прежнему чувствовал холод. Повсюду звучали выстрелы. Нас высадили из поезда и погрузили на обычные крестьянские подводы. Махно исчез. Кто-то сказал, что он ускакал на лошади. Махно редко ездил верхом – из-за простреленной лодыжки ему тяжело было подниматься в седло. Многие уехали вместе с ним. Гуляйполе захватили. Я не знаю, кто одержал победу, белые или красные. Возможно, и те и другие. Они приходили и уходили. Белые сначала сражались за Бога, потом за собственную гордость. Красные начали сражаться за народ, а кончилось все борьбой за власть. Русские от природы тяготеют к общине. Нам не нужен был Маркс и его вредоносная философия мести и разрушения. Толстой и Кропоткин пытались создать философию, подходящую для нашего национального характера. Коммунизм подчеркивает общность, он отдает сообществу преимущество в сравнении с индивидуумами. Он не стремится к равновесию. Чтобы выжить, мир должен пребывать в гармонии. Величайшие знамения Божии – Человек и Вселенная. Это равновесие нам следует пытаться обрести вновь. Человеческая порядочность… Если б только евреи оставили меня в покое. «Месть!» – кричат они. Русское рыцарство обречено. Танки сокрушают русские сердца. Варварские путы впиваются в русскую плоть. Коварные чужеземцы используют нас. Герои Киева изгнали турок и монголов, но город стал безопасным для врагов. Мы могли бы столь многого достичь. Но все пропало… Они уничтожили русский разум, русский язык, русские сердца. И все променяли на грошовую западную ерунду. Они забирают нашу мирную землю, наши древние города, нашу церковь. Они заигрывают с исламом. Сколько ошибок они могли натворить за эти годы? Они создали расу безмозглого скота, который теперь уничтожает мир – с водородной бомбой в руках, бессмысленно рычащий, не способный отличить правду от лжи. Темные силы угрожают нам изнутри. Бойтесь Карфагена! Мы слышали уже множество голосов, предостерегавших нас: Кропоткина, Толстого, Блока, Белого. Смотрите вглубь! Смотрите на Россию! Но все смотрели на Германию. И они прокрались, проползли через Финляндию в немецком поезде. Марки. Что вынудило Гитлера угрожать великому союзу? Шептуны-евреи? Не греки, это точно. Я верил в Гитлера. А он предал всех нас. Тевтонцы всегда завидовали славянам. Они ждали тысячу лет, пока не подготовились. А потом перешли через горы. Отправились в поход на славян. В поход на Грецию. Они лишились основы. Так с ними будет всегда. Что у них есть? Бадья пива и кусок свинины. Все обрело смысл, когда турки и тевтонцы объединились. И британцы, как обычно, шли по этому пути и так прокладывали широкую дорогу в ад. Еврейские знаки жгут мою душу, клеймят мою плоть. Отпустите меня! Маленькие зубы выгрызают мозг из моих костей. Эсме… Как ожесточило тебя отчаяние, когда вся твоя жизнь, твой идеализм сгинули в серой пене большевизма! Мать… Тевтонцы убили тебя, когда я летел на своей первой машине? Тевтонцы убили тебя – ибо клянусь, что слышал твой крик. Твой мир вспыхнул в 1941‑м. А затем он сгинул. Завоеватели сделали тебя счастливой. Неужели потому, что сражалась с Сатаной всю жизнь, всякий раз, видя, что он шагает по Крещатику, ты приветствовала его как знакомого противника? Я не хотел потерять тебя. В твоих глазах никогда не было любви. Но ты была счастлива. Западная Европа слишком уютна, слишком тепла, слишком мила. Суровость нашего климата дает нам все – изоляцию, духовную жизнь, язык, гениальность. Мы теряемся в толпах, в тепле. Позвольте мне вернуться! Нас обездолили; нас изгнали. Теперь мы обитаем в подвалах. Нас оскорбляют и осмеивают. Мы, может быть, и выжили. Но Бог оставил нас. Он оставил Деникина. Махно и Григорьев, как Вилья и Сапата[162], могли сражаться за либералов, они допустили религиозную свободу, привели большевиков к Балтийскому морю – и стали эмигрантами. Но белые были слишком горды, националисты – слишком глупы, а Союзники никогда не понимали, что происходит в России. У русских есть их самость. Они уходят в себя, как англичане уходят в рационализм, чужой, заемный, отравляющий и разрушающий русскую душу. Вера в Бога и Его власть дарует единственную истинную свободу – свободу жить духовной жизнью. Махно отомстил за меня. Он отправился в Александрию для переговоров с Григорьевым, осудил его погромы. Атаман рассмеялся. Он не послушал. Неужели это было настолько важно? Один из командиров Махно, я полагаю, Каретник, выхватил свой кольт и пристрелил атамана. Махно добил его. Другие анархисты убили телохранителей Григорьева. Махно выстрелил Гришенко прямо между глаз, и тот рухнул в июльскую пыль Александрии, вместе со своей нагайкой. Махно сумел тотчас завоевать поддержку людей Григорьева. Это была старомодная бандитская отвага. Его поступки и слова произвели впечатление на остатки запорожцев, многие из которых теперь оказались босыми оборванцами, потому что Григорьев так и не использовал все свои завоевания. Люди согласились последовать за батькой. Но они были обречены. Этот анархист, любитель евреев, в конце концов отделался от них. Он сбежал в Румынию, а оттуда в Париж; его мучила мысль о том, что он покинул Россию. Махно, по крайней мере, никогда не был националистом. Он, его жена и дочь любили Россию. Они говорили по-русски. Я встречался с ними в Париже. Его жене приходилось нелегко. Думаю, что его дочь вернулась назад. Он жил за счет других эмигрантов и пил дешевое французское вино, которое делает всех до неприличия сентиментальными. Телеги ехали по пыльным летним дорогам; вокруг были маки, пшеничные поля, запах пороха и свист пуль. Я почти поправился, но решил, что неблагоразумно оставлять раненых. Кто стал бы связываться с полутрупами? Мы добрались до полусожженной деревни, и нас разместили в католической церкви, которую уже давно разграбили. Мы лежали среди мусора, который не представлял ценности даже для крестьян, среди старых следов лошадиного дерьма; сам навоз уже кое-чего стоил. Мы следили за тощими крысами, которые, в свою очередь, следили за нами, думая, кто же умрет первым и кто кого съест. Крестьяне не выпускали нас. Наши товарищи так и не вернулись. Двери были заперты, а окна – высоки. Крестьяне оказались слишком трусливыми, чтобы нас убить. Мой кокаин украли – думаю, это сделала Эсме. Наркотик дал бы мне силу. Он помог бы мне. В свою очередь я сумел бы помочь другим. Мы молили о милосердии. Наши тихие голоса отзывались эхом в пустой церкви. Священник погиб; его повесили милиционеры. Крестьяне ненавидели нас. Они слушали наши мольбы. Наши голоса, вероятно, воодушевляли их, как других воодушевляло пение «Dries Spaseniye Miru». В тот день спасение пришло. «Dries spaseniye mini byst. Poyem voskresshemu iz groba». Воспоем, обращаясь к Тому, кто воскрес из мертвых. «Inachalniku zhizni nasheya: Inachalniku zhizni nasheya». Поправ смерть смертью. «Razrushiv bo smertiyu smert». Он даровал нам победу и великую милость. «Pobedu dade пат, i veliyu milost»[163]. Наш дух. Наш дух. Они бежали от нас, от наших душ. И многие из нас могли убедиться, что Бог и Его Небеса все еще существуют. Мы погружались в ту легкую эйфорию, которая свойственна всем пребывающим на грани между жизнью и смертью. Затем раздались выстрелы – пулеметы и пушки. Это могло быть спасение. Умирающие лежали среди трупов. У меня по-прежнему были пистолеты, но не было пороха. Мы услышали, что артиллерия приближается к поселку. Лошади. Мы услышали их ржание. Церковь начала сотрясаться. Раздался благословенный шум – шум двигателей. За дверью звучали крики. Потом прогремел выстрел. Я закричал от радости: в дверном проеме замер офицер Белой гвардии с дымящимся револьвером в руке. Он поднес к лицу носовой платок. На офицере была светло-серая пехотная куртка с красно-золотыми погонами. На фуражке виднелся старый значок царской армии. Синие галифе заправлены в черные сапоги. На куртке сверкали орденские ленты. У пояса висела шашка. Его борода была аккуратно подстрижена, и хотя лицо покрывал слой грязи, а форма пропиталась пороховым дымом, офицер олицетворял все то, чего я не ожидал увидеть снова. Он позвал солдат в касках и форме цвета хаки. Они ворвались в церковь с винтовками наперевес, но начали кашлять. Некоторые раненые умерли уже несколько дней назад. Я выполз вперед, поднялся на ноги и улыбнулся. Но меня вновь обманули. Белый офицер сказал: «Возьмите тех, которые могут ходить. Остальных расстреляйте на месте. Это будет милосердно». Сержант-пехотинец приказал людям идти. Меня вывели наружу. Я увидел маленький пехотный отряд. Здесь были всадники с длинными кнутами и широкими красными нашивками донской казачьей кавалерии. И наездники и лошади выглядели усталыми. Здесь стояло два танка, покрашенные в цвет хаки: массивные машины с орудийными башенками и боковыми пулеметами системы Льюиса. Также поблизости находились три больших пушки и с десяток пулеметов. Рядом стоял большой открытый автомобиль. Я попытался заговорить с офицером, но он направился к танкам, люки которых как раз открывали. За танками, как будто поклоняясь новым богам, на коленях выстроились в ряд крестьяне, держа шапки перед собой. Меня толкнули. Я воскликнул: «Я верный подданный царя!» «Вот сам ему и скажешь, – произнес один из солдат, сдвигая каску, съехавшую на лоб. – Скоро будешь там же, где он». Я был слишком слаб. Я снова попытался привлечь внимание офицера. Они собирались ограбить меня. Было очень важно сохранить то, что у меня осталось. Моя жизнь казалась чем-то менее важным. «Капитан! Капитан!» Четверых раненых швырнули к стене – они начали падать еще раньше, чем пули коснулись их тел. Это было пустой тратой боеприпасов. Все раненые умерли бы через несколько часов. Высокий стройный офицер, в рубашке и шортах цвета хаки, с большим носом и массивной челюстью, в фуражке, надетой задом наперед, и в очках, сдвинутых на лоб, быстро направился к нам. Он закричал по-английски. Солдаты отвели меня к стене с тремя другими пленными. «Остановитесь! Вы кровожадные ублюдки. Разве не видите, что он – джентльмен!» Они заколебались, посмотрели на белогвардейского капитана, который как раз отвернулся. Солнце било мне в глаза. Капитан пожал плечами и сказал по-русски: «Мы узнаем, кто он такой». Он заговорил по-французски с низеньким широколицым лейтенантом, который дурно перевел его слова на английский язык: «Говорят, нужно допросить». Командир танка оказался австралийцем, как и все прочие танкисты. На лице его застыло выражение отвращения. Он пожаловался, что хотел вернуться в Одессу и оттуда отправиться на корабле прямиком в Мельбурн. Он все время потирал нос, как будто у него зудела кожа. Я заговорил с ним по-английски, когда он, вздохнув, наклонился и начал осматривать днище своей машины: – Я очень вам признателен, сэр! Его реакция меня поразила. Он как-то сразу переменился. Офицер усмехнулся и осмотрел своих людей. Они вскарабкались на машины и сидели на нагретом солнцем металле, потягивая что-то из фляжек. – Хоть кто-то говорит на настоящем чертовом английском. Выстрелы доносились из церкви и из-за угла, куда уводили раненых. – Господи Иисусе! – сказал командир танка. – Что еще можете сообщить? – Я говорю по-английски, – заявил я. – Катись, О’Рейлли, подальше! – Так я показал, что могу говорить и на нормальном наречии, а не только на книжном языке, как это называла госпожа Корнелиус. – Я учился в Киеве. Я доктор наук из местного университета и квалифицированный инженер. У меня звание майора. – В чьей армии? – В армии, верной законному правительству, уверяю вас, – я начал было объяснять, но упал в обморок. Я очнулся в сумерках. Австралийский солдат держал у меня под носом кружку с горячим бульоном. Еда меня не интересовала. Я чувствовал себя как-то странно. – Тебе нужно поесть, приятель. – Он напоминал русскую бабушку. Ради него я выпил бульон. Часть жидкости даже попала мне в желудок. – Какие же ублюдки эти крестьяне, – сказал солдат. Ему было столько же лет, сколько и мне. – Я ненавижу их сильнее, чем красных, а ты? – Они пострадали, – ответил я. – Разумеется. – Он кивнул. – Наши русские творят ужасные вещи. Все они – чертовы дикари. Неважно, какую чертову форму они носят. – Солдат вздохнул. Он не мог ничего понять. Он не хотел оставаться в России. Как и его командир, он стремился вернуться в буш, в свои дикие родные края. – Мы хотим помочь тебе. Нам нужен переводчик и инженер. Мы уже потеряли двоих наших парней из-за сыпного тифа. Ты что-нибудь знаешь о танках? – Немного. – А как насчет карбюраторов? – Думаю, что разберусь. – Превосходно. Теперь тебе надо бы немного вздремнуть. Утром позавтракаешь и сможешь взглянуть на Бесси. – Как я понял, австралийцы почти все танки называли «Бесси». Я не раз спрашивал, почему. Ответа никто не знал. Солдат говорил доброжелательно и уверенно, как человек, произносящий заклинание, действенность которого несомненна. Я провел ночь в спальном мешке около танка. Русские свалили на землю ничтожную добычу, которую сумели отыскать; капитан Куломсин наблюдал за ними. Солдаты считали его добрым командиром. Они, конечно, называли себя добровольцами, но на самом деле таковыми являлись очень немногие. Австралийцы обращались с ними свысока, словно стыдились союзников. Говоривший по-французски офицер оказался сербом. Я предположил, что он был неудачливым авантюристом, который завязал дружбу с белыми, чтобы спасти свою шкуру. Я позавтракал хлебом и большой порцией очень жидкого супа. У австралийцев имелись собственные запасы, с добровольцами они не делились. Они выдали мне сигарету. Она оказалась гораздо слабее тех, к которым я привык. Это был настоящий виргинский табак. Я почистил карбюратор и подсоединил его. Солдаты проверили двигатель. Он работал вполне прилично, но был ужасно перегружен; австралийцы ездили слишком быстро. Проблем у меня возникло не больше, чем с обычным трактором. Мы выехали из деревни. Белые сожгли ее. За то, что жители укрывали красных, сказали они. Я этого не видел. Меня взволновало первое путешествие в душной кабине танка. Те машины были куда более тесными, чем современные танки, которые по сравнению с ними кажутся настоящими «роллс-ройсами». Мы медленно продвигались вперед. Австралийцы практически не разговаривали друг с другом. Я спросил, куда мы направляемся. На соединение с несколькими другими отрядами, ответили они, для какого-то настоящего сражения. Я решил, что танкисты имели в виду нападение на крупный город. В танке было жарко и душно. Меня это не беспокоило. Я впервые за два года чувствовал себя в безопасности. Мы очень часто останавливались, изучали карты. Я переводил беседы капитана Уоллиса, австралийского командира, и русского офицера, который ехал в штабной машине. Мое сердце пело. Мы приближались к Одессе! Серб с негодованием смотрел на меня. В его услугах больше не нуждались. Когда видел его в последний раз, через одну из боковых танковых щелей, его лицо выражало боль и отчаяние. Меня попросили настроить двигатель другой машины. Я был, по словам австралийцев, на вес золота. Все золото скоро исчезло из России. Теперь вы еще можете найти его в кенсингтонских антикварных лавках, поблизости от советского посольства. Наступил август. Становилось все жарче и жарче. Всякий раз, когда предоставлялась возможность, мы открывали люки и вертелись в орудийной башенке, пытаясь насладиться прохладой. Моелицо и руки стали совсем коричневыми. Я был счастлив и доволен к тому времени, как мы достигли низких, поросших лесом холмов. «Это очень похоже на Дорсет», – сказал капитан Уоллис. Мы остановились. Уоллис посовещался с Куломсиным. Тот указал на пыльную дорогу, достаточно широкую, чтобы по ней проехать на танке, если сохранять осторожность. Куломсин поехал впереди на автомобиле. Листья деревьев мерцали в солнечном свете. Запах земли, недавно пропитанной влагой, а теперь высохшей на солнце, действовал на меня расслабляюще. Я с тех пор обнаружил, что аромат гиацинтов, роз, сирени и лилий может быстро успокоить меня, в отличие от побочных продуктов мака. До меня как раз дошла очередь, я поднялся в орудийную башенку – и тут мы выехали из леса и двинулись по заросшей лужайке к старому озеру, окруженному разрушенными балюстрадами. В центре водоема находился искусственный остров. Там росли ивы, рядом виднелись жалкие останки домика в японском стиле. На другом берегу, вдалеке, я разглядел большой неоклассический особняк, поврежденный недавним артиллерийским обстрелом. Южная стена наполовину обвалилась – мне показалось, что в доме произошел пожар. Несомненно, крестьяне, большевики, националисты, эсеры, анархисты, бандиты всех мастей побывали в доме и в поместье. Но оно отчасти сохранило свое древнее достоинство. Теперь над особняком развевался флаг Добровольческой армии. Хозяин, несомненно, мертвый или спасшийся бегством, скорее всего, успокоился бы, увидев этот флаг, но утомленные сражением белогвардейцы, разбивавшие лагерь вокруг дома, выглядели отнюдь не умиротворенно. Танк проехал вдоль берега, и мы оказались в своеобразном загоне, где уже располагалось несколько других танков. К своему величайшему восторгу, я сумел разглядеть у причала на дальнем берегу озера два гидросамолета. На них в спешке нанесли отличительные знаки добровольцев, но изначально машины, очевидно, принадлежали немцам. Один самолет был большим, второй – крошечным, одноместным. Первый – двойной биплан с огромными крыльями от носа до кормы, «Эртц Флюгшунер». Второй – «Ганза-Бранденберг W 20»[164], предназначенный для взлета с подводных лодок, но никогда не использовавшийся для этого. Его можно было очень быстро разобрать, сложить и легко собрать снова. Это был идеальный самолет для военных кампаний, в ходе которых вода, конечно, не всегда была доступна. «Ганза-Бранденберг» казался замечательным самолетом. «Эртц», с другой стороны, заслужил дурную репутацию. Его было нелегко поднять даже со спокойной воды. Я не мог отвести взгляд от самолетов, пока двигатель танка не заглушили. Мы начали разгружаться, австралийцы обменивались громкими приветствиями и жаловались на своих русских союзников. Наконец ко мне подошел капитан Уоллис. Он пожелал представить меня русскому командиру, и мы пошли вокруг озера к особняку. Легкий запах гнили показался мне приятным. Отряды добровольцев сделали дом своей штаб-квартирой. Я пожалел о том идиллическом прошлом, когда дом и имение представляли высшую ступень развития цивилизации на юге России. Однако я был счастлив уже оттого, что видел остатки былой роскоши. Я воображал, как все это должно было выглядеть во времена Тургенева, который чудесно писал о таких местах, где человек мог мысленно перенестись во Францию. В просторном холле было прохладно. Винтовая лестница вела наверх. Как и следовало ожидать, и картины, и все остальное, что представляло хоть малейшую ценность, было украдено. Я увидел несколько складных стульев и разборных столов для офицеров, карты на стене; атмосферу усталости, по-моему, усиливала жара, стоявшая на улице. Большинство солдат оказались русскими в роскошных мундирах царских времен. В штабе также были французские, греческие и британские офицеры. Я выяснил, что мы находились менее чем в двадцати верстах от Одессы и совсем близко от побережья. Я так и чувствовал дивный аромат цветов и соленой воды. Я вошел в большую комнату и увидел одного из русских, показавшегося мне знакомым. Он был среднего роста, с моноклем и маленькими усиками, в темной кожаной куртке, которая распахнулась; под ней виднелась гимнастерка. На нем был мундир русских инженерных войск с красными, желтыми и черными нашивками. По званию – подпоручик. Этого человека я встречал в Петербурге, когда он приезжал домой в отпуск. Я приветствовал майора Пережарова, русского офицера, равного мне по чину. Пережаров находился, судя по всему, в дурном настроении. Он сидел за столом и курил. Капитан Уоллис представил меня как майора Пятницкого, из разведки. Пережаров угрюмо осмотрел меня. У него было смуглое, печальное лицо. Он заговорил на чистейшем французском языке, поинтересовался, как обстоят дела в Николаеве. Я объяснил, что занимался танками. Он кивнул: – Вы говорите по-английски. Это уже кое-что. – Пережаров вздохнул. – И вы шпионили за красными? – Он с отвращением взглянул на мою одежду. – Запасной формы у нас нет. – Я был в плену. И спас меня капитан Уоллис. – Где вы были до этого? – В Гуляйполе. До того в Александрии. Еще раньше – в Киеве. – Знаете, чем сейчас занят Антонов? – Разные фракции ссорятся, они не могут прийти к единому решению. Их перемещения, увы, для меня теперь – загадка. – Что ж, их боевой дух не лучше нашего. Я очень рад. – Он отвернулся от меня. Я приветствовал подпоручика и щелкнул каблуками, не сумев в точности повторить это движение истинного русского солдата. – Полагаю, что мы знакомы. Вы не Алексей Леонович Петров, кузен моего старого друга, князя Николая Федоровича Петрова? Мы встречались у Михишевских несколько лет назад. В Питере. Меня тогда звали Дмитрий Митрофанович Хрущев. – Ах да. – Он моргнул и снял монокль. Теперь он обращался с этим предметом гораздо увереннее. – Мы говорили о Распутине. – Он как-то неприятно рассмеялся. – Мы с Колей были очень близки. Я занимался наукой. Он посмотрел на меня с прежним высокомерием. Мне не приходилось сталкиваться ни с чем подобным со времени жизни в Петербурге. Я вспомнил, как раздражало меня его поведение. Но теперь мы были, в конце концов, равны. Я даже превосходил его чином. – Не знаете, как поживает Коля? Где он? Мне известно, что он занялся политикой. – Коля? – Смех был вызывающим, как будто он потешался над победителем. Мой собеседник был озадачен. Он произнес: – Кто знает, где он? Чека? – Он в тюрьме? Петров снова засмеялся: – Вряд ли. Они не держат слишком много заключенных, не так ли? Особенно князей, близких к Керенскому. Я очень огорчился. В словах Петрова слышалось обвинение. Я задумался, не считает ли он меня политическим союзником Коли. – Вы говорите по-английски, как я слышал? – Да. – Я оплакивал Колю, моего лучшего друга. – Я служу в разведке. Я работал переводчиком у австралийцев. – Мне потребуется переводчик. Мы тратим слишком много времени, чтобы перевести сообщение. Из-за этого мы потеряем Одессу. Почему бы вам не отправиться со мной в качестве летчика-наблюдателя? Форма инженера ввела меня в заблуждение. Я вспомнил давний разговор в петербургской гостиной. Он был, конечно, летчиком. Один из самолетов на озере принадлежал ему. Это могло стать моим первым путешествием в летающей машине, построенной не мной. Мне было любопытно исследовать различия. – На «Эртце»? – спросил я. – Это единственный двухместный самолет. Вам раньше приходилось работать наблюдателем? – Нет, скорее нет. – Это забавно. – Он снова рассмеялся, по-прежнему язвительно, как будто я сумел обойти его в какой-то игре. – Что скажете, Хрущев? – Если ваше начальство согласно… – У меня нет начальства. Я летчик. Как и танкисты, мы – сами по себе. Мы слишком ценны, чтобы заставлять нас терпеть всю эту болтовню. Я скоро вылетаю, у меня есть дело в Одессе. Вы знаете церковь Победителя? – Странное название для церкви. – Я решил сыграть в его игру, какова бы она ни была. Но мысли о Коле не оставляли меня. – Не правда ли? В самолете есть карта. Вы можете обозначить на ней позиции. – Он как будто преисполнился отчаяния. Все его идеалы исчезли. Он хотел за что-то отомстить, но не мог отыскать виновных. Мне следовало бы опасаться его, но я пытался перестать думать о Коле – и еще изо всех сил стремился полетать на самолете. Петров отдал честь майору Пережарову. – Господин майор, этот офицер будет мне очень полезен в качестве наблюдателя. Он может также передавать сообщения непосредственно английским офицерам. Я хотел бы взять его с собой в полет. Пережаров пожал плечами: – Как пожелаете. Простившись с капитаном Уоллисом, я покинул особняк и направился с неожиданно примолкшим Петровым к берегу озера. Маленький деревянный причал восстановили и протянули туда, где были пришвартованы гидросамолеты. – Вам знакомо устройство «Эртца»? – спросил Петров. – Я знаю, что немцы отказались использовать их в военных целях. – Не совсем. Вот так мы его и получили. С этой машиной дьявольски трудно управляться, но в ней есть особая прелесть. Малышка «Ганза» – просто сокровище. Вы даже не почувствуете, как она взлетает и приземляется. Как стрекоза. Но «Ганза» – одноместная. – Вы управляете обоими самолетами? – Я единственный оставшийся авиатор. У вас имелся какой-то опыт воздушных полетов? Кажется, Коля упоминал об этом. – Мой самолет был экспериментальным. – Да. – Он задумался. – Конечно; в Киеве. – Я Коле очень обязан. – Вы – из его ближайших друзей? Он был по-настоящему богемным человеком, но осознавал свое предназначение. – В политике? – Я пожал плечами. Мне никак не удавалось ухватить нить разговора. Мы дошли до конца причала. – Жарко, как в пекле, а? – Петров снял фуражку. – Там прохладнее. – Он, казалось, тосковал по небу. Солнечный луч отразился от его монокля. Стекло сверкнуло подобно глазу дракона. – Вам, однако, удалось выжить. Вы отчасти мошенник, не так ли? И так попали в разведку. Я сделал вид, что не заметил оскорбления: – Это было единственное, что я мог сделать. – Шпионить. – И заниматься саботажем. Мне следовало наилучшим образом использовать свои инженерные способности. В борьбе с врагом. – Вы всегда были против красных? Я удивился, почему он так тщательно меня допрашивает: – Я решительно сопротивлялся им. – Вы с Колей расходились во мнениях? – Только в этом вопросе. – Я его поддерживал. Я был за Керенского, понимаете? Мы все виноваты. – Революция Керенского стоила мне академической карьеры. Петров посмотрел вниз, на радужные масляные разводы на воде. – Мы все виноваты. Но мы с вами пережили Колю. – Виноваты? В чем? – В том, что не прислушались к нашим сердцам. Каждый может предвидеть будущее, разве не так? Дело в том, что мы отказались принять то, что увидели. – Будущее? – В кофейной гуще или на наших ладонях. В колоде карт или в очертаниях облаков. – Я не суеверен. К сожалению, я рационалист. – Ха! И вы живы – а Коля мертв. – Он окликнул механиков, лежавших на траве у самого берега. – Нам понадобится «Эртц». Потом его внимание, казалось, привлекли стоящие вдалеке ивы. – Мы сейчас отправимся? – спросил я. Петров поморщился. – Почему бы и нет? – Он погрузился в свои мысли. Я подумал, что он слишком непостоянен. – Есть кое-что, что я хочу сделать. Ради будущего. Я предположил, что он думает о смерти и хочет написать завещание. – Хотите передать это мне? – Что? Да, если пожелаете. – Он потер пальцем левое веко, потом усмехнулся. – Если пожелаете. Так вы не можете предвидеть будущее? А ведь вы ученый! Возможно, он позаимствовал что-то из модного мистицизма в доме Михишевских, что-то у своей сестры Лолли, той Наташи из минувших счастливых дней. – Идемте. Я возвратился с ним в особняк, в маленькую комнату на первом этаже; теперь в ней обитало несколько человек, а раньше она была кладовкой. Здесь все еще пахло хлебом и мышами. Из-под матраца Петров вытянул непочатую бутылку французского коньяка. – Вы такой любите? – Когда-то любил. – Хорошо. Мы выпьем. За Колю. – Не могу отказаться. Мы расположились на подоконнике. За окном был виден неопрятный огород. Двое рядовых пытались привести его в порядок. Они работали умело, как крестьяне. Петров откупорил бутылку и вручил ее мне. Я пил медленно, с удовольствием. Он нетерпеливо отобрал у меня коньяк и запрокинул голову, выпив почти половину одним глотком. За время войны его горло, очевидно, загрубело. Он вернул мне бутылку. Я сделал большой глоток, но в бутылке еще оставалось немало. Петров разразился неприятным смехом, запомнившимся еще с петербургских времен, одновременно напряженным и негодующим. Он прикончил бутылку, оставив на дне лишь несколько капель: – Вот как пьют авиаторы. Нам это необходимо. Вы слышали о тех глупых ублюдках, которые тянули самолеты на санях несколько сотен верст, чтобы сражаться за Деникина? Какова энергия, а? – Выпивка не помешает вам управлять самолетом? – Наоборот, поможет. Я последний оставшийся в живых из целой эскадрильи. – Я знаю, каково это, – к тому времени я уже был слегка пьян, – потерпеть крушение. – Знаете? – Он улыбнулся. – Я сконструировал несколько экспериментальных самолетов. Я потерял управление, испытывая один из них. В Киеве. Он опустошил бутылку. – Все из-за братьев Райт. Черт их побери! И все изобретатели… Фауст не заслужил спасения. – Может, вам лучше отдохнуть? – предложил я, не понимая его намеков. – Очень скоро, доктор. – Он порылся под матрацем. – Очень жаль. Это была последняя бутылка. Теперь отправимся в высший мир. Выпив, я нервничал гораздо меньше. Мы пошли к озеру; «Эртц» уже подготовили к полету. Пропеллер работал, поднимая волны. Механики, благодарные за дуновение ветра, держали самолет за хвостовое оперение и огромные задние крылья – так казаки могли бы удерживать опутанного веревками дикого, непокорного жеребца. Запах керосина казался приятным. «Идите вперед, – сказал Петров. – Садитесь в переднюю кабину. Там найдете ремень безопасности. Пристегнитесь. Рядом очки и прочая ерунда. Все, что вам понадобится». Он засунул что-то массивное, завернутое в ситцевую тряпку, себе под куртку. Я подумал, не бомба ли это. Я поначалу сомневался в том, что смогу добраться до кабины. Фюзеляж был сделан из дерева и ткани. Но мне удалось взобраться на качающийся самолет, цепляясь за стойки, и в конце концов усесться в маленькую кабинку наблюдателя с сиденьем и рукоятями, на месте которых в другой кабине располагались контрольные приборы. Изнутри в кабине был закреплен бинокль, здесь обнаружились также пистолет в кобуре, полевая сумка и планшет, несколько карандашей и летные очки, резина на которых истерлась и затвердела. Я был по-прежнему в кафтане, пистолеты давили мне на бедра, я уселся и закрепил ремень безопасности, потом надел очки. Петров сел сзади и начал подавать сигналы. Двигатель и пропеллер, конечно, производили слишком много шума, поэтому бесполезно было даже пытаться разговаривать. Машина внезапно рванулась вперед, разом набрав безумную скорость. Самолет напоминал взбрыкнувшую лошадь, запряженную в сани, мы как будто мчались по неровному склону на салазках; это одновременно и бодрило, и тревожило. Грязные брызги неслись мне в лицо. Я почти тонул в них. Вода в озере оказалась стоячей. Самолет завибрировал, развернулся на воде, наклонившись на правый борт. Потом я заметил движение элеронов на крыльях, и мы поднялись над зеленым озером и ивами; самолет резко накренился, и коньяк внезапно согрел все мое тело, разум и душу. Мы летели над лесом, разрушенными домами, заброшенными полями; летели к холмам и синему морю, мчались в тумане между небом и землей. Я видел блестящие мелкие лиманы с заброшенными курортами, колонны марширующих людей, всадников, автомобили, составы с боеприпасами и артиллерией. Я ощутил свободу полета. Не существует удовольствия превыше этого. К чему люди взбирались по горам, когда они могли извлечь гораздо больше пользы, летая? Ветер ревел и при этом успокаивал; такого сочетания риска и умиротворения не испытывал ни один завсегдатай модных курортов. Серый туман обернулся городом. Одесса с воздуха, с ее фабриками и храмами, портами и железными дорогами, выглядела точно так же, как в тот день, когда Шура показывал мне город: в его облике было что-то нездешнее и чудесное; но я настолько привык убегать от действительности, что меня нисколько не взволновала новая встреча с городом после долгих месяцев отсутствия. Я был добросовестным работником и занялся своим делом. В доках собирались большие группы людей, широкие причалы были заполнены. В бирюзовом море я разглядел несколько кораблей. Виднелись большие пушки. В дальних предместьях располагались орудия, конница, пехота, но их было явно недостаточно. Красные плохо подготовились к встрече с Деникиным. Потом снизу донесся стук. На мгновение двигатель умолк, и я слышал только грохот орудий и визгливый смех Петрова. Он опустил самолет. Я почувствовал слабость. В нас стреляли. Двигатель снова заработал. Зенитная артиллерия вела по нам огонь. Шрапнель рассекла ткань, но серьезного ущерба выстрелы не нанесли. Петров вел самолет вниз, в дым, на верную смерть; он летел низко над конторами, гостиницами, многоквартирными домами, а я делал пометки на картах. Мы промчались над лестницей церкви Святого Николая, по которой я бродил в первый одесский день вместе с Шурой. Мы облетели вокруг купола с огромным распятием; по одну сторону от купола простирались обрывы, сады и деревья, модный Николаевский бульвар, по другую – море и корабли; мы кружились и кружились, как игрушка на палке. Это было глупо и опасно. Петров все смеялся. Орудия из доков продолжали стрелять по нам. Неужели он рассчитывал, что нас подобьют? Повсюду висели клубы дыма. Петров распахнул свою летную куртку и вытащил предмет, который спрятал перед полетом. Он держал сверток в левой руке. Тряпка сорвалась и умчалась прочь, как мертвая птица. В руке Петров держал не бомбу, а большие песочные часы на мраморной подставке, возможно, работы Фаберже, из белого с синими прожилками мрамора. Стекло блестело. Песок искрился серебром. Петров вытянул руку, потом заложил вираж, наклоняя самолет еще ближе к куполу. Я почувствовал, что меня сейчас стошнит. Продолжали стучать пулеметы. Я мог различить их грохот сквозь шум двигателя, как будто издалека. Самолет почти коснулся креста. Петров бросил песочные часы вниз, на золоченую крышу храма. Он смеялся. Я мог разглядеть его зубы. Очки превращали его лицо в череп с двумя огромными черными впадинами. Летчик побледнел. Его ноздри пылали. В бинокль я смог разглядеть, как часы коснулись купола и разбились; я видел, как мрамор раскололся на куски. Песок рассыпался, как монеты. Потом мы понеслись вниз, прямиком на пушки, стоявшие на верфи. Я, обезумев, начал делать новые пометки на карте. Внезапно самолет накренился. Я оглянулся назад. В Петрова попала шрапнель. Пули разорвали ему пальто, была видна окровавленная плоть. Он продолжал усмехаться. Из-за очков я не мог разглядеть истинное выражение его лица. Он махнул мне простреленной рукой; потом самолет поднялся в сине-зеленое небо Одессы, и вновь воцарилась тишина. Двигатель окончательно умолк. Мы плыли по ветру. Петров позвал меня. Думаю, он был безумен, потому что называл меня полковником и говорил о победителе. Его смех уже не прерывался. Он закричал: «Прощайте!» – и вновь запустил двигатель. Смех и шум машины слились для меня воедино. Мы начали пикировать прямиком в море. Я понял, что он хотел меня убить. Что-то оторвалось от самолета. Думаю, это была часть верхнего переднего крыла. Потом самолет беззвучно вошел в штопор. Двигатель издавал шум, напоминавший смех. Несмотря на охвативший меня ужас, я пытался урезонить Петрова. Он совершенно обезумел. Ненависть ко мне или к тому, что я, по его мнению, воплощал, погубила его разум. Я до сих пор не могу понять этого. Он был мертв или, по крайней мере, без сознания повис на своих ремнях. Я не мог дотянуться до рычагов управления. Я отстегнул свой ремень безопасности и спрыгнул. Самолет врезался в воду и понесся по ней так, как будто все еще летел по воздуху. Я тонул. Мне показалось, что мои ребра сломаны. Я стал продвигаться к поверхности воды. Петров и «Эртц» исчезли в глубине. Я не мог как следует плыть. Но течение понесло меня, и я, изумленный, выбрался на пляж, поднялся и начал пробираться через скользкие камни. Пляж круто уходил вверх, почти сразу зарастая травой. Я уже мог разглядеть несколько зданий. Я задыхался. Мои ребра, казалось, уцелели. От Петрова не осталось и следа. От самолета тоже. Эта прекрасная машина исчезла навеки. Не думаю, что такие еще производят. Ноги меня не держали. Мне с трудом удавалось выпрямиться, я то и дело сгибался и опирался на руки. И все же почувствовал себя воскресшим, когда, полностью одетый, ощущая тяжесть пистолетов при каждом шаге, выбрался с пляжа и увидел на выгоревшем променаде пустынную эстраду. Я сошел на берег в Аркадии.Глава восемнадцатая
Город спящих козлов; город преступников; город ноющих ворон; прощелыги валяются в переулках; пташки поют лживые песенки. Синагоги горят. Стальной царь, идущий с юго-востока, из грязного города козлов, от древних руин. Сталь загнала их обратно в руины. К древним чужим морям, омывающим разрушающуюся скалу. Прочь от их родины. В бездну стыда; прочь от Бога. Куда они могли пойти? Эти благородные люди слишком долго сражались за свою землю; слишком долго, чтобы помнить причину. Почему они сражались? Почему они не сражаются теперь, эти русские? Звезды были уничтожены. Укрыты адской чадрой. Звезды сгинули в огромном темном солнце. Солнце взошло над Россией; и воцарились в ней хаос и древняя ночь. Мы только теперь узнали, в чем хитрость. С гор, из грязного города козлов и руин, явился смуглый грузинский царь, плачущий о России, которую уничтожил его повелитель; царь, возносящий хвалы дьяволу, но стремящийся к Богу. Жаждущий откровения, молчания, древних тайн и оплакивающий благочестивые взоры, старые бороды, прогнившие суеверия ханов и фарисеев, стреляющий в спину любому, кто посмел бы напомнить ему, словом или делом, о том, что он потерял. Безумный стальной человек, грешный священник, ты принес в Россию религию мести и отчаяния. Две головы, две души, два крыла. Обреченный король, владеющий сокрушающим молотом и серпом последней жатвы. Они невидимы и смертоносны. Я видел крестьян с этим оружием в руках, оружием скотов. Я видел, как они надвигались на евреев. Они вспарывали врагам внутренности и обретали силу отчаяния. Они спрятали кусок металла у меня в животе. Они пролили мою кровь. Они пили мою кровь. Они осквернили ее. И металл – как холодный плод в моей утробе, и я не позволю ему ожить. Лишь когда я умру, мир узнает, что я скрывал; мир узрит мою маленькую, скачущую, милую, смеющуюся оловянную куклу. Этот кусок металла угрожает всему моему существованию. Но я не позволю ему вырасти. Я не позволю ему танцевать. Я не позволю ему кланяться. В свой черед он не позволит мне согнуться. Что это – гордость? Совесть? У меня нет никакой совести, за исключением долга перед Господом. У меня нет никаких обязанностей перед людьми. Только перед наукой. Я не хожу ни под какими знаменами. Я – сам за себя. Почему они что-то дают мне и что-то отбирают? Почему я не властен над собой? Бог – мой отец. Мой отец предал меня. Христос восстал из мертвых. Почему они карают людей Агнца? Греки вошли в город Одиссея. Французы, австралийцы, британцы и итальянцы. В те дни все они вспомнили о турках. И все еще сражались с ними. И ислам был побежден. Но Великобритания возлюбила ислам и позволила ему вновь возродиться. Великобритания и ее романтичная глупость, ее еврейские премьер-министры, ее банкиры и сутенеры. Эсме солгала мне. Ее не насиловали. Агитационные поезда. Счастливый муж-кулак. Мертвый муж. О Украина, сердце нашей империи, оплот против ислама! Почему погибла ты так позорно, пожирая собственную плоть, разрывая собственных детей, уничтожая всех, кто любил тебя? Гиены смеются в твоих храмах. Греки ушли из Одессы. Они укрылись на Молдаванке. Старые здания остались там же, где стояли до войны, но теперь пахли землей и сыростью. Никто не пожелал остаться в Аркадии, кроме нескольких евреев. Один из них отвел меня в дом, который вряд ли ему принадлежал, слишком роскошный, построенный со вкусом. Еврей шел легкой походкой, он не скрывал своей скорби; но его прикосновение было дружеским. Он был совсем молод, писал статьи в какой-то одесской газете, но теперь лишился работы. Он сказал, что газеты появляются и исчезают вместе с завоевателями. – А вам не угрожает опасность? – спросил я. – Я в безопасности, – ответил он, – но ужас зачаровывает, не так ли? Я думал, что погибну, но теперь лежу в белой кровати с влажными простынями. – Нет, – сказал я, – с меня хватит. – Вы там были? – Он указал в сторону Киева. – Был. – И мне следовало бы быть там. – Они убьют вас. Вы еврей. – Евреи выживают. – Некоторые, – сказал я. Мне приходилось быть вежливым, потому что он мне помог. Кроме того, я всегда испытывал слабость к космополитичным одесским евреям, сильно отличающимся от своих соплеменников: лучшая разновидность евреев, как мы говорили. Он рассмеялся, как будто я пошутил. Он смеялся с благодарностью, не так, как Петров; но я думал, что весь мир бьется в судорогах. Он был одержимым. Я решил сохранять осторожность, но влюбился в него, в этого южанина, этого сладкоречивого насмешливого еврея. Я хотел его. Да, я признаю это. Мне стыдно. Признаюсь, я дрожал, когда он принес мне бульон. – Все приготовлено из морских водорослей, – сказал он, – не то, о чем вы мечтали, но это поможет. Но разве все истории лживы? – Я был в танковой команде. Он высушил мою одежду, отполировал мое оружие. Серебро сверкало. Пистолеты лежали на сиденье стула, военный кафтан висел на спинке. Он даже отыскал подходящую шапку. – Вы были в том самолете, – сказал он. – Наблюдателем. – Значит, они наступают. – Ну… – Я хотел расцеловать его длинные руки. Он кормил меня супом из деревянной ложки. – Ну… – Конечно, вам нельзя рассказывать. Но такова моя работа. Я просто предположил. – Вы уедете? – Нет необходимости. Устроюсь в другую газету. Сейчас великое множество газет и политических партий, но хороших журналистов всегда не хватает. – Я видел, люди могут уничтожить всех вокруг. – Я покладист. – Он пожал плечами. – Видите ли, гибнут те, у кого большие запросы. – Вы сказали, что хотите уехать подальше от побережья. – Позже. Когда все уладится. А тогда они все равно могут убить меня? – Возможно. – Я не могу этого понять, а вы? – Я понимаю их, – произнес я. – Во всем виноваты поляки. – Мне тоже так кажется. – Он раскрыл маленькую зеленую книжку и показал мне строки из одного стихотворения. Я сейчас не могу его вспомнить. Почему я поддался обаянию этого интеллигентного еврея? Христос на горе? Нет, это богохульство. Я полюбил его. Я не мог испытывать отвращения. Я ничем не был ему обязан. Полагаю, я стал его аудиторией. Еврей жил один в доме, который совершенно точно не мог себе позволить. Его скоро выставят вон. И он об этом знал. Я спросил, ходят ли еще трамваи. – Вы бывали в Одессе? – Я провел в этом городе часть своей юности, познал здесь счастье. – Трамваи иногда ходят – конки, паровые, электрические. Зависит от имеющегося топлива. Но это долгая прогулка, а вы ранены. Можете подождать у Фонтана, но не уверен, что стоит надеяться… – У меня там родственники. Он пожал плечами. Я не хотел расставаться с ним. Он был нежен. Я доверял ему. Может, он притворялся евреем, как Терц?[165] Всего лишь притворство? Я ждал, что он прикоснется ко мне, но этого не произошло. Я пошел с ним к трамвайной остановке. Моя одежда высохла на солнце, пистолеты были чистыми. Весь курорт казался тихим и пустым. С тех пор я проникся симпатией к пустынным приморским городам. Я часто посещал их зимой, вместе с госпожой Корнелиус, но она никогда не была идеальной спутницей, предпочитала, по ее словам, немного веселья на побережье. А русские стремятся к одиночеству. Теперь это наше единственное достояние. Но даже его у нас отнимают. Они пытаются превратить Россию в Америку; в Америку, с ее сентиментальными условностями; пытаются уничтожить нашу культуру, язык, интеллект. Америка до войны была совершенно иным местом. Она была суровее. Иногда мне кажется, что была еще одна война, третья. И что я выжил после нее. Наверное, это признак старости. Мне говорят, что я параноик. Но паранойя – всего лишь страх. И я боюсь. Я пытаюсь предупредить их. Мне говорят, что я боюсь не тех вещей. Как же так, если я боюсь всего? Моя голова полна разных возможностей. Меня не тревожит жизнь. Меня не тревожит, умираю ли я. И никогда не тревожило. Но меня беспокоит то, что скрыто во мне. Моя честь. Мои дары, которые Бог забрал, взамен принеся в дар Себя. Это – знание и благородная душа; вот что поистине драгоценно. Я никогда не понимал людей, которые не признавали этого. Госпожа Корнелиус не стала бы даже рассуждать о таких вещах. Я ей нравился. Она никогда не оказывала мне медвежьей услуги: не говорила, что любит меня. Любовь растет изнутри. У меня в чреве как будто катушка, сделанная из меди. Она проводит электричество. Она холодная. Они поместили ее туда. И она не позволяет любить. Дети любят меня, не так ли? Но почему же они в таком случае меня преследуют? Кварц? Диоды? Цепи? Задайте мне любой научный вопрос. Я боюсь предательства. Меня предавали. И любви всегда не хватало. Ту малость, которая была, у меня отняли. Или мне не хватало усилителя? Но для него не было места. Я стал сильным в обществе того журналиста, в предместьях города черных, спящих козлов. Пришел трамвай. В нем было полно добровольцев-эсеров, носивших такую же форму, как и белые. Я легко заскочил в вагон. Они не обратили никакого внимания на меня и моего спутника, который решил, по его словам, понаблюдать за действиями. На полпути к Одессе электричество отключили. А лошадей, чтобы везти трамвай, не было. Солдаты решили остаться там, где были. Мы в сумерках двинулись дальше. Город становился все ближе. Я увидел огни, почувствовал вонь. Моя Одесса стала выгребной ямой. Вандалы грубо воспользовались ей. Красные ушли. Белые еще не пришли. Я вместе со своим другом отправился в дом дяди Сени. Там все было разрушено. Моя комната превратилась в руины. Я зашел в единственный магазин, который все еще работал на площади. Здесь продавали разное мясо. Все деревья срубили. Рельсы сдали в металлолом. С Молдаванки доносился запах дыма. В магазине мне сказали, что дядя Сеня все продал. Когда дом сожгли, его в нем не было. Кто-то слышал, что дядю арестовали за спекуляцию и отправили в тюрьму. Это стало уже эвфемизмом. Его ограбили и пристрелили. А Шура? Мобилизован. Мертв. А Ванда? Соседи не вспомнили Ванду. А тетя Женя? В магазине думали, что она, возможно, уехала в Крым, как и многие другие. Хозяева магазина и сами собирались отправиться туда, если им удастся раздобыть денег и разрешение на выезд. Они сказали, что не имели права на эвакуацию. Им нужно было заплатить за проезд. Мой друг заплакал, когда мы уходили. Полагаю, он просто переутомился. – Вас трудно понять, – заметил я. – О да. Нелегко. Не желаете пойти со мной: я хочу узнать, в какой газете теперь работаю. Я покачал головой. Он ушел. Я обрадовался, что он уходит. Такие отношения были бы просто невозможны. Он направлялся к товарной станции. Солдаты уже прибывали. Лошади и машины тянули пушки к докам. Я направился в Слободку на поиски Эзо. Там не осталось ничего, кроме булыжников. Я пошел искать скобяную лавку, где жила Катя. Магазин разграбили. По всей Молдаванке были разбиты ставни, на улицах я почти не видел людей. Те немногие, которых я встречал, сутулились, судя по всему, от страха. Я прошелся по Николаевскому бульвару, добрался до церкви и окинул взглядом гавань. Теперь здесь не было щеголей. На рейде швартовался французский крейсер. Французы, должно быть, выжидали, пока не узнали, что Одесса в руках союзников. Я нашел кусок мрамора с синими прожилками и засунул его в карман. Почему Петров хотел убить меня? Неужели Коля сказал что-то, что его кузен мог неправильно понять? На причалах все еще собирались толпы. Здесь были лимузины и экипажи. Все уцелевшие приличные русские ждали здесь, надеясь уехать. Они дрались за места на кораблях. Я решил, что должен возвратиться в Киев, вернуть мать силой, если понадобится, и отвезти ее в Ялту, которая в те дни считалась совершенно безопасным местом. Больные дети окружили меня. Они угрожали мне, но были слишком слабы, чтобы драться. Я посмеялся над ними и отдал все петлюровские деньги. Пусть потратят их, если смогут. Они начали дергать меня за одежду. Я слишком устал, чтобы играть с ними. Я был занят. Мне следовало подумать. Я вытащил черный с серебром пистолет, и они убежали. Я засунул пистолет обратно в карман. Группа солдат приблизилась ко мне. Они попросили предъявить документы. Я сказал, что я майор Пятницкий и работаю на военную разведку, поэтому важно, чтобы никто не видел, как я с ними говорю. Они мне поверили и удалились. В гавани зазвучали выстрелы, но почти тотчас все стихло. Я решил, что должен отправиться на станцию. Люди скоро поедут назад в Киев. Поэтому нужно как можно раньше занять очередь. Но станция, освещенная аварийными масляными лампами, была настолько переполнена, что я понял: мне не хватит сил справиться со всем этим. К тому же у меня не было настоящих денег. Я хотел отыскать какие-нибудь танки и воспользоваться гостеприимством моих австралийских друзей. Но они, вероятно, все еще находились в предместьях. Я слышал артиллерийские залпы, звучавшие где-то к северу от города. Как обычно, флаги и прокламации появились раньше всего. Они покрывали город, как маска покрывает лицо прокаженного. Мимо проезжали военные автомобили. Казалось, все кругом очень заняты. Добровольцы и их друзья союзники все контролировали и, как и все новые завоеватели, полагали, что знают что делают. Так называемые представители истинного правительства России издавали указы, не слишком отличавшиеся от тех, которые я читал прежде. Был введен комендантский час для всего гражданского персонала. Я обрадовался, что на мне военный кафтан и шапка, пытался ходить строевым шагом. Я зашел в маленькое кафе на Ланжероновской, около Театральной площади. В тот вечер ожидалось какое-то представление, судя по обилию гостей. Кто-то сказал, что таково свойство одесского характера. «Мы всё переживаем – и всем наслаждаемся», – заметил официант. Он по ошибке назвал меня товарищем и извинился, сказал, что теперь очень трудно запомнить, кто есть кто. Неужели я прибыл с новыми отрядами? Именно так, ответил я. Он спросил, известно ли мне, что случилось с самолетом, который летал вокруг купола церкви Святого Николая утром этого дня. Самолет и вправду сбили? – Да, сбили, – ответил я. – Я знаю; я был в этом самолете. Разумеется, я тотчас стал для них героем. Меня угостили всем, что там было, – водкой, хлебом, колбасой. Благородные люди пожимали мне руку. Банкиры отдавали мне честь. Звучала музыка. Я получил небольшое удовлетворение от своих приключений. У меня спрашивали советов почти обо всем, и я с удовольствием отвечал; ведь я мог посоветовать вполне разумные вещи. Когда я сказал, что мне нужно вернуться в Киев, чтобы разыскать мать, мне предложили самые разные варианты проезда. Я договорился посетить какого-то князя на следующий день в его гостиничном номере. Карточку я тотчас потерял. В коляске, принадлежащей фабриканту из Херсона, я добрался по темным и дурно пахнувшим улицам до маленькой, неприметной гостиницы. По его словам, это было лучшее, что он смог отыскать. Мы постучали в металлические ставни; нас неохотно впустили. Фабрикант был пьян. Он представил меня угрюмой грузинке, назвав братом. Она сказала, что за меня возьмет дополнительную плату. Фабрикант рассмеялся и сказал: «Пани, я готов был заплатить за номер в „Бристоле“, поэтому не думаю, что сильно разорюсь, если заплачу вам за лишнее одеяло и матрац для моего брата». Когда мы поднялись наверх, он заметил: «Теперь мы все – братья». Я провел ночь на полу в его комнате. Он все еще храпел и что-то бормотал во сне, когда я уходил. Мне хотелось есть. Денег у меня не осталось. Золота тоже. Надо было продавать пистолеты. Я отправился на старый рынок. Здесь продавали куда более роскошное оружие всего за несколько рублей. Я дошел до самой Преображенской и остановился у одной двери. На ней по-прежнему висела табличка с именем дантиста: «X. Корнелиус». Меня вырвало, когда я стоял посреди грязной лужи – на том месте, где раньше собирались наемные экипажи. Мне никогда еще не было так плохо. Тяжесть сжимала мне голову, зрение подводило меня, в глазах сверкали искры, жгучей болью сводило ягодицы и бедра, в живот как будто засунули ледяной кусок железа. Прохожие называли меня проклятым пьяницей. Закричала женщина в модном платье. Мне показалось, что это госпожа Корнелиус. Я протянул к ней руки. Подошел жандарм, которого, вероятно, выпустили из тюрьмы, он отвел меня в переулок, сообщил, что с уважением относится к военным, но мне следует выбирать не такие людные места, если я пожелаю устроить спектакль. Меня трясло. Я сидел на ступеньках у входа в заброшенный магазин и смотрел, как мимо проезжают экипажи и автомобили. Город обрел странное великолепие – такое может быть свойственно внезапно очнувшемуся умирающему пациенту, собравшемуся с силами незадолго до смерти. Я думаю, что причина проста: они расслабляются и примиряются со своей участью, чтобы в полной мере использовать то, что им осталось. Набравшись сил, я направился в гавань, но район у церкви Святого Николая был по каким-то причинам перегорожен. Я вновь услышал выстрелы и вошел в церковь. Здесь собралось не меньше людей, чем на железнодорожной станции. Я втиснулся внутрь и оперся на своих соседей. Тогда я еще не знал никаких молитв – просто бормотал себе под нос. Вынесли распятие. Священники запели. Они махали кадилами. Белое и золотое. Белое и золотое. Но Бог покинул Одессу, и черное солнце встало над Россией. Мне неожиданно захотелось молока. Это заставило меня улыбнуться. Я выяснил, что кокаин невозможно раздобыть; его можно было получить только в обмен на золото, никак иначе. Если бы в Одессе осталось что-то, что можно украсть, – я бы это украл. Тем вечером я решил пойти в кафе, где накануне повстречал князя и фабриканта. Оно было закрыто. На двери появилось объявление, выведенное мелом: «Здесь укрывали спекулянтов». Это напомнило мне, что Одесса находилась на военном положении и что за грабеж и спекуляцию полагалась смертная казнь. Мне очень хотелось есть. Я обошел несколько редакций, разыскивая своего друга, имя которого я позабыл. Некоторые из журналистов его знали, но считали, что он уехал из Одессы или скрывался у себя дома. Может, мне стоило поискать его там? Трамваи в Аркадию в тот день не ходили. Денег, чтобы заплатить за проезд, у меня не было. Я молился о том, чтобы повстречать танковую колонну или хоть кого-то, кто меня узнает. Я был уверен, что госпожа Корнелиус спасет меня. В конце концов я оказался возле военного штаба на Пушкинской, неподалеку от Александровского парка, который теперь превратился в пустырь. Я вошел, представился, как ни в чем не бывало, и заявил, что отстал от своего отряда. Я объяснил, что служил в танковой бригаде. Мне ответили, что можно сесть на поезд, идущий в Николаев. Танки направлялись туда. Они были нужны в Николаеве, поскольку там началось восстание. Я спросил, можно ли отправить телеграмму в Киев. Мне ответили, что если нет срочных распоряжений, то придется подождать. В штабе со мной беседовали весьма любезно. Мне даже предложили стул. Я сказал, что был наблюдателем в самолете. Они посочувствовали, узнав о крушении. «Забавно: у нас слишком много информации, в ней просто не разобраться». Становилось все холоднее. Август подходил к концу. Я сидел на военном посту с чашкой чая и куском бисквита и болтал с солдатами, находившимися на дежурстве. Я проголодался едва ли не до смерти. Я привык к этому состоянию и почти наслаждался ощущением эйфории и самообладанием. Мы вместе шутили над тем, насколько я истощен. Он пришел из древнего города, чтобы своей волей уничтожить то немногое, что осталось от нашего Просвещения. Мстительный атавист, злобный неудавшийся священник. Он надвигался на город, построенный по приказу женщины, которой давал советы Вольтер, – Екатерины Великой. Одесса была основана 22 августа 1794 года, в первую эпоху революций, в век разума. Город Пушкина и Лермонтова. Только их статуи оставили большевики, да еще и возвели новые, назвали в их честь корабли. Россия стала Диснейлендом человеческого достоинства. Это ужасное оскорбление. Они называют корабли в честь людей, которые протестовали бы против всего того, что большевики сотворили с нашей Россией. Стальной царь ехал по нашим улицам и говорил так спокойно, что никто не мог догадаться, сколько людей он уничтожил. Немцы ехали по нашим улицам. Одесса, основанная на фундаментах татарских поселений, на фундаментах финикийских портов, была обесчещена. Карфаген залил ее волной крови. Они никогда не признают, что русские люди – это лучшая реклама для них. Даже нищие в поездах, грязные продавцы на станциях, цыгане, бедняки, убийцы, алкоголики – все они хранят частицу нашего древнего достоинства. А что наши правители показывают миру вместо них? Научную фантастику. Трактора. Sputnik. Я написал письмо матери, сообщив, что вскоре вернусь в Киев или пошлю за ней. Я посоветовал взять с собой капитана Брауна, если ей нужен эскорт; я оплачу все расходы. Я попросил одного из солдат проследить, чтобы письмо опустили в мешок с киевской почтой. Он взял конверт и выдал мне квитанцию. Я сделал все, что мог, – по крайней мере, находясь в этом городе. Моя мать когда-то казалась счастливой. Я надеялся, что она была по-прежнему счастлива. К утру удалось отправить телеграмму танкистам в Николаев. В ответном сообщении капитан Уоллис передал мне привет. Ему теперь не был нужен русский разведчик. Он добавил, что очень рад моему спасению и желает мне удачи. Два капитана вышли из комнаты и предложили проследовать за ними. По их словам, они тоже служили в разведке. Они сказали, что обо мне не поступало сведений, и извинились. Портрет убитогоцаря висел на стене. Все было как в старые времена. Я успокоился. «Я работал в Киеве, – сообщил я, – и некоторое время был офицером связи в армии гетмана Скоропадского. Потом меня вызвали к донским казакам генерала Краснова. Я собирал информацию в штабе большевиков, был ответственен за саботаж петлюровских операций в Киеве». Они записали мои слова. Времена, по их мнению, были сложные. Я сказал, что мне пришлось уничтожить военные документы, но показал свой диплом. Упомянул, что был другом князя Петрова и находился вместе с его кузеном в то время, когда самолет потерпел крушение. Они спросили, допрашивал ли я гражданских лиц. Это была скучная, рутинная работа. Она оставалась их главной проблемой в настоящее время. Я сказал им, что не делал в этом направлении ничего, достойного упоминания, но готов занять любую должность. Мне выдали документы, новую форму, револьвер в кобуре, хлебный паек, выделили койку в комнате, где жили еще три офицера, и ранец с какой-то ерундой. Я также получил расчетную книжку, но меня предупредили, что плата поступает нерегулярно и всем приходится рассчитывать на собственные силы. Оборудования и техники вообще не хватало. Так я стал офицером разведки в добровольческом отряде, приданном 8‑му армейскому корпусу. Моя работа сводилась к проверке и выдаче пропусков и других документов тем гражданам, которые обращались с запросами. Я приступил к работе на следующее утро. За неделю я достаточно разбогател, чтобы купить немного приличного кокаина. Я до сих пор помню приятную дрожь, которую испытал, втянув первую после долгого перерыва дозу. Я был не одинок. Все прочие офицеры вели себя так же. Одесса, как нам казалось, начала снова оживать. Веселые дома на одной знакомой улице около Карантинной бухты открывались и процветали, в них появлялись все новые девочки, и рулетка оставалась любимой игрой солдат, посещавших эти заведения. Мы надевали парадную форму, отправляясь в увольнение; наконец и я получил свою, белую с золотом, с зелеными и черными знаками отличия; ее изготовил местный военный портной. Его услуги стоили очень дешево. Когда я находился в его лавке, он предложил подогнать другую прекрасную форму, за которой так и не пришел заказчик. Она, по его словам, была сшита почти по моей мерке. Это была форма полковника донских казаков. Я осмотрел эту одежду и сказал портному, что возьму ее как есть. Обе формы доставили два дня спустя к мадам Зое, у которой я поселился. Мадам Зоя была юной, пухленькой и остроумной. Цветом лица и волос она в точности напоминала мою цыганку, но так и не призналась, была ли она той же самой девочкой, и никогда не позволила мне заняться с ней любовью, хотя, казалось, очень ко мне привязалась. Возможно, она была чем-то больна. Хотя прошлое вернуть и невозможно, мне повезло: я повстречал нескольких старых друзей, включая Борю Бухгалтера, который женился на своей подружке и работал в одной из немногих еще открытых портовых контор. В итоге я стал общаться с ним очень часто. Он оказывал мне разные услуги, а доходы мы делили пополам. Боря хотел, чтобы я помог ему пробраться в Берлин, а я мог раздобыть необходимые документы за умеренную плату. Он рассказал мне, что Шура не погиб; он дезертировал, некоторое время скрывался на Молдаванке, а затем, предположительно, уехал на восток. Ванда стала шлюхой, как и почти все прочие подобные ей девчонки; ее убили во время какого-то сражения. Ребенка растили родственники в маленьком порту где-то на побережье. Дядю Сеню и тетю Женю арестовали, когда Григорьев захватил город; Боря думал, что их, должно быть, расстреляли, как и многих других. После этого я решил позабыть о прошлом и обратиться к будущему. Мы с моими коллегами-следователями занимались прекрасным делом. Никого из нас не волновала система проверки людей и выдачи паспортов. Наша позиция была очень проста: мы не могли винить людей за то, что они хотят уехать. Красные или белые – они, по крайней мере, могли освободиться от ужасов России. Мы работали в большой душной комнате, в которой было всегда полно народу. Мы упорно трудились, работали довольно тщательно. Наша основная задача сводилась к поиску больших запасов золота и проверке списков людей, которых следовало допросить. Дело шло к Рождеству, я начал подумывать о том, чтобы оставить и Одессу, и свою работу. Следовало заняться настоящим делом. Было очевидно, что на родине мне помешают. Я собирался выехать за границу, послать за матерью, когда придет время, и создать себе репутацию или в качестве преподавателя в западном университете, или в качестве инженера и изобретателя, возможно, во Франции или в Америке. Кокаин вернул мне прежний оптимизм, рассудительность и энергию. Я мог работать дни напролет, успокаивая, утешая, помогая людям, отсеивая недостойных просителей; по ночам я развлекался и играл. Однажды за рулеткой у Зои я выпил стакан дурной анисовой водки, и мне показалось, что я вижу, как по комнате идет госпожа Корнелиус в черно-золотом платье от Эрте[166]. Но к тому времени я свыкся с галлюцинациями. Эсме, моя мать, капитан Браун, Коля, Шура, Катя, Гришенко, Ермилов, Махно, даже Ванда и герр Лустгартен, казалось, время от времени появлялись в толпе. Я поставил на черное. И проиграл. Я спросил у Зои, была ли среди моих соседей англичанка. Она покачала головой и сказала, что англичанки не часто посещали такие заведения. «Здесь бывает очень мало англичан. У них есть целая империя, в которой говорят по-английски, поэтому они могут чувствовать себя как дома, куда бы ни отправились». «Запад есть Запад, – писал сэр Редьярд Киплинг, поэт, – Восток есть Восток, не встретиться им никогда»[167]. Но они встретились на юге России, на моей Украине; в пограничной области, на ничейной земле, у границы, на которой киевские герои сражались за христианство, как никакие другие герои не сражались прежде. Русское рыцарство было уничтожено на Украине в 1920‑м. Мать городов русских – обесчещена; Матерь Божья – изгнана. Потом пришли немцы. Мне кажется, результаты рентгена ошибочны. У меня в животе шрапнель. Это военная рана. Но хватит о докторах и их социалистических оздоровительных программах. К чему им беспокоиться о старом иностранце? Они были к нам добрее во Франции. Я встречал Вилли. Колетт[168] предложила мне место. Я знал их всех. Но сейчас вокруг одни невежды. Я ненавидел Гертруду Стайн. Но, по крайней мере, мне было известно ее имя. Белый и Замятин? Кто о них вспоминает сегодня, даже в России? Мне нравились ранние рассказы Набокова-Сирина, хотя я не всегда мог их понять. Тогда у него был талант. Позже он обезумел и начал красть у равных себе – просто потому, что об их существовании за пределами России никто не подозревал. Вот почему он начал писать по-английски. И его русский стал грубым. Герхарди[169], изображавшая худшее, что есть в людях, никогда мне не нравилась. Ставя печати в паспортах и выдавая документы, я думал, что очищаю Россию от всего упадочного. Кто бы мог предположить, что мне до сих пор придется страдать от последствий того заблуждения? История – предатель. Человеческая доброта становится законом, превращаясь в свою противоположность. Переходят в атаку порочные силы цинизма. Добродетель высмеивается. Объясни и уничтожь. Вера моя – в Бога и научный анализ. Что есть раса, как не совокупность влияний социума и географии, встряхивающих общество? И это может длиться тысячелетиями. Меняйся и выживай. Сирин задумался о своей русскости; вот где он свернул не в ту сторону. Бойтесь Карфагена. Я слаб. У меня поднимается температура. Здесь совсем нет снега. Расовые опыты Сталина и Гитлера были слишком примитивны. Мы должны скрещиваться. Но одна только мысль о результате ужасает меня. Я боюсь, не стану этого отрицать. Я боюсь так же, как боялся человек, задумавший сотворить огонь. Прометей, грек, Бог… Прометея предали. Христа замучили. Когда он восстанет вновь? Византия должна очиститься. Гоните прочь чувство вины: это гадюка, пригретая на груди рыцарства. Россию предали – и она предала в свой черед. Бойтесь ислама. Бойтесь сионизма. Бойтесь мести. Рим в опасности. Бойтесь невежественных святош и глупых ученых. Бойтесь политиков. Бойтесь древнего Карфагена. Они приходят в мой магазин. Они потешаются надо мной. Они причиняют мне боль. Я их ненавижу. Я не стану торговаться. Я скорее отдам им все эти антикварные schmutter[170]. Пусть они гордо вышагивают в одеяниях старцев и осмеивают мудрость. Они безграмотны и легкомысленны. В их сердцах нет любви. Они думают только о себе. Наш век – век эго. Я обвиняю художников, политических деятелей, психологов, учителей, потворствовавших им. Они не выносят взгляда Господа. Даже в церковь они идут не за тем, чтобы поклоняться: в их английских храмах никому не позволено плакать, даже когда для слез есть причина. Их оскорбляют собственные родители, как только они начинают ходить, как только становятся людьми. Их переполняет цинизм. Стоит мужчине прикоснуться к ребенку, отнестись к нему с любовью и нежностью, – его тут же назовут извращенцем. Нет никакого закона, в котором говорится, что за клевету следует карать, что ложные идеи и мнения куда опаснее бедного старика, который качает маленькую девочку на колене, целует ее в щечку, поглаживает ее волосы и выражает потребность в любви всего лишь несколько опасных секунд. Воображение может походить на козлиные рога: они полезны, пока не начинают расти внутрь; после чего со временем костная ткань проникает в мозг, и козел погибает. Госпожа Корнелиус была лишена воображения, но она любила людей, которые им обладали. Она защищала нас, что, возможно, вело к нашей погибели. Она использовала нас, как говорят некоторые. Она была шлюхой, роковой женщиной. Но я скажу, что она отдавала слишком много. Матерь Божья! Она отдавала слишком много. Сильные часто вынуждены действовать так. Они не могут дождаться ничего взамен, кроме оскорблений и, очень редко, любви. Именно так Бог благословляет их. Они воссядут подле Него на Небесах и помогут одолеть мировую скорбь. И зачем, вы спросите меня, Бог сотворил эту скорбь? Нет, Он не творил ее. Он сотворил жизнь; Он сотворил человека. Остальное случилось в Раю. Бог – не дьявол, отвечаю я. Доброта – это не зло. Но дьявол, однако, говорит с превеликим благочестием о правосудии и любви и скрывается под разными обличьями: художника, священника, ученого, друга. И люди называют меня параноиком, потому что я любил госпожу Корнелиус, и она никогда не предавала меня, моего доверия, потому что никогда не просила о нем. Какой вред я причинил другим? Мне следовало позволить Бродманну отправиться в Ригу. Но это была его ошибка – он оскорбил меня. Мы сидели за своими столами в большой конторе, которую когда-то занимала судовая компания. Люди проходили перед нами чередой, богатые и бедные, старые и молодые; они старались выглядеть уверенными в себе или скромными, пытаясь казаться теми, кем не являлись. И я приглашал некоторых в специальную комнату для допроса, и там заключались основные деловые соглашения, и я отказывал тем, у которых не было средств, чтобы добраться до цели. Это было просто милосердие: я все знал об острове Эллис[171] и о том, что там творилось. Я знал об Уайтчэпеле и о том, как на беженцев охотились еврейские фабриканты и торговцы «белым товаром». При социалистах они процветали так же, как и раньше. Я старался быть справедливым. Мы не были жестокими. Мы не были циничными. Мы не занимались вымогательством. Часто мы выпускали людей, которые не вели никакого бизнеса. Накануне сочельника, на исходе трудного дня, я осмотрел своего очередного клиента. Им оказался Бродманн – в темном пальто, фетровой шляпе, очках; его губы предательски дрожали. Он выглядел старше, но казался еще более наивным. – Пьят, – произнес он. Я держался с ним просто, предвидел, что могут возникнуть проблемы. – Бродманн, – я просмотрел заявление, – вы едете в Америку. – Надеюсь. Так что же, вы все время были белым? – встревожился он. – А вы в таком случае по-прежнему красный? – спросил я. – Конечно, нет. Они все разрушили. – Он захихикал. Я зажег сигарету и сказал ему удалиться в комнату для допросов и подождать. Поговорил с двумя молодыми женщинами, которые собирались сесть на британское судно, направляющееся в Ялту, потом встал из-за стола и направился в маленькую комнату. Снег засыпал все окна. Я поздравил Бродманна с наступающим праздником. – А может, вы едете в Германию? В заявлении сказано, что вы отправляетесь поездом в Ригу. – Из Гамбурга я могу уехать прямо в Нью-Йорк. – Он выглядел очень испуганным. Я начал понимать, что значит быть чекистом, ощутил свою власть, но постарался сдержать столь низменное чувство и сел, надеясь, что это успокоит его и он перестанет дрожать. – Я никогда не был в Германии, – сказал он. – У меня просто такая фамилия. Вы же знаете. – Красные друзья бросили вас. – Я был пацифистом. – И теперь вы решили сбежать подальше от войны? – Я шутил с ним очень мягко, но он, казалось, не понимал этого. – Здесь больше нечего делать. Ведь так? – Его дрожь усилилась. Я предложил Бродманну сигарету. Он отказался, но несколько раз поблагодарил меня. – Вы всегда служили в разведке? – захотел выяснить он. – И даже тогда? – Мои симпатии никогда не менялись, – ответил я. Он бросил на меня восторженный взгляд; так можно было бы восторгаться дьяволом за его хитрость. Я почувствовал прилив нетерпения: – Я не играю с тобой, Бродманн. Чего ты хочешь? – Не будьте так грубы, товарищ. – Я тебе не товарищ! – Это было уже слишком. Я ненавижу слабость. Я ненавижу, когда люди в поисках поддержки начинают вспоминать о том, что пережили вместе. – Вы ведь поможете мне, как еврей еврею? – Я не еврей. – Я встал и потушил сигарету. – Разве сейчас подходящий момент, чтобы меня оскорблять? – Я не оскорбляю вас, майор. Я прошу прощения. Я не хотел грубить. Но в Александрии я видел… – Он стал совсем бледным. Он видел, как меня выпорол Гришенко. Меня это не беспокоило. Но почему он об этом вспомнил? Тогда меня осенило: он видел меня голым и сделал страшное предположение. Я захохотал. – Так вот, Бродманн, о чем ты подумал? Для такой операции есть вполне обычные медицинские показания. – О ради бога! – Он упал на колени. Он унижался. И мне стало дурно. – Это не поможет, Бродманн! – Я уже не мог владеть собой. А он все плакал. – Бродманн, тебе нужно подождать. Обдумай все еще раз. – Я столько страдал. Будьте милосердны! – Милосердие, да. Но не правосудие. – Я готов был разрешить ему уехать. Я хотел, чтобы он убрался. Другой офицер, капитан Осетров, вошел с женщиной средних лет, которая пользовалась теми же духами, что и госпожа Корнелиус. С некоторым усилием Бродманн поднялся и указал на меня пальцем: – Пятницкий – шпион и чекист. Вы что, не поняли? Я его знаю. Он саботажник, работающий на большевиков. – Бедный безумный бес, – спокойно произнес я. Осетров пожал плечами. – Я хотел бы занять эту комнату на некоторое время, майор, если возможно. – Конечно. А вы приходите завтра, – сказал я Бродманну. – Сегодня сочельник. Контора закрывается. Я прочитал объявление. Я должен сесть на рижский поезд. – Я совсем позабыл, – вздохнул я. Осетров нахмурился, извинился перед дамой, которая усмехнулась и почесала за ухом, и шагнул вперед. – Я могу помочь? – Чисто выбритое, бледное лицо Осетрова полностью сливалось с его формой. – Может быть, я займусь?.. – Нет нужды, – сказал я. – Он – один из красных. Как он попал сюда, почему работает здесь? – Истерика Бродманна угрожала нам обоим. Осетров заколебался. Мне было нечего сказать. Я дал Бродманну пощечину. Потом еще раз. Он заплакал; тут пришли охранники, которых вызвал Осетров. «Хотите, чтобы его забрали?» – спросил капитан. Это означало, что Бродманна посадят в тюрьму, возможно, расстреляют, если подтвердятся его связи с большевиками. Я ему ничего не был должен. Все свои ошибки он сделал сам. Я кивнул и вышел из комнаты. –’Ривет, Иван! – Госпожа Корнелиус помахала мне рукой. Она была одета по последней моде, держала за руку французского офицера, который явно чувствовал себя не в своей тарелке, и размахивала свежими газетами. Она была в восторге. – К’жется, я тьбя видела. ’Де ты пропадал? – Вы были у Зои? – Я все еще не пришел в себя после встречи с Бродманном. Его незаметно вывели из конторы. – Несколько ночей назад? – В том борделе с рулеткой? – Именно! – Да! Шикарно выглядишь. Ты знашь маво приятеля? Он с их флота. Франсуа, кажись. И оч плохо г’ворит по-аглийсски. ’Кажи «’ривет!», а, Франция? Я сказал морскому офицеру, что очень рад с ним познакомиться, спросил, с какого он корабля. Он служил вторым помощником на «Оресте». Они отбывали в Константинополь завтра, с военными и гражданскими пассажирами на борту. Начались неприятности с Кемаль-пашой. Разумеется, мы с офицером беседовали по-французски. – Британцы пытаются завладеть всем, – невесело произнес он. – Действуют они очень вульгарно. Я был удивлен. Ссоры между союзниками сильно напоминали о крымских событиях. Но я сохранял спокойствие. Я слышал, как Бродманн, когда его выводили наружу, завопил: «Предательство!» – И вы любезно предоставляете госпоже Корнелиус место на вашем судне. Он покачал головой: – Корабль уже полон. Мы с ней встретимся в Константинополе. Я поговорил с капитаном британского торгового судна. Он согласился взять еще несколько пассажиров. Нам, разумеется, придется выправить документы для госпожи Корнелиус. Она весьма любезно предложила мне сопроводить ее сюда. Жаль, что мы не были знакомы прежде. – Очень жаль, – согласился я. Госпожа Корнелиус толкнула меня в бок. – Да хватит уже! Манеры, тоже мне! Г’ворите по-аглисски! Мы подчинились. Неожиданно в комнату вошел мой начальник и задумчиво поглядел в мою сторону. Я очень быстро сказал госпоже Корнелиус по-английски: – У меня есть документы. Поможете мне сесть на британский корабль? Она поняла, что я нервничаю, улыбнулась и опустила нежную, унизанную кольцами руку на мое предплечье. – Мы ж ж’наты, правда ведь? Ты мой муж. Эт «Рио-Круз». Тьбе нужно разрешение или что-то вроде. – Она снова стала вести себя как леди. – Счастлива виить вас снова, майор Пьятницки! Я щелкнул каблуками, поцеловал ей руку и отсалютовал французу. Мой командир, майор Солдатов, знаком показал, что желает поговорить со мной. Я тотчас подошел. Моя военная дисциплина в течение нескольких месяцев производила на него впечатление. Он был старым служакой из охранки, от природы не подозрительным, но очень чувствительным к любым несоответствиям. У него было круглое, морщинистое, румяное, чисто русское лицо, украшенное белой бородой и усами. Он постоянно носил темного цвета форму. Я вошел в его кабинет. Он закрыл дверь, предложил мне стул, и я сел. – Бродманн? – сразу спросил он. – Красный, – ответил я. – Кажется, я встречался с ним в Киеве. Когда занимался саботажем. Конечно, я говорил ему, что поддерживаю большевиков. – Он говорит, что вы из Чека и были связным между Антоновым и Григорьевым. – Я позволял ему так думать. В свое время. – Мне придется разобраться с этим делом, Пятницкий. Конечно, рутинная проверка. – Очевидно, Солдатов не испытывал серьезного беспокойства. Он почти извинялся передо мной. – Вы хороший офицер, специалист по допросам, и нам такие нужны. Красные возвращаются, и они теперь намного лучше организованы. Мы немного беспокоимся из-за шпионов. – Я все понимаю. – Будет следствие. Весьма серьезное. Но я не хочу попусту тратить силы и посылать кого-то следить за вами. Вы пообещаете не выходить из своей квартиры до утра? – Я квартирую, – ответил я несколько смущенно, – у Зои. – Мне это известно. В общем, вам не стоит никуда уходить, так? – Он был чем-то похож на дядю Сеню. – Обвинения Бродманна все слышали. Я сегодня вечером его как следует допрошу. Может быть, он признает, что ему ничего не известно. Если этим все кончится, вы потеряете немного времени. Вернетесь к служебным обязанностям завтра. – Завтра же праздник, – с улыбкой заметил я. – Тем лучше. Тогда после Рождества. Я вежливо поблагодарил его и удалился. Пробираясь сквозь снег к мадам Зое, я остановился, чтобы купить несколько сигарет у юной оборванки. По какой-то причине я дал ей золотой рубль и поблагодарил по-английски. Она ответила на том же языке. Я удивился. «Вы превосходно знаете английский», – заметил я. Она замерзла, дрожала сильнее Бродманна. Девушка была очень мила. В других обстоятельствах я, возможно, потратил бы некоторое время, чтобы познакомиться с ней поближе. В таких уязвимых молодых женщинах было нечто, пробуждавшее во мне лучшие чувства, слегка напоминавшие любовь. Она сказала, что ее муж был белым офицером. Большевики расстреляли его. Она заботилась о матери. В Одессе тогда появилось много подобных женщин, продававших разную мелочь с подносов. Она чем-то напоминала Эсме – прежнюю Эсме. Я предположил, что это сходство исчезнет, если красные снова войдут в город. Союзники уже сожалели о своей поддержке Добровольческой армии. Их пугало то, что они считали нашей моральной слабостью. На самом деле это, конечно, было просто-напросто отчаянием. Британцы ненавидят отчаяние. Они сделают что угодно, лишь бы одолеть его, даже отдадут социалистам бразды правления собственной страной. Американцы разделяют ненависть британцев, но пока сопротивляются социализму, который, без сомнения, одолеет и их. Реакция французов кажется более здоровой. Бедность просто внушает им отвращение. Отвращение было основой их колониальной политики. Оно позволило им выбраться из Индокитая, не теряя лица, – американцам это не удалось. Но для британцев отчаяние и моральная слабость – синонимы. Мне понадобилось несколько лет, чтобы это выяснить. Вернувшись к мадам Зое, я упаковал два чемодана. У меня были драгоценности и золото. Я, конечно, так никогда больше и не увидел моих старых чемоданов; вместе с ними пропали мои планы, мои проекты, мои надежды. Все, что у меня теперь осталось, – только запачканный кровью диплом и грязный паспорт. Придется начать все сначала. Меня не слишком вдохновляла мысль об остановке в Константинополе, но даже этот город казался мне теперь более безопасным, чем Одесса. И я уже не был беден. Рано или поздно мне пришлось бы уехать, так или иначе. Примерно через два месяца вернулись большевики. И тогда я стал бы жертвой Чека. В большой чемодан я уложил всю свою форму, включая ту, которую носил постоянно. Я переоделся в гражданское и надел дорогую шубу. Пистолеты по-прежнему были при мне, они лежали в карманах. И шубу, и пистолеты можно продать, если понадобится. У меня остался набор чистых бланков, включая свидетельства о браке. Подделать сведения не составляло ни малейшего труда. Я попросил мадам Зою зайти ко мне, сказал служанке, что дело срочное. Через полчаса хозяйка дома появилась. Происходящее ее нисколько не удивило. Я достал хорошую меховую шапку, которая прекрасно сочеталась с шубой, дал мадам Зое пятьдесят золотых рублей. Мой паспорт и документы, конечно, были в идеальном порядке. Я попросил ее сказать, если кто-то спросит, что я занят с одной из ее девочек, спросил, сможет ли она незаметно вызвать извозчика, чтобы тот отвез меня в доки примерно в пять утра. Она ответила утвердительно и неожиданно поцеловала меня. – Я буду скучать, – сказала она. – Кажется, вы приносили нам удачу. Что случится, когда вернутся красные? Я показал ей папку с документами. – Мой совет: воспользуйтесь сами и раздайте девочкам. Печати есть на всех, как видите. Просто нужно проставить имена и даты. – Вы очень любезны. Но красные – тоже мужчины… – Они попытаются отрицать этот факт, – ответил я. – Послушайте меня, Зоя. От Чека пострадают не только цыгане и евреи. Чекисты хотят уничтожить все признаки человечности – не только у себя, но и у других. – Честно говоря, не думаю, что выразил свое предупреждение так изящно. Со временем все слова становятся лучше и благороднее – особенно те, которые произносим мы сами. К счастью, мне удалось еще свидеться с Зоей, уже в Берлине. – Вы в безопасности лишь тогда, когда мужчины признают свою уязвимость. Когда они притворяются полубогами, их нужно бояться. Мы снова поцеловались. Она спросила, хочу ли я заняться любовью. Я ответил, что мне сейчас нельзя отвлекаться. Следующий поцелуй был более сдержанным. Еще не рассвело, когда я отправился в Карантинную бухту, на «Рио-Круз». Мы мчались на тройке сквозь густой снег, через всю Одессу, еще тревожную, еще живую. Некоторые назвали бы ее мерзкой и убогой, но даже в смертный час Одесса хранила тепло и очарование, которых не хватало более известным городам. Ее основала Екатерина. Дух царицы, жестокой и разумной, женственной и агрессивной, остался в этом городе. Екатерина стремилась к разуму и сторонилась романтики, но в ее жизни эти силы обрели гармонию, которую можно назвать русской, хотя сама правительница русской не была. Я видел Дитрих в «Кровавой императрице» фон Штернберга[172]. Мне понравился этот фильм. Но режиссера он погубил. Единственный голливудский фильм того времени, оказавшийся убыточным. Мы добрались до бухты; к моему превеликому облегчению, на судне царило оживление. На борт поднимались люди. Почти все они были русскими богачами. Не думаю, что за мной следили. Напротив, мне кажется, что мой командир дал мне шанс сбежать. Мне сделали одолжение. И я не стал отказываться. Мои документы проверили несколько раз – сначала русские, затем мрачные англичане. Я поднялся по трапу. Он дрожал у меня под ногами. Я впервые оказался на палубе большого судна. Корабль отправлялся в путь под английским флагом, но был, вероятно, военным трофеем, захваченным в каком-то южноамериканском государстве, которое от избытка чувств вступило в союз с Германией. Я увидел немало надписей на испанском. Я поднялся еще выше. Никто не спешил помочь мне нести багаж. Я добрался до каюты на верхней палубе и отворил дверь. Госпожи Корнелиус не было. В каюте стояла темнота. Я включил свет, загорелась тусклая лампочка. Каюту переоборудовали для двух пассажиров. Здесь стояли две койки. Были принадлежности для мытья. Я поставил свои сумки и вытащил кокаин. Мне надо было собраться с мыслями. Кокаин, как обычно, успокоил меня. Я подумал о Константинополе. Там будет тепло. А я очень замерз. В каюте не было отопления. Я растянулся на верхней койке, предположив, что госпожа Корнелиус займет нижнюю. Ее багаж, состоявший из нескольких чемоданов и сумок, сложили в угол, около иллюминатора. Я до сих пор ожидал неприятностей. Вполне возможно, что меня снимут с корабля раньше, чем «Рио-Круз» поднимет якорь. Корабль слабо покачивался. Из-за этого я решил, что мы отправляемся и госпожа Корнелиус опоздала, но потом понял, что мы не сможем выйти в открытое море, пока не запустят двигатели. Я поднялся с койки и выглянул в иллюминатор. Море было черным, на поверхности как будто образовывался лед. Люди сновали туда-сюда. Мне показалось, что я услышал выстрелы, но, судя по всему, стреляли где-то очень далеко, в доках. Я отделался слишком легко и все же с готовностью принял выпавшую на мою долю удачу. Я почти не сомневался, что госпожа Корнелиус снова спасет меня. Завернувшись в теплую шубу, я заснул. Меня разбудили унылый рассвет и веселая песня. Пела госпожа Корнелиус. Она была совершенно пьяна. Шляпа сбилась на затылок. Госпожа Корнелиус исполняла нечто из репертуара британского мюзик-холла:Приложения
Рукописи полковника Пьята
Эти материалы взяты из первого ящика с рукописями Пьята. Все записи были сделаны на низкокачественной писчей бумаге, изготовленной, возможно, в Восточной Европе в середине сороковых годов, а может, и немного позже. Текст воспроизведен в том же порядке, в котором я его обнаружил, но мелкие каракули я решил убрать. Все разрывы в тексте – мои. СОЖГИТЕ ИХ. НЕТ. Schmetterling. Ma fie sans la prix. Она течет вниз. Ougron fal czernick. Ougron in dem feuhr, in die tram it miene ami podanny velebny – przy tej czerwonej rozy moja siostra. Siostra! Rozy. Siostra takiej wezesnej wiosny. Mon – моя сестра – from der – это она – сестра ранней весны. Когда следующий сеанс – призраки – тону. Полон рот. Я горю. Надо вызвать ее на бис! Они лгали – prawda – ta welika prawda – и унизили moja siostra… nie znam tiej rozy… historia Polska… tapiekna pani papenzenstvi polska! Ich mein fraulein… Nein! …Papienzenstvi Pani‑les diables – honneur… говорить – ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ДР! – Что пользы? Delenda est Carthago! Израиль, ограбили меня, запутан… Я ХОЧУ МЕСТО В МЯГКОМ ВАГОНЕ… сесть поезд. Пьят. ПОЛКОВНИК. Prawda! Пять раз. Пятый! Завоевать Карфаген! ОНА ВЕРНУЛАСЬ! ЧЕРЕЗ!* * *
У меня нет времени! Окно! говорят, начнут переговоры. Skrcek Statsny? Как они посмели? Аzbuka – аnglicina– не работать – ДУМАТЬ! Вajka. Zna arciblaz en… bacauce – slavik… slava! Snih… rypak… рарегkа… snehu… Kartago… seredy… preziti… pamatorati… vycitky… zid… sperk… алмазы… Israil, Shulchan Aruch. Люцифер Жид? Алмазы? Тех… ТЕХНИЧЕСКИЙ… Ытуя страницы поглощают меня. Страницы… и коробки. Боже! Евреи лишили тебя золота и всего величия. Снег кровь течет из глаз, из носа. Закрашивает небеса – знамена пропитаны кровью смиренных и слабых, они плачут Мир! Власть крестьянам! Они убивают сдирают кожу с вырезают знаки на телах Плачут массы наследуют по праву рождения! Пулеметы и пушки Церкви иконы деревни Только прах. Иерусалим! Моя кровь! Христос убит. Где спасение? Грех лжет. Рrawda! скрыта газетами, скрыта женщинами, скрыта снегом. Зверь во мне. я боюсь, слишком стар и бесполезен теперь. Слишком стар, чтобы быть одержимым, что можно предложить? хочет молодости, хочет моей чести, не уничтожит… человечества Это не погубит меня… Дьяволы. Плачут. Это евреи. Это серебряная голова ОНО. Это не уничтожит меня. Моя гордость не лишит меня чести, женщины с розгами… никогда не приедут в Берлин… ОСВОБОДИТЕ МЕНЯ! Обещает Гамбург Лондон Нет не уничтожит дьявол еврей УНИЧТОЖЬТЕ ЕГО! От коней смерть видел огонь. Выстрелы в никуда лишили меня любви, ужас! Штетл… Я никогда не унижался так, как унижались они. Очень хочешь такой жизни. Или голодные, неухоженные дети? Или желаешь унижаться? Я склонился перед кнутом. То же самое? Хочешь отпущения убийство Христос? убийство честь? Неважно. Крестьяне так же дурно. Уничтожали друг друга. Я видел это. Еврей или славянин. Неважно. Гордость дьяволы. Люди. Каннибалы! Только одно: ВОЙНА! МОЯ ЗЕМЛЯ! Умирала от жажды. Деревья и посевы горели. Степной пепел. Черный снег. Возложить руки прочь никто не пришел. Все пропало. Преданы. Кровавое красное знамя Черное знамя смерти, ангелы опустошения Зеленое знамя зависти. Все глупость ГОРДОСТЬ! ГОРДОСТЬ! ГОРДОСТЬ! Все позабыто. Кто они, эти евреи? Почему стремятся к Разрушению так сильно безжалостная воля?Израиль в Византии. Израиль в Германии, Карфаген вернулся. Вавилон вернулся. Тир вернулся. Карфаген Атомы разносятся по всему миру жажда мести, мы уничтожены. Карфаген на ветру Карфаген в воздухе, которым мы дышим в хлебе, который мы едим. Сион! Медные трубы, золотые гонги С востока на запад Мстит Сион Карфаген Чингиз-хан на лихом коне тачанка мчится вперед. Второй Ганнибал бросает вызов второму Риму. ИЗРАИЛЬ! Римляне убивали евреев. Они убивали евреев. Две тысячи лет царила тишина. Потом с востока подул ветер. Он все еще дует…
* * *
они шлюхи, эти женщины, не будут моими шлюхами О БОЖЕ! ДАЙТЕ МНЕ ШЛЮХУ! ДАЙТЕ ЕЕ МНЕ! ДАЙТЕ МНЕ ШЛЮХУ! О БОЖЕ! ДАЙТЕ МНЕ ШЛЮХУ! ПОЧЕМУ НЕТ???!!!* * *
Я живу слишком долго. Девятнадцать столетий прошло. Я сплю. узнал так много. Отдал бы все. Но я спал. ИЗРАИЛЬ? Где монументы? там лишь руины, где были памятники, здания, чудеса? И все это в одной коробке? Где гордость? Ничего не принесли, кроме традиций? И время рыдать голосить умолять старый дряхлый Бог требует землю, отвергает собственного Сына право рождения? отвергает Любовь Я отвергаю эту чушь. Бог отвергает Сына, цепляется за Власть, дает силы безрассудным священникам Разделяет силу, недостатки, жадность, знание, печальный и древний Бог, его нужно отправить Домой. Отправить Домой вместе со всеми другими, грязными, одряхлевшими богами Один Зевс Гог-Магог; Кали, пугающая до смерти, посылающая своих последователей убивать, убивать и убивать в надежде Жизнь кончена и если достаточно будет мертвых, больше Жизни останется у нее. просит свинины поджаренной, но не может откусить; они только сосут. Сосут, сосут и сосут; беззубые боги. Умрите! И пусть дети обретут свободу! Вы ходите под себя. Загадили Небеса своими испражнениями. ДАЙТЕ НАМ СВОБОДУ!* * *
Карфаген шагает по руинам. Карфаген с черным высунутым языком. Карфаген смеется мир становится красным. Я могу сделать его белым БЕЛАЯ ИМПЕРИЯ! ДЕВСТВЕННОЕ СЕРЕБРО!* * *
Израиль уничтожен за день. Карфаген уничтожен за день. Империя инков уничтожена за день. Империи сиу и зулусов уничтожены за день. Манчжурская империя уничтожена за день. Российская империя уничтожена за день. Что осталось, кроме гордости? Чести нет, честь и нация были единым целым честь могла спасти их. гордость уничтожила их* * *
Ibe ybenester! Упаси… Пусть их поднимут на копья. Я видел их. Они мертвы* * *
Бойтесь Африки. Бойтесь татар. Бойтесь мести с Востока Их слоны. Их щиты союз уничтожит нас. Безжалостно* * *
Наш ужасный трепет и мы исчезли Все исчезли. Они еще бредят о Разрушительной Воле Человека! Жизнь – это разрушение. Это вселенная. Нет большего прославления жизни, чем взрыв Водородной Бомбы!* * *
Я подчиняюсь! Я подчиняюсь! Я подчиняюсь смерти Воскресению Эго. О Иерусалим! О красота! осиротевшие кости. Любимая, счастливая и погубленная. Зоя с птичками. Птицы собираются с силами. Птицы клюют, когда насвистывают песни свободы. Моя империя, моя душа. Птицы умирают во мне. Одна за другой.* * *
Авраам, первый великий жертвователь нашего человечества: где нож твой коснулся тела твоего доверчивого сына? Древний, счастливый, пропитанный страхом шумеров. Отвергни евреев – и ты отвергнешь собственное прошлое. В каком месопотамском уголке вселенной был рожден Бог, чтобы освободиться от божественности, от чистоты – смертью Сына Своего? Зло одержало еще одну временную победу и стало таким самоуверенным, что попалось в свою же ловушку и поддалось тем ужасным слабостям, которым оно и обязано своим возникновением. Прославленный Авраам: фанатичный создатель мифа о Жертвоприношении. Человек рожден, чтобы жить и радоваться жизни. Фанатик отрицает вселенную, считает ее жестокой и бездарно имитирует эту жестокость,которая на самом деле – воплощение великого равновесия. Ты лжепророк, Маркс. Маркс, в своей агонии ты вернул Человека в темные века. Города дышат и пребывают в себе: личность и город сливаются воедино. Единственная наша надежда – преодолеть все суеверия и понять самих себя и нашу роль в жизни города. Ибо города – вечный завет нашей человеческой природы: триумф Агнца. Пусть воины пустынь ворвутся на своих могучих конях в самое сердце города; пусть они закричат от ужаса, постигнув привычную нам сложность, простую модель человеческого разума. Пусть обвинят в колдовстве и предадут огню иных братьев; они лишатся надежды на спасение – вот и все. Они разграбили Аддис-Абебу; они разграбили Николаев и Екатеринослав. Только евреи постигли природу городов, но гордыня, ритуалы и чувства помешали им раскрыть тайну. Шумер – первая цивилизация городов. Анну? Ур? Я не знаю их имен. Всадники из степей и пустынь; всадники с гор и равнин. Они стремятся к неведению и покою, который именуют свободой, но это – детская свобода; всегда нужен патриарх, способный отстоять ее. А когда Авраам поднимает свой нож, подлинной свободы не остается – лишь бесконечная череда обещаний и предательств. Сион – спасение от судьбы, слабое утешение. Стоит ли нам думать о буре – если она утихает, мы все равно прислушиваемся к ее песне. Агнцу в городе не нужны пастухи; нужно лишь знание. И если человек боится Бога – значит, пусть боится и Бог.Краткая история гражданской войны в России
После революции Керенского в феврале 1917 года Украина создала собственный парламент, Раду, все еще признавая власть Временного правительства. Первый председатель, Михаил Грушевский, сделал первые шаги в сторону украинского национализма, очевидно, под давлением солдат и гайдамаков – вооруженных крестьян, позаимствовавших свое название у повстанцев, боровшихся против поляков в XVIII веке. Поначалу все были убеждены, что Рада является частью Всероссийского учредительного собрания; но требования и притязания украинского парламента принимали все более националистический характер. Украинская партия социалистов-федералистов, лидирующая в то время, была скорее либеральной, чем радикальной. Грушевский в конечном счете вышел из нее и присоединился к более левой Украинской партии социалистов-революционеров, которая вскоре стала партией большинства в Раде. Еще более левой была Украинская социал-демократическая рабочая партия. Одним из ее вождей стал Симон Петлюра, убежденный националист. Недовольство отсрочкой провозглашения независимости Украины привело к Первому всеукраинскому военному съезду в Киеве 18 мая 1917 года. Вольные казаки, отряды ополчения и представители всех украинских воинских частей (тогда страна еще находилась в состоянии войны) собрались на конгрессе и объединились против Керенского, военного министра. В Центральную раду был избран совет, уполномоченный представлять интересы украинских солдат и моряков. Другие партии, включая большевиков и анархистов, сопротивлялись национализму, считая его реакционным, но частично поддерживали идею федерализма в пределах государств раздробленной Российской империи. В июне 1917‑го отношения с Временным правительством ухудшились настолько, что националисты окончательно порвали с ним и объявили о невозможности сотрудничества с российским правительством. Коалиционная Рада сформировала первое временное украинское правительство. Русские продолжали попытки вести переговоры с украинцами. Украина оставалась жизненно важной территорией, и Россия нуждалась в украинских солдатах (для понимания важности географического и экономического положения Украины см. карту). Прежде чем отношения между Керенским и Радой были полностью урегулированы, началась большевистская ноябрьская революция (в октябре по старому календарю), и политическая ситуация в Киеве осложнилась еще больше из-за различных группировок, поддерживающих большевиков, Керенского, демократов-белых, крайних националистов и даже сторонников возвращения авторитарной монархии. Эти фракции вели между собой свою гражданскую войну, в ходе которой Центральная рада вновь стала ведущей политической силой. Им предстояло решить проблему с крупными группировками, грабившими сельские районы. Они состояли из демобилизованных солдат, бандитов, именовавших себя казаками или гайдамаками и прикрывавшихся поддержкой той или иной политической партии. Большевики называли солдатами революции своих сторонников из их числа и бандитами – противников. Но прежде всего они были голодными, ожесточенными, запутавшимися людьми, безмерно уставшими, зачастую не совсем понимавшими, в какой стране находятся. Теперь невозможно сказать, действительно ли они руководствовались революционным идеализмом или верностью прежнему режиму. При том что Украина – крупнейшая российская территория за чертой оседлости, первыми их жертвами, как всегда, оказались евреи. 20 ноября 1917 года Рада объявила о создании Украинской народной республики. Депутаты на словах вновь провозгласили федерализм, но отказались признавать законность большевистского режима. Основные принципы новой республики были демократическими и включали отмену высшей меры наказания, право на забастовки и амнистию всех политзаключенных. Новую власть в основном поддерживало сельское население, так что земельная реформа оказалась одним из главных обещаний. Симон Петлюра стал военным министром, но вскоре ушел в отставку, не согласившись с политическим курсом. Различные революционные группы, включая эсеров, большевиков и анархистов, продолжали агитировать против Рады. Украинская армия в это время большей частью состояла из добровольческих отрядов вольных казаков. Самым значительным из них был Гайдамацкий кош Слободской Украины, состоявший из двух батальонов, которыми руководил Петлюра, именовавшийся атаманом (изначально этим словом называли избранных предводителей казаков). Другой важной военной силой являлся Галицкий курень сечевых стрельцов, сформированный из западных украинцев, прежде служивших в австрийской армии. Силы Антанты пытались прибегать к помощи украинцев, но не могли предложить никакой реальной поддержки, так как Турция все еще контролировала Черное море, а большевики – Мурманск. Вооруженное восстание левых сил в Киеве в декабре 1917 года было подавлено, и Первый Украинский корпус под началом генерала Павла Скоропадского при помощи вольных казаков одержал победу над большевистским Вторым корпусом возле Жмеринки. Война между большевистской Россией и Украиной началась в конце декабря – большевики требовали признать и поддержать официальное украинское советское правительство, которое существовало в Харькове, занятом большевистскими отрядами. Настоящее вторжение большевиков началось 25 декабря. Руководил им талантливый красноармейский командир Антонов. Большевики добились значительных успехов, прорвали дезорганизованную украинскую оборону и захватили несколько крупных городов. Под командованием Муравьева большевистские отряды напали на Киев. Три тысячи защитников города отступили. Муравьев занял Киев и начал массовое истребление украинского «националистического» населения. По оценкам Красного Креста, в это время в Киеве было казнено около 5000 человек. Другие районы Украины также подвергались террору. В ответ на это Рада подписала сепаратный мир с Центральными державами[173]. Немецкие и австрийские армии помогли войскам националистов во главе с Петлюрой, Скоропадским и другими отбросить красных назад. Сражения велись прежде всего за контроль над железнодорожными линиями и станциями – бронепоезда и конные отряды имели огромное стратегическое значение. К августу 1918‑го на Украине находилось около тридцати пяти дивизионов Центральных держав, и они действовали как оккупационная армия, определяя политику Рады, прилагавшей все усилия, чтобы сопротивляться требованиям австро-венгров и немцев, которые, прежде всего, нуждались в хлебе. В апреле немецкий командующий, фельдмаршал Эйхгорн, начал выпускать декреты независимо от Рады. Рада оказалась почти бессильной и лишилась поддержки правого крыла партии социалистов-федералистов. 25 апреля Эйхгорн выпустил указ, согласно которому украинцы отвечали перед немецким военным трибуналом за действия, угрожающие интересам Германии. Он продолжал требовать разоружения украинских военных формирований и, встретив сопротивление, послал немецкий отряд в здание Рады в Киеве, чтобы арестовать двух министров. На следующий день Грушевского избрали президентом Республики, но он почти сразу был свергнут в результате государственного переворота, поддержанного немцами и силами правых. К власти пришел Скоропадский, провозгласивший себя Гетманом Украины, романтическим казачьим титулом, предназначенным для привлечения людей, ностальгически отождествлявших украинскую свободу с казачьими восстаниями прошлого. Скоропадский был немецкой марионеткой, он охотно помогал немцам уничтожать диссидентов, предоставляя полную свободу действий безжалостной немецкой военной полиции. Сопротивление его режиму и германским оккупационным силам успешно проводилось войсками Петлюры, а также, более драматично, Нестором Махно, анархистом-социалистом, действия которого были такими смелыми и продуманными, что его многие называли Робином Гудом Южной Украины. Гетманат Скоропадского казался идеальным убежищем для тысяч русских, по тем или иным причинам бежавших от большевиков. Например, Киев и Одесса стали центрами буржуазной и аристократической оппозиции всем формам радикализма или национализма. Там, как и во многих других промышленных городах Украины, проживало немало представителей прочих национальностей, прежде всего русских и евреев. Погромы усилились. Скоропадский использовал все больше парадных, декоративных элементов, облачал солдат в замысловатые мундиры девятнадцатого столетия и издавал напыщенные, бессмысленные декреты. Он опирался исключительно на поддержку русских правых, а также на оккупационные силы, хотя многие министры Рады по-прежнему оставались на своих местах, не выступая открыто против немецких интересов. Союз промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства (Протофис) также поддержал гетмана. Пьят, очевидно, какое-то время имел отношение к этой организации, хотя его роль в ней неясна. Католики склонялись к тому, чтобы поддержать националистов, в то время как среди православных мнения разделились: одни отказывались признавать власть лидеров, поддержавших большевиков, другие встали на сторону националистов, третьи отстаивали официальную российскую власть, четвертые стремились разорвать все связи с Россией. Обе церкви решительно поддержали антисемитов. После ратификации Брест-Литовского мирного договора гетман посетил Германию и удостоился сердечного приема у кайзера. Австро-Венгрия отказалась подписать соглашение из-за тайных притязаний на украинские пограничные территории, Галицию и Буковину. Когда Румыния заняла Бессарабию в марте 1918 года, гетман смог выразить лишь символический протест. Новые трудности возникли после провозглашения независимости Крыма и угрожающих событий на Дону, где власть захватил атаман Петр Краснов, который оставался убежденным монархистом, но в конечном итоге в августе 1918 года между Украиной и Донским казачьим войском было подписано соглашение. После окончания военных действий между Центральными державами немцы начали покидать Украину, оставив Скоропадского без всякой поддержки. Либералы вернули себе контроль над Радой, но левые и националисты, зеленые, отказались с ними сотрудничать. В ноябре 1918‑го была создана Директория Украинской Национальной Республики, возглавившая восстание против Скоропадского. Руководили Директорией Винниченко, Петлюра, Швец, Макаренко и Андриевский. Киев защищали русские и немецкие войска. Зеленые (армия Директории) гарантировали немцам беспрепятственное возвращение домой, если те провозгласят нейтралитет. Немцы согласились. 14 декабря гетман отрекся и сбежал с немцами. 19 декабря отряды Директории вошли в Киев, и националисты официально возглавили Республику. Контролируя значительную часть Украины, Директория почти немедленно столкнулась с угрозой вторжения со стороны получившей независимость Польши, которая стремилась воссоздать свою украинскую империю, а также большевиков и белогвардейцев, поддержавших гетмана. К тому времени франко-греческие силы Антанты поддержали белых и подошли к Одессе и Николаеву. Будучи, по существу, умеренным социаkистическим правительством, Директория получила поддержку множества других левых фракций, хотя большевики и анархисты, которые считались интернационалистами, отказались признавать ее чем- то иным, нежели буржуазно-либеральным правительством, и продолжали действовать против Директории. Когда большевики начали второе решительное вторжение под командованием Троцкого и Антонова, многие из этих фракций согласились забыть о разногласиях и сражаться против Красной армии. Тогда под началом Махно оказалась очень большая и эффективная армия, использовавшая новую тактику, заимствованную в конце концов красной кавалерией. Другие революционные лидеры не придерживались определенных политических убеждений: Григорьев, сражавшийся в Херсонской области, атаман Ангел в Чернигове, Шепель в Подолии и Зеленый к северу от Киева. Они во многом напоминали военачальников, которые позже использовали в своих интересах народные волнения в Китае, но вообще-то на этом этапе все были заинтересованы в том, чтобы удержать свои территории, а не сражаться с Петлюрой или оказывать активную поддержку большевикам, которых атаманы считали российскими империалистами. В январе 1919‑го, однако, большевики с помощью повстанцев вошли в Киев, и в феврале отряды Директории покинули город и соединились с французами и, как следствие, с белыми. Это лишило их значительной материальной поддержки. Григорьев, в частности, направил свою армию на помощь большевикам и обрушился на силы Директории. Он строил весьма честолюбивые планы, начал захватывать города и поселки, стремясь добраться до Одессы и изгнать объединенные силы белых и Антанты, удерживавшие самый важный порт Украины. Лучшее описание этих событий содержится в книге Артура Э. Адамса «Большевики на Украине», изданной Йельским университетом в 1963 году. Некоторое время Григорьеву сопутствовал успех, он стал самым ярким лидером на Украине – к великому огорчению Антонова и Троцкого, которые изо всех сил пытались управлять повстанческими отрядами и постоянно терпели неудачи. Махно вскоре вновь выступил против большевиков, и некоторое время они с Григорьевым собирались заключить союз, но эгоизм Григорьева и действия погромщиков (красные, зеленые и белые несли ответственность за бесчисленные злодеяния против украинских и польских евреев) вызвали ненависть анархиста и, во время хорошо известной встречи в селе Сентово близ александрийского лагеря Григорьева, прямо на виду у его последователей, махновцы казнили атамана за «погромные злодеяния и антиреволюционные действия». Но повстанцы так никогда и не смогли восстановить былую мощь. Постепенно их предали и уничтожили красные, тактика которых зачастую сводилась к тому, чтобы приглашать повстанческих лидеров на переговоры и затем расстреливать их на месте – так Троцкий поступил с махновцами. В атмосфере хаоса и массового убийства, напоминавшей о худших днях Тридцатилетней войны, Петлюра и его люди продержались немного дольше в Галиции, но к началу 1920‑го большевики заняли большую часть Украины, и вскоре красная конница Буденного обрушилась на поляков и оставшихся белых. К этому времени, конечно, Пьят уже был далеко. Лобкович рекомендует «Повесть о жизни» Константина Паустовского в шести книгах как «превосходное, хотя и аккуратно отредактированное» дополнение к описанию этого периода украинско-российской истории. Он также сообщил мне, что как минимум одно из утверждений Пьята частично доказано Паустовским: в третьей книге, «Начало неведомого века», где он упоминает слух, распространившийся тогда в Киеве; согласно этим сведениям, Петлюра собирался использовать фиолетовый луч, чтобы защитить город от большевиков. Лобкович также замечает, что следует читать между строк биографии Паустовского, которая была, разумеется, первоначально опубликована в Советском Союзе и поэтому согласовывалась, по крайней мере, внешне, с официальными представлениями о деятельности Петлюры, Махно и других исторических личностях той эпохи. Он также рекомендует в качестве академического источника книгу «Украина, 1917–1921: История революции» (редактор Тарас Гунчак, издание Гарвардского института украинских исследований, 1977; Издательство Гарвардского университета).
Майкл Муркок
Карфаген смеется
Предисловие
За четыре с половиной года, прошедших с тех пор, так я закончил редактировать первый том мемуаров полковника Пьята «Византия сражается», мои собственные жизненные обстоятельства существенно переменились. Я занялся тщательной проверкой некоторых заявлений Пьята после того, как получил несколько писем от людей, знавших его до войны. Их воспоминания решительно отличались от известных мне. В результате я отправился по следам полковника, в какой-то миг мне показалось, что я вынужден буду продолжить странствия с того момента, где он остановился в 1940‑м. Отставной турецкий бимбаши[174], один из революционных националистов Кемаля в 1920‑м, уверял меня, что Пьят был американским ренегатом, сионистом, работавшим на британцев. Два энергичных восьмидесятилетних старца в Риме настаивали, что он был польским коммунистом и собирался проникнуть в фашистскую организацию на раннем этапе ее развития. В Париже почти все соглашались, что он был русским, возможно, евреем, связанным больше с преступным миром, чем с политическим подпольем. Не все помнили его как Пьята (Рiаt или Руаtе – возможные варианты). Некоторые жители Берлина, с которыми я встретился, опознали его как Питерсона или Палленберга, но с готовностью подтвердили, что он был ученым, инженером. Одна немецкая леди, некогда узница Бухенвальда, а теперь жительница Оксфорда, очень удивилась, когда я спросил, считает ли она Пьята настолько выдающимся, как утверждал он сам. Она сообщила, что ей известно по крайней мере об одном исключительно успешном его изобретении, потом рассмеялась и отказалась продолжать. У этой женщины случались приступы умственной нестабильности. После того как в 1941 году пришли нацисты, в Киеве не осталось фактически никаких письменных свидетельств, и даже о Бабьем Яре не сохранилось никаких упоминаний, за исключением произведений Евтушенко и Антонова[175]. Теперь это часть новой автострады. Со своим обычным тактом Советская Украина предпочла позабыть о событии, которое могло представить в дурном свете всех украинцев в целом (нацисты еще нигде не находили такого множества восторженных добровольцев). В Америке обнаружилось гораздо больше документов, но они оказались одновременно и полезными, и противоречивыми. Некоторые газетные сообщения не согласовывались с рассказами Пьята, и все-таки есть немало оснований полагать, что он мог пережить то, о чем умолчали газеты. О госпоже Моган, например, практически не упоминали в ходе кампании против клана, которую вела «Нью-Йорк уорлд» в 1921–1923 гг., но госпожа Тайлер[176], которой Пьят уделил пару строк, представлена в газете одной из главных злодеек. Точно так же засаленные и выцветшие газетные вырезки в записных книжках Пьята не обязательно подтверждают его сообщения, находящиеся на соседних страницах, и, к сожалению, даты и источники часто неразборчивы или вовсе не указаны. Один заголовок, возможно, из «Нью-Орлеан тайме» конца 1921‑го, звучит так: «Бернс разоблачает клан». В статье идет речь о департаменте юстиции Бюро расследований, предшественнике ФБР, намеренном изучить всю деятельность клана[177]. Это сообщение подтверждает все слова Пьята – но расследование началось раньше, чем он утверждал. Обвинения полковника в предвзятости и коррупции очень часто также сомнительны. Я имею в виду «Мемфисский коммерческий вестник»[178], который Пьят считал правой рукой местных политиканов. На деле «Коммерческий вестник» получил Пулитцеровскую премию за смелые статьи о противостоянии клану. Газета представляла интересы значительного числа южан, которые возмущались действиями клана и активно протестовали против них, например, в Миссисипи, Теннесси, Алабаме, даже в Джорджии. Во многих западных штатах, включая Техас и Калифорнию, клан добился куда больших успехов, чем на Юге. «Карфагенская демократическая газета», выходившая в Арканзасе, определенно сообщала о воздушном корабле майора Синклера в статье, озаглавленной «Местные граждане помогают летчикам», от 27 февраля 1922 г., но я не смог отыскать никаких упоминаний о Пьяте в «Канзас-Сити стар», хотя, по его собственным словам, он произвел настоящий фурор в 1923 г. Есть вырезки из «Толедо блэйд», «Кливленд плэйн Дилер», «Спрингфилдского республиканца» и «Сент-Луис лоуб демократ», но Пьята везде называют Питерсоном. «Индианаполис таймс», «Даллас ньюс» и «Нью-Орлеан таймс» в лучшем случае публиковали уклончивые комментарии, но чаще всего журналисты решительно критиковали его за «отвратительные искажения фактов», расовый и религиозный фанатизм. Иногда Пьят, кажется, не понимал, что его осуждают, и гордо вклеивал вырезку в альбом, чтобы подтвердить свою известность. Скандал с де Грионом упоминается в «Тон» за 1921 г., и здесь мсье Пьятницкий назван натурализованным французским гражданином. Заметка «Любовь в разгар красного террора» оказалась театральной рецензией из северокалифорнийской газеты, выходившей в Грасс-Вэлли: «Среди исполнителей ролей в этой увлекательной музыкальной драме были мистер Мэтью Палленберг, мисс Гонория Корнелиус, мисс Этель де Курси и мисс Глория Дуглас». Но мои странствия были не совсем напрасными. Они оказались полезны, когда я наконец поселился в отдаленной части йоркширских долин, чтобы попытаться привести в порядок рукописи, о которых шла речь в первом томе. Я использовал записи разговоров с Пьятом, немногочисленные интервью, взятые у людей, с которыми я встречался, но в основном мне снова пришлось положиться на письменные источники, непоследовательные и скучные, как всегда. В то время как большая часть предыдущего тома была написана по-русски, основной текст следующего сочинения, за исключением упоминаний о сексе, как всегда, сделанных по-французски, состоял из записей на каком-то полусекретном языке, в котором преобладали английский, идиш и немецкий, с небольшими польскими и чешскими вкраплениями и незначительными фразами на турецком (а еще там были собственные, в значительной степени непереводимые, слова Пьята). Это относится к большей части дневника, который, по словам автора, был составлен между 1941 и 1947 г. Никаких еврейских букв в рукописи нет. И вновь без помощи М. Г. Лобковица я не смог бы продолжить работу: Пьят, как уверяет мой друг, плохо говорил на всех языках, включая русский. Конечно, его идиш, часто подсознательно смешиваемый с немецким и английским, подтверждает данное мнение. Пьят утверждал, что изучил язык, работая на евреев в киевском гетто, на Подоле. И вновь я сохранил особенности оригинала – правописание, грамматику, хаотичные смешения языков и странные формы слов, а также часть (некоторым может показаться, что слишком большую часть) его безумных выпадов. Когда мнения и оценки Пьята менялись радикально, иногда на соседних страницах, по мере того как одно причудливое объяснение сменялось другим, я оставлял их без изменений, ибо это – существенные выражения индивидуальности автора. Я старался избегать решительных суждений или выводов, будучи уверен, что другие читатели могут заметить кое-что из того, что я не сумел разглядеть. Вычитка этого сочинения оказалась нелегким делом. Зная о моем отвращении к большинству суждений Пьята и огромных временных затратах, друзья часто советовали передать «наследство» в академическое учреждение, которое могло бы обеспечить куда большую объективность. Однако, пусть это покажется донкихотством, я пообещал Максиму Артуровичу Пятницкому, что его воспоминания будут напечатаны. Я чувствую, что должен сдержать это обещание вопреки всем трудностям. Особая благодарность всем людям, которые помогали мне в работе над этой книгой: Линде Стил, Джону Блэквеллу, Джайлсу Гордону, Робу Коули, Роберту Ланье, Элен Малленс, Явусу Селиму, «Петросу», Жан-Люку Фроменталю, Лили Стайнс, Дэйву Диксону, Полу Гэмблу, Майку Баттерворту, Джеффри Даймонду, мистеру и миссис Чайкин, мистеру и миссис Джейкобс, «Ма» Эллисон, Христиану фон Бодиссену, Франсуа Ландону, Фриде Крон, Натали Циммерманн, Лоррис Мюррейл, Лэрри Снайдеру из библиотеки Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич, сестре Марии Сантуччи, Мартину Стоуну Джону Клюту, Исле Венабльз, профессору С. М. Роуз, а также тем людям, которые пожелали остаться неназванными. Майкл МУРКОК, Лондон, октябрь 1983Глава первая
Я один из величайших изобретателей своего времени. Отвергнутый на родине, мой гений был признан всеми, даже турками. «Рио-Круз», перегруженный снегом и беженцами, двигался из Одессы к Севастополю и Кавказскому побережью. Британцы произносили тосты, называли меня русским Прометеем. Как я мог заметить иронию? Ведь я не представлял, что ждет меня в будущем. В те последние дни 1919‑го, избежав позорной смерти, я стал осознавать свою миссию: мне предстоит озарить весь мир светом науки. (Теперь, прикованный, я все еще жду своего Геркулеса. Es war nicht meine Schuld[179].) С того дня, как я взошел на борт, мистер Томпсон, главный инженер «Рио-Круза» – космополит по характеру своей профессии, любитель научных журналов – стал моим безоговорочным сторонником. – Вам следует при первой же возможности приехать в Англию, – настаивал он. – Столько людей погибло! Ученые сейчас нужны как никогда. Меня поддерживали еще несколько членов экипажа. Они были добродушными, непосредственными и искренними людьми – лучшие представители Англии, теперь таких нет. Мы любили говорить о том, что, пока Россия не придет в себя, Англия будет самым подходящим местом для продолжения моей карьеры. Мистер Грин, деловой партнер моего дяди Семена, возвратился в Лондон в начале революции. У него непременно найдутся для меня деньги. Кроме того, поддержка, которую я обнаружил на борту «Рио-Круза», давала возможность предполагать, что, высадившись на английский берег, я мог бы быстро добиться важного правительственного поста. В свете этих перспектив, поддерживая силы небольшим количеством кокаина и вина, я по крайней мере отчасти смог позабыть о своих прежних разочарованиях. Расстаться с Россией было труднее, чем я ожидал, и прошло целых три недели, прежде чем нам удалось добраться до Константинополя. Как только мы потеряли из виду берег, на корабль обрушились сильные ветра и волны. Я был неплохим моряком, но тем не менее иногда страдал от морской болезни и по временам впадал в ужасную, изнурительную меланхолию. В такие моменты мне приходилось покидать общество и возвращаться в свою койку, где около получаса все мое тело сотрясалось, как будто в унисон с колебаниями корабля. Эти случаи были как физической, так и психологической реакцией на события предшествующих двух лет, но всякий раз, когда происходило подобное, меня охватывало неутолимое стремление вернуться в невинное прошлое, в мое золотое одесское лето 1914‑го, когда передо мной, казалось, открывался целый мир. В полубреду мне представлялось, что благородный город Одиссея навеки отдан татарам, мусульманам, евреям. Завладев Одессой, они захватили какую-то часть меня – и удерживали до сих пор. Троцкий и Ленин смотрели свысока и усмехались: в окровавленных пальцах они держали маленький осколок моей души. Стихии могучим хором стенали вокруг корабля, когда я оплакивал Эсме, моего маленького ангела, Эсме, светлая славянская красота которой воплощала все истинное и благородное в России. Обесчещенная анархистами, этим монгольским сбродом, моя утраченная возлюбленная не вернется уже никогда. Она смеялась надо мной, когда я ужасался ее рассказам о насилии и унижении. Эсме, моя величайшая опора после матери, была моей музой и моей надеждой. Если она все еще жива, то стала всего лишь большевистской шлюхой. Эсме, когда мое тело содрогалось на узкой койке, я так хотел повернуть время вспять, чтобы спасти тебя. Как изменились бы наши жизни, если бы мы сбежали вместе! Я остался бы верен тебе. Кabus goruyorum[180]. И я до сих пор, даже в этом ветхом теле, верен тебе. Несмотря на все твои измены, я не виню тебя. По пути в Константинополь «Рио-Круз» заходил в несколько портов Черного моря, чтобы подобрать пассажиров, высадить войска и выгрузить боеприпасы. Джон Монье-Уилльямс, капитан корабля, был седым коренастым валлийцем; с одной стороны его лицо избороздили ужасные шрамы – последствия давнего пожара. Капитан всегда был с нами вежлив, но явно испытывал некоторое отвращение к этому назначению, последнему перед выходом в отставку. Прежде его путь лежал в индонезийские, индийские и китайские колонии; для него наша гражданская война была непонятным местным конфликтом, не достойным британского участия. Грузовое судно превратили в военный транспорт; оно не слишком подходило для размещения пассажиров. Большей частью каюты представляли собой общие спальни; мужчины располагались отдельно от женщин и детей. Мы с миссис Корнелиус получили собственную каюту, но необходимость изображать мужа и жену создавала для меня неожиданные неудобства, особенно ночью, так как моя спутница оставалась верной своему французу, а я сгорал от желания на верхней койке. Миссис Корнелиус была необыкновенно соблазнительной женщиной. Тогда ей только исполнилось двадцать, и она достигла расцвета. И я не мог не думать о ее нежной розовой плоти и чувственном аромате. Время от времени во сне она, прервав свое прелестное храпение, что-то нашептывала и причмокивала пухлыми, сладострастными губами, усиливая мое желание и заставляя меня лелеять и свою ностальгию, и бедный раздувшийся член в течение многих часов, пока корабль пробирался по темному суровому морю, скрипя, вздыхая и иногда издавая таинственный звук, напоминавший кряхтение перегруженного верблюда. Другие пассажиры оказались в основном украинскими торговцами, nouveaux riches, которых я не терпел. Мало того что они были нелепы, женщины оказались самодовольными, мужчины – скучными, а их дети и слуги – отвратительными. Многие претендовали на благородное происхождение; все постоянно оплакивали потерю всего; при этом почти каждый, казалось, притащил на корабль по крайней мере по две шубы и три алмазных ожерелья. Эти люди были военными спекулянтами, спасавшимися от мести большевиков; среди них встречалось немало евреев. Я допрашивал многих, подобных им, во время службы в разведке и знал их на нюх. Кто-то из них, должно быть, узнал меня и начал распространять злостные слухи: я был красным шпионом, немецким чиновником и даже, как это ни забавно, евреем. Я начал замечать, что пассажиры в моем присутствии волнуются или ведут себя подобострастно. В ответ я начал избегать их. К счастью, мы с миссис Корнелиус общались с ними не слишком часто. Нас с самого начала путешествия пригласили обедать за маленький столик, предназначенный для мистера Томпсона и большинства офицеров, которые не могли пользоваться отдельной кают-компанией, поскольку корабль был переполнен. Истосковавшаяся по англичанам миссис Корнелиус с удовольствием приняла приглашение. Офицеры в свою очередь наслаждались ее веселым нравом. Их компания была намного понятливее и приятнее, чем общество моих соотечественников, так что меня это предложение тоже устроило. Мы продвигались вперед через густой белый туман, через снежные бури и штормовые вихри, и, пока не оставили Россию, я по-прежнему страдал от болезненных перепадов настроения. Севастополь, Ялта и другие порты лежали впереди. Я, конечно, мог высадиться в любом из них, и меня это беспокоило. Было бы гораздо легче, если б расставание оказалось мгновенным. Однако я не испытывал нетерпения при мысли, что окажусь в Константинополе: как я понял, город был переполнен русскими, не способными получить визы в более гостеприимные страны. Я утешал себя: самое большее через несколько дней после прибытия в столицу Оттоманской империи я уже буду на пути в Лондон. Тем временем я делал все, что мог, лишь бы выбросить из головы воспоминания о Киеве и Одессе, забыть Эсме и первый полет над Бабьим Яром, приветствия товарищей-студентов во время моей речи в университете, восхитительные месяцы, проведенные с Колей в богемных кабаре Санкт-Петербурга. Я пытался сконцентрироваться на будущем, на практическом воплощении своей технологической Утопии. Мою жажду знаний и творчества до некоторой степени удовлетворил мистер Томпсон, который помог мне изучить корабль. Старые поршневые двигатели, установленные на «Рио-Крузе», вызывали у мистера Томпсона, больше привыкшего к современным турбинам, одновременно и восхищение, и сомнение. Он считал удивительным, что двигатели вообще работали. Итальяшки пользовались ими уже много лет, сообщил он. Итальяшки прославились тем, что развалили все корабли, на которых плавали. Обычный текущий ремонт был для них чем-то немыслимым. «Они относятся к механизмам точно так же, как к лошадям: лупят их до тех пор, пока те не умирают на ходу». Мистер Томпсон бродил по темным содрогающимся коридорам машинного отсека, его красное лицо и волосы, казалось, пылали, а острый нос содрогался от пуританского страха. Он демонстрировал, что починил и усовершенствовал, обвинительными жестами указывал на пятна и вмятины на медных деталях, на ржавчину и заплаты на поршнях и трубах. Машинное отделение пропахло кипящим маслом. Из кочегарки валил угольный дым. В ужасной полутьме я воображал, как подпрыгивают заклепки на металлических пластинах и как рычаги вырываются из рук. Мистер Томпсон рассказал, что настоял на том, чтобы сверху донизу вымыли все помещения, чтобы очистили и смазали каждый винтик, прежде чем он позволил этому военному трофею снова выйти в море, и все же отделаться от налета грязи так и не удалось. Мистер Томпсон думал, что это всегда останется проблемой на любом корабле, независимо от того, насколько хороши системы вентиляции. В ответ я изложил ему свою концепцию корабля, которому не нужны ни уголь, ни нефть, потому что его двигатели работают от двух гигантских ветряков, возвышающихся над палубой судна; таким образом, нужен просто вспомогательный двигатель и маленький резервуар с дизельным топливом. Мистер Томпсон сомневался, пока я не сделал для него набросок чертежа будущего устройства; тогда он заволновался. Он всерьез настаивал, что мне следует запатентовать эти планы, как только я достигну Лондона. Я уверил его, что именно таковы мои намерения. В тот день за обедом он попросил меня описать изобретение еще раз его коллегам-офицерам. На них рассказ также произвел впечатление. Капитан Монье-Уилльямс, который служил на парусных судах, сказал, что оценил бы бесшумную работу моего двигателя. Ему не хватало тишины, что стояла на больших парусниках даже тогда, когда корабль развивал значительную скорость. Миссис Корнелиус усмехнулась: – У мня никада не б’вало ника’ого черт’ва ’покойствия до ветру, – сказала она и рассмеялась. Ее поддержали все, кроме меня и капитана. Позже она объяснила мне соль шутки. За столом, однако, она добилась своей цели и прервала чрезмерно серьезную беседу. После пудинга большинство пассажиров вышли из салона. Когда капитан Монье-Уилльямс и еще несколько офицеров удалились по служебным делам, миссис Корнелиус исполнила несколько номеров. Ее карьера началась в мюзик-холлах Степни[181], и она знала немало популярных песенок. Моряков явно обрадовали номера, которые, очевидно, были известными хитами, но мне песни в основном показались незнакомыми. В конечном счете я выучил их все и не раз избегал неприятностей, доказывая, что я британец, исполнением «Лили из Лагуны» или «В церкви Троицы я встретился с судьбой». В тот вечер миссис Корнелиус выпила довольно много. В конце концов мне пришлось помочь ей добраться до каюты. Она страдала слабостью желудка, и смех, пение, морская качка привели к тому, что она потеряла над собой контроль прежде, чем мы добрались до двери. Я помог ей улечься. Через некоторое время она пробормотала, что ей намного лучше и она готова продолжить. Я тоже, возможно, был не вполне трезв, потому что в темной каюте, когда она пела «Мальчик, которого я люблю, стоит на галерке», попытался забраться к ней в койку. Она почти тотчас прервала пение и резко напомнила мне, что мы оба дали слово чести. Стыдясь себя самого, я вернулся в свою постель. Когда я проснулся на следующее утро, слабые лучи света пробивались сквозь стекло иллюминатора. Миссис Корнелиус, по-прежнему одетая в розовое с черным шелковое платье, крепко спала. Стараясь не беспокоить ее (и несколько опасаясь заговаривать после того, как едва не предал ее доверие), я умылся в тазу и поднялся на палубу. Это вошло у меня в привычку, отчасти потому, что я спал так ужасно, отчасти потому, что в ранние утренние часы моя похоть усиливалась, и мне было невыносимо лежать на койке прямо над желанной женщиной, отчаянно пытаясь сохранять самообладание. На рассвете на палубе людей бывало не много. Я мог покурить и насладиться прогулкой в уединении час-другой до завтрака. Единственной пассажиркой, с которой я сталкивался регулярно, была худощавая женщина средних лет. Ее лицо всегда покрывал толстый слой косметики. Кожа ее казалась зеленоватой, а губы и волосы – ярко-алыми. Она сидела за маленьким столиком на палубе и раскладывала пасьянсы. Ветер часто смешивал ее карты и иногда уносил их за борт, но все же, очевидно, не задумываясь об этом, она продолжала игру. Я начал воображать ее героиней легенды, оракулом, пленной троянской пророчицей. Определенно, было что-то цыганское в ее черном платке, украшенном большими темно-красными розами, в ее ярко-изумрудном платье и красных перчатках до локтей. Каждое утро, в одно и то же время, она занимала свое место. Сосредоточенная на картах, она никогда не замечала моего присутствия. Ее муж, бритоголовый бывший военный в какой-то гражданской форме, состоявшей из сюртука и брюк для верховой езды, заправленных в охотничьи ботинки, подходил к ней в то мгновение, когда раздавался первый звонок к завтраку; тогда она собирала карты, укладывала их в серебристую сумочку, протягивала мужчине длинную руку и удалялась с палубы. Супруги никогда не разговаривали, но пользовались языком мимики и жестов, который позволял предположить, что они постоянно общаются друг с другом. В первые дни путешествия главную палубу судна почти постоянно заливала вода. Холодная, серая, она сливалась с небом, и иногда казалось, что мы погружаемся в преддверие ада; возможно, мы плыли по краю мира, и нам не было суждено когда-нибудь пристать к берегу. Сидя в ресторане, который в перерывах между трапезами заменял нам кают-компанию, я наблюдал, как снаружи то возносятся, то отступают волны. Миссис Корнелиус обычно присоединялась ко мне примерно в два-три часа, к этому времени она успевала привести себя в порядок. Мы заказывали напитки и непринужденно беседовали с другими пассажирами. По словам моей спутницы, компания была не из лучших, но миссис Корнелиус терпимо относилась к нашим спутникам, которых я по большей части считал невыносимыми. Из толпы торговцев и их жен выделялись две миниатюрные неврастеничные дамы, сестры, всегда державшиеся за руки; я поначалу принял их за влюбленных лесбиянок. Толстый торговец зерном из Александровска рассказал миссис Корнелиус, что помог царю бежать в Румынию в начале 1918 года. Он был дружен с господином Риминским, бывшим владельцем самого крупного синема в Одессе, любившим поговорить о своей дружбе с известными актерами и явно считавшим себя кем-то вроде кинозвезды. Признаки возраста на его красивом лице были тщательно замаскированы румянами и сурьмой. Он планировал, по его словам, создать в Америке новую киностудию и предложил миссис К. стать одной из его первых актрис. Она захихикала и ответила, что подумает об этом. Риминский представил нас своему ближайшему приятелю, очень странному человеку, высокому молдаванину, князю Станиславу, розовокожему, худощавому и длинноногому, похожему на фламинго. От легкомысленной жены князя и их черноглазых сыновей-близнецов пахло эвкалиптом и камфарой, и я избегал их, предполагая, что они страдают от какой-то болезни. Среди других постоянных посетителей салона выделялся смуглый толстый грузин с темной раздвоенной бородой, торговец углем. Похоже, ему было нечего надеть – он все время ходил в одном и том же вечернем костюме и подбитом волчьим мехом пальто. Эти одеяния с каждым днем все сильнее покрывались плесенью. Фермер-меннонит, его полуголодная, дрожащая жена и пять дочерей, все в серых одеждах, были единственными людьми, общавшимися с бледным пухлым молодым человеком в плохо сидящем костюме. Неотесанный мужлан мог бы купить такой наряд для первого визита в город (все подозревали, что этот парень скопец, за спиной его дразнили «евнухом»). Наконец, был майор Волишаров, носивший белую форму донских казаков, – именно такую я когда-то упаковал в свой чемодан. Майор рассказал нам, что сопровождает маленького сына и дочь в Ялту, где к ним присоединится тетя. В Ялте он также надеялся отыскать свой полк. Его жену убили красные. Волишаров был занят только своими детьми, он говорил об их достоинствах и недостатках, об их физических свойствах, часто в их присутствии. «Быстрый, как крыса, – сказал он однажды вечером, взмахнув рукой, в которой держал стакан водки, и указал в угол салона, где играли мальчик и девочка. – Быстрый, как крыса. Но девочка – это мышь». Самой запоминающейся деталью на его невзрачном лице были усы, вощеные на немецкий манер; разумеется, этим усам он уделял почти столько же внимания, сколько детям. Мы говорили о гражданской войне.Узнав, что я сражался с красными под Киевом, он рассказал о трудностях крымской кампании. Он заявил, что не покинет Россию, пока не погибнет сам или не убьет Троцкого. Он первоначально собирался сойти с корабля в Севастополе, но стало невозможно предугадать, какая из сторон будет контролировать город в день нашего прибытия. – Нам остается только надеяться, – сказал он. Миссис Корнелиус, великодушная, как всегда, сочувственно выслушивала всех наших спутников. Иногда, чтобы сменить обстановку, мы сидели на палубе, закутавшись в пальто, в то время как другие пассажиры пытались совершать то, что они называли прогулкой. – Б’дняги, – доброжелательно удивлялась миссис Корнелиус. – И ка’ово черта с ими струслось? Их прогулка сводилась по большей части к тому, чтобы держаться за ограждение одной рукой, прижимая одежду другой, и выжидать, когда судно наклонится в желательном направлении; тогда им удавалось сделать несколько неуверенных, мелких шажков, пока корабль не бросало в противоположную сторону, – после этого пассажиры переводили дух и пытались уцепиться за ближайшую опору, какая только им подворачивалась. – Они ’обще тьперь не знат, кто они и шо они, так? Многие из этих беженцев, казалось, никак не могли прийти в себя от удивления. Да я и сам был несколько сбит с толку. Никто и никогда не понимает, насколько тесно личность связана с прошлым, или страной, или даже с какой-то улицей в каком-то городе, пока его насильно не оторвут от родного окружения. Я, в свою очередь, все сильнее привязывался к своим черным с серебром казацким пистолетам. Они всегда лежали в глубоких карманах черного пальто с медвежьим воротником. Я часто ощупывал их внушительные рукояти. Я не испытывал к ним никакой сентиментальной привязанности, ведь они принадлежали неотесанному бандиту, и случай, в результате которого у меня оказались, был болезненным и оскорбительным воспоминанием. И все же они стали для меня напоминанием о России. Плохая погода задержала судно на два дня. В конце концов снегопад сменился дождем со снегом, небо слегка расчистилось, потом море успокоилось, и мы смогли рассмотреть и горизонт, и береговую линию. Мистер Томпсон объявил, что мы приближаемся к Крымскому полуострову, хотя не увидим Севастополя до утра. Мы остановились и ожидали радиограммы с подтверждением того, что можно безопасно встать на якорь. Миссис Корнелиус отправилась на корму корабля, чтобы отыскать одного из младших офицеров, Джека Брэгга, который был почти комично увлечен ею. Она вернулась с его биноклем. Так мы смогли осмотреть побережье. Примерно через час я увидел силуэты всадников, мчавшихся на запад; я слышал залпы тяжелых орудий, но не мог опознать наездников и определить, кто ведет обстрел. Когда миссис Корнелиус забеспокоилась, я сказал ей, что мы находимся вне зоны досягаемости орудий, принадлежащих красным. Кавалеристы исчезли, стрельба затихла. Море становилось все спокойнее, погода улучшалась. В сумерках мы узнали, что скоро можно будет продолжить путь. После обеда миссис Корнелиус решила нас развлечь. Взяв за руки мистера Томпсона и Джека Брэгга (его руки оказались по-девичьи тонкими, как у многих молодых англичан), она танцевала вокруг стола, напевая «Человека, который сорвал куш в Монте-Карло», пока не упала. Я снова помог ей добраться до койки, а потом вскарабкался на свою полку и лежал с открытыми глазами, погруженный в меланхолию и тяжелые раздумья. Мне уже приходило в голову: может, стоит сойти на берег вместе с казаком-майором и сразиться с красными. Идея была нелепой. Очевидно, мой долг состоял в том, чтобы остаться в живых, использовать свои мозги и способности в изгнании, где я мог наиболее эффективно бороться с большевиками. Никто не назовет это решение трусливым. Даже мой командир в Одессе ни на мгновение не усомнился во мне. Поражение белых, в конце концов, было решительно неизбежно. Мне следовало остаться на борту. И все же призрак Эсме, призрак того, чем была Эсме и что она воплощала, продолжал преследовать меня. Он смущал мой разум, звал меня в Россию. С какой стати мне любить свою страну, спрашивал я ее, если снисходительность царя, его глупая терпимость ко всему иностранному и экзотическому, вместе с предательством евреев привела меня в нынешнее тяжелое положение? Россия могла бы стать великой. Все ее богатства могли послужить установлению блестящего, образцового нового мира. Вместо этого моя страна находилась в паре миль от меня – смертельно раненная, погибающая. Она дрожала в агонии, раздираемая волками и шакалами, дравшимися за ее останки. Изнасилованная, она больше не могла кричать; ограбленная, она даже не могла жаловаться. Я написал всем и предложил великолепную альтернативу этому положению. То видение было тонким, ярким силуэтом за вьющимися клубами черного дыма и нездоровыми отблесками огня; прекрасное видение – совершенные массивные башни, изящные дирижабли, мир и здравомыслие, исчезновение голода и болезней, идеальный мир для разумных, образованных, здоровых людей. Новый Санкт-Петербург мог бы буквально вознестись над старым: летающий город из стали и стекла. Как легко можно было бы воплотить их в действительность, те планы, которые исчезли вместе с моими вещами! В ту ночь, когда «Рио-Круз» покачивался на якоре в неспокойных водах близ Севастопольской гавани, оставаясь легкой добычей для всех мин, установленных у входа в бухту, я заставил себя отказаться, по крайней мере на время, от мечты об абсолютном славянском возрождении. Когда рассвело, я, выспавшись еще хуже, чем обычно, принял укрепляющую дозу кокаина (предварительно убедившись, что миссис Корнелиус не проснулась и не видит меня, – она не одобряла этого дела) и вышел на палубу. В туманном зареве провидица с зеленой кожей уже раскладывала свои карты. Она не обернулась, когда я прошел мимо. Все было спокойно и тихо, только шумела вода и шелестели карты. На побережье я сумел разглядеть невысокие заснеженные холмы, смутные очертания зданий под мрачным серым небосводом. Судно все еще слегка раскачивалось, но его движения были уже достаточно слабыми. Закутавшись в бушлат, спрятав руки в карманы и натянув кепку на самые уши, Джек Брэгг присоединился ко мне у поручней. – Думаю, мы уже рядом, – сказал он. – Слава богу, видимость теперь немного лучше. Я не представлял, как мы пройдем вслепую мимо всех этих мин. Раньше впереди ничего нельзя было разглядеть. – Из его рта вырывался пар. – Кажется, ничего особенного не происходит. Полагаю, это добрый знак. Через пару минут, когда начали поднимать якорь, Брэгг возвратился к своим обязанностям, а я остался на месте. Мы приближались к Севастополю, и я вскоре разглядел вход в гавань, где зловещая линия бакенов указывала на заградительную полосу. За бакенами я смог различить несколько низких новых зданий, очевидно пустых. Нигде не обнаруживалось ни единого человека, ни корабля, ни дыма из труб. И ни единого звука. Самая большая военная гавань Черного моря казалась абсолютно пустынной. Без военно-морской охраны, которая могла бы предупредить нас о потенциальной опасности, и без шкипера, который провел бы нас мимо мин-ловушек, у корабля, похоже, было мало шансов благополучно войти в гавань, но «Рио-Круз» продолжал двигаться вперед к бакенам. Я вцепился в поручень, готовясь к взрыву, который неминуемо должен был последовать, но мы как-то проникли в гавань. Несколько минут спустя мы обошли мыс и увидели серый силуэт британского военного корабля – единственного судна в пределах видимости. На линкоре нас, похоже, не заметили, и я решил, что корабль тоже покинут. Мертвая тишина окутала безлюдные холмы и город у их подножия. Внезапно чайка взмахнула крылом – это было неожиданно, пугающе и неприятно. Ни на земле, ни на воде мы не видели никого, за исключением нескольких птиц: пустыня из снега и льда, как будто Зимний король прошел, не оставив ни единой живой души, которая смогла бы выдержать встречу с ним. «Рио-Круз» бросил якорь между линкором и огромным главным причалом. К тому времени на палубу вышли многие пассажиры. Их, как и меня, поразила тишина. Они тихо и озадаченно переговаривались. Джек Брэгг прошел мимо меня, усмехнувшись: – Похоже, принимают нас получше, чем во время прошлого визита англичан в Крым! В центре города стояли довольно высокие дома – в семь или даже восемь этажей, по большей части знакомого неоклассического образца, но кое-где сохранились и более старые, типично славянские кварталы, с блестящими куполами церквей и соборов, барочными административными зданиями, чаще всего из желтого известняка. Они напомнили мне о родном Киеве. Укрепления Севастополя были крепкими и с виду неповрежденными, но никаких флагов и вымпелов мне разглядеть не удалось. Качая головой, рядом со мной прошел майор Волишаров. Он пристально разглядывал берег, как будто смотрелся в зеркало, и механическим жестом сжимал маленький прыщ на левой щеке; потом начал приглаживать усы указательным пальцем. Он напоминал мне садовника, аккуратно подстригающего любимый куст. – Вы знаете Севастополь, майор? – О, очень хорошо. – Он указал куда-то влево. – Все самолеты исчезли. Там был аэродром. Ничего не осталось. И сигнальная станция покинута. – Он пригладил рукой усы. – Я видел такое и раньше. И все же завтра и красные, и белые могут вернуться, начнутся бои на улицах, а на пристанях появятся беженцы. – Вы все еще надеетесь сойти на берег? – Нет, нет. Здесь теперь как в Ялте. Разве эта тишина не ужасна? Когда замечаешь такое, то можно быть уверенным: где-то поблизости гора трупов. – Он расправил усы. – Как будто здесь появилась чума. И повсюду будет то же самое через год или два. Вся Россия вымерла. Мы услышали, как слабый ветерок шумит в оснастке, как он раскачивает потрепанные флаги, бьющиеся о мачты. Потом до нас донесся звон корабельного колокола – начинался обед. Примерно в час тридцать в порту послышался шум, и некоторые из нас, включая миссис Корнелиус, вышли из салона. От большого желтого причала отходил старый паровой катер. Он хрипел и плевался, как те лодки, за которыми я часто наблюдал летом, когда отдыхающие в Одессе отправлялись на прогулки, или как те речные пароходы, которые я когда-то чинил для армян в Киеве. Из трубы валил густой черный дым, а двигатель издавал такие звуки, словно его части были скреплены только древними остатками застывшей нефти. На корме стоял русский офицер средних лет в зеленом пальто и каракулевой шапке, его лицо побелело от холода. На носу катера застыл французский пехотный капитан. На нем была полковая фуражка, но при этом он весь закутался в лисью шубу. Британский моряк в обычной форме, стоявший у руля, с удивительной ловкостью подвел судно прямо к нашему кораблю. Офицеры ухватились за веревки, сброшенные членами нашей команды. Когда катер пришвартовался, они взобрались по лестнице и обменялись приветствиями с капитаном. У меня сложилось впечатление, что в Севастополе не осталось живых людей, кроме этих троих. Некоторые из наших матросов спрашивали о чем-то рулевого, но я не мог разобрать его ответов. В тот момент британский линкор, теперь находившийся у нас за кормой по правому борту, подал признаки жизни. Он был полускрыт туманом, и потому резкий звук боцманского свистка произвел еще большее впечатление. Потом один раз взвыла сирена. Ощущение полнейшего одиночества слегка развеялось. Люди начали заговаривать с русским офицером, справляясь о судьбе родственников, о новостях с фронтов гражданской войны. Они хотели узнать, что творилось в порту, но офицер просто пожал плечами и скрылся в капитанской каюте. Через несколько минут мимо нас прошел мальчишка-поваренок с дымящимся подносом – он понес в каюту еду. – Они нитшего не ели всью недьелю, – сказал поваренок миссис Корнелиус, которая ухватила его за руку. – Я не думать, тшто мы будьем тут долго, миссус. Мы отправились в салон – присесть и выпить водки, а вокруг нас немногочисленные торговцы и бывшие князья обсуждали, что означает затишье в Севастополе. Примерно час спустя я увидел мистера Томпсона. Он ненадолго задержался и сообщил, что белые пытались удержать красных на Перекопе. Мы опоздали на день – или прибыли днем раньше, чем следовало. Линкор «Мальборо», как предполагалось, должен был орудийным огнем поддерживать белых во время атаки на город. Но Севастополь захватили прежде, чем корабль вошел в гавань. Потом разнеслись слухи о прорыве большого отряда красных, белые и большинство гражданских бежали. «Мальборо» не получил никаких приказов и стоял на якоре, ожидая распоряжений. Тем временем несколько человек на борту заболели – похоже, свинкой; корабль оказался в карантине. В городе все еще оставались беженцы. Офицеры прибыли к нам, чтобы выяснить, сколько человек мы сможем взять на борт. – Мы будем держать машину на ходу, чтобы отплыть, если понадобится, в течение часа. Вероятно, мы возьмем раненых. Воспользовавшись биноклем Джека Брэгга, мы с миссис Корнелиус снова осмотрели город. Магазины явно разграбили в первую очередь. На стенах я видел знакомые плакаты – и белогвардейские, и большевистские. Иногда какой-нибудь старик мчался от одной двери к другой. Я заметил двух собак, которые спаривались на причале, как будто понимая, что здесь самая многочисленная аудитория, какую они могли отыскать. На некоторых зданиях остались следы от артиллерийского обстрела, но особенно ужасных повреждений мы не заметили. Я видел много городов, опустошенных войной, но ни одного, в котором так быстро исчезло бы все население. Было очень трудно понять, куда могли подеваться люди. Чуть позже у причала остановились три гужевых фургона с яркими красными крестами на холщовых навесах. Оттуда вынесли раненых, которых уложили в старый паровой катер; он совершил несколько рейсов и в конечном счете доставил на борт около тридцати человек. Тем временем серый туман опустился на город. Прошел еще час. Потом доставили какое-то богатое семейство вместе с прислугой. Эти люди заняли последнюю отдельную каюту, которая была свободна. Высокие, величавые посетители прикрывали лица воротниками. Мы предположили, что наши пассажиры – члены царской фамилии. Ни мистер Томпсон, ни Джек Брэгг не смогли нам ничего сообщить о них, молчал и капитан Монье-Уилльямс. Еду этим гостям относили в каюту. В сумерках мы подготовились к отплытию. Все русские солдаты были очень молоды; те, которые могли ходить, обедали с прочими пассажирами. К ним относились как к героям. Они, очевидно, не ели как следует уже в течение многих месяцев. Они сказали, что сражались вместе с британской военной миссией. Еще один отряд черной сотни все еще оставался где-то между Севастополем и Перекопом. «Мальборо», несмотря на карантин, должен был эвакуировать казаков, если они сумеют добраться до гавани. Миссис Корнелиус, как обычно, почти тотчас начала болтать с солдатами, подмечая, у кого плохо перевязаны раны, кому нужно написать письма и так далее. Она также очень много узнала о положении дел. Ей стало ясно, что белые вряд ли выстоят. В ту ночь, прежде чем мы заснули, она долго смеялась: – Я чувствую ся Флоренс, черт ее дери, Найтингейл![182] На следующее утро, к тому времени, когда я встал, мы уже снимались с якоря и готовились отправиться в путь. Севастополь на рассвете был все еще окутан туманом, и единственное, что мне удалось рассмотреть, – главный причал. Когда поднялось солнце, начали появляться силуэты людей. Они выступали из тумана, как призраки мертвых, завернутых в саваны. Потом появились лошади, тянувшие фургоны, груженные картофелем и другими овощами, словно жизнь продолжалась, как обычно, и хозяева фургонов собирались торговать на рынке. Существа с тележками, в которых лежали морковь и капуста, направлялись к кораблю. Я слышал их выкрики. Все это представлялось мне зловещим, хотя они вполне могли оказаться всего лишь невинными крестьянами, пытавшимися продать нам свой урожай. Однако я ожидал, что они в любой момент могут отбросить овощи и вытащить пулеметы. Мы развернулись, двигаясь к выходу из гавани; люди все больше волновались, они подпрыгивали и размахивали руками. Загудела сирена – как будто в ответ на их призывы, а потом мы миновали по-прежнему безмолвный «Мальборо», обошли бакены и направились в открытое море. На следующем этапе путешествия мы не удалялись от побережья, по-видимому, столь же безлюдного, как Севастополь. К вечеру мы достигли Ялты, королевы Черного моря, которая выглядела великолепно в лучах заходящего солнца. Казалось, город переживал свои лучшие дни. С виду Ялта представлялась совершенно обычной: модный курорт в межсезонье, окруженный роскошными холмами, поросшими лесом и покрытыми снегом. Весь город как будто состоял из одинаковых гостиниц и немного напоминал небольшой, как бы сжатый Санкт-Петербург. Мы находились недалеко от берега, и я мог легко разглядеть людей всех сословий, лошадей, автомобили, солдат. Ялту не обстреливали, город мог прокормить свое население. Отели вдоль берега были похожи на собрание вдовствующих дам, чопорных, великолепных и ухоженных. Все намеки на бедность и что-либо неблагоприятное скрывались на глухих задворках. Вскоре навстречу нам вышли катера белых под императорскими флагами, и опытные моряки, вежливые и педантичные, помогли некоторым из наших пассажиров сойти на берег. Майор Волишаров на время передал детей под опеку украинской семьи и отправился в город, чтобы отыскать свою невестку и получить дальнейшие указания от командования. Раненых выгрузили. Мне показалось, что они не хотели покидать судно. Катера вернулись в порт, и немного спустя, когда солнце уже стало пригревать, начали доставлять ящики, по-видимому, с боеприпасами; ящики складывали в трюм. Затем появились новые пассажиры, в основном женщины аристократического происхождения с детьми; их мужья и отцы погибли или остались на берегу, чтобы сражаться с красными. Особенно сильное впечатление на нас с миссис Корнелиус произвела пара очень странных спутников – греческий священник и католическая монахиня, оба очень высокого роста. Он был бледен и испуган, она улыбалась, щеки ее покрывал здоровый румянец. – ’охоже, она ’олучила немного то’о, шо ей нра’ится, – заметила миссис Корнелиус, подмигнув мне. Я был еще слишком молод, чтобы равнодушно выслушивать подобные замечания, поэтому смутился и начал пристально разглядывать берег. Царское семейство посещало Ялту каждое лето. Мысль о том, что замечательные виллы, усаженные деревьями улицы и парки, дворцы и сады могли в конце концов исчезнуть под огнем артиллерии красных, представлялась невероятной. Даже большевики должны чтить такую красоту, казалось мне. Я был настолько уверен, что они не пожелают разрушать Ялту, что снова почувствовал желание забрать багаж и покинуть корабль. Ялта находилась в осаде. Город пережил ужасные потрясения и все же выглядел по-прежнему гордо и беззаботно, как великолепный аристократ восемнадцатого столетия, просто отказывающийся признать присутствие санкюлотов Робеспьера в своем доме. Ялта одновременно напоминала о прекрасном прошлом и обнадеживала в настоящем – истинная цитадель хорошего вкуса и изящества. В самой ауре этого города есть то, что, несомненно, воспротивится любой попытке завоевания. Конечно, через несколько месяцев Деникин и Врангель покинули Ялту; британцы и французы также предоставили город его собственной судьбе, и красногвардейцы мочились в ялтинские фонтаны, облегчались на клумбах и блевали на улицах. С тем же успехом я мог бы ожидать, что Антихрист признает святость деревенской церкви. У этих большевиков было врожденное стремление к разрушению, неприкрытая ненависть ко всему прекрасному, непреодолимое желание уничтожать все самое изящное и культурное в России. Они опустошили Севастополь – и точно так же опустела и умолкла Ялта. Еще через год онемела и целая страна. Теперь Сталин мог остановить все движение и все разговоры, запретить пение птиц в лесу и блеяние ягнят в полях. Пришел Зимний король. Сталин погрузил своих подданных в сонное неведение, он заморозил их сердца – и все чувства стали невозможными. Те же мужчины и женщины, которые в 1917‑м кричали на улицах, срывая голоса, в 1930 году боялись даже перешептываться в уголках собственных комнат: Зимний король не выносил шума. Даже слабый перезвон сосулек его беспокоил. Он дрожал в своих ужасных покоях, он боялся, что какой-то шепот напомнит ему о преступлениях, он подозревал, что всем прочим свойственна такая же жестокость; его сон мог прервать даже мотылек, коснувшийся крылом уродливого лица. Тогда король проснулся бы и, задыхаясь, продиктовал бы своим палачам приказ: все мотыльки – предатели, всех их следует уничтожить к утру. Майор Волишаров вернулся на корабль с неряшливой женщиной лет сорока. Он называл ее тетей. Нам ее представили, но я не расслышал имени и не нашел возможности переспросить. Майор, казалось, теперь уделял еще больше внимания своим усам, как будто ожидая возвращения к служебным обязанностям. Он пожал мне руку и попросил продолжать борьбу за белое дело, где бы мне ни случилось оказаться. Я дал ему слово. – Это хуже, чем в тысяча четыреста пятьдесят третьем[183], – сказал он. – Если бы христиане поверили императору и послали ему помощь, то Константинополь никогда не пал бы. – Он обернулся и посмотрел на Ялту, с виду нерушимо спокойную. – Это дело – на совести всех христиан. Скажите им это. Я смотрел, как он поцеловал на прощание детей, еще несколько раз пригладил усы, а затем отправился на катер вслед за ординарцем, который нес чемоданы. Таинственная семья аристократов сошла на берег, и их каюту заняла женщина с маленькой дочерью и служанкой. Женщина была удивительно хороша собой, она немедленно привлекла мое внимание. Вскоре после того, как доставили багаж новой пассажирки, судно вновь отправилось в путь. Час спустя пошел снег. Ялта, подумал я, отпустила нас с сожалением, но без жалоб. Ялтинские беженцы были в целом гораздо приличнее тех, которые сели в Одессе. Они не теряли присутствия духа и спокойно относились к происходящему. Они принесли с собой новую атмосферу товарищества и дружелюбия. Разочарованные торговцы и их слезливые жены вскоре устыдились. Когда мы провели в море около суток, погода улучшилась, волны стали слабее, и моя собственная скорбь о расставании с прекрасной Ялтой, брошенной на произвол судьбы, вскоре угасла – на палубе звучали голоса и крики играющих детей, у меня наконец появилась возможность насладиться приятной беседой с людьми моего интеллектуального уровня, появились и женщины, которые, оставшись вдали от мужей, были рады немного повеселиться и пококетничать с красивым молодым человеком. Я начал лелеять некоторую надежду, что мое ужасное воздержание может вскоре прерваться, пусть и ненадолго. Ради этого я стал великим создателем бумажных самолетиков и лодок и добился огромной популярности. Я получал невинное удовольствие от ребячьей радости – они восхищались плодами моего труда, а я забывал о собственных проблемах. Моя дружба с маленькими Борями и Катями приводила к близкому общению с их нянями и матерями, которые говорили, что я прекрасно обращаюсь с детьми, и расспрашивали о моем прошлом. Я многозначительно упоминал об аристократических связях, об учебе в Петербурге, о военной службе и особой миссии. Тогда было неблагоразумно рассказывать слишком много. Шпионы большевиков уже появились среди беженцев. Я не хотел надевать ни один из своих мундиров, но пояснял, что сразу после прибытия в Лондон займусь вещами, которые имеют огромное значение для белого дела. Наконец я позволил себе намекнуть, что мы с миссис Корнелиус родственники, но не муж и жена. На самом деле я холостяк. Единственный случай, который нарушил это приятное времяпровождение, произошел на вторую ночь после отъезда из Ялты. Я совершал свою обычную прогулку и только что миновал рулевую рубку, возвращаясь в бар, и тут увидел бледную фигуру человека, прижавшего ко рту носовой платок. Он резко отступил в одну из частных кают, как будто пораженный. На мгновение я решил, что это Бродманн, еврей, который угрожал предать меня в Одессе и который стал свидетелем моего унижения в Александровске, когда я пал жертвой казака-анархиста. Я почувствовал приступ слабости. Мой желудок, казалось, сжался. Я даже произнес его имя. – Бродманн? Дверь захлопнулась; ее тотчас же заперли изнутри. Неужели предатель и трус сумел пробраться за мной на корабль? Это было невозможно. Я видел, как его арестовали. Может быть, я испытал нечто вроде галлюцинации? Я несколько раз видел Бродманна во сне. Мне снилось множество ужасов последних двух лет. И теперь, в состоянии крайней усталости, я мог спутать фантазию и реальность. Я понимал, что Бродманну никак не удалось бы сбежать и успеть на отходящий корабль. Меня просто одолели кошмары прошлого. Я немедленно отправился к себе в каюту и постарался уснуть. Следующим утром я вел себя как обычно: встав, я поприветствовал детей, поболтал с их матерями, занялся изобретением новых игр на палубе, посочувствовал молодым женщинам, которые покинули своих возлюбленных, оставшихся воевать на Кавказе, выслушал вдов, мужья которых отважно погибли за царя и Отечество, и высказал несколько предположений насчет того, что вскоре откроются новые обстоятельства, большевики навсегда сгинут и в Петрограде восстановится законное правительство. Я изгнал из своего сознания всякое воспоминание о Бродманне. Мне посчастливилось повстречать пару человек, которые знали князя Николая Федоровича Петрова, моего Колю. Мы поговорили об общих знакомых. Мы вспомнили старые добрые деньки, побеседовали о родственниках Коли и о войне. Я приобрел огромное значение в их глазах, когда они узнали, что я был вместе с кузеном графа, Алексеем Леоновичем, в «эртце», который рухнул в море близ Одессы, когда пилот погиб, а я был ранен. Это обеспечило мне звание военного героя, рыцаря воздуха – в итоге я получил небольшую компенсацию за свои страдания. Женщина, проявившая ко мне в конце концов самый сильный интерес, оказалась тем прекрасным созданием, которое заняло освободившуюся каюту. Ей было около тридцати лет, она говорила по-русски, но носила фамилию мужа: баронесса фон Рюкстуль. Ее мужа, немца, владельца фабрики, сына колониста, застрелили харьковские рабочие в 1918 году после того, как Скоропадский сбежал в Берлин. Сама баронесса была не немкой, а настоящей славянской красавицей с большими сине-зелеными глазами, широким ртом и густыми темно-рыжими волосами. Она предпочитала элегантную и простую одежду, в основном платья и накидки консервативных темно-зеленых, красных и синих оттенков, которые ей превосходно шли и добавляли привлекательности. Единственной женщиной на «Рио-Крузе», которая могла ее затмить, оказалась ее же дочь (должен признать, что именно она и привлекла сначала мое внимание). Девочка унаследовала от матери цвет глаз и форму лица, но ее окружала аура уязвимости и отважного любопытства, которая очаровывала меня с детства. Это было у Эсме и это было у Зои. Есть нечто замечательное в молодых девушках, наделенных подобными качествами. Они пробуждают в мужчинах одновременно самые разные чувства – похоть, счастье, уверенность, стремление защищать. Маленькой девочке исполнилось одиннадцать, ее звали Катерина, но на корабле все обращались к ней: «Китти». Когда новые пассажиры впервые появились на палубе, баронесса казалась грустной и рассеянной и оживлялась лишь изредка – когда ее забавляли выходки дочери. Она никогда не ругала Китти. Эту обязанность возложили на няньку, Марусю Верановну, суровую старую женщину с ястребиным носом и толстыми губами, которая в обществе прочих пассажиров выглядела белой вороной. Она вызывающе смотрела на всех, кроме своей подопечной, и относилась к происходящему в путешествии с явным отвращением. Уже на второй день она начала возражать против того, что Китти избрала меня своим лучшим другом; наконец баронесса прямо приказала ей не вмешиваться. Мы с Китти быстро подружились, но с ее матерью и служанкой я почти не общался, за исключением дежурных фраз. Встречая их на палубе, я приподнимал шляпу – мы были друг с другом равнодушно-вежливы. Конечно, никто не назвал бы извращенной мою привязанность к ребенку! В своем отчаянном состоянии я довольствовался малым: иногда гладил девочку по щеке или придерживал за плечо, когда набегала особенно сильная волна. Несомненно, мое желание усиливалось. Я теперь мечтал о Китти днем и о миссис Корнелиус ночью! Лишившись моего общества, миссис Корнелиус большую часть времени проводила с юным Джеком Брэггом. Если бы я был склонен к ревности, то мог бы заподозрить романтические интересы, но я знал, что миссис Корнелиус не предаст доверия своего француза. Поэтому не возникало и никаких вопросов насчет того, что я делаю какие-то там сексуальные авансы маленькой девочке. Я мог совладать со своими чувствами (и кроме того, Китти происходила из приличного семейства – было бы настоящим безумием рисковать и устраивать скандалы). Во всяком случае, заметив возрастающий интерес со стороны баронессы, я начал подумывать о том, чтобы обратить свои чувства на мать, а не на дочь. Это оказалось не слишком трудно, так как баронесса оставалась исключительно красивой и замкнутой женщиной. Я знал, что она чувствовала, по крайней мере, нечто вроде стремления к состязанию, которое испытывают очень многие матери, когда мужчины проявляют интерес к их дочерям. Ирония заключалась в том, что они склонны демонстрировать особое расположение к людям, ухаживающим за их юными чадами, пока не становится очевидным, что у них нет никакого шанса завоевать поклонника, после чего, конечно, они становятся воплощениями ярости, тигрицами этики, хранительницами закона. И пока я продолжал ухаживать за юной Китти, болтать с нею, шутить, буквально носить на руках – мои мысли были заняты соблазнением баронессы. Слава богу, я вполне сознательный и честный человек, тогда еще не особенно гордившийся своими достижениями в подобных делах, – хочу вам напомнить, что мне еще не исполнилось и двадцати лет. Я привык к полноценной сексуальной жизни, поскольку провел несколько месяцев в публичном доме в качестве особого гостя. Вдобавок я в глубине души надеялся, что однажды в море смогу насладиться близостью миссис Корнелиус. Такому мальчику, как я, было необходимо теплое женское общество ночью, чтобы забыть о страданиях, связанных с расставанием со святой Россией, ибо русский и его земля – это нечто единое, разделить их означает оторвать плоть от плоти, как будто украсть самое главное. Лишь немногие русские добровольно уезжали за границу. Почти все мы не можем смириться с изгнанием, и именно поэтому наши действия так часто истолковывают превратно. Я вовсе не растлитель детей! Эти глупые лондонцы не в силах понять печаль старого бездетного человека. Почему я должен считаться с предупреждениями их судей? Я просто хочу дать немного любви и немного получить взамен. Я не предавал ее доверия. Наоборот, она предала меня. Они всегда так поступают. Почему они избегают меня теперь, когда я готов дать им все, чего они хотят? Разве я насильник или развратник? Мои чувства навеки обращены к благородным силам добра. То, что мы творили в Петербурге в 1916‑м, во всем мире теперь считают новым и свободным. Нам рассказывают по телевидению, что любить – это не преступление, независимо от возраста или пола. Именно так мы и жили. Коля научил меня ценить все стороны сексуальности без малейшего предубеждения. Если нет этических оснований или чувства ответственности – это не любовь. Почему этого не понимают люди, которые пытались сбить меня с пути? Они боялись меня, они ревновали к моей поистине прометеевой живучести. И они связали меня, заткнули мне рот и наслали на меня мелких птах, которые клюют мою плоть. Тридцать лет я был у них в плену, за мной следили, меня испытывали, меня преследовали слабоумные бюрократы, а ведь именно я мог их спасти! Они вложили мне в живот кусок металла. Es tut mir hier weh[184]. Они вложили мне в живот железо, и я никогда не прощу их. («Нишо у тьбя ’нутри нет, окромя старо’о сердца», – говорит миссис Корнелиус. Она добрая. Она думает только о хорошем. Но кто же сделал меня настоящей шлюхой? Кто отнял у меня все, даже имя?) Когда они сталкиваются со мной, то видят только несчастного старика, беспаспортного владельца магазина, но в 1919‑м на «Рио-Крузе» мной восхищалась сама миссис Корнелиус: «Иван, ты умешь обращаться с леди, ’кажу я тьбе». Я мог бы заполучить дюжину прекраснейших благородных дам. Я выбрал баронессу, потому что она была старше. Я полагал, что она окажется более искушенной и не допустит нежелательных осложнений. Вдобавок я понимал, что помимо физической привлекательности важна и личная заинтересованность. У баронессы она была: в Константинополе ей следовало получить транзитную визу в Берлин, и она предположила, что именно я стану тем человеком, который окажет ей наибольшую помощь. Ее муж не был немецким гражданином. В 1885 году его отец принял российское подданство. Она, конечно, была русской. У нее остались в Берлине какие-то дальние родственники, которые уже предложили ей убежище, и она неплохо говорила по-немецки. Безопасность ребенка, по крайней мере, в Германии была бы обеспечена. Все это я выяснил, когда по предложению баронессы мы стали вместе пить кофе по утрам, а потом и чай днем. Я по-прежнему обедал за офицерским столиком в дальнем углу столовой, но уходил пораньше, чтобы четверть часа прогуляться по палубе с баронессой, потом она отправлялась отдыхать. Бродманн, если это был он, больше не появлялся. Я решил, что все попросту придумал. Однако я почувствовал бы себя намного легче, если бы судно бросило якорь в Константинополе и мое путешествие в Англию практически завершилось бы. На борту собралось слишком много злоязычных людей, уже не говоря о Бродманне; слишком много потенциальных врагов могли распускать ложные слухи о моем прошлом. По правде говоря, имелись у меня и союзники, и баронесса входила в их число. У нее было очаровательное, задумчивое и печальное выражение лица, типично русское и какое-то успокоительное. Ее голос звучал низко, тепло и музыкально, все ее фразы обычно заканчивались многоточиями и многозначительными паузами. Я понимал таких женщин, понимал их романтические устремления, я заставлял баронессу улыбаться, отпуская насмешливые замечания, одновременно сочувственные и философские. Мы постепенно сближались. – Вы поразительный собеседник, Максим Артурович… – сказала баронесса однажды вечером, когда мы стояли на палубе, вслушиваясь в плеск волн. Она улыбнулась. – Полагаю, вы тоже пишете стихи. – Моя поэзия, Леда Николаевна, заключена в определенных сочетаниях стали и бетона, – ответил я. – В том, чего можно добиться с помощью винтов, рычагов и поршней. Я прежде всего ученый. Я не думаю, что человек сможет достигнуть совершенства, если не добьется полного контроля над окружающим миром. Для меня поэзия – гигантский самолет, который может в одно мгновение взлететь в воздух и преодолеть бесконечные расстояния, приземляясь везде, где пожелает пилот. Поэзия – та свобода, которую обеспечивает нам техника. Это произвело на нее впечатление. – Я не претендую на такую проницательность, Максим Артурович, но действительно иногда пишу стихи. Для собственного развлечения. – Вы покажете их мне? – Возможно. Она пожала мне руку, слегка зарделась, а потом быстро удалилась в каюту, которую делила с дочерью и служанкой. Увлеченный этим нежным флиртом, я едва заметил, как корабль достиг Феодосии. Здесь выгрузили раненых и боеприпасы и взяли на борт группу грузинских офицеров, которые держались отдельно от всех остальных, курили чудовищные трубки и говорили на каком-то диковинном языке. Мы встали на якорь возле полудюжины других судов, довольно далеко от берега. Было трудно разобрать детали побережья, уже не говоря о порте, и все же каждый раз, когда ветер дул от берега к морю, до нас доносился запах свежескошенной травы, его происхождение объяснить никак не удавалось. Моя баронесса романтически утверждала, что это «первые ароматы весны», но кто-то другой сказал, что так пахнет лошадиный фураж, еще кто-то заявил, что это негашеная известь. Грузины, с молчаливым безразличием относившиеся ко всем гражданским лицам, этим вопросом не интересовались. В отличие от Севастополя, в Феодосии корабли русских и союзников приходили и уходили очень часто. Порт напомнил мне Одессу в ее лучшие годы. Город до сих пор оставался одним из крупнейших центров подлинного сопротивления. Возможно, именно поэтому грузины так не хотели уезжать. Они стояли, выстроившись в ряд у поручней по правому борту, изучая горизонт и наблюдая, как дым из труб военных кораблей низко стелется над водой цвета металла. Я предположил, что они остались недовольны полученными приказами. Когда корабль отошел от берега, все они перебрались на корму и впились взглядами в клубы темного дыма, которые поднимались вверх, как ряды берез, что порой внезапно появляются в украинской степи и на первый взгляд кажутся чудом природы и указывают на близость населенного пункта. А когда порт скрылся за горизонтом, грузины разбрелись по палубе небольшими группами, смахивая брызги водяной пыли, которые попадали на их потертые зеленые одеяния. Когда им пытались как-то помочь, они встречали эти попытки с негодованием, а иногда просто грубили в ответ, как будто мы были в ответе за их бедствия. Возможно, они хотели отправиться в Батум[185]. К нашему превеликому облегчению, выяснилось, что вместо этого они должны сойти на берег в Новороссийске, во время нашей следующей остановки. Я сказал баронессе, что в своих форменных мундирах, в черных каракулевых шапках, с огромными моржовыми усами они казались точными копиями наших сельских почтовых начальников. Это замечание вызвало у баронессы смех – она даже в лучшие времена не слишком симпатизировала грузинам, но эти, похоже, сошли прямо со страниц иллюстрированного юмористического журнала. Несколько лет спустя я задумался, не в этом ли кроется разгадка успеха Дяди Джо – Сталина. Зачастую очень трудно ненавидеть воплощенные стереотипы. Это также стало одной из причин удивительно быстрого восхождения Гитлера. Он настолько напоминал Чарли Чаплина, что многие люди не могли относиться к нему серьезно. Грузины отбыли на следующий день в лихтере, который прислали специально за ними. Они были рады уехать; думаю, не слишком опечалились и те люди, которым приходилось убирать палубу, вытирая их мокроту. В Новороссийск прибывало множество кораблей, и мы не смогли войти в гавань. Взяв бинокль Джека Брэгга, я увидел обыкновенный, но оживленный индустриальный и военный порт, очевидно, готовящийся к обороне накануне большого наступления. Впервые с тех пор, как мы уехали из Одессы, я смотрел на прилетающие и улетающие самолеты. Это были разные машины, некоторые – русские, некоторые – союзнические; очень многие были захвачены у немцев и австрийцев. Меньше чем за час я увидел «сопвит кэмелс», «альбатрос», «пфальц DII», целую эскадрилью бомбардировщиков «фридрихсхафен GIII», «армстронг витворт FK8», «бреге-мишлен IV», мощный самолет Сикорского «РБВЗ», несколько «капрони СА 5» и множество летательных аппаратов «FBA» модели «Н». Некоторые из самолетов я показал баронессе, у которой сложилось впечатление, что я долго прослужил в военной авиации. Я не видел смысла ее разочаровывать, ведь мои исследования в области авиации могли бы изменить ход войны и всю историю России. Мое близкое знакомство со множеством самолетов подтвердило ее предположение (как баронесса сообщила мне позже), что я, скорее всего, знаменитый ас, ушедший с действительной военной службы для решения еще более неотложных задач. Я ее не обманывал. Из моих немногочисленных обмолвок она сочинила свой собственный роман. Взволнованная баронесса сочувственно взглянула на меня: – И вы отказались от свободы, которую даруют небеса? – Это было самое восхитительное переживание. – Я сделал многозначительный жест. – Если бы проклятый «эртц» не рухнул, я мог бы еще остаться наверху, с теми парнями. – Может, вам позволят поступить на воинскую службу. – Она прижалась ко мне. Она дрожала. Заяц вот-вот должен был стать добычей ястреба. – Когда вы закончите свои дела в Лондоне… – Конечно, я скоро снова буду летать. – Мои чувства обострились, я был готов перейти в атаку. – Но, вероятно, в новой машине моего собственного изобретения. Повсюду вокруг нас в бледных утренних сумерках разносился вой корабельных сирен. Сине-белый патрульный самолет «ганза-бранденбург FB» пронесся прямо над нами, двигатели ровно гудели, когда машина кружила над гаванью. Я буквально чувствовал, как согревается в жилах кровь, – самолет опускался все ниже. Австрийские флаги на нем были закрашены, но новые российские надписи еще, очевидно, не высохли как следует. Длинные полосы краски виднелись на блестящих нижних частях крыльев. – Как красиво! – восторженно воскликнула баронесса, обращаясь ко мне, будто я был создателем самолета. – Словно огромная чайка. Вы когда-нибудь полетите со мной, если появится такая возможность? Я сжал ее руку. Я чувствовал, как учащается пульс. Она была и напугана, и очарована. – Конечно. Бросив якорь близ Новороссийска, мы дожидались следующего груза. Мистер Томпсон сказал, что, по его мнению, это будут артиллерийские боеприпасы для Батума. Видимо, обнаружились ошибки в маркировке груза. Тем вечером я, как обычно, прогуливался по палубе с Ледой Николаевной. Когда она собралась вернуться к себе в каюту, я поцеловал ее. Теперь она нисколько не возмутилась. – Я ждала, что вы это сделаете, – пробормотала она. Баронесса наконец решила начать любовную интрижку. Мы снова поцеловались. У нас перехватывало дыхание, наши ноги дрожали так, что я думал, мы упадем на палубу. А пойти нам было некуда. – Может быть, завтра, – прошептала она. Я с трудом разжал объятия. – Скажите няне, что у вас болит голова, пусть она уведет Китти из каюты до обеда, – сказал я. – Вдруг она заподозрит? Баронесса была удивлена: – А что она заподозрит? Я ее хозяйка. Я позабыл, как велика была тогда уверенность русских дворян в собственной власти. Я возвратился в свою каюту. Вероятно, миссис Корнелиус осталась в салоне, потому что ее койка пустовала. Я прикурил сигарету и расслабился. Я лежал, не раздеваясь,чувствуя себя завоевателем, и предвкушал грядущие удовольствия. Потом я разделся и почти немедленно заснул. Я помню, что ненадолго проснулся на рассвете, услышав шум, – миссис Корнелиус, спотыкаясь и бормоча проклятия, пыталась раздеться. Свалившись поперек койки, она прошипела: – Пидор, – потом увидела, что я открыл глаза, и пожала плечами. – ’рости, Иван. Не х’тела будить тьбя. Я что-то проворчал прежде, чем вернулся к своим грезам; эти грезы были вещественнее и приятнее, чем все сны, которые я видел в последние месяцы. На следующий день мы по-прежнему стояли на якоре, дожидаясь груза. Дул сильный северо-восточный ветер, и наш корабль качался, как привязной аэростат. Мне было неважно, где мы находились, поскольку в тот момент я лежал на страстной баронессе, которая гладила и царапала меня, нашептывая мне в ухо восхитительные невинные ругательства. Я обнаружил, что ей свойственна удивительная страстность юной девственницы. По правде сказать, я ожидал, что отыщу спокойную, расчетливую и относительно опытную, даже несколько осторожную любовницу. Но баронесса фон Рюкстуль не была ни спокойной, ни осторожной. Она оказалась не слишком опытной, но хотела поскорее изучить все уловки распутства, и это прекрасно компенсировало все неловкости; впрочем, ее неловкость сама по себе была привлекательна. Я не смог бы подыскать более восхитительную партнершу, за исключением разве что миссис Корнелиус. И вдобавок, напоминал я себе, когда мой жадный язык облизывал ее соски, а пальцы слегка поглаживали клитор, у баронессы превосходные связи – мы могли быть очень полезны друг другу. Моя депрессия окончательно исчезла с началом нашей связи. Когда я в первый раз кончил в нее, будущее внезапно предстало в новом восхитительном свете. Баронесса, со своей стороны, была изрядно удивлена моими навыками, хотя и не могла скрыть любопытства, где же я набрался подобных знаний. Zolst mir antshuldigen[186], как мы говорим в России. При звуке обеденного гонга мы поспешно оделись, скалясь, как счастливые псы. Я выскользнул из ее каюты. Все мое тело ликовало, в голове роилось множество великих замыслов, тысячи замечательных видений, сотни новых идей для наших любовных ласк. Тем вечером за столом я пребывал в самом лучшем настроении и поражал всех своим остроумием. Миссис Корнелиус наклонилась ко мне, подмигнула и прошептала: – И шо с т’бой та’ое, Иван? Выиграл на б’гах? Позднее мы с моей баронессой встретились на палубе, чтобы насладиться последним объятием, прежде чем разойтись по каютам. В глубокой темноте вдали от линии кораблей мы увидели вспышку огня и услышали отдаленный взрыв. – Поджигатели, – сказал я, – без сомнения. Красные саботажники. Так они представляют себе войну. – Какие ж они трусы! Я согласился: – Да, это верно, однако зачастую именно трусы выигрывают войны. Она сочла это замечание слишком глубоким или слишком тревожным. Договорившись встретиться в то же самое время в ее каюте на следующий день, мы разошлись в разные стороны. Я остановился возле мостика, закурил сигарету и посмотрел на далекие огоньки, которые гасли один за другим. Когда я устремил взгляд вверх, на палубе надо мной появилась какая-то фигура. Видно было плохо, и человек явно не хотел, чтобы его заметили. Он завернулся в платок или короткий плащ, негромко кашлянул и кивнул мне. Я присмотрелся повнимательнее. И вновь с моих губ сорвалось имя: – Бродманн? Если это был Бродманн, то он испугался меня сильнее, чем я его. Я рассмеялся: – Чего вы хотите добиться, играя в привидения? Человек натянул свой платок на плечи и скрылся с глаз. Я помчался по палубе, стараясь поскорее добраться до лестницы, по которой он должен был пройти, если собирался возвратиться в свою каюту. Но он двигался слишком быстро. Дверь оказалась заперта, и хотя на сей раз я барабанил в нее, света внутри разглядеть не удалось. Я не смог ничего расслышать, даже когда прижал ухо к вентиляционному отверстию, забитому старыми газетами. Я отправился на поиски мистера Томпсона, чтобы спросить, когда, по его мнению, мы прибудем в Константинополь.Глава вторая
На следующий день на борт подняли четыре гроба – четыре длинные деревянные коробки, вероятно, с боеприпасами. Мы покинули Новороссийск с новыми пассажирами: троицей пожилых русских женщин, глухим стариком, раненым британским капитаном и его санитаром-индийцем, итальянской медсестрой из Красного Креста. На нашем судне собралась одна из самых странных разношерстных компаний, какую только можно было вообразить. Мы плыли уже несколько дней. Теперь корабль направлялся в теплые края. Нашей последней остановкой в России должен был стать Батум. Настроение мое переменилось, и я уже с нетерпением ждал прибытия в Константинополь, путешествия по Европе и конечной остановки в Лондоне. Я хотел избавиться от Бродманна (или, скорее, от угрозы, которую он воплощал). Я хотел наслаждаться обществом баронессы, не думая о том, что мою идиллию могут прервать в любой момент. Я решил, что мне удастся добиться своего за несколько дней пребывания в Константинополе. Восхитительные формы баронессы смешивались в моих фантазиях с более сложными формами корабля. И «Рио-Круз», и баронесса поражали меня: трепещущие, сильные, колеблющиеся животные, с которыми нужно обращаться умело и деликатно. На второй день я приобщил баронессу к кокаину. Я дарил ей все новые и новые ощущения. Она жадно набрасывалась на все, что я мог предложить. – Этого уже давно не случалось. Мне так не хватало… Она была огромной великолепной кошкой, которая пожелала подчиниться моей власти. Чем послушнее она становилась в удовлетворении похоти, тем сильнее была моя привязанность к ней, и все же она никогда не утрачивала индивидуальности. Она оставалась баронессой фон Рюкстуль, почти равной миссис Корнелиус. Она называла меня своим «таинственным смуглым незнакомцем». Она тоже слышала сплетни. Она говорила, что я могу быть евреем и шарлатаном – ее это нисколько не волнует; она верила в меня, в мое величие, в мою судьбу. По словам баронессы, она считала, что раса вообще не имеет значения. Ich verspreche Ihnen![187] Она была женщиной исключительно великодушной, хотя в чем-то и ограниченной. Конечно, у меня возникали некоторые опасения. Они были связаны с тем огромным запасом страсти и чувственности, который я в ней обнаружил, – я боялся, что баронесса стремится к крайним проявлениям чувств, что она может в любой момент выйти из-под контроля. К примеру, вскоре ее первоначальное желание короткой любовной интрижки превратилось в нечто совершенно иное – она захотела более долгой, а возможно, и более формальной связи. Вскоре она, затаив дыхание, намекнула, что было бы замечательно, если бы мы могли оставаться вместе на всю ночь. Я уже планировал проводить с ней больше времени, но не мог скрыть опасений, что баронесса сочтет простое увлечение проявлением исключительной преданности. Я уже однозначно дал ей понять, что моя карьера важнее всего остального. Я посмотрел в ее большие сине-зеленые глаза и произнес как можно нежнее: – Это невозможно. Она печально ответила: – Я так и думала. И все же было очевидно, что она уже планировала другой вариант. Поскольку наше путешествие подходило к концу, она надеялась получить от меня какие-то обещания. Мне нравилось, как она наклоняла набок свою большую голову, медленно опуская ее все ниже, к плечу. Она казалась большой школьницей. Я обнял ее и погладил по щеке. – Должно быть, уже пошли слухи, – сказал я. – И это плохо, потому что миссис Корнелиус до сих пор официально моя жена. И ты можешь пострадать гораздо больше, чем я. – Мне не надо обращать внимания на чертовы сплетни, не так ли? Верно, я не хотел, чтобы пассажиры лишились мелких крох скандала. Это отвлекало их от собственных проблем, а уже через две недели я буду далеко от нынешних спутников. Но мне следовало изобразить беспокойство. – Я и впрямь волнуюсь, – сказал я баронессе. – Сейчас такие времена, когда мелкие проступки могут стоить человеку жизни. Мне не следовало забывать о чувстве меры. Кроме того, я до сих пор думал о Бродманне. Он мог поставить меня перед расстрельной командой, если определенные люди ему поверят. Также важно было успокоить баронессу. Если бы она разозлилась, то смогла бы устроить мне немало проблем с властями союзников. Гораздо лучше, если все закончится постепенно, без гнева и слез, оставив сладостно-горькие воспоминания. Вскоре наши пути разойдутся. Все путешествие запомнится как мимолетная пауза, приятный корабельный роман. Когда мы сойдем на берег, безумная страсть баронессы наверняка ослабеет. Тем не менее я впервые наслаждался обществом женщины, которая была лишена удовольствий на протяжении многих лет и вдобавок привыкла подчиняться. Я был очарован ею. Даже когда баронесса пыталась поговорить о чем-то другом, в конечном счете все равно возвращалась к любимым темам. Она гладила меня по голове, как будто я был ее ребенком или любимым псом. – Симка, в Константинополе я собираюсь встретиться кое с кем. Ты мог бы поработать с ними с немалой выгодой. Так выяснилось, что она уже распланировала наше будущее! Баронесса, казалось, позабыла о моей миссии, о моих отношениях с миссис Корнелиус, о моих устремлениях. Когда я бормотал что-то обо всем этом, она просто отмахивалась: – Ведь нет ничего плохого в том, чтобы рассмотреть разные варианты. Правда? – Ты слишком много думаешь обо мне. – Я взял ее за руку. Я был нежен. И все же мы едва не повздорили. – Ты должна сначала подумать о собственных интересах. Я совсем неплохо заботился о себе несколько лет! – Я считаю твои интересы своими, – сказала она. Это было едва ли не самое откровенное из ее утверждений. Чтобы отвлечь баронессу от подобных мыслей, я плотно прижал руку к ее груди и укусил за мочку уха. Поскольку я не мог совладать с ее воображением, мне пришлось прибегнуть к мелкому обману, использовав «тайные приказы», – это оправдание в прошлом сослужило мне превосходную службу. Если бы мне захотелось, я мог бы под этим предлогом сбежать на следующий день после прибытия в Константинополь. Я мог бы даже наслаждаться обществом баронессы в течение недели после высадки, а потом удалиться с высоко поднятой головой, не опасаясь, что Леда станет мне мстить. В крайнем случае я также обратился бы за помощью к миссис Корнелиус. Хотя тогда я не мог ей довериться – она почти все вечера проводила с английскими моряками и редко ложилась спать до рассвета. Удовлетворившись разработанным планом отступления, я снова расслабился, хотя призрак Бродманна по-прежнему тревожил мой покой. Ночами я проводил немало времени в поисках Бродманна или человека, который так его напоминал, но безуспешно. Дважды я дожидался у запертой каюты, но был вознагражден лишь слабым стоном или негромким сухим кашлем, продолжавшимся несколько секунд. Я обычно вставал очень рано, часто до того, как миссис Корнелиус возвращалась со своих пирушек, и наслаждался одиночеством на палубе. Через пару дней после отплытия из Новороссийска погода начала улучшаться. Иногда между облаками, силуэты которых напоминали спящих белых медведей, даже виднелось синее небо. Через некоторое время стало казаться, что эти белые горы окружили наш корабль. Мы словно дрейфовали в одной из тех подводных пещер, которые, по словам ученых, скрываются в толщах ледников; эти пещеры ведут к неоткрытым тропическим континентам, где исследователь может обнаружить примитивные страны, населенные дикарями. Рев двигателей громким эхом отзывался в моих ушах, словно заполняя весь мир вокруг. Неужели Россия утонула в слезах смерти, и только мы одни избегли общей участи? Может, мы плывем над крышами безмолвных городов, населенных одними лишь мертвецами – мертвецами, волосы которых качаются, как морские водоросли, а обреченные глаза молят об освобождении? Мы не могли остановиться. Мы не могли им помочь. Мы искали свой Арарат. Я начал думать, что цивилизации действительно настал конец, и мы – единственные оставшиеся в живых. Может статься, мне самой судьбой суждено привести этих людей в новую эру. Лучшие из них, особенно англичане, уже считали меня пророком. Теперь я вновь обрел смысл жизни, постиг свое великое предназначение. Разумеется, я не предполагал всерьез, что миру настал конец, но метафора была точна. Я стоял на передней палубе «Рио-Круза», кутаясь в меха. Черные с серебром казацкие пистолеты, лежавшие в карманах, по-прежнему напоминали о моем наследии, и я с каждой минутой все сильнее верил в то, что меня ожидает блестящее будущее. Позади осталась любимая, но полностью опустошенная Россия, впереди была Европа. Она выучила уроки войны и теперь, конечно, восстанет из руин, наступит золотой век справедливости и процветания, мои технические способности будут немедленно признаны, и я сыграю одну из главных ролей в великом Ренессансе. Будущее в руках могущественных христианских держав: Великобритании, Франции, Италии и Америки, даже Германии. Будущее небоскребов и подводных туннелей, телевидения, передатчиков материи и, самое главное, летающих городов. Пусть Россия со всеми ее грехами сгинет в Средневековье, в котором мелкие царьки будут сражаться за власть над ничтожными территориями. Запад станет раем из хрома и стекла, империей, возносящейся к облакам, миром современных машин и замечательной электроники, истинным наследником Византии. Наступит греко-христианская Утопия! Две тысячи лет назад мы сбились с пути. Теперь нам снова даровали шанс отыскать путь и пойти по нему. Турки преклонили колени, евреи обратились в бегство. Карфаген снова побежден, и на сей раз он не получит передышки и не сможет вернуть утраченную силу. Я знал, что не одинок в своих мыслях. На всем протяжении христианской истории мужчины и женщины готовились к исполнению великой задачи. Bu ne demektir?[188] Люди смеются надо мной, когда я рассказываю им, что могло бы случиться. Они не понимают, как много нас было, как легко (если бы не махинации ничтожных и жадных негодяев) мы могли бы воплотить мечту в действительность. Всякий, кто знает меня, скажет вам, что я совсем не склонен к подозрительности, – паранойя чужда мне, – и все же только идиот станет отрицать власть Сиона. Именно их темные замыслы противостояли идеалам, которые отстаивал я и такие, как я. Мистер Томпсон был одним из таких сочувствующих. Я обратился к нему. Следовало держаться на разумном расстоянии от баронессы. Я доверился мистеру Томпсону и сказал, что мне трудно представить, как я смогу выжить за пределами России. И он снова заверил меня, что такие мужчины, как я, необходимы везде, особенно в Великобритании. По его словам, я был чудом, гением. Мои таланты не пропадут впустую. На протяжении долгих часов, сосредоточенно покуривая трубку, он спокойно обдумывал мои идеи, признавая, что многие из них выше его разумения. Однако мистер Томпсон был убежден, что меня ожидает будущее инженера. – Я завидую вам, мистер Пятницкий. Троцкий – идиот, раз изгнал из страны таких людей, как вы. Я удивлен, что вы не думаете об Америке. Будь я молод, отправился бы именно туда. В Америке ценят таких, как мы. Но Соединенные Штаты тогда не привлекали меня, хотя образы краснокожих, жителей приграничья и буйволов, позаимствованные из романов Карла Мая и Фенимора Купера, были достаточно романтичными. Я полагал, что в Америке нет настоящих городов и подлинной цивилизации. Для того чтобы создать истинный город, по моему мнению, требовалось время. Я покачал головой: – Я не хочу строить машины для ферм или локомотивы, не хочу изобретать методы массового производства дешевых часов. Пусть шахтеры добывают свое золото – я не стану отнимать у них ценности в обмен на какие-то дешевые игрушки! Мистер Томпсон пожал плечами: – Вам лучше бы позабыть о европейских склоках. Янки держатся особняком. Я знаю, каковы они. Британцы очень уж склонны заботиться о других. – Я – русский и славянин, мистер Томпсон. Я не могу бросить Европу в такой беде. Вдобавок я христианин. Моя верность не подлежит сомнению. Но для большевиков и евреев я не буду изгнанником. Все знают, что евреи уже управляют Нью-Йорком. Я не имею ничего общего с жадными буржуа, которые плывут на этом судне. Пусть едут в Америку, если хотят. Все они дезертиры. Когда начался этот серьезный разговор, мы прислонились к трубе, чтобы согреться, и устремили взгляды на черную, невыразительную морскую гладь. Разноцветные огни нашего корабля, красные, зеленые и белые, отражались в воде – мы как будто плыли в темных облаках сквозь бесконечное пространство. Мистер Томпсон вновь разжег свою трубку. – Вы, русские, просто безнадежно упрямые существа, должен признать. Я уже видел беженцев в Константинополе. Человеку с вашими талантами будут рады где угодно. Но что, по-вашему, случится с остальными? С женщинами и детьми? Им позволят вернуться, когда закончится война? Я не смог ответить. В те дни никто бы не поверил, какие будут твориться безобразия. Многие вернулись во время так называемой новой экономической политики. К 1930 году почти все они были мертвы. Не стану притворяться, что по прошествии лет я лелеял надежду на благодарность или по крайней мере признание у себя на родине. Я не дожил бы до нашего времени, если бы ухватился за соломинку, протянутую красными в середине двадцатых. Когда мистер Томпсон возвратился к своим обязанностям, мною вновь овладела меланхолия. Вопреки обычному распорядку я отправился на поиски миссис Корнелиус. Она, как обычно, наслаждалась обществом нескольких помощников капитана в обеденном салоне. Там был и Джек Брэгг, напевавший «Побей их на Олд-Кент-роуд» и «Очи черные». Мне показалось, что, завидев меня, он покраснел, тем самым подтверждая подозрения: офицер влюбился в мою спутницу. Он не мог догадаться, как я ему сочувствовал. Миссис Корнелиус облачилась в черное с желтым платье (она называла его своим «танго-платьем») и исполняла традиционный английский танец, известный как «Колени вверх». Я взял стакан рома и начал подпевать другим, подражая всем жестам и интонациям миссис Корнелиус. Вот так мой довольно примитивный английский, позаимствованный из «Пирсона» и различных романов, начал приобретать то изящное разговорное звучание, которое отличало прирожденных британцев и позволяло мне свободно проникать во все слои общества. Миссис Корнелиус подмигнула мне, как обычно, и попросила спеть одну из песен, разученных под ее руководством. Я охотно продемонстрировал свое мастерство, исполнив «Wot A Marf, Wot a Marf, Wot а Norf An’ Sarf»[189]. Я всегда любил эту песню. Потом раздались громкие аплодисменты. Русские, которые оставались в дальнем конце салона, у самой двери, были совершенно сбиты с толку. Миссис Корнелиус любезными жестами пригласила их присоединиться к нам, но они или мялись, или прямо отказывались. Я также посоветовал им расслабиться и тут, к своему превеликому ужасу, внезапно увидел Бродманна, укутанного в какой-то плед и спрятавшегося за толстой вдовой. Он поднялся с места. Я с трудом сдержался. Лишь благодаря железной воле я сумел промолчать. Я заставил себя улыбнуться и протянул руку существу, которое нерешительно приблизилось к нам. Улыбка превратилась, вероятно, в нелепую гримасу, выражавшую облегчение, ибо я понял, что этот человек все-таки не был моим врагом. В ответ он просиял, его красное, сальное лицо исказилось в улыбке, и он запел какую-то популярную частушку, знакомую мне с первых дней, проведенных в Одессе. Я обычно никогда не оказывал такого радушного приема евреям, но теперь было слишком поздно. – Я так рад, – сказал он, закончив первый куплет. – Я был болен, знаете ли. Боялся, что они выставят меня с корабля. Корь или что-то подобное… Но теперь я совершенно выздоровел. Я видел вас несколько раз, не так ли? Ночью, когда выходил подышать воздухом. Прежде чем я высвободился, миссис Корнелиус положила одну пухлую розовую руку на его плечи, а другую – на мои; вскоре она уже поднимала ноги в каком-то канкане. Мне не оставалось другого выбора, кроме как поддержать ее. К тому времени, когда миссис Корнелиус отдалилась, чтобы потанцевать с Джеком Брэггом, я остался наедине с пьяным, болезненным евреем, фамилия которого, по его словам, была Берников. В дорогом безвкусном костюме, с золотой цепочкой для часов и огромными бриллиантовыми кольцами он выглядел гротескно. Он сильно потел, вытирал платком голову и шею и много раз повторял, что отлично себя чувствует. Он начал рассказывать, как тяжело ему пришлось в Одессе, как его семья погибла во время погрома, как его мать замучили белые казаки, – и все прочие знакомые истории, которые распространяют его соплеменники. Немного позже он искоса посмотрел на меня и спросил, собираюсь ли я тоже отправиться в Берлин вместе с «очаровательной баронессой». Мне с трудом удалось сдержаться. И все же меня, безусловно, очень обрадовало, что призрак исчез. Наконец мне удалось возвратиться к столу, где сидела, переводя дух, миссис Корнелиус. Я втиснулся между ней и Брэггом, снова наполнил стакан и сосредоточился на словах «О, какая счастливая страна – Англия». Конечно, путешествовать в непосредственной близости от таких, как Берников, было уже нехорошо, но становилось гораздо хуже, когда они начинали вести себя панибратски и настаивали на том, что ничем не отличаются от меня по характеру и устремлениям. Несомненно, я покинул Одессу, став куда богаче, чем раньше, вдобавок получив воинское звание. Но эти жирные торговцы, умолявшие о сочувствии, не пережили настоящих потрясений, не испытали истинного ужаса. Их не заключали в тюрьму анархисты или большевики, они не ведали, каково это – расстаться с надеждой на выживание. Они не видели, как мужчины и женщины становились на колени в снегу около железнодорожных путей и ждали выстрела в голову. Им не приходилось слаживаться с трупами и воронами, с завшивевшими казаками, которые могли убить просто от скуки. Они слышали о нескольких арестах и случайных жертвах, они видели каких-то евреев, которых преследовали на улицах, но их негодование в основном вызывали пропавшие накладные, реквизированные здания, товары, купленные на бесполезные деньги. В ту ночь я чувствовал, что как будто вернулся в прежнее состояние; я оказался «в кошмарном сне», как говорят русские: это бесконечное призрачное состояние зачастую неявного ужаса мне было знакомо больше двух лет. Моя жизнь и рассудок подвергались угрозе, жестокое безумие революции и гражданской войны перевернуло все мое существование, разум и тело сотрясались от страха ночью и днем. Ужас становится явью… Во рту пересыхает. Слова не идут на язык. Все что угодно, лишь бы спастись! Когда опасность проходит, невозможно точно вспомнить, какие слова сорвались с твоих дрожащих губ. И это не имеет значения, потому что ты все еще жив. Но все-таки люди смотрят на тебя с презрением и называют лжецом! Конечно, они сами лгут. Я не дурак. Не стану это отрицать. Мое выживание зависит от самопознания. Но разве не такую ложь Герников поведал британцам просто для того, чтобы добиться сочувствия и получить паспорт в богатый Берлин? Со мной такие грязные фокусы не прошли бы. Я не горжусь тем, что сделал, но едва ли испытываю чувство вины. Ведь я выжил. И что с того, что евреи пытались снискать мое расположение? Что с того, что выскочки, вчерашние кулаки, пренебрежительно обходились со мной? Чего стоит такое осуждение? Кроме того, мной восторгались британцы. Меня любила женщина благородного происхождения. За мной наблюдала другая, которая была мне и матерью, и сестрой. От еврея каким-то образом избавились, и я раскачивался между миссис Корнелиус и лейтенантом Брэггом, напевая одну из печальных казацких песен, которые выучил в плену у красных. Джек Брэгг явно волновался. Он хотел остаться и дослушать песню, но его уже ждали на палубе. Я допел до середины, добрался до той части, когда вторая лошадь пала, отдав жизнь ради спасения героини, и тут миссис Корнелиус, захрипев, повалилась ко мне на колени и, устремив на меня огромные чистые глаза, медленно прошептала: – Думаю, тьбе лучше ’п ’ложить мня в кр’вать, Иван. Я помог ей вернуться в нашу каюту. На сей раз миссис Корнелиус сдерживалась, пока мы не разделись; затем, когда я наклонился, чтобы прикрыть ее одеялом, девушку вырвало прямо на мою единственную ночную рубашку. К тому времени, когда я отмыл одежду в корабельной ванной (в каюте не было ни водопровода, ни отопления), миссис Корнелиус заснула. Я стоял, опершись рукой о койку, и смотрел на свою спутницу, освещенную желтым светом аварийного фонаря, который раздобыл для нас Джек Брэгг. Весь корабль, казалось, пульсировал в унисон с моими чреслами. Когда ты привыкаешь к постоянному удовлетворению похоти, становится куда труднее контролировать возбуждение. Я очень хотел, чтобы она возжелала меня и распахнула мне свои объятия. Я наклонился, чтобы погладить ее волосы. Она с благодарностью что-то пробормотала и улыбнулась: – Эт ’рекрасно… – Я коснулся ее шеи. – О-о-о… – прошептала она. – Ты гадкий мальчик. – Она пошевельнулась. Я присел на край кровати. Я поцеловал ее ухо. Глаза миссис Корнелиус приоткрылись, и ее улыбка сменилась выражением потрясения и удивления. – Иван! Ты маленький мерзавец. Я го’орила тьбе, шо… – Было очевидно, что она забыла имя своего француза. – Франсуа… – Я начал подниматься. – Да. Поднявшись на верхнюю полку, я вновь погрузился в беспокойный сон, полный фантазий о Бродманне, который прикинулся Герниковым и вызвал мстительных казаков, чтобы замучить и убить меня. Стараясь избавиться от кошмара, я вспоминал крепкие бедра, алые нетерпеливые губы моей Леды, ее великолепную славянскую грудь, ее волосы, гладкую спину, изгибы ее ягодиц. Секс всегда помогал мне избавиться от страха. Я все более и более склонялся к тому, чтобы рискнуть и провести пару ночей в обществе баронессы. Последствия, в конце концов, окажутся незначительными, даже если она действительно выступит против меня. Неужели я не заслуживаю большего? Я был повинен в ужасной жадности – я возжелал обладать сразу и миссис Корнелиус, и Ледой Николаевной. Как мог я позабыть об уговоре, заключенном со своим единственным в целом мире другом, с человеком, который не раз спасал мою жизнь, с моим ангелом-хранителем? Иногда, даже теперь, когда мы с миссис Корнелиус уже познали чувственную любовь, я со стыдом вспоминаю о том случае. Я не чудовище. Но я полагаю, во всех людях таится нечто, заставляющее их иногда вести себя подобно чудовищам. Оглядываясь назад, я проклинаю Берникова. Когда окружающие циничны, когда они полагают, что твои побуждения так же циничны, как их собственные, иногда ты начинаешь вести себя так же, как они. Мы все – общественные существа, подсознательно управляемые желаниями и ожиданиями наших собратьев. Я не отличаюсь от прочих. Я никогда не утверждал, что не таков, как они. Теперь я понимаю свое поведение немного лучше. Бесспорно, я все еще пребывал во власти кошмара. Потребовалось куда больше пары недель в море, чтобы уничтожить воздействие долгих лет ужаса. Ужас действительно становится старым другом. Человек начинает тосковать по нему. Внезапное исчезновение угрозы может стать почти таким же потрясением, как утрата безопасности. Именно по этой причине после окончания крупных войн часто начинаются небольшие. От любой привычки, какой бы опасной она ни была, трудно отказаться, особенно когда в ее существовании не признаются. Возможно, еще что-то меняется в химии тела, когда происходит такой выброс адреналина. Всем нам случалось видеть собачонку, спасенную от клыков более крупного животного, – зачастую она разворачивается и впивается зубами в запястье своего спасителя. Моя любовь к миссис Корнелиус была скорее духовной, чем физической, хотя, конечно, эта девушка отличалась исключительной чувственностью. Я знаю, что тоже был для нее чем-то особенным. Она тогда не хотела рисковать нашими отношениями и вносить в них обычную похоть. Она сказала мне об этом много-много лет спустя. Теперь, конечно, я все отлично понимаю. Но на «Рио-Крузе», однако, я часто испытывал замешательство. На следующее утро я, как обычно, встал и вышел на палубу. Воздух стал гораздо теплее, и легкие брызги воды освежили меня. Несколько матросов работали, полируя металл и отмывая палубы так, будто готовились к торжественному мероприятию. Солнце светило сквозь тонкие, стремительно мчащиеся по небу облака. Мне казалось, что я чувствовал запах, доносившийся с азиатского побережья, хотя знал, что пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим Батум. Раненый английский офицер кивнул мне – он, хромая, проходил мимо, опираясь на трость, его лицо побледнело от боли, а индиец-денщик сопровождал хозяина, держась в паре шагов от него и демонстрируя плохо скрытое беспокойство. Женщина с картами, моя личная мойра[190], по-прежнему раскладывала колоду, концы ее черного платка взлетали и опускались на плечи, словно крылья ленивой чайки. Там же оказался и еврей Герников. На его лице появилась слабая усмешка, как будто встреча прошлой ночью сделала нас добрыми друзьями. В его поведении было что-то, все еще напоминавшее мне жалкого Бродманна. Я не хотел проблем. Я кивнул ему издали и попытался скрыться. Но он последовал за мной. Он был нетерпелив. – Надеюсь, что вас не обидели мои вчерашние слова. Я не очень хорошо помню, что говорил. Наверное, я все-таки еще не до конца выздоровел. Вообще-то, обычно я пью совсем мало. – Это неважно. Чтобы избавиться от него, я начал подниматься по металлической лестнице на бак. Герников закудахтал, как больной цыпленок, и зашевелил ногами, будто разгребал гравий. Очевидно, он расстроился, потому что ему не удалось последовать за мной. – Полагаю, что мог выйти за рамки внешних приличий. Все это так болезненно, знаете ли. Когда он вытягивал шею, его голос становился еще более хриплым и даже отчаянным. – Это для всех болезненно. Я дошел до бака и посмотрел на него сверху вниз. Больше деваться было некуда. У меня за спиной простиралось море, и белая пена билась о борт корабля. – О, конечно. – Снова искаженная гримаса вместо улыбки. – Полагаю, они никогда не покончат с нами. Меня оскорбило то, что он именовал себя русским. Отворачиваясь, я услышат, как он произнес: – Der Krieg ist endlos. Das Beste, was wir erhoffen können, sind gelegenliche Augenblicke der Ruhe in mitten des Kampfes[191]. Я отлично понял его, но предпочел ответить очень холодно и по-русски: – Я не говорю на идише. Он запротестоват: – Это же немецкий. Я решил, что вы знаете языки. Он близоруко моргал, пытаясь разглядеть выражение моего лица. Я разозлился: – Это что, проверка, мистер Герников? Вы думаете, что я не тот, за кого себя выдаю? Подозреваете, что я – провокатор? Бош? Красный? Он изобразил оскорбленную невинность: – Разумеется, нет! – Тогда, пожалуйста, не преследуйте меня на этом судне и не разговаривайте со мной на иностранных языках. Когда он отворачивался, его губы дрожали. Если бы я не подозревал его истинных намерений, то мог бы почувствовать жалость к нему. Но он не хотел мне добра. Вдобавок, если бы меня заподозрили в дружбе с человеком подобных убеждений, это вряд ли бы мне помогло. Мне позже пришло в голову, что из-за темных волос и карих глаз он посчитал меня единоверцем, подобные ошибки уже случались. Даже сам цесаревич… Неужели царь и его родные были евреями? Друзья всегда говорили мне, что я не должен принимать близко к сердцу подобные недоразумения. Но стать жертвой именно такой ошибки жестоко и подчас опасно. В иных случаях это едва не стоило мне жизни. Я смог спастись только с помощью острого ума, превосходных рекомендаций и везения. После завтрака я, как обычно, присоединился к Леде. Она сидела неподалеку от обеденного салона в тени спасательной шлюпки, которая мягко раскачивалась на шлюпбалках. Солнце начинало светить в полную силу, и баронесса обратила к нему лицо, как будто пара бледных лучей могла покрыть ее кожу загаром. Она улыбнулась мне. Она отбросила тяжелые волосы назад, чтобы солнечные лучи могли коснуться всех открытых участков кожи. – Доброе утро, Максим Артурович. Мы всегда в таких случаях вели себя очень формально. Я снял шляпу и спросил, могу ли принести шезлонг и сесть рядом с ней. Думаю, она заметила, насколько я встревожен. – Вы плохо спали? – Ее рука чуть заметно придвинулась к моей. Баронесса села прямо. – Только потому, что тебя не было, – прошептал я. Подбежала Китти. На ней было пальто бордового цвета с такой же шляпкой и перчатками. – Вы поиграете со мной сегодня, Максим Артурович? Я уже думаю, что вы больше не любите меня! Меня очень часто, как и в тот раз, поражало, насколько девочка похожа на мать. На мгновение вожделение буквально переполнило меня. Леда рассмеялась: – Ты дурная девочка, Китти. Кокетка! Что с тобой такое? И все-таки мне пришлось стать ее осликом. Я проскакал два или три раза по палубе, чувствуя, как теплые маленькие бедра прижимаются к моей талии, потом изобразил утомление. Возвратившись к своему шезлонгу, я обнаружил Берникова, который прислонился к переборке. Он болтал с баронессой, как всегда исключительно вежливой, она притворялась, что счастлива уделить ему внимание. Я молча уселся и притворился, что углубился в изготовление бумажного самолетика для маленькой девочки. Я наслаждался восхитительным ощущением, когда ее прекрасное нежное тело прижималось ко мне. Я испытывал такой восторг, что едва заметил уход Герникова. – Этот бедный человек… – сказала Леда. – Полагаю, вы слышали его историю. – Я слышал тысячи таких историй. Этот бедный человек в лучшем случае оппортунист. Я пытаюсь отделаться от него с прошлой ночи. – Он одинок. Ее охватил приступ филосемитизма, столь распространенного у романтичных немецких женщин того поколения. Я не захотел расстраивать баронессу и промолчал. Вполне возможно, подумал я, что в жилах предков ее мужа текла и левантинская кровь. – Он утомителен. Я закончил самолетик и вручил его Китти. Девочка тотчас отпустила его на волю ветра. Самолетик исчез с другой стороны мостика, и Китти бросилась в погоню за ним. Леда рассмеялась: – Сегодня ты, верно, не в духе. Я обидела тебя? Я едва не обезумел от смеси похоти и гнева. – Нисколько! – с энтузиазмом заверил я баронессу и вдохнул соленый воздух. – Если тебе кажется, что я в дурном настроении, то лишь потому, что слишком долго был вдали от тебя. Баронесса зарделась, она была одновременно и удивлена, и польщена. Она затаила дыхание. – Мне бы хотелось, чтобы ты попытался быть вежливым с господином Герниковым. Все на этом корабле пренебрежительно обходятся с ним. Он был очень болен. И он потерял всю свою семью… Я сдержался. – Он знал моего покойного мужа. Они иногда вместе вели дела. Он был тогда очень влиятелен. Финансист. У него до сих пор еще есть немалые интересы за границей. Возможно, он окажется полезным, когда твоя миссия закончится, и поддержит некоторые из твоих изобретений. – Она накрыла колени пледом и придержала его рукой. Я просто не мог поверить, что она не понимала, что еврейские деньги все портят. Лучшие из человеческих побуждений были испорчены еврейскими деньгами и всегда служили в угоду Сиону. Как она могла стать свидетельницей погружения России в пучину хаоса и варварства и до сих пор не понять основной причины случившегося? Как и многие женщины, она слишком уж полагалась на личные чувства к отдельным людям. Вероятно, Герников, который очаровал ее, сам по себе не был злодеем. Но он представлял силы, угрожавшие нашей христианской цивилизации. Я не видел смысла в том, чтобы просто нападать на такого человека. Я никогда не одобрял концентрационные лагеря и погромы, и все же для подобных действий существовали серьезные основания. И были причины с подозрением относиться к любому улыбчивому еврею, который протягивал ближнему мешок с серебром. Где он взял свое серебро? Спросите Иуду. Может, с его губ неожиданно сорвался бы правдивый ответ? Неужели он мог бы все рассказать, если бы нашел человека, который сделал то же самое, что и он? – У меня нет ни малейшего желания быть грубым, – сказал я Леде. – Все, что я хотел объяснить, – у меня с ним мало общего, и я не намерен становиться его ближайшим другом! – Ты такой же сноб, как и остальные, – сказала она. – Это невероятно. Поначалу я не хотел отвечать. Потом мне пришло в голову, что следует рассказать ей, как меня предал еврей и как я едва не лишился жизни. Я уже собирался заговорить, и тут баронесса улыбнулась мне. – Что ж, – сказала она, подводя итог, – он приличный, доброжелательный человек. Как чудесен яркий свет после всей этой ужасной серости. – Она коснулась моей руки, небрежно разглядывая проходивших мимо двух маленьких смешных старух. Ее лицо приблизилось к моему. – Думаю, что сексуальная неудовлетворенность делает тебя раздражительным. Я старался казаться веселым. Я улыбнулся. Солнце на миг коснулось волн и обратило воду в серебро. – Трудно разгадать эту забавную шараду. – А твоя миссис Корнелиус? Она возмущена? – Теплота ее тона не сочеталась с вопросом. – Она ничего не знает. – Я в этом сомневаюсь. Однако юный мистер Брэгг занимает почти все ее внимание. Я возразил, слегка обидевшись на это замечание: – Она уже не считает его общество приятным. Я рассказал ей о сделке, которую мы заключили с миссис Корнелиус, о том, как моя спутница намеревалась встретиться со своим французом, едва только мы достигнем Константинополя. Я заподозрил баронессу в ревности. Она каким-то образом – все женщины способны на такое – разгадала мои чувства к миссис Корнелиус и теперь пыталась выведать все у меня. Я оставался настороже, даже когда она загадочно произнесла: – Выходит, у тебя есть чудесное свойство: ты не замечаешь определенных вещей, мой дорогой. Ты все-таки не совсем невинен. Я преклоняюсь перед могуществом твоего воображения. Это меня озадачило: – Никак не могу обнаружить связь между своим воображением, которое многие хвалили, и невинностью, которую с тех пор, как мне исполнилось шестнадцать, замечали очень немногие. Я не мог понять, почему баронесса едва не рассмеялась, хотя то, что она больше не возвращалась к разговору о миссис Корнелиус, меня успокоило. – О, я знаю, что ты повидал в жизни намного больше меня. – Она сделала жест, выражавший преувеличенное уважение. – И ты почти во всех отношениях образованнее меня. Пожалуй, единственный твой недостаток, который я могу обнаружить, в том, что ты – мужчина. Я предпочитал не отвечать на ее таинственные намеки. Всякий раз, когда женщина начинает с волнением говорить о тайном женском знании, лучше не обращать внимания на ее слова. Она бормочет заклинания, которые имеют значение только для нее самой (если в них вообще есть смысл). То, что женщина не может облечь в слова, она глубокомысленно именует «известным только женщинам». Таким образом в споре она сбивает с толку своего оппонента-мужчину, получая преимущество, а он задается вопросом, что же это такое – то, чего не может постичь его бедный, нечувствительный мужской мозг. Меня подобные уловки зачастую озадачивали. Я справлялся с ними, используя лишь свои выдающиеся интеллектуальные способности. Иначе почему очень многие женщины любили меня и восторгались мной? Они быстро начинают уважать мужчин, которые избегают их маленьких ловушек. Жизнь – непрерывное состязание (возможно, именно это имел в виду Герников). Нам следует всегда помнить об осторожности, особенно в тех случаях, когда мы сталкиваемся с людьми, утверждающими, что они принимают наши интересы близко к сердцу. Никто не уважает женскую интуицию больше меня, но иногда женщины уделяют слишком много внимания самым простым случайностям. Так произошло с моей баронессой. Страстно увлекшись мной, она предположила, что все женщины вокруг пытаются затащить меня в постель. Меня удивляло ее любопытство, но я тревожился, что оно может превратиться в ту сводящую с ума женскую ревность, которая как минимум неудобна и часто очень опасна. Днем мы занимались любовью, как обычно, все вокруг пропиталось выделениями наших тел, пока мы не стали пахнуть, по выражению баронессы, «как кошки в жару». К тому времени я уже почти пообещал ей уделить по крайней мере несколько дней в Константинополе, и она томилась в ожидании: – Если б только это могло случиться поскорее. Мои руки исследовали ее тело: я ласкал ее груди, бедра и ягодицы и в третий раз наслаждался невероятно теплой киской. Она напоминала греческую богиню и так восхитительно отличалась от молодых девушек, которых я обычно предпочитал. Я чувствовал, что мог погрузиться в нее навсегда и позабыть обо всех превратностях бытия. Женщина, подобная моей баронессе, сулила одновременно и спасение, и познание. Когда прозвучал обеденный гонг, я все еще упивался ее прелестями. Мы с превеликой неохотой расстались, вымылись как могли и вышли на палубу, где нас ожидали невыразительные взгляды Маруси Верановны и беспокойные метания юной Китти, всегда готовой к приключениям. Леда не особенно интересовалась реакцией окружающих, но меня все же начинало возмущать молчаливое осуждение прислуги. Вдобавок раздражало, что приходилось прерывать любовные ласки ровно в шесть. Казалось, до Константинополя еще год пути. Во время обеда миссис Корнелиус произнесла, обращаясь ко мне: – Выгл’ишь усталым, Иван. Я за тьбя б’спокоила вчерась? Звиняй, б’ла плоха. Я небрежно взмахнул рукой. Она, казалось, позабыла о случившемся, и я был ей за это признателен. Набросившись на свою порцию мясного пудинга, она улыбнулась сидевшим рядом офицерам, как будто ее извинения относились и к ним тоже. Капитан Монье-Уилльямс присоединился к нам. Он гордо осмотрел порцию пудинга, прежде чем перейти к еде. Он часто отмечал, как хорошо кормят на его корабле. – Добрая порция пудинга поддержит ваши силы. – Он сообщил, что получится добраться до Батума, не подвергаясь опасности. – Вероятно, мы бросим якорь в самой гавани, слава богу. До сих пор у них все шло очень хорошо. – Он чуть заметно вздохнул. – А после Батума мы уже двинемся прямо к цели. Полагаю, вы оба будете рады добраться до Константинополя. – Эт’ точно, – сказала миссис Корнелиус. – Х’отя, на мой вкус, поездка б’ла недурная. Капитан взял нож и вилку и внимательно изучил своюпорцию пудинга. – Осталось всего несколько дней. А потом – дом и Англия! Он закончил беседу, положил в рот большой кусок серого мяса и начал его медленно пережевывать. Капитан очень стремился в Дорсет, где он совсем недавно, выйдя в отставку, купил небольшой домик, но потом ушел на войну и стал командиром транспортного корабля. Все его родственники мужского пола служили в Королевском или в торговом флоте, и он часто вспоминал сыновей и племянников, которые ходили на тех или иных судах. По словам капитана, ему повезло больше, чем другим, и он потерял только двоих. Он вспоминал всех членов семьи, которые погибли между 1914 и 1918 годами. Когда капитан поел, я сказал ему: – Я согласен с миссис Корнелиус. Принимая во внимание все обстоятельства, это было замечательное путешествие. Русские всегда будут благодарны вам. На борту есть люди, которые считают вас почти святым. Мои слова тотчас возымели действие. Капитан проглотил кусок пудинга и улыбнулся: – Я исполняю свой долг, мистер Пьятницки. Им следует восхищаться британскими налогоплательщиками. – Что касается меня, этот долг скоро будет уплачен, сэр. Подозреваю, когда красные обрушат мою страну в пучину хаоса, вновь будет призвано разумное правительство. Только тогда я смогу вернуться домой. К тому времени я передам вашим людям парочку идей, которые, уверен, они сочтут полезными. Есть немалая вероятность, что в будущем я стану членом российского правительства. В этом случае у Англии в моем лице появится верный друг. Капитан в ответ покачал головой: – Если это произойдет, то я буду первым, кто поздравит вас. Но мой опыт, старина, свидетельствует о другом: как только в стране начинаются кровавые восстания и перевороты, возвращение назад уже невозможно. Взгляните, как рассыпается Китай. Путь уже намечен. – Россия – не Китай, капитан. И на Индокитай, которым управляет десяток сомнительных раджей, она тоже не похожа. – Я был вежлив, но непреклонен. – Россия – великая империя. Порядок в конце концов должен восторжествовать. Русские люди уже ждут нового царя. – О, я уверен, что они его дождутся, – сказал капитан. – В каком-то смысле. – И он заговорил о превосходном пудинге. Тогда меня опечалил его чрезмерный цинизм, но ему уже исполнилось шестьдесят, а мне – только двадцать. Конечно, его прогноз оказался абсолютно точным. Но тогда я не позволил себе поверить в это – и сохранил рассудок. Тем временем миссис Корнелиус не проявляла интереса к нашей беседе. Она осторожно отмалчивалась, в то время как капитан Монье-Уилльямс обсуждал Троцкого и Ленина так, будто был с ними знаком лично. Она, разумеется, превосходно знала Троцкого и неплохо – Ленина. В ее глазах сверкали искорки, когда капитан или кто-то из офицеров начинал авторитетно рассуждать о мотивах Троцкого. Джек Брэгг, в какой-то мере сочувствовавший красным, восхищался всеми русскими людьми. Он даже проявлял уважение к Керенскому. С этим я смириться не мог. – Ленин теперь может считаться главным злодеем, – сказал я, – но безответственный и восторженный либерализм Керенского и есть настоящая причина кризиса. Если бы Керенский был сильнее, он заставил бы Россию продолжать войну, и мы бы неизбежно победили. Константинополь непременно стал бы русским городом, как и предполагалось в наших договорах с союзниками. Вместо того чтобы почти ежедневно отдавать земли бывшим рабам, мы бы пожинали плоды победы. Керенский продал нас Ленину, а Ленин – немцам и евреям. Скоро Россия исчезнет как Отечество, она уподобится Оттоманской империи. Она просто вновь станет Московским царством. Причем сильно уменьшившимся. В итоге все западные границы будут уничтожены. Как же вы не видите? Мы сдерживали варваров на протяжении тысячи лет. Теперь татары возродят свою древнюю имперрию. Они объединятся с Турцией и создадут сильнейшую в истории мусульманскую державу! Союзники должны бороться, должны уничтожить Ленина. России нужно оказать помощь, иначе погибнет сама цивилизация. Христианство исчезнет. Свои последние слова я адресовал капитану Монье-Уилльямсу, который покачал головой: – Я так не думаю, дружище. Полагаю, вам остается надеяться, что появится более умеренный лидер, но бог знает, что в данном случае может означать слово «умеренный». Я чуть не заплакал. По-детски открытое лицо капитана покрылось румянцем, ему явно стало неловко. Джек Брэгг понимающе сжал мою руку: – Вы вернетесь раньше, чем думаете, мистер Пьятницки. Союзники просто обязаны послать больше войск. Тогда все это безобразие закончится. Я взглядом поблагодарил его. Когда Джек отворачивался, я заметил, что в его честных голубых глазах блестели слезы. Он выглядел таким молодым, а был, вероятно, на два или три года старше меня. Он искренне сочувствовал, поскольку изведал ужасы войны на море и лучше всех прочих мог представить, какие испытания я перенес. К тому времени я уже слегка выпил и заговорил обо всем, чего лишился: о прекрасном Киеве, широкой степи, смешении культур в старой Одессе, величавой красоте Петербурга, дружбе моих сокурсников, обаянии Коли и его богемных друзей. Иногда я едва ли не с ностальгией вспоминал месяцы, проведенные с анархистами Махно! Я говорил о казаке Ермилове, который на свой лад попытался мне помочь и в результате погиб. Но воскрешение этих воспоминаний оказалось ошибкой, ведь потом я заговорил об Эсме. В конце концов я овладел собой и удалился из салона, как только завершился обед. Проходя мимо маленького столика у двери, где сидели четверо пассажиров, я с отвращением заметил, что Герников каким-то образом сумел занять место напротив моей баронессы и даже ухватил за руку Китти! Совершенно растерявшись, я вышел на палубу, где долго стоял под дождем на холодном ветру. Леда почти тотчас же присоединилась ко мне. Я ничего не сказал о Герникове, поскольку знал, что она мне ответит. – Что-то не так? – спросила она и повела меня в темноту, подальше от корабельных фонарей. Мы наконец остановились в тени юта. Я слышал, как в воде рокочет винт. Я слышал, как ходят поршни в машине. Я изучил корабельный механизм почти так же хорошо, как мистер Томпсон. Я очнулся и нежно поцеловал баронессу в щеку. – Эти англичане хотят добра, – сказал я, – но иногда они воскрешают воспоминания, которые лучше всего стереть. Она поняла. Она погладила меня по лицу мягкой, нежной рукой. – Именно поэтому мы учимся никогда не задавать вопросов, – произнесла она. – И ждем, пока нам не расскажут. Я смотрел на нее немного настороженно, думая о том, нет ли в ее словах какого-то скрытого смысла. Но Леда, казалось, говорила искренне. Она не обладала такими способностями, как миссис Корнелиус, и не помогала мне расслабиться, но все же теперь успокаивала меня. Я вздохнул и по такому случаю вытащил одну из своих последних сигарет. Воспользовавшись медной «вечной спичкой» – кто-то отдал мне ее, расплачиваясь за паспорт, – я осторожно раскурил сигарету. Леда прижалась ко мне, прежде всего для того, чтобы укрыться от холодного ветра, который теперь дул с северо-востока. – Как трудно представить будущее, – сказала она. – Ты говоришь о своей личной жизни? Она улыбнулась: – У тебя, конечно, есть прекрасное представление о будущем, даже если твоя мечта никогда не осуществится. Это должно придать твоей жизни импульс – мне такого не хватает. Все, что у меня есть, – это Китти. Она – единственная причина для возвращения в Берлин, где я могу найти какое-то убежище и приличную школу. И все-таки я завишу от доброты дальних родственников. Моя судьба в их руках. – Со мной когда-то было то же самое. – Я глубоко вдохнул сигаретный дым. Табак был слишком сухим, и я боялся, что он может высыпаться из бумажной трубочки. – Так ужасно – снова стать ребенком. И все опять же ради ребенка. А для тебя там найдется какая-нибудь работа? Леда протянула руку к моей сигарете. Она сделала несколько затяжек, потом вернула сигарету. – Я училась быть женой выдающегося промышленника. Ничего другого. Таких, как я, мой дорогой, сейчас слишком много. В мире нас тысячи, а выдающихся промышленников – горстка! Некоторые из нас пытаются заняться воровством, обирая других, тех, кто отыскал своих промышленников, другие блуждают в каком-то тумане. Я даже слышала, что кто-то завязал тесные отношения с абсолютно неподходящими молодыми людьми. Конечно, она шутила, но я снова забеспокоился. Неужели она предполагала, что я смогу жениться на ней и стать для нее подходящим мужем? – Ты умна и привлекательна, – сказал я. – У тебя есть небольшой капитал в Германии, верно? Ты должна подумать о том, чтобы войти в какое-то дело. Стань сама выдающейся промышленницей! Поезжай в Париж. Все лучшие русские сейчас в Париже. Открой модный магазин. Или агентство секретарей. – Здесь мое воображение иссякло. – Я бы лучше, – улыбнулась Леда, – стала международной авантюристкой и соблазняла бы королей и императоров. – Но сейчас век республик и демократий. Гораздо труднее соблазнить и погубить комитет. Она рассмеялась над этим: – Максим Артурович, сегодня вечером вы недостаточно романтичны. Это я должна быть реалисткой, а ты – мечтателем. Неужели ты лишишь меня последнего развлечения? Я выбросил из головы прежние подозрения. – Ну хорошо, я продолжу мечтать для тебя. И ты можешь и дальше сомневаться. Но уверяю тебя: будущее, которое я наметил, почти реально. Дело ученого – знать, как все устроено, знать все движущие принципы… Мы расстались у дверей ее каюты. – До завтра, – сказала она, а затем: – Я надеюсь, мы сможем остаться вместе в Константинополе, по крайней мере на некоторое время. – Надеюсь, что так. Она поспешно добавила: – В Батуме безопасно. Почему мы не можем сойти на берег там? Я согласился обдумать эту идею, которая мне совершенно не нравилась. Я, конечно, был бы рад прервать путешествие, но по-прежнему опасался нашего дальнейшего сближения, особенно на такой ранней стадии. Я вернулся в свою каюту. Как обычно, когда миссис Корнелиус не было, я удовлетворил свои желания, приняв большую порцию кокаина. В конце концов, судя по всему, Константинополь стал столицей наркотического мира, и мне уж точно не угрожала опасность остаться без этого средства моральной поддержки. Я никогда в жизни не испытывал зависимости. Я курю, пью и принимаю кокаин по собственной воле, эти занятия доставляют мне удовольствие. Слабое ощущение, возникающее при отсутствии сигарет или «снежка», едва заметно, когда я работаю. В любом случае я бы не стал покупать то, что сегодняшние волосатые детишки называют «кокаином». Это всего лишь смесь каких-то хозяйственных средств с толикой хинина или прокаина, от которого лишь немеют губы, и добавкой амфетамина для имитации эффекта эйфории. С тем же успехом можно смешать имбирное пиво с жидкостью для мытья посуды и назвать это шампанским! Они считают себя такими современными и отважными с этими своими «наркотиками». Они размягчают себе мозги марихуаной и снотворными до тех пор, пока не смогут уже отличить один препарат от другого. Я презираю этих ребят в кожаных куртках. Они выглядят в точности так же, как варвары, которые расхаживали по Зимнему дворцу в 1917‑м, думая, что уже все знают, а на самом деле у них было лишь необычайное высокомерие, порожденное столь же необычайной глупостью. Я вижу их каждый день, на другой стороне улицы, в пабе Финча. Они шепчутся и передают друг другу бумажные пакетики, в конце концов приезжают полицейские, усталые и злые, чтобы совершить какой-то ритуальный обыск и захватить парочку бездельников. Они заискивают перед неграми. Полиция просто возвращает этим мужланам веру в «бандитскую гордость». Они не меняются. Неудивительно, что теперь на распространение кокаина смотрят неодобрительно. Во времена моей юности это было средство для аристократов, художников, ученых, врачей. Спросите кого угодно. Хоть Фрейда. Я никогда не скрывал своего отношения к его учению. Триумвират, который разрушил нашу цивилизацию, – это Маркс, Фрейд и Эйнштейн. Их будут помнить и через миллион лет – это величайшие враги человечества. Маркс уничтожил основы христианского общества. Фрейд уничтожил наш разум – мы стали сомневаться во всем. Эйнштейн уничтожил самую сущность Вселенной. А еще говорят, что Геббельс был мастером лжи! Он был новичком. Как, наверное, потешается триумвират, когда рушатся хрупкие стены и памятники, когда топчут иконы, когда злодеи стоят, уперев руки в бока, среди обломков былого величия мира, а реки крови омывают их ноги, и надежда и человечность гибнут, сгорая в огне, свет которого отбрасывает чудовищную тень на весь мир – тень Зверя, трехглавый символ смерти. Сам же Фрейд и уничтожил доброе имя кокаина. Но у них нет оснований меня арестовывать. Я не стану употреблять эту подделку, эту смесь талька и чистящих средств, которую они пытаются мне продать. Спокойно наслаждаясь одиночеством, я растянулся на своей койке, чтобы обдумать предложение Леды. Было бы приятно сойти на берег в Батуме. Судя по рассказам, это весьма красивый город, хотя в нем и полно мусульман. Мы, вероятно, без труда отыскали бы отель и провели бы вместе пару ночей. Это был бы и праздник, и неплохой способ облегчить наше неизбежное расставание. Но все же, если бы баронесса после этого сочла, что продолжение нашей связи возможно, могли возникнуть затруднения. Вопреки всему, похоть снова одержала верх, и я решил спросить капитана, как он отнесется к тому, что некоторые пассажиры сойдут на берег. Я тем не менее не стал обсуждать этот вопрос во время обеда, опасаясь задеть самолюбие миссис Корнелиус, Я решил отыскать старика на следующий день и побеседовать с ним наедине. Я уже уснул к тому времени, когда вернулась миссис Корнелиус. Проснувшись, я услышал шепот, доносившийся из-за двери, и понял, что Джек Брэгг пришел вместе с моей спутницей. Я услышал ее смешок. Потом началась какая-то возня. Было очевидно, что Брэгг тоже на время утратил контроль над собой. Чтобы избавить их обоих от затруднений, я воскликнул, как будто испугавшись: – Кто там? Шепот стих. Полагаю, миссис Корнелиус поцеловала Джека и пожелала ему доброй ночи. Закрыв за собой дверь, она спросила, не стану ли я возражать, если она зажжет лампу. Я сказал, что не против. Миссис Корнелиус прилично выпила, одежда ее была в беспорядке, но сама она находилась в обычном прекрасном расположении духа. Она взмахнула рукой: – Ты ’се один, Иван? Миссис Корнелиус села на край своей койки, чтобы снять обувь. В тот день она надела другое платье, розовое с серебром. Ей каким-то образом удалось в нескольких сумках притащить на борт содержимое целого платяного шкафа. Миссис Корнелиус всегда уделяла большое внимание своему гардеробу, по крайней мере, когда могла себе это позволить. Позднее нас обоих одолела бедность, и нам пришлось отказаться от многих привычек. – Уф-ф! – вздохнула миссис Корнелиус. – Каждый вечер на эт черт’вом к’рабле веселле! – Ваша энергия безгранична! – изумился я. – Мне так не суметь. – Я в п’следние дни тож шо-то стала уст’вать. Эт Леон – та’ой черт’в мерзац. Забыл, как веселиться… ’се они, черт ’обери, такие ж. Она относилась к лидерам большевиков свысока и говорила о них довольно грубо – для нее эти люди оставались бандой ханжей и лицемеров, подавленными интеллектуалами среднего класса. Если бы они смогли хоть немного расслабиться, то стали бы, вероятно, куда счастливее и доставили бы другим людям намного меньше неприятностей. Ни один из них, как она иногда говорила мне по секрету, не был хорошим любовником. – А нек’торые ’обще странные! – Она всегда сочувствовала душевнобольным. – Я, мож, кончу тем, шо останусь со странным парнем. Они г’разд интереснее, п’началу уж точно. С обычной легкостью она переоделась в ночную рубашку, выкурила сигарету, прочитала пару страниц в одной из своих «книг» – старых популярных журналов, которые кто-то отыскал для нее на корабле, – и погасила лампу. – Баю-бай, Иван. И вновь я слышал только ее храп, который в темноте можно было принять за стоны и страстные вздохи. И, как обычно, я находил утешение в мастурбации и фантазиях, вспоминая мою прекрасную славянку, лежавшую всего в сотне ярдов от меня. Тогда я и решил провести с ней в Батуме как можно больше времени. Я рано проснулся и подумал, что лучше всего обдумать свои планы на свежем воздухе. По утрам в нашей каюте всегда было чрезвычайно душно. У нас оставался выбор: убрать тряпки и газеты из дверных щелей и замерзнуть или просто остаться без свежего воздуха. Когда я оделся, миссис Корнелиус пошевелилась. Она сонно пробормотала: «Смори, не заходи слишк далеко, Иван. Ты хитрый маленький ’аршивец, но ты нишо не чушь». Потом ее глаза сомкнулись, и она захрапела. Миссис Корнелиус не сказала ничего нового. Она была уверена, что я – извечный худший враг самому себе. Она повторяла это на протяжении всех последующих лет, почти до самой смерти (хотя ее ревнивые родственники не допустили меня к ее смертному одру). Меня восхваляли и осуждали великие лидеры, известные художники и интеллектуалы, но лишь ее мнение было для меня важно. Все ее помнят – она стала легендой. О ней сочиняли романы, точно так же, как сочиняли романы о Махно. Она могла вертеть политиками и генералами как хотела. Она никогда мне не лгала. – Они должны были дать тьбе Ноб’левскую ’ремию, Иван, – сказала она однажды вечером в «Элджине». – Если б только ’опытаться. Это случилось в субботу, как раз перед самым закрытием заведения. Паб полюбили цыгане из табора в Вествее, там постоянно играли на скрипках и аккордеонах. Они напоминали тех потрепанных людишек, которые заполонили Одессу, Будапешт и Париж за пятьдесят лет до этого. Было почти невозможно пройти по залу и ни с кем не столкнуться. Миссис Корнелиус очень редко давала волю чувствам, но тут пять пинт «Легкого и горького» развязали ей язык. Она жалела меня: незадолго до того у меня случились очередные проблемы в суде. Когда я пытался пробраться к бару, меня оскорбил какой-то мусорщик, от которого воняло мочой и моторным маслом. Миссис Корнелиус пыталась показать, что она, по крайней мере, до сих пор ценит мои дарования. Для меня это было дороже рыцарского титула. Я рад, что она смогла заговорить. Пусть и незадолго до смерти, но она признала, что верит в меня. Одно лишь это воспоминание поддерживает меня. Слишком долго я страдал от несправедливости. Теперь не осталось никакой надежды. Я помог ей пройти мимо потных певцов в рубашках без воротников и в засаленных пальто. Мы вышли на темную Лэдброк-Гроув, шел дождь, из-под колес ревущих автобусов и грузовиков летела вода. Я поддерживал миссис Корнелиус. Она сказала, что ей дурно. Она наклонилась над сточной канавой у своей квартиры на Бленхейм-Кресент, но ничего у нее не вышло. Уже тогда было очевидно, что она очень больна. Она умирала. Ей не приходилось мне лгать. Мы всегда были честны друг с другом. Она всегда чуяла гениев, даже если иногда они оказывались злыми. Троцкий, Муссолини, Геринг – она знала их всех. Она покачала головой: – Они никада не оценят тьбя как следут, Иван. И это правда. Она одна могла подтвердить: если бы не большевики, мне воздали бы в России все мыслимые почести. Я приобрел бы мировую известность. Поляки называли царскую империю Византией. Точно так же они называют сегодня Советский Союз. Набожность поляков почти столь же велика, как их лень. Я не стал эмигрантом просто потому, что хотел купить небольшой дом в Патни и работать в звукозаписывающей компании. Они не мученики. Они – мелкие буржуа, непрерывно жалеющие себя. Они так и будут ныть при любом режиме. Мне хочется, чтобы люди перестали приводить ко мне этих поляков. То же самое и с чехами. У нас нет ничего общего, кроме единого славянского языка. Во время войны кругом были поляки. Теперь повсюду чехи. Миссис Корнелиус рассказала соседям, каких высот я достиг и как пострадал. Но я не хотел их сочувствия. Я говорил ей, что сделал ставку и проиграл. Я подхожу к каналу возле Харроу-роуд. Там очень холодно. Все гниет. Все серо. Вода покрыта какой-то слизью. Дорожка вся в грязи. Я смотрю на задние стены брошенных зданий, где больные дети бьют уцелевшие окна и мочатся на половицы, где ночуют бродяги. Они покрывают кирпичи своими экскрементами и безграмотными лозунгами. Это – воскресный день, и это – моя прогулка! Мой выходной, мой отдых, моя передышка! Я видел чудеса Константинополя, славу Рима, мужественное величие Берлина до бомбежек, элегантность Парижа, жестокое великолепие Нью-Йорка, волшебную роскошь Лос-Анджелеса. Я одевался в дорогие шелка. Я удовлетворял свои желания с женщинами поразительной красоты и высокого происхождения. Я на собственном опыте испытал все величайшие технические чудеса в мире: огромные лайнеры, небоскребы, самолеты и дирижабли. Я познал волнение быстрых и прекрасных путешествий. А теперь я бреду по грязной тропинке, глядя на бродяг и испачканные стены, страшась за свою никчемную жизнь, молясь о том, чтобы не вляпаться в собачье дерьмо и не привлечь внимание безжалостных юных бандитов. Эхо их криков разносится над водой – таинственные хрипы и стоны примитивных амфибий, свидетельствующие о возвращении к кровавому невежеству и безрассудной дикости. И я провел здесь почти полжизни! С 1940 года – в одном районе Лондона. Dopoledne…[192] Первую же половину жизни я потратил на исследование и обучение всего цивилизованного мира. Майор Синклер, великий американский летчик и мой наставник, предупреждал меня, чтобы я не делал ничего модного. Синклера также уничтожили из-за непопулярных взглядов. Его друг Линдберг – еще один великий человек, которого погубили мелкие и порочные враги. Линдберг однажды доверил мне свою сокровенную тайну. Он никогда не собирался лететь в Англию. Он вообще-то направлялся в Боливию, но его подвели приборы. У нас было много общего, у меня и у Линдберга. Он знал, почему евреи взорвали «Гинденбург»[193]. Под арками автострады, которой «архитекторы» разделили пополам Ноттинг-Дейл и Лэдброк-Гроув, не подумав о тех, кто живет внизу, цыгане строят лачуги из старых дверей и смятого железа, ставят старые телеги среди куч щебня и мусора. Их тощие собаки носятся повсюду, их дети грязны и заброшены. По чудесной современной дороге машины мчатся в разные стороны, мчатся с запада, из Бристоля, Бата и Оксфорда, где люди живут в роскоши, сохранившейся с восемнадцатого столетия. Это чистая, созданная с умом дорога. Говорят, она помогла разгрузить жилые районы. Но чтобы ее построить, им пришлось снести наши дома. На их месте появились нелепые, безликие башни. По обе стороны Лэдброк-Гроув, в тени Вествея, стоят, пошатываясь, алкоголики обоих полов. Они просят денег, чтобы купить денатурата, и проклинают вас, если вы посмеете отказать им. Или по ночам к вам пристают мальчишки-тунеядцы, угрожая и паясничая. Из бетонных пещер рвется горящий бутан – точно так же отсветы пламени от керосиновых горелок поднимались над рыночными палатками зимой в старом Киеве. Они построили большую чистую дорогу на запад и создали настоящий кроличий садок для воров и бритоголовых, которые цепляются к поверхности цивилизации, как водоросли к лодке. Выжить без цивилизации они не смогут. Я не говорю, что Портобелло-роуд и Ноттинг-Дейл были прекрасны. Таксисты отказывались по ночам возить пассажиров на Голборн-роуд. Район славился своими проститутками, и половина населения была связана с преступным миром. Полицейские ходили по нашим переулкам по трое. Но социальные работники и политики сказали нам, что все изменится. Дорога, утверждали они, уничтожит несправедливость и нищету. Грязные грузовики исчезнут. В городе начнется райская жизнь. И что мы получили? Рок-группы дают бесплатные концерты между пролетами автострады и призывают слушателей к революции и курению гашиша. Шлюхи по дешевке обслуживают клиентов возле опорных столбов, негры-гомосексуалисты ссорятся и визжат, а машины мчатся у них над головами и несут лордов и леди в Бат, Оксфорд и Хитроу. Эти архитекторы мечтали об Утопии, но отвергали реальность. Уже тогда Утопия была невозможна по финансовым причинам. Может, она и вообще была недостижима. И тем не менее они продолжали строить, как будто ничего не изменилось. Они проложили свою замечательную дорогу, в точности как обитатели Новой Гвинеи строят самолеты из бамбука, чтобы те вновь доставили изумительные грузы, падавшие к ним с неба во время Второй мировой. Они говорили нам, что в сотворенной ими грязи разобьют цветники. Это bezhlavy[194]. Они говорили, что построят театры и магазины и окажут социальную помощь всем живущим под Вествеем, но даже не смогли справиться с цыганами, которые дерутся и пьют под арками магистрали от Шепердз-Буш до Маленькой Венеции, убивают друг друга, колотят жен и детей, отказываются учиться и работать, молодые бандиты угрожают пенсионерам, умственно отсталые показывают свои синие члены маленьким мальчикам. И им еще хватало наглости смеяться надо мной из-за моих мечтаний! Чем их Утопия лучше моей? И где процветание, которое мы должны были увидеть? Торговцы приезжают из своих пригородов на Портобелло-роуд по пятницам и субботам, они носят богемные наряды и продают дорогое барахло. Они делают трущобы туристическим аттракционом. Но аттракцион снова превращается в трущобу, когда они уезжают. По четвергам я вижу изумленных американцев, снующих туда-сюда по грязным улицам в поисках волшебства, отыскивая волшебство, которое, подобно странствующему цирку, появляется только в определенное время, скрывая вечную бедность и невежество. Где «Битлз» и бобби на мотоциклах, едущие попарно? Где огромные стены Виндзора и колокола старого Святого Павла? Они не хотят ничего, кроме романтики. По четвергам мы не можем ее обеспечить. И что, деньги, полученные от туристов, остаются здесь? Нет. Они возвращаются назад в Сербитон, Твикенхэм и Парли[195], и ночью грабители и алкоголики появляются вновь, как будто ничего не происходило. Туристы возвращаются в «Браунс», «Уайтс» и «Парковую гостиницу». В Вест-Энд пойдешь – лучший конец найдешь… «Мир Диснея» в прошлом году, «Мир Англии» – в этом. Каждая страна – особый тематический парк, изолированный, косметически совершенный. И автобусы, спортивные автомобили и грузовики мчатся по Вествею над грязью и неромантичной нищетой. И никто никогда не узнает, в какую человеческую грязь вкопаны огромные дорожные опоры. Но магистраль принесла прибыль мистеру Марплзу и мистеру Риджуэю[196], она принесла прибыль спекулянтам свингующих шестидесятых, Файнштейнам, Голдблаттам и Гринбергам. Миссис Корнелиус ненавидела Вествей. Она говорила, что дорога разрушила образ района. Пришли чужаки, которым раньше здесь делать было нечего. «Эт ’сегда был дружелюбный район, ’се ’сех знали. Тьперь п’явились людишки, к’торые жи’ут в Тауэр-Хамлетсе и Спиталфилде. Черт ’озьми, нишо удивительного, шо стало много ’реступлений. Они знат, шо мамочки не смогут ’десь за ими следить». Миссис Корнелиус твердо полагала, что большинство воров – молодые люди, не понимающие, что у своих красть нельзя. Старые семейные банды из Ноттинг-Дейла обычно сражались друг с другом. Если ты не был связан с бандами, тебя никто не трогал. Разрушение семей привело к последствиям, которых не могла предвидеть даже Церковь. Но теперь мы наблюдаем, как распадается сама цивилизация – повсюду, во всем христианском мире. Гунны снова копаются в наших руинах, и мелкие торгаши ставят свои палатки в наших святых местах, странствующие актеры разыгрывают непристойные представления в наших храмах, а патриции прячутся на своих виллах подальше от города, опасаясь выступить против тех самых людей, которые купили право первородства. История повторяется, и Христос смотрит на нас с небес и рыдает. Я мечтал спасти мир от подлости и жестокости, а вместо этого стал свидетелем вырождения. Может, доживу и до последней катастрофы… Я делал все, что мог. Одна только миссис Корнелиус поняла ужасную иронию моей жизни. Я был гением, но недооценивал силы Зла. Баронесса называла меня «очаровательно аморальным». Полагаю, она имела в виду то же самое.Глава третья
Мы – живые пастбища, на которых пасутся микробы, наша омертвевшая кожа – их хлеб насущный, мы – их Вселенная. Возможно, мы, по их мнению, передвигаемся по таким же предсказуемым орбитам, как планеты, и именно поэтому москиты всегда знают, где нас искать. Может, это всего лишь наша иллюзия – будто мы движемся по воле случая или по собственной воле. Мои ноги коснулись русской земли гораздо раньше, чем я предполагал, когда покидал Одессу. Вероятно, это было предопределено. На капитана явно подействовал мой намек на дела в Батуме, имеющие значение для правительственных сил, поэтому он охотно дал мне разрешение провести время на берегу. Баронессе также разрешили сойти на берег, хотя капитан заметил, что не несет ответственности за пассажиров, которые не смогут вернуться к отплытию корабля. – Мы получили приказ забрать столько беженцев, сколько сможем, мистер Пьятницки. Однако это не гражданское судно, и у нас есть и свои очень важные задачи. Я уверен, вы это понимаете. Я дал ему слово, что буду на палубе, когда «Рио-Круз» поднимет якорь. – Я надеюсь установить на берегу связь с некоторыми антибольшевистскими силами, – сказал я. Он ответил, что это мое личное дело. Я немедленно отыскал Леду Николаевну, которая, конечно, пришла в восторг от моих новостей и уже решила оставить Китти и няню на борту. Она заявила в свое оправдание, что собирается день-другой посвятить прогулкам по магазинам. Она думала, что мы пробудем на берегу только одну ночь, а потом вернемся на корабль. Если «Рио-Круз» все еще не будет готов к отплытию, то мы сможем еще раз переночевать в Батуме, и так далее. – Но как мы отыщем гостиницу? – Я легко решу проблему, – сказал я ей. – Я всю жизнь полагался только на свою сообразительность. Я чрезвычайно находчив. В тот день ее любовные ласки были пикантнее, чем когда-либо прежде. Я с нетерпением ожидал нашего «отпуска на берегу», как говорила баронесса. На следующее утро ко времени завтрака воздух прогрелся, но пошел сильный дождь. За столом капитан Монье-Уилльямс объявил, что мы должны пришвартоваться в Батуме в течение двух часов. – Как приятно будет оказаться в порту, где сохранился хоть какой-то порядок. – Капитан прибыл сюда в третий раз за два месяца. Британцы управляли и городом, и гаванью почти целый год. – Хотя бог знает, что там творится теперь. В прошлый раз, когда я говорил с Дрейком, начальником порта, он находился в безвыходном положении. Очень много беженцев со всех концов России. – Британцев это должно радовать, – сказал я. – Значит, им доверяют. – Извините, что я так говорю, мистер Пьятницки, но это – ужасное бремя. Что случится, когда мы уйдем? – Они соберут вещи и переправятся в Турцию. – Джек Брэгг с присущей ему бодростью попытался поддержать меня. – Хуже там не будет. – Анатолия находилась всего в десяти милях от Батума. – А может, нам стоит пойти до конца и объявить, что город находится под британским протекторатом? – Не думаю, что русская армия с восторгом примет это известие. – Капитан Монье-Уилльямс сухо улыбнулся мне. – Во всяком случае, здесь мы составили более или менее ясное представление о том, как нужно действовать. Все желающие сойти на берег должны получить увольнительную у мистера Ларкина. Второй помощник исполнял обязанности казначея и связного между русскими пассажирами и британской командой. Миссис Корнелиус еще не проснулась, и я очень этому обрадовался. Я бы смутился, если б она пришла в салон прежде, чем я изложу ей свои планы. – Предупреждаю вас, – продолжал капитан, – что в городе полно большевистских агентов. Уверен, там есть саботажники и погромщики. Так что будьте осторожны, не говорите лишнего. – Это предупреждение он адресовал всем нам. – Когда вы вернетесь, мы будем очень тщательно проверять вещи и документы. Мы не хотим, чтобы в ваши чемоданы подсунули бомбы. С губ капитана не сходила сардоническая улыбка, но было очевидно, что его отношение к делу не изменилось. Как и все прочие, он с нетерпением ожидал прибытия в Константинополь. Когда я собрался уходить, к капитану подкрался Герников. Он был одет в ужасный твидовый костюм и курил немецкую сигару. Губы его постоянно кривились, а голова вертелась, как будто он пытался выбрать из множества жестов и взглядов именно те, которые произведут наилучшее впечатление на нашего капитана. – Сэр, – невнятно произнес он по-английски. – Я хотел бы сказать вам пару слов. Капитану, я уверен, Герников нравился не больше, чем мне, но Монье-Уилльямс вел себя с евреем так же вежливо и терпеливо, как и со всеми нами. Герников говорил тихо, и я не мог ничего разобрать. Я очень хотел уйти, поэтому извинился и вышел на палубу, чтобы присоединиться к моей баронессе. Она держалась за поручень, прикрывшись большим зонтиком темно-синего цвета. Китти играла с двумя деревянными куколками совсем рядом, в тени мостика, а Маруся Верановна бесстрастно сидела возле девочки на складном табурете, следя за куклами так, будто они в любой момент могли взбеситься. Я приподнял шляпу, приветствуя их обеих. Баронесса обернулась, улыбнувшись мне. Мы обменялись обычными формальными приветствиями, а потом я спокойно сказал: – Через два часа мы достигнем Батума. Но вам нужно повидаться с мистером Ларкиным и получить пропуск. Полагаю, будет лучше, если мы поедем порознь. – Разумеется. Она надушилась новыми духами. Я чувствовал аромат роз, который, казалось, предвещал лето. На несколько секунд, пока баронесса объясняла служанке, что уйдет на некоторое время, я перенесся в детство. Я вспоминал густой аромат сирени в весеннем Киеве, поля пшеницы, огромные маки и полевые цветы с длинными стеблями, которые Эсме собирала у подножия холмов. Я отдал бы все, лишь бы возвратиться ненадолго в то волшебное состояние невинности, которое исчезло очень скоро, – когда я нашел Эсме в лагере анархистов и она, смеясь, рассказала о том, что с нею сталось. Она говорила, ее насиловали так часто, что между ног у нее появились мозоли. И я больше никогда не мог любить как прежде – нежно, легко, беззаботно. Я жаждал того глупого счастья. Я надеялся вновь пережить его с Ледой, поверить в наш союз, неповторимый и вечный. Но это было невозможно. Все женщины, за исключением миссис Корнелиус, теперь угрожали моему благополучию. Они предали мои лучшие чувства. Я не больше доверял мужчинам – но вряд ли кто-то рискнет доверять свои чувства им. А дети могли быть самыми худшими предателями – и в этом я убеждался снова и снова. Баронесса вернулась в хорошем настроении, получив пропуск. Однако, когда я вернулся в салон, мне пришлось встать в очередь, в которой уже стояло больше десятка человек. Я оказался позади гнусного Берникова, который немедленно обернулся и еще раз настойчиво, с неуместной фамильярностью заговорил со мной. Он что-то рассказывал о родственниках, которых надеялся отыскать в Батуме, о слухах, будто белые и красные похищают евреев ради выкупа, чтобы раздобыть денег на продолжение войны, о том, что союзники обсуждают идею какого-то утопического сионистского государства между Россией и Турцией, которое станет своеобразной буферной зоной для большевиков. Он болтал всякую ерунду, и вскоре я перестал обращать на него внимание. Тем временем мистер Ларкин, как всегда занудный и серьезный, наморщив лоб и вытерев блестящую лысину, уселся за небольшой карточный столик, деловито проверил документы и выдал короткие справки на листках с отпечатанным сверху названием корабля. Он слишком много времени потратил на Берникова, но наконец и я получил свой паспорт. Мистер Ларкин действовал достаточно быстро, ведь он, конечно, узнал меня. В простой записке говорилось, что нижеподписавшийся, Максим А. Пятницкий, путешествовал на торговом судне его величества «Рио-Круз» из Одессы в Константинополь и мог находиться на берегу в Батуме, но обязывался вернуться на борт корабля за пять часов до отхода. Мне нужно было расписаться внизу и взять с собой обычное удостоверение личности. – Эти пять часов – просто на всякий случай, – сказал мистер Ларкин. – У вас не будет никаких проблем, если вы немного задержитесь. К тому времени, когда я воссоединился с баронессой, вдалеке показался берег, дождь поутих и горизонт очистился. – Разве это не чудесно, что наконец станет солнечно? – оживилась Леда. – Боворят, даже в это время могут выдаться очень теплые дни. Я не мог поверить, что британцы оставят Батум. – Может, нам следует подумать о том, чтобы осесть там, – сказал я. Под покровом шутки я скрывал свое искреннее нежелание покидать родную землю. Я знал, что баронесса разделяла мои чувства. Она отмахнулась от моих слов легко, как истинная фаталистка: – Давай наслаждаться временем, которое у нас есть, и не думать о том, что могло бы быть. Я решил сообщить новости миссис Корнелиус. Она одевалась, когда я постучал в дверь каюты. – ’рост ’огоди минутку, пока я штанишки одену. Она выглядела необыкновенно хорошо, ее лицо разрумянилось, глаза сверкали. Она собиралась надеть оранжевое платье. Я сказал, что хочу сойти на берег и провести день в Батуме, потому что надеюсь отыскать там пару старых друзей. – Мож, мы с т’бой там свидимся, – заметила она, набросив на плечи пелерину из лисьего меха. – Я‑то думала сама сойти немного прогуляться. – Она рассмеялась, посмотрев мне в лицо. – Ты не ’ротив, лады? Я не предполагал, что она захочет сойти на берег. Я смог только наклонить голову, пожать плечами, улыбнуться, упаковать смену белья в свою маленькую сумку и согласиться, что неплохо бы нам пообедать вместе где-нибудь в Батуме. Она была последним человеком, которому я хотел бы сообщать о связи с баронессой. Я оставил сумку на своей койке и вышел на переднюю палубу. Вода внезапно стала синей, и белые толпы облаков быстро помчались на север. Когда они отступили, вода посветлела, деревянные и металлические части корабля засверкали на солнце. Мы как будто плыли на золотой барке по серебряному морю. Почти немедленно все вышли на палубу и выстроились вдоль поручней, снимая верхнюю одежду, болтая и веселясь, как клерки и фабричные девочки на пикнике. Корабль оставлял на воде след – кремовая пена вздымалась над густой синевой, а впереди были снежно-белые пики, зеленые склоны предгорий, очертания лесов, даже слабый намек на сам Батум. Когда корабль изменил курс и двинулся прямо к берегу, мы могли разглядеть отблески белого, золотого и серого цветов. Пейзаж был необычайно красив, панорама поросших лесом холмов и зеленых долин открывалась в туманном свете. Казалось, мы волшебным образом перенеслись из зимней стужи в разгар весны. Птицы пролетали над густыми лесами. Мы видели, как бледная дымка поднимается над зданиями пастельных цветов – нам открывался удивительный мир, и мы к этому зрелищу были совершенно не готовы. Люди хихикали и вертели головами как сумасшедшие. Некоторые взрослые начинали плакать, возможно, поверив, что мы перенеслись в рай. Чайки хрипло и вульгарно приветствовали нас, они вились над самой палубой. Шум двигателя звучал все живее и веселее. Теперь мы могли разглядеть длинную охристую линию каменного мола, промышленные здания нефтяной гавани, угольные склады, белую пристань вдали, сверкающие купола церквей и мечетей. Британские и русские суда ровно выстроились вдоль пристаней. Батум оказался небольшим. Ему недоставало величия Ялты или военной основательности Севастополя, но в этом тумане, с позолоченными крышами и флагами, Батум выглядел бесконечно прекраснее любого города, который нам случалось видеть. Нам, привыкшим к неуверенности, разорению, смерти и опасности, он виделся одновременно хрупким и надежным – настоящим укромным уголком. Батум располагался в заливе, окруженном холмами, густо поросшими лесом, вдали от больших дорог. С остальной Россией его связывало лишь железнодорожное сообщение. Восточный облик города заставил нас почувствовать, что мы уже достигли цели, что мы оказались в легендарном Константинополе. И мы начали действовать так, будто это место и являлось конечной точкой нашего назначения. Теперь я по-настоящему хотел распаковать чемоданы и пустить корни в земле, которая была частью России, пусть и азиатской. Понятия не имею, чем бы все закончилось, если бы я подчинился тогда первоначальному импульсу. Я до сих пор иногда жалею, что не покинул «Рио-Круз» тотчас же, но я не мог позабыть о похвалах мистера Томпсона, не мог отказаться от мечты о предстоящей научной карьере в Лондоне. Наверное, через месяц я разочаровался бы в Батуме. Он был прекрасным оазисом в бурном мире. Это происходило за несколько лет до того, как Сталин полностью уничтожил старый город. И все же Батуме не мог стать подходящим убежищем для человека, который мечтал о гигантских воздушных лайнерах и летающих городах и хранил в своем чемодане описания новых способов управления силами природы. «Рио-Круз» медленно протиснулся на свободное место между французским фрегатом и русским торговым судном, брошенные канаты подхватили на берегу английские моряки. Вода, которая билась о теплые камни, была полна ярко-зеленых водорослей и покрыта радужной нефтяной пленкой. Я ощущал запах Батума. Я вдыхал ароматы влажной листвы, жарящегося мяса, мяты и кофе. Вдоль набережной росли пальмы. В Батуме были обширные парки, общественные сады с перистым бамбуком, эвкалиптами, мимозой и апельсиновыми деревьями. Я видел ровные ряды темных зданий, виноградные листья, ржавое железо, кирпич и штукатурку. И высоко над общественными зданиями в центре города парили флаги двух империй, русской и британской. В будках у причала и у таможни стояли на страже суровые матросы Королевского флота с карабинами и нагрудными патронташами. Пристань была безупречно чиста. Повсюду виднелась полированная древесина и свежая краска. Я услышал гул моторов, грохот трамваев, знакомый суматошный шум обычных городских улиц. За рядами деревьев я разглядел отели, магазины и тротуары, по которым бродили представители разных рас и классов. Здесь встречались русские, британские и французские мундиры, мусульманские тюрбаны и греческие фески, парижские костюмы и домотканые халаты. Революция на время улучшила жизнь Батума, придав ей интеллигентные иизысканные черты, которые прежде здесь были неведомы. Я чувствовал себя, как пес на поводке, когда поспешно собирал свою небольшую сумку и ждал, пока опустят трап. Мое удовольствие было испортил только толстый потный Берников, нетерпеливо (несомненно, он уже придумал, как можно подзаработать в Батуме) прижимавшийся ко мне. Он подмигнул: – Неплохое удовольствие, а? Совсем не то, что штамповать паспорта в Одессе, это уж точно. Испуганный тем, что Берников так много знал о моем прошлом, я ничего не ответил. К моему превеликому облегчению, моряки и солдаты наконец выстроились на причале, область выгрузки освободили, у трапа поставили стол, офицеры предъявили бумаги и обменялись рукопожатиями. Наконец пассажирам подали сигнал, что можно сходить на берег. Я первым спустился по качающейся лестнице, опередив Берникова. Я распахнул пальто и расстегнул воротник, наслаждаясь теплом. Сжав перчатки в руке и сдвинув шляпу на затылок, я усмехнулся британским офицерам, которые тщательно осмотрели мои бумаги, а затем возвратили их мне. Я равнодушно кивнул и что-то пробормотал русскому чиновнику, осмотревшему содержимое моей сумки. Почти нараспев я отвечал украинскому сержанту, который еще раз изучил мои бумаги и проверил мое имя и описание по большой бухгалтерской книге. Он был огромным, толстым человеком с тяжелыми усами и доброй улыбкой. – Будьте осторожны, дружище, – пробормотал сержант, когда я наконец преодолел заграждения и вдохнул сладкий экзотический воздух Батума. – Здесь многие не согласны с тем, что настало время буржуев. – Я обернулся и пристально посмотрел на него. Он говорил как красный. Но сержант улыбнулся. – Всего лишь дружеское предупреждение. Увидев, что у обочины, в тени пальм, располагается самая настоящая стоянка извозчиков, я едва не умер от радости. Клячи были почти такими же дряхлыми, как и сами возницы, и отделка четырехместных экипажей изрядно пострадала от времени, но в точности такую же картину можно было наблюдать в довоенном Петербурге, или по крайней мере в одном из его пригородов. Я подошел к ближайшему извозчику. Старик с густыми седыми бакенбардами, с длинным кнутом, в толстом кучерском пальто, в цилиндре – он словно сохранился неизменным со старых, царских времен. Я спросил, за сколько он возьмется отвезти меня в лучшую гостиницу в Батума. – В лучшую, ваша честь? – На румяном лице появилась добродушная и снисходительная улыбка. – Это дело вкуса. И еще дело ваших убеждений, могу сказать. Также надо узнать, найдутся ли для вас комнаты. Как насчет «Ориенталя»? Хороший вид, приличная еда. Наверное, я глазел на него, разинув рот, ведь он говорил на чистом русском языке, на каком говорили в Москве. – Сколько? Ну, конечно, есть цена в рублях, но никто не принимает рубли. Есть ли у вас турецкие лиры? Или британские деньги – это было бы лучше. – У меня есть серебряные рубли. Настоящее серебро. Никаких бумажных денег. – В этом отношении разговор ничем не отличался от бесед, которые вели во всех прочих частях России. – Очень хорошо, ваша честь. – Он провел по щеке концом своего длинного кнута. – Возьмите с собой сумку. Есть много комнат. Я не торопился следовать его совету. Наконец я увидел, что баронесса, как и было запланировано, идет ко мне по тротуару. Тут, к своему ужасу, я осознал, что ее сумку нес вездесущий Герников. Я изо всех сил старался не замечать его и, приподняв шляпу, приветствовал баронессу, как и было уговорено. – Могу ли я подвезти вас, баронесса? Я, однако, не принял во внимание, что еврейский делец вмешается в нашу маленькую идиллию. Он перевел дух, поставив сумку, потом пристально посмотрел на Леду и на меня. Я готов был поклясться, что взгляд переполняла злоба. Баронесса вежливо заметила: – Вы очень добры, господин Герников. Думаю, что приму предложение господина Пятницкого, поскольку нам по пути. Она взяла у него из рук свой маленький саквояж и нерешительно опустила на землю. Я положил свои вещи в экипаж и потянулся за ее багажом. Герников улыбнулся мне: – Еще раз доброе утро, господин Пятницкий. – Доброе утро, Герников. Очень жаль, но я не смогу вас подвезти. – Это неважно. Я найду дорогу в Батуме. Спасибо. Его наглый, ехидный тон меня раздражал. – Ты слишком груб, Максим, – смущенно заметила Леда, усевшись в наш экипаж. – Ты же понимаешь, бедный Герников не хотел ничего дурного. Ты что, ревнуешь к нему? Он тебе не соперник. – Я хочу остаться с тобой наедине. – Я устроился рядом с баронессой. – Не желаю, чтобы кто-то испортил нам праздник. Повозка помчалась легкой петербургской рысью. Раздраженно поморщившись, Леда решила больше не говорить о Герникове. Мы поехали гораздо быстрее, когда повозка преодолела пристань и оказалась на бульваре. Это, по всей видимости, взволновало Леду, и ее губы приоткрылись, как будто она уже задыхалась от прилива похоти, более сильной и неотступной, чем моя. Когда наши тела случайно соприкасались, мы с трудом удерживались от объятий. Чтобы соблюсти приличия, я сел напротив баронессы. Мы притворялись, что любуемся очаровательными зданиями, аккуратными цветниками, кустами и высокими пальмами. Мы попытались продолжить беседу, словно репетируя наш маленький спектакль. – Какой прекрасный закат! – Мне кажется, британские офицеры были очень любезны. – И русские тоже необычайно учтивы. Разве это не прекрасно – сидеть в настоящем экипаже? Поездка оказалась относительно короткой – промчавшись по аккуратным улочкам, не разрушенным войной, мы вскорости достигли «Ориенталя», высокого и изящного здания на набережной, окна которого выходили на гавань. Полированное каменное крыльцо и резные колонны в египетском стиле, украшенные золотом, вызвали у меня ощущение уюта и покоя. Баронесса ждала в экипаже, я поднялся по лестнице и вошел в просторный тихий холл, приблизился к стойке администратора и спросил, есть ли в гостинице свободные комнаты. Худощавый армянин, управляющий, изобразил искреннее огорчение и сообщил, что обычных номеров не осталось, только два «люкса» по цене три английских фунта за день. Он с радостью примет чек любого солидного европейского банка, в крайнем случае готов получить оплату франками, но, к великому сожалению, никак не сможет принять русские платежные средства, за исключением золотых. Я сделал вид, что это совершенно в порядке вещей, и продемонстрировал легкую надменность и нетерпение. Управляющий повторил свои извинения и отправил грузина-швейцара за нашим багажом. Я в это время проводил баронессу по широкой желтоватой мраморной лестнице на второй этаж. На полу лежали розовые ковры, обивка стен была того же цвета. Это напомнило мне о роскошных путешествиях первым классом в довоенные времена. Наши номера находились на разных этажах, один над другим. Когда мы подошли к дверям ее комнаты, я снял шляпу, поклонился и громко пожелал баронессе приятного отдыха. – Всегда к вашим услугам. – Я вам очень признательна, господин Пятницкий. – Не желаете ли поужинать со мной сегодня вечером? – Спасибо. – Встретить вас здесь в шесть тридцать? – В шесть тридцать. Превосходно. Я подал швейцару знак, что можно идти наверх. Мы расстались. Эта небольшая сценка, конечно, предназначалась только для служащих отеля. Я преодолел еще один лестничный пролет, укрытый земляничного цвета ковром, затем прошел со своей маленькой сумкой в огромную дверь, которая подошла бы для дворца калифа. Я оказался в изысканной гостиной. Дальше находилась спальня, размеры и обстановка которой скорее были бы уместны в небольшом гареме – огромная кровать под балдахином, газовые занавески, потолок, расписанный темно-синими и золотыми арабесками. Из окна открывался вид на высокие пальмы и синее море. Я оказался в раю. Я дал швейцару на чай серебряный рубль и молча усмехнулся в ответ на его недовольство. Когда он удалился, я вышел на балкон и полной грудью вдохнул теплый пряный воздух. Я забыл, на что похож настоящий комфорт. Это было предвестие всего, на что я мог рассчитывать в Европе. Конечно, подобную роскошь я увижу в Лондоне. Роскошь в Париже. Роскошь в Ницце. В Берлине. Там будут солидные автомобили, загородные дома аристократов, слуги, дорогие рестораны – все то, чего я уже никогда не ожидал увидеть лишь два месяца назад. Я начал понимать, что вскорости смогу жить в городах, которые не меняются в одно мгновение, в городах, где внезапное нападение представляется невозможным, где процветает поистине неуязвимая культура и порядок, в городах, где слово «большевизм» считается в худшем случае дурной шуткой и где законность остается чем-то само собой разумеющимся. Когда я снял пальто и пиджак и растянулся на синем бархатном покрывале, меня начал бить озноб. Я судорожно дышал и хохотал в голос, слезы облегчения текли по моему лицу. Я наконец осознал, насколько мне повезло, как страшен был тот ужас, которого я избежал. Для меня стали нормой насилие, подозрительность, ложь, внезапная смерть, клевета, беззаконие. Но внезапно я увидел, что по-прежнему существуют безопасные, уютные места, культурные спутники, которых я сам могу выбирать. И заслуженная награда ожидала меня совсем рядом. Почти опьянев от волнения, я надел пиджак, выскользнул за дверь и осторожно спустился, стараясь не привлекать ничьего внимания. Моя восхитительная любовница, уже полураздетая, бросилась в мои объятия – мягкое, душистое, нежное, похотливое создание. Даже не сняв верхнюю одежду, я взял ее прямо на покрывале. Потом мы разделись, укрылись замечательными, недавно выстиранными и благоухающими лавандой льняными простынями и снова начали совокупляться. Как же я хотел влюбиться в нее, позабыть о здравом смысле, поклоняться ей! Я взлетел на высоты эйфории, придумал изумительную свадьбу и обещал хранить верность своей возлюбленной до самой смерти – так обычно и поступали мальчики моего возраста. Здравый смысл не имел значения. Леда испытывала такое же наслаждение, как и я. Ее тело было таким мягким, таким роскошным, таким реальным… В самом разгаре любовных ласк на ее лице застывало выражение экстаза, и она становилась похожа на богиню, в жилах которой текла не кровь, а раскаленная медь. Моя влюбленность никому не причиняла вреда. Ее вожделение было восхитительно. Моя похоть была столь же велика. Мы обрели безграничный запас энергии. Нам не понадобился даже кокаин. Позже я скрылся в спальне баронессы, а она заказала вино и еду. Мы набросились на сыр, холодную говядину и лососину. Мы жадно глотали французское шампанское. Когда минула половина седьмого, мы позабыли о том, что собирались пообедать в приличном заведении, и снова совокупились на темно-синем турецком ковре. Потом она заказала в номер икру и белое грузинское вино, и мы пожирали пищу так же жадно, как вылизывали друг друга. Я не был влюблен. Я никогда не смог бы полюбить другую женщину, кроме моей матери или миссис Корнелиус. Но Леда была влюблена, и это чувство передалось мне, оно вдохнуло в меня новую жизнь. Я почти позабыл об Эсме и обо всем, чего лишился. Баронесса сказала, что я, наверное, величайший любовник в мире, наша связь никогда не должна прерваться. Я знал, что она не осмеливается произнести, чего хотела на самом деле: чтобы мы остались вместе навсегда. Она ждала только моего слова. Но я ничего не сказал. Я уже посвятил всего себя одной мечте. Я мог бы ее воплотить с той Эсме, которую я знал до революции, ибо она с детства слепо поклонялась мне. Но Эсме исчезла. Ее не могла заменить эта красивая решительная аристократка, наделенная таким же воображением и такими же амбициями, как и я сам. Леда привыкла властвовать, и поэтому ее желания почти всегда сталкивались с моими. Таких женщин, как Эсме, больше не осталось. И без нее мне приходилось реализовывать свои мечты в одиночестве. На следующее утро мы, слегка уставшие, вернулись, чтобы узнать, когда отправится корабль. Мистер Ларкин сказал, что, по его предположениям, мы пробудем в порту еще не менее двух дней. Как дети, освобожденные от школьных занятий, мы прогулялись по усаженному пальмами променаду и посмотрели на маленьких мусульманских мальчиков, которые играли на пляже в салки и бабки. Потом по предложению баронессы мы направились к церкви Александра Невского[197] – отделанному голубым мрамором зданию, строительство которого закончилось лишь несколько лет назад. Эта церковь, с ее золотым куполом и шпилями, была воплощением истинно русской веры. Великое множество людей входило и выходило из огромного храма. Я предположил, что они молятся о пропавших родственниках, а может, и о душе самой России. Мы хотели задержаться лишь на пару минут, просто чтобы суметь потом рассказать об увиденном, но баронесса решила, что следует остаться подольше, и я был благодарен ей за это. В те времена я еще не обрел веру, и все же чувствовал себя гораздо спокойнее в этих беломраморных храмах, под высокими сводчатыми потолками, среди великолепных икон. Здесь я обнаруживал доказательства истинной духовности русских людей, ибо все раскрашенные доски, стоявшие в нишах, были произведениями настоящих мастеров. Укрываясь в этом тихом священном месте, вдали от страданий Одессы и Ялты, невозможно было думать о том, что варварство так стремительно поглотило нашу страну. Потом я услышал, что после ухода англичан из Батума большевики начали спорить, как использовать собор. Кто-то хотел устроить там конюшни, но православные возмутились. После долгих переговоров наконец был найден компромисс: «Мы согласны – сделайте из нашего собора конюшню. Но тогда разрешите нам устроить в вашей синагоге сортир!» У главного престола мы наткнулись на изображение Христа, стоящего на воде, в натуральную величину. Он протягивал руку помощи тонущему Петру. Это была пророческая для России картина. Петр, наш святой заступник, тонул. И Христос оставался нашей единственной надеждой. Эта фреска произвела на меня более глубокое впечатление, чем я тогда подумал. Вынужден признать, что в ту минуту я стремился поскорее вернуться в «Ориенталь», в нашу постель. И все же я до сих пор могу вспомнить резную мраморную отделку, окружавшую изображение. Стоящего Христа окружал золотистый свет. Петр по пояс погрузился в воду, простирая руки к нашему Спасителю. Я помню цветы и вырезанные на камне кресты, маленькие электрические лампочки, висевшие под куполом. Все было совершенно новым. Несомненно, большевики все уничтожили и продали то, что представляло ценность, оттолкнув руку помощи, протянутую Христом. Мы с Ледой некоторое время погуляли по саду, разбитому близ собора, и удалились через боковые ворота – как раз вовремя, чтобы увидеть отряд пенджабцев, шагавших по бульвару. Уверен, что англичане использовали такие отряды, как французы использовали сенегальцев: в знак предупреждения, чего ожидать в случае победы красных. Азия не ушла из Батума, даже во время короткой передышки. Пенджабцы шагали двумя колоннами к гавани, в тюрбанах цвета хаки и с винтовками за плечами. Как обычно, баронесса не поняла смысла происходящего. – Они выглядят великолепно, не правда ли? – сказала она. Такое же замечание могла сделать женщина восьмого столетия, увидев, как мавры перебираются через стены Барселоны. Они, несомненно, считали, что возвращались домой, потому что самым своим именем Барселона обязана основателю – карфагенянину Гамилькару Барке. Когда римляне изгнали карфагенян из Европы, когда испанцы наконец вытеснили мавров – посчитал ли кто-то ужасную цену? В те дни честь и религия значили все. Когда Великобритания решила, что больше не может содержать индийских наемников, она вывела их из России, бросив людей на милость варварских орд, врагов Христа. Запад выждал всего год или два, а потом начал заключать торговые соглашения[198]. Торговое соглашение – вот что погубило Китайскую империю. Чингисхан знал им цену. С тем же успехом можно было подписать договор с самим Сатаной! «Россия будет спасена. Россия будет спасена», – шептала мне той ночью Леда. Но сегодня я спрашиваю свою баронессу, которая, вероятно, умерла, когда большевистские бомбы обрушились на ее квартиру на Брюдерштрассе двадцать пять лет спустя: «Моя дорогая женщина, которую я почти полюбил, когда же это случится?» Она жила над берлинской антикварной лавочкой и работала на швейцарского специалиста по иконам. Я так и не узнал, было ли что-нибудь между ними. Швейцарец выжил. Он умер от старости в Лозанне совсем недавно, заработав миллионы на наших иконах. Ей было примерно пятьдесят семь. Я не испытываю к ней ни малейшей неприязни. Я до сих пор могу вспомнить ее запах. Действительно, я могу вспомнить, как пахли мы оба. Я чувствую, как тонкое белье оборачивается вокруг наших тел, чувствую мягкость и упругость матраса, я смакую вино, слышу шум, доносящийся с улицы, где солдаты стоят на страже мира. Звезды сияют золотом в темно-синем небе, на фоне которого виднеются силуэты пальм. Я вижу огни кораблей над водой, слушаю гудки сирен и крики ночных птиц. Потребовалось двадцать тысяч британских солдат, чтобы в одном небольшом русском городе сохранить иллюзию того, что прошлое можно сберечь или даже вернуть. Иллюзии ничего не стоили своим создателям. Я помню знаменитые арабские сказки, в которых колдуны расточают свои души на создание призраков. Награда всегда слишком мала, и она не стоит затраченных усилий. Смотрите, говорит волшебник, вот грифон, а вот дракон! Мы не видим, говорят зрители. Взгляните снова! Ах да, теперь мы видим! Но энергия перешла от иллюзиониста к иллюзии. И вот он мертв. Почти все империи пытаются спастись именно так – перед самым концом. И в какую цену обошлась русским людям коммунистическая иллюзия? Не стану отрицать: мы с баронессой наслаждались неведением, мы погружались в свои фантазии, пока могли. Мы ели, мы занимались любовью, мы разглядывали товары в магазинах, мы посещали базары, я покупал дрянной кокаин. Мы притворялись, что влюблены. Но в ту ночь весь «Ориенталь» содрогнулся, как будто началось землетрясение. Еще толком не проснувшись, мы подошли к окну. Красное пламя, поднимавшееся над темной водой среди огромных облаков черного дыма, сверкало ярче звезд. В нефтяной гавани, по другую сторону мола, горел корабль, пришвартованный неподалеку от нашего. Насколько я мог видеть, непосредственная опасность «Рио-Крузу» не угрожала. Тем не менее по просьбе Леды я оделся и спустился. В холле уже собралось несколько английских офицеров – некоторые одетые, некоторые в халатах. Их голоса звучали громко и взволнованно, хотя, как выяснилось, знали они не больше моего. В конце концов, когда появился вестовой на мотоциклете, один из офицеров сообщил другому: – Саботаж, разумеется. Красные подсунули бомбу на борт танкера. Этого мне было достаточно. Я вернулся к баронессе. – Теперь наш корабль может отправиться в путь раньше. Нам следует к этому на всякий случай подготовиться. Но Китти в безопасности. Мысль о том, что наша идиллия преждевременно закончится, заставила нас заняться любовью с вновь обретенной страстью. Мы вернулись утром. На борту судна нас встретил растерянный мистер Ларкин. Палуба «Рио-Круза» была покрыта толстым слоем нефти, и вся команда работала, пытаясь очистить корабль. Мистер Ларкин сообщил, что французский фрегат с немалым риском для себя отбуксировал танкер в море, а потом вытащил его на песчаную отмель, где теперь догорали запасы нефти. Грязный дым проникал повсюду, навязчивый, как рой мух. Лицо мистера Ларкина исказила нервная гримаса. – Это еще не самое худшее. – Он понизил голос. – Вы знали этого парня, Герникова, не так ли? Его тело подбросили к трапу вчера вечером. Его ударили ножом не менее шести раз. Это ужасно! Его раздели донага. На груди вырезали звезду Давида, а на спине кто-то оставил надпись «предатель». Я никогда не видел ничего подобного. Бог знает, какой сумасшедший мог такое сотворить. Кажется, у него были знакомые в Батуме. Возможно, это один из них. Видимо, поссорились. Красные? Белые? Сионисты? Я не знаю. Военная полиция отмалчивается. У них сейчас и так много дел. Баронесса плотно прижалась ко мне, едва не в обмороке. Ее лицо стало белее мела, глаза остекленели. Я поддержал Леду, которая судорожно сжимала мою руку. – Вдобавок, – Ларкин не обращал внимания на ее реакцию, – не хватает Джека Брэгга. Он сошел на берег вчера днем и не вернулся. Все его ищут. Мы до сих пор не знаем, связано ли это с делами Герникова. – Мне нужно отвести баронессу в каюту, – спокойно сказал я. – Господин Герников был другом ее покойного мужа. Ларкин покраснел. – Оставьте свои вещи. Я попрошу матроса донести их. Леда никак не могла прийти в себя. Уложив ее, я сказал Китти и няне, что у баронессы небольшое отравление. Потом я отправился в бар, чтобы раздобыть там немного бренди. На обратном пути я столкнулся с мистером Томпсоном, который появился из машинного отделения. – Привет, Пьятницки. – Он стер масло с рук. – Печальные новости. Я показал коньяк. – На баронессу это произвело ужасное впечатление. – Ну, по крайней мере, вы, кажется, держитесь. Вероятно, беспокоиться не о чем. Я поначалу не понял смысла его замечания, которое показалось несколько бесцеремонным. Задумался я об этом позднее, когда оставил баронессу на попечение Маруси Верановны и вернулся к себе в каюту, чтобы собраться с силами и вдохнуть кокаина. Было очевидно, что миссис Корнелиус провела ночь где-то в другом месте. Я отыскал мистера Томпсона. Он стоял, облокотившись на переборку и наблюдая за моряками, которые вываливали что-то из переднего люка. – Вы видели мою жену, дружище? Шотландец был удивлен. – Я думал, что вы слишком уж спокойны. Вы не знали, что она не вернулась? Она должна была появиться вчера вечером, после обеда. Я решил, что она встретилась с вами где-то в Батуме. – Он окинул взглядом палубу, потом ткнул носком ботинка в масляное пятно. – Ну, это было самое простое предположение. А теперь, когда вы вернулись на корабль… – Она осталась на берегу? – Нет, насколько нам известно. – Он густо покраснел. – Послушайте, я склонен предположить, что у нее какие-то мелкие неприятности. И похоже, что Джек Брэгг вмешался в ее дела, попытался помочь ей… Мы скоро узнаем. Но сейчас еще слишком рано волноваться. Меня не интересовали ни его предположения, ни его уверения. Я бросился к трапу и помчался вниз, на причал, где корабельный казначей беседовал с одним из дюжих морских пехотинцев. – Полиция ищет мою жену, мистер Ларкин? Ларкин поджал тонкие губы и протер очки серым от пыли носовым платком. – Что ж, мы сообщили им все, что знали, мистер Пьятницки. Я думал, что вам должно быть известно, где ваша жена. Она вчера ушла в хорошем настроении, собиралась пройтись по магазинам и осмотреть достопримечательности. Я знал, что у вас дела в Батуме, и подумал, что вы могли ее встретить. Мы не слишком беспокоились. – Но вы беспокоились из-за Брэгга? – Джек нарушил приказ. Предполагалось, что вчера ночью он нес вахту. По-видимому, Ларкин все еще чувствовал себя смущенным из-за того, что выставил себя дураком в случае с баронессой, – шея его была пунцово-красной. Он откашлялся: – Почему бы вам не отправиться на пост военной полиции, в док номер восемь? Может, им уже что-то известно. Я помчался по пристани, мое сердце неистово билось под действием кокаина и адреналина. Меня охватила паника. Может, раньше я этого не понимал, но теперь осознал: я беспокоился о миссис Корнелиус больше всех прочих. Без ее помощи мне будет существенно сложнее добраться до Англии. Отделение военной полиции располагалось в темно-зеленом здании с красной вывеской. Я забарабанил в дверь. Мне отворил капрал в обычном форменном кителе и в клетчатом килте. На его руке белела знакомая мне повязка. Капрал что-то невнятно произнес, а когда я поднял голову и попросил его повторить, он выговорил медленно, как будто беседовал с идиотом: – И что я могу сделать для вас, сэр? Я сказал ему, что моя жена, английская леди, пропала в городе. Он стал более дружелюбным и расторопным. – Миссис Пьятницки, сэр? В последний раз ее видели в кабаре «Шахразада» около полуночи. Наши люди все еще пытаются выйти на ее след, но вы даже не можете вообразить, что тут творится. Тысячи мелких столкновений, белые против красных, греческие православные против турецких мусульман, один сброд против другого, армяне против грузин, турки против армян, одна группа анархистов против другой группы, не говоря уже о семейных конфликтах. – Моя жена не может быть замешана в чем-то подобном. В Батуме она впервые, политических связей у нее нет. – Она англичанка, сэр. Этого вполне достаточно для кое-кого из местных ребят. Но мы думаем, что она просто поехала ненадолго прокатиться с кем-то из кабаре. Бывает, русские офицеры ведут себя слегка необдуманно, знаете ли. Возможно, они отправились к руинам. Он указал в сторону холмов и заверил, что немедленно сообщит мне все новости, как только они появятся. Я вернулся обратно на корабль. Начался мелкий моросящий дождь. Иллюзия окончательно рассеялась. Я слушал, как дождевые капли бились об огромные листья пальм – словно стучал пулемет. Я хотел броситься в старые кварталы и самостоятельно начать поиски, но для этого пришлось бы покинуть корабль. А я не хотел рисковать – вдруг за время моего отсутствия у военной полиции появятся какие-то новости. Я горько укорял себя за чувственный эгоизм, который увел меня прочь от миссис Корнелиус. Что эти люди подумают обо мне? С их точки зрения я бросил свою жену и вернулся с другой женщиной. Пристыженный и подавленный, я поднялся на борт. Но я не мог заставить себя отойти от трапа. Когда старая няня подошла и сообщила, что баронесса хотела узнать, где я, – резко ответил, что миссис Корнелиус исчезла и я не могу прийти. В конце концов, прождав два часа и проследив за выгрузкой всего оружия, увезенного на британском армейском грузовике, я поспешно направился в каюту Леды. Она все еще лежала в койке, служанка и дочь ухаживали за ней. – Мой бедный друг, – сказала она. – Что с вашей женой? – Никаких новостей. Как вы себя чувствуете? – Герников был таким милым, безобидным человеком. Таким добрым… Почему его убили? Он был похож на моего мужа. Они никому не причиняли вреда. Это так ужасно… – И она заплакала. – Человеку необязательно кому-то вредить, чтобы стать жертвой чьей-то ненависти, – сказал я. – Я думаю, что его убили белые, – прошептала Леда. – Красные убили моего мужа, белые убили Герникова. Все это одинаково бессмысленно. – Нет никаких доказательств. Друзья-большевики точно так же могли напасть на него, если, скажем, он отказался дать им денег. Или какие-нибудь сионистские экстремисты. Кто знает, что за дела у него были в Батуме? Или турки. В России теперь для убийства вообще не нужны причины. Может, это просто ошибка. Радуйтесь, что вы до сих пор живы. Но я не сумел успокоить баронессу. Она по-прежнему волновалась. – А что с мистером Брэггом? – спросила она. – Еще не вернулся? – Похоже на то. Я поцеловал ее руку, несправедливо негодуя из-за того, что баронесса отнимала у меня время. – Вам нужно попытаться уснуть. Выпейте еще немного бренди. Я загляну, как только смогу. Я возвратился на пристань, где мистер Ларкин терпеливо проверял свои записи. Уборка на корабле закончилась, теперь грузили какие-то бочки. – Это ром, мистер Пьятницки. Кажется, вчера вечером в «Шахразаде» произошла ссора. Оскорбили миссис Корнелиус. Джек бросился ей на помощь. Потом началась драка. Прибыли русские жандармы. Большинство клиентов разбежалось. Никаких тел не нашли, и это хороший знак. Что касается старины Герникова, то он, кажется, тоже был там некоторое время, а потом удалился с несколькими казаками, а может, с кем-то из местных соплеменников. Герников меня не интересовал. Что мне за дело, если он лишился жизни, приняв участие в какой-то незаконной сделке? Несомненно, он считал меня бесполезным недочеловеком вроде тех, которых очень много в Одессе, – об этом я мог догадаться по выражению его глаз. Что ж, эти глаза больше никогда не будут ни в чем меня обвинять. Нельзя сказать, что я одобрял его убийство. Возможно, я уделил бы этому случаю больше внимания, если б не боялся так за миссис Корнелиус. Неужели она пережила всю революцию и гражданскую войну только для того, чтобы быть похищенной кавказцами? Неужели ее изнасиловали и убили в какой-то далекой горной деревушке? Я слышал такие истории, когда был ребенком. Кавказские бандиты печально знамениты – они не считаются ни с чем за пределами своего ничтожного сообщества. Они могут утверждать, что являются мусульманами или христианами, красными или белыми, когда того требует необходимость или простая прихоть. Но на самом деле они просто бессердечные разбойники. Я смотрел сквозь завесу дождя, мой взгляд был устремлен вдаль, к высоким горам. Если бы выяснилось, что ее похитили, я истратил бы последнюю копейку, чтобы собрать армию горцев. Я отправился бы вместе с казаками и анархистами, я был бы таким же жестоким, как они, и куда более хитроумным. Мои таланты часто недооценивали. Люди считали меня художником, интеллектуалом, человеком слова. Но в свое время я был и человеком дела. Я решил, что не могу лишиться миссис Корнелиус так же, как лишился Эсме. Эта женщина, наделенная от природы невероятной добродетельностью, отдавала слишком много равнодушным существам, которые никогда не ценили ее. Я задумался, не попал ли в беду Джек Брэгг. Возможно, она пыталась помочь ему. Я пошел в бар за выпивкой. Мистер Томпсон последовал за мной. – Позвольте мне купить вам виски. Он усадил меня возле иллюминатора, и я мог смотреть на пристань, в то время как он направился к импровизированному бару. Он вернулся с напитками. Мистер Томпсон оказался не у дел, пока судно стояло в порту. Его кочегары чистили котлы и машинное отделение. – Всему этому есть весьма простое объяснение, – сказал он. – У вас прекрасно развито воображение, и это замечательно. Но временами, как мне кажется, именно оно становится вашим худшим врагом. Я почти не слушал его. Пока он бормотал ровным голосом какие-то дежурные фразы, я продолжал обдумывать те немногие сведения, которые смог получить. Томпсон, как и баронесса, предполагал, что Джека Брэгга и миссис Корнелиус связывали некие романтические отношения. Я не был дураком, я точно знал, что они думали. Я не видел никакого смысла даже обсуждать эту глупость. Миссис Корнелиус всегда оставалась женщиной порядочной. Она была воплощением великих английских добродетелей. С ее смертью для меня умерла и Англия. Ничего не осталось, кроме грязи и старых камней, из-за которых ссорятся побочные потомки из сотни мелких стран. Дух Англии отлетел в 1945‑м, когда социалисты уничтожили Британскую империю. Я был свидетелем всего этого. Я знаю куда больше, чем бородатые школьные учителя с безумными глазами и красными ртами, кричащие на меня с трибун, эти бездушные! Я хорошо изучил их породу. Цивилизация гибнет, страна за страной, часть за частью. Знамения повсюду: на разбитых мостовых, рухнувших перилах, испачканных надписями стенах. Знамения так же явственны, как Божий глас. Кому нужны тонкости и нюансы? Слишком многие люди движутся в неправильном направлении. Мистер Томпсон увидел романтическое увлечение. Я увидел лишь дружбу и доброту. Что лучше – замечать неявный недостаток или очевидное достоинство? Те, кто умаляет величие миссис Корнелиус, просто демонстрируют собственное ничтожество. Но я уверен, что Томпсон хотел только добра. Он ничего не сказал напрямую, когда попытался меня успокоить. На берегу он отыскал несколько номеров английских иллюстрированных еженедельников: «Сферы», «Иллюстрейтед Лондон ньюс», «Пэлл-Мэлл» и других. В них нашлись изображения новых гигантских летательных аппаратов и дирижаблей, которые должны были пересекать Атлантику. Когда Первая мировая закончилась, в Англии вновь ожили оптимистические настроения. Со страниц журналов улыбались молодые пилоты, поднимавшиеся на ярко раскрашенные фюзеляжи чудовищных самолетов, печатались изображения воздушных крейсеров с двойными корпусами и бесчисленными пропеллерами и крыльями. В будущем такие крейсеры могли бы доставлять почту во все уголки империи. И хотя я беспокоился из-за миссис Корнелиус, но фотографии в журналах не оставили меня равнодушным. – Есть люди, готовые тратить деньги на новые изобретения, – сказал Томпсон. – Все эти штуки недешевы. Не забывайте, нужно соблюдать осторожность, как мистер Эдисон, и сразу создать компанию. Слишком много невинных мальчиков уже было обмануто. Как ни странно, он все еще считал меня мальчиком. А я мальчиком уже не был – не был с тех пор, как Керенский захватил власть. А в Англии существовали молодые люди моего возраста, которые еще не спали с женщинами, которые даже не вышли из стен школы. В этом отношении, по крайней мере, у меня было преимущество, но ни одну из своих фантазий я не мог воплотить в жизнь без помощи миссис Корнелиус. Я посмотрел туда, где мистер Ларкин проверял документы прибывших пассажиров. Солнце почти зашло. Я встревожился еще больше. Корабль вот-вот должен был отплыть. Наутро мистер Томпсон подтвердил это: – Здесь ожидаются большие проблемы. Думаю, бомба на танкере – это лишь начало. Я решил, невзирая на опасность, забрать с корабля наш багаж и начать свое частное расследование. «Рио-Круз» все равно не отправился бы раньше десяти часов следующего дня. На рассвете, если миссис Корнелиус не найдут, я высажусь на берег. Когда я допил свою порцию, дверь салона распахнулась и вошла бледная баронесса. – Узнали что-нибудь? Она села, кивком поблагодарив мистера Томпсона, который отодвинул для нее стул. Мистер Томпсон не понимал нашего русского. – Могу я предложить вам выпить, баронесса? А может, чашку чаю? – Немного бренди, спасибо. Когда инженер возвратился в бар, она наклонилась ко мне: – Я не могу остаться в стороне. Как вам помочь? Она не слишком огорчилась бы, узнав о смерти миссис Корнелиус, но все-таки изо всех сил старалась проявлять сочувствие. Я оценил ее самообладание. – Мне придется сойти на берег, если возникнет вероятность, что корабль отправится без нее. – Тогда я сойду с вами. – Это невозможно. У вас есть Китти. У вас свои обязанности, а у меня – свои. – Все наши обязательства, несомненно, можно как-то согласовать. Я не стал с ней спорить. Если миссис Корнелиус вывезли из Батума, мне следовало организовать поисковую экспедицию. Леда стала бы помехой. Уже не оставалось времени для любовных ласк. Пришло время пуль и карабинов. Я приподнял голову. Треск пулеметных очередей доносился из старого квартала неподалеку от базара. Два бронированных автомобиля с ревом пронеслись по бульвару, их сирены кричали, как гуси. Я услышал один маленький взрыв, потом два больших. Над собором поднялись клубы дыма и языки огня. Раздались крики. Я встал и вопросительно посмотрел на мистера Томпсона, который сказал, что это самое обычное дело. Батум больше не был убежищем. Он стал зловещей ловушкой, одним из тех прекрасных садов из средневековых романов, которые создают злые волшебницы, чтобы соблазнять неосторожных рыцарей. Меня вновь охватил ужас перед всем восточным. Какое безумие, что я поверил иллюзии! В том же месте, где я восхищался куполами церквей, теперь в дождливых сумерках возникали зловещие силуэты сарацинских мечетей. Там, где меня успокаивала дисциплина британских томми, теперь в каждом темном углу появлялись вооруженные люди в тюрбанах. С пристани послышались крики. Большой крытый грузовик проехал возле нашей маленькой баррикады. Я подумал, что это полиция. Я вышел из салона и спустился до середины трапа. На полпути мне в глаза внезапно ударил свет ручного фонарика. Ослепленный на мгновение, я споткнулся и едва не упал. Выпрямившись, я увидел, что возле грузовика стоят какие-то люди. Неужели появились новости? – Надо ж! – послышался знакомый голос. – Эт Иван! Казалось, миссис Корнелиус была ранена. Ее поддерживали двое офицеров. Я помчался к ней. – Вы ранены? Это и правда были горцы? – Горцы? Ты тшо? Местные, г’воришь? – Она была сбита с толку. Я наконец понял, что она пьяна. – Звиняй, Иван, ’отеряла счет ’ремени, верно. Джек был так добр… Взъерошенный Джек Брэгг стоял у нее за спиной, хмуро глядя на меня. – Мелкая стычка, мистер Пьятницки, с какими-то грузинскими вояками, которые увлеклись вашей миссис. В результате они нас похитили. Меня одурманили. Миссис Пьятницки тоже была одурманена, не так ли, миссис? – До слеп’ты одурела, – согласилась она. Лицо Джека Брэгга выражало почти чрезмерное смущение и беспокойство: – Нам удалось сбежать сегодня утром. Но мы заблудились в… Там. – Он неопределенно указал на заросшие лесом холмы. – Патрульные отыскали нас и вернули. К счастью. Мы слегка промокли. – Он чуть с ума не с’шел. – Все мы посмотрели в сторону корабля. Там стояла баронесса. Я не знал, что она так хорошо говорит по-английски. Она наклонилась над поручнем. В свете фонаря ее было очень хорошо видно. Она напоминала славянского ангела с картины Мухи. – Бедный миста Пятницки ’ровел весь день, пытаясь разыскать вас. – Полагаю, вам нужно поспешить на палубу, Брэгг. – С мостика донесся голос невидимого капитана Монье-Уилльямса. Похоже, наш командир изрядно разгневался. – Есть, слушаюсь, сэр! – Брэгг обернулся к миссис Корнелиус. – У вас все будет в порядке? – Я иду прям как дожжь, – ответила она. – Но у мня шой-то в горле пересохло! – Она рассеянно опустила руку в вырез платья и вытащила оттуда большую черную перчатку. – Откуда, черт ’обери, эт ’з’лось? Джек Брэгг помчался по трапу – мириться с капитаном. Я ему сочувствовал. Он пострадал за благородное дело. Миссис Корнелиус расцеловала двух молодых офицеров, пожелала им доброй ночи и, опершись на меня, начала взбираться на борт «Рио-Круза». – Как раз вовремя, как обычно, да, Иван? Я уложил ее в койку, и она немедленно уснула как убитая. Смотря вниз, на ее груди, вздымающиеся и опускающиеся в свете керосиновой лампы, я представлял миссис Корнелиус воплощением духа Земли. Я завидовал той легкости и непосредственности, с которой она проживала каждый миг. К сожалению, я не мог подражать ей. Сам я должен был жить для будущего. Мне следовало помнить о грядущих пятидесяти годах. И в результате моя жизнь мне почти не принадлежала. Я вернулся, чтобы успокоить Леду. Вдалеке все еще горел танкер – он стоял на мели на песчаной косе, дрожащие тени от пламени падали на полубак. Баронесса стояла и смотрела на город, она была очень опечалена. Я предположил, что она думала о своем муже. А потом понял, что она оплакивала никчемного Герникова. – Ты не должна так горевать. – Я коснулся ее пальцев, сомкнувшихся на поручне. – Ты едва знала его. Она посмотрела на воду: – Он был так несчастен без своей семьи. Ее огромные голубые глаза были полны слез. Я обнял ее, но осторожно, опасаясь, что нас заметят. – По крайней мере, теперь он с ними. Мне совсем не нравилось то, как убили Герникова, и все же я чувствовал облегчение – он больше не будет меня преследовать. Иногда я вспоминаю о времени, проведенном в штетле, о тех днях, когда лежал в лихорадке. Неужели я сказал тогда евреям что-то настолько ужасное, что они прокляли меня? И теперь меня всегда будет сопровождать какая-то хнычущая, лживая Немезида? Подобные суеверия – просто глупость. Смешно даже предполагать, что они подсунули кусок металла в живот человеку. Я не верю в эту ерунду. Герников не пользовался популярностью на корабле. Возможно даже, что он сам стал причиной собственной смерти – если решил отправиться туда, куда не должен был ходить, или встретиться с людьми, до которых ему не было никакого дела. Все мы видели такого рода самоубийства. Конечно, я этого не сказал. Я понимал горе баронессы. Ей нужно было немного поплакать. Я беспокоился о ней. Когда я вернулся в нашу каюту, миссис Корнелиус пришла в себя и разделась. Она как раз подвивала волосы с помощью листков бумаги. – Надесь, я тебя не огорчила, Иван. Та история, шо мы сказали, была маленько неправильной, но я не хотела, шоб у Джека были проблемы. – Вы солгали! – Мне стало дурно, на миг меня охватили подозрения. – Да, не было никаких грузин. Мы попали в каталажку к русским п’лисменам. Выпили. – Она искоса посмотрела на меня. – Ну и маленькое ’обуянили, ха-ха. Эт Джек помог нам выпутаться, дал на лапу. И имена назвал не те. Мои подозрения улеглись. Теперь я всей душой сочувствовал ей. Я знаю, что такое жить в тюрьме. Это унизительно. Люди, которые в Киеве показывали на меня пальцами, даже не могли представить, что я перенес. Меня лишили индивидуальности. Они могут меня обвинять – я себя виновным не считаю. Назвал несколько имен – ну и что, эти имена и так уже есть в списках. Это было пустой формальностью, чтобы варта[199] освободила меня. Я никого не предавал. Красные называли меня спекулянтом и информатором. Так будет всегда. Это ревность. Они не знают, что такое истинная дружба. – Наверное, это было ужасно, – сказал я. – Могло быть и хужее. У нас еще есть их черт’ва водка! Она рассмеялась. Я восхищался ее храбростью. Миссис Корнелиус была так же отважна, как и я. – Но больше никому ни слова. – Она приложила палец к своим восхитительным губам. – А то Джеку достанется. – Тем не менее я поблагодарю его за то, что он сделал, – сказал я. – Если хошь. Она снова занялась своим туалетом, а я вернулся в бар, чтобы купить мистеру Томпсону стаканчик на ночь. Он сразу увидел, что я успокоился. Мы стояли у бара, слушая «Камаринскую», которую играл на аккордеоне один из верных присяге солдат. Некоторые дети еще пытались танцевать, а их несчастные родители говорили о смерти и пытках, о несправедливости и о погибших надеждах. – У Джека Брэгга все в порядке? – спросил я. – Старик на него изрядно разозлился. Но ничего особенного не случилось. Капитану с самого начала не нравилась эта прогулка. Но он, в общем, не бывает слишком строг, когда кто-то из парней слегка нарушает порядок. Пара ласковых и двойные дежурства вне очереди – все, что грозит Джеку. Мы вышли на палубу. Дождь прекратился, и небо очистилось. Пожар угас. – Погода должна перемениться к лучшему, когда мы поплывем в Варну, – сказал мистер Томпсон и отдал мне честь. – Что ж, доброй ночи, старик. Я остался один. Я прогулялся попалубе, затем вернулся в каюту, улегся на верхнюю койку, выкурил сигарету, а потом долго слушал, как вздыхает и ворочается миссис Корнелиус. Я знал, что ей снятся сны, которые она называет приятными. На сей раз меня звуки не слишком беспокоили, вскоре я уснул. Я встретил Джека Брэгга на палубе следующим утром, когда совершал обычную прогулку. Гадалка с зеленым лицом раскладывала свои карты. Она, очевидно, отыскала новую колоду. Как раз когда я проходил мимо, у нее легли верно все карты. Русский корабль уплыл ночью, и его место заняла двухмачтовая шхуна. Солнце светило ярко. Казалось, Батум снова стал чудесным городом. Я подошел к краю палубы и посмотрел вниз, на шхуну. Ее оборванные матросы все еще спали на палубе. Армяне, турки, русские, греки, грузины были похожи на пиратов из книг девятнадцатого века. Они носили пистолеты и ножи, а одежда их представляла безумную смесь разных мундиров, западных и восточных. Эти матросы немного напомнили мне анархистов Махно. Мы с Джеком повстречались на корме. Он стоял на вахте с полуночи. Его глаза покраснели, на подбородке виднелась щетина. – Госпожа Пятницкая рассказала мне вчера вечером всю правду, – сказал я. Он, кажется, слегка встревожился, но потом заметил, что я не сержусь. – О том, как вы вызволили ее из тюрьмы, – добавил я. – О! – прохрипел он. – Это пустяки. В наши дни несколько английских соверенов могут творить чудеса. – Тут он побледнел еще сильнее. – Должно быть, вы считаете меня ужасным мерзавцем, который сбил с пути вашу жену. Я сумел улыбнуться: – Ерунда. Насколько я ее знаю, именно она все и устроила! Как капитан воспринял все это? – Не так уж плохо, по правде сказать. Вот что… Как думаете, те парни – контрабандисты? – Он указал на шхуну. – Очень похоже. Они тут повсюду, верно? Несомненно, они используют нынешнюю ситуацию в своих интересах. – Считается, что в этих водах все еще есть корсары. – Джек Брэгг покачнулся. Солнечные лучи коснулись его налитых кровью глаз и грязных светлых волос. При этом освещении его кожа показалась совсем серой. – Что скажете, мистер Пьятницки? Представляете, как пройдете по доске? – Вам лучше лечь и выспаться. – Я развеселился. – Обещаю предупредить вас, если увижу на горизонте череп и скрещенные кости. Он сонно поплелся по палубе и едва не наткнулся на провидицу, которая раскладывала свои карты. Я продолжал разглядывать шхуну. Она была очень грязной. Свернутый парус, похоже, чинили много раз. Я понятия не имел, откуда это судно, но разобрал на борту надпись на русском: «Феникс». Вероятно, шхуна начинала свою жизнь как рыболовное судно. Некоторые из спящих людей были одеты в поношенные русские морские мундиры. Другие носили армейские френчи, дорогие кавалерийские сапоги, артиллерийские фуражки. Они, несомненно, регулярно плавали из турецких черноморских портов в уцелевшие города свободной России. Вполне вероятно, что они перевозили и пассажиров за немалую цену. Я не мог их ни в чем винить. У них не останется будущего, если красные победят. С далеких улиц до меня донесся шум бьющегося стекла. Я обернулся. Зазвонил соборный колокол. Старая лошадь тянула скрипящую, переполненную телегу по дороге к причалу. Потом к ограде подъехало два больших армейских грузовика, на которых прибыли новые пассажиры: раненые белогвардейцы в грязных английских пальто, крестьянки с младенцами, старики, похоже, из самых дальних и глухих уголков Грузии. Они всей толпой двинулись к нам. Я испугался, что корабль не выдержит их веса и утонет. Я увидел, как мистер Ларкин побежал навстречу вновь прибывшим. Другие офицеры, русские и англичане, начали занимать свои места. Я больше не хотел на это смотреть. Контрабандисты (или пираты) проснулись, как будто, заслышав лепет беженцев, учуяли добычу. Я отправился завтракать. Я думал, что это может оказаться последней мирной трапезой до прибытия в Константинополь. Примерно через час корабельные двигатели заработали, и я приободрился – «Рио-Круз» снова уходил в море. Из гавани Батума нас вытащил небольшой буксир. Когда натягивали канаты, те звенели и блестели в лучах солнца. Солнечный свет обжигал мне лицо. В Батуме, очевидно, воцарился мир, хотя дым от горящего танкера все еще временами разносился над гаванью. Теперь я более внимательно рассматривал остающиеся позади пальмовые и бамбуковые рощи, малахитовые здания и тенистые улицы, я скорбел, что моя желанная идиллия на русской земле так жестоко прервалась, я ненавидел Герникова за его вульгарность и даже за его ужасную смерть. Старый мотор «Рио-Круза» жалобно взревел, и корабль поплыл по спокойной воде к дальнему берегу Черного моря. Последней остановкой перед Константинополем должна была стать Варна в Болгарии, в стране, которая гостеприимно принимала своих славянских братьев. Крестьяне собирались кучками на носу судна. Они раскладывали ковры и баулы и поглощали принесенную еду. Корабль был загружен почти до предела, но капитан Монье-Уилльямс получил особые инструкции. Все, что нам оставалось делать, по его словам, – молиться о хорошей погоде. Что бы я ни думал о бедных существах на палубе, меня глубоко взволновало то, как один из бородатых крестьян поднялся, оглянулся на Батум, снял шапку и запел высоким, чистым голосом «Боже, царя храни», «Боже, спаси царя». Я почти бессознательно подпевал нашему государственному гимну. Вскоре, казалось, запели все. Сначала исчез Батум, а затем скрылись за горизонтом и белые силуэты гор. «Рио-Круз» снова остался один в сером море под пасмурным небом. К счастью для беженцев, стоявших на палубе, дождя не было, однако волны постепенно усиливались. Я испугался, что мы никогда не пройдем мимо этих крутых водных стен. Корабль, стеная и хрипя, дрожал в воде и кое-как перемещался по холодному лимбу. Я едва ли не с облегчением вернулся к прежнему строгому распорядку дня с баронессой. Хотя, возможно, я стал трахаться с несколько меньшим энтузиазмом, когда заметил в своей возлюбленной какое-то безумное отчаяние – как я подозревал, вызванное убийством Герникова. Она больше не отказывалась от моего кокаина. Теперь она ворчала на меня, если я не доставал порошок. Конечно, ее любовные ласки стали более оригинальными, но радости в них поубавилось. Я сочувствовал Леде. Я часто сжимал ее в объятиях. В тот первый день после отплытия из Батума мы не раз вскрикивали вместе, слыша случайные удары и глухие стуки со всех сторон и думая о том, будем ли мы когда-нибудь столь же счастливы, как в те дни, когда наша русская страсть расцветала пышным цветом на русской земле. Миссис Корнелиус, казалось, с особенным удовольствием вернулась к своему обычному образу жизни. Той ночью она пела и танцевала. Она вспомнила почти все любимые песни. Джек Брэгг был снова на вахте, но капитан Монье-Уилльямс задержался и подхватил припев «Моего старого голландца». Миссис Корнелиус заметила, что он славный малый. Она сидела у него на коленях, и суровый валлиец улыбался ей. В дальнем углу салона, вокруг аккордеона, собралась группа русских, и мы попросили их сыграть что-нибудь веселое. Музыкант, молодой светловолосый одноногий солдат из Нижнего Новгорода, заиграл «Калинку». Вскоре миссис Корнелиус встала и присоединилась к дюжине вдов в неистовом танце, в то время как мужчины хлопали и стучали ногами. Капитана снова уговорили присоединиться к веселью. Через некоторое время он прошептал мне: «Если мы тут еще немного потопчемся, то наверняка провалимся в трюм». Он поправил кепи и вышел из комнаты с какой-то почти вызывающей развязностью. Когда миссис Корнелиус втащила меня в круг танцоров, я почувствовал необъяснимый приступ скорби, как будто воспоминания о Герникове преследовали меня. Мне нечего было стыдиться. Еврей это еврей. Я не был жесток с ним, но теперь вспоминал его пьяные дружеские порывы. Неужели именно в поисках дружбы он отправился на улицы Батума – чтобы его там зарезали, ограбили и заклеймили? Почувствовав желание подышать свежим воздухом, я вернулся на палубу. Может, это было глупо, но я разозлился на Герникова еще сильнее. Я быстро поднялся на верхнюю палубу и остановился у трубы, неподалеку от люка, ведущего в машинное отделение. Палубные пассажиры закутались в свои ковры, хотя некоторые не спали, а до сих пор курили и беседовали. Местами горели фонари – и корабельные, и принадлежащие пассажирам. Это была странная, поразительная сцена, но я уже не мог оставаться в одиночестве. Я скрылся в каюте и, вдохнув побольше кокаина, погрузился в фантазии о будущем, о моем успехе. Я выбросил мысли о Герникове из головы. Следующим утром я отправился на обычную прогулку, но люди на верхней палубе вызвали у меня сильное раздражение. Зеленолицая женщина впервые покинула свой пост. Я увидел ее под одной из раскачивающихся спасательных шлюпок, она сидела и медленно раскладывала свои карты. Я решил, что настало время поговорить с ней, поскольку мы оба оказались в таком неловком положении. Я уже начал пробираться к даме, но тут внезапно зазвенел судовой колокол и двигатель зашумел по-другому. Весь корабль содрогнулся и начал разворачиваться. Мне сразу пришло в голову, что мы напоролись на скалу или на другое судно. Палубные пассажиры с криками вскочили. Все они указывали куда-то в сторону берега. Я подбежал к поручням. В неспокойных водах, на расстоянии нескольких ярдов от нас, находился корабль, в который мы едва не врезались, – длинная баржа из тех, какие обычно плавают только по каналам. На ней не было ни мотора, ни пассажиров – только горы баулов, чемоданов, пакетов и сумок, прикрытых брезентом. Выглядело все это странно и тревожно, поскольку никак нельзя было понять, зачем баржа вышла в море. Мы миновали судно, и оно медленно скрылось позади, поднимаясь и опускаясь в сгущающемся тумане. Оно могло перевозить украденные большевиками вещи или пожитки одной большой аристократической семьи. Возможно, там было что-то ценное, но у нас на палубе уже собралось столько народу, что вряд ли следовало подбираться ближе к таинственному грузовому кораблю. Вода становилась все менее спокойной, и барометр поминутно падал. Пар от нашего дыхания сливался с туманом. Постепенно ветер усилился, и на некоторое время воздух стал прозрачным, но потом ветер снова стих, сгустился туман, и Джек Брэгг занял место у прожектора, чтобы следить за проплывающими мимо льдинами. После ужина я присоединился к Брэггу. Он курил трубку и напевал себе под нос какую-то мелодию, направляя луч то в одну сторону, то в другую и всматриваясь в темную, пугающую воду. Казалось, что сигнал, предупреждающий о тумане, звучал на корабле ежеминутно. Баронесса легла спать рано, пожаловавшись на легкий озноб. Я поднял воротник пальто. По некоторым причинам мне не хотелось возвращаться в каюту. Вместо этого я предложил свою помощь в работе с прожектором, но Брэгг отказался: «Не хочу, чтобы капитан снова поставил мне на вид!» Хотя желтый луч не очень глубоко проникал в толщу тумана, мы двигались по бурному морю на малой скорости, и поэтому нам не угрожала опасность врезаться в другое судно или в паковые льды, которые в последние два часа попадались нам все чаще. Черные волны с ужасающим гулким звуком бились о корпус корабля. Некоторое время мы с Джеком курили и болтали о разных пустяках. А потом он внезапно нахмурился и всмотрелся в темноту: – Эй! Что это там такое? Я ничего не увидел. Он передвинул луч на несколько футов, и я заметил темный силуэт, находившийся от нас меньше чем в сотне ярдов. – Постарайтесь не выпускать их из виду, – сказал он. – Я расскажу капитану. Мои руки дрожали, когда я прилагал все усилия, чтобы не отводить луч от неизвестного объекта – очевидно, довольно большого судна. Мы проходили совсем рядом с ним. Казалось, если мы не изменим курс, то неминуемо столкнемся с этим кораблем. Теперь, когда Джек ушел на мостик, я увидел множество небольших белых пятен. Я с удивлением осознал, что это человеческие лица, множество лиц. Когда постепенно стали различимы слабые крики, я попытался ответить. Конечно, они не могли ничего услышать. Двигатель как будто умолк или заглох. Мгновение спустя с мостика послышался громкий, усиленный мегафоном голос капитана. Капитан назвал наш корабль и сообщил, что мы попытаемся подойти ближе. Но море начало волноваться как раз в ту минуту, когда мы приблизились. Теперь я сумел лучше разглядеть таинственное судно. Это был небольшой буксир. На палубе столпилось, вероятно, не менее двух сотен человек. На миг мне показалось, что я разобрал на борту надпись «Анастасия из Аккермана», но, возможно, это была всего лишь игра воображения. Неведомый капитан закричал в ответ. Он просил помощи. Корабль остался без двигателя. Стальной трос заклинил винт. Джек снова присоединился ко мне. Мы оба к тому времени уже промокли. – Бедные ублюдки. Они, кажется, набрали много воды. Они наверняка тонут. Должно быть, они буксировали тот лихтер, который мы видели. А потом трос лопнул и намотался на их винт. Слышите, как они причитают? Ужасно! Джек сказал, что капитан не может ничего поделать. Он не осмеливается рисковать жизнями своих людей. В его силах только послать радиограмму на ближайший британский военный корабль и попросить, чтобы другие суда пришли на помощь буксиру. – Спаси их Боже, – сказал Джек, – в такую погоду они и часа не продержатся. Вскоре буксир с двумя сотнями испуганных пассажиров исчез в непроглядной темноте. Наши палубные пассажиры как будто ничего не заметили. Море становилось все мрачнее и холоднее. Погода так и не улучшилась до самой Варны. Мы не узнали, был ли спасен буксир, но капитан Монье-Уилльямс попросил меня не распространяться о его возможной судьбе. Он не хотел никого тревожить. В глубине души я догадывался, что буксир потонул. В Варне мы остановились у входа в гавань. К моему удовольствию, подошедшие лодки забрали большую часть наших пассажиров. На корабле, казалось, воцарилось спокойствие, хотя паковый лед все еще иногда бился о наши борта и в воздухе кружили снежинки. Я почти обрадовался снегу. Я не верил, что смогу наслаждаться абсолютным счастьем, если его не будет. Баронесса, ее дочь и няня стояли рядом со мной, когда крестьяне, дрожавшие и посиневшие, очевидно, от морской болезни, грузились в лодки. – По крайней мере, болгары – славяне. – Леда завернулась в густой черный мех. Мы, должно быть, напоминали пару сибирских медведей, потому что на головах у нас красовались черные треухи. – Но что с нами станется в Берлине и Лондоне, Симка? – Она уже и на людях иногда обращалась ко мне именно так. – Разве мы не покажемся там странными, экзотическими существами? – Она скорбно посмотрела в темную свинцовую воду. Я сказал, что, по-моему, она чрезмерно склонна к мелодраме. Иностранцы так же внимательно читают наши книги, как и мы – их. У нас много общего: живопись, музыка, наука. – Мы можем подняться выше этих мелких различий, Леда, потому что образованны, вот увидишь. Им придется гораздо хуже. – Я указал на перепуганных крестьян, карабкавшихся в лодки. – У них есть только Россия. Она не успокоилась: – Конечно, бессмысленно волноваться. В конце концов, есть вероятность, что я застряну в Константинополе на всю оставшуюся жизнь. Я не захотел продолжать этот разговор. С востока поднимался ветер, который должен был смести все западное. Мне казалось, что порывы ветра все еще доносили до нас умоляющие голоса с буксира. Я не мог выбросить их из головы; точно так же неотступно меня преследовал Герников. Я сочувствовал капитану, который был вынужден принять тяжелое, но единственно возможное решение. При этом меня не покидало ощущение, что именно я, лично я предал эти смутно различимые белые лица. В сравнении с моими переживаниями проблемы Леды казались ничтожными и только раздражали меня. – Уверен, что ты выживешь, – сказал я. – Симка, ты поможешь мне, если сможешь? Это звучало почти как приказ. Я вздохнул и принужденно улыбнулся: – Да, Леда Николаевна. Если смогу, помогу. Из-за слишком густого тумана мы так и не увидели Варну. Я слышал, что это самый обыкновенный город, и удивлялся, что там высаживается на берег столько пассажиров. Я спросил об этом мистера Томпсона вскоре после того, как мы вышли из гавани и направились, наращивая скорость, к устью Босфора. Он нахмурился: – Мистер Пьятницки, разве вы не догадываетесь? Мы высадили на берег всех, кто мог заразиться. А это две трети пассажиров. Думаю, нам повезло. Ларкин предположил, что Герников был заразен, хотя, конечно, маловероятно, что он передал болезнь кому-то еще; ведь сам он выздоровел к тому времени, когда мы достигли Батума. Теперь ничего сказать нельзя. Нам остается только надеяться, что мы в порядке. Ведь это сыпной тиф, старик. Выходит, что Герникову удалось заразить немало честных христиан, прежде чем его убили. Я был рад, что мои подозрения на его счет подтвердились. – Но никто из членов команды не заболел? – спросил я. – Пока нет. Конечно, очень жаль, что нам, вероятно, придется стоять в карантине, когда мы доберемся до Константинополя. В тот момент я подумал, что никогда не расстанусь с «Рио-Крузом». Было 13 января 1920 года. Завтра мой день рождения. Hallan, amshi ma`uh…[200] Я произнес слова, которые следовало сказать… И Анубис[201] – мой ДРУГ.Глава четвертая
В ту ночь, когда русские с утомительной развязностью праздновали наверху Новый год, я занимался любовью с баронессой, про себя молясь, чтобы она была здорова. Ее служанке и дочери разрешили остаться в салоне до двенадцати. Леда отговорилась головной болью. Я сказал, что мне нужно привести в порядок бумаги. Из пассажиров только миссис Корнелиус и я знали правду, другие могли полагаться лишь на слухи, которые обращали в шутки, как и подобает отчаянным людям, находящимся в безнадежном положении. Джек Брэгг сказал, что над Босфором туман, но завтра, раньше или позже, мы увидим нашу Византию. Мы двигались вдоль побережья Болгарии медленно, но не сбиваясь с курса, а я пронзал тело своей любовницы как обезумевший кролик, визжа от удовольствия и точно зная, что мой голос исчезнет среди шумных песнопений и рева двигателей. В полночь усталые ноги привели нас в бар. Все офицеры вернулись на палубу, но миссис Корнелиус еще никуда не ушла. Она обнялась с двумя пьяными украинскими санитарками и запела «Стеньку Разина». Она постоянно произносила «Стихий Разум» – полагаю, это была единственная русская песня, которую она знала. Китти, сонно обнимавшая комнатную собачку, купленную ей матерью в Батуме, поцеловала нас обоих перед сном, и ее, совсем разморенную, увела няня. Потом мы вышли наружу. Стало теплее. Корабль чуть заметно покачивался в спокойной воде, и я подумал, миновали ли мы устье пролива. Мы снова скрылись в той огромной черной пещере, где не было ни звезд, ни луны. Но даже здесь оставалось эхо. Миссис Корнелиус, переполненная ромом и добрыми чувствами, присоединилась к нам. Армейская фуражка у нее на голове сбилась набок. Моя спутница, переводя дух, оперлась о поручень: – С днем роження, Иван. Ее внимание тронуло меня. Она качнулась вперед, чтобы поцеловать меня в щеку, а потом удивленно посмотрела куда-то в сторону: – Боже ж мой! Похоже на черт’вы сигналы! Баронесса тревожно нахмурилась – она не могла понять акцент кокни. Для меня английский выговор миссис Корнелиус звучал яснее, чем более правильное произношение офицеров. Я, как говорится, собаку съел по части этого просторечия. Леда не пыталась говорить по-английски. Она заметила на русском: – Мне нужно посмотреть, как дела у Китти. Маруся Верановна, похоже, выпила водки больше, чем обычно. Доброй ночи вам обоим. Она холодно поклонилась и пошла обратно в каюту. Миссис Корнелиус плюнула в воду: – Никак, мать е’о, в сьбя притти не м’гу. ’се эт ром. Поднимал дух, но ронят в канаву, как г’рится. Походу, я тут была треттей лишней? Я успокоил ее. Мне было очень приятно остаться с ней наедине. – Вы слышали еще что-нибудь насчет болезни? Новостей не было. Но офицеры, по словам миссис Корнелиус, не особенно волновались. Положив руку мне на плечо, миссис Корнелиус позволила отвести себя в каюту. В моей голове проносились исторические образы. Я видел конницу гуннов, флаги, копья и доспехи разъяренных турок Оттоманской империи, блестящие черные глаза которых смотрели на Европу, я представлял, как они готовились к войне с Грецией. С какой стати они претендуют на оригинальность и превосходство? Если они так гордились своей турецкой культурой, то не назвали бы эту страну Римом или Румом[202]. Какое лицемерие! Оно передавалось из поколения в поколение, усиливаясь с каждым столетием. Они попали в ловушку собственной извращенной мифологии. Это мир лжи и теней. Цивилизованные люди всегда становились добычей завистливых пастухов. И хотя озарения иногда еще возможны, я боюсь, что мое поколение было последним, способным признать ужасную истину. Что касается этих как будто невинных спутников орд гуннов, этих турецких «иностранных рабочих», – я разгадал их игру. Я удивил их банду несколько дней назад в «Пэддингтон Армз» около станции. Они собрались вокруг «однорукого бандита» и о чем-то спорили. Заказав себе водку в баре, я небрежно заметил, как будто ни к кому не обращаясь: «Rüzgâr kuzey dogudan esiyor»[203]. Меня впечатлил их испуг. Я вернулся обратно за свой столик. Некоторые из нас по-прежнему не могут понять, почему такие высокомерные люди соглашаются выполнять черную работу в чужой стране. Все они, конечно, шпионы, пятая колонна, саботажники, авангард. Я уже не пытаюсь предостеречь эту страну. Британцев погубит их собственное самодовольство, иллюзорная вера во врожденное превосходство. Они падут, по словам их поэта-лауреата, как Ниневия и Тир[204]. Я сделал намного больше того, чего требуют честь и долг. Больше я ничего поделать не могу. Elle serait tombée[205]. Миссис Корнелиус говорила мне, что они никогда не поймут. «Ты зря тратишь свои силы, Иван. Хошь быть первым ном’ром». Но я всегда был идеалистом. Это моя ахиллесова пята. Как много мог я дать людям! Я сижу у кассового аппарата в глубине моего магазина, глядя на Портобелло-роуд. Это похоже на кино. С каждым годом белых лиц все меньше. И все больше низкорослых уроженцев Вест-Индии и высокомерных пакистанцев, самодовольных турок и арабов. Это ведь был настоящий белый район, когда я только приехал сюда: обычные приличные магазины, газетные киоски, бакалейщики, табачники, сапожники. А теперь повсюду поддельные золотые браслеты и дешевый хлопковый ширпотреб, как на самых бедных базарах Константинополя в 1920 году. А Кенсингтонский рынок, заваленный ботинками из кожи кенгуру и блестящими шелками, стал похож на Гранд-базар[206]. И люди еще спрашивают, почему это произошло! Они не имеют никакого представления о прошлом. Неудивительно, что молодые женщины начинают скучать в обществе хилых английских бездельников, которые живут только для того, чтобы курить киф[207] и требовать бакшиш от государства. Неудивительно, что белые девочки ищут новых впечатлений – и находят скалящего зубы негра и толстогубого азиатского патриарха. И вот снова перед нами Византия в эпоху упадка, последние годы умирающей цивилизации. Я видел то же самое в дюжине больших городов в дни их окончательного падения. Когда христианские девочки забывают о чести и достоинстве и прелюбодействуют с язычниками, о благородстве можно забыть. Это повторялось в Нью-Йорке, Париже, Мюнхене и Амстердаме. Восточная Африка еще раз совокупила жестокость с хитростью и породила Карфаген. Burada görülecek ne var?[208] Запад превратился в посмешище, он позабыл о трех тысячелетиях истории и морали и готов к завоеванию. И разумеется, больше всего выгод получит хитрый пастух из пустыни, все тот же еврей. Константинополь был нашим самым крупным военным трофеем. Если бы мы удержали его, все жертвы оказались бы не напрасны. Мы пережили бы великое возрождение совершенного христианства, русский дух, пробудившись, уничтожил бы большевизм. Во время войны союзники обещали нам возвращение Царьграда, нашего имперского города, нашего Византия[209], колыбели Православной церкви. Но британцы были слишком слабы. Вместо того чтобы спасти Константинополь для Христа и пойти на конфликт с католической Европой, они кротко возвратили город Магомету. Это удивило даже турок. И разумеется, евреи в конце концов получили самую большую выгоду. Самая подходящая обстановка для спекулянта – всеобщая неуверенность. Чтобы создать такую обстановку, нужно обрушиться на старые, честные идеи, на традиционные методы этики и научного эксперимента. Маркс, Фрейд и Эйнштейн нашли прекрасный выход: они изобрели новые языки и открыли дорогу своим единоверцам-коммерсантам точно так же, как британские миссионеры в Китае открыли дорогу торговцам опиумом. Они подвергают сомнению вечные истины, и наши дети, не в силах справиться с потрясениями, бросаются в разные стороны в поисках интеллектуальных и моральных опор. Мы пребываем в смятении, а их легионы уничтожают наши запасы. Я знаю этих евреев. Я говорю на их языке. Они засунули кусок металла мне в живот. Они отняли у меня все. Я виню в этом своего отца. Моя мать была слишком добра. У меня нет ничего общего со старыми гарпиями, которые крадут мои запасы, как вороны, пирующие на трупе агнца. У меня с ними разговор недолгий. Я скорее буду общаться со странствующими потомками тех египтян, которые отказали в убежище Деве и Младенцу. По крайней мере, цыгане теперь стали христианами. Что касается турок, я говорю одно и то же: «Çok Ufak» или «Çok büyük»[210] – и заставляю их убраться. Я не хочу их денег. Я не еврей. Это темное дело. Я не дурак. Я совершал ошибки. Я не отрицаю этого. «О wieku, tys wiosna, czlowieka! Na lobie ziarno przyszlosci on sieje, Twoim on ogniem reszte wieku zyje!»[211], как говорят поляки. Я не боюсь fremder[212] или frestl[213]. Я живу с ними. Я жил среди них в течение многих лет. Но если ты знаешь что-то, это не значит, что ты сам этим становишься. Именно поэтому я так злюсь, когда меня принимают за еврея. Неужели санитарный врач сам становится одной из тех бактерий, которые он изучает? Строители городов не должны забывать о бдительности, ведь рядом бродят жадные кочевники. И строить ровные дороги и широкие ворота не всегда мудро. Я с самого начала их заподозрил. Вествей не мог принести нам выгоды. У меня были собственные представления о нашем районе: изумительный Северный Кенсингтон, идеал для всего Лондона. Большинство уроженцев Вест-Индии и азиатов следовало перевезти в Брикстон или обратно в те страны, где им будет удобнее. Если бы население сильно сократилось, можно было бы разбить пригородный парк, роскошнее, чем в Хэмпстеде. Это повысило бы стоимость недвижимости и привлекло бы представителей высших классов. Я отправил в совет подробный план. Я получил ответ из высоких сфер, от благородного депутата. Мои идеи произвели на него впечатление, и он собирался привлечь к ним внимание своих коллег. Но социалисты заставили его замолчать, поскольку я больше не получал от него известий. Его не переизбрали, и это уже говорит само за себя. Миссис Корнелиус называла мои идеи «чертовски изумительными», но ее больше заботило увеличение местных налогов. За совершенство придется платить, говорил я. Это была моя последняя попытка помочь новой родине. В годы войны я обращался к властям с самыми разными предложениями. Я описывал свои гигантские бомбардировщики, свои бомбы с ракетными двигателями, свои фиолетовые лучи. Я видел, как некоторые из моих идей воплощались в жизнь. Но я ничего не добился. Барнс Уоллес[214], этот ужасный шарлатан, мой соперник еще с тридцатых годов, приписал мои идеи себе. Тот, кто беседовал со мной в 1940‑м, а потом видел «Разрушителей плотин»[215], поймет, что я имею в виду. Эта кража в научных кругах считается самоочевидной. Неудивительно, что мистер Томпсон просил меня запатентовать все изобретения. Взгляните, какую репутацию приобрел этот вор Сикорский, когда уехал из России! Наконец-то все мои планы в безопасности. Кто бы их ни унаследовал, он извлечет выгоду, и таким образом память обо мне сохранится. Британское правительство ничего не получит. Патентному бюро нельзя доверять. Последнее письмо, которое я получил от них, было подписано фамилией Юдкин. Я все-таки слишком поздно выучил свой урок. Я ничему не научился в России. Я ничему не научился к тому времени, когда достиг Константинополя. Бог знает, сколько миллионов фунтов, по закону принадлежащих мне, теперь попали в чужие карманы. Тогда, впрочем, я не думал о своих интересах. Я все еще находился под впечатлением от эпического величия своего путешествия. Русский, который посещает Константинополь и великий собор Айя-София, совершает подлинное паломничество. Айя-София – одновременно величайший символ нашего рабства и нашего окончательного спасения. Хотя я в те времена был еще не слишком религиозен, но все-таки оставался патриотом. Русские понимали, как отважно британцы сражались с турками. Вы потеряли множество людей при Галлиполи. Вы гибли в месопотамских пустынях. Вы шли на Мекку под началом Лоуренса Аравийского[216]. Мы думали, что и вы так же ясно осознаете, сколько сделали мы. Мы думали, что Константинополь останется в безопасности до тех пор, пока мы не будем готовы принять его. Мы знали, какие узы братства связали Грецию и Англию. Но то, что мы считали великим идеализмом, подобным нашему собственному, оказалось лишь сентиментальностью нации лавочников. Мы слишком много надежд возлагали на способность британцев сопротивляться устремлениям итальянцев и французов. Эти католики совершенно не желали освобождения истинного центра христианства. Британской кровью завоеваны Дарданеллы, Мраморное море, Босфор. Британцы завоевали половину Азии, отбросили назад потомков монголов и гуннов, принесли свет христианства невежественным людям, построили церкви в Гималаях и джунглях Бирмы, установили царство правосудия, сдержали варварское распространение желтых рас. Кому же еще мы могли передать наше право первородства? Я могу понять и простить им предательство. Но простит ли Бог? Он прощает только тех, кто признается в своих грехах. Их империя распалась, их экономика рухнула, их культура повержена в прах, и они тонут в море среди мусора и обломков крушения, среди осколков колониальной славы. И что же, когда их самодовольный маленький островок тонет, они кричат в последнюю минуту «Меа culpa»? Нет! Они поют «Правь, Британия». Это ужасающее зрелище. На рассвете следующего дня я вышел на палубу и обнаружил, что корабль окутан густым туманом. Я не смог даже разглядеть, что происходит на баке. Прикрыв лицо шарфом, я осмотрелся и заметил в стороне какую-то неясную фигуру. Человек повернулся на звук моих шагов, и я увидел зеленое лицо, покрытое слоем румян. Это была гадалка. Она больше, чем когда-либо, напоминала странную героиню из театра марионеток. Я хотел спросить, не нужна ли ей помощь, но тут она произнесла на дурном немецком: «Mir est schlecht. Bitte, bringen Sie mir ein Becken»[217]. Я был потрясен. Она, несомненно, была русской, но все время принимала меня за немца или даже за еврея. Я отправился на поиски чашки, которая ей требовалась, но, когда вернулся, ее уже уводил с палубы муж, одетый в обычное пальто и брюки для верховой езды. Я хотел броситься за ними и сказать, что я такой же русский, как и они. Вместо этого я довольствовался слабым выкриком – полагаю, меня даже не услышали. Конечно, это был знак, но я тогда ничего не понял. Я оставался в одиночестве, меня принимали за иностранца даже мои соплеменники. Никто не признает меня. По крайней мере, в Лондоне я могу быть только иностранцем. Не имеет значения, как часто я посещаю православную церковь и как часто проповедую слово Христово. Я всегда буду изгоем. Я британский гражданин. Я прожил здесь полжизни. Я послужил этой стране лучше многих людей, которые здесь родились. И что с того? До сих пор fremder, до сих пор frestl. Что-то случилось в том ужасном украинском штетле, когда я был пленником евреев. Неужели иудей увидел, что мой разум слаб, и заразил меня отчаянием, использовав кусок металла? Я никогда этого не узнаю. Мой отец предал меня. Он поднял нож на своего маленького сына. Какому демоническому приказу он повиновался? Конечно, это не было слово Божье. Я замерзаю, и мне не хватает денег на их керосин. Теперь мне приходится питаться всякой дрянью – их жареной картошкой и кусками холодной рыбы. Борщ разливают в бутылки, и он стоит больше, чем я могу заплатить. Это кошерный борщ, там не сыщешь ветчины. Супы продают в банках. Хорошая еда мне уже не по средствам. Я пировал в роскоши, я ел из золотой посуды и пил из хрустальных бокалов. И все-таки в глубине души я понимал, что когда-нибудь окажусь здесь. Мое сломанное кресло стоит на полу, прикрытом тонким ковром. На руках у меня перчатки, одна для того, чтобы перелистывать бумагу, другая – чтобы держать ручку. Никто меня не слушает, никто не читает то, что я пишу. Все это – частное дело. Я доверял только миссис Корнелиус, а она умерла. Мне пришлось слишком дорого заплатить за свои мечты. Пьяные темнокожие люди приходят в мой магазин и плюют на мои куртки. Когда я жалуюсь, они приводят полицейских из отдела межнациональных отношений. Я слишком стар для споров. У меня нет сил. Британцы никого не защищают. Они считают меня склочным старым евреем, и это их вполне устраивает. А ведь именно я пытался предупредить их! Все происходящее напоминает ужасный кошмар. Я говорю, но меня не слышат. Меня не замечают. Подобную иронию могут оценить только русские. До войны меня признавали. Во Франции, Италии, Германии, Америке, Испании. Но из-за того ужасного недоразумения в Берлине, вызванного ревностью и злобой мелких людишек, я лишился даже своего места в истории. «Не стоит думать о прошлом», – так на днях сказал один человек в почтовом отделении. Пять лет назад отправить письмо можно было всего за три пенса! Это кажется невероятным. Они изменили нашу финансовую систему. Одним махом они отняли у нас половину ценности денег. Что это, как не международные финансы? А что такое международные финансы? Просто другое название всемирного еврейства? Мне говорят: «Прошлое – это прошлое», – как будто подобные фразы все объясняют. Но прошлое могло бы быть и настоящим, и будущим. В двадцатых мы полагали, что время материально, что его можно измерить, изучить, обработать, как пространство. Тогда мы были более самоуверенными. Мы говорили, что время повторяется и возвращается, мы говорили о временных циклах. Мы читали «Эксперименты со временем» Джона Донна и смотрели пьесы сэра Джека Б. Пресли[218]. Время стало маленькой, уютной тайной, просто старым другом, а не насмешливым костлявым всадником Средневековья. А потом появились ядерная энергия и расширяющаяся Вселенная. Время изменили мрачные моралисты, пособники Эйнштейна, эти вертлявые евреи. Мы снова оказались во власти толстогубых кочевников и пастухов. Евреи приносят в город хаос. Здесь они могут разделять и властвовать. Но еврей не понимает, что он завоевывает. Его правила противоречат нашим: кочевники не могут понять индивидов, которые наделены множеством уникальных особенностей. Они думают, что человек, который больше, нежели один человек, является злым; они думают, что Бог, который един в Трех лицах, не может существовать. Они требуют, чтобы окружающая среда постоянно менялась. Христос был пророком города. Он проповедовал оптимизм и разумный порядок. В городах Его услышали и приняли. Город – это история, ибо город – это человек. Он создал Свою собственную среду и правила. Он построил Шумер. Шумер был разрушен лишь тогда, когда город больше не мог жить по законам слепого повиновения. В пустыне это означает выживание, в городе – самоубийство. Я знаю этих хиппи. Они выезжают за город, чтобы искать Бога, как только наступает лето. Но Бог – это город. Город – это время. Город – наше истинное Спасение. Мы приспосабливаемся к нему, и город приспосабливается к нам. Одна только наука может помочь нам возвратиться к Богу. Я проиграл сражение, но, конечно, где-то война продолжается. Кочевники не могли окончательно победить. И будет война в Небесах, как поведал великий Генри Уильямс[219]. Люди должны прислушаться. Англичане консервативны и снисходительны. Они признают только своих соплеменников. Если бы они выслушали меня, у них появились бы лазеры, реактивные двигатели и ядерные реакторы гораздо раньше, чем у американцев. Самонадеянный Ллойд Джордж[220] в двадцатых годах планировал новое расширение империи. Ему следовало объединить силы с другими и проводить общую линию. Другие пришли бы ему на помощь. Но англичане решили продолжать борьбу в одиночестве, обманутые в точности так же, как побежденные ими турки. И они самодовольно зашагали по протоптанной дороге Абдула-Хамида[221], последнего истинного султана Оттоманской империи. Миссис Корнелиус очень внимательно слушала меня. Она все видела. В 1920‑х я думал, что она – типичная представительница поколения наблюдательных британцев. Я ошибался. Она воплощала прошлое. «Британцы – самые открытые люди в мире, – говорила она. – ’осмори на черт’вых иностранцев, к’торых мы ’ринимам». Снова и снова я пытался вас предупредить. Вас уничтожали изнутри. Даже ваши научные журналы не обращали на меня внимания. В «Новом ученом»[222] заправляют коммунисты. И все-таки им пришлось напечатать одно из моих писем. Партийная наука – не истинная наука, она не лучше магии, она хуже алхимии. Если научный идеал извращают во имя политической целесообразности, то вскоре всем начинают заправлять такие люди, как Лысенко или Хойл[223], – танцующие медведи, готовые плясать под любую дудку. Они готовы дать то, что нужно их хозяевам. Миссис Корнелиус утешала меня. Только она ценила силу моей преданности, но не боялась ни за мой разум, ни за мою душу. Она знала, что мир оценит меня – возможно, после того, как мы оба умрем. А ведь я хотел только знания. Я претерпел великое множество оскорблений – духовных, моральных, физических. Я как маленькое степное дерево с длинными корнями, которое гнется на ветру и никогда не ломается. Посадите меня на Портобелло-роуд, окружите афроамериканцами и азиатами, накормите еврейскими «Вимпи»[224] и корнуоллскими мясными пирогами – и все равно я выживу. Некоторые пожилые люди у Финча и в «Принцессе Александре» слушают меня. Я теперь слишком беден, чтобы ходить в «Элджин», миссис Корнелиус умерла. Ее друзья знали, что такое истинное страдание. Они еще помнили тридцатые годы и две войны. Но только старый грек знает, что на самом деле означает число «1453». Он продает рыбу и жареный картофель напротив моего магазина. От него воняет жиром и уксусом. Его одежда покрыта коричневыми пятнами, как и кожа. Люди уважают его ничуть не больше, чем меня. Когда последний император Византии умер на стенах своего города, сжимая в руке меч, на турках были доспехи и золотые шлемы. Они несли знамена ислама и выкрикивали имя Аллаха. Турки пришли со своими ятаганами и своими рабами, своими евнухами и своими гаремами, своими мечетями и своими имамами, и они овладели Константинополем. Но теперь турки маскируются. Он потешаются над Бастером Китоном в кинотеатре «Националь», они посещают лекции в Лондонской школе экономики, они пьют пиво в пабах и спят с суррейскими девственницами. Они становятся звездами сцены или дантистами. Они мило улыбаются и говорят тихими приятными голосами. Но за этим фасадом всегда кроется 1453‑й. Через тысячу лет устремления турок не изменились. Они одинаковы – с тех самых пор, как гунны, предки турок, впервые вторглись на Запад, когда душегуб Баязет привел свои войска к стенам Константинополя и отступил. Он потомок Аттилы и брат Тамерлана. От евреев он узнал, как подкупать продажных, чтобы победить отважных и погубить сильных. Арабы верят, что избавились от его империи, и все же продолжают его дело, не понимая этого. Старый грек знает все о турках (турок держит меч за спиной, когда молит о помощи, простирая к вам одну руку), но он – грек, и потому ничего не делает. Он только говорит. Он улыбается и предлагает мне остатки своих товаров, мягкую пикшу и кусочки холодной трески. «Вы добрый христианин», – говорю я ему. Мы оба знаем, что доброта и смирение – это настоящее самоубийство. Но какова альтернатива? Вот парадокс, с которым всем нам приходится жить. Вот главнейшая тайна христианства. Мне часто задавали этот вопрос: «Сколько же еще тысячелетий мы, щедрые, благородные люди Запада, будем страдать от алчности коварного Востока?» Ответ прост. Мне жаль, что я не знал его в 1920‑м, когда «Рио-Круз» плыл по Босфору. Теперь я говорю: «Пока христианский император не отслужит мессу в Айя-Софии!» С крестом и мечом света он придет с Запада, чтобы отомстить за нас! Он растопчет темных потомков Карфагена, они падут под серебряными копытами белоснежной лошади! Карфаген не ведает идеалов, кроме завоевания, не ведает радости, кроме жестокости, не ведает братства, кроме братства меча. Они – дети Каина, зараженные древним злом. Они должны погибнуть. Агнец восстанет над Константинополем, и две ноги его будут в Европе, а две – в Азии! Бежать в Австралию – это не решение. Гунн уже в Вене. Он в Брюсселе и Париже. Он в Берне и Баден-Бадене. Он достиг ворот Стокгольма и Осло! Неужели наши христианские рыцари гибли тысячами впустую? И никто не слышал о стандартных приемах коммунистов? Когда прямая атака невозможна – обманом проникни внутрь. И неужели сенатор Маккарти[225] был тем самым вопиющим в пустыне? Говорят, у Адольфа Гитлера был темный разум. Если это верно, тогда у меня тоже темный разум. Я знаю врага, мне известна его тактика. И за это они посадят меня в сумасшедший дом? Только в прошлое воскресенье какой-то английский генерал написал в газету, что не может понять, почему так много казаков, украинцев и белогвардейцев присоединились к немецкой армии. Я послал ответное письмо. Они решили отомстить всем, кто их предал. Сталин одинаково боялся патриотов и предателей. Он убил всех выживших. Грузин, как мы говорили, – этопросто турок, надевший чистое пальто. Я уже охрип, предупреждая всех вокруг, мои силы слабеют. Я заблудился в этих диких местах, среди грязи и мерзости. Меня атакуют со всех сторон. На меня клевещут. Матерь Божья! Что я еще могу отдать? Неужели мне некому передать свое знание? Где мои сыновья и дочери? Один ребенок – все, чего я хочу. Неужели и это слишком много? Белый свет очищает мой разум, и ртуть течет из моих глаз. В снегу – ангелы, их мечи – из серебра. Маленькие девочки в хлопковых платьях бегут ко мне с клочками бумаги, а я не могу прочитать, что там написано. Они ослепляют меня. Карфаген на горизонте. Византия сияет, как зеркало. Предстоит последняя война. И рыцари Христовы спят. О, как я завидую этим самоуверенным евреям! Туман был у меня во рту. Туман был у меня во рту. Судно ползло по бурному, шумному, невидимому морю. То и дело слышался жалобный стон корабля, который почти немедленно заглушался и искажался в тумане. Я дрожал, кутаясь в пальто, пальцы сомкнулись на пистолетах. Палуба как-то суетливо раскачивалась у меня под ногами. Я видел, что темные тени появлялись и исчезали на мостике, но никто ничего не говорил. Казалось, иногда на наши сигналы отвечали другие сирены, но, возможно, это было просто эхо. Я философски задумался о том, могла ли моя жизнь завершиться, пройдя полный круг, мог ли я умереть в тот же день, в который родился, так и не увидев Константинополя. Эти мысли отвлекли меня. Наверное, я страдал от жажды и передозировки кокаина, но внезапно пришел к выводу, что у меня симптомы сыпного тифа Герникова. Впрочем, я чувствовал себя спокойным и уравновешенным. И вновь сирена, подобная трубному гласу, заставила все судно содрогнуться. Я провел по губам влажной перчаткой. Туман, словно руки мертвецов, цеплялся за дубовые и медные детали корабля. Не сумев разглядеть берег, я решил вновь прибегнуть к помощи кокаина. Я верил в укрепляющую силу этого средства, по крайней мере, порошок должен был помочь мне продержаться до тех пор, пока я хоть мельком не увижу Византию. Я ни за что не хотел пропустить это зрелище – мне много раз говорили, что это одно из величайших чудес мира. Я решил: если я умру, то умру, созерцая рай. Я спустился по трапу на нашу палубу, открыл дверь каюты и неожиданно обнаружил, что миссис Корнелиус не спит. – Боже мой, – сказала она, – шо за день, а? Поверишь или не, но я ’се ж п’завтракаю нынче утром. Ее уверенность помогла мне успокоиться. – Ты поел, Иван? – Еще нет. Миссис Корнелиус встала и занялась своим туалетом, а я, дрожа, опустился на ее койку. Отвернувшись от своей спутницы, как обычно, я смог вдохнуть еще немного кокаина. Почти тотчас же я почувствовал себя лучше. Миссис Корнелиус уже надела зеленое шелковое платье, небрежно набросив сверху норковую шубку: – Неплохо, – заметила она. В обеденном салоне она заказала большой завтрак. – Черт’в туман, – сказала она. – Я‑то надеялась посмотреть вид. Ни разу с эт стороны не видала. – Она встревожилась, обнаружив на своем платье несколько пятен. – Откуда они ’зялись? – Она попыталась очистить платье. – У нас шо-т было прошлой нотчью, так? Она скрестила ноги, сияя от восторга, как будто добилась поставленной цели. Мальчик принес ей яичницу с беконом, которая выглядела просто отвратительно. Все остальные брали черный хлеб, омлет и чай. Миссис Корнелиус причмокнула губами и стряхнула сахар на свой тост, как обычно. – Никада не знашь, када случится позавтракать в следующий раз, – пояснила она. – Кажись, я целых шесть лет так не ела. Она быстро проглотила свою порцию, заказав еще одну яичницу с беконом раньше, чем опустела первая тарелка. – Тьбе лучше принести тост и мармелад, – заявила она мальчику. Мой желудок был слишком слаб для подобного испытания. Я сказал, что хочу подышать воздухом. – Уви’имся на палубе, – пообещала она. Туман начал рассеиваться, но берег все еще нельзя было разглядеть. Однако след за кормой судна уже стал заметен. Я закурил сигарету и облокотился на поручень у кормы. Баронесса отыскала меня, когда я начал сильно кашлять. Я прилагал все усилия, чтобы прекратить приступ, но ничего не получалось. – Ты выглядишь больным, Симка. Не подхватил ли ты то же, что и бедный Герников? Это так меня встревожило, что кашель начался заново. Я не мог рассказать ей о своих страхах. Не следовало устраивать панику на борту судна. – Вы с женой придумали, где остановиться в Константинополе? – спросила она. Я покачал головой. – Нужно постараться не терять связь. Я кивнул. Меня настиг еще один приступ кашля. Баронесса была равнодушна и спокойна. Возможно, она уже готовилась к расставанию. Мне, однако, она казалась оскорбленной. Я, нахмурившись, глядел на нее. Я не мог говорить. Она приняла мой хмурый взгляд за вопрос и принесла извинения: – Я сегодня не в себе. От волнения, полагаю. Я в первый раз в стране, где никто не говорит по-русски. Я больше боялся за себя. Я решил, что должен, не привлекая внимания, отыскать санитарку или доктора, как только появится такая возможность. Неподалеку прогуливался Джек Брэгг. Он зачесал светлые волосы назад, его розовое лицо сияло под темно-синей фуражкой. – Смотреть, боюсь, особенно не на что. В другое время уже можно было бы разглядеть оба берега. Но постепенно туман расходится. – Потом он пробормотал, как будто ни к кому не обращаясь: – Нам бы очень повезло, если бы все это проклятое место сгинуло. – Его брат во время войны побывал в плену в Скутари, и Джек не испытывал любви к туркам. – Где вы остановитесь? В Пере? Я сказал, что жена обо всем договорилась. Джек предостерег меня: – Неужели вы не можете попросить кого-то из знакомых приютить вас на время? Даже лучшие из турков ограбят вас, если смогут. А что касается армян… В турецкой столице к армянам относились так же, как к евреям в Одессе. Тусклый солнечный свет уже пробивался сквозь туман. Брэгг напоминал собаку, почуявшую запах дичи. – Ага! Он всмотрелся вперед, а потом взмахнул трубкой, показывая куда-то вдаль. Мы с баронессой обернулись. Туман отступил, как занавес, и корабль внезапно вошел в более прозрачную воду. Я увидел темно-серую полосу, которая оказалась береговой линией. Там были довольно обычные квадратные здания и несколько деревьев. Ничего похожего на обещанное чудесное зрелище. – Константинополь кажется довольно скучным. – Баронесса взволнованно рассмеялась. – Полагаю, так всегда и бывает. Действительность неизменно разочаровывает. Издалека послышался вой сирен с невидимых кораблей. Каик под треугольным парусом прошел мимо правого борта. Он сильно клонился набок. Бриз усиливался. Я начал различать множество таинственных шумов, как будто совсем рядом с нами разворачивалась энергичная деятельность. Корабль сделал поворот и вошел в гавань. Тогда клочья тумана остались позади – как обрывки одежды, они спадали с корабельной оснастки. Мы немедленно вышли на открытую воду. Очертания берега стали более четкими. У края воды я разглядел большие здания, как будто поднимавшиеся прямо из моря. Они, похоже, были построены из серого известняка. Мелкий моросящий дождь падал с облаков, словно прозрачный жемчуг. Буксиры, два-три маленьких парохода, колесный пароход с кормовым колесом, множество парусников – все они деловито перемещались вдалеке от нас. Казалось, тут собрались корабли из разных столетий. Справа от меня был европейский берег, слева – азиатский. Я смотрел то в одну сторону, то в другую. Я ожидал слишком многого, но над обоими берегами повисла непроницаемая пелена тумана. Мы миновали небольшие белые здания и тонкие деревья, крошечные причалы, к которым были привязаны одномачтовые рыбацкие каики; темнолицые мужчины в простых рубахах катили бочки, перетаскивали ящики и чинили сети, как прибрежные рабочие во всем мире. Большинство моряков, однако, носили красные исламские фески. Все больше кораблей появлялось вокруг нас, они мчались в разные стороны, дымя, скрипя, гудя, как будто совершенно неуправляемые. Каики носились взад-вперед с немыслимой скоростью, как маленькие электромобили на выставке. Меня взволновала эта обычная повседневная суета. Здесь все было иначе, не так, как в безмолвных, тревожных, мрачных русских портах, в которых мы останавливались прежде. И все же я был разочарован. Константинополь оказался обычным оживленным морским портом, более крупным, чем довоенная Одесса, но не слишком отличавшимся от нее. Однако мне было приятно видеть такую активную деятельность и не слышать орудийных залпов. «Рио-Круз» снизил скорость вчетверо, сделав поворот на правый борт. Сирена резко взвыла, когда нос нашего судна оказался совсем рядом с колесным пароходом, заполненным безразличными левантинцами. Тридцать смуглых голов без особого интереса повернулось в нашу сторону: собрание засаленных тюрбанов, фесок, бурнусов и бумазейных шапок. На бортах парохода выделялись ярко-красные полосы. На покрытой копотью трубе красовался серебристый исламский полумесяц. Направляясь к азиатскому берегу, пароход стучал, как швейная машинка, а наше собственное судно ворчало, словно сварливая старая леди, потревоженная хулиганами. Теперь в шуме гавани послышались человеческие голоса. Я уловил знакомые запахи горящей нефти и сладких специй. Позабыв о своем предполагаемом сыпном тифе, я оживился, а баронесса, напротив, почему-то становилась все задумчивее и мрачнее. Крики на разных языках звучали то громче, то тише, как будто подчиняясь ритму волн. Когда взошло солнце, морось рассеялась. Джек Брэгг вернулся, чтобы проследить за моряками, которые возились с канатами и оснасткой, потом судовые двигатели заработали в другом ритме – сильный, медленный глухой стук встряхивал весь корпус корабля каждые несколько секунд. На мостике ясный, решительный голос капитана растворялся в гомоне, несшемся из порта, – мы подплывали все ближе к европейскому берегу. Я мог уже различить людей, небольшие кафе с выступавшими над водой балконами, на которых пили кофе и беседовали турки, не обращавшие на нас внимания. Я видел частые ряды вечнозеленых растений, бесчисленные тропинки, ведущие прочь от берега, от скопищ зданий, ящиков, бочек и мешков, загромождавших причалы. И тогда наконец солнечные лучи засияли в полную силу, туманная преграда рассеялась и мы смогли разглядеть всю панораму. Она меня поразила – я не сознавал, как много оставалось вне поля зрения. Внезапно Константинополь озарился ярким светом. Говорить стало невозможно. Думаю, даже баронесса была поражена. Я перестал обращать внимание на корабли, голоса или какие-то другие обычные детали портовой жизни. Сквозь массивные густые облака солнце распростерло золотой веер лучей шириной в милю над городами-спутниками Стамбулом и Перой, которые располагались на холмистых берегах по обе стороны Золотого Рога[226]. Через несколько секунд исчезли даже воспоминания о тумане, и здания засветились и засверкали в прохладном ярком свете. Древний Византий со своими зубчатыми башенками и крепостями находился слева от меня, а коммерческая Галата распростерлась справа – новые здания, казалось, прижимались друг к другу на всем протяжении гавани. Подобно Риму, древний город был основан на семи холмах, и на каждом холме виднелись томные тополя, зеленые парки и аккуратные сады, тонкие башни и массивные купола. Сразу у береговой линии начинался Константинополь – один поразительный ярус над другим, уникальная алхимия истории и географии, архитектурная коллекция, собиравшаяся две тысячи лет. Зимнее солнце мерцало на мраморных крышах и золотило минареты, согревало нежные зеленые кипарисы. Повсюду были мечети, церкви и дворцы. Наш корабль и саму гавань затмевали разнообразные массивные каменные строения. Торговые корабли, эсминцы, фрегаты, буксиры роились у основания города, как мелкие мошки на поверхности воды. Я не ожидал увидеть нечто настолько величественное, настолько восточное и фантастическое. Даже заводской дым, поднимавшийся тонкими столбиками в дюжине мест, мог исходить от экзотического аравийского костра. Я почти поверил, что он вот-вот примет форму гигантских духов или летающих коней. В тот миг я мог вообразить себя Гаруном-аль-Рашидом или странствующим Одиссеем, впервые узревшим ослепительную Трою. Это видение было почти болезненным в своем разнообразии и красоте: наш имперский город. «Рио-Круз» постепенно приближался к низкому мосту, соединявшему Стамбул и Галату, его очертания были почти полностью скрыты множеством кораблей и лодок, пришвартованных к этому сооружению. У обоих концов моста стояли мечети с огромными куполами, окруженными высокими тонкими башнями из мрамора. Последнее из облаков удалилось к горизонту и повисло там, белое и огромное, посреди сверкающей синевы. И мне открылись новые детали облика двух городов: минарет над минаретом, купол над куполом, дворец над дворцом, на огромной высоте, у нас над головами. Здесь была слава Византии, повторенная тысячу раз завистливыми преемниками Сулеймана, которые считали себя хранителями традиций Константина, даже несмотря на то, что принесли в его город свою веру. Все их мечети были построены в подражание Айя-Софии, которая теперь сама стала мечетью, – зтот благороднейший храм, величайший из всех, возведенных во славу Христову. Сияя зеленью, золотом и белизной в легком солнечном свете, город выглядел крупнее, запутаннее и древнее всех тех городов, которые я видел прежде. Когда я это осознал, меня на мгновение охватил ужас. Как легко можно было исчезнуть в Константинополе, заблудиться, сгинуть, пропасть в лабиринтах его бескрайних базаров. По сравнению с Константинополем Одесса казалась всего лишь небольшим провинциальным городом. Джек Брэгг ненадолго присоединился к нам. Он снисходительно улыбнулся: – Выглядит внушительно, но подождите – вы еще почувствуете здешний запах. Мы пришвартуемся у европейской таможни, на том причале. Но сначала нам нужно направиться к Хайдарпаше. – Он указал на азиатскую сторону города. – В Скутари. В большинстве мест этот пролив не шире Темзы. Но какой удивительный водораздел! Его хладнокровие меня возмутило. Эти слова разрушили мои мечты, которые превращались в настоящие молитвы. Я попытался вобрать в себя сразу весь этот город. Корабль повернулся кормой к Византии и начал двигаться к восточному берегу, где поодаль друг от друга стояли более новые и высокие официальные здания, хотя среди деревьев еще виднелись купола и минареты. Мы приблизились к иностранным военным кораблям, ходившим под флагами Италии, Америки, Греции, Франции и Англии – кресты Христовы, триколоры свободы. Не было только нашего российского флага. Мы в течение многих столетий обещали вернуть Константинополь Христу, и накануне победы сами сбились с пути и уничтожили друг друга в кровавом пламени гражданской войны. Наверное, я расплакался, когда миссис Корнелиус, прикрывая лицо носовым платком, пропитанным одеколоном, приблизилась, пошатываясь, встала между мной и баронессой и, приходя в себя, осмотрела панораму, а потом широко открыла глаза: – Боже ж мой! Чертовски х’рошо выгля’ит с эт ст’р’ны, верно? – Она бывала в Константинополе проездом в 1914‑м с возлюбленным-персом. – Так близко и так дьяв’льски далеко, а, Иван? Русские пассажиры по двое и по трое начали выбираться на палубу. Все они испытывали страх и, мне кажется, трепет. Константинополь был основой нашей глубинной мифологии, он значил для нас гораздо больше, чем Рим для католиков. Мimari Kimdir![227] В последние годы миллионы людей умерли, искренне веря, что их жертва поможет нашему царю лично водрузить русского орла над Блистательной Портой. Плакаты утверждали, что торжествующий царь, подняв огромный меч, поставит ногу на шею павшего султана. И тогда царь приведет своих рыцарей к дверям Святой Софии и потребует возвратить Христу наш старейший храм после пятисот лет унизительного рабства. Вот самое худшее деяние большевиков – они приказали русским людям прекратить войну с турками и заставили нас уничтожать друг друга. Моим единственным утешением стал греческий флаг с синим крестом, который вился по ветру рядом с государственным флагом Соединенного Королевства. Когда еврейские хозяева Ленина заставили нас прекратить крестовый поход, греки отважно подняли знамя нашего Спасителя[228]. Но вскоре были обмануты и греки. Теперь сирена «Рио-Круза» словно бы приветствовала другие суда. Я тогда пожалел, что не могу ступить на берег в форме донского казака как истинный представитель своей страны. Но было бы безумием подчиниться этому импульсу. Я удовольствовался краткой молитвой. Трое русских стариков уже опустились на колени. Многие рыдали и сжимали руками поручни. Айя-София была свободна от Ислама! Мы думали, что Христос вернулся. Но как мы могли предвидеть следующее предательство? Как раз тогда, когда «Рио-Круз» глушил двигатели у каменных причалов Скутари, европейские евреи, сидевшие в безопасности в своих финансовых крепостях, управляли капиталами союзников. Вскоре они стравили все нации. Еврей, называвший себя греком и носивший британский аристократический титул, стал главным организатором грядущего предательства: Захаров[229], оружейный король, уже продавал вооружение и грекам, и туркам, и армянам. Он ел хлеб с премьер-министром Венизелосом и пил ароматный кофе с нераскаявшимся защитником ислама, Мустафой Кемалем[230]. И он лгал всем и каждому. Он хвастался, что в его венах течет кровь святого Павла, а затем отдал свой родной город Магомету. Сдача Константинополя стала еще одной строкой в бухгалтерских книгах «Викерс – Армстронг»[231]. Корабль наконец пришвартовался. Рослые британские офицеры стояли на пристани, непринужденно беседуя с одетыми в хаки турками в красных фесках. Они едва взглянули на нас. Высокие, закрытые ставнями окна таможни стали превосходными насестами для нетерпеливых чаек, которые, казалось, были нам рады гораздо больше, чем люди. Автомобиль с красным крестом остановился у ворот. Из машины вышли доктор и санитарка. От волнения, от страха или от физической слабости я начал дрожать. Возможно, я впервые осознал, что освободился от России. Пуповину перерезали. Баронесса едва ли заметила мое состояние. Она интересовалась состоянием своей дочери. Встав в центральной части палубы, Джек Брэгг поднес к губам мегафон и объявил пассажирам, что возможна небольшая задержка, пока будут осуществляться необходимые проверки. У греческого священника, служившего Джеку переводчиком, на лице застыло спокойное выражение – он напоминал икону, его черные руки тряслись, когда он совершал умиротворяющие жесты. Я оглянулся назад, на сияющую Византию, оставшуюся по ту сторону пролива. Именно здесь, предположил я, сидели в седлах первые гунны из вражеских орд; они щурили глаза и облизывали губы, предвкушая огромную добычу. Торговый центр всего мира, Византия находилась в состоянии упадка уже тогда, больше тысячи лет назад. Я все еще мог разглядеть ее далекие дворцы, ее зеленые и золотые холмы. На этом расстоянии она казалась неизменной, такой же, какой могла быть во времена Феодосия или Юстиниана Великого. И на протяжении тысячи лет моралисты называли ее упадочной и предсказывали конец, и все же ни один город, даже Рим, не сохранил своих изначальных свойств в той мере, в какой их сохранил Константинополь. Миссис Корнелиус посмотрела на меня: – Ты в ’орядке, Иван? По-прежнему не в силах сдержать дрожь, я ничем не мог успокоить свою подругу. Я пытался заговорить, но мне не удалось. В горле было слишком сухо. Кажется, мои ноги подломились, хотя сознания я не терял. Я помню, как миссис Корнелиус проговорила: «’от дерьмо! Надо ж, черт ’обьри, ’овезло!» Опустившись у поручней, я увидел, как на борт поднимались первые офицеры. Я попытался встать, но снова рухнул – прямо к ее ногам. Я узрел свой рай. Теперь я чувствовал, что должен умереть.Глава пятая
В среду 1 января 1920 года я умер русским, а 14 января (по западному календарю) родился космополитом. Я перенес сыпной тиф. Для собственного успокоения британский доктор диагностировал перевозбуждение и истощение. Ich kann nicht so lange warten[232]. Судя по рассказам миссис Корнелиус и баронессы, я бредил на полудюжине различных языков. У меня были видения. Я говорил о своих любимых, о матери, Эсме, капитане Брауне, Коле, Шуре и остальных. Я вновь переживал славу и ужасы своего прошлого. Мне сказали, что чаще всего я представлял себя мальчиком в Одессе. Это меня не удивило. В Одессе я расстался с юностью (но в Константинополе мне предстояло обрести человечность). К тому времени, когда я очнулся, уже стемнело. Я качался в широкой койке с высокими бортиками, как в колыбели. В слабом искусственном свете я разглядел сидевшую рядом баронессу. Ее волосы были растрепаны, на ней были надеты коричневое бархатное платье и желтый передник. Баронесса держала меня за руку, но сама дремала. Я слабо попытался подняться, но обнаружил, что ноги меня не слушаются. Веря, как всегда, в победу разума над материей, я не стал паниковать. Я знал, что в конце концов смогу ходить, требовалось только усилие воли. Когда я сжал руку баронессы, ее глаза механически открылись, как у куклы. – Где я, Леда Николаевна? – Это личная каюта капитана Монье-Уилльямса, Симка. Доктор думает, что ты в каком-то шоке. У тебя не сыпной тиф, однако всех уже проверили. Кажется, эпидемии на борту все-таки нет. Я промолчал – пусть верит в то, что ее успокаивает. – А госпожа Пятницкая? Как выяснилось, она помогала ухаживать за мной, теперь же наслаждалась поздним обедом. – Она сказала, что заглянет перед сном. И Джек Брэгг, и мистер Томпсон будут навещать тебя. Все мы, конечно, в карантине. Но это продлится недолго. Тогда я поверил (и верю теперь), что случилось чудо. Я был спасен, чтобы исполнить свою миссию. – Надеюсь, кокаин все еще у меня в багаже. Я верил в силу наркотика гораздо больше, чем в способности врача-шарлатана. – Я не смогу его забрать. Конечно, я ничего не сказала доктору. Я погрузился в сон. У меня не было ни малейшей зависимости от наркотика, но его целебные свойства помогли бы мне излечиться. Уже тогда кокаин начал приобретать дурную славу. Художники рисовали мужчин, падающих в обморок на коленях у жен, и сопровождали картины надписью «Кокаин!». «Кока-кола» была вынуждена убрать это вещество из состава[233]. Преследование завершилось запретом. Пока кокаин оставался доступным, международные фармацевтические компании ничего не могли поделать с этим средством. Эти компании хотели захватить все – так им удалось поставить свою марку на этот препарат и возвестить о нем как о чудодейственном лекарстве. Поэтому они втайне распространяли ложные сведения об отрицательных свойствах кокаина и старались представить потребителей порошка дегенератами. Как иронично это ни звучит, но употребление кокаина, вероятно, спасло меня от тяжелой формы сыпного тифа. Я проснулся всего через полчаса или чуть позже. Леда по-прежнему сидела рядом. – Ты должен простить меня, если я несколько странно себя вела нынче утром, – нежно заметила она. – Я думала, что ты неестественно холоден со мной. Теперь я понимаю, что ты был болен. Все еще хочешь договориться о встрече в Константинополе? – Она взяла влажный платок и отерла мой лоб. – Есть ресторан, куда ходят русские. Если мы расстанемся, то разыщем друг друга в «Токатлиане». – Я запомню. – Я говорил очень тихо. Меня все еще удивляло, что я остался в живых. Она смочила водой мои губы. – Бедный маленький старый мореход[234]. Это сравнение показалось мне непонятным, и теперь оно не стало яснее. Я никогда не видел альбатроса, уже не говоря о том, что никогда не убивал альбатроса стрелой. Меня всегда беспокоили люди, которым нравятся литературные параллели. Стихи и рассказы, которые они читали, что-то значили только для них и не имели практически никакого отношения к действительности. Но она была романтична, моя баронесса, и, наверное, я любил ее именно за это. Возможно, я чрезмерно погружен в науку. Я знал многих великих поэтов. И мало кто из них показался мне нормальным здоровым человеком. Что касается новой школы Т. С. Элиота[235] и ее попыток прославить язык и нравы трущоб, то у меня все это вызывает отвращение. Я наслушался подобной дряни на родине, когда люди вроде Мандельштама и Маяковского использовали жаргон, чтобы порадовать своих красных покровителей. Я не вижу ничего хорошего в том, что футбольные хулиганы и мелкая шпана возводятся в ранг полубогов. Баронесса прикрыла лампу, когда я объяснил, что свет вреден моим глазам. Может, я хотел, чтобы она мне почитала? Я спросил, можно ли отыскать на корабле газету, предпочтительно английскую. Леда где-то видела каирскую «Таймс». Она отправилась на поиски. Не знаю, кто меня раздевал, но на мне была чужая пижама. Я попытался найти свою одежду, чтобы выяснить, не осталось ли в карманах кокаина. Но одежду, по-видимому, унесли на дезинфекцию. Я задумался, почему назначен такой короткий срок карантина. Теперь стало очевидно, что все опасались паники из-за сыпного тифа. По этой причине мой приступ объяснили истощением и перевозбуждением. Я тогда был слишком наивен и не мог понять, как часто власти руководствовались в своих действиях сиюминутной выгодой. Леда вернулась и принесла газету. Там было полно новостей о мирных конференциях и политических решениях. Нашлось несколько упоминаний о России: мистер такой-то собирался вступить в переговоры с мистером Лениным или мистером Троцким. Более содержательными оказались обычные отчеты из Лондона: король побывал на строительстве нового дирижабля, Ллойд Джордж произнес очередную речь, в которой проявился его крайний радикализм, в конечном счете уничтоживший и его, и его партию. Звучало немало предостережений о разгуле социализма в Англии. Германии уже угрожало красное нашествие, как и Франции и Италии (там Ватикан вступил в союз с коммунистами). Страдания России почти никого ничему не научили. Неужели люди и впрямь завидовали нашей смертельной борьбе? Я сказал Леде, что хотел бы услышать о победах людей, а не об их безумии. После этого она почти сразу прекратила чтение. Еще два дня я лежал в каюте капитана, пил безвкусный бульон, принимал мерзкие лекарства. Наконец старательный медик с одутловатым лицом, который брезговал ко мне прикасаться, объявил, что я здоров. Миссис Корнелиус к тому времени переехала в Перу и остановилась в «Паласе». Корабль покинул Скутари и достиг европейской части города, мои бумаги и вещи были продезинфицированы. Я мог покинуть «Рио-Круз» когда угодно. Джек Брэгг помог баронессе подыскать временное жилье в немецкой семье, неподалеку от артиллерийских казарм. Мое помещение располагалось ближе, в центральной части Перы. В этой части доков Галаты не было такси (Галата и Пера находились на Босфорском берегу понтонного моста), и мне посоветовали воспользоваться общественным транспортом. Капитан Монье-Уилльямс пожал мне руку и пообещал, что мой багаж переправят в отель. Я передал наилучшие пожелания Томпсону и Брэггу, уже сошедшим на берег, потом упаковал маленькую сумку, все еще чувствуя слабость, прошел по палубе опустевшего «Рио-Круза» и спустился по трапу на каменные плиты пристани. Оказавшись на твердой земле после длительного перерыва, я долго не мог привыкнуть к позабытым ощущениям. Сержант провел меня через ограждение, мимо серых респектабельных таможенных контор, мы вышли на оживленную улицу, где здания оказались с виду гораздо менее презентабельными – ободранная побелка, рваные плакаты, осыпающаяся краска, разбитые окна. Сержант приподнял руку, в которой держал мелкую монету. – Вот там вы можете сесть в трамвай, – сказал он и указал на грязный зеленый знак. – Вам нужен номер один. Он развернулся и зашагал прочь. На холмах еще было светло, а внизу уже лежал туман. На мгновение я почувствовал себя всеми покинутым. Я с огорчением подумал, что капитан мог бы поступить и повежливее – по крайней мере, приказать матросу сопроводить меня до отеля. Позже, однако, я почувствовал благодарность за этот новый опыт. Посреди нового города всегда лучше остаться в одиночестве – так можно быстро узнать дорогу, выяснить, на каких языках говорят местные жители, и так далее. Французским я владел слабее всех прочих языков, но обнаружил, что этих знаний вполне достаточно. Я вспомнил почти все слова, когда начал обращать внимание на знаки и рекламные объявления. Половина была на французском. Номер 1, как мне сказали, шел до Гран Шамп де Морт, кладбища для иностранцев. Мне нужно было сойти на Пти Шамп. Я ждал на узком грязном тротуаре, окруженном десятками ветхих зданий, пытаясь сберечь свои вещи. Дома, расположенные на причале, закрывали мне вид на гавань, но я мог разглядеть отдельные мачты и трубы и осмотреть Галатский мост. Потоки людей перемещались по нему взад и вперед, между Стамбулом и Галатой. У остановки трамвая было несколько магазинов с грязными окнами, там продавали дрянную мебель, старинные безделушки, лампы и столы с инкрустацией. Со всех сторон двигались толпы, медленно, но на удивление оживленно. Именно такого многообразия я и ожидал: турки, армяне, белые, евреи, русские, а еще моряки из всех крупных европейских стран. Однако ни один белый человек не мог пройти по улице и нескольких ярдов – почти сразу же рядом появлялись докучливые еврейские нищие. Как ни были увечны эти евреи, они все равно тянули к прохожим искривленные пальцы. Мрачные улицы, уводившие вверх, к Пере, казались таинственными ущельями. Во многих проулках виднелись огромные лестничные пролеты – настолько резким был подъем. Там ютились самые разнообразные нищие, продавцы ковров, масла, конфет. Кое-где мальчики на велосипедах, к которым были привязаны автомобильные клаксоны, пытались пробраться сквозь скопище автомобилей, ослов, арб, изящных экипажей и даже портшезов. Эти переулки насквозь провоняли лошадиным навозом, собачатиной, человеческой мочой, кофе, жареной бараниной, табаком, специями и духами. Женщины в чадрах были почти столь же многочисленны, как мужчины, их глаза сверкали сквозь прорези покрывал, как камешки на дне реки. Я знал, что иностранцам не следовало проявлять интерес к турецким дамам, и старался не встречаться с ними взглядами. Я и так боялся, что мне перережут горло из-за золота. Не стоило рисковать из-за пустяков. В конце концов, потрескивая и звеня, к остановке подошел грязнозеленый трамвай номер 1. Его медные и деревянные детали были покрыты такими вмятинами и царапинами, как будто вагон побывал на передовой. Когда я попытался подняться на подножку, то попал прямо в гущу толпы. Отовсюду внезапно появились турки в фесках, греки в котелках, армяне в каракулевых шапках. Меня понесло вверх, и времени хватило только на то, чтобы отдать серебряную монету за билет первого класса с французской надписью. Проводник небрежно забрал деньги, взял меня за руку и потянул в заднюю часть трамвая, где было меньше людей. Когда я начал садиться на одну из деревянных скамей, со всех сторон послышалось возмущенное шипение. Черные глаза ярко сверкали из-под покрывал. Я с ужасом понял, что оказался в секции «только для дам». Проводник увидел меня. Он закричал по-турецки, сурово указывая на знак, почти совершенно стертый, который было невозможно прочесть. Покраснев, я в конце концов устроился возле благородного черкеса в длинной шинели с патронташами на груди и мягких сапогах для верховой езды. Черкес держал на коленях портфель и поглаживал длинные седые усы, которые спускались ему на грудь, словно хвосты мохнатых грызунов. Он смотрел в окно на уличные толпы. Я сказал ему по-русски: «Доброе утро!», но ответа не получил. Заморосил дождь. Трамвай сильно трясся, останавливался, затем продолжал тягостное путешествие по крутым, извилистым улицам. Со всех сторон вагон окружали люди – мужчины и женщины, юноши и девушки, в перемещениях которых не было никакого смысла. Большинство носили какие-то западные одеяния, иногда сочетавшиеся с восточными, все казались не особенно чистыми. Но по крайней мере я наблюдая обычную жизнь – жизнь, которую я видел, скажем, на задворках Санкт-Петербурга и в своем родном Киеве до войны. Хотя турки и были побеждены, но они продолжали заниматься своими обычными делами. Им не приходилось осторожно ползать, в ужасе озираясь и поминутно опасаясь лишиться жизни и свободы, а ведь именно так теперь жили люди во многих русских городах. Я оценил контраст, ведь Пера была главным русским кварталом Константинополя. Многие мои соотечественники все еще носили свои мундиры. Другие ходили в костюмах типичных московских и петербургских фасонов. Аристократы и крестьяне были здесь равны – в России такому не бывать. Все отчаянно нуждались в паспортах или работе, все искали кого-то, кто мог бы купить остатки их сокровищ. Я легко узнавал их не только по одежде, но и по потерянным взглядам, недоуменным выражениям лиц, неуверенным движениям. Я опустил руку в карман и сжал рукоять пистолета. Я слишком долго смотрел на подобные лица и не хотел, чтобы мое лицо снова стало таким же. Удаляясь от берега, наш трамвай приблизился к встречному вагону, мчавшемуся вниз по склону. Я решил, что столкновение неизбежно. Однако два транспортных средства разминулись, они сильно раскачивались на узкой улице, едва не соприкасаясь. Громкий скрежет, скрип и звон колокольчиков чуть не оглушили меня. Наш трамвай резко свернул налево и почти тотчас же сделал поворот направо. Я был потрясен, сбит с толку, напуган, но все равно счастлив снова оказаться в городе – неважно, насколько странным он был. Повсюду я видел хлипкие деревянные здания в несколько этажей, зачастую некрашеные, их основания пострадали от многочисленных землетрясений. Мне казалось, что дома вот-вот обрушатся. Но время от времени из-за них появлялся великолепный исламский купол мечети, которая стояла, как скала, в течение многих столетий. В другом месте я разглядел мраморные башни и небольшой зеленый парк, повсюду внезапно возникали группы тополей, кипарисов и сосен. Мы преодолевали неровные, почерневшие участки, где здания были уничтожены огнем. Виднелись груды щебня, как будто после артиллерийского обстрела, новые здания, недостроенные, а потом, очевидно, брошенные. Кое-где уже раскалывались и рушились грандиозные современные фасады. Пера могла бы стать огромным павильоном захудалой кинокомпании. То, что представлялось значительным, требовало ремонта; то, что выглядело внушительно, оказывалось иллюзией; то, что казалось наиболее театральным, вероятно, составляло величайшую архитектурную ценность в городе. Этому новому гетто, куда настойчивые султаны сгоняли своих иностранных гостей после соглашения с генуэзскими торговцами в шестнадцатом столетии, позволяли существовать. Оно составляло яркий контраст с мусульманским городом на противоположном берегу Золотого Рога. Я то и дело видел Стамбул в промежутках между зданиями, когда трамвай сворачивал в разные стороны. С Перы открывался великолепный вид на древний Константинополь. Город напомнил мне изящного дремлющего калифа, окруженного чувственной роскошью, не замечающего шума, бедности и вони, от которых его отделяет только небольшое пространство воды и несколько узких мостов. Трамвай выехал на улицу пошире, вдоль которой выстроились более пропорциональные, почти европейские каменные здания. Здесь находились ровные ряды деревьев, магазины, продающие товары лучшего качества, и все же соседние переулки были переполнены, оттуда доносились вонь и крики. Проводник прокричал мне с другой стороны вагона, из-за дюжины засаленных фесок: «Выходите! Ваша остановка, господин!» Он жестом указал на стену, окружавшую небольшой парк. Я как раз увидел ее в окно. Я с трудом протолкался к выходу, раздвигая неподатливые тела, спустился по деревянным ступеням трамвая, проверил, все ли вещи целы, и, когда вагон поехал дальше, двинулся по плиточной мостовой, озираясь по сторонам. Я был на Гранд рю де Пера, на аллее посольств, отелей и легенд. Прочитанные в детстве детективы не подготовили меня к столкновению с реальностью. Я ожидал чего-то более похожего на Невский проспект или Николаевский бульвар, чего-то широкого, ровного, изолированного. Но я забыл об особенностях турок, которые поместили всех чужаков туда, где они могли бороться друг с другом, испытывая каждодневные неудобства. Я бродил взад-вперед по улице, уворачиваясь от велосипедов, всадников, собак, кого-то вроде рикш, и наконец завидел кованые железные балконы «Пера Паласа», который считался лучшим отелем в городе. (А также, как мне вскоре пришлось узнать, был печально знаменитым прибежищем кемалистов и иностранных агентов.) Я без особенных трудностей отыскал свой отель, и это наилучшим образом повлияло на мое расположение духа. Я почти радостно вошел в прохладный холл и направился прямо к стойке администратора. Это место казалось относительно мирным и довольно чистым по сравнению с грязными улицами. Неприятный шум почти не доносился сюда, и создавалось ощущение нерушимого спокойствия и безопасности – такова отличительная черта любого первоклассного отеля. Как и во многих других отелях того времени, в «Паласе» было очень много бархата, черного чугуна и золота. Швейцары в униформе – в сюртуках, фесках и белых перчатках – выстроились в ряд. Даже грек-управляющий, бледный и толстый, выглядел, как настоящий француз. Я назвал свою фамилию. Он сверился с журналом, а потом кивнул: «Очень рад, что вы смогли отыскать нас, мсье». Он передал мой ключ швейцару-армянину, и человек, похожий на какого-то янычара из стражи султана, направился к лифту с молчаливым достоинством. Мы легко поднялись на третий этаж. Швейцар несколько церемонно показал мне комнату, оценив мое одобрительное бормотание. Комната оказалась невелика. Она выходила на Гранд рю и была очень удобной, с отдельным умывальником и туалетом. Я дал швейцару на чай серебряный рубль. Турки принимали любое серебро, хотя я узнал, что французские наполеоны и британские соверены стали (возможно, со времен Лоуренса) основной валютой для серьезных сделок. Я заказал горячей воды. Кровать с резной позолоченной спинкой, укрытая красным бархатным покрывалом, была роскошна. В номере я обнаружил кресло, небольшой письменный стол, кладовку для чемоданов и вместительный платяной шкаф. Небольшая гардеробная была обставлена хорошо, хотя и старомодно, там висело огромное зеркало в человеческий рост. Ожидая, пока принесут воду, я достал из несессера бритву, зеркальце и пакет с кокаином. Впервые за целый месяц я мог насладиться своим порошком в уютной и приятной обстановке. Красивый мальчик принес мне воду и чистые полотенца, и вскоре я почувствовал себя возрожденным. Я надел чистую рубашку, элегантный темно-коричневый костюм-тройку и привел в порядок волосы. Теперь я снова стал самим собой – полковник М. А. Пьят, бывший офицер 13‑го полка донских казаков, ученый и светский человек. Я как раз распаковал вещи, когда в дверь постучали. Поправив галстук, я отворил. Это оказался всего лишь посыльный с запиской от миссис Корнелиус. «Добро пожаловать на берег, Иван. Жаль, что не могу показать тебе окрестности, но я знаю, что ты и сам прекрасно справишься. Увидимся через несколько дней. С любовью, Г. К.». Я был разочарован. Несомненно, она навещай своего француза. Но я не унывав У меня теперь появилась возможность посмотреть город, прежде чем мы отправимся в Англию в «Восточном экспрессе» или на корабле. Я, конечно, надеялся пообедать с миссис Корнелиус, но утешился: вскоре я буду обедать с ней в Лондоне так часто, как только пожелаю. Вот что казалось по-настоящему важным – наконец-то я попал в настоящую, подлинную столицу. Не возникало явной угрозы вражеского вторжения – полиция пяти союзных государств охраняла мир и порядок. В Константинополе мне были доступны все мыслимые формы наслаждений. Я вспомнил старую поговорку: здесь мусульманин забывал о своих добродетелях, а европеец открывал новые грехи. Нет ничего более волнующего, чем вид города, который только что вернулся к жизни после войны. Мужчины и женщины сгорали от нетерпения – они хотели жить полной жизнью. Из одного только окна своей комнаты я мог разглядеть десятки ресторанов, небольших театров, кабаре. Еще не настало время ланча, а в кафе уже звучала музыка. Светлокожие молодые люди в мундирах бродили туда-сюда по Гранд рю, обнимая смеющихся турецких девочек, скинувших свои чадры. Все казались такими беззаботными! Я никогда не сумел бы вновь испытать тот восторг, который открылся мне в Одессе в годы юности, но Константинополь, по крайней мере, напоминал о давних радостях. Именно здесь я впервые обнаружил удивительную способность – во всех крупных городах я чувствовал себя как дома. Мне требовалось всего несколько часов, чтобы изучить главные улицы, несколько дней, чтобы обнаружить лучшие рестораны и бары. В космополитичных городах существует общий язык, а обычная речь зачастую не нужна. Людям нравится покупать и продавать, обмениваться идеями, отыскивать новые художественные впечатления и сексуальные приключения. Трудность торговли – сама по себе превосходный стимул. Это касается и беднейших граждан, и зажиточных. Только самым богатым, кажется, знакома скука, которая охватывает меня, например, в сельской местности, но таким людям везде скучно – им нечего купить и нечего продать, им ничто не угрожает, кроме самой скуки. С превеликой радостью я услышал на Гранд рю де Пера русскую речь. Здесь говорили на французском, английском, итальянском, даже на идише, греческом и немецком. Кровь бурлила в моих венах – я оказался в естественной среде обитания и почувствовал удовольствие, которым сопровождалось внезапное возрождение моего прежнего «я». Слишком долго я жил, во всем себя ограничивая. Теперь я снова выйду в элегантной одежде на настоящие роскошные улицы. В те дни я еще не искал утешения в религии. Для меня душа и чувства были единым целым, и Божье дело я мог совершить только с помощью экспериментов и научных изысканий. Вероятно, от подобной гордости страдал и Прометей. Вероятно, я наказан по той же причине, что и он. Я хотел просветить мир, который, согласно моим убеждениям, стремился к покою и знанию, но, будучи молодым человеком, испытывал неведомые доселеэмоциональные и физические желания. Я хотел обнаружить пределы своих возможностей. В 1920 году политическая судьба Константинополя нисколько не тревожила меня. Я вполне резонно полагал, что турки побеждены навсегда, Великобритания или Греция будут управлять городом до тех пор, пока Россия не оправится от ран и не сможет выполнить свою задачу. Тем временем я надеялся испытать в этом городе как можно больше удовольствий. Я слишком долго сдерживал себя. В Киеве, после революции, мне часто удавалось развлекаться, но иногда удовольствие омрачалось неуверенностью. Так же обстояли дела и в Одессе незадолго до моего отъезда. Но в Константинополе не было ни большевиков, ни анархистов, угрожавших моему душевному спокойствию. Я не подозревал о так называемом комитете «Единения и прогресса»[236]. Я знал некоторых офицеров-младотурок и слышал о солдатах, которые отказались сложить оружие и скрылись во внутренних районах Анатолии, но полагал, что их вскоре схватят. Важнее всего было другое – мысль, что я свободен. Я обрел новую жизнь, я стал гражданином мира. Трагедия России больше не была моей трагедией. Я раскрыл чемодан со своими проектами и заново пересмотрел рисунки и уравнения, аккуратные записи и расчеты. Здесь было мое состояние и мое будущее. Я вскоре добьюсь своего. А пока я заслужил небольшие каникулы. Аккуратно одетый и причесанный, я запер дверь, спустился в лифте на первый этаж, отдал ключ портье, сказал, что вернусь к обеду, и погрузился в жизнь города. Я не боялся, что кто-то из моих одесских знакомых может узнать меня без мундира (а если бы и узнал, то наверняка испугался бы). Я не верил, что повстречаю здесь врагов киевских или петербургских времен – почти все они, вероятно, уже мертвы. Наверное, я был чрезмерно доверчив, я надеялся, что с легкостью справлюсь со всеми опасностями, я упивался свободой завоеванной турецкой столицы. И все же не могу сказать, что был таким уж глупцом. Я уже научился осторожности. В степных деревнях я страдал от страха, потому что не мог понять большинства жестов, знаков и обычаев, но здесь, хотя город был мне почти не знаком, я понимал почти все вывески и указатели. Те немногие, которые мне оставались неизвестными, удалось узнать очень быстро. Я инстинктивно свернул в переулок, потом вышел на широкий проспект. Миновав небольшой парк, я вошел в темное кафе, заказал чашку кофе, осмотрел все и всех, усваивая информацию стремительно и непрерывно: то, как люди шевелили руками, как они говорили, когда успокаивались, когда становились агрессивными. Я знал, что также вызвал их интерес, потому что был очень хорошо одет. Но я об этом не беспокоился. Хорошее настроение – самая лучшая защита. Открытое сердце часто может спасти в самых ужасных столкновениях. В этом смысле простодушие – лучшее оружие городского жителя. И умение быть хорошим актером: каждый день в большом городе нам приходится играть множество едва различимых ролей. Все эти современные разговоры о подлинной идентичности просто бессмысленны. Мы – всего лишь сочетания происхождения, опыта и среды: зеленщик видит одну сторону человека, инспектор полиции – другую. Чем лучше это осознает городской житель, тем меньше он будет смущаться и тем легче ему будет действовать, когда понадобится. Я наблюдал за дорожным движением. Я стоял на кладбище Пти Шамп, среди тополей и бананов, и смотрел на ту сторону Золотого Рога, на старый Стамбул, лежавший на семи туманных холмах. Я обернулся налево и увидел, что Босфор отделяет меня от азиатского Скутари. Меня поразило количество кораблей в порту. Суда заполняли гавань, как толпа пешеходов заполоняет городскую улицу. И все-таки это не имело никакого значения в сравнении с таинственным и бескрайним древним городом. Я никогда и представить не мог, что столица могла так разрастись и раскинуться на трех разных берегах. Российские города, включая Санкт-Петербург, казались крошечными, даже ничтожными на фоне турецкой столицы. Я не видел границ Константинополя. Город казался бескрайним, беспредельным, он словно занимал целую вселенную: бесконечный остров, существующий вне обычного пространства, остров, где соединяются все расы и все эпохи. Это впечатление было настолько сильным, что я задрожал от восторга. Мне не хотелось уходить из сада. Наконец где-то за стеной заревел осел (а может, имам), и мое настроение изменилось. Я зашагал по узкой тенистой улице, которая выглядела чуть чище прочих. Похоже, во всех домах квартировали европейские семьи. В конце этой улицы я обнаружил множество магазинов, где продавали бумагу, книги, духи, цветы, конфеты и табак – все это напомнило мне обычный киевский район. Книги были на всех европейских языках, включая русский. Я купил пачку папирос, разменяв один из золотых рублей. Я знал, что меня обманули при расчете курса, но не тревожился об этом. В итоге я вернулся на Гранд рю. У маленького мальчика, который что-то пищал на неведомом языке, я купил бутоньерку; паренек как-то странно шлепал губами. В киоске я приобрел русские газеты. Сидя за столиком на улице возле кафе, я пил шербет и читал газеты, удивляясь их высокопарной и пустой риторике. Я улыбался накрашенным девочкам в дешевых платьях, которые подмигивали мне, проходя мимо. Все женщины казались шлюхами, и все шлюхи казались мне красивыми. Здесь прогуливались десятки дам из высшего света в дорогих платьях парижских фасонов и в изысканных шляпках, некоторые из них пристально разглядывали меня. Мне нравился этот мир. Он был исключительно далек от привычной современной жизни. Я равнодушно отмахивался от уличных продавцов, предлагавших мне все – от ягодиц своих братьев до подержанных кукол своих сестер. Я купил леденец за несколько курушей[237], попробовал его, а потом отдал ребенку, который попросил у меня денег. Вскоре я понял, где нахожусь. Самая возвышенная часть города, Пера, была в основном европейской, здесь располагались посольства и богатые особняки, офисы банкиров и транспортных компаний, лучшие магазины. У подножия Перы, за башней Галаты, возведенной генуэзскими торговцами, тянулись убогие извилистые переулки и наспех построенные бедняцкие хижины. Дальше за Перой виднелись пригородные виллы среди – просторных садов, лужаек и парков. Галатский мост вел через Рог к Стамбулу, над которым возвышалась Йени Джами[238], так называемая Новая мечеть, с ее невероятно тонкими башнями и группами куполов различных размеров. Стамбул оставался турецким городом, хотя там тоже был греческий квартал, родословные жителей которого восходили ко временам Христа. Здесь находились старейшие православные церкви, древние сводчатые цистерны, которыми все еще пользовались, и изначальные стены Византия, создания величественной культуры греков, которой турки могли подражать, но никогда не умели превзойти. Самым красивым зданием Стамбула оставалась Айя-София, видимая с Перы и выделявшаяся ярко-желтым легким куполом. Прекраснейшая из христианских церквей Оттоманской империи стала образцом, по которому турки до сих пор строили свои мечети. Большинство известных памятников находилось в Стамбуле, делая его истинно византийской территорией, но все-таки подлинным Константинополем была, наверное, Пера. Именно здесь византийцы хоронили своих мертвецов (до сих пор повсюду сохранилось множество кладбищ самых разных народов и религий), здесь османы селили иностранцев, присутствие которых было необходимо для их торговли. Этот город процветал от заката до рассвета, здесь царили тонкие интриги, экзотические удовольствия, таинственные преступления и еще более таинственные пороки, и все же в течение дня город приобретал благородный респектабельный облик. Так могла бы выглядеть типичная европейская столица. Конечно, мне было любопытно посетить Стамбул, но тяга к удовольствиям Перы оказалась сильнее. Я не пытался сдерживаться. Я был похож на ребенка, которому открыли неограниченный кредит в кондитерской. Я разработал нечто вроде программы. Было глупо разрывать отношения с баронессой, пока она не станет слишком навязчивой, не следовало и терять связь с миссис Корнелиус. Однако мне стоило завести новые знакомства. Чем больше людей окружало меня, тем больше возникало возможностей для самосовершенствования. Я напомнил себе о тех привычках, которые выработались у меня за годы войны и революции. Я все так же опасался знакомых из своей прежней жизни, неважно, дружелюбных или нет. Перу заполонили беженцы, и мне неминуемо предстояло столкнуться с людьми, которые сумели бы нарушить мой покой. Они могли знать меня под прежней фамилией, могли встречаться со мной в те дни, когда я притворялся красным или зеленым. Люди были недоверчивы, они могли подумать, что я с охотой играл эти роли. Мне не хотелось снова попасть под подозрение. Поэтому я уделял особое внимание русским, тщательно изучая все лица. Я оказался бы в неловком положении, если б наткнулся на молодых женщин, которых знавал в Петербурге, например, или на какого-нибудь богемного радикала, считавшего меня большевиком и педерастом, потому что я дружил с моим дорогим Колей. Я еще мог повстречать Бродманна, который указал бы на меня пальцем, закричав: «Предатель!» Именно это и стало причиной моего поспешного бегства из Одессы. Однако я не терял уверенности, что в большинстве случаев у меня получится уклониться от столкновения. Было важно сохранить репутацию образованного человека хорошего происхождения и получить доступ в высшее общество. Британцы примут меня на моих собственных условиях. Я был блестящим инженером с хорошим военным послужным списком, я сбежал из России от красных. Если станут известны некоторые незначительные детали, не имеющие никакого отношения к сути дела, то моя жизнь осложнится. Так что я решил не обращать внимания на людей, которые будут называть меня Димкой (если только я не знаю их по-настоящему хорошо). При первой же возможности я отращу усы. Прогуливаясь по крутым склонам, шагая по узким глухим улочкам кварталов Галаты, я впитывал впечатления от бедности точно так же, как впечатления от богатства. Я не ожидал обнаружить здесь так много высоких деревянных зданий. От оригинальных генуэзских построек почти ничего не осталось. Кое-где встречались старые дома с пилястрами, но самым значительным сооружением стала Галатская башня[239], возведенная в память об итальянских солдатах, которые погибли в боях. Сначала ее назвали башней Иисуса. Хрупкие деревянные сооружения возносились на пять или шесть этажей, они наклонялись под разными углами, как в немецком экспрессионистском кино. Если одно здание рухнет, подумал я, то повалится и тысяча других. Возможно, такие причудливые сочетания форм, импровизированных, необычных, недоступных логическому анализу, отражали социальную напряженность, царившую в городе. Константинополь выживал тогда, как, говорят, выживает сегодня Калькутта: с виду все враждуют друг с другом, но на деле все зависят от окружающих. Фески, тюрбаны, цилиндры, военные фуражки, панамы возносились над этими бесконечными человеческими потоками. Я пошел обратно к Пере. Короткие переулки, пролегавшие между рю де Пти Шамп и Гранд рю де Пера, были заполнены небольшими барами и тесными борделями, в которых встречались мужчины и женщины всех рас и классов. Девушки и юноши выставляли себя напоказ в двух шагах от огромных иностранных посольств, над которыми высился чудовищный каменный дворец нашего российского консульства. Из подвалов и окон верхних этажей в переулки лились звуки джаза. Шлюхи нависали над причудливыми балконами, сплетничая с товарками с другой стороны улицы, иногда прерываясь, чтобы позвать потенциального клиента. Это напоминало античный город. Неужели Константинополь остался неизменным с тех пор, как греческие колонисты основали его за шестьсот лет до Рождества Христова? Похож ли он на Тир? Или на сам Карфаген? Я был очарован. Мне открылся пьянящий соблазн восточной фантазии. Я мечтал о красивых райских девах, о томных гаремах, о невероятно роскошных фантастических удовольствиях. Константинополь предоставлял гораздо больше возможностей, чем в эпоху упадочных султанов, ибо теперь его жители открывали для себя необычную свободу и непонятное рабство. Владыки ислама больше не имели неограниченной власти и не отдавали приказов в Йылдыз-паласе[240], но даже в Пере муэдзин все еще призывал на молитву многие тысячи верующих. Тиранию ислама нельзя было уничтожить в одно мгновение. Избавление Византии от власти захватчиков могло занять многие годы, возможно, этого избавления вообще никогда не удалось бы добиться. Но теперь в этой власти начали сомневаться люди, которые раньше никогда не смели позволить себе такие мысли. И поэтому жестокая, безумная пуританская вера внезапно утратила большую часть своего влияния. В результате избавленные от тирании люди теперь захотели испробовать все, что ранее было запрещено. Вдобавок появился новый разрушительный элемент – отчаявшиеся беженцы, стремившиеся при первой же возможности заработать несколько лир. В некоторых из этих деревянных домишек жили семьи русских аристократов, в крошечные комнаты набивалось по десять человек. Греки и евреи использовали в своих интересах поражение Оттоманской империи, чтобы отомстить старым конкурентам – туркам, армяне заняли дворцы опозоренных министров Абдула-Хамида или виллы арабских торговцев, которые были разорены, потому что поддерживали султана. Турки, насколько такое возможно сказать о них, были ненадолго деморализованы. Они увидели, что за каких-то два года их огромная империя, возводившаяся на протяжении многих столетий, уменьшилась до той жалкой «анатолийской родины», откуда в XIII столетии их основатель Осман, охваченный жестоким честолюбием, рванулся вперед и вонзил нож в горло Европы. Теперь немногие верили, что Константинополь хотя бы номинально останется турецким. Почуяв смутные времена, с запада прибыли жадные евреи, готовые прибрать к рукам все, что осталось. Для меня и миллионов мне подобных война с Турцией была крестовым походом. Но, подобно очень многим другим крестовым походам, этот быстро превратился в простую грызню из-за сокровищ и власти. Должен признать, что поначалу я всего этого не понимал. Я видел только новые открытия, экзотическую смесь человеческих типов, бесконечные возможности не только для исполнения самых безумных желаний, но и для поиска новых наслаждений, которых я пока еще не знал. Тем вечером в баре, где обслуживали только европейцев из высших классов, я потягивал коньяк, поднесенный мне на серебряном подносе русским татарином в молдавской рубашке и белых армейских бриджах. Я не мог даже предположить, как радикально переменится моя судьба под влиянием этого города. Я проходил мимо руин, трущоб, гниющих потрохов и все-таки видел, как новая Византия поднималась по обе стороны Золотого Рога. Она могла бы стать столицей мирового правительства, главным городом будущего Утопического государства. Мир, конечно, преодолеет кризис. Два вопроса, на которые следовало найти ответ, – как сохранить этот мир и кто сможет им лучше всего управлять. Но я еще не знал, что кемалисты, финансисты, большевики уже спланировали грядущее разделение и разрушение. Проекты Утопии, лежавшие у меня в чемодане, были доступны всем. Неужели я виноват в том, что мир отверг возможность спасения? Медленно и чрезвычайно уверенно я вернулся обратно в отель. Я купил карту и перевел еще немного денег в турецкие лиры. Я надеялся, что этой суммы хватит до отъезда из Константинополя, поскольку было не самое подходящее время и место, чтобы продавать драгоценности, привезенные из России. В Лондоне я получил бы за них настоящую цену. С другой стороны, я думал, что мог бы отдать браслет или ожерелье баронессе. Во всяком случае, она была вполне приличной женщиной. Я не хотел, чтобы они с Китти разделили судьбу других беженцев. Вернувшись к себе в комнату, я с удовольствием обнаружил, что доставили багаж. Я тотчас переоделся в форму донского казака. Теперь на меня из зеркала смотрел во всей красе бывалый полковник, которому исполнился всего двадцать один год. Такой уверенности в себе мне не давала даже самая лучшая штатская одежда. Эту форму я заслужил тяжкими страданиями. Она искупала грехи моего отца, подтверждала доброе имя моей матери, прославляла мою страну. Однако я знал, что пока еще не следует появляться в ней на публике. С огорчением я снял ее, свернул и облачился в обычную вечернюю одежду перед тем, как спуститься в бар и выпить аперитив. Внизу собралось немало высокопоставленных британских и французских офицеров, смешавшихся с богатыми мужчинами и роскошными женщинами. Я обрадовался, что миссис Корнелиус смогла снять для нас комнаты. Усевшись на табурет рядом с суровым худощавым британским майором, я заказал виски с содовой. Он обернулся на звук моего голоса и кивнул мне. Я сказал: – Добрый вечер! Я Пятницкий. Казалось, майор удивился тому, что я владею английским. – Добрый вечер. Я Най. У него были усталые голубые глаза, взгляд казался рассеянным, но доброжелательным. Его загорелая кожа туго натянулась на тощем теле. Он то и дело приглаживал ровные седеющие усы. Осмотрев бар, майор как будто неохотно попросил большой джин с тоником. Когда я объяснил, что был летчиком, сбитым над Одессой во время облета большевистских укреплений, он, очевидно, расслабился. Как будто извиняясь, майор сказал, что совсем недавно прибыл из Индии. – По своей мудрости наше начальство, кажется, полагает, что мой опыт, приобретенный на границе в схватках с патанцами[241], будет полезен в Константинополе! Ничего более определенного о своей миссии он не сообщил. Узнав, что я только что сошел на берег и собирался отправиться в Лондон, майор окончательно смягчился. Меня не смутила его осторожность. Как он позже заметил, следует быть очень осмотрительным, если заговариваешь с человеком в «Пера Паласе». Я мало что знал о кампании против турецких националистов в Анатолии. Имя Мустафы Кемаля ничего мне не говорило. Хотя я и слышал, что греческая армия в настоящее время продвигается вглубь Анатолии, подробностями я не интересовался. Мне просто казалось, что Греция потребует все, что ей причитается. Майор Най охотно предложил обрисовать ситуацию, но, конечно, ничего не сказал о планах британской политики. По словам майора, он восхищался героизмом нашей Белой армии. Россия должна как можно скорее получить Константинополь. – Русские прекрасно изучили турок. Поймите, я не сторонник территориальных устремлений России в других местах, не в Афганистане и не в Пенджабе во всяком случае. – Майор улыбался, потягивая джин. Он думал, что британцы должны пока управлять городом от имени государя и царя Константина. – Пока все немного не успокоится, Восток нужно сдерживать. Я очень высоко ценю азиатский склад ума, естественно, я люблю Индию. Нам есть чему у них поучиться. Но если Азия когда-нибудь сможет усвоить манеры и принципы Запада, если азиаты начнут одеваться в английские костюмы и рассуждать о немецкой метафизике, – она станет представлять угрозу для себя и для нас. – Он указал в сторону Скутари. – Пусть столицей турок станет Смирна. Пусть заберут себе всю Анатолию. Другими словами, они должны остаться в Азии. Греки смогут тогда забрать Фракию, а русские изгнанники получат Константинополь, который, по-моему, исторически должен им принадлежать. При поддержке британцев греки и русские создадут самый прочный барьер на пути распространения восточных и большевистских сил. Тогда установится необходимое равновесие между Востоком и Западом. Все почти сразу же увидят преимущества такого положения. Надо отдать ему должное, Джонни-турок – чертовски храбрый паренек. Но нельзя допустить, чтобы он притворялся западным человеком. На меня произвели огромное впечатление его политические взгляды, его позитивный настрой, его честность и открытость. Майор Най был из тех превосходных англичан, которые не держат камень за пазухой и высказывают глубоко продуманные моральные суждения. Я сказал, что полностью с ним согласен. Россия разорена именно из-за своей восточной экспансии. Все знали, что китайцы, мусульмане и евреи теперь стали основной опорой Ленина. Услышав это, майор пришел в восторг. – Точно! – Он собирался продолжить разговор, но тут, заметив знак официанта, посмотрел на часы. – Я договорился поужинать с одним приятелем. Мы еще вернемся к этому разговору. Как насчет нынешнего вечера, попозже? Я, во всяком случае, должен угостить вас выпивкой. Взмахнув рукой, как будто отдав салют, он скрылся в смежном ресторане. Беседа с майором Наем привела меня в отличное расположение духа. Вскоре я разговорился с русским капитаном, который был прикомандирован к британскому штабу у вокзала Хайдарпаша. Он услышал часть нашей беседы. Его фамилия была Рахматов. Племянник старого генерала. – Как я понял, вы летчик? – Я летал, – скромно признался я, – когда служил своему императору. А вы? – Просто обычный пехотинец. Майор Най – один из немногих британцев, которые понимают наше положение. Нам нужно молиться, чтобы их точка зрения возобладала. Я полагаю, что он здесь в качестве советника, не так ли? Это связано с восстанием в Анатолии? Я честно ответил, что ничего не знаю, и насторожился. Пресыщенный взгляд и опущенные углы рта Рахматова напоминали мне о декадентах. Он был слишком пьян для столь раннего часа. Отказавшись от его приглашения поужинать вместе, я попросил у официанта столик с видом на внутренний двор, где меня не потревожат. Я поел весьма скромно, но попробовал несколько турецких блюд, особое внимание уделив мясу на вертеле. Многие турецкие блюда похожи на украинские, поэтому для меня стало облегчением по крайней мере на некоторое время избавиться от бесконечных британских вареных пудингов и клецек. Я с наслаждением осушил бутылку «сан-эмильона», первую за целых два года. Сидя за кофе, я обдумывал, не стоит ли принять предложение и присоединиться к майору Наю. В настоящий момент, однако, меня сильнее всего влекли удовольствия Перы. Я слишком долго мечтал о волнительной суете столичных улиц и теперь с любопытством предвкушал самые заурядные ночные приключения на Гранд рю де Пера. Я возвратился в свою комнату, сменил одежду, накинул обычное пальто и двинулся дальше. Танцевальная музыка звучала почти из всех открытых дверей. Сияли электрические рекламы кабаре и баров. Трамваи визжали и грохотали, искры от них летели в воздух. Женщины всех возрастов, рас и цветов кожи улыбались мне. Девочки в расшитых блестками платьях качали бедрами, бродя по узким неровным тротуарам, итальянские полицейские в треугольных шляпах бесцельно свистели и обращали взгляды к невидимым звездам, не желая смотреть на то, что способно нарушить их покой. Курды, албанцы, татары метались в разные стороны, сгибаясь под тяжестью огромных грузов, или стояли на перекрестках, театрально покрикивая друг на друга. Витрины были заполнены шелками и золотом. Неумолкающие евреи бродили с яркими тканями по улицам, призывая прохожих оценить качество товара на ощупь. Мерцающие огни Стамбула виднелись вдали, и белый морской туман придавал всему городу фантастический облик, ибо только купола и минареты ясно виднелись над берегами, заросшими кипарисами и платанами, все прочее либо оставалось невидимым, либо представало смутными силуэтами. Здесь, в Пере, люди как будто находились в шумном, тесном, ужасном аду, а Стамбул казался столь же спокойным и далеким, как нирвана. Большие корабли приплывали и уплывали, гудя сиренами, паромы, под навесами которых качались керосиновые лампы, уходили в желтый туман, где располагался Скутари. Море казалось скопищем темных зеркал, разложенных в беспорядке на неразличимой поверхности. Неблагозвучная арабская музыка поражала слух, потом ее сменял столь же неблагозвучный джаз. Я слышал танго и фокстрот. Я слышал балалайки, саксофон и дикий шум цыганского оркестра. Немного впереди мужчины в шапках с кисточками и белых одеяниях греческих солдат выскочили из турецкой бани. Они выглядели одновременно и смущенными, и довольными. Над дюжиной кинотеатров висели рекламы фильмов на разных языках. Прошло так много времени с моего последнего похода в кино, что я на мгновение заколебался, пытаясь сделать выбор между «Рождением нации» и «Кабирией»[242], но потом решил, что фильмы можно посмотреть и в Лондоне, а вот других константинопольских развлечений там будет недоставать. Надеясь, что баронесса не дожидается меня внутри, я прошел мимо «Токатлиана», ресторана, который она называла излюбленным местом встреч всех русских. Сегодня вечером мне нужен был кто-нибудь помоложе. Мое внимание привлекло кафе «Ротонда» с синей электрической вывеской и жуткими зелеными окнами. Я пробрался сквозь толпу проституток, головы которых доходили мне только до груди, передал шляпу и пальто рыжеволосой ведьме, стоявшей у двери, и последовал к столу за бойким низкорослым официантом-сирийцем. Через несколько секунд меня осадили полдюжины довольно потрепанных девочек в дешевом атласе и полинявших перьях, они предлагали мне выпить и потанцевать с ними. Я выбрал двоих, как привык, а остальных прогнал. Обе девочки оказались турчанками. Они назвались Бетти и Мерси, но практически не говорили по-английски. Они кое-что знали по-русски и немногим больше по-французски (в основном морской жаргон). Бетти исполнилось четырнадцать, Мерси была немного старше. Тот вечер и часть ночи я провел в их развратном обществе, в основном на кушетках в задней комнате «Ротонды». Мы удалились туда, когда яркий свет начал резать мне глаза, джазовая музыка стала слишком громкой для моего слуха, а их непристойные словечки настолько возбудили меня, что я не смог больше терпеть. Мои маленькие девочки, возможно, явились прямо из придворных школ султана. Я в них не разочаровался. Они напомнили мне Катю, маленькую шлюху, из-за которой у меня в Одессе случилась ссора с кузеном Шурой. Но кожа их была темнее, влажные глаза – больше, а любовные ласки – гораздо утонченнее. Наслаждаясь их плотью, я не совершал никакого преступления. Я честно платил, как платили другие. Я знаю таких девочек. Они развратны от природы. Существует миф о женской невинности, которого я никогда не понимал. Правда, некоторые невинны от природы, но другие рождаются с животным желанием раскрыть все самые необычные чувственные тайны. Никто не заставляет их жить так, как они живут. Я не изобретал игр, в которые мы играли в ту первую изумительную ночь. Эти игры столь же стары, как цивилизация, столь же изысканны или столь же грубы, как сами игроки. Это их образ жизни, открывающий путь и в рай, и в ад. Люди не должны осуждать то, что им чуждо, просто потому, что их пугает непонятное. На следующее утро, совершенно расслабившись, я решил позавтракать в номере, поздравив себя с долгожданной удачей. Кокаин защитил меня от большинства венерических опасностей, а Мерси подсказала, где раздобыть новую порцию. Все девочки знали об этом. Кроме того, они могли сообщить, где продать золото подороже, где отыскать экзотические удовольствия, кто сдает внаем лучшие квартиры. Дружелюбная шлюха – лучший источник информации в любом большом городе. Она общается со множеством людей и все слышит. Конечно, у нее есть склонность к сенсационным сплетням, тайнам, заговорам и романтическим загадкам, но на это можно не обращать внимания. За одну ночь я узнал о борделях, где работают только черкесские мальчики, о женщинах, которые изготавливают и продают абсент, о торговцах из Триеста и Марселя, которые продолжали продавать белых рабов на рынках Сирии, Египта и Анатолии. Еще я выяснил, как найти грека, который продаст мне новый револьвер и патроны. Если бы я вышел из отеля и направился в Галату, то через пару минут отыскал бы человека, который мог изготовить мне новый паспорт на другое имя. Случись мне изворачиваться, как в Киеве и Одессе, я за пару дней установлю все необходимые связи. Богемные обитатели Перы гордились репутацией своего города так же, как мои старые друзья с Молдаванки, говорившие о местных бандитах и бандершах с тем же восторгом, с каким другие говорили о кинозвездах. Отказываясь судить таких людей, я подсознательно следовал наставлениям Ницше и создавал собственную этику, и со временем она стала гораздо важнее всего, что я мог узнать в обычной комфортабельной жизни. Если бы не это – маловероятно, что я вообще выжил бы.Приподнявшись на приятно пахнущих подушках, я нажал на кнопку звонка возле кровати. Официант откликнулся почти сразу же, и я заказал легкий завтрак, английскую газету и немного горячей воды. Слуга возвратился с моим подносом и запиской от Леды Николаевны. Джек Брэгг сообщил ей, где я остановился. Она предлагала пообедать в «Токатлиане». Она придет туда в двенадцать тридцать и будет ждать до двух. Проникнутый сентиментальными чувствами, преисполненный апатичной любви ко всему миру, я решил пойти на свидание. Я уже распланировал вечер (проведу его с Мерси и двумя ее подружками, у Бетти уже была назначена встреча), но не следовало пренебрежительно обходиться с баронессой. Я ничего не добился бы, задев ее самолюбие. Кроме того, теперь она могла с моей помощью добраться до Венеции, если пожелает. Бетти рассказала мне о человеке, который зарабатывал на жизнь незаконной доставкой беженцев в Италию. Плата за проезд была, конечно, очень высока, но я мог ее внести. Облачившись в темно-зеленый костюм из ирландской саржи, я пришел в «Токатлиан» около часа. Ресторан занимал нижний этаж частного отеля (Мерси упоминала о его сомнительной репутации) и был недавно перестроен в персидском стиле, с преобладанием зеленых, желтых и красных мозаик. Я так и не узнал, принадлежало ли заведение армянину по фамилии Токатлиан до сих пор. Управляющий оказался голландцем. Мистер Олмейер[243] совершил какое-то преступление или нарушил какие-то порядки в Ост-Индии и не мог возвратиться в Голландию. За огромными зеркальными окнами ресторана я увидел множество предпринимателей-левантинцев, офицеров полиции союзников, дипломатов, журналистов, явно зажиточных русских эмигрантов. Оркестр негромко играл танго в дальней части зала, за пальмами в горшках. Так выглядели фойе респектабельных кинотеатров, которые мы посещали, когда фильмы еще были стоящими, правдивыми и заслуженно популярными. Метрдотель во фраке подошел ко мне, поклонился и спросил, заказал ли я столик. У меня встреча с баронессой фон Рюкстуль, пробормотал я, вглядываясь в заросли папоротников и пальм. Тут мне удалось разглядеть баронессу, сидевшую за столиком во второй галерее, наверху. Официант, еще раз поклонившись, предложил проводить меня к ней, но я поблагодарил его и сам пересек ресторан. Прекрасная голова Леды наклонилась, когда она что-то проговорила, обращаясь к высокому человеку, одетому в строгий сюртук и темные брюки. Улыбнувшись, он застыл возле ее стула. Мужчина был довольно обаятелен и, очевидно, демонстрировал армейскую выправку. Я почти с удовольствием почувствовал муки ревности. Это заставило меня понять, что я все еще сохранил интерес к баронессе. Поэтому встреча прошла не так тяжело, как я опасался. В коричневом бархатном платье и ожерелье из фазаньих перьев женщина выглядела очаровательно – пасторально-аристократическая пастушка восемнадцатого столетия. Когда я поднимался по лестнице, она увидела меня и радостно взмахнула рукой в перчатке. Баронесса представила меня своему спутнику. Граф Синюткин казался слегка смущенным. Я заподозрил, что он хотел уйти до моего прихода. – Но, возможно, вы уже встречались в Москве? – спросила она. Я сказал, что никогда не бывал в Москве, но мужчина смутно казался мне знакомым. Граф заметил, что тоже как будто встречал меня. У него было приятное открытое лицо, которое совсем не портил шрам, тянувшийся от правого угла губы по скуле. Действительно, шрам подчеркивал то, что в противном случае, выглядело бы как довольно обыкновенная симпатичная внешность. Манеры нового знакомого показались мне скромными, голос звучал мягко и немного печально. Я счел графа привлекательным. Моя ревность угасла. Я принес извинения баронессе за то, что не смог связаться с ней накануне вечером, сославшись на встречу с британскими военными, а потом пригласил графа присоединиться к нам. Он заколебался. – Пожалуйста, всего на несколько минут! Баронесса просто демонстрировала хорошие манеры. Очевидно, она предпочла бы остаться со мной наедине. И мы втроем сели полукругом за мраморный стол и заказали изысканные американские коктейли. Нас заинтриговали странные названия и причудливые сочетания напитков. Потом молодой граф внезапно улыбнулся и нерешительно заметил: – Полагаю, мы однажды встречались в «Агнии». В Петрограде. Это означало, что он был одним из молодых либеральных сторонников Керенского. Несомненно, он хорошо знал моего друга Колю. – Конечно, вы знали Петрова? – Я всегда был счастлив поговорить о Коле. – Очень хорошо. Мы служили в одном департаменте. – Синюткин оживился. – Когда Ленин начал биться за власть, Коля посоветовал мне уехать из Петрограда. Он умел предугадывать… – Мы с ним разделяли интерес к будущему, – сказал я. – Вы, случайно, не слышали, как он умер? Синюткин удивился: – Кто вам сказал, что он умер? – Его кузен Алексей. Мы летали вместе. Он очень переживал смерть Коли. – После Октябрьского переворота Коля затаился. Мы с ним в течение нескольких месяцев скрывались в Стрельне. Потом к нему присоединились сестры, и все они добрались до Швеции по морю. Я получил от него письмо немногим больше месяца назад. Он жив, господин Пятницкий. Поначалу я подумал, что вся эта история – город, его удовольствия, моя баронесса – была частью лихорадочной фантазии, которая посетила меня на борту «Рио-Круза»! Потом я впал в истерическое состояние – радость смешалась с недоверием. Я оплакивал князя Николая Федоровича Петрова с тех пор, как его пьяный кузен направил самолет в море близ Аркадии. Если бы я не находился в шоковом состоянии после известия о смерти Коли, то, вероятно, вообще никогда не сел бы в самолет. Постепенно я все понял. Мой дорогой друг был в безопасности. Он по-прежнему где-то отпускал свои обычные прекрасные шутки и наслаждался жизнью, как всегда. – Потрясающе! Вы знаете, где он теперь? – Он был в Берлине, но писал, что поедет в Париж, а может, и в Нью-Йорк. «Правительство в изгнании» оказалось еще одним фарсом. Он написал, что принимал участие во множестве подобных фарсов. Возможно, он пошутил, но все же речь шла об эмиграции. Он собирался преподавать русский еврейским радикалам в Америке. Баронесса от души расхохоталась. Она коснулась моей руки: – Никогда не видела вас таким веселым, Максим Артурович. Ну что, рады, что я вас познакомила? – Навеки благодарен! – Чтобы отпраздновать новость, я заказал еще три коктейля. – Вы даже не можете представить, мой дорогой граф, как много значат для меня ваши новости. – Очень рад. Коля славный малый, ужасно веселый, что бы с ним ни происходило. Вы, вероятно, сможете с ним связаться через общество эмигрантов. Но я с удовольствием отыщу для вас его последний адрес. – Вы очень любезны. – О хороших манерах я не забывал. – А что вас привело в Константинополь, граф? – Разные дела. Нечто вроде разведки. Еще переводы. К счастью, я в кадетском корпусе изучал турецкий, теперь это пригодилось. Сам я бежал через Анатолию – меня призвали красные, им были нужны офицеры. – Собираетесь двигаться дальше? – Нужно посмотреть, как пойдут дела. Конечно, многие хотят присоединиться к добровольцам, но, к сожалению, я не верю нашим нынешним лидерам и их политике. Я поддерживал Керенского. Я остаюсь республиканцем. Возможно, я вернусь, когда Ленин и Троцкий успокоятся. Он пожал плечами и начал пристально разглядывать заполненный фруктами фужер, который поставил перед ним официант. Думаю, мой вопрос смутил Синюткина. Баронесса нарушила тишину: – Что ж, кто-то из вас, господа, должен подыскать мне новое жилище. Семья, в которой я живу, симпатизирует немцам. К русским они относятся не очень хорошо. Последние двадцать четыре часа они не переставая жаловались на нового султана. Очевидно, Абдул-Хамид был по сравнению с ним святым, хотя и топил своих гурий в Босфоре. У немцев есть странная способность – отыскивать у тиранов превосходные качества. Шестое чувство, недоступное всем прочим. Мне с ними скучно, Максим Артурович. Меня нужно спасти как можно скорее. Кокетничать баронесса не умела. Она выбрала неудачную маскировку для своего беспокойства и отчаяния. Очевидно, графа Синюткина ей обмануть тоже не удалось. – Уверен, что один из нас сможет найти приличный отель. Он покраснел, как будто сказал что-то непристойное, на губах баронессы расцвела улыбка. Она ответила: – И как можно скорее, мои дорогие. Быстро осушив свой бокал, граф сказал, что будет с нетерпением ждать новой встречи с нами, а затем спустился вниз, где присоединился к двум французским офицерам у длинной роскошной барной стойки. Леда, протянув руку под столом, коснулась моего колена. Ее настойчивость меня немного отпугивала. – Я о тебе не забыл, – произнес я. – Делаю все возможное. – Мы можем встретиться сегодня ночью? – Она зарделась от похоти и унижения. – Я мечтаю заняться любовью. Могу придумать какое-то объяснение для своих. Я согласна на любой план. – Я мечтаю о том же, моя дорогая. Но нужно уладить очень много дел. – Ты не покинешь меня? Я механически повторил свои обещания, пояснив, что новые обязанности теперь отнимают у меня большую часть времени. – Пойми, военные – не хозяева своему времени. Мне приходится работать на их условиях. Я подчиняюсь. Расправив плечи, она начала теребить руками меню. – А миссис Корнелиус? Как она? – Я ее не видел. Уверен, она покинула город. Понятия не имею, когда она вернется. Леда Николаевна, у меня есть возможность вывезти вас с Китти в Венецию. Из Италии добраться до Берлина будет намного легче. – Я не хотел говорить об этом слишком много, пока у меня не появятся точные сведения. – Не стоит так беспокоиться, дорогой. – Она коснулась губ затянутой в перчатку рукой. – Похоже, британские власти сгоняют всех русских на какой-то необитаемый остров. Это в самом деле так? Позорный Лемносский лагерь[244] находился у противоположного конца Дарданелл. Я понимал ее страх. Ходили ужасные слухи о тесноте и голоде. Люди, кажется, платили сотни тысяч рублей за то, чтобы вернуться в Константинополь, лишь бы не оставаться в лагере. Получить визы было невозможно. Болезни, отсутствие лекарств, медленная смерть… Я снова попытался убедить баронессу. Я объяснял, что остался в городе только из-за нее. Она сказала, что я, наверное, обиделся на нее. Я отрицал это: – Я волнуюсь и слишком много работаю. Баронесса смягчилась и попросила у меня прощения: – Понимаешь, я так боюсь за Китти! И не могу смириться с мыслью, что потеряю тебя. Я ведь не прошу тебя посвятить мне все твое время! – Конечно. Дай мне свой адрес. Через пару дней я тебе напишу. Есть шанс, что у меня появятся хорошие новости. Мы перекусили. Мои мысли были заняты чудесными новостями о «реинкарнации» Коли. Его вдохновение, его любовь очень много значили для меня. Леда думала, что это ее общество сделало меня столь счастливым, поэтому она чудесным образом расслабилась. Мы разговорились. Я снова признавался ей в любви. Я целовал ее руки. Пальцы Леды дрожали. Граф Синюткин все еще беседовал с французами. Я кивнул ему, уходя. Он посмотрел на меня с испугом, как будто я уличил его в какой-то постыдной сделке. Из «Токатлиана» я немедленно отправился в «Ротонду», чтобы позабыть об обеденных неловкостях и отпраздновать возвращение Коли в мой мир. Празднование затянулось несколько дольше, чем я планировал. Из-за некоторых необычных сексуальных причуд, кокаина чрезвычайно высокого качества, удивительной атмосферы города время летело все быстрее. В следующие три дня я переживал долгий непрерывный подъем к вершинам удовольствия, о которых уже и не мечтал: ко мне вернулась страсть, утраченная, казалось, навеки. Иногда, собравшись с силами, я возвращался в «Пера Палас», чтобы проверить, появилась ли миссис Корнелиус, и поспешно набрасывал записки с извинениями в ответ на письма, присланные страдающей баронессой. Дважды я пересекал Золотой Рог по Галатскому мосту, с двух сторон прижимая к себе возбужденных шлюх. Я стремился к волшебству Стамбула и его громадным мечетям. В старом городе еще сохранилась аура огромной власти. Здесь султанат казался таким же могущественным, как прежде. В Стамбуле сталкивались самые разные власти, духовные и светские, и не все эти силы были благожелательны. Я оказался не готов к тому, чтобы воспринять величие дворцов и памятников Стамбула, городских площадей и садов. Когда я рискнул вместе с Мерси и маленькой смешливой девчонкой по имени Фатима войти в Гранд-базар, пространство показалось мне бесконечным: одна волшебная пещера сменялась другой, вдаль уходили таинственные лабиринты, где продавались экзотические старинные двух- или трехтысячелетние безделушки. Этот удивительный рынок был местом встречи разных эпох. Создавалось впечатление, что вся история человечества каким-то образом перемешалась в этом гигантском кроличьем садке, темные крыши которого отзывались эхом на крики торговцев, говоривших на всех языках, древних и современных. Я слышал эхо голосов, которые расхваливали те же самые товары, что и тысячу лет назад. Стоило только свернуть за угол, и луч золотого света неожиданно прорывался сквозь какую-нибудь высокую куполообразную стеклянную крышу и касался древней пыли. Там, где по логике вещей не могло быть никакого окна, оно внезапно появлялось, и, заглянув в него, можно было увидеть что угодно: отряд римских гладиаторов, идущих к цирку скорым шагом, византийскую придворную процессию, торжествующую конницу крестоносцев, благоуханные сокровища османского гарема. Оказавшись на Гранд-базаре, я испугался, что никогда не выберусь оттуда, – это было место, лишенное привычных границ и геометрических форм. Мы покупали наркотики (опиум, гашиш, кокаин), сладости, кофе. Мы сидели на мягких коврах и говорили с торговцами, глаза которых были столь же древними, как мир. Они улыбались и обещали нам мистические благословения. Мы разглядываликрасочных птиц, сидевших в клетках, обезьян, необычных кошек. Мы вдыхали утонченные и сильные ароматы. А затем мы каким-то образом снова оказывались на вечерних улицах Стамбула. Солнце садилось, в темно-синем небе, похожем на крепдешин, появлялись луна и первые звезды. Даже здесь великолепные киоски и мечети, с их мрамором, золотом и мозаиками, часто располагались совсем рядом с покосившимися деревянными домами. Как и в Галате, целые кварталы были опустошены огнем, некоторые дома сильно пострадали во время обстрелов и остались полуразрушенными. И вместе с тем вся история нашей западной цивилизации, как и история самозваного Востока, таилась повсюду, в каждом камне и почерневшем дереве. Это придавало мне сил. После того как турки уйдут, мы будем строить на этих руинах. Изящная современная архитектура станет соперничать с архитектурой древности. В небе будут парить на сверкающих крыльях бесшумные самолеты. Повсюду помчатся полированные стальные автомобили, серебристые дороги, извиваясь, протянутся между шпилями и куполами бывших мечетей, ставших храмами, посвященными нашему, греческому Христу. Здесь обретут воплощение все человеческие устремления и идеалы. Константинополь станет синонимом просвещенной умеренности. В эру благого господства электричества исчезнет паровая и нефтяная нищета. Ко двору Константинополя будут прибывать арабские продавцы специй, христианские магнаты, великие поэты, инженеры, музыканты. Все заживут в изумительной гармонии, каждый найдет свое место в мировом порядке. И править нашим городом-императором, если мои мечты воплотятся в жизнь, станет благородный, терпимый, дальновидный царь. Царь объединенного мира. Царь, радостно провидящий светлое будущее. В своем правосудии и мудрости он будет властвовать над всеми людьми. В этом замечательном месте, одновременно и столице, и саду, настанет вечное лето. Наука обеспечит светом и теплом яркий прозрачный купол, искрящийся всеми цветами радуги, столь же прекрасный, как купол самой Айя-Софии. Этот великий собор, символ нашего мужества и нашей веры, по-прежнему будет возноситься над семью холмами города. В городе будут разрешены все религии, но христианская станет главной, и величайшим ее воплощением окажется наша греческая литургия. Создание лучшего мира на земле возвестит о наступлении грядущего века. Этот мир станет образцом, на который будут равняться другие города и культуры. Наконец, благодаря постройке чрезвычайно мощной машины в основании города Константинополь сможет подняться в небеса. Сначала я попытался втолковать эти мечты своим спутницам, но они слишком плохо говорили даже на своих родных языках, к тому же были необразованны. Иногда я чувствовал себя скорее деревенским учителем, чем прожигателем жизни. В конечном счете я удовольствовался созданием заметок, которые использую теперь. В 1920 году казалось, что мои мечты с легкостью могут стать явью. Я не мог еще догадаться о том, что, пока я строил в своем воображении лучшее будущее, турки, евреи и восточноафриканские отбросы замышляли всеобщую погибель. Они не допустили создания цветущего рая на земле, потому что в грядущем мире их ждала лишь скромная награда. Они разделили нас и теперь властвуют. Нашей основной целью стал компромисс – это самое подходящее название для нашего столетия. Тех, кто отказался пойти на компромисс, сломали и уничтожили одного за другим. Я прожил в «Пера Паласе» меньше недели. Однажды утром я возвращался по Гранд рю, пробираясь среди спекулянтов и мелких торгашей, европейских чиновников в цилиндрах и сюртуках, солдат, моряков и светских женщин. Я чувствовал себя слегка уставшим и тут услышал, что меня кто-то зовет. Посмотрев на другую сторону улицы, я увидел майора Ная в хаки. Он остановился на перекрестке и махнул мне офицерской тросточкой. Позади него, в леопардовом пальто и такой же шляпке, стояла миссис Корнелиус. По дороге проехал автобус, потом турецкий мальчик длинной палкой расчистил путь, и я бросился вперед, позабыв об усталости. Я пожал руку майору и расцеловал миссис Корнелиус в обе щеки. Майор улыбнулся: – Мы уже думали, что с вами что-то стряслось, дружище! Но миссис Корнелиус пребывала в дурном настроении. Ее обычная приветливость исчезла, уступив место нервному напряжению. Она была накрашена гораздо сильнее обычного. – Вы хворали? – спросил я. – Ну, я не в оч х’рошей форме, д’лжна признать, Иван. – Она говорила тем самым «шикарным» тоном, к которому прибегала иногда в обществе некоторых англичан. – Ты как п’живал? – Мне было трудно не беспокоиться, – сказал я. – Я очень волновался за вас. Она не смягчилась. Майор Най объяснил, что они собирались выпить перед обедом, и тростью указал на двери небольшого бара: – Подойдет, старина? Мы вошли в полутемное помещение, и я с восторгом рассказал миссис Корнелиус о своем открытии: Коля жив! Я собирался отправиться в Лондон. Там я с легкостью определю его местонахождение и дам о себе знать. Выслушав меня, миссис Корнелиус помрачнела: – Боюсь, эт бу’ет не так просто, Иван. Неск’лько дней назад я узнала, шо я – дерьмовая русская гражданка, ’фицально, по крайности. Из-за это’о черт’ва свидетельства. Я – твоя ж’на. Из-за то’о, шо мы так зарегистрировались на к’рабле. – Но на самом деле мы не женаты. Что это значит? Она замолчала и попыталась улыбнуться майору. Он заказал нам выпивку. Она понизила голос, обращаясь ко мне, ее глаза ярко сверкали: – Я чертовски увязла, эт точно! – Потом она раздраженно добавила: – Я, мать твою, тя искала черт знат как! И ’де ж, черт ’обери, ты был? Теперь от тя зависит наша виза. Во шо вышло, вишь? Майор Най вернулся к нам: – Миссис Пьятницки объяснила, в чем ваши трудности. Положение мерзкое. Я пытаюсь связаться с соответствующими органами и решить проблему, но у всех слишком много работы. Я сказал, что все понимаю. В конце концов, в Одессе я был офицером разведки, с теми же обязанностями и проблемами. Люди хотели оставаться людьми, но было очень много нуждающихся, и всем помочь не удавалось. – Может, мы сумели бы получить въездную визу, если бы за вас поручился высокопоставленный российский офицер? – предложил майор. Мы сидели рядом на барных стульях и смотрели на шумную улицу. – Все мои начальники теперь мертвы, – пояснил я. – Если бы не миссис Корнелиус… госпожа Пятницкая… я разделил бы их участь. Есть капитан Уоллас, австралийский командир танкового экипажа, с которым я работал в прошлом году. Моим начальником был майор Пережаров – я служил офицером связи между Добровольческой армией и Экспедиционным корпусом союзников. Майор Най вздохнул: – Слишком мало бумаг и слишком много путаницы. Я сделаю все, что смогу. Возможно, свяжусь с Пережаровым, где бы он ни был. Но необходимо выйти на более высокий уровень, чтобы убедить французских, итальянских, американских и греческих военных. Кое-кто из русской армии тоже хочет с ними договориться. Документов почти нет. Тем не менее иногда подобные дела совершаются гораздо легче, чем можно ожидать. Когда появилась самая слабая надежда на решение проблемы, миссис Корнелиус пришла в обычное настроение: – Вытти замуж, попроб’вать и раскаяться п’отом, а, майор? Чин-чин. – И она допила свой коктейль. – Кстати, Иван. Эт баронесса спрашивала про тьбя. – Я как благородный русский предложил ей свою помощь. Теперь оказалось, что она нужна мне самому. – Я задумчиво улыбнулся. – Да, похоже на то. ’де ты был ’сю ночь? – Миссис Корнелиус, скромно поджав губы, прижала к ним край бокала. Майор настоял, чтобы мы выпили еще. Я не мог рассчитывать на его помощь. Я был просто знакомым, одним из полумиллиона голосов в непрестанном шуме, разносившемся вокруг посольства. Я мысленно возложил все надежды на находчивость миссис Корнелиус. Следовало подумать также о корабле до Венеции. Не повышая голоса, миссис Корнелиус посоветовала мне успокоиться: – Ты выгля’ишь чертовски ’лохо. ’пять нанюхался? Я заверил ее, что не слишком увлекаюсь наркотиками. Миссис Корнелиус сказала, что сделает все возможное, но мне нужно постоянно оставаться на связи. Может быть, нам придется уехать быстро и без предупреждения. Я признался, что сожалею, что стал бременем, ведь с ней связана моя единственная надежда добраться до Лондона и моих денег. Я не мог действовать самостоятельно, хотя и чувствовал, что таков мой долг. Наша трапеза продолжалась несколько принужденно. Майор прилагал все усилия, чтобы разрядить обстановку. Он рассказывал забавные анекдоты о турецком двуличии, греческом безрассудстве, французском упрямстве, американской наивности и британской чопорности. Он упоминал о Мустафе Кемале и проблемах с националистами. Он также слышал, что красные добились успеха на Украине. Эти истории только уменьшали мои надежды на скорый отъезд, особенно теперь, когда я испытал большинство удовольствий Константинополя и уже был готов отправиться в Англию. Усталость начала возвращаться в тот момент, когда я прилагал все усилия, чтобы проявлять интерес к рассказам майора. Я как раз собирался навестить свою баронессу и провести с ней хотя бы одну ночь. После недавних потрясений это было бы очень приятно и успокоительно. Когда обед подошел к концу, миссис Корнелиус надела леопардовую шляпку с миниатюрной вуалью и сказала, что у нее дела. Она повторила, что мне следует быть готовым к отъезду в любой момент. Я вернулся к стойке отеля, где псевдофранцуз вручил мне записки от миссис Корнелиус и Леды. Тут же, на бумаге отеля, я написал короткое письмо баронессе, предложив ей встретиться со мной вечером в «Токатлиане», а потом отправился в постель, чтобы вздремнуть пару часов и избавиться от тревог. Когда я проснулся, мое настроение улучшилось. Помог и хороший свежий кокаин, который я раздобыл с помощью Мерси. К тому времени как я помылся и оделся, пробило уже шесть часов, поэтому я решил пойти в «Ротонду», чтобы выпить и попрощаться со своими податливыми малышками. Помимо Бетти и Мерси, я уделял слишком много внимания всем остальным, а этого делать не стоило. Настало время отступить, все обдумать, как минимум на несколько дней найти новую спутницу. Может, будет гораздо мудрее уделять все внимание баронессе. Окунувшись в зеленый туман кафе, я пустился на поиски своих верных спутниц. В это сравнительно спокойное время Бетти и Мерси всегда сидели за одним и тем же столиком, но сейчас их не оказалось. Я предположил, что они нашли раннего клиента. Однако когда я спросил о них уродливого сирийца, тот не пожелал сказать ничего определенного, лишь смущенно почесывал свои бородавки. Он сказал, что девочки, вероятно, работают в Стамбуле. Они не показывались уже несколько дней. Он укрылся в своей каморке. Одна из ближайших приятельниц Мерси, стройная белокурая армянка, отзывавшаяся на имя Соня, подслушала наш разговор. Как только сириец удалился, она подошла, шелестя муслиновым платьем, и села за мой столик. – Он лжет, – сказала Соня по-русски (она была христианкой), подняла голову и посмотрела на клубы дыма, висевшие у потолка. – Я знаю, ты давно не видел Бетти и Мерси. Ты был с Фатимой и ее компанией, верно? Я подтвердил. Соня продолжала: – Сириец сказал нам, что они уехали вместе с тобой за границу. Он не хотел скандала. Но почему он так сказал? – Она поджала розовые губы. – Думаю, что они, вероятно, пошли ночью в Стамбул. Есть там одна старуха, богатая вдова, которой нравится с ними играть. Ничего особенного. Но они всегда возвращались к утру. Симка, дорогой, я уверена, что их похитили. Я знал, как привлекают обычных шлюх всякие волнующие истории, поэтому снисходительно улыбнулся. Конечно, похищения были достаточно распространены в Константинополе. – Но кто заплатит выкуп? – вполне резонно спросил я. – Никто, – сказала Соня. – Их родители умерли в тюрьме. Я думаю, что их уже продали. Несколько дней назад приезжал покупатель, македонец. Они почти наверняка были в списке его приобретений. Я видела его записи. Я сразу предупредила Мерси, но она решила, что я шучу. Сириец как-то связан с этим делом. Наверняка связан. – Но куда же их продали? Не в Стамбул? Соня разглядывала свои сверкающие ногти. Теперь стало очевидно, что она с трудом сдерживала рыдания. Ее грудь высоко вздымалась. – В Египет? Наверное, туда. В Джидду[245]? Есть много мест. В Европе тоже есть бордели. В Берлине, например. Но, если будет слишком много шума, их могут отправить даже по дороге султана. Она имела в виду, что к их телам привяжут камни и утопят в Босфоре. Я расстроился. Я был не в том положении, чтобы пытаться разыскать их. Я знал, что турецкие власти не проявляли интереса к таким заурядным проблемам, а британцы чаще всего не могли ничего поделать. Я попросил Соню связаться со мной, если она узнает что-то еще, хорошее или плохое, и дал ей несколько американских долларов на выпивку. Потом я вышел из кафе и направился к «Токатлиану». Я окунулся в густой, насыщенный полумрак. Очевидное богатство этого места и персидские декорации помогли мне расслабиться. На небольшой сцене, освещенной янтарными и изумрудно-зелеными огнями, пронзительно играл негритянский трубач, рассказывая о печалях какого-то раба с берегов Миссисипи. Оркестр не мог аккомпанировать ему как следует. Прочие музыканты были евреями, они с гораздо большим удовольствием играли бы венгерские польки или австрийские вальсы. Длинный бар заполнили итальянские солдаты, праздновавшие день рождения товарища. Один из них пытался спеть печальную песню под пронзительную музыку, звучавшую со сцены. Я бросил взгляд на графа Синюткина, по-видимому, постоянного клиента. Он встал из-за стола и скрылся в задней комнате. Частные квартиры за рестораном и над ним часто использовались для свиданий. Баронесса подошла сзади и коснулась моего плеча. Она надела новое красное вечернее платье, которое ей не очень шло, хотя и подчеркивало вальяжную, пропорциональную фигуру. Я все еще считал ее привлекательной, особенно в качестве замены миссис Корнелиус. Обеим была присуща та старомодная красота, которую я ценил гораздо больше, нежели сомнительные прелести мальчикоподобных вертихвосток, тогда только начинавших появляться. Я горжусь тем, что у меня поистине католические сексуальные вкусы. Коля всегда настаивал, что это свидетельствует об истинной человечности. Я поцеловал руку Леды. Я был почти влюблен. Я чувствовал, что она преисполнилась надежды. С некоторыми трудностями мы пробрались сквозь толпу к нашему столу. Пара слов минхееру Ольмейеру – и мы узнали, что в любой момент можем подняться в свободную комнату. Баронесса следила за мной томным и страстным взглядом, и я сознательно заставил себя расслабиться и сосредоточиться на этом волнующем воплощении славянской женственности. Маленькие шлюхи – всего лишь две из многих тысяч, в конце концов. Чрезмерное беспокойство о судьбе Бетти и Мерси было бы лишь глупой сентиментальностью. Вполне вероятно, что они сейчас наслаждались жизнью в неслыханной роскоши. Такие девочки всегда рискуют. Мне следовало беспокоиться о том, как нам с миссис Корнелиус выбраться из этого города, который становился все более и более зловещим. Но даже эта мысль отошла на задний план, когда я использовал все свое очарование, чтобы подготовить баронессу фон Рюкстуль к совокуплению, которого она столь явно жаждала. Мы с ней немного поели, чуть больше выпили, а затем по лестнице, ведущей из вестибюля, осторожно поднялись в коридор, стены которого были украшены черным плюшем и зеркалами. Он вел к гостевым комнатам «Токатлиана». Когда я снимал с Леды платье, она схватила мой член и начала сжимать его пальцами. Мне пришлось успокоить ее, предложив немного кокаина. Баронесса сказала, что ей так не хватало и моего члена, и моих наркотиков, что она едва не сошла с ума. Она повздорила с няней своей дочери и вообще вела себя очень дурно. Меня ее признания не интересовали, и я заставил Леду замолчать, опустив ее голову к моей расстегнутой ширинке, пока высыпал кокаин на маленький мраморный столик. Я привык к своим отзывчивым шлюхам, и баронесса немного удивилась моему неромантичному поведению, но она не сопротивлялась и приняла мое многообещающее обрезанное орудие удовольствия, которое оставалось для меня и радостью, и позором. Поддавшись революционному модернистскому безумию, мой отец невольно дал очевидное подтверждение ужасным слухам о еврействе, которые так часто мешали мне в обществе, а иногда подвергали серьезной опасности. Отдав меня в руки того глупого «грамотного» хирурга, он наложил на меня печать Авраама. Теперь, когда почти всех мальчиков лишают крайней плоти при рождении, это ничего не значит, но в свое время это было признаком расы и религии, предназначенным для того, чтобы пугать невежественных женщин и осуждать на смерть мужчин. Но это не интересовало баронессу фон Рюкстуль – жадные зубы, язык и губы касались объекта почти бессмысленной похоти, а я ускользал от дневных забот, ибо ее неопытность была успокоительной. Любовные ласки зрелой решительной женщины – как раз то, что нужно мужчине в трудную минуту. Я сужу по собственному опыту. Всю ночь я наслаждался ласками моей похотливой Леды, удовлетворяя ее желание и в то же время возвращая ей веру в мою любовь (если не в мою верность, в которой она несколько раз усомнилась, хотя и без злобы). Я должен признать, что испытывал огромное удовольствие от того, что красивая русская аристократка находилась целиком в моей власти. Я начинал подумывать о том, чтобы познакомить ее со своим гаремом маленьких шлюх. К утру, когда мы расстались, в отеле для меня не было никаких сообщений. Ни майора Ная, ни миссис Корнелиус нигде разыскать не удалось. Мой посыльный не видел их с тех пор, как они отужинали в ресторане минувшим вечером. Я был рад, что миссис Корнелиус продолжала общаться с британским офицером. Она точно знала, к кому обратиться, если возникнет чрезвычайная ситуация. У нее был превосходный нюх – она чувствовала власть, скрывавшуюся под самыми странными масками. Я не сомневался, что скоро мы отправимся в Лондон. Я проспал до полудня, а потом пошел в «Ротонду» обедать. Мне было интересно узнать, оказались ли предположения Сони беспочвенными, вдобавок я собирался встретиться с одним из моих новых друзей, болгарским гравером, который специализировался на визах. В тот момент я чувствовал себя чудесно – я был доволен, я превосходно владел собой и ориентировался в окружающем мире. Я помню, что насвистывал «Маршем через Джорджию»[246] (единственный вклад Джека Брэгга в мой репертуар), помахивая тростью и легко шагая к «Ротонде» по Гранд рю. Разум и чувства пребывали в идеальной гармонии, мое чувство меры оставалось безошибочным, а виды на будущее открывались превосходные. Я был абсолютно независим и не ведал никаких забот. Именно поэтому я до сих пор испытываю сильнейшее недоумение: как я мог всего через несколько часов подчиниться всеохватывающей навязчивой идее. Эта идея управляла мной почти всю оставшуюся жизнь, она определила мою судьбу до мелочей. Я не жалею о том, что случилось, – я просто не понимаю, как мог стать жертвой такого невероятного совпадения. Я иногда обращаюсь к древнегреческой мифологии и представляю себя каким-то обреченным героем, на которого Зевс наложил проклятие, таким образом натянув безжалостную цепь последствий, определяющих высший удел и богов, и смертных. Уэлдрейк[247], величайший позабытый поэт Викторианской эпохи, сказал вместо меня на английском языке, который куда совершеннее моего (да, он тоже познал ужасные страдания и унижения, которые несет человеку принуждение):
Глава шестая
Я рационалист. Я всегда был рационалистом. Я верю в силу человеческого воображения, в научный опыт, анализ и описание, в христианский гуманизм, терпимость и самоограничение. Другие, менее внятные формы мистики всегда казались мне глупыми и бесчеловечными. Это правда, я всегда больше любил мир, чем отдельных людей, обитающих в нем, но я не похож на этих хиппи, которые поклоняются богам из космоса и рассказывают, что в прошлой жизни я был сэром Уильямом Скоттом[248]. Я не стану слушать и глупых девочек, которые рассуждают о полтергейстах, призраках и экстрасенсорном восприятии. И все-таки я, вероятно, становился свидетелем случаев перевоплощения (или еще менее вероятных явлений) гораздо чаще остальных. То, что мне пришлось пережить в Константинополе, могло бы потрясти человека, наделенного не столь сильным характером, и вывести его из равновесия на всю оставшуюся жизнь. Самоотречение, спасительное здравомыслие, глубокое понимание силы и смысла молитвы – только это и помогло мне сохранить разум. Если бы я стал утверждать, что всегда отличался такой же стойкостью, – это был бы по меньшей мере самообман. Потрясение от столкновения с новой страной и культурой, моя юность, понимание того, что я изгнанник и нежеланный гость, – все это не могло не подействовать на меня. Я был образованным человеком. Я знал много языков. Я поднялся в воздух и почувствовал радость полета. Но я был похож на оранжерейный цветок. Я получил диплом санкт-петербургского института уже в шестнадцать лет. В двадцать я был и магистром естественных наук, и полковником Добровольческой армии. Как говорили тогда, мой разум развивался быстрее, чем душа. Они забрали тебя, Эсме, забрали твою юность и твою невинность. Они украли тебя у меня. Они превратили тебя в шлюху, а твое лицо – в неподвижную усмехающуюся маску. Ты стала сообщницей бандитов и анархистов, ты, которая жила только для того, чтобы служить больным и нуждающимся. Ты стала циничной, ты стала считать любовь безумием, а прошлое – глупой иллюзией. И все же разве мы не вдыхали запах сирени в старых садах над Кирилловской, когда звучные колокола Святого Андрея возвещали о наступлении Пасхи? Разве ты могла позабыть, как мы бегали босиком, взявшись за руки, по заросшим травой киевским оврагам, когда солнце золотило все городские дома своим мягким светом? Разве мы не сидели под осенними дубами, чувствуя, как на нас падают красные листья? Разве все это было иллюзией, Эсме? Или теперь это нужно называть иллюзией, потому что ничего нельзя исправить и вернуть? Wann werde ich sie wieder sehen?[249] Ты трахалась так, что у тебя между ног появились мозоли. Но ты вернулась ко мне. Быть может, тебя послал Бог. Ты вернулась в обличье проститутки и превратилась в нежного, любящего ребенка, который с восторгом принимал мой юношеский идеализм. Ты возродилась, очистилась, излечилась, и я осознал, что должен стать орудием твоего спасения. Эсме, моя мечта, мой ангел! Моя муза! Бог немногим из нас дает возможность вновь пережить прошлое, искупить наши ошибки, воспользоваться тем счастьем, которое мы обычно оцениваем лишь тогда, когда окончательно теряем. Я благодарю Тебя, Боже. Я благодарю Тебя. Каюсь, в те дни я думал, что Ты подшутил надо мной. Я думал, что Ты незаслуженно даровал мне такое счастье, а потом снова забрал его и обрек меня на горестные разочарования и безнадежные поиски, изменив все мои представления о жизни. Неужели мне суждено такое наказание, неужели я должен страдать за всех? Такова моя кара, Боже? Я блуждал по земле и искал ответ. Wie lange missen wir warten?[250] Меня обвиняли во множестве преступлений. Меня били казацкой нагайкой. Меня оскорбляли и мучили. Меня сажали в тюрьму. Меня осмеивали. Меня называли ужасными именами. И никто не мог меня понять. Я увидел ее в «Ротонде». Она сидела на стуле у барной стойки, покачивая маленькими ножками и потягивая лимонад. Она казалась очаровательной школьницей, проводившей каникулы в Аркадии. На ней был старомодный передник и юбки, золотистые локоны прикрывати очаровательное круглое личико. Ее голубые глаза были большими и невыразимо невинными, полными веселого любопытства, и она была Эсме Лукьяновой, моим возрожденным ангелОхМ. Она ничем не отличалась от девочки, которая в детстве была моей постоянной спутницей. Я видел Эсме, настоящую Эсме, она вернулась ко мне. Я снова стал мальчиком и закричал от восторга и удивления. Все посетители захудалого кафе обернулись ко мне, но меня это не тревожило. – Эсме! Мelushka![251] Моя любимая! Глупый сириец помешал мне. Возможно, он сделал это сознательно. Маленький дьявол! Бокалы полетели на пол, один из них разбился. Я упал. Я просто не разглядел его. Я сразу начал подниматься. Она уходила с американским моряком, коренастым рыжеволосым скотом, покрытым татуировками. Она не слышала меня. – Эсме! Они вышли на улицу раньше, чем я добрался до лобби. – Эсме! Эсме! Я даже не успел захватить свое пальто. Было холодно. День стоял пасмурный, собирался дождь. Электрическое освещение не отключали. Улицы возле гавани скрывал туман. Они стояли у маленькой зеленой будки на трамвайной остановке и, кажется, читали рекламные объявления, расклеенные внутри. Они смеялись. Они размахивали руками. Моряк был сильно пьян. Мой живот сжался. Там был кусок металла. – Эсме! (Он спас мне жизнь, сказала она. Это нельзя назвать изнасилованием.) Я нагнал их как раз тогда, когда трамвай с лязгом и грохотом выехал из-за поворота. Эсме, моя любимая, моя милая девственница, улыбалась моряку. Я мог прочесть его развратные мысли. Я знал его грязные планы. Я чувствовал отвращение. – Эсме! – Я опомнился. Я не мог перевести дух. Пот градом стекал по моему лицу. Люди смотрели на нас. – Извините меня, юная особа, я полагаю, что мы знакомы. – Отдышавшись, я попытался улыбнуться и поклониться. Я дрожал. Она хмурилась. – Киев, – сказал я, все еще пытаясь улыбаться. – Ты помнишь Киев, Эсме? Я подумал, что у нее амнезия. Ни она, ни моряк не поняли меня – я говорил по-русски. Трамвай, застонав, поравнялся с остановкой. Я позабыл все английские слова. Мне снова исполнилось десять лет. – Эсме! Они вошли в трамвай. Он шел к Галатскому мосту. Я последовал за ними. Я потирал голову, пытаясь вспомнить хотя бы несколько обычных английских слов. Моряк был ниже меня, но крепче: я помню огромные предплечья, как у Попая. Он посмотрел мне в глаза: – Вали отсюда, приятель. Я пришел в отчаяние, я задыхался, как измученный пес. Я вспомнил английские слова. – Вы не понимаете, сэр. Я знаю эту девушку. Она из моего родного города на Украине. Я старый друг ее семьи. Он резко рассмеялся: – Конечно. А она моя сестра. О’к? Я был потрясен. Moja siostra! Moja rozy! Slonce juz gaslo! Ро dwadziesciacieniu! О Jesu Chryste![252] Моя сестра и моя роза. Моя любимая! Двадцать завшивевших солдат стояли возле твоей хижины, обмениваясь грубыми шутками, а потом один за другим входили внутрь, чтобы удовлетворить животную похоть. – Она дочь моей матери… – Это не помогло. – Моя мать… – Я протянул к ней руку. – Эсме! Это я! Максим из Киева! Она отпрянула. (У меня есть мальчик. Он хочет жениться на мне.) Моряк, должно быть, меня ударил. Я стукнулся лицом о неровные доски. Люди наступали мне на руки и спину. Половина головы будто оцепенела. Смуглые руки цеплялись за меня. Я вырывался, пытаясь освободиться, – я терпеть не мог турецкой вони. – Эсме! Трамвай доехал до Галатского моста, а я ничего не видел. Мой глаз болел. Проводник, крича, выгнал меня из вагона, показывая на собственный череп и корча нелепые гримасы. Он думал, что я сошел с ума. Я оказался на тротуаре, неподалеку от того места, где сошел на берег с «Рио-Круза». Вода была серой, волны неритмично бились о понтоны. Гудели сирены. Миллионы людей проходили по мосту и потом исчезали. Туман становился все гуще. Послышался шум движения. Мост внезапно опустел. Я спустился по ступенькам и двинулся к нему, думая, что моя Эсме ушла именно туда. Турок-полицейский, стоявший у ограждения, приложил свой длинный жезл к моей груди. Он покачал головой и погрозил мне пальцем. Я двинулся вперед, пытаясь его оттолкнуть. Он стал настаивать, указывая на какую-то арабскую надпись и запугивая меня так, как умеют только турки. В нижней части знака виднелись знакомые буквы, но я не мог ничего прочитать. Позади меня завывали уличные торговцы, гудели автомобили, стучали копытами нетерпеливые лошади. Я оглянулся назад. Эсме нигде не было видно. Я кричал на полицейского. Я предлагал ему деньги. Я умолял его разрешить мне пройти. В ответ он пожимал плечами и тыкал пальцами в знак. Увидев, что я все понял, он расслабился. Я уже не мог пересечь мост. Его средняя часть поднялась, чтобы большие корабли вошли в Золотой Рог. Кораблей собралось очень много, под дюжиной разных флагов: линейные крейсеры, грузовые пароходы-трампы, нефтяные танкеры, баржи с зерном; а вокруг них, как паразиты вокруг китов, мелькали маленькие, красные с желтым парусные каики. Полицейский отказывался понимать мой французский. «Ма soeur! Ма soeur!» Он тыкал в меня наконечником своего жезла, с возрастающим нетерпением качая головой. «Sorella! Sorella! – кричал я. – Schwester! Shvester! Shvester! Hermana!»[253] Я ничего не мог придумать. Я злился на самого себя за то, что выучил слишком мало турецких слов. К этому времени мне следовало бы усвоить гораздо больше. Я расплачивался за лень. «Kiz kardesh!»[254] Он пожал плечами и расслабился. Пароходы проплывали под мостом, уверенно и легко входя в гавань Галаты. Неужели американский моряк забрал Эсме в Стамбул? Или они ушли совсем в другую сторону? Я дрожал от горя, скорчившись у ограждения, а в это время у меня за спиной собиралась огромная толпа турок, албанцев, арабов, персов, черногорцев, греков и евреев. Когда мне разрешили заплатить пошлину и перейти мост, уже стемнело. Я перебрался на другую сторону по шатким доскам, я двинулся по усаженным деревьями улицам, где мусульмане опускались на колени и издавали странные горловые звуки, а потом внезапно умолкали. Они склоняли лица к земле и простирались перед Голубой мечетью. Небо почти утратило цвет, и силуэт здания казался вырезанным из черного дерева. Эта цитадель ереси и суеверия испугала меня. Я поспешно миновал сборище правоверных, пересек площадь и приблизился к Айя-Софии, почти точной копии того, другого чудовищного здания. Но Айя-София была христианским храмом, застывшим в блаженном спокойствии. Я спустился, миновал переулки, где располагались вонючие рыбные лавки, прошел мимо главного входа в Гранд-базар. Улицы заполнились ярким светом, исходившим от ламп, свечей и крошечных жаровен. Здесь работали котельщики и оружейники, здесь стояли слабо освещенные прилавки торговцев табаком – разные сорта были сложены горками, и каждую украшал лимон. Я проходил мимо ресторанов, заглядывая во все окна, но не видел ни белых женщин, ни даже американских моряков. Мечети и фонтаны, черно-белые арки, крошечные улицы со стенами, покрытыми виноградными лозами, колоннами, пилястрами, повсюду нетерпеливые голоса, крики, навязчивые прикосновения. «Сарitano! Caballero! Kyrie! Eccellenza!»[255] Ковры, шелка и подушки. Лошади, верблюды и ястребы. Арабы в белых одеждах, дервиши в конических шляпах, евреи в желтых плащах, албанцы с пистолетами на поясах, татары в овчинных тулупах, негритянки в шутовских каирских костюмах, бородатые черкесы в черных с серебром рубахах, сирийцы в византийских доломанах – они так одевались уже две тысячи лет. Я погрузился в этот хаос столетий, охотясь за маленьким осколком моего прошлого, который ненадолго оказался на расстоянии вытянутой руки. Я сидел на истертом мраморе и оплакивал свою утраченную надежду, свою сестру, свою невесту. Мы должны были пожениться. Моя мать так этого хотела! Я зашел слишком далеко. Не было никаких доказательств, что они перешли мост. Полагаю, тогда мне пришло на ум, что она покинула грехи Перы ради целомудрия Стамбула, но в Стамбуле не осталось никакого целомудрия, только иллюзия набожности, тонкая завеса, скрывавшая многие злодеяния и ужасы восточного невежества, жестокости и жадности. Она казалась такой благонравной. Неужели она родилась в одном из тех греческих семейств, которые жили в квартале Кондоскала[256], неподалеку от Цистерны[257], от ее тысячи арок? Может, это беглая рабыня, которая воспользовалась вторжением союзников? Она не понимала по-русски, но с виду казалась настоящей украинкой. Наверное, я на время утратил рассудок. Эта девочка не могла быть Эсме. Я видел Эсме в лагере анархистов всего несколько месяцев назад. Она выглядела значительно старше. Этой девочке, вероятно, не больше тринадцати лет. Как она оказалась среди этих темнокожих людей? Возможно, она была черкешенкой. Или дочерью русских изгнанников, которые приехали в Константинополь много лет назад? Или Лукьянов побывал здесь и зачал ребенка? Сходство казалось настолько разительным, что я поверил: она, наверное, родственница Эсме. По крайней мере кузина. Если бы я смог ее разыскать, то все бы выяснил. В мрачных сводчатых проходах неподалеку я услышал звук драки и чье-то бормотание. Я вспомнил, что все рассказывали, насколько опасно европейцу в одиночестве бродить ночью по Стамбулу. Я как можно скорее вышел на освещенную улицу и почти сразу же поймал такси, которое возвращалось в Перу. Я вернулся в «Ротонду», пробрался внутрь и схватил за грудки отвратительного сирийца, этого ничтожного торговца нежными девичьими телами. Я кричал на него, угрожал ему законом, местью всего казачества и Божьим проклятием, если он не скажет мне правду. – Где она? Кто этот моряк? Где она живет? Как ее зовут? Что она здесь делала? – Думаю, это греческая девочка. Он извивался в моих руках как морская собака, дико озираясь по сторонам и явно не рассчитывая на помощь: вряд ли бы кого-то сильно огорчило, если б я раздавил его до смерти. И все-таки он не хотел говорить прямо и отвечал вопросами на вопросы. – Мсье Пятницкий, я ей не отец! Она новенькая… называет себя… как?.. Хелена? В чем вы меня обвиняете? Старая леди не требует свидетельства о рождении. Сколько раз она здесь бывала? Может, два или три. Вы же разумный, благородный человек? Хотите сказать, что я как-то связан с тем происшествием с Бетти и Мерси? Неужели я такое чудовище? Я отпустил его и приказал принести абсента. Все мое тело сотрясалось. Соня дернула меня за рукав: – У тебя идет кровь. Садись. Расскажи мне, что случилось. Я проглотил выпивку, принесенную сирийцем. Он пожал плечами: – Можете не платить. Но я все равно ни в чем не виноват. Когда он отошел, я закрыл лицо руками. Я заплакал. Соня попыталась успокоить меня, она гладила меня по лицу, стараясь не касаться свежих ран. – Я должен спасти ее! – снова и снова повторял я. – Нельзя допустить, чтобы она утонула в этом болоте. Ты ее знаешь, Соня? – Я наконец открыл глаза. – Ты знаешь греческую девочку? Блондинку, которая называет себя Хеленой? – Я ее видела. Она милашка. Одна леди от миссис Унал прислала ее пару дней назад. Кто знает, зачем ей работа, но попала сюда. Ты говоришь так, будто знаешь ее. – Я и правда ее знаю. Соня, если ты сможешь раздобыть ее адрес, я заплачу. Но только дай мне знать немедленно. – Она, наверное, живет около католического собора, по дороге к старому мосту. Однажды она об этом говорила. Значит, она итальянка? – Возможно, полька. – Я начал успокаиваться. – Или украинка. – Она, должно быть, тебе очень нравится, Макс. Соня явно мне сочувствовала. Ее пальцы вновь коснулись моего лица. – Я люблю ее. Кажется, моя честность произвела впечатление на армянскую девочку. Она с нежностью посмотрела на меня и улыбнулась. Как и многие опытные шлюхи, она сохранила огромный запас сентиментальности. – Я сделаю все, что смогу, – пообещала она. – Но не разбивай себе сердце, Макс. Ни одна из нас этого не стоит. У меня на кончике языка уже вертелось, что мою Эсме нельзя сравнивать с такими, как она, но подобный ответ прозвучал бы невежливо. Я поднялся на ноги и едва не упал снова: – Не могу удержаться… Я изо всех сил старался вспомнить, что следовало делать теперь. После некоторых усилий на ум пришли миссис Корнелиус и баронесса фон Рюкстуль. Но в тот момент все прочие женщины не имели никакого значения. Я попытался вспомнить, что они мне говорили, но так и не смог. Я должен был вернуться в отель, но, выйдя из кафе, забылся и прошел мимо остановки трамвая. Потом я блуждал вокруг Гранд рю, затем двигался к Галате по маленьким страшным переулкам, где мне преграждало путь развешанное на веревках белье и странный густой аромат табака доносился из заведений, располагавшихся в подвалах. Повсюду носились собаки, сжимавшие в зубах бесформенные куски падали; младенцы вопили от горя, потому что родились в таком кошмарном месте, мужчины и женщины обменивались громкими оскорблениями; собаки отрывались от своей отвратительной еды, рыча и лая на всех подряд. Я споткнулся о какой-то булыжник и ушиб колено. В переулках было очень мало света, за исключением того, который проникал сквозь решетки на окнах или сквозь дыры в занавесках. Желтый керосиновый фонарь горел в кондитерской лавке, где закутанные в чадры женщины собирались, чтобы купить сладости, свою единственную радость. В это время их мужья нарушали заповеди ислама и искали утешения в винных погребках или играли в трик-трак за грязными столами в кафе. Я миновал по крайней мере два кладбища (Стамбул называли городом кладбищ) и почти случайно, завидев далекие недосягаемые огни Перы, оказался у католического собора. Это было обыкновенное, псевдоготическое здание, построенное в английском стиле, – точно такое же можно было бы обнаружить в Уэртинге или Фулхэме. Я не мог отличить одну улицу от другой. Церковь опустела. Вокруг не оказалось никого, у кого я мог бы узнать дорогу. Поблизости еще работали некоторые кафе и бары, их заполонила обычная публика. Я знал, что было бы неблагоразумно приближаться к этим людям. Я укрылся за спинами очень старых мужчин в засаленной европейской одежде и турецких туфлях. Все они несли на головах огромные таинственные свертки. Процессия свернула за угол и двинулась по извилистым переулкам. Мимо проходило какое-то семейство – женщины, закутанные в черную ткань, мужчины в фесках и бесформенных костюмах. Шагавший впереди мальчик держал факел, освещая дорогу. Я как будто перенесся в Иерусалим времен Христа. Потом пошел дождь, и Стамбул скрылся за ним, как за тонким занавесом. Я заковылял обратно к Гранд рю, прекрасно понимая, что веду себя как безумный, и все же не в силах избавиться от навязчивой идеи. Целеустремленность, которая помогла мне в раннем возрасте развить поразительные способности, благодаря которой я смог преодолеть все опасности, стала угрозой теперь, когда я погнался за иллюзией. Существовала ли она вообще? Она была плодом моего воображения. Может, ее лицо показалось мне похожим на лицо Эсме в неверном свете огней кафе? Мне следовало это выяснить. Если бы я снова увидел ее в других обстоятельствах, если бы я увидел, что она не Эсме, – я был бы удовлетворен. Я говорил себе, что она – не Эсме. Тот вариант, что она была близнецом Эсме, казался совсем уж невероятным. Успокоившись, я вернулся домой. Пришла записка от баронессы. Она была в «Токатлиане». Я решил провести с ней вечер. Пусть только на несколько часов, но моя Леда, конечно, поможет мне позабыть обо всем этом безумии. Я переоделся, привел себя в порядок и пошел в «Токатлиан». Баронесса сидела за своим любимым столиком на втором этаже. С ней явно стряслась какая-то беда, но она очень разволновалась, увидев мое израненное лицо. – Что с тобой случилось, Симка? – Это работа. Все будет в порядке. Я не стал обсуждать свои порезы и ушибы. Благоразумие и осторожность редко производят впечатление на женщин, чаще всего причина скрытности очень проста – мужчина не хочет признавать себя побежденным и рассказывать о своих глупых поступках. Желая сменить тему, я справился о Китти. Баронесса пожала плечами. Ее дочь скучала. Здесь не было подходящих для нее школ, и она говорила по-немецки слишком плохо и не могла брать уроки у гувернантки в семействе, в котором жила баронесса. – Она прочла несколько приличных русских книг, которые нам удалось найти. Днем мы гуляем в парке. Сегодня ходили к русскому посольству. – Я слышал, что там творится настоящий бедлам. Баронесса согласилась: – Люди спят вповалку в старом бальном зале. Не осталось места даже для самых маленьких детей. И едят суп из больших мисок, как нищие. Это очень грустно, Симка. Ведь там собрались представители лучших семейств. – Зато они живы. – Я не испытывал к ним особого сочувствия. В конце концов, это я помог многим из них с паспортами. Если бы они остались, то им, вероятно, пришлось бы гораздо хуже. – В отличие от государя, – добавил я. – Нет, это ужасно. И так много сирот. Что случилось бы с Китти, если бы со мной стряслась какая-нибудь беда? В этом городе тысячи настоящих хищников в человеческом облике. Полиция бездействует. Ты знаешь, пока я шла сюда, меня дважды оскорбили. Европейцы! Никто не признает властей. Британцы прилагают все усилия, но полицейских не всегда можно отыскать. И вдобавок Маруся Верановна запила. Я устал. Я предложил сразу подняться в нашу комнату наверху. Баронесса с готовностью согласилась, все ее ужасные ничтожные проблемы были позабыты, когда появилась возможность удовлетворить похоть. Я с удовольствием провел с ней время. Леда соглашалась на все игры, которые я предлагал. Женщины, как мне было прекрасно известно, грустят только тогда, когда им не уделяют достаточно внимания, а я уделял моей баронессе все возможное внимание. В ту ночь, лежа рядом с ней, я увидел сон. Мы с евреем Берниковым плыли вместе на корабле. Кажется, это был пароход, но с треугольными парусами, как у древнего греческого военного корабля. На Берникове было какое-то тряпье. Кровь лилась из дюжины ран. Думаю, баронесса и миссис Корнелиус находились рядом. Берников обвинял меня в своем убийстве, и я не знал, виновен я или нет. Я спрашивал других, что они об этом думали, но их беспокоило состояние корабля, и на меня не оставалось времени. Герников указал на себя. Он улыбнулся и сказал, что простил меня. Я попытался вышвырнуть его за борт, крича, что мне не нужно его прощение, но по крайней мере я его заслужу, если он сейчас умрет. Я хотел, чтобы еврей замолчал, но он вцепился в поручень, как хищник в добычу, и остался на месте, улыбаясь этой ужасной благостной улыбкой. Тут подбежала Китти ипротянула ему руку. Он ухватился за руку, и Китти нежно увела его. Я ревновал. Я хотел утопить Герникова, а Китти его спасла. Баронесса разбудила меня: – Ты ужасно вспотел, Симка. Я дрожал. Она накрыла меня одеялом. Вид ее обнаженного тела оживил меня. Ее тело было массивным, крепким и в то же время мягким, и мне нравился его запах. Мы занимались любовью до рассвета, и так я снова изгнал образ Герникова из своей головы, глубоко запрятав и призрак Эсме. Леда знала, как успокаивать и утешать, – более юным женщинам такого не дано. Но к утру, после того как мы восстановили силы с помощью кокаина, навязчивая идея постепенно вернулась. Поспешно сообщив баронессе, что у меня деловая встреча с очередным военным, я предложил увидеться за обедом за нашим обычным столиком. Убедившись, что она отправилась домой, я возвратился в «Ротонду». В кафе несколько несчастных курдов мыли столы и пол. Сириец сидел на вершине стремянки, куря пеньковую трубку и якобы следя за действиями курдов. Когда появился я, он крепко сжал трубку немногочисленными черными зубами и начал спускаться. Словно не узнавая меня, он понес лестницу в кухню. Один из курдов сказал, что девочек не будет по крайней мере еще час. Я, мешая слова из разных языков, спросил его, знает ли он маленькую девочку по имени Хелена. Она, возможно, полька, сказал я. Чтобы не злить меня, курды притворились, что думают. Очевидно, у них не было никаких сведений, а мои вопросы их смущали. Снаружи, на Гранд рю, проливной дождь заполнил сточные канавы, окатил крыши и запрудил тротуары. Улицы покрылись множеством черных зонтиков и дождевиков. Я укрылся под полосатым промокшим навесом кафе «Люксембург», затем двинулся обратно, заглянул в окна книжного магазина Уика и Вайса, известного прекрасным выбором товаров, посмотрел на декоративные медные лампы и столы, дурные копии французских оригиналов эпохи Империи. Некоторые из кинотеатров и мюзик-холлов уже открылись. Оккупационные армии поддерживали множество таких мест, работавших едва ли не круглые сутки. Дождь освежил воздух Перы, ненадолго разогнав самые неприятные запахи, доносившиеся со стороны Галаты. Плакаты начали сползать с деревянных стенок газетных киосков, с табачных лавочек, писсуаров и трамвайных остановок, как будто город волшебным образом готовился покрыться новым слоем рекламных объявлений. Отряд пенджабцев бегом поднимался по крутому склону, солдаты держали оружие наперевес. Как и в Батуме, в Константинополе англичане разместили очень много цветных солдат, по-видимому, решив, что мусульмане будут меньше оскорблять турок. Это оказалось ошибкой. Турки более высокомерны к людям, которых они считают подчиненными, особенно к бывшим подданным Османской империи. Я думаю, что они сочли присутствие темнокожих солдат заранее спланированным оскорблением. Поражение от греков для них было также оскорбительно, но когда им начали приказывать африканцы, какие-нибудь французские сенегальцы, – это стало просто невыносимо. И хотя турки заслужили все возможные оскорбления (их жестокость по отношению к другим народам, особенно к армянам, вошла в легенду), они все-таки не понимали, за что их наказывают. В 1915 году, когда весь мир был занят другими делами, они изгнали около миллиона армянских христиан в пустыню на верную смерть. Многие все еще настаивают, что это вполне логичный поступок: «Не следует забывать, что армяне были очень богаты». Турки, запятнавшие руки кровью, остались истинными наследниками Карфагена. Они никогда не переменятся. Они присоединились к Организации Объединенных Наций, чтобы их защитили, когда они вторглись на Кипр[258]; они заключали в тюрьмы невинных христиан; они угрожали и воровали так же бездумно, как и их предки-гунны. История – не книга правил, но ее уроки слишком часто предают забвению. По-прежнему проявляя уважение к туркам, мы ведем себя подобно женщине, верящей, что ее злодей-муж в конце концов переменится. Это, конечно, свидетельствует о ее оптимизме, но не имеет отношения к истинной личности мужчины. Дождь ослабел, и теперь я смог вернуться в «Пера Палас». Там я вымылся и переоделся. Потом, не дождавшись вестей от миссис Корнелиус, не меняя своих планов, я снова отправился в «Токатлиан». По дороге я задержался в «Ротонде». Там я обнаружил нескольких девочек, была и рыжеволосая итальянская мадам, но никто не видел моей Эсме. Я сказал, что они получат награду, если смогут отыскать ее или раздобыть ее адрес. Кажется, они предположили, что я собирался ее купить, поэтому сразу согласились помочь. В ресторане я встретил баронессу, снова наслаждавшуюся обществом графа Синюткина. Возможно, они стали любовниками. Он поднял красивое, лицо со шрамом и мило мне улыбнулся. Мне бы тогда очень помогло, если бы баронесса обратила свою привязанность на кого-то другого, но, полагаю, она оставалась по-прежнему верна мне. Граф Синюткин, облаченный в новую форму, тепло меня приветствовал. Мы обсудили кампанию в Анатолии. Граф сказал, что греки сталкивались с сопротивлением главным образом со стороны нерегулярных отрядов вроде тех, которые я наблюдал на юге России. Я поведал ему, что лично знал Махно и неоднократно видел Григорьева, и сам Петлюра рассчитывал на мое сотрудничество. Синюткин назвал нескольких предводителей банд. Он именовал их «кондотьерами». Самым известным и наиболее популярным оказался некто по имени Черкес Этем[259]. В Анатолии он играл ту же роль, какую Панчо Вилья играл в Мексике. – В схожих обстоятельствах, кажется, появляются схожие персонажи, да? А тем временем французы терпят поражения в Северной Сирии. Меня внутренние турецкие дела не интересовали, я слушал только из вежливости. – Они борются старыми средствами со старыми проблемами, – заметил я. – Бандит на большой лошади не может ничего добиться. Неужели так важно, кто побеждает? Все они – пережитки древности. – Некоторые более прогрессивны, чем другие, – мягко настаивал Синюткин. Его голубые глаза изучающе смотрели на меня. – Для современного вооружения, в конце концов, необходимы современные банковские счета. – Необязательно, граф. В Киеве лет семь или восемь назад я спроектировал и построил превосходный дешевый аэроплан. Средств, которые потребовались бы на сотню обычных машин, хватило бы на тысячи таких аэропланов. Армия могла бы завоевать все воздушное пространство с помощью моего самолета. Я не хотел хвастаться, но тем не менее произвел впечатление. Синюткин действительно заинтересовался: – Этот проект увенчался успехом? – Во многом. Мой первый полет видел весь Киев. Вы, должно быть, читали об этом в Москве. – Я иронически улыбнулся. – Да, что-то смутно припоминаю. Вашу машину, конечно, могли использовать во время войны? – Я не стану сейчас рассказывать обо всех своих провалах, граф Синюткин. Достаточно сказать, что чертежи были переданы в Военное министерство в Санкт-Петербурге вместе с несколькими другими моими изобретениями, и гибнущие царские бюрократы сделали то, на что они только и были способны, – не обратили на них внимания. Естественно, мне не прислали даже уведомления о получении. Но другие оказались не столь медлительны – ко мне обратились за помощью. Одну из моих машин использовали во время последней обороны Киева. Если бы не трусость националистов, все могло бы кончиться иначе. Так думал Петлюра. Граф Синюткин оживился. На его лице, несмотря на шрам, выразилось поистине детское волнение: – Ей-богу, Пятницкий, вы могли бы нажить состояние! – Это неважно. Я буду счастлив, если смогу хоть сколько-нибудь улучшить жизнь обычных людей. Средства на существование нужны, но моя жизнь прежде всего посвящена созиданию лучшего будущего. – Понимаю, почему вы с Колей были так дружны. – Граф пришел в восторг. – Иногда вы говорите в точности как он. – У нас много общего. – Надо полагать, большевики очень хотели бы, чтобы вы остались в России. Даже они понимают, насколько ценны изобретатели-инженеры. – Я никогда не стал бы помогать Ленину или Троцкому проливать кровь невинных. Любому разумному правительству я с радостью предоставлю свои изобретения, но служить тиранам не буду. Синюткин наклонился ко мне. Его лицо посерьезнело: – Желаю вам удачи, Пятницкий. – Потом он нахмурился и посмотрел куда-то в сторону. Полагаю, он увидел внизу какого-то знакомого. Поклонившись нам обоим, граф поднялся. – Надеюсь, мы еще побеседуем. – Маленький гений! – Баронесса погладила меня по щеке. Мешки под глазами она аккуратно скрыла слоем пудры. Леда надела крошечную шляпу с модной вуалеткой и надушилась чуть сильнее обычного. Возможно, из-за этого она казалась уже не красивой молодой женщиной, а настоящей светской дамой из высшего сословия. – Думаю, ты произвел на нашего графа впечатление. Мне нравится, когда ты заводишь разговор о своих машинах, хотя я почти ни слова не понимаю. Но представь, каких успехов ты мог бы добиться в Берлине! Я, как обычно, понял намерения Леды и погладил ее по руке. Она вздохнула: – С Китти очень трудно. Немцев возмущают мои отлучки. Я говорю им, что ухаживаю за больной подругой, но они подозревают правду. Нам нужно покинуть Константинополь как можно скорее, Симка. – Сегодня днем я должен встретиться с одним человеком, – обнадежил я баронессу. – Видимо, у меня могут быть какие-то новости уже к вечеру. – Ты же не бросишь нас, мой дорогой? Это было уж слишком драматично. Она никак не могла выразить свои истинные опасения. – Конечно, нет. Я снова погладил баронессу по руке и передал ей меню. К тому времени как мы доели дрянной борщ и какие-то фаршированные капустные листья, мой взгляд был почти постоянно прикован к происходящему на улице. Капли дождя быстро стекали по стеклу, искажая силуэты пешеходов, которые по большей части стали напоминать полулюдей, известных из классической мифологии. Несколько раз я был почти уверен, что заметил Эсме. Я знал, что веду себя просто смешно, преследуя призрак, почти наверняка порожденный моей собственной фантазией. Я сосредоточился на еде, но баронесса, заметив мое возбуждение, небрежно спросила о миссис Корнелиус. Я ответил какой-то дежурной фразой и попытался сосредоточиться. Я знал, что страдаю от легкой контузии и нехватки сна. Я выставил себя дураком, поддавшись такой нелепой галлюцинации. Очевидно, я ошибся в «Ротонде». Если я найду Хелену, то она наверняка окажется крашеной смуглой зеленоглазой девицей лет двадцати. Конечно, я пытался мыслить разумно, но моей силы воли не хватало на то, чтобы действовать, повинуясь велениям разума. Вскоре я поспешно покинул «Токатлиан», пообещав Леде, что мы снова встретимся в ближайшее время. Я пересек улицу и занял прежний наблюдательный пункт в баре «Ротонда». Девушки заходили туда, встряхивая мокрые зонтики и плащи. Некоторые приветствовали меня. Некоторые попытались усесться рядом со мной. Я их игнорировал. Сирийский цербер выполз из своей конуры и нахмурился, завидев меня. Я заказал выпивку и расположил его к себе, дав большие чаевые. Его иссохшее лицо смягчилось, он посмотрел на меня и послал мне улыбку, исполненную удивительной, почти искренней радости. Мы снова стали союзниками, если не друзьями. Я потягивал абсент и наблюдал за толпой. Оркестр заиграл причудливую смесь турецкой музыки и американского джаза. Мужчины и женщины выходили на крошечный деревянный танцпол и двигались как марионетки, дергаясь взад-вперед в такт нелепому ритму, подражая какому-то танцу, который они только что видели в дешевом кино. Пришла Соня. Она покачала головой, давая мне понять, что у нее нет никаких сведений, а потом удалилась с пожилым итальянским офицером. Я дремал над своим стаканом. Я думал о том, что написать Коле. Я знал, что должен по крайней мере оставить сообщение в «Паласе», но убедил себя, что посыльный догадается, где я, если не сможет найти меня в «Токатлиане». Я отправился в маленькую заднюю комнату, где сириец обменивал деньги по кошмарному курсу, и приобрел несколько английских соверенов. Желая сохранить сосредоточенность, я вдохнул приличную дозу кокаина, купленного у сирийца по завышенной цене, а потом вернулся к абсенту и скуке дешевых духов, мягких плеч, коротких причесок и ярких платьев. Мне было нужно нечто совершенно иное: светлые кудри и нижние юбки, розовая кожа и чистые голубые глаза. Дождь прекратился. Я прошел по покатым улочкам до кафе напротив ворот Галатского моста и заказал среднюю порцию сладкого кофе. Я сидел и смотрел, как мимо сновали люди со всех концов земли. В этом районе было полно уличных продавцов, до невозможности расхваливавших свои жалкие товары. Толстые турецкие бизнесмены в фесках и темной европейской одежде собирались в группы и оживленно жестикулировали, проводя время в обсуждении сомнительных сделок. Вопреки логике я решился приобрести некий экмек-кадаиф[260], «бархатный хлеб», который турецкие женщины считали совершенным сочетанием муки и сливок. Вероятно, в то время в Константинополе созданием новых сладостей занимались очень многие – куда меньше людей обсуждали серьезные проблемы, возникавшие в этом городе. Но вполне возможно, что для турок это и есть самое подходящее занятие. Еще я очень полюбил блюдо, которое называлось «обморок имама». Имам-байялды[261] был самым восхитительным яством из всех, что мне случалось пробовать. Он до сих пор кажется мне куда вкуснее любых кулинарных изысков Вены или Парижа. К тому времени как сгустились сумерки, я съел целых две порции. Именно в сумерках я в последний раз видел мою Эсме и теперь сидел, питая суеверную надежду, что она снова появится в то же самое время. По обе стороны моста собирались корабли, дожидавшиеся развода понтонов, – такое повторялось дважды в день, утром и вечером. Глядя на них, я задумался, на каком судне предпочтительнее уехать – британском или американском. Практически все паромы, отправлявшиеся в Венецию, подвергались строгим полицейским проверкам – было невозможно подняться на борт или сойти на берег без необходимых документов. Пришло время, когда мне следовало отыскать болгарского специалиста по подделке документов и запастись соответствующими бумагами. Я хотел помочь баронессе фон Рюкстуль, но, может статься, придется оставить ее здесь, как она и опасалась. Она быстро отыскала бы другого защитника. Ее положение было не таким сложным, как у всех прочих. Люди из лучшего московского и петербургского общества каждое утро собирались толпами у входов в посольства Франции, Германии, Великобритании, Италии, даже Бельгии. У французов появилась такая шутка: можно убедиться в том, что русский попал в отчаянное положение, если ему приходится выбирать между самоубийством и Бельгией. Лучшие русские гибли и пропадали на холодных лемносских берегах. Профессора крупнейших академий, ученые, адвокаты, художники, музыканты и философы теснились в лагерях, где умирали от сыпного тифа или пневмонии. Принцы крови униженно ползали перед мелкими чиновниками Германии, которую они едва не уничтожили. И конечно, бесполезно было напоминать о древних языческих завоеваниях великих христианских городов, Рима и Киева и всех прочих, жители которых сносили подобные оскорбления. Порядочные, набожные христиане терпели дурное обращение, они гнили заживо и погибали. А весь мир спокойно взирал на происходящее, все демонстрировали полнейшее довольство. Царь Николай и его правительство доверились устаревшим институтам власти. Даже русские монархисты говорили об этом. И теперь уцелевшие представители российского дворянства заплатили ужасную цену за близорукость и безумие своего властителя, за царицу, возжелавшую самозваного святого, советы которого привели к грубейшим стратегическим ошибкам во время войны. Когда стемнело, я удалился от берега и двинулся обратно по булыжникам и каменным ступеням, я пробирался между зданиями, которые поднимались вверх криво, как пьяные, наклоняясь и сплетаясь в безумной геометрии невозможных линий и углов. Где-то начался пожар, и послышался сумасшедший звон огромного колокола с Галатской башни, построенной именно для этой цели. Одна из многих частных самозваных пожарных команд (обычно состоявших из самих поджигателей) срочно принялась за дело. Это был настоящий хаос босых ног, фесок, тюрбанов, старых ослов, шлангов и медных котлов с водой – неуклюжее сборище головорезов, которые крали столько же, сколько спасали. Едва вернувшись в знакомый, залитый электрическим светом мир Гранд рю, я увидел, как из моторного такси высунулась миссис Корнелиус. Она махала мне и что-то кричала – я не мог разобрать, что именно. Я попытался погнаться за нею. Она бросила на меня злобный взгляд: «Если ты не ’оторо’ишься, Иван, мы н’када не ’ыб’ремся ’тсюда!» Потом такси свернуло в сторону Топхане и исчезло. Я так и не понял, следует ли дальше преследовать миссис Корнелиус, или нужно вернуться в «Токатлиан» и припасть к утешительной груди моей Леды, а может, попытаться еще раз проверить, появилась ли Эсме в «Ротонде». Едва ли не прежде, чем осознал, что делаю, я шагнул в двери кафе и попал в мир теплой продажной плоти и отвратительных тканей. Я всегда, еще со времен Одессы, чувствовал себя непринужденно в такой атмосфере. Возможно, все дело в том, что в подобных местах от тебя ничего особенного не ждут. Ты можешь бывать в питейных заведениях, рабочих пабах и борделях, пока способен держать рот на замке и платить по счетам. Ты среди друзей, и в то же время остаешься безымянным. Все столики были заняты, поэтому я решил пробраться к бару и заказать абсент, как обычно. Я не видел ни Сони, ни сирийца, ни Хелены. Я чувствовал себя нелепо, потому что полагал: все втайне посмеиваются надо мной. Я тратил впустую слишком много времени, как говорила миссис Корнелиус. Мне следовало искать пути к бегству, готовить документы, изучать графики отправления пароходов и поездов. Тем не менее я не уезжал. Я все еще надеялся хоть раз увидеть девочку, убедиться, что ее сходство с Эсме – просто выдумка. Вдобавок я уже привык сидеть на одном месте. За последние годы, когда города сдавали и брали обратно, когда сменялись правительства и пересматривались законы, я научился тянуть время и выжидать подходящей возможности. Я иногда воображал себя рептилией, терпеливой старой ящерицей, которая способна лежать на скале много дней, пока в пределах досягаемости не появится добыча. В случае необходимости я могу преодолеть нетерпение, почти преодолеть само время, погрузиться в своеобразное полубессознательное бездействие. Этот совершенно неподобающий вариант ответа на тогдашние угрозы впервые открылся мне в «Ротонде». Поиск девочки стал делом первостепенной важности. Подумав, я уверил себя, что я легко смогу жить и работать в Константинополе. Здесь собралось много недавно прибывших дельцов, готовых профинансировать мои опыты, кроме того, я всегда мог найти работу механика. Я мог бы жить как паша на вилле, с которой открывался вид на Сладкие Воды Европы. Рядом будут соотечественники, с которыми я смогу беседовать, сотни книг и журналов, изданных на русском языке. Я не мог представить ничего подобного в холодном, строгом, величавом Лондоне. К тому же в Англии выбор юных девушек окажется не так велик. Оставаясь здесь, я смогу жить тихой, прекрасной трудовой жизнью, а если мне захочется расслабиться, когда угодно сумею насладиться всеми радостями, которые обещал Константинополь. Такой порядок пришелся бы мне по вкусу, я ведь был не просто человеком мысли – мной управляли великие физические страсти и горячность. Мне предстояло стать главным архитектором нового, блестящего христианского города. Оглядываясь назад, я никак не могу понять, почему не захотел остаться и сделаться одним из столпов Константинополя. Трудности первых лет Ататюрка почти не изменили облик города. Он говорил, что Константинополь подобен западной блуднице. Он повернулся к городу спиной, чтобы уничтожить всякую связь между столицей и ее правителем. Он допустил, чтобы мечети увядали в нищете или становились музеями для туристов, он не давал образованным людям разрешения работать в Константинополе, и они были вынуждены переехать в Анкару. Но он не нарушал покой города, который принес богатство всей Турции. Ататюрк никогда не презирал золота, которое продолжало течь потоком через его «Стамбул». Вопреки всему Константинополь оставался центром мира. Ататюрк поднял свой флаг над скопищем землянок, над Анкарой, своей новой столицей, он требовал от подданных пуританской суровости, которой сам пренебрегал. И он пил и блудодействовал, что и привело к ранней смерти, – он исключительно точно подражал лицемерным султанам, которых на словах порицал. Константинополь не обращал на это внимания, это не тревожило город, привыкший к деспотам и их чрезмерной напыщенности. Константинополь жил под пятой тиранов по крайней мере три тысячи лет. Я начал убеждать себя, что гораздо разумнее жить недалеко от России. Будет намного легче возвратиться домой, когда придет время. Я воображал, как вернусь в Одессу, – богатый, торжествующий, щедрый; как сойду с корабля, под музыку духового оркестра и приветственные крики толпы, и привезу домой Эсме, подругу детства и мою невесту. Она пришла одна. Поначалу перед глазами у меня скользили только порождения фантазии, и я почти не обратил на нее внимания. В тот вечер на ней было одеяние из потускневшего синего бархата, по крайней мере на два размера больше, чем следовало, волосы под плюмажем из павлиньих перьев она стянула в узел. Ни косметика, ни безвкусное платье не могли скрыть ее прелесть. Я с трудом сдерживался, в голове стучало, я со звоном опустил стакан на стойку. Мое сердце едва не выскакивало из груди, но я старался сохранять самообладание, следя за Эсме уголком глаза. Прижимая к груди небольшую, расшитую блестками театральную сумочку, она нерешительно пробиралась вперед, лавируя между посетителями. Сдерживая дрожь, я медленно поднялся на ноги, потом осторожно, шаг за шагом, двинулся к ней так, как умирающий человек приближается к оазису, который может оказаться всего лишь миражом. И вот я остановился прямо перед нею. Она замерла. Я поклонился. Во рту у меня пересохло, но я использовал все свое обаяние и казался, уверен, внешне спокойным, даже немного равнодушным. – Не хотите выпить, юная леди? – спросил я по-английски. Она удивленно нахмурилась: – Я католичка. Она говорила на дурном французском языке с акцентом, которого я не мог распознать. Она думала, что ответила на мой вопрос. Я улыбнулся, она тоже. Это была все та же Эсме, с полными губами и широко открытыми глазами. Все ее лицо мгновенно ожило. Она осознала, что неправильно поняла меня, и произнесла что-то по-турецки. Я пожал плечами и жестами изобразил полнейшее недоумение. Я чувствовал прилив невероятной радости. Я не ошибся. Она оказалась близнецом Эсме. Она рассмеялась. Это был смех Эсме, громкий и музыкальный. – Ведь ты Хелена, не так ли? – Хелена, да, мсье. Она быстро кивнула, как будто я продемонстрировал необычайную понятливость, и ей хотелось ободрить меня. Я нежно взял ее за руку и отвел в самый тихий уголок кафе. – Ты будешь абсент? А может, лимонад? Девушка поняла мой французский и выбрала лимонад, свидетельствуя, что она вовсе не закоренелая шлюха, а обычная школьница, которая в результате некоего ужасного стечения обстоятельств вынуждена вести такую жизнь. Еще оставалось время для того, чтобы спасти ее. Презрительно взглянув на сирийца, который мне заговорщицки подмигнул, я заказал напитки. – Ты меня узнала? – спросил я. Она нахмурилась, потом быстро поднесла руку ко рту: – О! Тот человек на остановке! – Я потревожил тебя, и мне очень жаль. Но ты – оживший портрет моей умершей сестры. Ты можешь представить, как я был потрясен. Ты казалась призраком. Я ее не напугал. Она снова расслабилась, любопытство вынудило ее остаться. Она склонила свою маленькую головку набок, как делала Эсме, и сочувственно спросила: – Вы русский, мсье? Ваша сестра была… – Она не могла подыскать слово. – Большевики? – Вот именно. – Мне вас жаль, – мягко проговорила она. Точно так же дрожал голос Эсме, когда она была взволнована. Даже чуть заметный жест, выдававший беспокойство и возбуждение, казался тем же самым. – Ты понимаешь, почему я искал тебя? Тебя действительно зовут Хелена? Она заколебалась, как будто хотела назвать мне настоящее имя. Потом осторожность взяла свое. Она наклонила голову: – Хелена. – Ты гречанка? Она пожала плечами, пытаясь удержать маску, которая все еще была для нее непривычна: – Все мы кто-то, мсье. Я чувствовал в глубине души огромную, невероятную нежность. Она была Эсме, моей любимой розой. Я хотел протянуть руки и стряхнуть пудру с ее щек, обнажив прекрасную кожу. Я хотел воздействовать на нее добротой, как воздействовал на Эсме, любовь которой считал само собой разумеющейся, в чьей верности никогда не сомневался. Эсме поклонялась мне. Они оторвали ее от ее судьбы, точно так же они пытались поступить и со мной. Они извратили ее душу. Они сделали ее обычной: дитя революции с ужасной гримасой, на месте которой когда-то была искренняя улыбка. – Твои родители еще живы? – Конечно. – Она махнула рукой куда-то вдаль, за двери. Сверкнула медная змея волос, заблестели зеленые эмалевые глаза. – Там. – И кто они по национальности? Думаю, мои расспросы стали ее раздражать. Вздохнув, она неловко вытянула руки, унизанные дешевыми кольцами. – Румыны, – сказала она. Под маской ее голубые глаза светились чистотой и непорочностью. – Они приехали до войны. – Ты составишь мне компанию сегодня вечером? Она поправила пальцами прическу: – Именно для этого я здесь, мсье. Я покачал головой, затем решил ничего не объяснять. Я все-таки боялся, что напугаю ее, и она умчится туда, где я никогда не смогу ее отыскать. И я ограничился вопросом: – Так у тебя нет особого друга? В ее вздохе был намек на притворную пресыщенность, игривое кокетство, напомнившее мне о подобных ответах Леды: – Пока нет, мсье. Я не стал обращать внимания на это притворство и на миг коснулся ее руки: – Меня зовут Максим. Я хочу защищать тебя. Могу я называть тебя Эсме, а не Хеленой? Она была озадачена, но не выказала неудовольствия: – Если тебе так нравится. – На лице ее отразилось самое искреннее сочувствие. – Но не грусти, мсье Максим. Мы здесь для удовольствия, не так ли? Она умолкла и спокойно выпила, глядя, как танцуют другие пары. У нее была такая же осанка, как у Эсме, те же непринужденные движения головы и плеч, то же выражение лица, тот же восторг перед чудесами мира. Мне хотелось увидеть ее в приличном платье, с расчесанными и как следует уложенными волосами, но я был еще слишком осторожен, чтобы предложить подобное, – я мог ее напугать, и она пустилась бы наутек, если бы я слишком поторопился. В таком возрасте девочки способны быть особенно капризными. Она, казалось, радовалась моему обществу, но все же в любой момент могла захотеть уехать с кем-то другим или решить, что ей не нравится форма моего носа. Она совсем недолго была шлюхой, иначе у нее выработался бы профессиональный интерес к мужчинам. – Что ты делала раньше, до того, как стала приезжать в «Ротонду»? – небрежно поинтересовался я. – Я… – Она сжала губы. Она по-прежнему сохраняла осторожность. – Я работала. – А твои родители? – Отец – плотник. Мать ходила в большие дома. – Она указала на богатые районы Перы. – Теперь она не может. И я прихожу сюда. Все это подтвердило мою возрастающую уверенность – я избран самой судьбой, чтобы спасти ее. Наверное, у нее было немного мужчин до американского моряка, если они вообще были. – Хорошо, – сказал я. – Может, я смогу предложить тебе работу. Я собираюсь нанять компаньонку. Это не уловка. Спроси кого угодно. Любую из девочек. Даже сириец поручится за мою честность. Если ты, к примеру, заинтересуешься предложением, я встречусь с твоими родителями и все будет устроено как следует. Она не все поняла и как-то неопределенно кивнула. Она достала из сумочки пачку дрянных сигарет и неловко вложила одну в дешевый деревянный мундштук, раскрашенный под слоновую кость. Я протянул руку с зажженной спичкой, довольный тем, что она, очевидно, не привыкла курить. Я по-прежнему боялся делать замечания или поучать ее. Молодые девушки и так страдают от чувства вины. И человек, который напомнит им об этом, вероятно, вызовет только ненависть. Я продолжал осторожно прощупывать путь. Я шутил с нею. Смех всегда помогает женщинам преодолеть стеснение – в этом отношении он лучше и дешевле шампанского. Она становилась все раскованнее и даже попыталась перевести шутку с турецкого языка на французский. У нее ничего не получилось, но мы оба расхохотались. Я предположил, что ей могло бы понравиться одно кабаре на Пти рю, и она с готовностью последовала за мной. Театр был длинным низким зданием, полным дыма, пота и керосиновых ламп. Обычные турецкие торговцы хихикали, наблюдая там за прыжками третьесортных французских актеришек из мюзик-холла, притворявшихся исполнительницами танца живота и денди. Но ей нравились комические танцы. Она беспомощно цеплялась за мою руку, не в силах сдержать безумный смех при виде трюков, которые проделывали поеденные молью ученые тюлени. Мы с Эсме ходили в цирк в Киеве. Была весна. Капитан Лукьянов дал нам немного денег, моя мать снабдила нас свертком с хлебом и колбасой. Мы впервые отправились на вечернюю прогулку без взрослых. В большом белом шатре горели цветные лампы. Прожектор озарял огороженную арену, по которой носились тигры, вздымая опилки в воздух, а полуодетые нимфы танцевали наверху, среди теней. Эсме заплакала, увидев грустного слона, и испугалась, что клоуну на самом деле сделали больно, когда напарник стукнул его ведром. Когда мы уходили, в воздухе разливался аромат свежей сырой травы и майских цветов. Тот цирк был огромен. Он занимал все дно Бабьего Яра, над которым я позднее взлетел. Я искал Зою, свою цыганку, и почти не слушал взволнованную Эсме. Как же я был глуп – я не замечал ее любви! Мне следовало лучше защищать ее. Она была слишком хороша. Она хотела спасать людей, она помогала солдатам выживать. Солдаты вернулись и сделали ее шлюхой. Мы немного прогулялись по близлежащему кладбищу. Казалось, Эсме совершенно успокоилась и готова была откликнуться на любое мое предложение. Я отвел ее в «Токатлиан». Мы вошли через черный ход. Я не хотел, чтобы меня заметили сидящие в ресторане. Там я договорился с Олмейером о своей обычной комнате, Эсме в это время ждала в узком, слабо освещенном коридоре. Она все еще улыбалась, вспоминая о кабаре, и пыталась сдерживаться, когда поднималась по лестнице. Я посоветовал ей вести себя естественнее. Она тут же фыркнула. Я рассмеялся. Она сделала меня таким счастливым! Я распахнул дверь номера и показал ей все, что там было. Она замерла. Очевидно, она никогда не видела такой роскоши. – Сначала, – сказал я, – нужно еще прогуляться. Свежий воздух нам не повредит. Я увел ее с шумной и блистательной Гранд рю к посольствам и маленьким площадям, к тихим кафе. Мы оставили позади всю городскую суматоху. Мы были в небольшом парке, почти безмолвном, у памятника какому-то мертвому паше. С этого места мы могли ясно разглядеть миллион крошечных огоньков Стамбула. Я немного подождал, а потом увлек ее в тень искривленного душистого кипариса. – Ты голодна, Эсме? Она посмотрела мне прямо в глаза. Она казалась пораженной, как будто внезапно поняла, насколько глубоки были мои чувства, насколько важна для наших судеб эта встреча. Ее маленькое личико сразу стало серьезным, и она искренне ответила: – Оui[262]Глава седьмая
Чтобы освятить мой возрожденный идеал, отпраздновать рождение моей музы, вышедшей как будто из головы Посейдона, я потребовал родительского благословения. На следующий день я вместе с девушкой спустился в кошмарные трущобы Галаты, в мир хромых собак и бесчисленных вырожденцев, – я пришел туда, чтобы повидать ее мать и отца. Эсме на самом деле звали Елизаветой Болеску. В 1901 году после каких-то политических треволнений ее родители перебрались в Константинополь из Хуши, который находился неподалеку от границы Бессарабии. Отец был бригадиром плотников, пока, по словам Эсме, не лишился работы в результате печального стечения обстоятельств. Их однокомнатная квартира располагалась на самом верху. Эсме с гордостью сообщила, что туда вела лестница из семидесяти пяти ненадежных ступенек. Ее отец, как я тотчас же понял, был алкоголиком, по внешности неотличимым от несчастных армян и сефардов, занимавших большую часть здания. Все вены на его лице воспалились. Запах дешевого алкоголя оказался, однако, настоящим благословением, так как заглушал ужасную вонь, царившую в этом месте. Мать Эсме, полубезумная и безвольная, носила на голове черный платок, как самая обычная крестьянка, кожа у нее была желтой. Она сказала, что приготовит нам чай, но Эсме остановила ее. – Моя мать нездорова. Мистер Болеску говорил только на своем родном языке и немного на турецком. Его жена знала несколько слов по-русски (увы, из-за ее акцента я ничего не мог разобрать) и кое-что по-французски. Эсме исполнилось тринадцать лет. Пока ее родители пытались объясниться со мной, используя свои ничтожные языковые познания, я думал о том, где находился в 1907 году капитан Лукьянов. Я спросил мадам Болеску, слышала ли она это имя. Она сказала, что оно звучит знакомо, но, по-моему, предположила, что я разыскивал дальнего родственника. (Эсме исполнилось два года, когда они уехали из Хуши. Поэтому вполне возможно, что девочки были единокровными сестрами. Я и по сей день убежден в этом. Жена Лукьянова покинула его через год после свадьбы, вскоре после рождения Эсме. Неужели он потом не мог найти утешение в объятиях жены румынского плотника?) Мадам Болеску спросила, не был ли он полицейским. Она говорила дрожащим, резким голосом, явно стараясь понравиться. Нет, ответил я, он был русским офицером. Джентльменом. Ее глаза стали пустыми, словно кто-то мгновенно выключил свет. Я задумался, не могло ли это оказаться признаком вины. Супруги Болеску достигли самого дна, хотя они явно были вполне приличными людьми. Турецкая столица могла оказывать такое воздействие. Что-то в ее атмосфере разлагало честные христианские души. Болеску медленно умирали голодной смертью, но теперь благодаря Эсме стали обжираться консервами, которые она покупала своим телом. Как ни странно, оба – и мать, и отец – были довольно смуглыми. Я знал, что Эсме едва ли могла оказаться дочерью пропойцы-румына. Лукьянов, несомненно, останавливался в Хуши во время своих путешествий по Украине. Я не мог точно вспомнить, когда он приехал в Киев, но это случилось после 1907 года. «Лукьянов», – прошептал я старой карге (на самом деле ей было не больше пятидесяти). Ее муж стонал как овца и жаловался, что стало холодно. Мадам Болеску подошла к окну и прикрыла его мешковиной, натянув ткань на ржавые гвозди, вбитые в голые доски. Эсме зажгла свечу. Болеску кашлял и вытирал пот с грязного лба. Он не хотел, чтобы мы оставались. – Très bon. Très bon[263], – повторяла мать. Даже ее французский, очевидно, знавал лучшие времена. Она погладила по голове свою прекрасную дочь, попыталась улыбнуться и продемонстрировала немногочисленные желтые зубы. И она, и Эсме так и не поняли до конца, зачем я пришел туда. Я попытался объяснить еще раз. Девочка напомнила мне убитую сестру. Я хотел позаботиться об Эсме и ее родителях. Муж и жена наконец кивнули и задумались. Теперь мы могли заключить сделку. В конце концов я заплатил за нее два английских соверена. Легко купив родительское благословение, я стал теперь, с их точки зрения, единственным хозяином их дочери. Ее мать уверила меня, что Эсме была хорошей девочкой, девственницей, набожной католичкой. Она поцеловала дочь на прощание. Отец что-то ворчал, рассматривая деньги. Эсме сказала, что скоро придет еще повидать родителей. Мы спустились по шаткой лестнице. Обеспокоенный извозчик дожидался нас, подкармливая лошадь из своей торбы. Я приказал ему отвезти нас в небольшой переулок за «Токатлианом». Там я уже снял на месяц одну из частных квартир Олмейера. Этот номер напоминал красную пещеру с низкими искривленными потолками и толстыми коврами того же цвета. Это были самые лучшие здешние апартаменты. Я сказал Олмейеру, что сделка должна остаться тайной для всех. Я заплатил ему вперед. Остаток дня мы провели с модистками, которые прибыли, чтобы облачить Эсме в пристойную одежду, подобающую ее возрасту. Ее вымыли с головы до пят. Волосы причесали и стянули лентами. Теперь она снова напоминала обычную тринадцатилетнюю девочку. Я оставил ее с платьями и зеркалами и возвратился на некоторое время в «Пера Палас». Мне не поступало никаких сообщений. Я начал думать, что миссис Корнелиус обо мне забыла. Я надеялся повстречать в баре майора Ная, но он тоже пропал. Я был уверен, что баронесса, с другой стороны, может потерпеть и подождать подольше. Прошла неделя. Я не отвечал на все более и более тревожные записки Леды. Потом я дал знать, что вынужден уехать в Скутари по делам. Я не хотел, чтобы мою идиллию прерывали. Наконец-то я полюбил. Это был ностальгический восторг, мечта, ставшая явью. Мы ходили в кино, на выставки и в театры. Мы занимались тем, чем я всегда хотел заниматься с Эсме. И теперь Эсме не сдерживалась, тщательно изучая ценники или умоляя меня не терять голову, как бывало в Киеве. Я мог наслаждаться всем в полной мере и не думать о будущем. Любовные ласки были сладостными и нежными, в отличие от всего, что я знал прежде. Они представали почти идеальной детской игрой, хотя и не лишенной страстности. Эсме жадно хотела жить, наслаждаться жизнью, как человек, долгое время считавший, что она кончена. Она жаждала сексуальных удовольствий гораздо больше, чем я. Я зачастую хотел просто лежать с ней рядом, обнимая и укачивая свою любимую, рассказывая ей веселые истории и угощая конфетами. Теперь весь мой мир стал нежным, розовым, теплым, я познал радость отца, воссоединившегося с дочерью, брата, обретшего сестру, мужа, нашедшего жену. Она принимала мою романтическую нежность так же легко, как принимала все мои подарки. Я ничего у нее не просил, лишь бы только она оставалась собой, объектом моей привязанности, моей маленькой прекрасной богиней, спасенной от зла. Я спас ее, но не смог спасти ее двойника. Я несколько раз писал миссис Корнелиус. Я сообщил, что связался с людьми, которые могли нам помочь. Я передал баронессе фон Рюкстуль, что столкнулся с неожиданными трудностями. Чиновник, который обещал сделать ей визу, теперь уволен со службы, кроме того, в Константинополь прибыли мои родственники, общение с которыми отнимало много времени. Я снова и снова откладывал встречи с обеими женщинами. Пока я жил в земном раю, гибли целые армии, создавались новые страны, а другие исчезали или обретали новые названия. Империи старой Европы падали, как прогнившие деревья. Эсме проявила удивительные способности к языкам. Она быстро усовершенствовала свой французский, изучила русский и немного итальянский. С ее помощью я чуть лучше освоил турецкий. Склонность к изучению языков оказалась у нас общей. Это еще сильнее убедило меня, что мы на самом деле родственные души. На содержание тайной квартиры в «Токатлиане» требовались деньги, и мне приходилось продавать драгоценности, предназначенные для Лондона. Кокаин в Пере был хорошим, дешевым и доступным. Тем не менее Эсме принимала его слишком много. Как только женщины преодолевали свои предубеждения и пробовали кокаин, в них почти всегда пробуждалась подлинная страсть к этому наркотику. Некоторые даже утверждали, что этот порошок прежде всего предназначен для женщин. Мои средства подходили к концу, очень скоро это стало очевидным. Я не оплатил свой счет в «Паласе», и миссис Корнелиус вполне резонно отказалась мне помочь. Она уехала из России с куда меньшим капиталом, нежели я. Тогда я начал подумывать о заработке – о продаже своих знаний или умений. Я неплохо справлялся в Киеве во время гражданской войны, я выжил и стал успешным бизнесменом. Теперь мне предстояло повторить это в Константинополе. Эсме привыкла спать большую часть дня. А я спускался в доки, где под старинными сводами отыскал десятки ремонтных мастерских. Я сдружился с несколькими механиками, которые занимались лодочными двигателями. Я выручал их всякий раз, когда им требовалась помощь. Вскоре я не только обзавелся более-менее постоянной работой, но и познакомился с владельцами небольших судов, которые плавали по Босфору, Эгейскому и Черному морям. Почти все они были греками либо армянами. Я даже повстречал родственников своего старого наставника Саркиса Михайловича, и меня приняли как друга семьи. Они тоже были механиками. Турки редко управляли такими ремонтными мастерскими. Они считали, что потеряют лицо, если испачкают руки в машинном масле или даже попытаются постичь тайны двигателя внутреннего сгорания. Турки на протяжении многих столетий жили за счет других. До сих пор они нанимали немцев и британцев, чтобы те строили для них машины, а представители малых народов Османской империи должны были поддерживать технику в рабочем состоянии. Британцы построили подземный фуникулер, который соединял Перу с доками Галаты. Немцы построили трамвайные линии. Ни один турок никогда ничего не изобрел. Даже проекты мечетей скопированы у византийцев. Как собираются править класс или страна, если они полагаются лишь на собственную гордость и на рабов? Они не могли претендовать на Константинополь. Истинные наследники Византии, способные строить машины, должны управлять городом, фундамент которого заложили римские инженеры. Древние лабиринты, которым минуло две с половиной тысячи лет, подтверждали очевидный факт: чтобы выжить, нужно понимать и принимать новые технологии, как только они появляются. Работая в гаванях Золотого Рога, где регулярно встречались венецианские галеоны и китайские джонки, я следил, как приземлялись и поднимались летательные аппараты – «макки» и «порте-филикстоу», которые прибывали из Италии и с Гибралтара и доставляли высокопоставленных военных. Я очень хотел стать пилотом одной из этих машин, по крайней мере пока я не построю свой собственный аппарат. Самолеты напоминали о том, что значил для меня Запад. Они пробуждалимое воображение. Они вновь делали Европу реальной. Даже самые великолепные корабли не могли передать это ощущение. Самолеты постоянно кружили над основными базами, они легко прилетали и улетали. Я мечтал о том, что вместе с Эсме полечу к свободе, в Геную или Гавр. Я построю более сложный вариант своей первой машины и сбегу отсюда, унося Эсме на спине, словно мы летающие принц и принцесса, герои восточной сказки. Я очень обрадовался, когда Эсме сказала, что мечтает вести домашнее хозяйство и стать моей женой. Я был всего на семь лет старше ее. Когда мне исполнится тридцать, ей будет двадцать три. Нет ничего дурного в том, что двадцатипятилетний мужчина женится на восемнадцатилетней девушке. Мы грезили как дети, почти ничего не зная о нормальной семейной жизни. Эсме восхищалась моими проектами; она тихо сидела рядом, когда я, вооружившись угольником и логарифмической линейкой, работал над чертежом нового парового двигателя, в котором будут использоваться быстро разогревающиеся химические соединения, способные привести в действие легковой автомобиль. Естественно, она не могла уследить за математическими формулами, но сами символы очаровывали ее. В течение многих часов она смотрела на них, как кошка, ее взгляд не отрывался от моей ручки, когда я выводил на бумаге формулы. Мы продолжали обедать в темных кафе на задворках. Эсме говорила, что хочет готовить для меня. Она называла разные турецкие и румынские блюда. Эсме высокомерно утверждала, что в ресторанах их не умеют приготовить как следует. До десяти лет она училась в благотворительной школе при женском монастыре. Одно время она собиралась стать монахиней. Потом положение ее отца ухудшилось. Турки больше не хотели нанимать христиан. И Эсме пришлось искать работу. Во время войны рабочих мест было немного. Она попыталась стать домашней работницей, как ее мать, но почти все наниматели, зажиточные греки или люди из иностранных посольств, покинули столицу. Прибывало все больше беженцев, и конкуренция стала очень высокой. Две ее подруги устроились на работу к миссис Унал. Они рассказали, что в борделе можно хорошо зарабатывать, если правильно выбирать время. Полагаю, Эсме оказалась настолько невинной, что миссис Унал прогнала ее. Даже в Пере и Галате существовали какие-то законы. Британцы прилагали все усилия, чтобы поддерживать порядок, но большая часть времени у англичан уходила на то, чтобы улаживать споры между различными группами союзников и мешать турецким полицейским требовать взятки. Эсме сказала, что она даже думала вернуться в Румынию и отыскать там родственников, но была единственной опорой своих родителей. Они, вероятно, скоро умрут. А пока ей следовало заботиться о них. Чтобы успокоить ее совесть, я уже пообещал им несколько шиллингов в неделю. Записки от баронессы фон Рюкстуль становились все более истеричными. Эти невыносимые немцы хотели, чтобы она съехала. Маруся Верановна исчезла. Китти убита горем. Денег не осталось. Неужели я бросил ее? Я неохотно согласился встретиться с ней. В своей комнате в «Пера Паласе» я на самом деле наслаждался ее обществом. Я чувствовал, что вернулась непосредственность, исчезнувшая за время, проведенное с Эсме, ведь к маленькой девочке приходится относиться как к хрупкой игрушке. Леда стала изобретательно похотливой. Бесконечные фантазии и печали дали ей возможность изучить все формы вожделения. Я искренне сказал, что очень скучал по ней. – Но ты же постоянно в Скутари, – заметила она. – У тебя там есть женщина? Я успокоил ее: – Все дело в том, что в Скутари живут влиятельные турки. – Ты в самом деле шпион, Симка? Когда я сказала графу Синюткину, что ты был летчиком и служил в разведке, он решил, что ты, наверное, секретный агент. – Все, что тебе нужно знать, любимая Леда, – это то, что я русский патриот. Я ненавижу Троцкого и его банду. Я действительно больше ничего не могу сказать. – Так твоя работа опасна? Я очень эгоистична. Это просто от волнения. Я переживаю больше за Китти, чем за себя. Но и мне нужно найти работу. Когда она ушла, я позволил себе роскошь: около часа понежился в ванне в одиночестве и попытался собраться с мыслями. Я действительно вел довольно опасную жизнь, хотя и не в том смысле, в каком предположила баронесса. Я работал, но мои сбережения почти иссякли. Вдобавок я обманывал сразу трех женщин и, что еще хуже, отклонился от намеченного жизненного плана. Мне следовало срочно придумать, как разрешить все эти трудности. Переодевшись, я спустился в бар и, к своему восторгу, увидел миссис Корнелиус. Она была в новом бледносинем платье из мягкого шелка и в темно-синей модной шляпе. Она ничуть не удивилась, заметив меня, но я, наверное, даже покраснел, когда она на меня посмотрела. – ’ривет, Иван! – сказала она. Голос ее звучал сурово и неодобрительно. – Так ты п’слал мне вест’чку. Я покачал головой: – Я только что вернулся из Скутари. – Я стремился вернуть ее расположение. – Я работаю. Пытаюсь заработать немного денег, ремонтируя машины для турок. – ’де ты был, черт поб’ри! Глупый маленький жулик. Если ты не п’т’ропишься, то п’п’дешь в беду. Я не смогу тьбе помочь. – Вы уже сделали для меня гораздо больше, чем кто-то еще, дорогая миссис Корнелиус, – прочувствованно и в то же время с достоинством ответил я. – Если я вас здесь задерживаю, тогда вам лучше уехать одной. Я присоединюсь к вам, как только смогу. – Ты о чем ’обще г’воришь? Не п’хож, шо ты с’бирашься в Лондон! – Уверяю вас, собираюсь. – Так п’чему ты нишо для это’о не делашь? – Даже когда ее глаза сверкали от раздражения, она была так очаровательна. – Нам нужны документы. Бумаги о разводе, если понадобится… – Развод! – Она разозлилась. – Я тьбе про эт писала в п’сленний раз. П’хоже, черт побери, нет никаких записей про наш брак. Я уж ’се выяснила. Чем, по-твоему, я занималась? Эт не мне надо волно’аться. Мне нишо не надо, кроме свидетельства о роженни, шоб доказать, шо я а’гличанка. И ведь ты не сам шо-то задумал? Кто? Эт’ черт’ва баронесса? – Я зарабатывал деньги. Уверяю, это правда. В доках. Вы забываете, что я первоклассный механик. – Первоклассный дрочила, точнее. – Она вздохнула. – Давай выпьем. Я заказал анисовой. – Я для тьбя ’се лучшее сделала, Иван. – Она вроде бы начала успокаиваться. – Но ты-т’ сам сьбе не помогать. – У меня сложности в личной жизни, – признался я. Мне очень хотелось все ей рассказать, но она не дала мне времени. – Личная жизь! Иван, у тьбя не бу’ет ника’ой черт’вой личной жизни, п’ка ты не приедешь в трижды проклятый Лондон! А для это’о надо попасть на корабль. У м’ня роман с адмиралом, ’от шо нам сейчас нужно! – Но есть и еще кое-кто. Я встретил здесь родственницу. Сироту. Я хочу спасти и ее. – Прекрати, Иван. Ты мне г’в’рил, шо ты единственный ребенок! – Вы слышали об Эсме? Это ее единокровная сестра. Миссис Корнелиус разозлилась. – Избавься от нее, – сказала она решительно и твердо. – Как можно быстрее. Эт’ плохие новости, Иван. Брось ее. Ты сам знашь, шо тьбе делать. Но сделай эт’ немедля. Я был возмущен: – Это не какая-нибудь мелкая интрижка, миссис Корнелиус. Девочка мне очень помогла. И хочу откровенно вам сказать… Миссис Корнелиус властно взмахнула рукой: – Я ’се эт’ слыш’ла. – Другой рукой она подала официанту знак, чтобы он принес нам еще выпить. – Ты как заблудшая овца, Иван. Я изо ’сех сил за тьбя боролась – ’се’да с ка’ими‑то девками. Если б не я, было б ещо хужее. Ты п’губишь сьбя! Эти слова показались мне просто ужасными. – Выслушайте меня, миссис Корнелиус! – Шоб ты выставил сьбя дураком? Уволь. Мною овладел гнев. Я поблагодарил ее за выпивку и поднялся. – Возьмись в руки! – прошипела она. Я понимал, что она имела в виду. Она очень заботилась обо мне. Если бы она познакомилась с Эсме, не стала бы говорить ничего подобного. А теперь миссис Корнелиус никак не могла остановиться. – Отделайся от нее, Иван! Каждый, черт возьми, за сьбя! – Я за нее отвечаю. Она всего лишь ребенок. Ей тринадцать лет, миссис Корнелиус! Она расслабилась и скривила блестящие губы: – Не впутывай меня, Иван. – Мы можем сказать, что она удочерена. Миссис Корнелиус приказала официанту оставить оба стакана. Она открыла темно-синюю сумочку и заплатила ему. К тому времени я по-настоящему разозлился. Не сказав больше ни слова, я покинул бар. Теперь я понимаю, что она заботилась в первую очередь обо мне, но тогда страсти помрачили мой разум. Я не мог расстаться с Эсме. Я начал думать, что миссис Корнелиус ревнует к моей маленькой девочке. Я шел по Гранд рю в безумном гневе, не замечая ветра и дождя. Я чувствовал, что меня подвели и не оценили по достоинству. Поскольку я больше не мог доверять миссис Корнелиус, мне приходилось рассчитывать только на собственные силы. Мне нужна была одна лишь Эсме. Я остановился и обнаружил, что забрел на турецкое кладбище. Оно оказалось самым странным из виденных мною, поскольку почти над каждой могилой стояли скульптуры в натуральную величину, некоторые из них были жизнеподобными, а другие – удивительно неестественными. Вот сапожник трудился за своим столом, вот пекарь пек хлеб, а совсем рядом человек, казалось, умирал на виселице – его тело искривилось, а лицо исказилось от невыразимых страданий. Такие удивительные памятники возвышались почти над каждой могилой, и я понял, что они изображали не только умерших, но и их занятия и обстоятельства смертей. Кладбище окружала древняя стена из желтого песчаника. Дождь не прекращался, но был довольно слабым. Стаи грачей с воплями носились по сумрачному небу. Чайки парили в вышине и жалобно кричали. Старый сад дышал, как умирающий человек. Я прошел по разбитым плитам к стене и увидел за ней шиферные крыши и деревья, которые гнулись на ветру. Листья уже облетели, и открылся вид на Босфор. Скрюченный турок в сбившейся набок феске и промокшем шерстяном пальто, полы которого едва не волочились по земле, шел по тропе внизу. Он остановился и, не замечая меня, начал мочиться у стены. Подумав, я осознал, что не смогу перенести расставания с миссис Корнелиус. Я прекрасно понимал, как далеко отступил от намеченной цели. Возможно, я никогда не смогу вернуться на изначальный путь. Неужели мне придется выбирать между Эсме и моей судьбой? Многим мужчинам когда-то приходилось принимать такие ужасные решения. И все же, несомненно, Эсме была такой же частью моей жизни, как и технические изобретения. Она была моей музой и вдохновительницей. Миссис Корнелиус не станет долго сердиться на меня, она не злопамятна. В случае необходимости я сам доберусь до Англии. Сразу после прибытия я отыщу ее в Уайтчепеле. Собравшись с мыслями, я покинул кладбище и направился к Гранд рю. Я с облегчением вернулся к своей восхитительной Эсме и позабыл обо всем. Мой проект парового автомобиля был почти готов. Я рассказывал в доках и мастерских об изобретении, которое может принести инвестору миллионы. Меньше чем через две недели я пообщался с заинтересованными лицами и почти заключил соглашение с мистером Шарьяном, армянским бизнесменом. Он предложил профинансировать опытный образец и собирался продавать первые автомобили в Париже. Затем мистер Шарьян был убит средь бела дня на Галатском мосту, и меня притащили в отделение полиции как подозреваемого. Я назвал свой адрес – «Пера Палас». Я сообщил, что есть люди, способные поручиться за меня. Среди прочих я упомянул майора Ная и графа Синюткина. Турецкие полицейские не обращали внимания на мои слова и уже собирались выставить меня убийцей, но, к счастью, британские стражи порядка оказались более осторожными. Я заявил, что моя жена, миссис Корнелиус, может подтвердить мои слова. Я почувствовал, что снова попал в какой-то кошмар, – ощущение было мне давно знакомо. Британский сержант допросил меня, пришлось ему все повторить. В моей темной камере железные кандалы были вбиты в покрытый плесенью камень, вероятно, эти мрачные стены возвели еще в Средние века. Через некоторое время сержант вернулся. Он сказал, что майора Ная вызвали в Лондон, а миссис Корнелиус уже покинула «Пера Палас» и села на поезд в Париж. Я перестал себя контролировать. Не помню, что я говорил, но уверен, что умолял сержанта о помощи и клялся, что не способен никого убить. Он пообещал мне сделать все возможное. Я никак не мог сосредоточиться. Сколько времени пройдет, прежде чем Эсме запаникует? Если она даст показания в мою защиту, это выдаст нашу тайну и приведет к ужасным затруднениям. Я представлял, какие пойдут сплетни, во что превратят мою чистую, благодетельную любовь к ней. Я чувствовал, что схожу с ума. Шесть часов спустя власти освободили меня. Убийцу поймали. Это был черкес, которого опознали все свидетели, человек, который давно поссорился с мистером Шарьяном. Турецкие полицейские мне ничего не сказали. Только англичанин принес извинения. – Вы, кажется, путешествовали с женой? Что ж, пошлите ей телеграмму и сообщите, что прибудете следующим поездом. Опасаясь худшего, я помчался в «Токатлиан» и обнаружил там рыдающую Эсме. Она была убеждена, что я уже мертв. Вскоре она успокоилась и развеселилась, и я смог выбрать время, чтобы наведаться в «Пера Палас». В холле я поговорил с управляющим. Миссис Корнелиус действительно оставила адрес для корреспонденции: «Почтовое отделение на главной улице Уайтчепела, Восточный Лондон, Англия». С майором Наем можно было связаться через Военное министерство на Уайтхолле. А тем временем, сказал грек, лицемерно извиняясь, мой багаж вынесли из комнаты. Они с радостью возвратят вещи, как только получат арендную плату за месяц. В чемоданах остались почти все мои чертежи, одежда и полкило кокаина. Я принес деньги из «Токатлиана» и оказался практически без гроша. Чемоданы доставили в мои апартаменты два огромных сомалийца, которые обычно исполняли обязанности вечерних швейцаров. Чаевых я им не дал. Той ночью я продал едва ли не последние драгоценности и повел Эсме в мюзик-холл. Я отчаянно пытался снова овладеть ситуацией. Когда рядом находилась Эсме, все остальное было неважно. Миссис Корнелиус вскоре приедет в Лондон, и я смогу ей написать. Ей гораздо легче будет добиться для меня разрешения на въезд в страну. Если посмотреть на происходящее под определенным углом зрения, могло даже показаться, что мое положение улучшилось. С другой стороны, моя баронесса, которую я встретил на следующий день, становилась все безумнее. Волнение лишало ее привлекательности. Вместо того чтобы заниматься любовью, она предпочитала обсуждать свои проблемы. Она все еще не получила вестей из Берлина, от родни своего мужа. Ее немецкие хозяева считали, что она злоупотребляет их гостеприимством. Теперь, когда исчезла Маруся, Китти требовала больше внимания. Можно ли как-то заработать денег? Я смог придумать не слишком много пристойных вариантов. Для таких, как баронесса, открывалось мало вакансий. Сам я старался скрывать источники доходов – в конце концов, я зарабатывал ничтожно мало и работал простым механиком. Конечно, я заверил баронессу, что постараюсь ей помочь и по-прежнему надеюсь: ей удастся добраться до Италии или Франции. Она слышала, что в Турции неизбежна настоящая гражданская война. Голоса националистов звучали все громче. Положение султана становилось угрожающим – он чересчур охотно вел дела с британцами. Англичане, со своей стороны, арестовали слишком много людей по политическим мотивам и тем самым усилили напряженность. Позиции повстанцев укреплялись. Граф Синюткин, по словам Леды, предсказывал большие проблемы. Значительная часть турецкой армии отказывалась разоружаться. Бандиты-башибузуки во внутренних районах грабили деревни и села, убивая без разбора турок, греков и армян. Вскоре нападению мог подвергнуться и сам Константинополь. Последнее показалось мне маловероятным. Я сказал Леде, что союзники смогут легко защитить город. Весь цивилизованный мир окажет помощь в случае необходимости. Несколько бандитов не представляют угрозы. Город на протяжении столетий сопротивлялся огромным полчищам врагов. Но Леда не успокаивалась. – Все будет в точности как в России. Разве ты не видишь, Симка? Весь мир идет по тому же ужасному пути! Именно поэтому я переживаю за тебя. Я не хочу тебя потерять. Я от души рассмеялся. Я сказал ей, что неуязвим. Как Леонардо, я перебирался из города в город, всегда угадывая направление ветра. И неважно, в каких обстоятельствах я оказывался, – мой гений умел отыскивать преимущества. Она была настроена скептически: – Но тогда почему же ты до сих пор здесь? Я напомнил, что у меня есть обязательства. Кроме того, следовало учитывать воинственные настроения турок. Моя «Компания паровых автомобилей» уже почти начала работать, но мистер Шарьян погиб. – Я найду другого мистера Шарьяна. – О, Симка, это так постыдно! Ты заслуживаешь лучшего. Тебе нельзя унижаться перед армянами. Если бы у меня были деньги, ты никогда не попал бы в такое ужасное положение. Я как-нибудь найду работу и смогу содержать нас обоих. У меня способности к математике. Муж всегда восхищался тем, как я веду счета. – Ты должна прежде всего подумать о себе и о Китти. Я всегда могу найти приличную работу. – Я стала для тебя просто обузой. Неудивительно, что ты так редко видишься со мной. – Не забудь, что в городе у меня есть дальние родственники. Один из них, кажется, умирает. И мое призвание, любимая Леда, как я всегда говорил, важнее всего прочего в моей жизни. – Я слышала, миссис Корнелиус отправилась в Париж. Я не бросила бы своего мужа в таком затруднительном положении. Я не хотел выслушивать эти мелкие упреки. – Ты всегда знала, что наш брак был чисто номинальным. Миссис Корнелиус и раньше говорила о своих планах, и я настоял, чтобы она уехала. Баронесса начала тихо всхлипывать: – Я сомневалась в тебе. Мне очень жаль. Я не хочу стеснять твою свободу, Симка. Я не ревнива, хотя и не могу вынести разлуки с тобой. Я подумал, что теперь ее требования куда меньше, чем в прошлый раз. Она стала реалисткой. Я снова ощутил прилив сочувствия к ней. – На самом деле, любимая, миссис Корнелиус просила меня уехать с ней. – Я надеялся, что это приободрит Леду. – Она рассердилась, когда я отказался. Я сказал ей, что не могу бросить тебя. Баронесса улыбалась и качала головой, вытирая слезы: – Если б только это была правда. Меня это обидело, но она, казалось, ничего не заметила. Я встал и оделся. В дешевой комнате, которую сдавали на всю ночь по особой цене, на деревянном полу не было ковра. Я почувствовал, что щепка вонзилась мне в ногу, и выругался. Я приоткрыл ставни, чтобы стало чуть светлее и я смог вытащить занозу. Снаружи собралась толпа. На плакатах виднелись надписи на арабском, и я не мог понять, чем возмущены эти люди. Леда прикрыла плечи грязной простыней. – Не печалься. Тебе нужно позаботиться о себе. Я не питаю никаких иллюзий. Я почти на десять лет старше тебя. Я опустил ногу на пол. Нежность и понимание внезапно вернулись. Я подошел к кровати, поцеловал Леду и пообещал, что вскоре снова с ней встречусь. Однако на следующий день заболела Эсме. Озноб усиливался, возможно, у нее начался грипп, и доктор выписал дорогие лекарства. Я, как одержимый, ухаживал за своей малышкой, приносил ей лучшую еду из ресторана, брался за дополнительную работу в доках и продолжал поиски нового покровителя. Всякий раз, когда Эсме просыпалась, на ее крошечном личике, окруженном взмокшими от пота светлыми локонами, появлялась отважная улыбка. У меня снова не осталось времени на баронессу. Карточки, которые я заказал, были готовы: «Европейская и восточная компания паровых автомобилей». Я распространял их повсюду. На данном этапе я не видел никакого смысла забывать о турецких интересах. Паровые автомобили предназначены для всего мира. В конечном счете, разве важно, откуда взяты средства на их изготовление – с Востока или с Запада? Деньги лучше расходовать на автомобили, чем на оружие! Я тогда питал великое множество ложных надежд. Эсме поправилась и оживилась. Я начал иногда встречаться с Ледой. Наступила весна. Мы с Эсме отправились на холмы. Мы ели имам-байялды под ароматными тутовыми деревьями, наблюдая за пасущимися козами и овцами. Солнце серебрилось на бледно-сером небе, и стены деревенских домов окрашивались в нежные сиреневые, розовые или желтые тона. Уже зацветали кустарники. Далекое море было спокойным. Почтенный приморский пригород Константинополя мало напоминал желтые улочки киевских предместий. Пейзаж казался более экзотичным, более мусульманским. И все же мое детство вернулось: то уверенное, эгоцентричное детство, когда я начинал осознавать свои необычайные силы и придавать форму своим мечтам. Эсме слушала меня так, как всегда слушала Эсме, и я описывал великолепное будущее. Она задыхалась от восторга. Она широко открывала глаза. Она ценила мой ум и предсказывала мне удивительную карьеру, представляя себя моей верной спутницей. Потом она окунулась в собственные фантазии. Она воображала дома, которые у нас будут, когда мы разбогатеем, высчитывала, сколько слуг мы наймем, и так далее. Она давала мне все, что я получал от первой Эсме. Но эту Эсме я тоже не считал простой заменой. Я потерял одну и не вынес бы потери другой. Я постоянно заботился о ней. Я хотел, чтобы она развлекалась, была здорова, получала любимую еду, одежду, безделушки, чтобы наши любовные ласки приходились ей по вкусу, даже когда мне что-то не нравилось. Я знал, насколько опасна чрезмерная забота, и пытался избежать этой опасности. Эсме понимала, как я ее люблю и как много она значит для меня. Она ценила мою заботу, настоящую отцовскую заботу. Я постепенно привыкал к Константинополю. Со сменой времен года город как будто становился более волшебным. К тому времени у меня появились друзья в доках, знакомые инженеры на кораблях, которые регулярно заходили в городскую гавань. Я оказывал услуги многим эмигрантам, все еще населявшим Перу. Их становилось все больше, потому что Красная армия заставляла добровольцев отступать. Некоторые русские теперь сражались вместе с греками в Анатолии. Другие вступили в банды, которые использовали войну в своих интересах. Кое-где группы ренегатов поступали на службу к мелким вождям. Целый отряд казаков «Волчья голова»[264] помогал устанавливать новый режим в Китае. Другие отправились в Африку, чтобы присоединиться к Иностранным легионам в Испании и во Франции. Некоторые белые офицеры даже предложили свои услуги индонезийским пиратам. Они отвернулись от нашего дела. Очень многие русские наемники были почти детьми, они знали лишь одно дело – войну. И они скорее продали бы свои мечи исламу, чем согласились жить на христианскую милостыню. У союзников, занятых собственными политическими махинациями, просто не оставалось времени на то, чтобы помочь нашей русской армии воссоединиться. Генералы ежедневно уезжали в Америку, якобы для того, чтобы читать лекции об ужасах большевизма, но на самом деле к родственникам в Торонто и Майами. Баронессе фон Рюкстуль повезло. В апреле она устроилась секретаршей в «Византию». Мы встречались два раза в неделю в ее комнатушке на верхнем этаже старого отеля. Китти в эти вечера брала частные уроки у мадам Крон, работавшей в американской школе. Мы все еще говорили об отъезде. Баронесса продолжала хлопотать о берлинской визе, но мы оба считали, что нам повезло по сравнению с тысячами несчастных, вынужденных бродить возле гавани и Галатского моста, продавая иконы и меха ухмыляющимся солдатам и морякам. Кабаре в некоторых кварталах Гранд рю стали практически русскими. Благородные князья и княгини, которые до войны разучили несколько народных танцев, теперь исполняли их для пьяниц под аккомпанемент расстроенных балалаек, а изгнанники-казаки по вечерам демонстрировали свое умение обращаться с пистолетами и кнутами. Графы давали уроки верховой езды. Графини преподавали рисование и музыку. Люди из высшего света стали третьесортной цирковой труппой, в которой насчитывалось полмиллиона нищих. Быть русским в Константинополе значило быть посмешищем. Все русские по возможности предпочитали не упоминать о своей национальности. В некоторых случаях я именовался поляком или чехом. Иногда позволял людям думать, что я британец, француз, даже американец. Точно так же баронесса тщательно поддерживала свой немецкий стиль, хотя иногда забывала про «баронессу» (поскольку у всех русских были титулы) и становилась фрау фон Рюкстуль. Из-за смуглой кожи меня часто принимали за армянина, и не всегда разумно было это отрицать. Еще в мастерской Саркиса Михайловича я выучил несколько фраз, в основном технических терминов, и они оказались мне полезными. Армяне – не евреи, что бы там ни говорили. Они были очень дружелюбны по отношению ко мне, и некоторые даже называли меня племянником Куюмджана. Они поручали мне все более сложные задания, почти всегда гарантируя полную оплату. Пять или шесть паровых двигателей, принадлежавших владельцам паромов, вскоре стали мне до боли знакомы. Я многое узнал о морских кораблях и в особенности о пароходах. При всякой возможности я экспериментировал, внося небольшие усовершенствования в свои автомобильные проекты. Вечерами мы с Эсме нанимали экипаж с извозчиком. Мы катались по Стамбулу или путешествовали по небольшим белым прибрежным дорогам, вьющимся вокруг чистого бирюзового Босфора и Мраморного моря. Небо было удивительно синим – прежде я считал этот цвет лишь фантазией живописцев. Мы хорошо питались в ресторанах близ лесистых заливов и крошечных рыбацких портов. Слушая томную турецкую музыку, мы наблюдали закат на фоне невероятных пейзажей. Весенние туманы неярко светились, особенно на рассвете и в сумерках, и мы видели, как холмы Скутари и Стамбула дрожат в медно-красной дымке. Константинополь был опасным хищником, украшенным драгоценными камнями. Он мог очаровать вас своей красотой, а затем внезапно сбить с ног, чтобы высосать кровь и душу. Его чудеса были потенциально опасными. Я зарабатывал хорошие деньги, мне поклонялась юная невеста, у меня была преданная любовница. Но я никогда не забывал, что мое истинное призвание – в другом месте, на энергичном Западе. Положение союзников становилось все более и более шатким. Переговоры о мире продолжались. Европа была разделена, ее будущее определяли победители. Византийский город стал для них проблемой. Мы все чаще слышали о Мустафе Кемале и его прихвостнях, националистах, действовавших в столице. Многие французские и итальянские военные думали, что Константинополь должен остаться турецким, а не греческим. Греки, заявляли они, это просто англичане в белых юбках. Одни только британцы оказывали подлинную поддержку греческому делу, снабжая войска боеприпасами и кораблями. Британцы считали себя истинными наследниками традиции Гомера; таким образом, помогая Греции, они поддерживали собственные притязания. Но было ошибкой сражаться за контроль над проливами, в то время как ислам и большевизм угрожали прибрать к рукам Кавказ и Анатолию. Вместе они сформировали бы Красную Орду, более безжалостную и эффективную, чем армии Тамерлана или Аттилы, и способную выступить против христианского мира. Нет ничего безумного в предсказании, которое говорит о том, что когда-то на нас двинется армия Антихриста. Союзники выбились из сил, они сражались и одержали победу, но завтра эта победа покажется ничтожной. Взрывались горы, из алого пламени выходили армии ада. В бой вступил самодовольный Карфаген. Цитадели цивилизации подвергались нападениям со всех сторон. Запад должен укрепиться, восстановить свои силы! Подлинный враг до сих пор жив! Он уже приближается! Эти снисходительные молодые люди, бородатые, в клетчатых рубашках, приходят в магазин и пытаются повесить на мои окна плакаты лейбористской партии. Они понятия не имеют, от чего их спасли. Коммунисты и люди Востока – самые серьезные угрозы всему, что нам дорого на Западе. Те порядочные мужчины и женщины, которые голосовали за Адольфа Гитлера, понятия не имели, что голосуют за тиранию. Они надеялись сдержать распространение зла. Самая большая ошибка Гитлера состояла в том, что он заключил договор со Сталиным. Его рядовые последователи начали сомневаться и утратили веру в него. Третий рейх по-настоящему начал рушиться, когда утратил истинный боевой дух и лишился сторонников за границей. Некоторые невинные попали в беду и действительно несправедливо пострадали, но больше всего преувеличивают зло гитлеризма и мелодраматически рассуждают о холокосте те люди, которые думали, что могут обогатиться, эксплуатируя приютившие их страны. Я не политик. Даже в теперешних обстоятельствах я сохранил веру в порядочность и братство людей, в добрую волю и терпимость. В молодости мой идеализм был еще сильнее. Я полагал, что турки вполне разумны, что они будут признательны, если их оставят в покое в Анатолии. Я даже в чем-то сочувствовал их борьбе. Но моим доверием, как это часто случалось в жизни, злоупотребили. В пятницу, 1 мая 1920 года, я пришел на обычную вечернюю встречу с баронессой. Нам недоставало прежней страсти, но наши любовные игры стали спокойными. Когда все закончилось, она налила мне рюмку польской водки, которую мы обычно называли бизоньей водой. Пропитанная мускусом, слабо освещенная комната была переполнена вещами, включая множество фотографий самой баронессы, ее покойного мужа и Китти. Леда казалась необычно взволнованной и таинственной. Я лежал в кровати. Она принесла коробку засахаренных фиг и предложила их мне. – В Турции я толстею, – сказала она. – Но, наверное, это лучше, чем жить на немецких клецках. Я подумал, что она все-таки подыскала другого любовника. У нее был такой вид, какой женщины часто принимают в подобных обстоятельствах, – словно у них есть некая власть, некая тайная радость, будто они хотят успокоить слегка потревоженную совесть. Я погладил ее по лицу: – С каждым днем ты становишься все красивее. – Я хочу тебе кое-что сказать, Симка. – Все ясно. Это граф Синюткин? Она удивленно посмотрела на меня, а потом рассмеялась: – О, ты думаешь, что все так же дурны, как ты сам! – Я уже привык прощать ей эти мелкие обиды. Если Леде нравилось считать меня бандитом и шарлатаном и таким образом сохранять некое подобие самоуважения, я не возражал. – Нет, у меня есть для тебя хорошие новости. Я забеспокоился. Неужели она беременна? Я ведь старался соблюдать меры предосторожности. Я пытался вспомнить, когда и как это могло произойти. – Я сказала «хорошие новости», Симка. – Она уселась на корточки, натирая кремом розовую грудь и живот, массируя шею и плечи. – Кажется, я нашла человека, который даст денег на твои изобретения. Я успокоился и обрадовался. Какая мне разница, был ли этот человек ее любовником? Все, что мне от него требовалось, – это возможность воплотить в жизнь одну из моих идей. Тогда я сразу приобрел бы солидную репутацию. – Кто он? Еще один твой богатый приятель-еврей? – Я не знаю его имени. Но кое-что ты угадал. Он знакомый графа Синюткина. Я не видел графа уже несколько недель. Проведя некоторое время в «Токатлиане», он просто исчез. Недавно пошли слухи о том, что царские офицеры уезжают на войну в Парагвай или в Аргентину, где уже находилось немало русских солдат. Я решил, что граф отправился в Южную Америку. Леда вытерла уголок рта. – Я не очень много об этом знаю, но граф думает, что представилась прекрасная возможность. – По ее словам, через две недели Синюткин должен вернуться в Константинополь. Тогда он будет готов вести переговоры от имени своего покровителя. – Его интересует твой маленький самолет. Ты мог бы подготовить какие-то бумаги? Примерную смету? – Она нахмурилась, пытаясь вспомнить, что ей сказал Синюткин. – Размеры фабрики, необходимые инструменты, материалы и так далее. Он понимает, что ты не захочешь раскрывать все детали, но нужно как можно больше. Он абсолютно серьезен. Граф заверил меня, что он прежде всего человек слова. Я этим удовлетворился, подумав о том, что удача как будто повернулась ко мне лицом, едва я отыскал Эсме. В моем сознании ее образ был навеки связан с моим маленьким самолетом. – Все готово. Мне не трудно оплатить расходы. Я хорошо знаю людей на местных фабриках. Двигатели – вот основная статья затрат. Их можно изготовить сравнительно дешево, если будет большой заказ. Граф говорил о деньгах? – Он сказал, что его покровитель не слишком расточителен, но заплатит хорошо. – Этого вполне достаточно. – Я поцеловал ее. – Моя любимая, ты получила свой берлинский паспорт! Мы отпраздновали это событие остатками водки и моим кокаином. Я вернулся в «Токатлиан» несколько позже обычного. Эсме спала, склонившись над учебником английского для начинающих, который я ей купил. Листки с письменными упражнениями, заполненные удивительно четким и ровным почерком (один из результатов монастырского обучения), рассыпались по полу. Я аккуратно поднял страницы и сложил их в стопку. Эсме что-то пробормотала во сне, когда я нежно поднял ее и уложил в кровать. Я решил: если мне предстоит вскорости покинуть Константинополь, нужно взять с собой и баронессу, и Китти. Конечно, будет трудно незаметно проникнуть в другую страну в обществе несовершеннолетней девочки. Школы Константинополя уже поставляли девочек во все европейские бордели. Чиновники могли бы предположить очевидное. Мужчина и женщина, путешествующие вместе с маленькой турецкой девочкой, компаньонкой их дочери, – с виду совершенно почтенное семейство. Кроме того, я теперь был многим обязан баронессе. Лежа в постели и держа Эсме в своих объятиях, я обдумывал все возникшие проблемы. Баронесса недавно жаловалась, что Китти слишком долго оставалась в одиночестве – девочка не знала своих ровесниц. Леда боялась, что Китти заскучает и начнет бродить по улицам. Я уже думал о том, чтобы познакомить Китти с Эсме, так как моей девочке требовались благовоспитанные подруги. Я хотел представить Эсме как одну из дальних родственниц, о которых уже упоминал. Я скажу, что пообещал ее умирающему отцу позаботиться о ней. Может, баронесса по доброте душевной согласится присмотреть за Эсме? Я оплачу все расходы. Если Эсме решится на обман, план просто не может не сработать. За годы нищеты она привыкла ко лжи. Я объясню, что эта небольшая хитрость обеспечит ей европейский паспорт и в конечном счете приведет к нашему браку. Что еще важнее – когда у Эсме появится подруга для развлечений, мне станет гораздо легче. Как только начнется производство моих самолетов, придется надолго уезжать, причем часто. У меня оставалось две недели на то, чтобы воплотить замысел в жизнь. Это означало, что баронесса будет видеться со мной намного больше. Я не сомневался, что она обрадуется. Со следующего дня все мои дела шли без сучка, без задоринки. Поверив, что вновь завоевала мое сердце, Леда стала счастливой и нежной. В течение недели мы строили планы предстоящего путешествия на Запад. Она сначала собиралась поехать в Берлин, а потом присоединиться ко мне в Лондоне. Теперь баронесса была уверена, что сможет найти работу. Больше всего ее беспокоила Китти. Именно тогда настал подходящий момент, чтобы рассказать о моей недавней встрече с бессарабским кузеном, который прожил в городе уже некоторое время. Он умирал от туберкулеза, и дни его были сочтены. У него на руках пять дочерей и племянница. Племянницу звали Эсме, чудесный ребенок. Девочка целыми днями бездельничала, и мой кузен опасался, что она могла легко сбиться с пути. Я развил эту тему, и баронесса едва не разрыдалась. – Бедный ребенок. Ты с ней встречался? Как она выглядит? Эсме была милым, застенчивым существом, с виду моложе своих лет, но без намека на дурной характер. Она слишком невинна для Перы. – Я напишу твоему кузену, – сказала Леда. – Дай мне его адрес. Дом, в котором он остановился, был весьма сомнительным, заметил я, так что ей придется положиться на меня. Я отнесу записку. На следующее утро я сказал Эсме, что нужно делать. Баронесса – старая подруга, добрая женщина, очень любившая меня. Она когда-то была моей любовницей. Теперь эта женщина мне очень полезна, и я в свою очередь хочу помочь ей. Нам всем будет выгодно, если Эсме подружится с Китти. Эсме сочла этот обман замечательной безобидной игрой. Она тотчас согласилась. Тем вечером я вернулся к баронессе и принес записку, которую под диктовку написал один из моих нищих приятелей с побережья. С достойной старосветской элегантностью мой кузен сообщал, что с удовольствием разрешит своей подопечной навещать баронессу. Он был более чем признателен ей за заботу. С тех пор я начал наслаждаться жизнью – раньше я никогда не испытывал ничего подобного. Ребенок, которого я возжелал на корабле, и девочка, которая теперь была моей любовницей, стали лучшими подругами, играли вместе, делили одни игрушки, ходили в парки, музеи и приличные кинотеатры со своими любящими опекунами. Разумеется, в присутствии девочек баронесса не проявляла своей страсти. Эсме и Китти обнаружили, что у них много общего, и языковой барьер скоро был преодолен. Все стало каким-то утешительно буржуазным, и мне показалось, что совершилась явная перемена к лучшему. Леда фон Рюкстуль даже несколько раз встречалась с моим кузеном. Больной кавалерийский офицер Благовещенский был готов на все за рубль-другой. Я оправдывал все эти представления тем, что баронесса уже назвала меня жуликом, и поэтому я не делал ничего неожиданного для нее. Кроме того, наш обман никому не причинял никакого вреда. Уговор оказался полезным для всех. Все, что от меня требовалось, – арендовать комнату около Галатской башни, продолжая сохранять в тайне номер в «Токатлиане». Я был приятно удивлен тем, как гладко все проходило, как успокоительно оказалось вести жизнь настоящего патриарха. Прошел почти месяц, прежде чем граф Синюткин связался с нами. Мы с баронессой договорились встретиться с ним в ресторане под названием «Олимп» на Пти рю. Когда мы пришли, греческий бузучный оркестр играл до того громко, что мы не смогли поговорить как следует, пока музыканты не удалились. Пища здесь была жирной, и готовили ее не слишком хорошо, но граф объяснил, что сейчас ему хочется избежать встречи с определенными людьми. С нами он разговаривал очень тепло, с энтузиазмом. Я спросил графа, много ли он путешествовал, – выглядел он так, словно немало повидал в жизни. Он сказал, что его дела требовали довольно продолжительных поездок, но больше ничего не объяснил. Он хотел поговорить о моей работе. – Я буду счастлив, если этот замысел удастся реализовать. Меня сразу поразила восхитительная простота вашей идеи. Я сказал, что он льстит мне. – Подождите, пока не увидите первую машину в воздухе! Он буквально не мог усидеть на месте от нетерпения. – Теперь уже скоро. Его партнер не мог сейчас приехать в Константинополь, но он появится в Скутари в ближайшие недели. Если я составлю смету, мои расчеты немедленно передадут по назначению. Если все пройдет хорошо (а граф был уверен, что именно так и будет), я смогу надеяться на встречу со своими потенциальными покровителями и на подписание контракта. Я предположил, что граф представляет международную коммерческую корпорацию и поэтому ему нельзя афишировать свои связи. Мы провели остаток вечера вместе. Граф продемонстрировал глубокое понимание южнорусских проблем. Он прекрасно знал и Киев, и Одессу. Как выяснилось, граф встречался с Петлюрой, который, по его мнению, все еще действовал где-то на окраине. – Храбрый человек, – заметил он, – и убежденный националист. Мне не хотелось возражать графу. Я согласился, что Петлюра сражался за то, во что искренне верил. Я не видел смысла в изложении собственных воззрений. В Санкт-Петербурге граф Синюткин был радикалом. Он стал свидетелем последствий революции, и все-таки до сих пор верил в подобные вещи, далекие от его собственного повседневного опыта. Мы говорили о Коле, о посетителях «Приюта Арлекина» и «Алого танго». Граф сожалел, что люди вроде Мандельштама, Маяковского и Луначарского продолжали поддерживать Ленина. – Но некоторые всегда будут цепляться за политическую идеологию так же крепко, как женщина цепляется за свою веру в никчемного мужчину. Они хотят, чтобы эти идеи были истинными, а что там на самом деле – неважно. Я согласился. Можно было даже сказать, что он точно описал трагедию всех русских людей. – Похоже, что религия стала для нас жизненно необходима, – сказал граф. – Другим так же нужен хлеб или секс. И, очевидно, не имеет значения, какую форму принимает эта религия. Нас слегка развезло. Баронесса начала рассказывать о жизни на даче в Белоруссии и о маленькой сельской церкви, где она венчалась. Она описала священника, который вел у нее занятия в школе и мог часами рассказывать о Боге Всемилостивом. – Мне так жаль, что Китти никогда не узнает настоящего русского детства. Нам всем так повезло! Мы думали, что так будет всегда. – То же чувствовал и государь. – Граф Синюткин бросил в мою сторону сардонический взгляд. – Именно это и стало причиной нашего нынешнего положения, верно? Баронесса, как обычно, отказалась говорить о политике. Она знала лишь одно: ее жизнь разрушили и забрали все, чем она дорожила. – Теперь у меня есть только Китти. И, конечно, Симка. В трезвом состоянии она не стала бы проявлять подобную сентиментальность. Граф из вежливости сделал вид, что ничего не заметил. Я был ему признателен. Леда находилась во взвинченном состоянии, она сообщила графу, что у нее теперь две дочери и она заботится о них, наслаждаясь взятой на себя ответственностью. После этого Синюткин извинился и встал. Он сообщил, что скоро свяжется с нами. Он поцеловал руку баронессы. – А пока… – граф положил на стол маленький мешочек из кожи серны, – …от моего клиента. – Он поклонился и простился со мной: – Всего доброго, господин Пятницкий. Синюткин скрылся в толпе. Баронесса подняла кожаный кошелек: – Это золото! В моей маленькой комнате мы пересчитали монеты – внутри оказалось десять соверенов. Я отдал Леде пять: – Твои комиссионные. – Восхитительно, – сказала она, распуская завязки на панталонах. – Мы можем позаботиться о том, чтобы девочки в понедельник купили себе новые платья. Чудесный семейный спектакль продолжался так успешно, что я рассчитывал на его долговечность. Если бы баронесса узнала о моей чувственной привязанности кЭсме и стерпела бы это, по крайней мере, закрыла бы на это глаза, – тогда нашему браку уже ничто не угрожало бы. Несколько раз я уже хотел намекнуть на истинное положение дел, но всякий раз сдерживался, опасаясь нарушить достигнутый статус-кво. Почти все ночи я проводил с Эсме в «Токатлиане», но вечера посвящал женщине, которую Эсме теперь называла тетей. Кроме того, я решил, что неблагоразумно рассказывать Эсме о моей продолжающейся связи с Ледой. Женская ревность уничтожила множество самых замечательных планов. Эсме нравилось обманывать Леду, но я сомневался, что в столь юном возрасте она оценит иронию того, что ее саму тоже обманывают. Несколько дней спустя пришло сообщение от графа: увиденное произвело впечатление на его клиентов. Вскоре мы обсудим детали. Готов ли я совершить непродолжительное путешествие? Я ответил, что, если понадобится, я поеду на край света. Я встретился с графом в баре у фонтана Тифон. Он сказал, что его покровители не могут точно сообщить, когда посетят Скутари в следующий раз, поэтому мне следовало быть готовым к тому, что в любой момент придется без предупреждения отправиться на азиатский берег. – Если им действительно понадобится мой самолет, я брошу все и приеду в любое время, днем или ночью. – Они, судя по всему, появятся здесь недели через две. – Вы пойдете вместе со мной на эту встречу, граф? – Конечно. Будьте уверены, мой друг – человек чести. Заподозрив, что его клиент – еврей, я счел нужным пояснить, что не страдаю от предрассудков и спокойно отношусь к чужим религиозным убеждениям. Так я укреплялся в своем заблуждении. Миссис Корнелиус часто говорила, что я сам – свой злейший враг. Я верил своим друзьям, я жил в радости и давал жить другим, я протягивал руку помощи, ожидая в случае необходимости того же самого, и из-за этого потерпел поражение. В течение многих лет я был готов излагать свои идеи всем, кто проявлял к ним интерес, А кто сегодня слышал о Пятницком? И ведь всем знакома история Лира. Люди дивятся глубине моих суждений. Мои замечания основаны на опыте. В моей ненависти к большевизму нет ничего отвлеченного. За эти идеи собственной жизнью заплатил человек, который прекрасно понимает, что такое жить под гнетом красных. Теперь я осознаю, что мне не следовало ссориться в Одессе с двоюродным братом, с Шурой. Во всем была виновата девчонка. Из-за этого прервалось мое обучение – слишком рано, слишком рано… Если бы я тогда остался в городе, то получил бы необходимое предостережение. Катакомбы Одессы все еще отзываются эхом на зов несвершившегося будущего, призраки все еще шагают поступью Робеспьера. Где-то в небе над куполом собора Святого Николая летит одинокий аэроплан, изящная машина, в кабине которой сидит молодой человек. Его силуэт четко виден в сиянии желтых солнечных лучей, он мчится над городом спящих коз, над городом Одиссея. Он смотрит сверху на улицы, которые рассыпаются на части, на здания, которые никто не может восстановить, на страшных нищих, стоящих в грязи и молящих о хлебе, которого им никогда не подают. Юноша оплакивает их, и по его щекам текут серебристые слезы. Люди мчатся вперед. Они пытаются поймать блестящие капли. Они ссорятся, они убивают друг друга ради серебряных иллюзий. Юноша перестает плакать. И его смех превращается в безумный, когда авиатор поднимается ввысь, туда, где небо становится черным, и затем он исчезает за горизонтом. Одесса, город жадности, город реальности. Город того, что могло бы быть. В Аркадии жил еврей, который держал меня за руку. Он знал, почему его соплеменники вложили мне в живот кусок металла. Они заставили меня кричать. Герников истекает кровью, в глазах его – боль и сомнения. Es tut sehr weh[265]. Они заставили нас встать на колени в снегу. Они бичевали нас своими кнутами. Бродманн приказывал им. Они опутали нас сетями из колючей проволоки и повесили нас над кострами, как рыб, а их собаки, высунув красные языки, сидели рядом и ждали, когда мясо будет готово. Я надеялся, что они отпустят меня. Я доверил им свою жизнь. Я сказал им правду. Но в те дни я еще не мог знать, в чем она. Как человек может доказать, что он достоин спасения? Той ночью, в пустынном краю, я молился звездам, потому что думал: они могли оказаться ангелами, которые спасут меня. Я никому не причинил зла. Разве любовь – это зло? Я никого не предавал. Они сами выдали себя. Это не преступление. Я говорил им: «Это не преступление!» И все же они отвернулись от меня. Пусть они узнают, что такое подлинное страдание. Пусть скитаются, как скитался я. Пусть умоляют о смерти. Бродманн был негодяем. Жизнь ради жизни ничего не стоит. В конце концов, человеческое достоинство – единственное, на что нам остается надеяться. Но даже его обычно не удается сохранить. Им нужна разумная причина для того, чтобы поступать с вами именно так. Они лишают человека чувства собственного достоинства, если могут. Планета вертится. Мы слишком малы. Я люблю Вселенную и все ее чудеса. Я не просил награды. Я лишь хотел насладиться тем даром, который достался мне от Бога. Я ведь не лучше и не хуже Герникова? Я ведь не хуже других? Я мог бы стать почтенным человеком, у которого красивая жена и две прекрасные дочери, человеком, который по воскресеньям выходит подышать воздухом на Гранд Шан. Я мог бы стать тем биржевым маклером в сюртуке и цилиндре, который смотрит, как его дети крутят обручи у пруда в Кенсингтонском саду, или прогуливается с женой по Центральному парку. У меня могло быть все – имя, репутация, семья, почет. Но чтобы добиться этого, мне пришлось бы позабыть о доверии к ближним. Цена, я думаю, оказалась бы слишком высока. Несколько недель спустя после моей первой встречи с графом я получил от баронессы сообщение: мне следовало сесть на трехчасовой паром в Скутари. Граф Синюткин встретит меня там. Я тотчас отправился к Эсме и, обняв ее, попросил хорошо себя вести. Я вернусь самое позднее следующим утром. Я оставил ей немного денег. Она поднялась на цыпочки, обхватила мою шею тонкими ручками и поцеловала. – Ты будешь великим человеком, – сказала она по-русски. Ее любовь и вера укрепили мои силы, и я с легким сердцем отправился в путь, задержавшись только для того, чтобы проститься с баронессой. Я уверил ее, что не забуду об осторожности. Леда сказала, что полностью доверяет графу, но мне следует получше изучить его друзей, прежде чем отвечать им согласием. Я обещал ей, что буду предельно осмотрителен. Я прошел по Галатскому мосту и в два сорок пять сел на первый паром до Скутари. Заплатив несколько медяков, я устроился в мягком кресле и осмотрел с моря чудесную панораму всех трех огромных городов, из которых состоит Константинополь. Солнце висело высоко в небе. Купола мечетей были озарены светом. Всюду, куда устремлялся мой взгляд, виднелись различные оттенки зелени или синевы и белые мерцающие блики. В воздухе смешивались запахи морской воды и специй, цветов и кофе. Вполне возможно, думалось мне, что я вернусь в Перу богатым человеком. Мир очень скоро услышит о моих достижениях. Мне не придется бежать из города подобно преступнику. Я прибуду в Лондон или в Париж настоящей знаменитостью: Пятницкий, создатель летающей пехоты. Пятницкий, изобретатель дешевого парового автомобиля. Пятницкий, творец воздушных лайнеров и домашних роботов. Все позабудут Эдисона. Он создавал игрушки, а я собирался создать целую цивилизацию! Как будет гордиться мною миссис Корнелиус, когда прослышит о моей известности! Я мог уже представить, как она читает новости в «Дейли мэйл» и рассказывает соседям, что когда-то мы были женаты. Я путешествовал бы по всему миру со своими прекрасными женщинами: великий патриарх, хранитель древней русской традиции и все-таки современный человек и человек будущего. И все начнется именно здесь. Так изменится центр Старого Света – он станет центром нового. И перед моим мысленным взором возникала величественная картина: Парсифаль простирает руки к чаше Грааля.Глава восьмая
Время от времени меня слепили отраженные от воды лучи солнечного света, оглушал говор каких-то дервишей в конических шляпах и одежде цвета грязи, толпившихся на носу парома. Я потел в своем европейском костюме и прилагал все усилия, чтобы дышать не слишком глубоко, – от торговцев ослами и шелком, которые заполонили почти весь корабль, очень сильно воняло. Я обратил взгляд к азиатскому берегу. В Скутари очертания Карфагена были различимы куда явственнее, чем в Стамбуле. В Скутари не осталось почти ничего от Греции и Рима. Здесь находились кладбища турок, которые хотели обрести покой в восточной земле. Некоторые надгробные памятники были столь грандиозны, что могли соперничать с огромными мечетями, также возведенными в память об умерших родственниках разных султанов и султанш. Здесь почти не было той нищеты и убожества, которые проявлялись в других частях Константинополя. Скутари выглядел более спокойным и изящным. Отсюда город казался куда больше, чем со стороны Золотого Рога или Мраморного моря, дома и склады были на удивление хорошо отремонтированы. Скутари завоевали задолго до того, как пал европейский город, и поэтому турки уделяли этому месту особое внимание. Неподалеку отсюда Ганнибал, опозоренный и побежденный, изгнанный безжалостной родиной, искал защиты у добросердечного грека, Прусия, царя Вифинии, и здесь Ганнибал, охваченный ужасом, взятый в плен Сципионом Африканским, выпил отвар болиголова и умер. Подобно Риму и Стамбулу, Скутари также был построен на семи холмах, но ему недоставало плотности. Очень много места занимала растительность, среди листвы виднелись купола, башенки, минареты и крыши. Этот город был красивым – и сонным. Здесь располагались виллы оттоманских сановников и аристократов, с бассейнами, фонтанами и прохладными галереями. Богачи чувствовали себя в безопасности, зная, что поблизости размещены основные вооруженные силы Турции. И сейчас из крепостей и с блокпостов доносились отдаленные звуки горнов, топот ног и громкие команды. Небольшой паром подошел к причалу близ широкой оживленной площади, по которой как попало передвигались лошади, экипажи, автомобили и телеги. Итальянские полицейские равнодушно наблюдали за происходящим. Дервиши всей толпой сошли на берег, пересекли площадь и вскоре скрылись за рыночными палатками. В конце концов я спустился по деревянному трапу и начал озираться по сторонам, надеясь обнаружить графа Синюткина. На самой площади располагались обычные побеленные турецкие кафе, офисы различных судоходных агентств, несколько банков и контор. От площади расходились узкие мощеные улицы, уводившие вверх, с увитыми виноградными лозами и плющом желтыми и красными зданиями по бокам. Высокие платаны роняли тень на крыши, повсюду виднелись решетки, служившие подпорками для душистых растений. Казалось, здесь было гораздо теплее. Я снял шляпу, вынул носовой платок и вытер лоб, думая, не обманул ли меня граф. Наконец среди множества ослов, лошадей и телег появился старый седан «де дион бутон». Сначала я подумал, что это армейский транспорт, потому что на шофере были красная феска и элегантный серый мундир, но потом я заметил знакомое лицо со шрамом – граф сидел на заднем сиденье. Он взмахнул рукой, выскочил из автомобиля и подбежал ко мне, экспансивно пожав мою руку и извинившись за то, что опоздал и не смог встретить меня вовремя. Мужчины и женщины вокруг нас носили по темным улицам огромные узлы или втаскивали похожие друг на друга грузы на паромы. Небо за рядами зданий было бледно-синим, и воздух казался неподвижным, несмотря на столь значительное волнение, царившее на площади. Граф передал мою сумку водителю и вежливо остановился у машины, ожидая, пока я усядусь. Внутри машина оказалась просторной, удобной и практичной. Автомобиль, по словам графа, предоставил его партнер. Усевшись рядом, мы выехали с площади и вскоре уже катились между решетчатыми стенами и заборами из кованого железа, за которыми я мог разглядеть большие низкие особняки богачей. Дорога шла то вверх, то вниз, извиваясь среди больших скоплений деревьев, могил и белых мраморных памятников, ресторанных навесов – под ними зажиточные турки бездельничали и курили на ярком солнце, как будто войны, восстания, дворцовые перевороты никогда не нарушали их однообразного спокойствия. Потом белые дороги стали более пыльными, а стены – более низкими. Мне открывались лужайки и сады, блестящие мозаики, украшавшие великолепные виллы. Воздух был пропитан ароматами цветущих кустов и трав, заполнен звуками воды, которая плескалась в фонтанах во внутренних двориках. Именно в Скутари удалялись богачи, если хотели спрятаться как можно дальше от грязи и шума повседневной жизни. Дальше виллы стояли уже не так тесно, я даже заметил нечто похожее на сельский дом, возле которого паслось стадо коз. Я сказал, что, по моим предположениям, мы должны были встретиться с партнером Синюткина в самом Скутари. Граф покачал головой: – В Скутари мы, европейцы, привлекаем к себе слишком много внимания. Он решил, что лучше всего нам встретиться в более уединенном месте. Я спросил, не в загородный ли дом мы едем. Граф Синюткин улыбнулся и предложил мне расслабиться и наслаждаться путешествием. – Вам предоставляется наилучшая возможность увидеть подлинную Турцию. Я теперь многое понял и начал с большим сочувствием относиться к тому, что происходит в турецкой политике. Мне было нелегко, я нервничал: мы ехали по обычной сельской местности, а я не имел ни малейшего представления о конечном пункте нашего путешествия. Дорога ухудшилась, автомобиль качался и подпрыгивал на кочках. Я не хотел быть невежливым, но у меня едва не сорвалось с языка, что я не желаю испытывать какое-то там сочувствие к служителям ислама. – А когда мы возвратимся в Константинополь? – спросил я. – Довольно скоро. Через день или около того. Может, задержимся чуть дольше. Я испугался, хотя изо всех сил старался этого не показывать. – Не ожидал, что не смогу вернуться к ночи, – сказал я. – Полагаю, можно будет послать телеграмму в Перу. Понимаете, там будут волноваться обо мне. Я не хотел, чтобы баронесса или Эсме забеспокоились и нарушили мои планы. Нельзя предсказать, что случится, если мое отсутствие продлится больше двадцати четырех часов. – Конечно. – Синюткин потрепал меня по руке. – Напишите записку. Я прослежу, чтобы ее передали. От холмов, поросших густым лесом, исходил тяжелый, влажный аромат, который показался мне успокоительным. Постепенно я опомнился: – А ваш покровитель – он, случаем, не инвалид? – Я удивлялся, почему он не мог приехать в Скутари. – Автомобиль дорогой. Армянин, да? Или богатый грек? Синюткин рассмеялся, как будто я удачно пошутил. Автомобиль выехал из леса, свернул и начал подниматься по еще более крутому склону. Мы достигли вершины. Внизу простиралась прекрасная долина с небольшими озерами, реками, виноградниками и рощами плодовых деревьев. На противоположной стороне долины виднелась большая гора, ее вершину до сих пор покрывали снега. Долина, возможно, сохранилась еще с греческих времен – затерянная земля, не тронутая временем, не испорченная современной промышленностью. – Это гора Олимп[266], – сказал граф, как будто подтверждая мои фантазии. – По крайней мере, так думали первые греческие колонисты. Ваши новые деловые партнеры живут в нижней части склона этой горы. Я знаю, что вы считаете их турками. Но это не прежние турки. Вы с ними поймете друг друга. Они прогрессивнее большинства русских. Как мне показалось, эти слова свидетельствовали скорее об оптимизме, чем о здравомыслии графа, но я оставил свои мысли при себе. У меня вызывало сомнения словосочетание «прогрессивный турок», но хоть какой-то покровитель – это гораздо лучше, чем никакого. Пока турки не собирались использовать мои проекты для поддержки большевиков, я был готов иметь с ними дело. Я не мог представить, с кем турки пожелают воевать теперь – разве что с теми, кого они преследовали всегда. Стало гораздо жарче. Спускаясь, мы не раз теряли долину из виду. Через некоторое время я окончательно перестал понимать, где мы находимся. Дорога тянулась по небольшим каньонам и лесам, минуя крошечные фермы и плантации и приближаясь к Олимпу, который турки, по словам графа, называли горой Булгурлу. Тут и там виднелись остатки мрачных крепостей крестоносцев, мавританских замков, греческих и римских колоннад. Казалось, вся история региона разворачивалась перед нами, среди этих восхитительных развалин. Этот пейзаж заставил меня позабыть о подозрениях и расслабиться. Без сомнения, мне открылся один из прекраснейших в мире видов. Солнце заходило где-то позади. Автомобиль свернул на другую извилистую дорогу, которая внезапно превратилась в лесную тропу; мотор взревел, и наконец мы выехали на крутой склон, усыпанный гравием. Мы добрались до места – круглой площадки перед эффектной старинной виллой. Дом выглядел так, будто в нем в течение некоторого времени никто не жил. Я, однако, уже настолько привык к небрежности, с которой турки, даже высшего сословия, относились к ремонту и благоустройству, что не мог решить, правильно ли мое впечатление. Вилла казалась скорее неаполитанской, чем турецкой, но на окнах виднелись привычные решетки со сложными геометрическими узорами. Я увидел длинные белые балконы с перилами из кованого железа, мозаичные террасы, фонтан, выложенный синей плиткой, тонкие столбы. Я уже почти ожидал, что нубиец в экзотичном тюрбане скажет нам «Салам!» и распахнет дверь автомобиля. В действительности это сделал шофер, жестом указав нам дорогу, потом появился совершенно обычный босоногий слуга в феске, мешковатых белых брюках и безрукавке. Он сбежал по главной лестнице и заговорил по-турецки с графом Синюткиным, который сразу его понял. Он сказал, что нам нужно подняться на первую террасу. Там, под шелковым тентом, мы увидели сервированный стол. Взглянув на меня, слуга что-то спросил по-французски с сильным акцентом. – Вы будете мастику?[267] – спросил граф. – Боюсь, это мусульманский дом. Может, чай, кофе или лимонад? Я согласился на мастику, и мы сели. Дом окружали высокие деревья, но сквозь заросли тут и там можно было разглядеть горные склоны и океанскую гладь. – Именно здесь византийские императоры строили свои охотничьи виллы, – сказал граф Синюткин. – Отсюда, как принято считать, открывается самый лучший вид. Слуга принес на подносе кувшин со льдом и водой. Граф Синюткин плеснул в стакан немного мастики, затем налил воды до краев. Я подержал напиток на свету, оценил его переливчатый цвет, затем вдохнул сладкий аромат. В тяжелом воздухе разнесся запах роз, жасмина и фуксии. Небо потемнело и стало зеленовато-синим. Меня уже переполняло удивительное чувство блаженства. С трудом сопротивляясь ему, я попытался сосредоточиться и напомнил графу о его обещании послать телеграмму. – Дайте мне записку, – сказал он, тотчас поднявшись. Я взял свой бювар и написал «мадемуазель Эсме Лукьяновой», указав наш номер в «Токатлиане». Я попросил ее не волноваться за меня, отыскать баронессу, если ей понадобится общество, но сохранять осторожность. Все хорошо. Я увижусь с ней через несколько дней. Я вспомнил, как она плакала раньше, когда я уходил совсем ненадолго. Ничего лучше телеграммы я так и не смог придумать, хотя меня беспокоило, что Синюткину теперь известно больше о моей частной жизни. – Леди? – Он приподнял бровь. Мне пришлось объяснить, что девушка находится под моей опекой. Я опасался, что Леда каким-то образом узнает о присутствии Эсме в «Токатлиане» и после этого усомнится во всей моей истории. Но я сделал все, что мог. Я взмахнул рукой: – Семейные дела. Буду очень обязан, если вы не станете упоминать об этой телеграмме при следующей встрече с баронессой. – Мой дорогой друг! Разумеется! – с иронией произнес граф Синюткин. – Я немедленно выброшу это из головы. Слуга передаст сообщение до ужина. – Я поначалу подумал, что здесь есть частное радио. Владелец этой виллы, очевидно, очень богат. – Он происходит из старинного рода. – Граф Синюткин склонил голову, прежде чем подняться по короткой лестнице в дом. – Сейчас я этим займусь. Я откинулся на спинку дивана, упиваясь восхитительным спокойствием этого волшебного сада. Птичьи голоса сливались в вечернем хоре, фонтаны пели, воздух переполняли удивительные ароматы. Я надеялся вскоре приобрести похожую виллу в награду за все свои мучения. Выбрав момент, когда на меня никто не смотрел, я быстро вдохнул немного кокаина из своей маленькой серебряной коробочки и пришел в наилучшее расположение духа. Все, что мне требовалось, – чубук для курения, несколько прекрасных маленьких обитательниц гарема для нежных игр, и я был бы счастлив, как какой-то султан. Я впервые столкнулся с тем, как обитатели Востока ублажают своих гостей, опьяняя их экзотическими впечатлениями и не используя таких грубых средств, как вино. Все-таки я не мог ни в чем заподозрить Синюткина. Он был другом Коли. Человеком с безупречным прошлым. Христианином. Он никогда не предал бы меня мусульманам. Граф возвратился с невысоким седобородым человеком в облачении турецкого бимбаши – серьезные голубые глаза смотрели на меня, лицо мужчины было немногим темнее моего, хотя и более загорелым. Он пожал мне руку и произнес формальное приветствие на хорошем, чистом русском языке: – Я майор Хакир, мсье Пьят. Граф сказал: – Майор Хакир представляет друга, который не может находиться здесь. Меня неоднократно обвиняли в самых разных вещах, но глупцом не назвал бы никто. Но могу согласиться с тем, что иногда я бывал чрезмерно доверчив или наивен. Мне очень быстро стало ясно, что радикализм графа не угас после свержения Керенского. Синюткин просто посвятил себя другому делу – делу кемалистов. Теперь, конечно, стали понятны все его предшествующие расспросы. И мои ответы, которые были всего лишь данью вежливости, убедили графа, что я разделяю его взгляды. Естественно, я встревожился, но не осмелился это показать. Я спасся от одной ужасной гражданской войны. Я едва уцелел в плену у украинских бандитов. Я пережил пытку, тюрьму, покушения на убийство. Конечно, я не имел ни малейшего желания снова подвергаться таким опасностям, особенно в Турции, я даже языка здешнего не знал. И поэтому я счел первейшей своей обязанностью всячески ублажить этих людей, а потом бежать как можно скорее. Как я ненавижу радикалов и их продуманные заговоры, презренные хитрости людей, готовых на любую низость во имя дела, которое они ценят превыше всего! И все-таки, если мне предстояло еще раз позаботиться о спасении собственной жизни, я должен был обуздать все проявления гнева, я должен был кланяться и улыбаться турецкому майору, притворяться расслабленным и спокойным. Бимбаши Хакир говорил медленно, с равнодушной притворной любезностью, типичной для османов: – По словам графа Синюткина, вы согласились помочь нам. Мы очень признательны. – Он подал знак слуге, который налил ему мастики. – Некоторые горячие головы в нашем движении хотят обратиться за поддержкой к большевикам. Но мы здесь ведем иную битву. Мы не хотим решать исторические и религиозные проблемы. Мы просто считаем, что необходимы определенные практические реформы. Так сказать, чистка конюшен. Вы можете оказать нам огромную помощь, мсье Пятницкий. Мы должны убедить пробольшевистскую фракцию, что можно добиться прогресса, не разрушая до основания всего нашего наследия. Вы, как я понимаю, разделяете мое мнение. Его бледные глаза смотрели прямо на меня. Он поднял стакан и сделал глоток. Хакир внешне напоминал мне султана Абдул-Хамида в расцвете лет. У него был тот же пристальный, немигающий, почти птичий взгляд, всегда устремленный прямо на собеседника. Я пролепетал какие-то глупые цветистые фразы. Услышанное удовлетворило майора, и он улыбнулся. Этим эгоцентричным революционерам требовалось только одно – чтобы собеседник подтвердил их убогие заблуждения. – Надеюсь, вы будете моим гостем сегодня вечером. Утром мы вместе отправимся в путь. Как вы можете догадаться, – он сделал жест, который показался мне бессмысленным, но майору, очевидно, очень нравился, – я в некотором роде рискую, живя в собственном доме! Что мне оставалось? Я пришел в ярость! Став жертвой обмана, я попал в змеиное гнездо и теперь должен был шипеть, извиваться и казаться таким же, как они, чтобы змеи не набросились на меня все разом. Я решил взять у турка как можно больше золота, дать ему самую примитивную модель своего изобретения и при первой же возможности сообщить властям обо всем, что мне станет известно. Теперь, однако, важнее всего было выждать и заставить их поверить в то, что я искренне сочувствую делу. Другой на моем месте мог бы потерять самообладание, обнаружив, что попал в руки старых врагов, но мне удалось сдержать эмоции. Я внимал бимбаши, изображая восторг. Ни он, ни Синюткин, которого я теперь считал предателем своего народа, своей веры и своего класса, ни на мгновение не догадались о моих глубоко скрытых чувствах. Пусть отправляются на виселицу, подумал я. Получив важную информацию о кемалистах, я мог с легкостью подобраться к англичанам и таким образом раздобыть для себя и Эсме английские паспорта. Кроме того, в Англии я буду недосягаем для мстительных османов. Мой долг – все выяснить. Пока Синюткин и Хакир говорили о коррупции при дворе султана и о махинациях союзников, я улыбался и изображал энтузиазм. Вскоре после заката мы перешли в просторную комнату, увешанную дорогими шелками и гобеленами, уставленную низкими диванами и роскошными резными столами. Мы поужинали – признаюсь, превосходно, хотя пища и была довольно простой. Бимбаши оказался одним из тех турок, которые гордились элегантностью и аскетизмом (одно из основных свойств исламского фанатика) и ни на секунду не задумывались о несчастных порабощенных народах, трудами которых эти удобства создавались. Мы разошлись довольно рано, со взаимными уверениями в дружбе и согласии. Я долго лежал в комнате, полной мавританских арок и ширм, и, пока легкий ветерок шевелил москитную сетку над кроватью, разглядывал сводчатый потолок, тонкие узоры на котором освещали висевшие на цепях медные лампы. Я тщательно обдумывал свое положение. Я мог бы встать ночью и украсть автомобиль, но, не имея водительского опыта, обладая лишь самым общим представлением о том, где мы находимся, не зная даже, сколько бензина в баке, решил не рисковать и отложить этот план, годившийся лишь для чрезвычайной ситуации. Я снова подумал о проблемах, связанных с Эсме и баронессой, и беспрестанно размышлял о предательстве Синюткина. Он, вероятно, сошел с ума, ведь он изменил своей древней крови. Он был одним из тех людей, которые поддерживали без разбора все революционные движения, – новый Бакунин, прятавший извращенную черную душу под очаровательной аристократической внешней оболочкой. Когда я вернусь в Константинополь, разоблачу его с особым удовольствием. Становилось все яснее, что после революции в мире появилось множество скрытых оппортунистов, похожих на графа, но это было мое первое столкновение с подобными людьми за пределами России. В дальнейшем я стал гораздо осторожнее. Такие, как Синюткин, получают извращенное удовольствие, предавая людей, которые доверяют им больше всего, они – готовые агенты тирании. Именно они позднее уговаривали друзей возвращаться в сталинскую Россию на верную смерть, они становились журналистами в эмигрантских газетах и раскрывали секреты несчастных, пытавшихся помогать друзьям или родственникам, все еще пойманным в ловушку в так называемом Союзе Советов, – а потом ловко передавали информацию в ЧК. Они были готовы к самому презренному лицемерию, лишь бы осуществить безумную мечту Троцкого о мировой революции. Разумеется, почти неизбежно и сами эти люди становились жертвами предательства. Наверное, Синюткина убили, причем скорее всего по прямому приказу НКВД. Такие, как он, наносили делу мира куда больше ущерба, чем все враждующие армии. Цели турецких мятежников были, по крайней мере, понятны, хотя едва ли разумны. А вот подобные Синюткину и по сей день остаются для меня загадкой. На следующее утро, к моему ужасу, предатель уехал. Он отговорился необходимостью поддерживать контакт с французскими торговцами оружием в Скутари. Я подозревал, что на самом деле он просто не мог смотреть мне в глаза. Мне оставалось только надеяться, что он отправил мою телеграмму, как обещал. Теперь я оказался в полной власти невысокого седобородого бимбаши. Хакир был, как всегда, равнодушен и вежлив. Думаю, он так никогда и не понял, что Синюткин меня обманул. Он относился ко мне без всяких подозрений, как к обычному заговорщику, хотя и оставался очень сдержанным. Как христианин и русский, я по-прежнему был его древним кровным врагом. Я решил общаться с ним по-дружески, пока это необходимо. Я хорошо знал их революционные повадки. Я мог так же, как сам Ленин, сотрясать воздух, рассуждая о самоопределении и всеобщей справедливости. Мы легко позавтракали, а затем покинули виллу Хакира и уселись в «де дион бутон». Шофер поехал по другой дороге, и мне удалось разглядеть далекий Константинополь, его башни и крыши, сверкавшие среди утреннего морского тумана. Потом мы двинулись в глубь страны, оставляя позади пышные сонные прелести холмов и неуклонно приближаясь к бесплодным, пропитанным кровью плато, на которых примитивные орды османов вновь стали собираться, чтобы со свирепой ревностью начать новый поход против Христа, цивилизации и благородных, добрых греков. С каждым часом земля становилась все беднее. Леса исчезли, и лишь редкие заросли бананов и тополиные рощи близ маленьких речушек вносили разнообразие в унылый пейзаж. Иногда дорога вела вдоль железнодорожных путей, подчас она проходила мимо скопищ пыльных зданий, выстроенных вокруг ничтожных площадей с неизбежными мечетями, иногда с фонтанами и полицейскими будками. Мы проезжали мимо бедных фермеров с тяжело груженными ослами (или, еще чаще, женами), повстречали два или три британских армейских грузовика, машины под флагами Франции, Италии и Великобритании – из них на нас смотрели белые суровые лица. Я надеялся, что нас может остановить полиция, но чем глубже мы въезжали в Анатолию, тем меньше европейцев нам попадалось. Сначала у полицейских постов были и итальянские, и турецкие офицеры, позже я видел только турок. Мимо проехали турецкие кавалеристы под знаменем султана. Мой спутник нахмурился: – Думают, что они патриоты. А на деле поддерживают самого худшего врага Турции. Я задумался о том, принимал ли этот бимбаши участие в недавних попытках убийства правящего султана, который, по моему мнению, мыслил реалистичнее большинства своих предшественников. Время от времени Хакира приветствовали полицейские, которые, казалось, узнавали его, и я понял, что должен сохранять осторожность. По внешнему виду никак нельзя было догадаться, кто здесь кемалист, а кто нет. Мы остановились только однажды, в сельском доме, чтобы купить немного хлеба и маслин и оправиться. Днем мы снова въехали в прохладную холмистую местность, а дорога стала гораздо хуже – нам не раз приходилось останавливаться и объезжать ямы. Бимбаши иногда предупреждал шофера, иногда приносил мне извинения. Он всю дорогу сидел прямо, время от времени зажигая сигарету или дергая шелковый шнур на окне. Дважды он сообщал мне названия городов, о которых я прежде не слышал. Он указал на руины античного храма, башни крестоносцев, более современные остатки недавно уничтоженной деревни. К вечеру мы спустились в узкую скалистую долину, где текла река и росли чахлые дубы. Автомобиль остановился на узкой дороге. Бимбаши повел меня сквозь облака комаров вниз по течению реки, затем по дрожащему, скрипящему мосту к деревянному дому, напоминавшему захудалую российскую дачу. Первоначально дом был белым, но большая часть краски стерлась. Столбы веранды выглядели такими же непрочными, как мост, и когда мы вошли внутрь, я подумал, что постройка вот-вот рухнет. Пыльные комнаты были обставлены очень бедно – казалось, здесь много лет никто не жил. Проходя по дому, мы слышали голоса, доносящиеся с другой стороны здания, потом оказались в низком крытом внутреннем дворе, в центре которого находился кирпичный колодец. Неподалеку я увидел конюшни, занятые лошадьми, а у самого колодца сидели на земле или на корточках трое прихвостней бимбаши. Я их прекрасно узнал. Если немного изменить лица и одеяния, они могли бы сойти за бандитов Григорьева, тех самых, которые именовали себя казаками. Внешне они чем-то напоминали огрызающихся волков. Когда мы с бимбаши вошли во внутренний двор, они не потрудились встать, хотя всячески выражали уважение человеку, который как раз выходил из конюшни, улыбаясь Хакиру и вскинув бровь при виде меня, как будто мы были старыми друзьями. Судя по тому, как держался предводитель разбойников, он когда-то был солдатом, а теперь выглядел почти таким же оборванцем, как и все прочие, третьесортные бандиты, самозваные «бойцы нерегулярных войск», башибузуки. Они носили овчинные шапки, нагрудные патронташи висели крест-накрест, мешочки с патронами были у каждого на груди и на бедрах. На поясах у них болтались ножи, сабли, пистолеты, большей частью ржавые. Приседая, как обезьяны, они пытались разжечь огонь под стоявшей возле колодца кастрюлей. Вожак что-то проворчал, предложив нам разделить трапезу, но мы покачали головами. Потом мы все-таки взяли по куску хлеба, обычного серого хлеба. Вода неслась по камням с таким шумом, что мне показалось: она вот-вот затопит и смоет дом, но это усиление звука объяснялось просто особенностями внутреннего двора. Как только майор Хакир и главный башибузук отвели меня в другую комнату, наступила относительная тишина. Хакир и бандит некоторое время беседовали на своем языке. Я смог разобрать лишь несколько слов, главным образом связанных с войной. Наконец Хакир обернулся ко мне: – Мы отдохнем пару часов, а потом двинемся дальше, хотя темнеет здесь очень рано. Вы умеете ездить верхом, мсье Пятницкий? Я неохотно сказал, что умею, хотя мой опыт весьма невелик. Автомобиль, по словам Хакира, должен был вернуться в Скутари. Здесь он слишком заметен. Кроме того, машина все равно не смогла бы проехать по этим дорогам. Я почувствовал настоящий упадок сил, поняв, что разрывалась еще одна важная связь с цивилизованным миром. Теперь, как и на Украине, я унизился до езды на пони. Я утешал себя, вспоминая о греческом наступлении в Анатолии. Вполне вероятно, что Кемаль и его бандиты завтра-послезавтра будут схвачены. Меня могут спасти очень скоро. Важнее всего не испугаться при звуках выстрелов и не попасть под шальную пулю. Я заставил себя позабыть обо всех проблемах и погрузиться в транс, почти в кому – в прошлом это умение сослужило мне добрую службу. Мне фактически удалось отключить мозг, я едва осознавал, что делаю и говорю. И в то же время я не утратил желания сбежать – и смог бы это сделать при первой же возможности. Вскоре я стал действовать автоматически – ехал вместе с остальными по дну долины: мы преодолели узкий проход и снова оказались посреди ужасной, бесплодной равнины. Под луной пустыни, верхом на тощем, ужасно пахнувшем пони, я ехал по земле столь отвратительной, грязной и никчемной, что никак не мог представить, что кто-то желает за нее сражаться, не говоря уже о том, чтобы за нее умирать. Возможно, думал я, людей ввели в заблуждение, и они видели богатейшие земли там, где простиралась лишь безжизненная пыль. В ответ на мои вопросы бимбаши Хакир повторял, что мы в некотором отдалении от Карагамуса. Для меня эти слова звучали абсолютной бессмыслицей. В любом случае мое внимание скоро отвлеклось на кое-что другое – я почувствовал первые укусы вшей. Я снова испытывал все знакомые прелести бандитской жизни. Как нелепо все выходит, думал я. Я вновь устремился к просвещенному будущему и оказался в невежественном прошлом. В моем чемодане лежали чертежи изумительного нового аэроплана, который мог изменить всю историю XX века. И тем не менее сейчас я ехал рядом с мужчинами, привычки и склонности которых не менялись тысячу лет, которые во всех отношениях (за исключением более современного оружия) напоминали своих диких предков, Очевидно, Кемаль попал в ту же ловушку, что и Ленин, – он объединил примитивные силы, крестьян и бандитов, чтобы повернуть ход войны в свою пользу. Поэтому теперь вся власть целиком принадлежала людям, которые противились переменам. Меня слегка утешило, что бимбаши Хакир сидел в седле немногим лучше, чем я. Он испытывал страшные неудобства, пытаясь держаться подальше от своих нерегулярных воинов, по возможности избегая прямого соприкосновения с их невероятно грязными телами. Их, в свою очередь, явно удивляла наша неловкость. Они поглаживали сальные усы, посматривали на нас из-под густых черных бровей, перешептывались и усмехались. Однажды мы остановились среди скрюченных карликовых сосен и увидели, как огромный локомотив, громко гудя и сверкая огнями, пронесся в ста ярдах под нами. Я заметил, что бандиты старались не смотреть прямо на поезд, они отводили глаза, как будто верили, что поезд на них набросится, если они на него взглянут. Ночью, когда мы дали лошадям отдохнуть, я с надеждой подумал, что обещание повстанческого золота было для этих головорезов важнее, чем содержимое моей сумки. Мы проехали еще несколько миль до рассвета и натолкнулись на маленькую зловонную деревушку. Здесь мы позавтракали хлебом и мясом на глазах у жителей, силуэты которых были едва различимы на фоне зданий цвета испражнений и бледно-желтых улиц. Все, включая собак и коз, казались созданными специально для того, чтобы сливаться с окружающей местностью. Я смог более-менее спокойно вздремнуть, пока османы возносили свои молитвы, но вскоре мы снова двинулись в путь. Теперь за копыта наших пони цеплялись желтая трава и липкая грязь, продвижение вперед иногда становилось почти невозможным. Некоторое время накрапывал дождь, потом под серым небом все стало сырым и холодным. Несколько раз мы проезжали мимо загадочных древних руин, сильно пострадавших от непогоды. Равнина казалась бесконечной. Мы натыкались на одиноких пастухов со стадами черно-белых овец. Большие желтовато-коричневые собаки подбегали к нам, лаяли и скалили зубы, пока хозяева не отзывали их. Той ночью мы на несколько часов разбили лагерь на открытой местности, у нас не было никакой еды, кроме фиг и маслин. Потом мы снова двинулись в путь. Я не понимал, как можно в этой дикой местности отыскать дорогу без карты или компаса. Несколько раз мы пересекали железнодорожные пути, но бандиты не использовали их, чтобы определять направления. Скорее рельсы причиняли им неудобства. Меня, однако, всегда радовал вид железной дороги. Это означало, что связь с цивилизацией все-таки сохранилась, хотя мятежники, очевидно, предпочитали путешествовать более осторожно. На третий день, когда мы поили лошадей на берегу маленького озера, на небольшой высоте над нами пролетел «де хэвилленд» с полустертыми знаками, французскими или американскими. Бимбаши с трудом остановил своих товарищей-бандитов, которые уже готовились вытащить винтовки и открыть огонь по самолету. Я мигом вспомнил, что мы находимся в стране, до сих пор пребывающей в состоянии войны. Во второй половине дня уровень почвы начал резко подниматься, затем вдалеке появился высокий горный хребет, а за ним огромные вершины. Майор Хакир, казалось, успокоился и улыбнулся мне (теперь я полагаю, что он и сам боялся заблудиться). Хакир указал вперед. – Анкара, – сказал он. Город вырисовывался на вершине горного хребта – изломанная линия пострадавших от непогоды крыш, над которой вздымалось несколько минаретов. Эта линия резко обрывалась на юге, где стояла огромная квадратная невыразительная крепость. На крутом горном склоне я увидел опаленные огнем руины и счел их свидетельством недавнего нападения. Когда я высказал свое предположение, Хакир удивился. Он покачал головой. – О нет, – сказал он. – Это были проклятые армяне. Они от нас не ушли. За горным хребтом высокие вулканические пики создавали яркий синий фон для охряно-коричневого жалкого города. Анкара оставалась такой же неизменной, как и все прочие поселения, которые нам встречались по пути. Тут и там в предместьях виднелись руины, очевидно, римские. В другой части поселения сохранились остатки древней греческой Анатолии. Чуть ниже старого города располагались современные здания, но и они на самом деле были двухэтажными лачугами. Над самой большой развевался красно-желтый флаг, штандарт современного Ганнибала, который теперь собирал новую орду с равнин и гор Малой Азии, готовясь еще раз выступить против Рима и всего, что он воплощал. Я увидел артиллерийские батареи, траншеи, мешки с песком. Очевидно, город был хорошо защищен. Половину орудий, охранявших новый Карфаген Кемаля, совсем недавно изготовили христиане. Я видел ровные ряды армейских палаток, импровизированные убежища, большие шатры, палатки из шелка и хлопка, доставленные, возможно, прямо из какой-то аравийской пустыни. Здесь стояли грузовики, легковые автомобили и по крайней мере два разобранных самолета. Но все-таки лошадей по-прежнему было больше всего. В лагере царил хаос – очевидно, шла подготовка к сражению. Многочисленные конные башибузуки, одетые в яркое тряпье, скакали во все стороны, крича и визжа. Их голоса заглушали завывания имамов и редкие выстрелы в воздух. Несмотря на кажущийся беспорядок, лагерем неплохо управляли. Здесь чувствовалась аура дисциплины, которую я замечал до этого только раз, в крепости анархистов, у Нестора Махно. Запах горящих дров разносился над биваком, смешиваясь с вонью нефти и кордита, сотни маленьких костров горели в землянках в предместьях Анкары. Бимбаши Хакир неуклюже пытался расхваливать свою цитадель, но армия выглядела еще слишком ничтожной, чтобы противостоять грекам. Я вновь утешил себя: возможно, все, что мне нужно делать, – выжидать, пока нас не захватят в плен. Охранники пропустили нас через первую линию обороны. Мы въехали в город и в северной его части обнаружили неописуемую деревянную виллу, украшенную знаменем Кемаля. Она стояла наособицу, на некотором расстоянии от скопления бараков, была, очевидно, недавно покрашена и находилась в гораздо лучшем состоянии, нежели все прочее. Мы спешились. Ухватив меня за локоть, Хакир шагнул внутрь. У входанас остановили охранники в мундирах. Выпрямившись, они отсалютовали бимбаши Хакиру и с любопытством посмотрели на меня. Они были похожи на мужчин, которые сражались слишком долго, но все-таки изнывали от нетерпения, стремясь снова броситься в бой. Мое темное пальто покрылось толстым слоем пыли и грязи. Моя фетровая шляпа пришла в негодность. На то, что осталось от моих гетр лакированной кожи, было страшно смотреть. Я выехал в роскошной одежде, чтобы встретиться с крупным бизнесменом, но здесь больше подошел бы другой наряд – лохмотья и фригийский колпак. Меня не радовало состояние одежды, хотя я по-прежнему сохранял спокойствие. Я был готов восторженно улыбаться любому, с кем меня познакомят, кивать и кланяться, когда понадобится. Мы, наверное, пожали руки половине бимбаши кемалистской армии, прежде чем достигли небольшой приемной и затворили за собой дверь. Над головой крутился большой вентилятор с желтыми лопастями. Сначала я удивился, предположив, что здесь есть электричество. Потом мне стало ясно, что вентилятор вращает находящийся в укрытии раб: подходящий символ их новой «современной» Турции. Комната была побелена, на окнах я заметил только решетки, но не стекла. На дальней от двери стене висела большая карта Анатолии, один угол которой покачивался в такт вращению лопастей вентилятора. Уже начинало смеркаться, но все еще было ужасно жарко. Перед картой стояли столы, как в школе. За ближайшим из них, повернувшись к нам лицом, сидел высокий, стройный человек, куривший сигарету в мундштуке. Он отказался от фески ради французского кепи, но во всем остальном его форма, хотя и элегантно скроенная, была, несомненно, турецкой. Он заговорил с парижским акцентом, извинился, что никогда не изучал русского, и иронически улыбнулся, признавая древнюю вражду наших народов. Потом он быстро встал, пожал мне руку и предложил стул. На меня произвели благоприятное впечатление его манеры, и в других обстоятельствах я, возможно, счел бы его очаровательным. В его зеленых глазах я заметил свет интеллекта куда более значительного, чем у бимбаши Хакира, который отдал салют, пробормотал что-то по-турецки, а затем, поклонившись, сказал, что он всегда к моим услугам, а пока оставляет меня с этим джентльменом. Майор аккуратно прикрыл за собой дверь, и я оказался наедине с элегантным турком. – Вы хотите есть или пить, сэр? – спросил тот. Я покачал головой: – Не особенно. Но у вас есть преимущество. Передо мной Кемаль-паша, не так ли? Это его позабавило: – К сожалению, великий генерал все еще на пути в Анкару. Он все больше и больше занимается светской политикой, а не военными вопросами. Я Орхан-паша. Наверное, вы знаете моего друга, графа Синюткина? Я признал, что знаком с графом. – Мне весьма льстит ваш интерес к моим проектам. – Вынужден извиниться за то, что вам пришлось проделать долгий путь в такой грубой компании. Но война сейчас в самом разгаре, мсье. Я уверен, вы понимаете, что приезжать в Константинополь и уезжать мне не так легко, как хотелось бы. Наши друзья в городе еще не слишком влиятельны. Однако, подобно нашему президенту и главнокомандующему, я занят модернизацией родной страны, отсталой в экономическом отношении. Когда Турция вернет себе надлежащее положение, мы сможем пригласить людей науки со всех континентов, чтобы помочь нам воплотить великую мечту. Я от всей души признался ему, что разделяю эту мечту. Я не добавил, насколько скептически относился к тому, что Кемаль и все его лейтенанты когда-нибудь воплотят свою мечту в жизнь, – и неважно, насколько хорошо скроены их мундиры. (Случившееся подтвердило мою правоту. Право голоса для женщин – это не обязательно признак прогресса.) – Вы хотите, чтобы я показал свои чертежи командующему? – спросил я. – Интерес к вашему изобретению, мсье Пятницкий, проявляет, помимо меня, и некий Черкес Этем, который командует самым большим отрядом наших нерегулярных войск. Я думаю, вы поймете: мы куда более типичные представители националистической партии, чем сам Кемаль. Покачиваясь на скамье, он придвинулся к окну, как будто ожидая обнаружить, что там кто-то подслушивает. Его ботинки были отполированы так же ярко, как и вся прочая амуниция. Я узнал настоящего денди – и почти тотчас же учуял внутренние трения, взаимные подозрения и заговоры в лагере. Я мог бы использовать все это в своих целях. – Вы дальновидный человек, Орхан-паша. – Я колебался. – Удивлен, что крестьянин-повстанец вроде Черкеса Этема решился поддержать вас и ваши идеи. Турецкий офицер пожал плечами, закуривая новую сигарету: – Вероятно, правильнее было бы сказать, что он поддерживает меня, а не мои идеи, мсье. Он прежде всего солдат. Он хочет видеть, что дело движется быстро и эффективно. Вдобавок… – он смутился и откашлялся, – …ваши самолеты будут построены на его деньги. Наверное, нам нужно обговорить подобные вещи. У меня, боюсь, вообще нет никаких способностей к бизнесу. А вы практичный человек? Мне никогда не случалось заниматься коммерческими аспектами военного дела. Я столкнулся с типичным турецким отношением к окружающему миру. Сама мысль о заключении сделки и обсуждении финансовых вопросов была неприятна турку. Происходя из благородного казацкого рода, я отчасти разделял это отношение. – Не нужно ничего обсуждать сейчас, Орхан-паша. Я предпочел бы принять ванну, если это возможно. Также я хотел бы, чтобы почистили мою одежду. Произошло недоразумение, и в результате я не захватил с собой никаких вещей. Он тут же успокоился и проявил участие: – Превосходно. А потом мы будем обедать. Он хлопнул в ладоши. Когда появился денщик, Орхан-паша быстро дал ему указания на турецком. – Очень хорошо, мсье. Надеюсь, мы вскоре насладимся вашим обществом! Меня отвели в прилично оборудованную ванную, отделанную мрамором и золотом. Денщик унес мою одежду. Я провел некоторое время в ванной, собираясь с мыслями и обдумывая новую информацию. В те дни большинство бандитов и мятежников считали хорошего инженера или механика слишком ценным приобретением, от него не стали бы так просто избавляться. Я снова стал товаром, как в банде Григорьева, и по крайней мере знал, что не должен опасаться произвола мелких военачальников. Я закончил купание. Денщик вернулся с моим костюмом и новым европейским бельем нужного размера. Чувствуя себя достаточно отдохнувшим, я пошел за провожатым по коридору, спустился по короткой лестнице в длинную комнату на втором этаже, где горячую еду подавали на больших блюдах, стоявших на каком-то массивном буфете. Похоже, здесь располагалась офицерская столовая. Сейчас, кроме меня, в комнате находился только один человек, и он уже поглощал ароматные колбасы, тушеное мясо и соусы, которые могли оказаться самыми вкусными в мире, если их должным образом приготовить. Я сглотнул слюну и приветствовал незнакомца. Это, очевидно, и был бандитский главарь, Черкес Этем, которого Синюткин назвал турецким Сапатой: один из тех харизматичных Робин Гудов, которые неизменно появлялись во время национальных революций. Смуглое монголоидное лицо, блестящие узкие глаза, темная борода и грубая, скотская манера поведения – все выдавало его истинный нрав. То, что подобное существо вообще задумалось об использовании самолетов, было уже удивительно. Орхан-паша появился вскоре после моего прихода, подвел меня к предводителю бандитов и познакомил нас. Затем он мягко взял тарелку из рук Черкеса Этема и указал нам обоим на стол, накрытый на троих на европейский манер. Он хлопнул в ладоши и подал сигнал слугам, выстроившимся наготове у дальней стены. Орхан-паша что-то быстро сказал Черкесу Этему, а затем, обернувшись ко мне, заметил по-французски: – Официанты расстроятся, если мы откажемся от их услуг. Черкес Этем пожал плечами и уселся на стул так, будто оседлал полудикого коня, однако тоже улыбнулся. Он говорил по-турецки медленнее и понятнее. Он думал, что эти люди должны сражаться, а не стоять здесь у столов. Вскоре выяснилось, что его ненависть к Мустафе Кемалю была сильнее любой неприязни, которую он испытывал к грекам, армянам, болгарам, грузинам, англичанам или албанцам. Очевидно, Кемаль пытался установить в войске дисциплину, а бандита это злило. Его люди жили за счет военной добычи. Частью их награды были женщины из всех захваченных деревень, неважно, турчанки или нет. Кемаль по своей глупости не понимал этой традиции. Вдобавок он требовал немалую долю от всей добычи бандитов. Выслушивая эти замечания, я начал подозревать, что Этем, скорее всего, и нес ответственность за недавнее уничтожение армянского квартала Анкары. Его искреннее презрение к этому преследуемому народу было почти совершенно – как безграничная, чистейшая ненависть казака к евреям. Во время обеда я наслаждался обществом бандита – возможно, он мне нравился больше, чем искушенный денди, сидевший рядом. Орхан-паша откинулся на спинку стула, он мало ел, много курил и с удивлением выслушивал бредовые замечания своего союзника. В других обстоятельствах я, возможно, мог бы посочувствовать Этему, несмотря на его веру в Аллаха и решительную ненависть к христианам. Как я узнал позже, в среде националистов Этем считался куда большим героем, чем сам Кемаль. Если бы Черкес Этем добился власти, то окончательно покинул бы Константинополь. Он сказал, что город ему не нужен и он готов обменять его на обещание союзников отозвать греков. Он знал о плане лорда Керзона выслать всех турок из Стамбула, Галаты и Перы, плане, поддержанном Уинстоном Черчиллем и горсткой других провидцев в английском Кабинете министров. Против этого плана Этем, по его словам, ничего не имел. – Тогда эти люди принесут все свои богатства и знания в Анкару. Кажется, это единственный способ, который поможет вытащить их из гаремов, да? Он продемонстрировал знание немецкого и французского и поверхностное владение русским, оставшееся от довоенных «частных экспедиций» за границу. Я не испытывал затруднений в разговоре с ним. Орхан-паша, с другой стороны, иногда строил очень замысловатые фразы, вдобавок говорил с явным парижским акцентом. Я часто не мог понять смысла его слов. Однако сама ситуация была достаточно ясна. Пока Кемаль готовился к большой кампании против греков, эти двое намеревались строить самолеты по моему проекту. В критический момент они хотели бросить машины на врагов, доказав, что они не только лучшие турки, чем Кемаль, который им не нравился из-за его прозападных симпатий, но также и люди, умеющие на практике воплощать современные идеи. Они хотели произвести впечатление и на солдат, и на политиков. Я тотчас осознал, что, построив самолеты, смогу вбить клин между двумя фракциями националистов и таким образом ослабить все их движение. Я мог с чистой совестью помочь Черкесу Этему, если пожелаю. Я увижу, как мои машины пройдут испытание в воздухе, и в то же самое время нанесу удар по движению кемалистов. Орхан-паша спросил, когда я могу начать работу. Я сказал, что приступлю тотчас же, как только получу подходящие материалы. Я развернул свои чертежи и объяснил, сколько примерно будет стоить один аппарат и какие проблемы могут возникнуть, но меня прервал отдаленный гул, донесшийся с запада. Приблизившись к окну, Орхан-паша распахнул ставни и посмотрел наружу. От огненных вспышек лицо его стало красным, а глаза засверкали ярко, как у дьявола. – Греки атакуют с воздуха, – сказал он. – Они прослышали о мобилизации и пытаются остановить нас. Теперь вы сами видите, как срочно нам нужен ваш самолет, мистер Пятницкий. – Проклятые трусы! – Черкес Этем провел куском хлеба по пустой тарелке, собирая остатки соуса. – Как и все греки. Они не хотят сражаться честно. Но чего можно ожидать от британских дворовых псов? – Он усмехнулся. – Вряд ли сейчас нас атакуют греки. Вы думаете, эти летчики родились в Афинах? – Он сунул хлеб в рот, быстро прожевал и проглотил. Он затрясся от смеха – собственная шутка его порадовала. – Грек может подняться в воздух в одном-единственном случае – если его подхватит стервятник! Турецкие орудия открыли ответный огонь, но это была полевая артиллерия, в противовоздушной обороне она не могла принести никакой пользы. Я услышал, как свистят бомбы. Я надеялся, что никогда в жизни больше не окажусь столь близко к полю боя. На миг мне стало дурно. Я заставил себя подойти к окну. Это нападение происходило совсем рядом – гораздо ближе, чем атаки, которые я видел в России. Среди разрывов бомб и снарядов, в свете огненных полос, расчертивших небо, в грязном дыму мчались во весь опор всадники. Я так и не понял, чего они рассчитывали добиться, – разве что надеялись, что в них врежутся самолеты. Турки любят умирать. Полагаю, большинству из них смерть кажется желанной участью. Орхан-паша закрыл ставни и отвернулся от окна, пожав плечами. – У нас есть несколько самолетов, – сказал он мне, – но нет подходящей площадки для взлетов и приземлений. Вот почему нас заинтересовала ваша идея. – Он изящно взмахнул обеими руками. – Человек, который несет летную машину у себя на спине, человек, который может подняться в воздух и спуститься по собственному желанию, как птица, – именно то, что нам необходимо. Конечно, он может сбрасывать бомбы и следить за передвижениями войск, но в его силах сделать гораздо больше. Такие люди смогут проникать в крепости, занимать целые города изнутри. Его взгляд стал мечтательным. Я предположил, что он подмешивает гашиш в свой табак. Черкес Этем без колебаний перешел к финансовым вопросам: – Сколько потребуется денег, чтобы экипировать, скажем, тысячу мужчин таким образом? Вам нужен собственный завод? – Я изготовил бы машины в тайне. По частям. Скажем, в мастерских Скутари. Вот, посмотрите на эти расчеты. Склонен предположить: если мы сделаем оптовый заказ на двигатели, то получим их приблизительно по пятнадцать соверенов за штуку. Вдобавок нужны пропеллеры и крылья. Их должны изготовить опытные инженеры и из определенных сортов древесины. Еще пятнадцать фунтов, если будет большой заказ. Итого тридцать соверенов каждый аппарат. Черкес Этем начал хмуриться. Орхан-паша наклонился вперед. Он потер брови, смахнув капельку пота. Он почти с отчаянием смотрел на своего товарища, надеясь, что тот заговорит, и чрезвычайно обрадовался, когда бандит сказал: – Тридцать тысяч золотом. Дешевле, чем обычный самолет. Они стоят приблизительно по тысяче каждый. – Он распахнул кафтан и вытащил небольшую сумку с кисточками, висевшую на поясе. – Здесь хватит на четыре самолета! – Он задрожал от удовольствия. – Греки дадут нам больше. А если не дадут – тогда, конечно, нам помогут армяне. – Он подмигнул мне. – Это позволит запустить ваше производство. Мы вскоре предоставим все остальное и, конечно, убедимся, что вы не предадите нас, христианин. Договориться о поставках достаточно легко. Мы довезем самолеты на лодках до Эрегли, а потом доставим их по суше на мулах. Но сначала, я полагаю, нам нужно увидеть в действии одну из ваших машин. – Естественно, следует изготовить опытный образец. – Я взял деньги. – Но уверен, что мы сможем соорудить его довольно скоро. Орхан-паша положил руку мне на плечо и улыбнулся: – И мы хотим посмотреть, как вы будете им управлять. Вы сами. – Он негромко и вежливо рассмеялся, этот звук удачно дополнил фырканье Этема и другой, громкий и куда более пугающий рев. – Тогда мы узнаем, насколько вы уверены в себе. Их недоверие меня возмутило: – Достаточно уверен, чтобы управлять своей первой машиной. Я не сомневаюсь, что у меня хватит сил проверить и следующие. Где я могу начать? У вас здесь есть механические цеха? Орхан коснулся лба кончиками пальцев: – Друг мой, я верю вам. Есть несколько сараев, в которых занимаются ремонтом. Но в Анкаре работать не слишком удобно. Черкес Этем отвезет вас в место получше. Я успокоился, поняв, что этот заговор должен был остаться в тайне от их так называемого президента. Гнев помрачил мой разум. Теперь мне приходилось отправляться еще дальше, во внутренние районы Анатолии. Небритый Черкес Этем навис надо мной: – Ты даже поможешь нам раздобыть денег. Ведь так, а, христианин? Он то и дело возвращался к этой теме (видимо, считал ее забавной) в течение, по крайней мере, следующей недели. Спустя три ужасных дня, пока мой пони хромал по скалистой горной тропе, я уже осознал, что пропал навсегда. Мои брюки износились, на пальто в трех местах появились дыры, шляпа стала практически бесформенной, по рубашке и нижнему белью ползали паразиты. Мои башмаки развалились и были перевязаны тряпками и полосами кожи, так что я, вероятно, напоминал неудачливого бандита, прокаженного или нищего раввина-хасида. Я был погружен во мрак. Золото, которое дал Этем, лежало в моем поясе. Башибузук оставался, на свой манер, исключительно дружелюбным, когда время от времени возвращался в конец колонны. Я ехал на самом старом животном, за фургоном с припасами. Этем явно наслаждался моими страданиями. – Христианин, это поможет тебе поскорее построить аэроплан! Больше никто не называл меня христианином (или, иногда, неверным). Я думаю, что он, подобно многим другим бандитам, представлял себя романтическим персонажем, героем популярных романов. Люди Этема, конечно, любили его за это, вероятно, настолько же сильно, насколько полюбили бы Дугласа Фэрбенкса или Рудольфа Валентино[268], если бы у них была возможность посетить кинематограф. Этема отличали картинные жесты, цветистый язык, бравада, умение натягивать поводья белого жеребца, чтобы скакун почти мгновенно останавливался. Сомневаюсь, что он умел читать, но уверен, что кто-то когда-то забавлял его теми же приключенческими историями, которыми я наслаждался в детстве. Его удивительный нрав, однако, почти наверняка помогал поддерживать боевой дух отряда – подчиненные были готовы ради него переносить какие угодно трудности и опасности. Понятно, почему очень многие предпочитали его весьма суровому Кемаль-паше, с его прославленными многоречивыми проповедями, строгой моралью и склонностью обсуждать туманные политические последствия. Полагаю, Этем поддерживал его, осознавая, какое впечатление он производит на своих людей, заигрывая с ними и веселясь, как будто ухаживая за капризной женщиной. С этой точки зрения я был идеальной мишенью для его остроумия. Он часто просил Аллаха спасти бедного неверного, называл меня воплощением упадочной городской жизни, тем самым развлекая своих тупых подчиненных. Со своей стороны я очень радовался, что полезен ему. Пока все так и шло, мне не следовало опасаться за свою безопасность. Тем не менее Этем по-прежнему не сообщал мне, куда мы направляемся, и даже отказывался называть число и день недели. Я начал подозревать, что у него не было вообще никакого плана, он просто блуждал по дорогам, надеясь наткнуться на то, что ему необходимо. Дважды он оставлял меня среди женщин и телег, а сам отправлялся с мужчинами в ближайшие деревни. Он возвращался с довольным видом, а клубы черного дыма поднимались над разрушенными домами у него за спиной. «Я только что оплатил пять новых аэропланов!» – объявил он в первый раз, а во второй сказал: «Еще три самолета, христианин!» Деревни он называл «прогреческими» или просто «армянскими». Это служило достаточным оправданием для нападения. Я подозревал, что деревни ни греческими, ни армянскими не были. Я снова задумался: неужели моя судьба навеки такова – оставаться рабом каких-то бандитов. Аттила, как рассказывали, держал при себе философов ради развлечения. Но я проводил время с пользой. Я чуть лучше изучил разговорный турецкий, хотя большинство людей Этема были по меньшей мере необщительными. Но теперь я уже мог сказать не только «Agim» или «Susadim»[269], когда был голоден или хотел пить, окружающие стали понимать и более сложные просьбы. И я начал объяснять Этему, что время идет. Просто невыгодно таскать меня за собой. Отправившись в поселение в третий раз, бандит не возвращался дольше обычного. Я мог расслышать выстрелы и что-то похожее на артиллерийский огонь: шло настоящее сражение. Несколько раз мужчины поспешно возвращались, чтобы погрузить на лошадей новые ящики с боеприпасами и отвезти их обратно, за холм. Этем, очевидно, стал очень честолюбивым и напал на людей, занимавших более-менее удобную позицию. Потом, примерно через два часа после того, как стрельба прекратилась, прискакали бандиты. Один из них спешился и подбежал ко мне, ведя лошадь на поводу. Он знаком приказал мне сесть в седло. Я подчинился весьма неохотно, уцепившись за уздечку и гриву. Лошадь поскакала вперед вместе с другими по болотистой желтой земле. Я чувствовал себя нехорошо, думал, что вот-вот упаду, но вскоре мы достигли настоящего города с несколькими ровными улицами, высокими зданиями, железнодорожной станцией и телеграфом. Половина домов уже лежала в руинах, по-видимому, после предшествующих сражений, а другие еще только начинали гореть. Повсюду виднелись трупы. На сей раз я с трудом сдерживая рвотные позывы. На главной улице стояли на коленях испуганные горожане: их выстроили рядами у красивого фонтана, который все еще работал. Черкес Этем умылся и, усмехаясь, встал на постамент в центре фонтана, приняв одну из своих мелодраматических поз. Из большой православной церкви, стоявшей между несколькими горящими зданиями, мужчины и женщины выносили ящики и свертки. Эти люди были или греками, или армянами, а может, здесь оказались и те и другие. Они покорно разложили свои сокровища вдоль края фонтана, к явному удовольствию Этема. Его подручные все еще приходили и уходили, скрываясь в дыму среди руин, стреляли, вбегая в здания, и кричали, выходя наружу. Как раз в тот момент, когда слезая с лошади, я увидел молодую девушку, которую насиловал на улице жирный башибузук, – ему, кажется, было труднее стянуть штаны, чем удержать добычу. Я отвернулся. Черкес Этем заметил мое беспокойство: – Взгляни, с каким удовольствием твои единоверцы платят за твои машины, христианин! Он находился в своей стихии. Он прокричал что-то на своем диалекте одному смеющемуся лейтенанту, а затем выбрался из фонтана и обхватил меня за плечи. – Эти люди – неверные. Тебе не нужно о них беспокоиться. Теперь я покажу тебе, почему мы так упорно сражались за этот город. Он вывел меня с площади и свернул в запыленный переулок, а потом великодушным жестом указал на то, что осталось от какого-то гаража. На скамье за порогом лежал маленький бензиновый двигатель, очень похожий на тот, который я изображал на своих чертежах. – Вот твой шанс. Ты задержишься здесь на пару дней и спокойно построишь самолет. Они побоятся тебя тревожить. Я оставлю здесь несколько человек. Позади нас снова начались крики и стрельба. Я был испуган и молча кивнул в знак согласия и признательности. Я отчаянно, всем своим существом, желал оказаться подальше отсюда и избавиться от этого ужаса. Как я мог сбежать из ада России и снова попасть в такой же ад в Турции, где у меня было еще меньше шансов выжить? Как я ненавидел Восток и все, что с ним было связано! Этем потрепал меня по спине. – Скажи Хассану, что тебе нужно. – Он жестом подозвал мальчика лет четырнадцати, стоявшего у стены мастерской. Хассан ухмыльнулся мне. – Через три-четыре дня я вернусь. Нужно убить кое-каких греческих солдат. – Странно взмахнув рукой, он отправился на площадь. Чтобы заглушить ужасные звуки, которые в течение дня становились все разнообразнее и интенсивнее, я приказал Хассану закрыть хлипкие двери механического цеха. Я сказал ему принести лампы и отыскать людей, чтобы они прибрались в помещении. На полу были насыпаны промасленные деревянные стружки, на стойке у дальней стены стояло несколько устаревших инструментов. Это место, вероятно, было единственным на многие мили, где можно было отыскать механика. Кому бы ни принадлежала мастерская, он погиб или сбежал. Осталось очень немного запасных частей, но маленькая наковальня и мехи еще стояли в углу, тут и там валялись кузнечные орудия, объяснявшие назначение мастерской. К счастью, я был способен делать то, чему научился в минувшие годы, – оставаться слепым и глухим, не обращать внимания ни на что, кроме работы, которую предстояло выполнить. Для начала я сосредоточился на двигателе, чтобы понять, как подсоединить его к пропеллеру. Теперь я знал об аэродинамике гораздо больше, чем во время строительства первого аппарата. К вечеру, когда вернулся Черкес Этем, я уже составил некоторое представление о проблемах и их решении. – Работай хорошо, христианин, – сказал бандит. Он положил на скамью большую сумку, украшенную вышивкой. – Это поддержит твои силы до моего возвращения. В сумке лежала дичь, кусок ягненка, козья нога – все совсем свежее, окровавленное. Я вздрогнул от отвращения. Хассан, напротив, пришел в восторг. Бандит уехал, как всегда, ухмыляясь. Я слышал, как он что-то кричал своим людям. Потом послышался знакомый волнующий звук – быстрый цокот копыт, а затем наступила столь же знакомая тишина. Вскоре раздались стоны и плач. Немного позже мое настроение значительно улучшилось, внезапно в голову пришла одна забавная мысль: при всей своей хитрости Черкес Этем не учел очевидного факта. Как только я построю самолет, смогу убраться прочь от его отвратительных всадников и их винтовок, волшебным образом подняться к облакам, подобно багдадскому вору[270], насмехаясь над всеми оставшимися внизу, и вернуться в Константинополь через несколько часов! Эта радостная мысль заставила меня трудиться с большей уверенностью и энтузиазмом. Теперь я строил не военную машину для исламских солдат – я создавал средство собственного спасения. Следующие два дня я работал практически без перерыва, поддерживая силы остатками кокаина. Хассан оказался добросовестным, хотя и весьма неловким помощником. Охранники, которых оставил при мне Этем, привели дрожащих резчиков по дереву и плотников. Нашлись и швеи. Целый город, по крайней мере все уцелевшие жители, был в моем распоряжении, и в результате потребовалось совсем немного времени, чтобы собрать практически все детали аппарата. Части, которые не удалось отыскать или переделать, изготовили на наковальне. Пропеллер вырезали из какого-то местного сорта дерева и идеально отполировали, именно так, как я указал, – крыльям позавидовал бы сам Дедал. Просто удивительно, как эти горожане, особенно греки и армяне, отдавались работе, – словно смутная наследственная память заставляла их помогать мне в бегстве от этого современного эквивалента критского чудовища. Аналогии производили на меня все большее впечатление, я думал: как Дедал построил лабиринт для Миноса, так и я построил для своих похитителей лабиринт из иллюзий и абстракций, в котором они могли заблудиться. Я уже понял, что без труда мог бы сбежать еще до возвращения бандитского главаря. Машина, которая едва не погубила меня, стала бы моим спасением. Конечно, я доказал бы ее эффективность! С золотом Этема в карманах я не просто улетел бы подальше от этих пустынных мест, но по возвращении произвел бы настоящий фурор в Константинополе! Я проскользнул бы между минаретами Айя-Софии и Голубой мечети, опустился бы на Галатскую башню, на башню Леандра, на все башни Византии. И тогда воздух наполнился бы голосами удивленных людей, оборачивающихся на шум моего блестящего пропеллера. Я прославлюсь и добьюсь своей цели. Передав ценную информацию британцам, я получу открытую визу во все страны Европы. И конечно, с огромным удовольствием расскажу всем о том, что граф Синюткин – предатель и шпион. К утру третьего дня не поступило никаких новостей о возвращении Этема. Безнадежное молчание, в которое погрузился город, постепенно сменялось обычными звуками повседневной жизни, хотя на лицах людей застыло равнодушие. Эти лица напоминали мне маски из какой-то древней аттической трагедии. Я тщательно проверил все детали машины, потом собрал ее на скамье и приказал Хассану запить топливо. Двигатель легко заработал; пропеллер крутился очень ровно, словно стальные лопасти рассекали масло. На меня нацепили крылья и раму, к которой следовало прикрепить двигатель и винт. Я был уверен, что смогу полететь куда захочу. Я значительно модифицировал конструкцию. То, что случилось со мной в Бабьем Яре, в Турции не повторится. Удостоверившись, что все готово, я приказал группе местных отнести аппарат на крышу соседнего шерстяного склада, расположенного возле фонтана и греческой церкви, – самого высокого и внушительного здания в городе. Я не мог поверить в свою удачу! Когда мы выбрались на широкую плоскую крышу, с которой открывался вид на невыразительную анатолийскую равнину, я с трудом сдержался и не выдал своего восторга Хассану и прочим бандитам. Мальчик вместе с мужчинами помог привязать двигатель мне на плечи. Пропеллер на этой машине был установлен выше, чем на предыдущей, так что я не сомневался: на сей раз контузии удастся избежать. Крылья в этой модели стали немного больше, но, по существу, я построил тот же самый самолет, который испытывал в Киеве. Конечно, он на полвека опередил свое время. Сегодняшние мощные дельтапланы – всего лишь модификации моих оригинальных технических находок (но, разумеется, обо мне никто не упоминает, заговор молчания продолжается). Я думал о том, как повезло этим бандитам и городским обывателям. Они станут свидетелями первого подобного полета за пределами России. Я старался стоять как можно ровнее, но слегка наклонялся под тяжестью машины. Этот вес, конечно, уменьшится, как только я оторвусь от земли, но пока удержаться на ногах было довольно трудно. Теперь я был готов взлететь к небесам и показать своим врагам, насколько они глупы и невежественны! Конечно, я не принял в расчет турецкой хитрости. Заняв нужное положение и приготовившись пробежать по всей крыше, прежде чем взлететь в воздух, я приказал Хассану раскрутить пропеллер. Но двигатель лишь слабо фыркнул. Я сказал, чтобы мальчик снова крутанул лопасти. Я начинал потеть – солнце поднялось уже довольно высоко. – Хассан, ты идиот! Что случилось? Он покачал головой и что было сил крутанул пропеллер. Я едва не потерял равновесие от этого толчка. Мужчины что-то бормотали себе под нос и усмехались. Я приказал им убираться подальше. Они неохотно ушли с крыши. Теперь я остался наедине с Хассаном, который стоял молча, выпучив глаза. – Еще! На сей раз пропеллер повернулся дважды. Я побежал, но успел продвинуться только на ярд – двигатель снова заглох. Я был потрясен, ведь все прекрасно работало. Я спросил Хассана, залил ли он бензин в бак. Тут челюсть у мальчика отвисла, и он пожал плечами, как будто я сказал что-то удивительное: – Конечно нет, господин! Я выругался: – Ты кретин. Тащи сюда канистру. Он тотчас покачал головой и взмахнул руками, глаза его виновато забегали: – Я не могу. – Она в лавке, в задней комнате. Ты знаешь где! – Я разозлился. – Поторопись, мальчик! – Там ничего нет, эфенди. Хассан отвел взгляд, потом посмотрел в сторону железнодорожной линии. На горизонте появился дым. Хассан нахмурился. Солнце пекло мне голову, а двигатель, который должен был уже поднять меня в воздух, врезался в спину и причинял жуткую боль. Едва ли не в обмороке я бросился к мальчику, умоляя его принести бензин, угрожал ему тысячей наказаний, кричал, что его поджарят в аду. Но на Хассана все это не подействовало. Он только отошел от меня подальше и стоял, качая головой и иногда повторяя: – Там ничего нет! Разумеется, в итоге до меня дошло. Этем оказался совсем не таким дураком, каким я его считал. Он оставил Хассану особые указания, мне не позволили бы зайти слишком далеко. Бензина не будет, пока Этем не поверит мне. – Бензин! – умоляюще прохрипел я. – Соверен всего лишь за одну канистру! Никто не узнает. Шатаясь под тяжестью двигателя, ковыляя и наклоняясь, как горбатый пингвин, я отодвинулся от края крыши. Внизу на площади собралась толпа. Люди смотрели на меня, некоторые оживились, почти как зрители в цирке. Кто-то закричал: «Давай же! Начинай!» Они сгорали от нетерпения. Я ожидал, что они зааплодируют. Но как я ни кричал на Хассана, он неизменно повторял одно и то же: «Ничего нет, эфенди». Я спроектировал машину так, что не мог освободиться самостоятельно. Ноги мои начали ныть – я все-таки допустил просчет. Я дрожал всем телом, едва не рыдал, мой голос охрип, пока я просил мальчика о помощи. Взгляд Хассана все чаще устремлялся к горизонту. Дым становился заметнее. Где-то ехал локомотив, хотя в поле зрения он еще не появился. Именно тогда мне показалось, что издалека слышны пулеметные очереди. С трудом, морщась от боли, я обернулся на звук и заметил на горном хребте над болотистой равниной то, что могло быть только танковым подразделением. На корпусах машин виднелись сине-белые греческие флаги, но сами танки были британскими – «марк III» во всей красе. И по обе стороны от них бежало около трехсот греческих солдат, штыки блестели на их винтовках, и солдаты стреляли на бегу. Оставшиеся в городе бандиты пытались построить нечто вроде баррикады. Очевидно, они не ожидали такой атаки. Они двигались поспешно и нервно, проклиная друг друга и грозя кулаками грекам. Двое или трое уже вскочили на лошадей и помчались в противоположном направлении. Теперь я задыхался, боль усиливалась с каждым вздохом. Меня как будто распяли, распяли на кресте моего собственного воображения. Хассан тупо уставился на меня. Потом, жалобно скривившись, отвернулся. Он побежал к лестнице, но на мгновение задержался, чтобы взглянуть на меня. Я просил его вернуться хотя бы для того, чтобы перерезать несколько ремней. Я ничего не добился, изо всех сил пытаясь освободиться от летающей машины и с каждым движением запутываясь все больше. Я пришел в отчаяние. Не было никаких гарантий, что греки или британцы не примут меня за предателя, сознательно продававшего оружие туркам. Хассан исчез внизу. Я завыл от ужаса, который в моем подсознании обрел форму песни. Когда греки в конце концов обнаружили меня на крыше, я исполнял «Иерусалим» Блэйка.Глава девятая
Я с успехом развлек турок, а теперь стал источником бесплатного веселья для греков. Солдаты были одеты в британские куртки цвета хаки и оловянные шлемы и в то же время в белые брюки и зеленые краги. Завидев меня, они засмеялись и опустили винтовки. Я перестал петь и, все еще пытаясь высвободиться, сурово посмотрел на них. Они не стали мне помогать. Я едва не заплакал, из последних сил пытаясь встать на ноги. На английском и французском я умолял их о помощи. Они отказывались понимать. Они потирали небритые подбородки и насмехались надо мной, будто я был каким-то покалеченным теленком. Когда я начал выкрикивать немногие известные мне греческие слова, они развеселились еще больше и успокоились, только когда на крыше появился их офицер. Ему было лет тридцать пять, у него были темные глаза и черная эспаньолка. В отличие от своих солдат, офицер облачился в настоящую греческую форму оливкового цвета. В ножнах у него на боку висел длинный кривой меч, из кобуры у пояса торчал пистолет. Положив руки на бедра, офицер расставил ноги и наморщил брови, рассматривая меня. Он заговорил – сначала по-гречески, чтобы заставить своих людей умолкнуть, а потом по-турецки – со мной. Я покачал головой, стремясь немедленно переубедить его: – Мсье, если вы позволите мне… Слегка улыбнувшись, он произнес по-французски: – Ага! Так это вообще не бандит, а голубь. Голубь, слишком толстый для полета! Стараясь сохранять достоинство в этой ситуации, я поднял голову, чтобы посмотреть офицеру прямо в лицо: – Мсье, я офицер русской добровольческой армии. Не будете ли вы так любезны освободить меня от этих ремней? – Большевистский голубь, не так ли? Еще лучше. Пытался доставить весточку генералу Троцкому? – Вы меня неправильно поняли, мсье. Я добропорядочный монархист. Моя жена – англичанка. Я живу в Константинополе. Я уже некоторое время находился в плену у этих турецких бандитов и как раз пытался сбежать, когда, благодарение богу, вы напали на них. Я еще и ученый. У меня есть документы. Самые настоящие. Из Санкт-Петербурга. – Я слышал, что с националистами были и русские офицеры, – сказал капитан, как будто не замечая моих слов. – Вы уверены, что не лжете, мсье? – Готов присягнуть как христианин и джентльмен, что говорю вам правду! – Но как вы попали к этим националистам? Люди капитана продолжали усмехаться, хотя я сомневался, что они могли понять его слова. Он не сделал им замечания, только подал двоим солдатам знак, чтобы они помогли мне подняться. Я ужасно вспотел, страшно болела спина. – Я не присоединялся к ним, – терпеливо ответил я. – Меня заманили обманом. Их интересуют мои проекты. Медленно, с возрастающим любопытством, капитан осмотрел меня со всех сторон. Он проверил крыло на моей правой руке. Он изучил хвостовое оперение сзади. Опустившись на корточки, он дернул за один из проводов, ведущих от моих лодыжек к рулю. – И почему же вы не улетели? – У меня не было бензина, – сказал я. Офицер не смог удержаться и перевел это своим людям, которые тут же затряслись от смеха. Он подумал, что я просто забыл залить бензин в бак. – Мсье, – произнес я, уже почти потеряв надежду, – мне очень больно. Будьте добры, отстегните эти крылья, чтобы я мог избавиться от двигателя! Он указал на меня рукой и отдал приказ. Солдаты с удивительной осторожностью начали расстегивать ремешки. Я решил, что в будущем следует делать самолеты полегче. Я научился этому на собственном опыте. В проекте нужно кое-что изменить. Мне следовало изобрести механизм для быстрого освобождения от аппарата, чтобы избежать подобных случаев. Скоро греки сняли все части устройства и аккуратно сложили их посреди крыши. Я потер израненные плечи, а потом глотнул бренди из фляги капитана и представился: – Меня зовут Максим Артурович Пятницкий, майор (в данном случае вряд ли следовало упоминать о звании полковника) Белой армии. Я служил летчиком и был в разведке. Недавно меня эвакуировали из Одессы на британском судне «Рио-Круз». Все это можно легко проверить, мсье. Капитан слушал рассеянно, чуть заметно кивая в ответ, потом взглянул на аппарат: – Эта штука летает? Мне его вопрос совсем не понравился: – Я как раз и собирался узнать, мсье! Он внезапно развернулся ко мне лицом и твердо пожал мою руку. Очевидно, я прошел какую-то проверку. – Приветствую вас, сэр! Я капитан Папарайопулос. Вы храбрый человек. Давайте выпьем! Ковыляя за капитаном, который спускался на улицу, я услышал звуки, подобные тем, что доносились отовсюду всего три дня назад. Повторилась почти та же самая сцена, только на сей раз турки стояли на коленях на площади у фонтана, в то время как другие турки выносили сокровища из своих мечетей. Где-то еще греческие солдаты стреляли во все фески, которые попадались им на глаза, и вытаскивали из зданий сопротивляющихся женщин. И в глубине души я не мог осуждать их за подобную дикость. Турки преследовали греков в течение сотен лет, и теперь греки отомстили. Они мечтали об этом с самого падения Византии. Загорелось еще несколько зданий. Жар был ужасен. От густого дыма у меня слезились глаза. Когда мы пересекали площадь, появились двое солдат. Они поймали моего несчастного Хассана. Он сжался между ними, умоляюще глядя на меня. – Говорит, что он ваш помощник. Механик, – сообщил мне капитан Папарайопулос, быстро допросив мальчишку по-турецки. – Это правда? Механики нам нужны. – Он бандит, – сказал я. Когда они его уводили, Хассан уже прекратил вырываться. На башне мечети поднимали греческий флаг. Это была очень трогательная сцена: белый крест на синем фоне, развевающийся на турецком ветру. Капитан Папарайопулос устроил штаб в ковровой лавке, окна которой выходили на площадь. Здесь мы пили крепкую прозрачную жидкость – по его словам, это была местная водка. В голове у меня зашумело. Он предложил мне немного хлеба и колбасы. – Турки забрали почти всю еду. Я понял, что практически ничего не ел уже два дня, настолько меня захватило строительство машины. Я догадывался, что Хассан продал мясо, которое оставил нам Черкес Этем. – Мятежники прошли к северу от нас, – сказал капитан. – Полагаю, разыскивали наши позиции. Мы в свою очередь прятались среди холмов, пытаясь найти их базу. – Он разочарованно пожал плечами. – Я был уверен, что она именно здесь. Отряд всю весну пробивался вперед из Смирны. Капитан предсказал, что к концу года вся Анатолия окажется под контролем греков. – Кемаль хороший солдат, но у него нет подходящих людей. Бандиты сражаются за себя. Они служат нам, если им это выгодно. Их не интересует, кто правит. Вероятно, они думают, что греки – недурная замена туркам. Он без всякого выражения следил за происходящим на площади. Его люди казнили мусульман. Трое солдат, несомненно пьяных, гнали нескольких обнаженных девушек от одной полуразрушенной лавки к другой. – Люди здесь привыкли к жестокости, – сказал капитан, как будто я осуждал его, потом зевнул и начал сворачивать себе цигарку. – Мы вернем вас к цивилизации, мистер Пятницкий, не волнуйтесь. Французы и итальянцы предали их. Греция только недавно вспомнила о былой гордости. Она подняла знамя Христа в сердце ислама. Она несла меч мести. Византия была в руках христиан! Турция едва не прекратила свое существование. Она исчезла бы, поглощенная более благородной греческой империей, чудом мироздания. Но французы и итальянцы, опасаясь блистательного слияния греков и британцев, объединили силы, чтобы помешать этому союзу старого и нового Эллинизма. Они использовали самые легкие средства. Они дали оружие Кемалю. Они поощряли Захарова и его евреев продавать туркам орудия и танки, когда сам Захаров в Афинах обменивался рукопожатиями с Венизелосом[271] и клялся ему в вечной дружбе. Марсельские брокеры, которые никогда не слышали об Анкаре, посылали туда оружие и получали огромную прибыль, в то время как люди на нью-йоркской фондовой бирже, спокойно поговорив по телефону, убивали тысячи греческих воинов. Торговцы в Риме и Берлине, не служившие ни Кресту, ни Полумесяцу, богатели, потому что Крест и Полумесяц сошлись в смертном бою в Анатолии. Ллойд Джордж, лорд Керзон, Уинстон Черчилль, Венизелос, Вудро Вильсон – все политические деятели, исполненные прекрасныхнамерений и идеалов и приветствовавшие каждую греческую победу, сами были сбиты с толку и не сумели ничего добиться. Они слишком долго рассматривали карты, обсуждая новые границы, тревожась о пакистанцах и арабах, чувства которых могли бы пострадать, если бы ислам был повержен во Фракии. Когда речь зашла об их собственных египетских и палестинских владениях, они дрогнули. Дети Афин и Спарты уходили в бесплодные просторы Малой Азии, нагие и беззащитные, укрытые лишь Христовым знаменем. Они наивно верили сентиментальным утверждениям старых болтунов. Им было нечем воевать. Ллойд Джордж послал их в бой безоружными, Уинстон Черчилль не дал им кораблей. Лорд Керзон испугался того, что, отдав Турцию грекам, он может потерять Индию. И таким образом не была достигнута важнейшая цель мировой войны – единственное реальное преимущество, которое обеспечило бы нам вечный мир, было упущено, а завоеватели-крестоносцы ссорились и теряли время, как уже много раз случалось прежде. Эти благородные греки умирали в анатолийских пустынях и армянских болотах. Их кровь поливала исламскую землю, и всходы, которые поднимались из этой земли, давали пищу исламским солдатам. Тем временем английский король провозглашал: «Преклоните колени, Захаров!» и «Встаньте, сэр Бэзил!» Он касался плеча этого демонического еврея тем великим мечом, который на протяжении многих столетий служил защите чести Христовой. В палате общин и палате лордов, в горностаевых одеждах и золотых коронах, новоявленные бароны бездельничают на скамьях, поднимая украшенные драгоценными камнями чаши и провозглашая лживые тосты за государственный флаг Соединенного Королевства, за три креста, которые являются одним. Самодовольные восточные владыки проникли в самое сердце Англии. Точно так же они прежде пробрались ко двору Византии. Они управляют судьбами миллионов христиан. Они даже притворяются, что молятся в христианских храмах. Они сделали этот остров главным логовом международной преступности. Они хуже обычных пиратов, потому что не рискуют сами и крадут жизненную силу других стран. Разве их добыча помогает славе Англии? Нет! Она остается в Швейцарии, где маленькие розовощекие женщины каждый день приходят в хранилища с ведрами мыла и дезинфицирующих средств, чтобы чистить золотые слитки до тех пор, пока они не заблестят, как зеркала. Где были английские джентльмены? Что случилось с империей, которая послала лордов Байрона и Шелли на верную гибель в Геллеспонт, когда они повели отважные маленькие армии против всей мощи Османа? Какие безумия поразили британцев после Первой мировой войны? Жадность и социализм, скрепленные ложной гордостью. Я видел, как во всем мире гибнут империи, и всегда по вине красных и евреев. «Смотрите, – кричит Гарольд Уилсон, – вы богаты. Вы можете плясать. Вы можете присоединиться к общему рынку. Вы можете отдать свои дома пакистанцам». Я слышал его по телевизору. «Вам нужна конкуренция, – говорит он, – как американцам. Вы должны занимать больше денег. Вы должны стать лучше, чем ваши соседи». И когда рабочий отказывается работать, потому что его место может захватить афроамериканец, на него бросается этот великий социалист, защитник толпы. Он непатриотичен, если хочет попросить больше денег. Ему напоминают о духе Дюнкерка, о национальной чести и гордости. Но Гарольд Уилсон говорит, что честь и гордость – это старая чушь. Деньги важнее всего. И они приходят ко мне в магазин со своими плакатами и уверяют меня, что лейбористская партия заботится о моей выгоде! Она ни о ком не заботится, кроме банкиров и членов партии. Все точно так же, как в Москве. Сталин разрушил страну, а затем воззвал к призракам великих национальных героев, к призракам тех, кого он сам убил, чтобы сплотить людей против Гитлера. Честь ничего для них не значит. Это только звонок, который вызывает у людей слюноотделение, как у собак, но, когда он звонит, никто не отвечает. Люди отчаянно тоскуют об утраченной гордости и вере. Былая гордость ненадолго пробудилась в Греции, и тогда красные, евреи, картографы явились и украли ее, купили за фальшивые деньги, насмеялись, как будто унижая Самого Христа. Именно социалисты, а не тори, поставили прагматизм выше чести. Национальную гордость продали в розницу в свингующих шестидесятых. Ее продавали на Карнаби-стрит и в Брюсселе, торговали трусами с изображением государственного флага Соединенного Королевства и сумками с портретом лорда Китченера. Национальная гордость покидала страну вместе с зонтиками, корзинами, пепельницами и пластмассовыми гвардейцами, которых увозили в Америку и Японию. Когда она им понадобилась и о ней вспомнили – ничего не осталось. Национальная гордость стала тающим мороженым в нескольких шагах от галереи Тейт, сломанной безделушкой на полу гигантского сингапурского авиалайнера, смешной шляпой-котелком на голове у саудовского школьника. Четвертьвековой юбилей[272] станет просто распродажей остатков. Остатки чести, как фальшивые святые реликвии, будут по дешевке продавать азиатские оборванцы пьяным иностранцам на Пэлл-Мэлл. Если Великобритания, предав греков, предала свое прошлое, то она предала и свое будущее, а это величайшее безумие. Они послали в бой беззащитных греков. Британцы смотрели, как русские бегут с Украины и из Грузии, и ничего не делали. Они смотрели, как польские кавалеристы вторгались в Галицию и Молдавию и захватывали вожделенные в течение многих столетий земли. Они смотрели, как социалисты шагали по улицам Мюнхена и Гамбурга. Они беспомощно поднимали руки, когда Ганди бросал свои диссидентские армии против короны, когда ирландские республиканские гангстеры взрывали полицейские казармы и почтовые отделения. И привередливая Америка отвернулась от хаоса, который сама же и помогла сотворить. Она заявила, что испытывает отвращение к Европе, и выбрала президента, который повернулся спиной к духовному наследию и повел свою страну к мечте, почти уничтожившей великие идеалы. Они давали женщинам право голоса, слушали по радио Нелли Мельбу[273] и думали, что видят путь к Утопии. Кое-где дальновидные люди пытались идти против течения. Адмирал Хорти[274] боролся против коммунизма. Венгры знали, что такое бояться турок. Тем не менее великие державы самодовольно посмеивались, подписывая документы, которые обрекали целые христианские страны на гибель и подчинение тирании. Но самое главное, самое яркое выражение этого предательства – их отказ поддержать греков против турок. Христа раздели донага. Его высекли. Его снова пытали. Не фарисеи, нет. Его предали римляне, те самые люди, которых Он пытался спасти. Иегова был евреем, но Христос был греком. Пусть евреи забирают себе своего слюнявого Иегову, забирают Иуду Бен-Гура, Иону, Иеремию, Иосифа и Иуду. Мы сохраним Иисуса. Мы защитим Его. Славься, Боже! Крест – греческий. Византия – наша столица. Wann werden wir Zurück sein?[275] Мы поднимем наши копья, чтобы прогнать красноглазого волка, злобного шакала и тараторящую обезьяну! Наша честь воссияет золотом, как солнце. Наш путь озарит наша решимость и наша храбрость, мы станем похожи на ангелов, спустившихся на землю, чтобы возродить гордость христианского мира и поставить в центре мироздания крест. Ни один человек не сможет причинить мне вреда, ибо щит мой крепок. Он отразит всю ложь. Меня не смутит их клевета. Они пытались сбить меня с истинного пути, они шептали о моей крови. Моя кровь – кровь казака и христианина! Ни один металл не очернит ее. Ни один металл не пропитает ржавчиной мои вены! Я – ртуть. Я – серебро. Мой живот крепок. Они попытались ослабить меня, молясь надо мной, когда я был еще слишком мал, чтобы сопротивляться. Этот псевдо-Авраам! Чего он хотел добиться? Мой отец взял нож и обрезал меня. Во имя прогресса он заклеймил меня печатью Иуды. Но я посмеялся над всеми своими врагами. Взмахивая серебряными крыльями, я пролетаю над их головами и сопротивляюсь призывам их шлюх. Я избегаю их стрел так же легко, как их угроз! Моя честь цела. Они не погубят меня так, как погубили греков. Я сидел и пил с капитаном Папарайопулосом, вскоре позабыв о боли в спине. Время от времени один из его солдат заходил в коверную лавку и требовал новых указаний. Через некоторое время капитан равнодушно отмахнулся от своих подчиненных – он выпил не меньше, чем я. Но один, казалось, имел отношение ко мне – ближе к вечеру капитан вцепился в мое плечо, указав на крышу склада. Хихикая, он передал мне свой полевой бинокль. Так я смог получше все разглядеть. Они привязали мой опытный образец на спину несчастного Хассана. Я беспомощно смотрел, как они заливали бензин в двигатель, раскручивали пропеллер и готовились сбросить кричащего и вырывающегося мальчика с крыши на верную смерть. Капитан Папарайопулос был чрезвычайно удивлен: – Я хочу помочь вам испытать машину. Я попытался объяснить ему, что механизм требовал осторожного обращения, но он отказался слушать. Он заявил, что это шанс Хассана улететь на свободу – или в рай. Машина разбилась вдребезги. В бинокль я разглядел, как дергалось изломанное, окровавленное тело мальчика. Он, конечно, большего не заслуживал, потому что обманывал меня, – и все же это было неприятное зрелище, и оно запечатлелось в моей памяти. Еще одна упущенная возможность! День спустя меня доставили обратно в Скутари, сначала на бронированном поезде, затем в автомобиле «кроссли», со всеми почестями. В поезде меня ожидал греческий полковник, он записал все сведения, которые я сообщил. Он заверил меня, что графа Синюткина арестуют, как и всех, кто с ним работал, – и турков, и иностранцев. У полковника было веселое лицо, покрытое бронзовым загаром, и моржовые усы. Он напоминал добродушного грузинского патриарха. Он сказал, что мне следует поехать в Афины. Греки ценят отвагу и знания. Мне стоило прислушаться к его словам. Полковник заверил, что, когда греки завоюют Турцию, они займутся Балканами и Кавказом, а потом смогут бросить вызов и самому Троцкому. Он обещал, что моя мать будет спасена. Я верил ему. Откуда мне было знать, что тайные соглашения в Уайтхолле и Вашингтоне уже утвердили гибель Греции, ей остались только никчемные обещания – а что они значили против пушек Захарова? Греческие юноши гибли от турецких штыков, на которых стояли штампы «сделано во Франции», падали на колючую проволоку, изготовленную женщинами-католичками на туринских фабриках. Когда-то про лорда Пальмерстона[276] сказали: если бы так, как поступила страна под его руководством, поступил человек, общество тут же подвергло бы его остракизму. Пальмерстон унизил английскую политику, превратил ее в корыстную и недальновидную возню, а затем нанес последний удар, сделав своим преемником еврея! Его тень пала на столы переговоров и осудила на смерть половину нынешней Европы. Политики думали, что гораздо важнее выжать еще несколько немецких марок, чем сохранить идеалы, за которые умирали их кровные родичи. «Кроссли» отвез меня прямиком к Хайдур-паше, и британские офицеры почти сразу отпустили меня. Я попытался передать им свои сведения, но они сказали, что уже получили отчет греческого полковника. Мне пришлось возвращаться домой с небольшим багажом. Я выбросил свой изорванный деловой костюм и облачился в греческую армейскую рубашку и бриджи, британские башмаки и краги, французское пальто. Я напоминал тех русских, которые бежали от большевистской угрозы. Спустившись на Скутари-сквер, к причалам, чтобы сесть на паром, я оказался в компании нескольких бедолаг, только что эвакуированных из Ялты. Они спросили, где и под чьим началом я сражался. Я сказал им, что был в Киеве, служил офицером связи с союзниками, был в плену у красных и зеленых. Эти люди выглядели полумертвыми от усталости и совершенно сбитыми с толку. Они надеялись добраться до Южной Америки и присоединиться к аргентинцам, так как, очевидно, в Константинополе рассчитывать было не на что. Об этом они узнали от родственников, живших в городе, и теперь собирались как можно скорее завербоваться на корабль. В письмах, полученных от товарищей, они прочли о больших возможностях и спокойной жизни солдат в Южной Америке. Когда мы сошли с парома, я пожелал им удачи, а потом, дрожа, пешком пробрался по крутым улицам Галаты и наконец достиг Гранд рю. Я почему-то ожидал, что улица сильно переменилась. Как ни странно, я отсутствовал не больше десяти дней. А мне казалось, что прошли месяцы, и я очень боялся, что с Эсме что-то стряслось. Лишившись моей защиты, она могла стать жертвой любого сутенера, шнырявшего по «Токатлиану». Разве граф Синюткин не сделал это место своим штабом? Я был уверен, что кое-кто из белых работорговцев уже оценил ее красоту. Поэтому меня переполняли самые мрачные предчувствия, когда я крался в «Токатлиан» через черный ход и подходил к дверям нашего номера. Я был убежден, что граф не отправил мою телеграмму. Где-то между Скутари и Анкарой я потерял свои ключи. Я постучал в дверь нашего номера, не ожидая ответа. Мое сердце неистово билось. Я вспотел от волнения. Хотя было всего четыре часа, снизу, из ресторана, доносились звуки музыки и гул голосов. После всех приключений у меня остались только несколько соверенов и раны на спине. Мой опытный образец погиб, а все чертежи сгорели. Дверь открылась. Передо мной стояла Эсме. Она замерла, потом заплакала и, наконец, рассмеялась. После секундного колебания (несомненно, из-за моего странного костюма) она обвила маленькими нежными ручками мою шею и с восторгом расцеловала меня, не обращая внимания на небритые щеки. Я содрогнулся от внезапного облегчения. Мои страхи были безосновательны, все хорошо. Получила ли она телеграмму? Эсме ответила, что ничего не получала. Она считала, что ее бросили. Потом предположила, что я умер. Мне не следовало ездить на азиатский берег, сказала она. Турки – просто звери. Я помылся, переоделся и поведал кое-что о том, что произошло. Эсме все еще была необычайно взволнована, но слушала, открыв рот от удивления и живо откликаясь на все детали моего рассказа. От такого внимания, выдававшего ее искреннюю радость, я буквально ожил. Развалившись на подушках, я попросил Эсме принести немного кокаина и послал ее вниз за кофе и едой. Она приготовила порошок именно так, как я ее научил. Я обнаружил, что наши запасы практически закончились – кокаина осталось гораздо меньше, чем я рассчитывал. Я снисходительно улыбнулся: – Ты была жадной маленькой обезьянкой! Эсме вспыхнула. В своих белых кружевных юбках она выглядела такой же очаровательной и милой, как любая русская девочка хорошего происхождения. Сгорая от любви, я поднял Эсме на руки и поцеловал. Я сказал, что очень жалею о том, что не смог привезти ей подарок. Она, запинаясь, попыталась что-то ответить. Тогда я вытащил кошелек с золотом Этема и бросил его Эсме, тут же подхватившей деньги. – Теперь мы можем уехать, как только захотим. Ее радостный ответ меня удивил: – В таком случае нам придется уехать очень скоро. – Она была очень серьезна. – В Константинополе с каждым днем все хуже. Убивают все больше. Исчезают самые разные люди. Не только девочки. Баронесса сказала, например, что пропал ее друг граф Синюткин. Как сквозь землю провалился, по ее словам. – Ты видела баронессу? Это хорошо. Эсме отвлеклась, сосредоточившись на кристалликах кокаина. Она кивнула, продолжая необычайно внимательно рассматривать белые полоски. – У нее все хорошо? – Думаю, да. – В ее голосе звучало пренебрежение. – А Китти? – Да, у нее все хорошо, – произнесла Эсме почти шепотом. – Вы играли вместе? – Довольно давно. – Я вскоре увижусь с ней. Как только мы раздобудем что-нибудь поесть. Эсме подала мне декоративное зеркало, на поверхности которого протянулись очень ровные дорожки кокаина. Она, как обычно, проявила чрезвычайную аккуратность в этом деле. Я взял серебряную трубочку, вложил ее в правую ноздрю и глубоко вдохнул. Как прекрасно было вновь получить столь нужное лекарство! Я тотчас почувствовал новый прилив воодушевления и удовольствия. Еда была готова, но мы к ней почти не притронулись. Эсме пожелала заняться любовью. Время приближалось к полуночи, когда я поднялся по служебной лестнице отеля «Византия» и чуть слышно постучал в дверь баронессы. Она немедленно отворила, но очень испугалась, увидев меня. Леда Николаевна выглядела нехорошо. Ее лицо вытянулось, кожа огрубела, веки набрякли. Волосы были зачесаны назад – баронесса готовилась ко сну. – Ты одна? – прошептал я. Китти обычно спала на кушетке у окна. Я сделал шаг вперед, но Леда преградила мне дорогу. Она покачнулась. – Тебе плохо? Надеюсь, ты не подхватила сыпной тиф? – Я предположил, что баронесса почувствовала слабость, потрясенная тем, что я вернулся живым и невредимым. – Ты думала, что я попал в беду, Леда? Ее ответ меня поразил. – Я хотела, чтоб так оно и было, – произнесла баронесса громким, почти истерическим шепотом и взмахнула рукой, будто пытаясь оттолкнуть меня. Я заглянул в комнату через ее плечо. Китти ворочалась на кровати матери. Я решил, что Леда боится потревожить ребенка. – Я пытался послать телеграмму, но меня держали в плену. – Заговорив, я почувствовал, что выбрал неверный тон – я как будто извинялся. – Мы сможем увидеться завтра? Она сказала тихо, но более отчетливо: – Я пошлю вам письмо. Слегка озадаченный, я тем не менее шагнул вперед, чтобы поцеловать ее в щеку, но она поспешно отступила, свирепо взглянув на меня. В ее шепоте зазвучали стальные нотки: – Меня предупреждали, что вы ужасный лжец, но я не верила. Я даже подумать не могла о таких мерзостях! Я был изумлен: – Граф Синюткин говорил с тобой? Если так, то должен предупредить: он уже обманул меня… – Я не видела графа Синюткина. Возможно, его арестовали турки. – Она дернула дверь, чтобы закрыть ее. – Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я не хочу тревожиться из-за такого ничтожества, как вы. – Леда! Я не собирался отступать. Тогда она вышла в коридор, накинув то самое синее шелковое кимоно, которое я купил ей на Гранд-базаре. – Ты так красива, – сказал я. Баронесса закрыла за собой дверь. Она густо покраснела. Я впервые видел до такой степени разъяренную женщину. Она прошипела: – Максим Артурович, я больше никогда не желаю видеться с вами. Я не собиралась вас предупреждать, но всерьез подумываю, что следует сообщить о ваших похождениях властям. Даже в этом омерзительном городе должны остаться порядочные люди. Вы обманули мое доверие, заставили Китти играть с вашей шлюхой – и это ужасно само по себе, но вы обольстили это существо и – прямо у меня под носом – изобрели такую мерзкую фантазию… И это нельзя простить! Я наконец все понял, и сердце у меня ушло в пятки. Я начал слабо возражать: – Я ее не совращал. Она была шлюхой, когда я ее нашел. Я ее спас. Ты себе противоречишь, Леда! – И вы хотели втянуть нас с Китти в этот ужасный спектакль, в эту пародию на семью! Какие мерзости вы себе воображали?.. Что вы задумали?! Это было слишком близко к моим подлинным фантазиям. Я отступил. То, что я считал прекрасным и удивительным, сумасшедшая, злобная, ревнивая пуританка представила в худшем свете. – Надеюсь, что вы как минимум заплатите высокую цену за свою подлость. – Теперь баронесса приблизилась ко мне. Я отступил насколько мог и наконец уперся в перила. – Я думала, что у вас хватило мужества покончить с собой. Я надеялась, что вас пытали и убили. Я мечтала о том, что полицейские найдут ваше тело в Босфоре и попросят меня опознать труп. Я думала, что откажусь или заявлю им, будто тело не ваше, – хотела удостовериться, что вас бросят в общую могилу со всеми прочими мерзавцами этого грязного города. Но вот, пожалуйста, кошмар стал явью! Вы целовали меня теми губами, которыми касались ее. Самые худшие рассказы о вас оказались правдивыми. Я не посмела спросить Китти, чем вы занимались, когда меня не было рядом! Моя бедная, невинная девочка! – Я люблю Китти как отец! – Я тоже перешел на шепот. – Леда, ты должна понять: я не хотел никого обидеть. Я сделал это ради тебя. Как ты узнала? – Неужели эта маленькая шлюха вам ничего не сказала? Она была убеждена, что вас убили. Вы давали ей наркотики. Она не знала, что с нею станется. Она была слишком пьяна, когда встретилась со мной. Я сказала, что помогу ей добраться до дома. Именно так я обнаружила ваше омерзительное убежище. Вы жили с ней в нашем особом отеле! О, как вы, должно быть, насмехались надо мной! Вы не человек. Вы самый мерзкий из дьяволов. В ту ночь мало-помалу все разъяснилось. Она, по крайней мере, раскаивалась. Но вы… вы не испытываете никакого раскаяния! Только ярость, ведь я узнала правду и расстроила ваши планы. Вы просто позор своего народа! – Все не так плохо, как кажется. – Я старался говорить как можно спокойнее. – Просто неудачное стечение обстоятельств… – Из-за вас моей дочери угрожала опасность! Вы отрицаете, что занимались любовью с девочкой, которая была не старше Китти? Вы предали все мои лучшие чувства, цинично использовали мою любовь для того, чтобы добиться своих извращенных целей! И как вы можете лгать? Вы до сих пор лжете! О, как я мечтала, чтобы вы умерли медленной и мучительной смертью! – Все это просто нелепо. Поверьте, Леда Николаевна, мои чувства также были самыми возвышенными. Любимая, я испытываю к Эсме отцовские чувства, как и к Китти. Клянусь, это исключительно платонические отношения. Если она сказала что-то еще – это просто детское заблуждение или ее собственная нелепая фантазия. – Максим Артурович, с каждым словом вы становитесь все отвратительнее. Я видела вашу одежду! Постель! Записочки, адресованные ей! – Это совсем не то, о чем вы подумали. Вы осудили меня слишком поспешно. Полагаю, вы пожалеете об этом. – После пережитых ужасных испытаний я больше не мог терпеть. Я решил отступить. – Я не стану спорить с вами здесь, на лестнице. Я намерен уйти. Если вы придете в себя и пожелаете поговорить со мной, будьте добры, сообщите об этом заранее письмом. – Я приподнял шляпу. – Прощайте, Леда Николаевна. Кажется, эта женщина унизилась до того, что плюнула в меня, но я сделал вид, что ничего не заметил. Я спокойно спустился по лестнице. Очень неприятно видеть благородную даму, которая переняла манеры и выражения, более уместные в сточной канаве. Обрадовавшись, что мне удалось избавиться от бессмысленных обвинений старой ведьмы, я возвратился в свой относительно спокойный номер в «Токатлиане». Там ждала напуганная и виноватая Эсме. Она знала, что поступила неправильно, но как я мог на нее сердиться? Еще не придя в себя после недавних потрясений, я сидел на стуле, поглаживал плачущую Эсме по голове и пытался разобраться в собственных мыслях. Мне срочно требовался новый план. Меня тревожило то, что озлобленная баронесса могла рассказать обо мне властям. Я, вероятно, сумел бы доказать, что не совращал несовершеннолетних. Я надеялся, что Эсме могла бы признаться, что до меня спала по крайней мере с одним мужчиной. Я мог настоять, что был просто ее опекуном, что спас ее от греха, но скандал наверняка помешал бы получить английскую визу. Время шло, и мое беспокойство усиливалось. В ту ночь я не спал – обдумывал немногочисленные варианты. Казалось, что весь мир снова сговорился против меня. Неужели меня ожидает наказание только за то, что я великодушно отдавал всего себя двум женщинам, делая их обеих счастливыми? Я предполагал, что ревность баронессы может стать угрозой. Теперь справедливость моих суждений была доказана. Леда притворялась светской женщиной, но я всегда подозревал правду. Если бы она начала действовать тотчас же, то могла бы причинить мне огромные неудобства. Возможно, я лишился бы свободы. И никакие мои угрозы не заставят ее замолчать, она не примет ни одного моего предложения. Я погрузился в бездну отчаяния. Рядом со мной в постели мягко посапывала маленькая Эсме, из-за которой все это и началось. Вопреки всему, я заставил себя следующим утром отправиться в британское посольство. Мне каким-то образом удалось пробраться через собравшуюся снаружи толпу. Я в панике ворвался в коридор. Я оказал немалую помощь британцам. Благодаря полученной от меня информации они смогли арестовать важного шпиона. У меня в Англии осталась жена. Я служил с австралийцами. Все это я объяснил румяным мальчишкам-полицейским, которые преградили мне путь. Стараясь перекричать доносившиеся снаружи мольбы, я обрисовал в общих чертах свое затруднительное положение: я участвовал в серьезной шпионской операции в Анатолии. Я мог сообщить имена всех людей, связанных с Синюткиным. Но теперь моя жизнь в опасности. У меня есть чертежи, сказал я, представляющие огромную важность для британского правительства. К тому времени, когда я умолк, мой коричневый костюм пропитался потом. Полицейские спокойно посоветовали мне предоставить заявление в письменной форме. Я начал требовать встречи с кем-то из начальства. Именно тогда один из солдат заявил, что мне лучше убраться в ту крысиную нору, из которой я вылез. Теперь меня оскорбляли не только офицеры, но и стоявшие сзади русские и иностранцы, отчаявшиеся и впавшие в истерику. Стараясь добиться каких-то привилегий, они превратились в настоящих зверей. Мне не оставалось ничего другого, кроме как отправиться в доки и отыскать своих армянских друзей. Мне следовало встретиться с одним знакомым. Армяне посоветовали мне зайти в грязную кофейню около Карантинной гавани. Я тащился вверх и вниз по сотням ступеней в переулках, проходил под веревками, на которых висело поношенное белье, уворачивался от собак, ослов и турок. В конце концов я отыскал лавочку в подвальном помещении большого полуразвалившегося сооружения из дерева и кирпича, некогда зеленого цвета. Потускневшая надпись на французском сообщала, что здесь располагался «Знаменитый магазин тропических птиц Альфазяна». Изнутри время от времени доносились пронзительные крики или бормотание длиннохвостых попугаев – судя по всему, заведение Альфазяна не процветало. Ступени, ведущие к кофейне, были гнилыми и скользкими. Я поспешил и едва не провалился в подвал. Внутри было полно армян и албанцев, они курили длинные пеньковые трубки и смотрели на меня то ли задумчиво, то ли настороженно. У стойки, покрытой клеенкой, я спросил про капитана Казакяна. Огромный коренастый человек в грязном американском кепи вышел из тени и сделал шаг ко мне, дымя сигаретой. Я узнал капитана и подошел к его столику. – Вы – грек, который хорошо починил мою лодку, – сказал он по-русски. – Итак, друг, чем я могу быть полезен? Я сказал, что запомнил его слова о том, что он часто возит туристов в Венецию и обратно. Что если он захватит еще одного пассажира, у которого, возможно, нет всех необходимых документов для въезда в Италию? Он уклончиво кивнул: – У вашего друга проблемы, господин Папанатки? – У меня и у моей сестры. Мы должны уехать немедленно. Когда вы планируете отплыть? Он вздохнул: – Конкуренция в этом сезоне просто ужасная. И вдобавок эта проклятая война. Самые крупные корабли забирают всех туристов. Я смогу вернуться из Венеции разве что с десятком пассажиров. Их денег едва ли хватит, чтобы оплатить расходы. – Он скорбно посмотрел на меня. – Поэтому все обойдется в сотню за двоих. Он имел в виду золото. У меня была такая сумма в соверенах. – Вы сможете взять наши сумки и все прочее? – спросил я. – Конечно. – Он радушно взмахнул рукой. – Сумки. Чемоданы. Котики и собаки. Никакой доплаты. – Он рассмеялся, завидев мое облегчение. – Мне не нужно место на борту. Корабль сейчас наполовину пуст. Мы договорились, где встретиться и как я должен действовать. Корабль будет стоять на малом причале у доков Тифана. Я покинул кофейню с предчувствием, что мое спасение уже совсем близко. На улицах воняло сыростью и гниющими специями. Я словно опьянел к тому времени, когда достиг своей следующей цели, винной лавочки около Башни, за которой располагалась контора моего болгарского знакомого. Еще за пятьдесят фунтов я получил выездные визы и более-менее прилично изготовленные паспорта для меня и Эсме. Эти документы не годились для того, чтобы проникнуть в Англию, но могли оказаться полезными в странах, где не так хорошо знакомы оригиналы. Я назвал фамилию Корнелиус и снабдил болгарина необходимыми подробными сведениями, включая фотографии, которые сделал заранее. Пока я ждал, он изготавливал паспорта, всматриваясь в гигантскую лупу в свете керосиновой лампы, потом с восхищением полюбовался результатом своей работы, склонившись над старым столом красного дерева, покрытым пятнами от химикатов. Я вернулся домой ближе к вечеру. Эсме явно была в отчаянии, волосы ее растрепались. Она испугалась еще сильнее, чем тогда, когда я покинул ее. Баронесса приходила довольно рано. Узнав, что меня нет, она оставила записку. Когда Эсме отдавала мне конверт, ее рука сильно дрожала. Я притворился храбрым и попытался успокоить ее. Все уже готово, ей нужно только упаковать вещи – все, что она хотела взять. Тут Эсме залилась слезами и обо всем рассказала. – Она говорила, что меня арестуют. Моих родителей арестуют. Тебя расстреляют! В глубине души я злился на эту женщину, которая трусливо угрожала невинной девочке, но внешне сохранил сдержанность и просто пожал плечами: – Она безумна. Ревнует. Я вскрыл письмо. Оно, без сомнения, отражало непостоянство баронессы. Леда писала, что, возможно, поспешила с выводами. Она обдумала то, что я сказал накануне вечером. Теперь она полагала, что меня ввела в заблуждение «маленькая турецкая шлюха». Эсме, по всей видимости, связана с бандой, которая похитила меня. Если бы я избавился от девчонки тотчас, это, вероятно, спасло бы меня, и баронесса подумала бы о том, чтобы меня простить и, быть может, даже поехать со мной в Берлин и заодно избежать скандала и возмездия. Я должен встретиться с ней в ресторане в десять часов вечера, чтобы мы смогли обсудить, как поступить. Я счел эту резкую перемену скорее неблагоприятной, но решил, что еще одно свидание не повредит. Успокоив баронессу еще на двадцать четыре часа, я наверняка сумею избежать проблем с властями. Я показал записку Эсме. Она не умела читать по-русски. – Разумеется, это шантаж. Но я пойду к ней, чтобы выиграть время. Эсме попыталась успокоиться. – Что же мне делать, Максим? – Как я тебе сказал, нужно сложить вещи в сумки и чемоданы. Завтра нас заберет автомобиль. Все устроено. – Я обнял ее. – Не волнуйся. Будь храброй маленькой обезьянкой. Мы уже на пути в Венецию. Ты всегда хотела путешествовать. Оттуда мы можем добраться до Парижа, если захотим. И до Англии. Там ты будешь в полной безопасности, моя любимая. Это по-настоящему цивилизованные страны. Не то что Турция. Но убедить ее мне так и не удалось. Когда наше спасение стало реальным, она, по-моему, начала нервничать. Ведь ей был знаком только Константинополь. Здесь она могла выжить. А как она будет существовать в другой стране? Я понимал ее тревогу. Я чувствовал то же самое, покидая Одессу. – Все будет в порядке. Мы будем счастливы. – Я пытался ее приободрить. – У баронессы есть друзья в этих странах. – Эсме явно беспокоилась. – Нас арестуют, Максим. – У нее нет никакого влияния. Это бессмысленно. Она может причинить только мелкие неприятности. Она напрасно решила, что способна навредить. Подобные люди никогда не доставляют больших проблем. Мы будем путешествовать как Максим и Эсме Корнелиус, британские подданные. Она об этом не узнает. Эсме вновь попыталась взять себя в руки, хотя настроение ее оставалось далеко не радужным. Я рассмеялся и поцеловал ее: – Через неделю мы отправимся на прогулку по Елисейским Полям. У тебя будет новое парижское платье. Она сказала: – Может, лучше сначала поехать в Афины? Или в Александрию? Это меня позабавило: – Ты настоящее дитя древнего мира. Неужели тебе так трудно расстаться с ним? Малышка, нам нужно думать о Лондоне и Нью-Йорке. Тебе не следует ничего бояться. Я всегда буду защищать тебя. Она покачала головой и снова чуть не разрыдалась: – Однажды тебя уже схватили. А если такое случится в Венеции… – В Венеции ничего подобного не случится. Там по-настоящему цивилизованная страна. Тебе, может, до сих пор неизвестно, что это означает, но ты должна верить мне. Я потратил остаток вечера, успокаивая ее. В конце концов Эсме начала аккуратно доставать одежду из ящиков и шкафов и осматривать ее, как разумная маленькая хозяйка. Потом она медленно уложила свои шелковые платья. Около десяти я поцеловал ее и спустился, чтобы встретиться со своей непостоянной баронессой. В «Токатлиане» собралась огромная толпа. Солдаты в разных мундирах сидели вместе за столами, обнимая девиц за мягкие голые плечи. Оркестр, как обычно, играл отвратительный джаз, а официанты с трудом проталкивались сквозь толпу, отыскивая своих клиентов. Арабы в бурнусахш турки в фесках, албанцы в овчинных куртках, черногорцы в войлочных накидках, черкесы в кожаных тужурках собирались и пели вместе или по отдельности прятались по углам. Русские в великолепных царских мундирах, все как один напоминавшие покойного императора, пробирались с места на место, отыскивая друзей, справлялись о пропавших родственниках, доставали из карманов кольца, ожерелья, маленькие иконы и предлагали их на продажу надменным левантинцам. Эти аристократы научились просить милостыню. На протяжении многих поколений их предки, презиравшие всякую торговлю, смотрели свысока на влиятельных финансистов и великих бизнесменов. Теперь, опустившись до уровня базарных мальчишек, они повсюду носили свои жалкие товары, потому что не могли заплатить даже за аренду прилавка на рынке. Сначала, в тусклом свете, я не разглядел баронессу, которая уже сидела за столиком у окна. Потом снаружи проехал трамвай, и в ярком свете его фар я увидел Леду. Она надела свое лучшее красно-черное платье и все оставшиеся драгоценности. Ее спина казалась неестественно прямой – баронесса явно нервничала. Она увидела меня и взмахнула рукой. Добравшись до столика, я отметил, как сильно накрасилась Леда в этот вечер. Она плакала. – Не надо плакать, – сказал я. – Страх помрачил твой разум. Ты сделала слишком поспешные выводы. – Не думаю, что упустила что-то важное, – твердо сказала она. – Ты не должен лгать мне, Максим. Если хочешь спастись, поклянись, что с этих пор будешь говорить мне правду и только правду. Я расслабился, изобразив оскорбленную гордость: – Моя дорогая Леда, я не желаю, чтобы кто-то расспрашивал меня о моих планах! Я полагал, что моего слова вполне достаточно. За последние дни я вытерпел уже достаточно допросов! – Но ты должен сказать мне правду, – настаивала баронесса. – Ты клянешься? Я склонил голову: – Если тебе угодно, хорошо, клянусь. – Я должна точно знать, на каком крючке она тебя держит. Ты такой впечатлительный! Она могла завлечь тебя в любую ловушку, пойми. Ты боишься ее? – Конечно нет. – Ты говорил, что скажешь правду. Я неохотно сообщил баронессе то, что она хотела услышать. Зачастую людям только этого и надо. – Я немного побаиваюсь, – признался я. – У нее есть родственники в Константинополе. Возможно, они преступники. – Она намекала на что-то подобное. Несомненно, они связаны с турецкими мятежниками. Они угрожали выдать тебя? Она ничего не знала об участии Синюткина в моем похищении. Я думал, что лучше не сбивать ее с толку. – Я отправился в Скутари, чтобы встретиться с графом. – Подошел официант, и я понизил голос. Леда заказала легкие закуски. – Там меня связали и засунули в автомобиль. А потом повезли вглубь страны! – И ты не заподозрил ее? – Мне это даже в голову не приходило. На лице Леды теперь появилось выражение, которое мне было плохо знакомо: смесь высоконравственной настойчивости и развращенности. Видимо, я не был далек от истины, когда предположил, что она безумна. И теперь мне еще сильнее, чем прежде, захотелось разыграть ее. – Выходит, вот как они узнали, где меня искать… – пробормотал я удивленно. – Именно! Она второразрядная мелкая Мата Хари. Вероятно, она была их агентом в течение многих лет. Она притворяется невинной жертвой. Это самая лучшая маскировка. Признаюсь, меня она тоже поначалу обманула. Но когда вчера вечером я увидела, насколько ты потрясен, обо всем догадалась. Я не думал, что сама баронесса в полной мере поверила этому объяснению. Но, как говорится, русский, найдя разумное обоснование, готов действовать. Теперь, предположив, что меня обманули, баронесса смогла все объяснить. Она искала злодея – и нашла. Леда не хотела со мной расставаться, и в итоге Эсме пришлось стать чудовищем, которым еще вчера казался я. – Мне нужно соблюдать осторожность, – пробормотал я, – если хочу от нее сбежать. – Ты должен немедленно пойти к англичанам. Они пожелают узнать о мятежниках. Я сомневаюсь, что они доверяют информации, полученной от султана. В нынешнем правительстве половина чиновников – младотурки, уже поддержавшие националистов. Все прочие на содержании у французов и итальянцев. Мне доподлинно об этом известно. Ты должен пойти завтра в гавань и узнать, на месте ли «Рио-Круз», или когда он вернется. Капитан Монье-Уилльямс сведет тебя с нужными людьми. Леда забыла, что наш корабль совершил последнее плавание в этих водах. «Рио-Круз» уплыл навсегда. Но я снова промолчал. Бедняжка наполовину обезумела, в значительной степени, подозреваю, от недостатка сна и кокаина, поскольку я больше не снабжал ее наркотиками. Баронесса нахмурилась. Она почти ничего не ела. – Миссис Корнелиус что-то знала об этой девчонке? Кажется, она заранее подготовила список вопросов. – Немного. Она тоже пыталась меня предупредить. Баронесса покровительственно вздохнула: – О Симка… Ты еще совсем ребенок. Тебя ввели в заблуждение. Как ты мог позволить ей подобное? – Она напомнила мне Эсме Лукьянову, девушку, на которой я должен был жениться. Из расшитой бисером сумочки Леда достала надушенный носовой платок и приложила его уголок к глазам. – Ты слишком романтичен, мой дорогой. Но посмотри, куда это тебя привело. Она попросила у тебя защиты. Наверное, это означало знакомство с влиятельными людьми? – У нее ничего не было, понимаешь… – Ничего! – Баронесса расхохоталась. – Она, вероятно, зарабатывает больше самого султана, продавая наши тайны своим хозяевам в Анкаре. Вот почему она попыталась меня обмануть, когда решила, что тебя заманили в ловушку и увезли навсегда. Она хотела добраться до графа Синюткина. Она, возможно, даже добилась успеха. Бедняга просто исчез. – Так я и понял. Упоминание о графе заставило меня внезапно развернуться, как будто он мог оказаться у меня за спиной. Но вместо Синюткина я заметил у бара щегольски одетого бимбаши Хакира, поглощенного беседой с французским офицером. Турок мельком взглянул на меня, а потом продолжил разговор. Я по-настоящему заволновался, поняв, что поймана не вся банда. Они знали, кто их разоблачил, и могли отомстить. – Здесь я не чувствую себя в безопасности, – сказал я Леде. – Зайдем ненадолго ко мне. Мы сможем поговорить как следует – там меньше вероятности, что нас подслушают. Она согласилась без всяких колебаний. Я оплатил счет, и мы медленно вышли, покинули душный ресторан и окунулись в относительно прохладный воздух Гранд рю. Мимо нас проехала процессия закрытых конных экипажей. Повозки заполонили улицу. С обеих сторон шагали турецкие солдаты в парадной форме. Этот таинственный караван скрылся у Галатской башни, и на улице снова появились обычные трамваи, телеги, легковые автомобили, как будто внезапно открылись невидимые ворота. Яркий свет газовых и электрических фонарей, завывания ужасной музыки, аляповатые вывески и постоянный скулеж нищих – все это внезапно пробудило во мне ностальгию. Я мог понять нежелание Эсме покидать этот город, в котором она выросла. Я был бы рад остаться здесь ради своей же пользы и чувствовал, что непременно вернусь, когда турки исчезнут и править будут греки или русские. Возрождение Православной церкви приведет сюда паломников со всех континентов. Но уменьшит ли новый порядок восточную притягательность Константинополя? Когда мы с баронессой проходили мимо небольшого кладбища, поблизости от нас прозвучало несколько пистолетных выстрелов. Я услышал свистки полицейских. Это были вполне обычные звуки для ночной Перы, и никто из нас никогда не обращал на них особого внимания, но в тот раз я отреагировал куда более нервно, чем обычно. Я начал озираться по сторонам, изучая переулки, мимо которых мы проходили. Из одного выглянул мрачный майор Хакир. Турок выставил вперед револьвер. В другом месте я увидел выпрыгивающих из темноты башибузуков. Со всех сторон нас подстерегали опасности. Ночь была теплой и сырой, но на моей шее выступил холодный пот. Я несказанно обрадовался, когда мы добрались до квартиры. Здесь Леда буквально бросила меня на кушетку, не в силах справиться с наплывом внезапной жадной похоти: – Я люблю тебя, – заявила она. – Я не могу видеть, как ты страдаешь, Симка. Когда мы разделись, я решил, что это вполне разумная плата за двадцать четыре часа отсрочки. Я задумался: не сменит ли она пластинку, если я поступлю в соответствии с ее планами. От трудностей жизни в этом городе ее ум помутился. К счастью, я понял это прежде, чем предложил ей отправиться в путешествие вместе со мной и Эсме. Леда могла бы причинить гораздо больше вреда, если бы решила осудить меня на Западе, в другой стране. Я с меньшим восторгом, чем обычно, подчинялся ее желаниям, объясняя отсутствие интереса тем, что боялся Эсме и ее друзей-националистов. «Токатлиан», очевидно, стал рассадником революционеров, безжалостных авантюристов и отчаянных мужчин и женщин самых разных типов. Я не мог больше там оставаться. Я сказал, что перееду в эту квартиру. Потом я сообщу властям о наших подозрениях касательно Эсме. – Но что если она догадается? Я по-настоящему развлекался, позволяя баронессе обсуждать множество вариантов предательства моей любимой Эсме. Если бы я был циничен, то мог бы подумать, что все женщины – бессовестные предательницы. Очень многие из них рассуждали об этике и порядочности только для того, чтобы поддержать свой авторитет, когда им это требовалось, чтобы добиться власти или, как в данном случае, чтобы угрожать другим людям. ВКонстантинополе все цеплялись за самую ничтожную власть и, как следствие, все продавались. Женщины, рабы, слуги – все плели заговоры и ссорились в тени султанского дворца. Уже за несколько лет до того Абдул-Хамид, последний истинный османский император, обладал неограниченной властью, и все же постоянно носил при себе пистолет. Если беспокоили его, злили или пугали, он зачастую просто стрелял. Миллионы душ находились в его полном распоряжении. Такая абсолютная тирания приводит к тому, что подданные жаждут власти над каким-нибудь слабым созданием, будь то животное или ребенок. И в результате Константинополь стал городом, в котором обитало великое множество собак. И чем меньше власти было у людей, тем больше псов они держали. В ту ночь, возвращаясь к Эсме, я с трудом оправился от потрясения: на какое лицемерие способна женщина, одержимая ревнивым желанием удержать мужчину! И все-таки я немного восхищался баронессой, даже несмотря на то, что она производила забавное впечатление – как человек, хитрости и отговорки которого прозрачны и поэтому безопасны. Когда я пришел, застал Эсме в состоянии ступора. Повсюду была разбросана одежда, чемоданы остались несобранными. Эсме сидела посреди груды платьев, она казалась бледной и напуганной. Ее прекрасные волосы спутались, глаза покраснели. – Я не знаю, что делать, – сказала она. Ее потрясла перспектива отъезда. Я спокойно начал сворачивать плащи и платья и укладывать их в чемоданы. Эсме беспомощно наблюдала за мной, как будто я собирался ее бросить. – Я не верю, что это разумно, – произнесла она. Я объяснил, что баронесса намерена выставить ее шпионкой. Я посмеялся над этим. – Мы уедем прежде, чем она успеет нам навредить. Тут Эсме снова начала негромко всхлипывать. Я едва не разозлился по-настоящему. Она вела себя как капризный ребенок. – Послезавтра, – обещал я, – ты станешь Эсме Корнелиус. Они будут искать румынскую девочку по фамилии Болеску. Даже твои родители не узнают, где тебя найти. – Но им нужно знать! Мы должны послать им денег. – Я уже все подготовил. Теперь они будут получать еще больше. – Я решил сказать и сделать все возможное, лишь бы успокоить ее. – Я смогу их повидать, прежде чем мы уедем? Я заколебался. Я не хотел рисковать и снова разлучаться с Эсме. – Так и быть, мы навестим их завтра утром. – Лучше я пойду одна. – Это слишком опасно. Кажется, она все поняла и несколько оживилась, даже помогла мне упаковать кое-какие вещи. За полночь мы были готовы бежать в любой момент. Мы проспали до восьми, а затем отправились на квартиру, которую снимали ее родители. Было светлое, хотя и туманное, утро. Константинополь излучал свое знаменитое сияние – чудесное, тусклое, пастельное. Улицы казались приятными в этом свете. Мы несли два чемодана с одеждой, от которой Эсме отказалась. Она хотела отдать вещи своей матери. Хотя я и боялся, что мы останемся без денег, прежде чем доберемся до Венеции, я согласился дать ее родителям еще пару соверенов. Дряхлая пара приняла нас с обычным равнодушием. Господин Болеску уже купил себе новый костюм, который быстро запачкал в какой-то местной сточной канаве. Мадам Болеску разделывала рыбу на столе. Эсме поцеловала мать. – Мы уезжаем в отпуск, – сказала она по-турецки. – Я хотела оставить тебе эту одежду. Женщина кивнула и вытерла рот рукавом. Внезапно она посмотрела на меня и усмехнулась. На меня это произвело отвратительное впечатление – каменное лицо оказалось невероятно подвижным. Оскалились клыки, желтые и черные, из горла вырвалось что-то похожее на птичий свист. – Доброго пути, мсье, – сказала она. Эсме хотела остаться. Она попыталась заговорить с отцом, но тот дремал в углу и не мог ее услышать. Она обняла мать. Мадам Болеску потрепала ее по спине, продолжая улыбаться мне: – Она хорошая девочка. – Она очень хорошая девочка. Она получит образование в Париже. Гротескное существо сочло эту фразу еще более забавной. Очевидно, я казался ей большим шутником. Женщина по-французски посоветовала Эсме повеселиться. Жизнь коротка. Ее не следует тратить впустую. Мы кажемся очень милой парой. Она должна слушаться, потому что вряд ли найдет еще такого же доброго джентльмена, как мсье. Потом мадам Болеску что-то добавила по-турецки. Эсме кивнула и поклонилась, прикусила верхнюю губу и ненадолго оживилась. Вскоре приступ сентиментальности прошел, и она покорно вложила свою руку в мою, как будто мы собирались позировать для фотографии. Мы на некоторое время застыли в этой позе, а женщина, не переставая аккуратно потрошить рыбу, разглядывала нас. Солнечный свет пробивался в комнату, его лучи касались пыльных некрашеных полов и кровавого, зловонного стола. Рыбьи глаза сверкали, как алмазы. На обратном пути мы остановились, чтобы купить Эсме фисташек и миндального печенья. Она вела себя так, будто я тащил ее в тюрьму. Продавец пожал плечами, притворяясь, что ищет сдачу, постучал по своему прилавку, подзывая мальчика, а я посмотрел на маленькую тенистую площадь, где бананы, как огромные грибы, росли вокруг позеленевшего медного фонтана. Там на деревянной скамье сидел смуглый турок. На нем были строгий европейский костюм и феска. Турок пристально посмотрел на меня. Я потянулся к бедру. В тот день я захватил с собой револьвер. Не следовало изображать идиота и бродить без оружия, учитывая, что друзья графа Синюткина были повсюду. Я ни разу в жизни ни в кого не стрелял и поэтому сомневался в том, что смог бы точно прицелиться. Я оставил продавцу сладостей несколько монет и поторопил Эсме. Она с тревогой обернулась ко мне, и я сказал, что за нами следят. Когда мы вернулись в «Токатлиан», Эсме начала дрожать от страха. Она умоляла, чтобы мы поехали на поезде. Ей становилось дурно всякий раз, когда поднималась на паром. Неужели нет другого способа покинуть Константинополь? – О да, – жестоко ответил я, – есть несколько других способов. Но чтобы ими воспользоваться, нужно умереть! Ты хочешь присоединиться к «невестам Босфора»? Всего несколько дней назад англичане отправили водолазов на поиски потерпевшего крушение корабля. Те сообщили, что на дне огромное количество тел, все они замотаны в мешки и опутаны цепями. Тела в основном принадлежали девочкам, которые разонравились Абдул-Хамиду, и вряд ли в этом подводном лесу обратят внимание на еще несколько таких же тел. Попросив меня не повышать голос, Эсме заявила, что я напугал ее еще больше. Я смягчился. Я усадил ее к себе на колени. Я рассказал ей о прошлом Италии, радостях Франции, монументальных достопримечательностях Великобритании. – И все эти страны – христианские, – сказал я. – Все они католические. Тебя никогда больше не будут преследовать. Никто не сможет угрожать тебе, не сможет продать тебя в гарем или заставить работать на миссис Унал. Эсме вытерла слезы и посмотрела на меня, удивленно вздохнув: – Это вроде бы скучно. – Ты плохая, плохая девочка! – Я поцеловал ее. – Мать сказала тебе правду. Ты вряд ли отыщешь кого-то добрее меня. Ты должна слушаться! Казалось, это подействовало. Она развеселилась и начала собирать свою косметику, которой у нее скопилось великое множество, аккуратно укладывать разнообразные флакончики и баночки в плетеную корзину, которую я купил у Симсамяна на Гранд рю. К вечеру мы уже окончательно собрались. Я помчался в «Византию», где встретил баронессу, сидевшую за стойкой администратора. – Все устроено, – сказал я. – Сегодня вечером я встречаюсь с офицером из британской разведки. Она пришла в восторг: – Ты хочешь, чтобы я отправилась с тобой? – Я должен пойти один. – Когда я тебя увижу? – У тебя в комнате, сегодня поздно вечером или завтра утром. Когда я уходил, она меня поцеловала – взволнованная заговорщица, неопытная леди Макбет. Я едва сдержался. Не зная, объявлен ли комендантский час, я заказал автомобиль сразу после наступления сумерек. Два нанятых мной албанца отнесли наши вещи к ожидавшему внизу «мерседесу», а Эсме, бледная и дрожащая, в совершенно неуместном коротком шелковом платье и отороченном мехом зимнем пальто, стояла, спрятав руки в горностаевую муфту. Вдобавок она надела одну из своих самых больших и самых безвкусных шляп. По крайней мере, с облегчением подумал я, она выглядит вдвое старше своих лет. Я нес свой чемодан с чертежами. В нем хранилось мое будущее и мое состояние. Автомобиль едва протиснулся в узкий мощеный переулок, и все же его почти тотчас же окружила толпа беспризорников. Некоторые из них явно были не местными, они свободно говорили по-русски. Я уже привык к этой новой породе светловолосых нищих. Как раз в тот момент, когда Эсме наклонила голову, чтобы сесть в автомобиль, я посмотрел на другую сторону переулка, решив, что к нам движется потенциальный убийца. Но оказалось, что это всего лишь маленькая турецкая девочка лет шести. Она только что облегчилась прямо у крыльца и теперь поправляла одежду. Она обернулась с радостной улыбкой, как будто услышала знакомый голос, потом увидела меня, и выражение ее лица изменилось. Девочка тихо заплакала. Я сел в машину вслед за Эсме. Оставалось еще несколько часов до нашего отъезда в Венецию, но я думал, что следовало поторопиться. Шофер нажал на газ, и дети разбежались в разные стороны. Когда мы выехали на Гранд рю, я посмотрел назад. Нас не преследовали. Опустив занавески на стеклах автомобиля, я заметил, что Эсме, сидевшая рядом со мной на широком кожаном сиденье, начала дрожать. Я заволновался – неужели она в самом деле была больна? Похоже, у нее немного поднялась температура. Как только мы приедем в Венецию, подумал я, нужно будет показать Эсме хорошему доктору, даже если на это придется потратить последние деньги. К тому моменту как мы достигли малого причала и заставили шофера остановиться как можно ближе к ограждению, моя девочка совсем побледнела. Я гладил ее по руке. Шофер по моей просьбе принес ей шербет из ближайшего кафе. За барьером до сих пор стояли таможенники, но они уже начинали собираться по домам. Они болтали, курили, обменивались шутками. Скучающие британские и французские военные полицейские блуждали тут и там, причина их присутствия оставалась тайной даже для них самих. Темная вода была покрыта нефтяной пленкой, отражавшей свет керосиновых ламп и вспышки газовых фонарей, из соседнего бара доносился глухой стук турецких барабанов. Появилось немало моряков, их заинтересовал наш лимузин. Я опустил занавески. Эсме по-прежнему дрожала рядом со мной, потягивая шербет и не отводя пустого взгляда от шеи сидевшего впереди безразличного шофера. Один из моряков небрежно потянул дверь на себя, но я придержал ее изнутри. Когда я выглянул наружу в следующий раз, корпуса нескольких больших судов загородили от меня значительную часть гавани. Нам с Эсме следовало пройти через большие железные ворота, чтобы добраться до причала. На посту стоял один охранник, итальянец, и капитан Казакян попросил его не слишком внимательно изучать наши бумаги. Через некоторое время я увидел вспышки карманного фонарика в нескольких ярдах от причала. Охранник-итальянец прислонил свою винтовку к воротному столбу и повернул ключ в замке. Еще через несколько минут на другом конце улицы появился большой гужевой шарабан. Он, подобно катафалку, проехал по мощеному тротуару и остановился прямо у ворот. Прибыли другие пассажиры Казакяна. Он устраивал ночные рейсы в Венецию якобы для того, чтобы справиться с конкуренцией со стороны больших кораблей. Нам следовало выходить из автомобиля. Я приказал водителю ждать на месте, пока не заберут на борт наш багаж, потом перешел через дорогу. Эсме цеплялась за мою руку. Она едва не упала в обморок, когда итальянец притворялся, что осматривает наши документы и печати. Наконец он позволил нам пройти. Когда он обратился к Эсме по-английски, она ничего не поняла и в панике уставилась на охранника. Я потащил ее к причалу. К тому времени у меня по-настоящему скрутило живот. Я никогда прежде не испытывал подобного страха. Я все еще ожидал, что в любой момент из темноты может появиться легковой автомобиль и в нас начнут стрелять. Такие убийства в Константинополе в то время были совершенно обычным делом. Аль Капоне не придумал ничего нового. Лишь когда мы присоединились к группе пассажиров, направлявшихся к кораблю, я немного расслабился. Двигатели медленно работали, корабль приблизился к причалу. Спустили трап. Судно Казакяна оказалось колесным пароходом девятнадцатого века, на верхней палубе которого под дырявым тентом стояли деревянные скамьи. На нижней палубе обнаружилось несколько более-менее пристойных спальных мест. Пароход мог делать не больше трех-четырех узлов и вряд ли предназначался для морского плавания. Но на самом деле корабль был гораздо лучше, чем казалось на первый взгляд. Это, по крайней мере, я узнал еще во время работы на нем. Капитана Казакяна нигде не было видно. Как только мы заняли места на верхней палубе, я отправился его разыскивать. Сидя у рулевой стойки на мостике, он ел колбасу и пил вино. Капитан подмигнул мне, когда я передал ему сотню соверенов, и почти расчувствовался, осмотрев монеты. Он зевнул и посмотрел на небо. – Похоже, будет хорошее путешествие, мистер Папандакис. Сейчас самое лучшее время года. Я попросил его удостовериться, что наш багаж доставили на борт и переправили через таможню. – Все сделано, – сказал он. – Я видел, как вы приехали. Ваши вещи среди вещей пятнадцати других пассажиров! – Он весело рассмеялся. – Вы на самом деле контрабандист оружия, который использует мою маленькую лодку в качестве транспорта? Или вам принадлежит магазин готового платья? Не волнуйтесь, вещи проверять не будут. Все это чистая видимость. Таможенников не заботят люди, которые уезжают. Их интересуют только те, кто приезжает. И все получают неплохую прибыль. Я услышал, как на улице взревел мотор, затем раздались свист и выстрелы из револьвера. В переулке вспыхнули карманные фонари. Кто-то закричал по-турецки. Потом еще кто-то взвизгнул и бросился бежать. – Что там такое? Казакян отмахнулся: – Кто-то, возможно, не сумел найти денег на проезд в Венецию. Смотрите! – Он выпрямился и вытянул руку. – Ваш багаж. Я с облегчением увидел, что полдюжины греческих и албанских моряков прошли по трапу с нашими чемоданами. – Есть ли шанс, что мы сможем занять одну из кают? – спросил я капитана. – Моя сестра нездорова. Нет, ничего заразного. Он огорченно пожал плечами. Все каюты давно заняты. Но сейчас теплое время года, море спокойно. Мне понравится путешествие. На скамьях можно прекрасно поспать. Успокоенный, я вернулся к Эсме. Но она куталась в свою одежду и в отчаянии смотрела на причал. – Не думаю, что нам следует ехать, – шептала она. – У меня предчувствие. Я посмеялся над ней: – Ты просто расстроилась из-за нашего отъезда, вот и все. Тебе станет лучше, когда мы доберемся до Венеции. – На корабле меня тошнит. – Она встала. – Правда, Максим, мне нужно сойти на берег! Я схватил ее за руку, стараясь не привлекать внимания других пассажиров и опасаясь, что мы можем заинтересовать полицейских, все еще стоявших на причале. В панике я прошипел ей: – Сядь, дурочка! – Ты сломаешь мне руку. – В ее глазах сверкнули злобные огоньки. – Так сядь же! Корабль покачнулся. Двигатели разразились громким ревом. Ветер взметнул навес. Он поднялся, как будто в приветственном жесте. Винты закрутились, и брызги внезапно обрушились на нас со стороны правого борта. Я услышал стук машины и шипение поршней. Едва не потеряв равновесие, Эсме вскрикнула и тут же упала на скамью. Другие пассажиры, закутавшиеся в пальто, были шумными и веселыми, они рассматривали экзотические виды обширной панорамы Стамбула. Дворцы и мечети казались бледно-серыми силуэтами в иссиня-черной ночи. Я заставил Эсме сесть на место. Она начала вырываться и стонать. С ней случилась истерика. Когда другие люди на палубе отвернулись, чтобы посмотреть на огромные очертания мечети Сулеймана, нависшей над портом, я собрался с силами и нанес своей малышке точно рассчитанный, но сильный удар в челюсть. Она немедленно свалилась без чувств ко мне на руки и задышала глубоко, как усталая собака. Мы отходили прочь от причала. К тому времени, когда мы вышли в Мраморное море, паровой катер резко завибрировал. Любопытные ночные чайки пронзительно кричали где-то в вышине, зловещие голоса звучали в гавани и над темной водой. Невидимые корабли подавали неистовые сигналы. Воздух пропитался тяжелым, жарким дыханием Византии: морской водой, ароматами сладких фруктов, пальм и экзотических садов – такой запах мог исходить от дикого зверя, которым и была Азия. От Галатского моста со стороны Перы по-прежнему доносились выстрелы и взрывы, все громче звучали свистки полицейских и вой сирен. Ревели машины. Потом послышались крики – внезапно начинавшиеся и столь же внезапно прерывавшиеся. Наш двигатель загрохотал, как дешевая механическая игрушка, когда катер взял курс на Геллеспонт. Полагаю, что я спас жизнь Эсме, так же как и свою, когда заставил девочку замолчать. Если бы она закричала, нас могли бы арестовать. Теперь катер раскачивался не так сильно, и винты легко рассекали воду. Уровень суши понижался со всех сторон, мы направлялись к Галлиполи и узким проливам, за владение которыми совершенно напрасно отдали свои жизни многие подданные Британской империи. За Галлиполи простиралось Эгейское море, самое священное из морей – там зародилась цивилизация и там было создано учение Христа. Именно Эгейское море взрастило Средиземноморье и Италию, именно здесь Закон и Порядок возникли из Хаоса языческого варварства. Я жалел, что Эсме не может разделить мою радость. Катер скрипел и звенел, двигатель хрипел и визжал, но меня все это не волновало. Я знал: Одиссей возвращался домой! Эсме несколько раз вздрогнула, а потом погрузилась в глубокий, естественный сон. Гораздо позже, когда мы почти достигли Геллеспонта и море стало менее спокойным, Эсме проснулась. Сам я к тому времени задремал. Я услышал, как она стонет и захлебывается. Я не успел понять, что произошло, но тут узнал знакомый запах и почувствовал что-то влажное у себя на груди. Эсме вырвало прямо на меня. У нее было мало общего с миссис Корнелиус, но эта особенность оказалась присуща им обеим. Я счел возникшее неудобство вполне понятной местью за нанесенный удар, поэтому привел себя в порядок, насколько смог, а потом уложил ее голову к себе на плечо и погладил Эсме по лбу, надеясь успокоить. Наверное, такова моя судьба – влюбляться в женщин, которые не отличались крепостью желудка. Звуки и запахи моря чуть заметно изменились, когда мы проскользнули в Эгейское море и прошли поблизости от Лемноса, где располагался большой лагерь русских беженцев. Я с некоторым ехидством подумал, что баронессе с Китти не миновать этого места. Будет жаль, если пострадает девочка, но Леда заслужила ненадолго оказаться в таких условиях. Я подумал, что только тогда она поймет, от чего я. хотел ее избавить и чего она лишилась по причине собственной истеричности и безумной ревности. Я с большим вниманием относился к ее чувствам. Теперь, когда я уехал, она сможет подумать о моих! На следующее утро стало очевидно, что капитан Казакян был не таким уж хорошим моряком. А днем я совершенно ясно осознал, что ни капитан, ни его лодка не готовы к путешествию. Колесный пароход оказался в приличном состоянии, в том смысле, что почти все детали были в полной исправности. Но едва ли это сооружение подходило для морского плавания – оно могло служить только паромом во внутренних водах. Я дважды видел, как капитан разглядывал карты и в старый телескоп смотрел на побережье. Мы никогда не теряли из вида берег. На катере теперь воняло горящей нефтью, и я несколько раз просыпался в тревоге, думая, что начался пожар. Я сделал все возможное, чтобы о моем открытии и моих страхах не догадалась Эсме, которая едва не впала в кому. Чаще всего она лежала на скамье, достаточно редко вставала и, пошатываясь, подходила к краю палубы. Ее постоянно тошнило. Она ничего не ела с самого Константинополя. Пусть мои слова прозвучат эгоистично, но я был этому рад, хотя все сильнее и сильнее беспокоился за нее. Я не мог представить, что человек может так страшно реагировать на самое обычное волнение. Иногда она оборачивалась ко мне и еле слышным голосом спрашивала, не добрались ли мы до места назначения. Мне приходилось качать головой. Все, что я мог ответить: «Скоро». Потом я обычно отправлялся в рулевую рубку и обнаруживал там огромного армянина – он возился с чертежами, хмуро изучал инструменты и вытирал пот со лба грязной кепкой. В ответ на мой вопрос он обычно ворчал что-то, а потом невнятно сообщал, что мы «недалеко от Греции». Признаюсь, мои собственные географические познания также были не слишком обширны, ведь я поверил капитану Казакяну, когда тот заявил, что до Венеции не больше дня пути. Потом, когда я потребовал более определенного ответа, армянин признал, что мы находимся «где-то около Смирны», – а это было самое последнее место, в котором мне хотелось бы оказаться. Он попытался отвлечь меня, показывая на свой, очевидно, неисправный, компас: «Но мы уже на пути к Микенам». Он объяснил, что Микены – греческая территория, остров «неподалеку от Афин». Тем вечером, когда солнце опускалось за таинственную линию мрачных утесов, а Казакян что-то бормотал в унисон со своим двигателем, все еще ломая голову над морскими картами, Эсме спала, а я страдал от голода. Мне не пришло в голову захватить с собой еду. Позже один из пассажиров предложил мне тонкий кусок колбасы и питу. Я с благодарностью принял угощение. Этот крупный человек в черном пальто и черной каракулевой шапке был дружелюбнее и самоувереннее прочих попутчиков (теперь они напоминали собратьев-беженцев, а не туристов). Он назвался мистером Киатосом и выразил полнейшее удовлетворение тем, как идет путешествие. По его словам, он уже несколько раз переправлялся на катере. И всегда все проходило легко. Он был бизнесменом, занимался главным образом сухофруктами, и его кузены жили в Константинополе. Мистер Киатос сообщил, что сам проживает в Ритемо. Обычные пароходы туда никогда не заходили. Если бы он путешествовал по стандартным маршрутам, ему пришлось бы делать несколько пересадок и из-за этого терять много времени. Я спросил его, где находится Ритемо. Оказалось, что на Крите. Капитан Казакян, заметил я, вроде бы настаивал, что мы направимся прямиком в Венецию. Услышав это, мистер Киатос беззлобно улыбнулся: – Думаю, что капитан поплывет куда угодно, если ему заплатят, сэр. И каждому пассажиру говорит, что направляется как раз туда, куда нужно. – Мистер Киатос с удовольствием продолжал жевать колбасу, рассматривая спокойную поверхность моря, а я в это время растянулся на одной из пустых скамеек и погрузился в сон. Я проснулся от ночного холода. Мы медленно двигались вперед в свете великолепной желтой луны. Неподалеку виднелись скалистые утесы, о которые разбивались волны. Море было еще относительно спокойным, но я мог расслышать, как буруны врезались в берега. Фонари на нашем катере покачивались взад-вперед, и человеческие фигуры замирали, склоняясь у поручней. Эсме сидела прямо, вцепившись обеими руками в спинку скамьи, как измученная кукла. Я поинтересовался, стало ли ей лучше. Она попросила немного воды. Я спустился в камбуз, где корабельный повар, болгарин, не говоривший ни на одном языке, играл в карты с матросом весьма неприятной наружности. Я знаками объяснил повару, что мне нужна вода из бочки. Он широко взмахнул рукой, словно предлагая мне угощаться. Вымыв кружку, я принес Эсме воды. Моя девочка сделала глоток, поперхнулась, а потом спросила, не тонем ли мы. Я расхохотался: – Они сейчас высадят пассажира на берег, вот и все. Незначительная задержка. Пройдет немного времени, и мы будем в Венеции. Она закатила глаза, как богооставленная мученица, а затем опять забылась сном. Похоже, Эсме лихорадило. Я смочил ей лоб остатками воды и заметил, что моя рука дрожит. Я заставил себя успокоиться. Под вопли и проклятия капитана Казакяна матросы подвели корабль поближе к берегу. Они спустили на воду одну из шлюпок. Поставив на палубу кожаный саквояж, мистер Киатос шагнул ко мне, чтобы на прощание пожать руку. Я был погружен в свои мысли и не сразу заметил его. – Здесь я покидаю вас, сэр. – Он сочувственно улыбнулся. – Надеюсь, что вскорости вы прибудете в Венецию. Он наклонился и положил на скамью рядом со мной оставшуюся еду и небольшой пакет сушеных фиг. Я увидел, как он изящно перебрался через бортовое ограждение, потом я очнулся окончательно и смог дойти до поручней. Матрос по неспокойному морю вез его к берегу. Я помахал мистеру Киатосу, но он меня не заметил. На мгновение я задумался о том, почему мы не подошли к городской пристани. Потом мне пришло в голову, что мы, вероятно, находились недалеко от дома мистера Киатоса, и Казакян не хотел платить портовый сбор. А может статься, мистер Киатос был контрабандистом. Утром корабль, дрожа и скрежеща, плыл по спокойному морю под чистым синим небом, а я пытался заставить Эсме съесть несколько бисквитов и выпить молока – все это мне дала одна итальянка. Земля почти скрылась из поля зрения, и поэтому капитан Казакян прилагал безумные усилия, чтобы приблизиться к тому, что, по его предположению, могло оказаться Гидрой[277]. Он поддавался панике, если земля хоть на несколько минут исчезала из вида. Я, со своей стороны, погрузился в особое оцепенение, которое за эти годы помогло мне перенести немало приступов скуки, а иногда и страха. Я сидел, положив себе на колени горячую головку бедной маленькой Эсме. Я смотрел вперед, следил за облаками и молился, чтобы не начался шторм. К тому времени я уже убедился, что корабль не перенесет ничего сильнее шквалистого ветра. Капитан Казакян не зря боялся. Он снова и снова высаживал пассажиров, обычно в загадочных бухтах на безымянных островах. Иногда человек возражал ему, утверждая, что не узнает берега или что перед ним не совсем то место, которое ему нужно. Тогда капитан Казакян пожимал плечами, спорил, мял грязными пальцами окурки, предлагал довезти пассажира до следующей остановки или доставить его в Константинополь. В конце концов обиженные и встревоженные люди все-таки высаживались на берег. Конечно, стало совершенно ясно, что мы не приплывем в Венецию по Большому каналу. Нам еще повезет, если он высадит нас на каменистом пляже меньше чем в десяти милях от города. Такая вероятность, впрочем, меня не слишком беспокоила – важно было избежать внимания властей. Меня также утешало понимание того, что почти все на борту тоже хотели остаться незамеченными. Между нами не возникало никаких конфликтов, но очень немногие попутчики пытались общаться друг с другом. Казалось, мы одинаково воспринимали наше тяжелое положение. Что бы мы ни сказали, это не улучшило бы нашей ситуации, поэтому мы ничего не говорили. Самая сложная проблема, которая встанет перед нами по прибытии в Италию, – это доставка наших вещей в город. Ни на одной из пристаней капитана Казакяна не было носильщиков. Я не хотел рассказывать о своих треволнениях моей маленькой девочке. Ее лихорадка ослабела после того, как мне удалось заставить Эсме принять немного кокаина. Укрепляющие свойства зелья проявлялись почти всегда, и в этот раз кокаин помог привести мою Эсме в чувство. Теперь мне удалось заставить ее съесть немного фиг и колбасы мистера Киатоса. Мы могли рассчитывать только на пищу, которую удавалось выпросить у других. Если бы не доброта наших спутников, мы бы погибли от голода. У Казакяна и его команды были какие-то запасы, но они не собирались их делить с теми, кого явно считали балластом. Они гораздо лучше относились бы к скотине. На следующий день Эсме снова полегчало. Она выглядела слабой, ее глаза оставались мутными, как у раненого животного, но она уже могла двигаться и говорить. – Где мы сейчас, Максим? – Неподалеку от Венеции, – сказал я. На небе виднелось лишь несколько почти незаметных облачков, море казалось каким-то декоративным озером. Двигатель ровно работал, вертя колеса парохода, и зеленые отблески вспыхивали на металлических поверхностях, когда брызги воды летели на пассажиров. Как будто боги благословляли нашу одиссею, по крайней мере в тот миг. Я сидел со своей возлюбленной под грязным навесом и держал ее за руку, бормоча полузабытые греческие легенды о тайнах и сокровищах венецианцев, о чудесах техники, которые мы отыщем в Европе. Тем временем капитан Казакян вышел на палубу и, покосившись на нас, растянулся на настиле в стороне от навеса. Раздевшись до пояса и закурив сигарету, он нежился в солнечных лучах. Иногда он поворачивал к нам свою массивную голову и ободрительно замечал что-то вроде: «Все под контролем. Осталось еще несколько часов». Эти слова были бессмысленны. Капитан расслабился, потому что узнал побережье Кефалонии и недавно заметил несколько больших кораблей. Каждый раз при виде крупных судов капитан Казакян приветствовал их веселым свистом. Чем ближе мы подплывали к земле, тем больше появлялось кораблей и тем счастливее он становился. Покидая Константинополь, мы шли под турецким флагом, но теперь подняли греческое знамя. Тем вечером, как только стемнело, мы высадили трех пассажиров и приняли на борт еще нескольких. Все вновь прибывшие оказались мужчинами средних лет, они шагали широко и самодовольно – я подумал, что это преуспевающие бандиты или коррумпированные полицейские. До рассвета они стояли возле рулевой рубки, болтая с капитаном, а позже – с боцманом. Они не обращали внимания на других пассажиров и никогда ни на кого не смотрели прямо. Для подобных типов зрительный контакт – оружие, средство угрозы или убеждения. Они не тратили впустую сил на случайных знакомых. В конце концов к нашему кораблю приблизилось маленькое парусное судно, эти люди уплыли на нем по направлению к Корфу (так сказал Казакян, который, похоже, очень обрадовался их отъезду). Он заверил меня, что мы будем в Венеции завтра. Он кивал мне так, словно я был безмолвным ребенком. «Да, – повторял он с улыбкой. – Да». На следующий день около полудня внезапно умолк двигатель. Я сначала предположил, что мы делаем еще одну остановку. Судно дрейфовало под медным небом, оставляя туманную землю по правому борту. Эсме лежала у меня на коленях, глубоко дыша, и мир был полон тишиной. Я наслаждался этим ощущением, пока из рулевой рубки капитана Казакяна не донеслись крики – он отчаянно ругался на всех языках Леванта и Средиземноморья. Я видел, что по палубе промчался механик. Он махал руками и вопил. Я поднялся. Густой черный дым повалил из небольшого машинного отделения, его клубы поползли к нам. Это выглядело угрожающе. Как будто некое разумное сверхъестественное существо готовилось сожрать нас, если мы пошевелимся. Несколько мгновений спустя Казакян покинул свой пост и, не отводя взгляда от облака, как будто испытывая то же, что и я, медленно зашагал в нашу сторону. Он усмехался, качал головой и непрерывно жестикулировал – верный признак настоящего ужаса. – Благодарю Бога, что вы с нами, мистер Пападакис. Вы – единственный, кто может помочь нам решить эту проблему. Вы гениальный механик. Все в Галате так говорят. Я это знаю. Его похвалы были просто вступлением, и я мужественно их терпел, ожидая, когда Казакян перейдет к делу. – Не взглянете на наш двигатель? – спросил он. Эсме снова перепугалась. Хотя ярко светило солнце, она застегнула пальто и прижалась к спинке скамьи. Я неохотно последовал за Казакяном в крошечное машинное отделение, прикрыв рот и нос платком. Я остановился, почувствовав, что упираюсь в почти осязаемую стену жара. Я приказал отключить все машины и попытался обнаружить проблему. Двигатель был типичным в своем роде – собрали его не на заводе, а работали с ним люди, которые относились к машине скорее с суеверием, чем с пониманием. Его столько раз чинили, что там, похоже, не осталось ни одной из первоначальных деталей. Я привык разбираться в той необычной логике, которая связывала отдельные части машины, – следовало приноравливаться к причудам чужого ума. Никакие инструкции, никакие книги мне помочь не могли. Через некоторое время выяснилось, что заклинило один из поршней. Я начал разбирать всю примитивную систему, прочищая все детали. Двигатель работал на любом топливе, которое удавалось найти, его латали тряпками, кусками металла, даже остатками банок из-под солонины. Паровой котел был настоящим кошмаром, его спаяли из разных металлических обломков. Я тщательно все собрал заново и отдал приказ запустить мотор. К моему огромному облегчению, двигатель заработал лучше прежнего. Я не собирался становиться каким-то мелким Дедалом для здешнего захудалого Миноса. Восхищенный капитан Казакин настоял, чтобы я зашел к нему в каюту. Оказалось, что это всего-навсего небольшой закуток позади рулевой рубки. Пахло здесь еще хуже, чем в других частях корабля. Капитан хотел выпить немного арака. Но к тому времени я уже успокоился. Я тотчас сказал, что должен посмотреть, как дела у моей сестры. Темнело. Эсме, дрожа, сидела на скамье, на которой я ее оставил. Я уже измучился и переволновался. Я хотел добраться до Венеции, прежде чем с лодкой еще что-нибудь случится. Я возвратился в каюту Казакяна и сказал, что у Эсме, кажется, сыпной тиф. Его это поразило. Капитан застыл в нелепой позе – он как будто подозревал, что сам, лично заразил Эсме тифом. Потом энергично начал уверять меня, что она просто страдает от морской болезни. Тут я потерял терпение: – Вы понимаете, я думаю, что могу не только снять проклятие, наложенное на двигатель, но и навести порчу. Я могу остановить корабль, не сходя с места. Он посмеивался надо мной, но я, очевидно, произвел на него впечатление. Полагаю, он был слишком суеверен для того, чтобы рисковать. Вдобавок я оказался для него настолько полезен, что он решил меня утихомирить. Казакян позвал боцмана и приказал перевести Эсме в одну из недавно освободившихся кают. – Без всякой дополнительной оплаты, – сказал он мне с таким видом, как будто проявлял чрезмерную щедрость. В душной каюте стояла кровать с одной-единственной грязной простыней, но это все же было гораздо лучше, чем скамья. Уложив хрупкое маленькое тело Эсме на койку, я заставил всех остальных выйти, а потом раздел и вымыл свою девочку. Она проснулась и не сопротивлялась. Без всякого интереса она выслушала мои слова о том, что двигатель работает нормально и наше путешествие подходит к концу. – Завтра мы увидим итальянский берег. У меня все под контролем. Я сказал, что отыщу ей доктора, как только мы сойдем с корабля. Ночью Эсме успокоилась. К утру лихорадка отступила. Я оставил ее одну на то время, которое потребовалось, чтобы выпить кофе в камбузе и напомнить капитану Казакяну о своей угрозе. Он взмахнул руками и пожал плечами. – Туда мы и идем! – воскликнул он, как будто я был неблагоразумным требовательным ребенком. – Туда и идем. Разумеется! Я оставался с Эсме до вечера, не давая себе заснуть с помощью кокаина. Примерно в девять в дверь постучали и вошел капитан Казакян. Он широко улыбался. Его настроение совершенно переменилось. Я предположил, что он теперь разобрался, где находится корабль. – Сегодня вечером, – сказал Казакян. – Да. Точно сегодня вечером. В Венеции. Ваша сестра сможет сойти на берег? – Где вы нас высадите? – Недалеко от Венеции. В деревне. Вы сможете сесть на поезд. Всего полчаса пути. – У меня почти нет денег, капитан Казакян. Я не могу позволить себе новые расходы. Вы обещали доставить меня прямо в Венецию, помните? Он поскреб затылок, явно смутившись, и сунул руку в карман засаленного жилета, когда-то украшенного красивой вышивкой. Поколебавшись, он извлек три соверена. – Вот, возвращаю… За то, что помогли нам с двигателем. Денег хватит на проезд до Венеции. Это была смесь задабривания и жертвоприношения богам, неохотное подношение духу, который следил за паровыми катерами. Я принял его золото. Оно было моим по праву. – Мои люди отведут вас в эту деревню, – решительно заявил он. – Вы найдете там хорошего доктора. Итальянцы – превосходные доктора. Их там много. – Он с тревогой посмотрел на маленькое бледное личико Эсме. – Вы уверены, что это сыпной тиф? – Мы спросим доктора. Примерно в три часа утра турки и албанцы начали переносить наши чемоданы и сумки в лодку. В конце концов я решил, что перегруженное суденышко вот-вот утонет, – вода почти переливалась через борт. Мы с Эсме поплыли следом в другой лодке. Пока мы приближались к земле, волнение на море усилилось. Капитан Казакян стоял возле рулевой рубки, спокойно наблюдая за нами. Он не помахал нам рукой. На судне не зажигали огней, но светила полная луна. Мы с легкостью добрались до берега и вытащили на сушу обе лодки. Я обрадовался тому, что снова оказался на твердой земле, и с трудом сдержал восторженный крик. Ночь была теплой. Я чувствовал запах свежескошенной травы и аромат древесной смолы и слышал гудение насекомых. Где-то вдалеке заревел осел. Один из турок внезапно оставил нас. Он пронесся по пляжу и скрылся за дюнами. Остальные продолжали выгружать и укладывать наши вещи, как будто ничего не заметили. Им, похоже, нравилось это занятие. Я благодарно улыбнулся матросам. Коротко простившись, они снова погрузились в одну из лодок. Матросы гребли обратно к катеру, очертания которого мы с трудом разглядели у дальней оконечности мыса. Катер выглядел неуместно в этих водах, как будто он стоял у причала на каком-то курорте, а потом сорвался с якоря и внезапно очутился здесь. Наконец сбежавший турок вернулся. Казалось, он гордился собой. У меня сложилось впечатление, что для всех этих людей подобные дела были в новинку. Неужели Казакян снова положился на удачу? С турком пришел крошечный старик – босой, в черной куртке и брюках, грязной рубашке без воротника. Старик казался удивленным, но весьма веселым. – Buon giorno, signore, signora![278] Он кивал нерешительно, но вежливо. Я хотел обнять этого бедняка. Я едва не разрыдался. Некоторое время я подозревал капитана Казакяна в том, что он собирался высадить нас на первом попавшемся греческом острове. Но теперь я знал, что это Италия! Мы были в безопасности. Осел снова заревел, теперь уже ближе. Старик обернулся и что-то крикнул в темноту. Оставшиеся турецкие моряки и почтенный итальянец понесли наш багаж по пляжу. В конце процессии шагал я, поддерживая шатающуюся Эсме. Мы достигли узкой тропы и там обнаружили небольшую телегу и впряженного в нее осла. В телеге лежали сети и мешок, очевидно, с рыбой. Старик отодвинул мешок в сторону и начал укладывать чемоданы. Когда он закончил, для Эсме осталось место только на передней скамье. Мы помогли ей сесть в повозку. Она, казалось, прекрасно отреагировала на бормотание маленького рыбака. Нет ничего более успокоительного для нервов, чем звучание мягкой и душевной итальянской речи. Мы со стариком стояли рядом, наблюдая, как турки возвращаются к берегу, скрываясь в темноте. Потом, ткнув осла в бок, старик заставил животное сдвинуться с места. Я пошел рядом. Старик говорил только на своем родном языке, я знал по-итальянски всего несколько слов. Я сказал, что благодарен ему за помощь, и выразил надежду, что мы не причинили большого беспокойства. Он ничего не понял, но улыбнулся и сказал, как будто успокаивая: – Son contento che Lei sia venuto[279]. Я указал вперед, туда, где виднелось несколько освещенных окон, и решил, что мы находились ближе к цели, чем утверждал капитан. – Венеция? – спросил я. Он казался удивленным, но только пожал плечами. Я пару раз повторил вопрос, и он нахмурился. – Si. Venezia? – Он добавил несколько фраз, которых я не мог понять. Тогда я спросил: – Dottore?[280] Он вроде бы согласился: – Dottore? Si, si. Dottore! – Он указал своей палкой в сторону горящих огней. – В Венеции? – спросил я. Это вызвало неожиданную реакцию. Он замер, обернулся ко мне, взмахнул руками и залился смехом, с трудом удержавшись на ногах: – Ах! Ах! Венеция! Ах! Он снова попытался указать мне на огни и развеселился настолько, что слова его прозвучали крайне невнятно: – No! La capisco! La citta![281] – успокоившись, он вытянул палку, тыча куда-то вперед. – Отранто, – сказал он. Я никогда не слышал об Отранто и счел ответ старика на свое ошибочное замечание чрезмерно веселым. Городок оказался гораздо меньше, чем я рассчитывал, – с извилистыми улицами, разрушенным замком и несколькими тавернами. Когда мы добрались до Отранто, на горизонте появилась тонкая линия света и с красной крыши донесся крик первого петуха. Судя по византийским очертаниям главной церкви, старый пыльный город мог бы быть греческим, но при взгляде на замок он казался мавританским. Я совсем не это ожидал обнаружить в Италии, этом строго определенном сочетании архитектурных стилей. Как будто тот, кто создал Отранто, желал описать национальные и исторические влияния минувших двадцати столетий. И все же в целом город выглядел вполне гармонично. Я счел его привлекательным. Я думаю, что назвал бы Отранто чудесным, если бы не испытал такого разочарования, обнаружив его на месте Венеции. Город был совсем небольшим, в нем обитали не больше двух тысяч жителей. Однако вскорости мы сняли комнату в небольшой средневековой гостинице, где худощавая веселая женщина взяла на себя заботу об Эсме. Я заплатил старику несколько серебряных монет из тех, которые еще оставались у меня в карманах. Он пришел в восторг. Старик и хозяин гостиницы занялись нашими вещами. Сумок было так много, что они заняли половину крошечной комнаты с низким потолком. К тому времени когда все удалились, Эсме лежала в кровати, наслаждаясь такой роскошью, как свежевыстиранное белье. А я спустился, чтобы позавтракать с хозяевами, которые совершенно по-дружески задали мне множество вопросов. Отвечать я не мог, потому что не понимал ни единого слова. В конце трапезы мы просто улыбнулись друг другу и разными способами выразили взаимное расположение. Я возвратился в комнату, где мирно спала Эсме, ее прекрасное личико было ангельски чистым. Я задернул занавески, разделся, лег в постель, обнял свою возлюбленную и заснул до обеда. Отранто показался мне приютом спокойствия. Я мог бы задержаться там гораздодольше и даже сегодня хотел бы вернуться. Тогда, однако, я стремился добраться до большого города, где мы могли остаться незамеченными в пестрой толпе. Эсме еще спала. Я умылся холодной водой, оделся и отправился на поиски хозяина и его жены. Я отыскал их на скамье за гостиницей. Они ощипывали цыплят. Завидев меня, они громко заговорили. Я по-прежнему не понимал их итальянского, но снова спросил о докторе, объяснив с помощью жестов и нескольких латинских слов, что моя сестра больна. Худощавая женщина первой поняла меня. Она что-то пролепетала своему мужу, который аккуратно отложил своего цыпленка, поднялся и ушел. Головы мертвых птиц смотрели на меня так пристально, словно знали обо мне что-то, неведомое другим. Я спросил женщину, насколько далеко до Венеции. Она пожала плечами и произнесла: «Тreno?» Я решил, что это означает «поезд». Я кивнул. Меня не интересовало, как я доберусь до цели. Казакян сказал, что это займет полчаса, но его слова не вызывали у меня доверия. Женщина произнесла еще несколько фраз, в которых прозвучали слова «Рим», «Неаполь», «Бриндизи», «Фоджа» и еще полдюжины названий. Тогда я начал понимать, что мы могли оказаться гораздо дальше от Венеции, чем я предполагал. Капитан Казакян очень торопился высадить нас со своей лодки, и, по-моему, нам вообще повезло, что мы оказались в Италии. Похоже, что трех соверенов, которые он мне отдал, хватит только на дорогу до Венеции. Я даже пожалел о том, что не мог наложить проклятие на его двигатель. Подумав об этом, я закрыл глаза и попытался представить механизм. Никакого вреда от таких упражнений, конечно, не было. Явился долговязый доктор, который казался слишком юным, несмотря на тонкую бородку, окаймлявшую его лицо. Я с удовольствием обнаружил, что он говорит по-французски. Доктор Кастагальи сообщил, что у Эсме нет ничего серьезного – просто нервное напряжение, оно почти наверняка исчезнет после небольшого отдыха. – Вы долго путешествовали? У доктора были орлиный профиль и большая лысина. Он напомнил мне орла-иезуита. Я сказал, что моя сестра Эсме раньше не уезжала из дома. Наша поездка оказалась довольно утомительной. Он кивнул: – Ей нужно какое-то тихое место. По возможности стоит нанять профессиональную сиделку. – Он нахмурился и добавил: – Но не здесь. Я обрадовался, что Эсме не больна ничем серьезным. Я предложил Кастагальи один из оставшихся соверенов. Он, улыбаясь, отказался от монеты. Он был сельским доктором и не привык к крупным вознаграждениям. Если у меня нет мелких денег, заметил он, то можно уговориться об обмене. Поскольку фигура доктора не слишком отличалась от моей, я отдал ему одно из своих пальто. Оно было на хорошем, толстом меху, вероятно, слишком теплым для здешнего климата, кроме того, рукава пальто оказались явно коротки, но доктор обрадовался. Вместо сдачи он предложил шляпу и шарф. Я сказал, что мне больше пригодилось бы расписание поездов из Отранто. Доктор улыбнулся. Он сделает все возможное. Вероятно, будет лучше, если я сам отправлюсь на станцию. Он спросил, куда я поеду. Я объяснил. Доктор покачал головой. По его мнению, Венеция могла оказаться не слишком здоровым местом для больного ребенка, даже несмотря на то, что Эсме не страдала ничем серьезным. В такое время года в Венеции дурно пахнет и чрезвычайно шумно. Однако он узнает, как лучше всего туда добраться. Вероятно, потребуется пересадка в Фодже. Чтобы предупредить его любопытство (и, возможно, помешать ему сообщить о нас местным карабинерам), я сказал, что был англичанином. Мы с сестрой ехали на Корфу пароходом из Генуи, когда Эсме заболела. По моему настоянию капитан высадил нас здесь. Возможно, поблизости от Отранто есть еще какой-то большой город, кроме Венеции? Доктор Кастагальи ответил, что гораздо легче направиться в Рим или Неаполь, особенно с нашим багажом и с учетом того, что мы возвращаемся в Лондон. Он не думал, что Эсме в ближайшие несколько дней следует пускаться в далекое путешествие. Нужно поселиться в хорошей гостинице, где ей обеспечат все удобства и отдых. Тогда она скоро выздоровеет. Если мне понадобится консультация специалиста (что, по его мнению, маловероятно), то нужно, конечно, ехать в Рим, где «очень современная» медицина. Я сожалел, что не увижу красот знаменитого древнего приморского города, но уже думал, что лучше поехать в Рим и оттуда в Париж. В Париже я смогу раздобыть настоящие документы и затем продолжить путешествие в Лондон. У меня еще оставалось достаточно денег, чтобы оплатить проезд и несколько недель проживания в недорогих отелях. Даже если средства кончатся – что ж, мы в законопослушной стране. Я могу заработать столько, сколько нам нужно. Если Коля еще не уехал в Америку, я отыщу его в Париже. Он поможет мне. Там я встречу и других старых друзей: Санкт-Петербург снова оживет на берегах Сены! Почувствовав прилив оптимизма, я принял решение. Вопреки советам доктора, я поверил, что привычный комфорт, улицы, движение, переполненные кафе излечат Эсме гораздо лучше, чем сельское уединение. Однако я от души поблагодарил доктора Кастагальи – я знал, что он хочет нам добра. Он спросил, может ли еще чем-то помочь. Мне требовалось обменять деньги и купить билеты. Доктор отвез меня на своем пони в городской банк, и там мои соверены превратились в лиры: огромные, великолепные, яркие банкноты. Затем мы пошли к нему домой. Доктор настоял, чтобы я подождал в повозке, а сам бросился внутрь и возвратился с обещанными шляпой и шарфом. И то и другое оказалось хорошего качества. Хотя у меня и было несколько костюмов, пальто и других вещей (впрочем, большая часть нашего багажа принадлежала Эсме), я поблагодарил доктора. На небольшой станции, которая выглядела так, будто стояла в Отранто со времен Христа, я купил два билета первого класса до Рима. Доктор настоял на том, чтобы купить бутылку вина и выпить на прощание. Удостоверившись, что Эсме все еще отдыхает и чувствует себя неплохо, я присоединился к доктору во внутреннем дворике маленькой гостиницы. Мы сели рядом. Старая мраморная скамья, возможно, первоначально стояла на римской вилле. В небольшом саду жена хозяина подрезала розы. Доктор Кастагальи вытянул вперед длинные ноги, его каблуки чертили криптограммы на пыльной земле всякий раз, когда он двигался. Кастагальи рассказывал о своей любви к этому небольшому городу, к месту, где он родился. До некоторой степени я завидовал ему. Все эти годы я мечтал о неприхотливости – единственном даре, которого не дал мне Бог. Однако я испытывал некоторое удовлетворение в тот вечер. Я внимательно рассматривал зубчатые стены мавританского замка и памятник жертвам турок. Османы совершили набег на Отранто в 1480‑м, они убили всех, кого смогли найти. Я успокоился. Теперь мне больше не следовало опасаться ислама, Израиля или, положим, большевиков. Я достиг надежной земли Западной Европы, я повсюду видел подтверждения прогресса, видел цивилизацию, которую всегда хотел изучить. Здесь к подобным вещам относились небрежно, как к капризам погоды, к неизбежным памятникам долгой истории. Оставив прошлое позади, я почувствовал, что вступил в будущее. Я оказался среди этих древних холмов и виноградников и действительно готовился принять участие в величайшем приключении двадцатого века. Ведь эта цивилизация, в отличие от турецкой, не была упадочной. Она продолжала развиваться, она уверенно двигалась вперед, проявляя подобающее уважение к прошлому, но никогда не тоскуя о его возвращении. Я чувствовал огромный контраст между этим миром и рушащимися памятниками ислама, шумными, зловонными, убогими улицами Перы, жители которой отчаянно цеплялись за прогнившие обломки, уцелевшие после катастрофы, обломки, которые нельзя было очистить от грязи. А Италия возрождалась, как она возрождалась всегда! Она была новой, процветающей страной, и здесь с восторгом приветствовали наступление века машин! Возможно, такого не было больше нигде. Величайшим героем Италии стал ее прекраснейший символ: поэт-летчик д’Аннунцио[282] – фигура, достойная безоговорочного восхищения. Великолепный в своем мужественном величии, он разоблачал большевистских демагогов, демонстрировал их мелкую, отвратительную сущность. Д’Аннунцио поднял меч за дело нации. Он помешал картографам и финансистам, он отверг мелкие компромиссы. Он лично шагал впереди своих солдат в Фиуме и требовал город от имени Италии. Это место принадлежало Италии по праву – его пообещали Италии, как Константинополь пообещали царю. О, если бы отыскать еще десяток д’Аннунцио, чтобы взять завоеванные города, преданные города, благородные города, позабытые города мира – и отдать их Христу! Доктор Кастагальи много говорил о д’Аннунцио, которым восхищался, и ко мне возвращалось вдохновение, совершенно необходимое в тот момент. – Он воплощает новое Возрождение. Он – человек науки и притом великий поэт, дворянин, который провидит будущее. Он – человек действия. Наконец появился кто-то, с кем я мог себя отождествить. Я видел, что д’Аннунцио во многом похож на меня. Я хотел когда-нибудь встретиться с ним. Вместе мы могли бы сделать очень много. Как утверждал простой сельский врач, на Западе начинался Ренессанс, здесь занимался рассвет. Греция процветала. Франция восстанавливала силы. Англия утверждала власть закона. И Германия также должна была вскоре оправиться от печального поражения, положив конец болезни социализма, от которой в настоящее время страдало несчастное государство. Америка отдыхала, но я знал, что она тоже возродится. И появится великое братство христианских стран, объединенное общей целью: загнать насмерть большевистского волка и вышвырнуть исламского шакала в пустыню, из которой он явился. Выпив немного терпкого молодого вина, я поделился этими мечтами со своим итальянским другом. Он с энтузиазмом поддержал меня и заговорил о возобновлении дружеских связей между нашими странами (он считал меня англичанином). У доктора была своя мечта: в будущем весь мир разделят между собой две великие империи, Британская и Римская, им предстоит гармонично развиваться и дополнять друг друга – у каждой будут свои, особые свойства. – Они станут воплощением идеала эпохи Возрождения, – сказал мне доктор. – Идеала гармонии и умеренности. Наука будет процветать во всех формах, но она останется гуманной, подчинится мудрости Церкви. Как будто в подтверждение этих слов с неба послышался громкий гул. Солнце, огромное и красное, повисло за замком Отранто. На фоне светила возник силуэт биплана «SVA5». Аппарат поднял нос над зубчатыми стенами крепости и затем, лениво развернувшись и обогнув красные черепичные крыши старого города, направился вниз, к темно-зеленой линии, где начиналось море. Биплан как будто возвращался в волшебный мир, где обычные правила природы не действовали, он так же легко мчался по воде, как и по воздуху. А потом он исчез. Мы с доктором рукоплескали аэроплану. Мы снова выпили за д’Аннунцио. Мы выпили за Отранто. Немного поспорив, мы встали и выпили за папу римского. Позже мне пришло в голову, что самолет, вероятно, принадлежал таможенникам, которые следили за доставкой контрабанды. Я подумал, видели ли летчики пароход капитана Казакяна. Может, они искали контрабандистов или тайных иммигрантов. Нам следовало скорее отправляться в Рим. (Я вскоре узнал, как сильно нам повезло. Итальянские прибрежные патрули в последние месяцы были удвоены. Начался приток не имевших гражданства беженцев, спасавшихся из разоренных стран Восточной Европы и Малой Азии.) Той ночью я сказал Эсме, что мы едем в Рим, в колыбель ее религии, в город, который был древнее Византии. Сытная еда и нежный уход помогли Эсме восстановить силы. Услышав новости, она едва не подпрыгнула от радости. Она начала извиняться за свое поведение. Я сказал, что все понимаю. Это по-настоящему ужасно – совершенно оторваться от корней, даже если эти корни скрыты в отравленной почве. Вскоре мы сели на римский поезд. Немногочисленные друзья из Отранто проводили нас в дорогу. Поездка оказалась исключительно спокойной, хотя и скучноватой. Тем не менее мы снова вкусили роскошь настоящего путешествия первым классом. Наши места, да и вид поезда в целом, поразили Эсме. Она оживилась и снова стала собой, ее глаза сверкали так же ярко, как прежде, когда наш поезд прибыл на огромный центральный вокзал. Было воскресенье, 4 июля 1920 года. Мы с Эсме наконец приехали в Рим, город пышных садов и древних камней, город автомобилей, где, казалось, каждый второй гражданин – священник или полицейский и где, следовательно, Церковь и государство были не далекими и пугающими, а наоборот – знакомыми, простыми и успокоительными учреждениями. Услужливый таксист порекомендовал нам отель «Амброзиана» на Виколо Деи Серпенти, 14. Мы сняли там номер. Теплый солнечный свет струился через французские двери, которые вели на наш маленький балкон. Эсме пританцовывала от удовольствия. Она быстро позабыла все былые страхи и хотела жить полной жизнью, она хотела пройтись по улицам, побывать в кафе и магазинах. – Здесь должны быть цирки, – сказала она. – Я о них слышала. И кабаре. И конечно, кино! Нам открылся дивный новый мир. От него исходил запах свободы, которого никогда не было в Галате. Эсме поражалась строгости и чистоте улиц, почти полному отсутствию собак и нищих. Она сказала, что почти так же представляла себе Небеса, когда была моложе. И она, конечно, считала Рим настоящим раем. Я спросил, чего ей хочется прежде всего. Она прижалась ко мне, ее рука была в моей руке, ее глаза улыбались мне. – О, кино! – сказала она. – Конечно, кино! Перекусив в приятном маленьком кафе у дворца Барберини, мы отправились на поиски кинотеатра. Мы прямиком ринулись в первый же, какой смогли обнаружить. Там показывали «Gli ultimi giorni di Pompeii»[283], и нас очаровала, почти поразила эпическая реальность фильма. Невозможно было отыскать лучшего места для просмотра этой картины. Эсме обнимала меня и прижимала к себе мою руку. Иногда, не в силах сдержать восторг, она целовала меня. Я не мог и вообразить ничего более прекрасного. Мое возрождение наконец завершилось.Глава десятая
Вечный город обольстил нас обоих. Очарованные, мы бродили повсюду, взявшись за руки. Среди случайных скоплений трех тысячелетий, среди бесчисленных символов древнего величия, руин, церквей и современных памятников римские граждане вели обычную жизнь, напоминавшую мне об одесской юности. Римляне зажигали спички о колонны Калигулы и вешали белье на балконах, с которых Микеланджело или Рафаэль могли рассматривать купол Святого Петра. Автомобили, трамваи, автобусы и поезда гремели и носились вокруг Колизея и Большого цирка, и тяжесть былой славы никого не пугала. Местных жителей только развлекали чужестранные паломники, которые замирали у языческих и католических святынь. Рим двигался вперед, он стал по-настоящему современным городом. В маленьких барах, танцевальных залах и кафешантанах вокруг виа Каталана мы вскоре отыскали подходящее общество. Здесь собирались богемные интеллектуалы, футуристы сталкивались с социалистами, пили за д’Аннунцио и проклинали премьер-министра Джолитти[284]. Строились планы создания новой империи, легионы которой будут перемещаться в поездах и танках, останавливаясь, чтобы строить фабрики, а не крепости. Стены из желтого песчаника и розового мрамора были покрыты самыми разными политическими плакатами, без разбора смешанными с рекламами спортивных автомобилей, воздушных гонок и кинофильмов. Все они представляли равный интерес для римлян. Их влекла романтика технологий, острые ощущения великих и простых дел. Их просто забавляли или раздражали мелкие свары коррумпированных либералов и раздражительных анархистов. Своей терпимостью и человечностью римляне напоминали одесситов. Они жили в теплом, дружелюбном мире своих кафе, с удовольствием ели и пили в ресторанах. На улицах они смеялись и танцевали под музыку небольших духовых оркестров и аккордеонов. Они даже одевались так же весело и ярко, как жители довоенной Одессы. Если они и восхищались большевиками, то делали это отстраненно и иронично, считали красных удачливыми бандитами, но при этом не кривили губы, а сардонически смеялись. Ленин был для них «благородным наследником Ивана Грозного» или «величайшим византийским монархом со времен Юлиана Отступника», а Троцкого они считали Иосифом или Аттилой. Художники, подобные Маяковскому, были «великолепными детьми Маринетти»[285], холстами им служили целые города, а орудиями – динамит, порох и разорванная плоть. Поэты нового апокалипсиса, настроенные против всего старого и служившие всему новому, родились в мире, где электричество, двигатели внутреннего сгорания и полеты в воздухе были совершенно обыденными явлениями, которые следовало использовать, а не исследовать. Мы приехали утром, во время массовой демонстрации в центре Рима. Движение было парализовано. Мужчины в комбинезонах размахивали загадочными транспарантами, женщины в красных платках грозили кулаками и кричали, шагая под музыку собранных на скорую руку оркестров, которые играли громко и не в такт. Когда я позвонил из нашей комнаты, мне ответила жена управляющего. Она извинилась. Официанты в ресторане забастовали, и персонал отеля присоединился к ним. Она сказала, что может принести нам бутерброды и минеральную воду и надеется что-нибудь приготовить вечером. Однако она посоветовала поискать семейные рестораны – если нам повезет, они будут открыты. Забастовки стали настолько частыми, что люди считали их обычным делом. Как правило, меня злили неудобства, но я был очень рад оказаться в настоящем европейском городе. Я пожал плечами и улыбнулся, после чего она начала хихикать и отпустила несколько шуток на итальянском языке, которых я не понял, но все равно посмеялся над ними. В итоге мы с Эсме провели первый день в Риме в поисках места, где можно поесть. Именно так мы обнаружили виа Каталана, где многие рестораны и впрямь были открыты. Нас радовало все новое, и мы, вероятно, даже не заметили, что проголодались. Мы дивились достопримечательностям и звукам этого цивилизованного древнего города. Даже политическая риторика, такая тревожная в России, была здесь просто частью восхитительной атмосферы. Эсме вдыхала этот воздух и чудесным образом оживала. Рим в это хаотичное лето, когда рабочие захватили фабрики, а д’Аннунцио выслали из Фиуме, казался приютом здравомыслия и порядка по сравнению с тем, что мы оставили позади. Во всяком случае, он был столицей свободной страны. Речь шла не о том, как дожить до следующего утра и укрыться от жестокости самозваных ополченцев, какие движения радикально изменят нашу судьбу, – нет, главный вопрос состоял в том, какое из правительств сможет лучше управлять государством. Прежняя культурная и интеллектуальная жизнь Санкт-Петербурга, существовавшая до разрушительной эпохи Керенского, повторялась в Риме в куда более ярких красках. Люди легко и весело рассуждали о том, что вся политика – просто никчемная фантазия, годная разве лишь на то, чтобы развлечь граждан по крайней мере на вечер. Когда мы ложились спать в ту ночь, Эсме оказалась удивительно страстной и требовательной, ее сексуальные запросы показались мне необычными – я и представить не мог, что она питает подобные тайные желания. Тем не менее я отдался новому опыту с восторгом и почти исчерпал наши запасы кокаина. Следующим утром, уставший и предельно расслабленный, почти не спавший, я сказал ей, что нужно поскорее найти друзей, если мы хотим пополнить запасы наркотика. Она ущипнула меня за щеку и сказала, что я слишком устал, чтобы беспокоиться: все обязательно будет хорошо. Она жила настоящим, моя Эсме. Она была вечным настоящим, и, возможно, именно поэтому я так ее любил. Я всегда был человеком многих миров, способным с легкостью перемещаться из одной социальной среды в другую. Вспомнив о богемном районе близ левого берега Тибра, где-то между Капитолием и островом Тиберина, рядом с дворцом Орсини, я в тот же день вернулся туда с Эсме. Пребывая в восхитительной эйфории, мы скоро выбрали кафе, уселись снаружи под красно-белым тентом, отгоняя москитов и потягивая лимонад из широких бокалов. Полчаса спустя мы разговорились со смуглым, уродливым и в то же время привлекательным маленьким человечком, который сначала принял нас за англичан. Узнав, что мы русские, он в самой экстравагантной форме выразил свое восхищение. Этот мужчина мог даже не говорить, что он художник – его выдавали широкополая фетровая шляпа и алый шелковый плащ. Он представился: «Фиорелло да Баццанно, живописец». Чудовищно широкий рот, полный желтых неровных зубов, придавал ему гротескный вид – голова казалась наполовину лошадиной, наполовину человеческой. Его маленькое истощенное тело, которое постоянно дергалось, совершенно не сочеталось с животным, почти языческим лицом. И все же это соединение было притягательным. Кроме того, Фиорелло продемонстрировал превосходное знание языков – почти такое же, как у меня. С нами он говорил на причудливом patois[286] русского, немецкого, итальянского, французского и английского. Он родился в Триесте, где пересекались пути почти всех этих культур. Фиорелло настоял, чтобы мы распили с ним бутылку тосканского. Примерно через час он поведал нам, что был мелким вором, уличным попрошайкой. Потом, в траншеях, он встретил своего героя, футуриста Умберто Боччони[287], и открыл более широкие горизонты. Я рассказал ему о своей жизни в Петербурге, о технических достижениях и летающих машинах. Он быстро обнаружил в наших историях немало общего. Вытащив большие золотые часы из кармана довольно грязной белой рубашки, Фиорелло сказал, что мы должны стать его гостями за ужином. Он оплатил счет в кафе и потащил нас вниз по улице к «Ресторану Мендосы» на виа Каталана. Отличительной особенностью этого заведения были черно-желтые полосатые зонтики, поэтому местные жители называли кафе «Осой». – Для начала возьмите жареные артишоки. – Фиорелло ненадолго посерьезнел. – Это фирменное блюдо Мендосы, оно поднимает дух куда лучше, чем дюжина папских аудиенций. За одним из стоявших снаружи столиков Фиорелло ждала женщина. Она была одета во все черное и казалась почти вдвое крупнее художника. У женщины были темные коротко стриженные волосы, черная блуза, черные чулки, черные туфли. Это однообразие нарушали только бледная кожа да еще алый поясок вокруг талии. Женщину звали Лаура Фискетти. Фиорелло, как будто извиняясь, сообщил, что она писала статьи для социалистических газет. Мы обменялись рукопожатием. Пухлая, по-матерински добрая женщина, Лаура постоянно осуждала и критиковала своего крохотного возлюбленного. Когда он заговорил, она отодвинулась в сторону, положив руку на спинку его стула, и улыбнулась нам, как гордая мать испорченного, но умного ребенка. Иногда она наклонялась к Эсме и задавала ей вопросы. Моя Эсме открылась Лауре и изложила ей, на мой взгляд, наиболее приемлемую в Европе версию своей истории: она была сиротой, плененной турками, ее хотели продать сирийскому торговцу, и тут появился я и узнал в ней свою давно пропавшую двоюродную сестру. Может, Лаура и сочла историю фантастической, но была слишком хорошо воспитана, чтобы спорить. Женщина ограничилась расспросами о жизни в Константинополе. Ее отец до войны служил там в консульстве, но сама она никогда не бывала в Турции. Как и обещал Фиорелло, артишоки были восхитительны, но поданные следом всевозможные виды пасты и мясо оказались еще лучше. В течение этой замечательной трапезы приходили разные друзья, которые рассаживались вокруг нас. Когда стол стал слишком мал, они приставили к нему другой. В конце концов одна многочисленная группа заняла половину помещения; все говорили, пили, ели и жестикулировали с такой энергией и удовольствием, что меня нисколько не волновало, понимаю ли я хоть слово из сказанного ими. Двое или трое приезжали в Россию до войны. Они говорили, что были поэтами. Я подозревал их в связях с анархистами. Именно такие итальянцы производили огромное впечатление на петербургскую артистическую и политическую богему. Я ничего против них не имел. Они не были похожи на известных мне диких, примитивных анархистов. Они считали анархизм вполне логичным увлечением для художника, любого художника, и особенно итальянца. Итальянцы – величайшие индивидуалисты Европы, и анархия – просто формальная характеристика фундаментальных свойств этой страны. (Вот почему так мало людей по-настоящему поняли Бенито Муссолини, его философию и его проблемы.) Тем временем лишенный слуха гитарист бродил возле ресторана, напевая популярные сентиментальные песни за пару лир, а Фиорелло вспоминал о новых блюдах, которые нам следовало попробовать. Мы осушили великое множество бутылок вина. Я как будто попал в рай – сидел, поедая жареную рыбу и макароны, и наслаждался невероятной роскошью бессвязной беседы. Именно Лаура в ту ночь отыскала для нас хороший кокаин, «лекарство для всех истинных футуристов», а Фиорелло настоял на том, чтобы заплатить за наркотик: «Вернешь мне деньги, когда твой первый воздушный лайнер прибудет в Буэнос-Айрес». Их друзья оказались столь же щедрыми. В первую неделю пребывания в Риме мы тратили деньги практически только в отеле. Мы каждый день отправлялись на виа Каталана, а оттуда – в рестораны, кафешантаны, на частные вечеринки. Богемные римляне жаждали послушать мои байки о гражданской войне, о турецких националистах и жизни в Константинополе. Этими историями, иногда немного приукрашенными, я расплачивался за еду и вино. Если я выпивал слишком много, то обращался к воспоминаниям миссис Корнелиус о частной жизни выдающихся большевиков. Я по-прежнему использовал ее фамилию, так как она стояла в наших поддельных британских паспортах. Я не хотел рисковать и беспокоить власти и до сих пор не знал, кто в этой компании работает на полицию. В каждой группе всегда был по меньшей мере один шпик. Наши новые спутники, при всем их очевидном безрассудстве, серьезно относились к судьбе своей страны. Они могли злиться, устраивать истерики, набрасываться друг на друга по самым ничтожным поводам. Здесь собрались представители всех разновидностей анархизма, монархизма, социализма и национализма. Немногие римляне считали себя фашистами. «Фашист» в те дни означало просто «связка» или «букет»[288], это было просто жаргонное название группировки. Большевистская пресса придала обычному слову зловещий смысл. Многие из друзей Фиорелло да Баццанно, как и Коля, были одержимы навязчивыми идеями о будущем, которые в чем-то совпадали с моими мыслями. Они воплощали мои идеи в словах и картинах. Мой научный рационализм и их поэзия превосходно сочетались. Однажды теплым вечером, сидя под разноцветными электрическими фонарями на террасе «Мендосы», Фиорелло рассказывал о том, что место прежних враждующих семейств, Борджиа и Орсини, в наши дни заняли производители автомобилей. – Скоро нам придется присягать на верность, мой дорогой Макс, и в случае необходимости сражаться за своих избранников. – Он подпрыгивал на месте, то и дело приподнимая шляпу над тонкими темными волосами и стуча по полу тростью. – Avanti![289] Я – граф Фиорелло да Баццанно, приверженец Феррари! – Это так развеселило Фиорелло, что его губы неестественно изогнулись, обнажая желтые зубы. Посмеявшись, он снова сел за стол. – И кто станет следующим папой римским? – Лаура погладила его по спине. Она говорила обычным спокойным насмешливым тоном. – Лянча? Фиат? Фиорелло едва не задохнулся, услышав это. Он яростно тряхнул головой и, собравшись с силами, встал на ноги и положил руку мне на плечо. – Он может быть иностранцем. В Ватикане уже есть сторонники Форда. Но французы поддерживают кардинала Пежо. – Он наклонился и с притворной серьезностью добавил: – Со своей стороны я ставлю на темную лошадку. На кардинала-младенца. – Кто это? – Мы все вытянули шеи в его сторону. – Как же! Не кто иной, как малыш Роллс-Ройс, друзья мои. Попомните мои слова, вы еще услышите о нем через год-другой. Он украл твои чертежи, Макс. Он хочет поднять святого Петра поближе к небесам. Весь папский город расположится на огромном дирижабле и будет парить над землей, свободный от временных ограничений, далекий от всей мелкой политики. И когда папа римский будет спускать воду у себя в туалете, его моча прольется и на католиков, и на протестантов! – И на турок! – попросил я. – Пусть она льется и на турок. Фиорелло был благодушен: – Они получат всю ватиканскую канализацию. И если их землю покроет это святое дерьмо, на ней останется только христианская пища. И они обратятся в истинную веру так же, как обратились наши предки, – через желудки. Выпив, Лаура становилась немного мрачной: – Я думаю, что Форд и Остин уже достаточно влиятельны, чтобы действовать так, как пожелают. – В этом состоянии она весьма неодобрительно относилась к полетам фантазии Фиорелло. – В итоге на людей наибольшее впечатление производят наличные. Покупайте их бензин и давайте им денег, чтобы они могли предоставить нам машины. – Триумф торговли! – заявил я, может, чуть более решительно, чем было необходимо. – Торговля делает всех людей друзьями. Мир богатых – это мир дружбы. Лаура нахмурилась: – Но у кого будет самая большая доля? – Эта проблема уже решена в России. – Маленький человечек никак не хотел спускаться с небес на землю. – Когда будет известен результат, мы узнаем, куда двигаться дальше. Какой потрясающий мыслитель Ленин! Возможно, нам нужно попросить, чтобы его сделали папой римским? Тогда все будут относиться к нему гораздо спокойнее. Во мне тоже вызвали протест социалистические идеалы Лауры. – Мы просто перенесем летающий Ватикан-град в Москву! – Но как быть с патриархом Константинопольским? – спросил один из их приятелей из-за плеча Фиорелло. – Куда деваться бедняге? Фиорелло приподнял трость: – У меня есть ответ. Триумвират: Папа Римский Генри Форд, Патриарх Греческий и Римский Владимир Ленин и диктатор д’Аннунцио. Ist es gut so?[290] Все оттенки авторитаризма представлены. Священный компромисс. Эсме была очарована его странным личиком и резкими движениями. Время от времени она начинала хихикать в самый неподходящий момент, иногда она сидела, уставившись на него, на лице ее отражалась неуверенность, а глаза расширялись, как у играющего ребенка. Ей нравились его комические позы, мелодраматические жесты, невероятное красноречие и самодовольное хвастовство. Я не чувствовал ревности. Фиорелло был прирожденным клоуном, а я хотел лишь одного – чтобы Эсме была счастлива. Я знал, что это общество и эта атмосфера подарят ей веселье и хорошее настроение, и не мог не радоваться. Я надеялся, что мы встретим таких же друзей в Париже и Лондоне, ведь такова была моя естественная среда обитания, которая идеально подходила и Эсме. Здесь смешалось все: идеи и деньги, политика и искусство, наука и поэзия. Среди таких людей мне неизбежно удалось бы обнаружить тех, кто оценит мои изобретения и поможет воплотить их в реальность – именно так поступил бы Коля, если бы сумел подольше остаться в правительстве. (Вот почему я считал, что Ленин несет персональную ответственность за мои беды и страдания: Колю изгнали, когда свергли Керенского.) Теперь, однако, в Риме и в других местах можно ожидать наступления будущего, где эти молодые люди сумеют построить настоящую Утопию. Они умоляли меня стать ее архитектором. Риторика Фиорелло вдохновляла нас. Он говорил о насилии, которое запускает двигатель. Общество должно принять насилие, если ему нужен прогресс. – Как поезд может двигаться без энергии, горящей в котле локомотива? Как изготовить сталь без доменной печи? Как самолет взлетит без топлива? Ich glaube es nicht![291] И точно так же страна не достигнет совершенства без крови и штыков. Из насилия рождается порядок – то замечательное спокойствие, которое наступает после сражения. Мои русские друзья, я подарю вам «Мир, рожденный войной!» и «Порядок, рожденный борьбой!». Аплодируя его речам, мы еще не могли знать, что Фиорелло был подлинным глашатаем энергичного и реалистического нового века. Великолепное пробуждение итальянской гордости стало очевидно лишь два года спустя, когда Муссолини отправился в поход на Рим[292]. – Вы должны остаться с нами, мой дорогой Корнелиус! – В одной руке Фиорелло держал винную бутылку, а в другой – шляпу. – Останьтесь с нами и помогите создать… – Он рассмеялся. – Excusez-moi, der Motor ist überhitz![293] И он опустил голову на колени терпеливой Лауре и громко захрапел, притворяясь, что спит. Я им восхищался, но не мог относиться к нему серьезно. И все же его поэтическое предвидение оказалось удивительно точным. Под руководством невероятного дуче Италия начала решительно отстаивать все то, что было жизненно важно, благородно и современно. Муссолини совершил лишь одну ошибку – поверил своим друзьям- ренегатам. В конце концов я решил, что больше похож на Муссолини, чем на д’Аннунцио. Инженер прекрасной возрожденной страны, он мечтал почти о том же, о чем и я. Я первым готов выступить против крайностей гитлеризма. Трагическая несправедливость состояла в том, что к Бенито Муссолини относились так же, как к Гитлеру. Иногда людям нужно показывать дубинку и бутылку касторки, как собакам показывают палку. Он страдал, потому что не мог разглядеть дурного в своих союзниках, в людях, которые называли его повелителем, замышляя низвержение. Сейчас в Англии меня ободряет то, что многие люди наконец начинают понимать достоинства тех лидеров. Даже несчастного защитника национальной гордости, сэра Освальда Мосли[294], наконец признали благородным патриотом, каким он всегда и был: его интеллектуальные способности и поэтическое дарование можно сравнить с моими. Но он, вероятно, чувствовал себя очень плохо, находясь в печальном изгнании в сельском французском замке и видя, как в мире совершается все то, о чем он тщетно предупреждал. Я смог пожать ему руку лишь однажды, на обеде, который устроили для панъевропейцев в конце сороковых. Мне тогда пришло в голову, что на его судьбу существенно повлияло физическое состояние. Когда он благодарил меня за поддержку, в его глазах стояли слезы, но прежде всего я обратил внимание на другое – к своему стыду, я отметил необычайно зловонное дыхание сэра Освальда. Я подумал, указывал ли ему кто-нибудь на это. Я поговорил с его верным помощником, Джеффри Хэммом[295], и высказал предположение, что обычная жидкость для полоскания рта, если ее использовать ежедневно, может значительно увеличить шансы лидера на успех. Но меня неправильно поняли. Хэмм приказал вышвырнуть меня из комнаты. Предупредил, что если я еще раз появлюсь, то он лично меня изобьет. Так всегда бывает с благими намерениями. Мы с Мосли могли бы вместе спасти Великобританию от медленного падения в бездну социалистических фантазий. У Муссолини не было проблем с запахом изо рта, а если и были, то я не замечал этого, так как интенсивное использование чеснока и оливкового масла в итальянской кухне, не говоря уже о томатной пасте и обо всем прочем, приводит к тому, что все пахнут одинаково. Гнев Хэмма не помешал мне проголосовать за Мосли в 1959 году, когда он выдвинул свою кандидатуру в парламент от нашего района, но к тому времени все уже пошло не так. Негры проголосовали и одержали победу. Двадцатый век – кладбище благих намерений и непонятых мечтаний. Когда говорят о мифических шести миллионах, никогда не принимают в расчет настоящих жертв социалистического редукционизма – великолепных, благородных провидцев, проницательных борцов за Закон и Порядок, неутомимых, самоотверженных рыцарей христианства, которые, начиная с Деникина и кончая Рокуэллом[296], поднимали меч против большевизма, и их убивали трусы, обманывали изменники, предавали последователи, которые теряли самообладание в решающий момент. Именно они подтащили бедного Муссолини к черному дереву и повесили. Толпа, состоявшая из тех самых мужчин и женщин, которые поклонялись ему, терзала и рвала на части его тело, а несколько лет спустя эти люди продавали клочки его одежды туристам на виа Венето и площади Святого Петра. Муссолини не следовало доверять папе римскому и его кардиналам. Они притворялись, что поддерживают его, а затем, как только британцы и американцы начали выигрывать войну, отвернулись от Муссолини. Какая ирония! Страна Муссолини была истинным католическим государством, она в большей мере подчинялась Церкви, а не мимолетным политическим капризам. Если бы не Гитлер, который зашел слишком далеко, Италия теперь была бы самой передовой страной в мире. Но Гитлер обезумел. Он восстал против Церкви. Ненависть к большевизму, сама по себе достойная уважения, помрачила его разум. Он попытался пойти на компромисс со Сталиным и лишился поддержки людей, до тех пор подчинявшихся его приказам. Силы, которые выступили против него, ополчились и против меня. Бенито Муссолини был одной из многих выдающихся личностей, признавших мои заслуги. Ничтожные, завистливые, низкие человечишки, перешептываясь, подстраивая презренные мелкие ловушки, плетя зловещие заговоры, подорвали тот фундамент, на котором мы строили свои видения. Вот они, герои большевизма: бледные, зловещие, косоглазые лица, которых никогда не касался солнечный свет. Я слышу, как они скулят возле магазина каждую субботу, и прогоняю их. Они разбегаются и визжат, как трусливые дворняги. Они и есть дворняги. Я слышу, как они сопят у меня под окнами по ночам, как дерутся за дверью и царапают стены. Они исчезают, когда я вызываю их на честный бой. Разве Муссолини или Хорти, Мосли или Гитлер испугались бы честного боя? Нам было важно уехать из Рима и добраться до Парижа как можно скорее, прежде чем Коля продолжит свое путешествие в Америку или Берлин, но город раскрыл нам свои гостеприимные объятия. Каждый раз, когда я собирался уехать, он показывал что-то новое, способное удивить меня и отвлечь от цели. Например, однажды утром, после того как мы провели полночи, обсуждая, как лучше всего доехать до Парижа, мы перебирались из отеля «Амброзиана» в кафе «Монтенеро» через реку в районе Трастевере, чтобы встретиться с Лаурой, которая там жила. По центральной улице, ведущей к мосту, проехал большой двухэтажный старинный трамвай класса «империал», к нему были присоединены еще два одноэтажных вагона. Они ровно и очень медленно катились в сторону восточного пригорода. Трамвайный состав из трех вагонов не был таким уж необычным явлением в Риме, хотя двухэтажные вагоны, как я выяснил, чаще встречались в Милане и Лондоне, но этот был выкрашен блестящей черной краской, однообразие нарушали только деревянные детали, отполированные почти до золотого блеска. Корпуса и колеса следующих вагонов поражали обилием цветочных орнаментов, из которых сплетались разноцветные венки, лозы и завитки, а внутри, за полуприкрытыми черными занавесками, просматривались силуэты плачущих и скорбящих людей, одетых в черное. Я никогда не видел ничего подобного, но я понял, что это современная похоронная процессия – гроб, также покрытый большими букетами цветов, был ясно различим на верхнем этаже первого вагона. Трамвайные дуги жужжали и потрескивали немного беспечно, учитывая серьезность события. Вагоновожатый, неподвижный и мрачный, сидел впереди в особом черном костюме (в «империалах» было только одно место для водителя и одна лестница сзади). Увиденное потрясло меня, я снял шляпу, воздавая должное скорее чуду современной техники, чем бедному трупу, лежавшему внутри. С какой готовностью, почти без всякой суеты итальянцы приспособились к прогрессу двадцатого века и двинулись по новому пути! Когда я рассказал Лауре и ее друзьям о процессии, мое волнение их удивило. Очевидно, похоронные трамваи были обычным явлением во многих частях Италии и других странах. Я понимал, как отдалился от подлинной культуры во время гражданской войны и пребывания в Турции. Несмотря на весь свой энтузиазм, вызванный передовой транспортной системой Рима, я и на сей раз не забыл упомянуть, что нам необходимо попасть в Париж. Я спросил Лауру, есть ли для меня какая-нибудь работа. Деньги еще оставались, но я почувствовал бы себя счастливее, если бы сам заработал на железнодорожные билеты первого класса. Лаура сказала, что постарается все обдумать. Тот маленький квартал в Трастевере, рядом с площадью Санта-Мария, был на удивление тихим, далеким от хаоса и шума, царившего на центральных улицах Рима. Нас окружали простые, почти деревенские дома. Выцветшие стены когда-то давно выкрасили в розовый, синий или зеленый цвета. Навесы над кафе напоминали древний пергамент – возможно, их натянули еще во времена правления Цезаря Августа. На многих крышах раскинулись сады, настолько запущенные, что казались дикими, местные обитатели лицами походили на фавнов. Здесь казалось, что ты вернулся назад, в языческое прошлое. Почти весь Рим заливал солнечный свет, особенно рано утром или в сумерках. Стоило взглянуть на окружающие холмы – и легко представлялось, что здесь можно навеки укрыться от земных проблем, терзающих всю остальную Европу. От Трастевере можно было прогуляться по полуразрушенному мосту на остров Тиберина. На этой крошечной полоске земли, у зелено-коричневых вод реки, стояло здание (думаю, монастырь), очевидно, строившееся на протяжении столетий. В нем сочетались детали архитектуры последней тысячи лет. Здесь римляне ловили рыбу, чинили лодки и просто бездельничали на каменных плитах, дымя трубками и разглядывая купол собора Святого Петра и другие крыши, видневшиеся сквозь заросли деревьев. Здесь жили несколько диких кошек и, вероятно, монахи (хотя их я никогда не видел). И даже кошки заметно отличались от тех, что нежились на солнце среди руин Большого цирка. Если Константинополь был городом собак, то Рим – городом кошек. Храм Бубастис[297] легко мог обнаружиться где-нибудь поблизости. Редко случалось увидеть здание, на окнах или ступенях которого не лежали бы кошки. Рыжие, черные, серые, коричневые, белые, пегие и имбирные, они умывались, спали, занимались любовью, совершенно не проявляяинтереса к проходящим мимо людям, равнодушно глядя на того, кто подходил поближе, и выказывая настороженное любопытство, если возникала возможность получить от кого-то еду. Они бродили по мрамору, который некогда был залит кровью замученных христиан. Они вылизывали шерсть на гранитных плитах, покрытых надписями, прославлявшими империю. Они совокуплялись у подножий колонн, возведенных в честь богов и богинь, и в какой-то мере они воплощали сам устойчивый дух города и его жителей. Эсме считала кошек очаровательными. Бывали такие дни, когда она проводила практически все время, наблюдая за ними почти с таким же выражением, с каким они наблюдали за другими. Ее глаза широко раскрывались, она поглаживала свой маленький подбородок очаровательными пальчиками и дышала медленно, апатично, с непостижимым удовольствием. Это заметил не только я. Лаура часто смотрела на Эсме и хмурилась, ее взгляд был и понимающий, и удивленный одновременно. Даже футурист Фиорелло, поглощенный собственным красноречием и эгоцентризмом, иногда замечал странное поведение Эсме и улыбался мне, как будто дивясь необычным нравам женщин. И все-таки я ничему не удивлялся – мне казалось, я прекрасно понимал все ее чувства. Возможно, все дело в моем воображении – я представлял, что Эсме способна испытывать сильные и глубокие чувства, которых в реальности не существовало. Тогда я стал бы это отрицать, но теперь признаю, что она была, по крайней мере отчасти, моим творением, зримым воплощением моих желаний. Я об этом почти не думал, когда Эсме внезапно оборачивалась и на лице ее появлялась улыбка, словно в ответ на мою невысказанную просьбу. Но я не хотел отыскивать намеки и скрытые смыслы. Мне это было чрезвычайно неприятно. Мое мнение не изменилось, но я не могу вечно прятаться от правды. Благодаря Фиорелло мы познакомились с молодым человеком, которому в дальнейшем предстояло сыграть роль нашего великого благодетеля. Кузен Баццанно, он жил и работал в основном в Милане, но часто путешествовал по всей Италии и по многим европейским городам. Он был настолько же красив и хорошо сложен, насколько был уродлив его кузен. Он гордился своими строгими, сшитыми на заказ костюмами и демонстирировал, как мы тогда говорили, слишком широкие манжеты. Его рубашки всегда были совершенно новыми, а шелковые галстуки повязаны просто безупречно. Наманикюренные руки украшали золотые кольца, белые зубы также иногда сверкали золотом. Его звали Аннибале Сантуччи. Этот яркий денди был на три-четыре года старше меня. Его стиль в Киеве называли черноморским – белые костюмы, черно-белая обувь и бледно-лиловые галстуки. Он мог одеваться и более традиционно, когда находило соответствующее настроение или выпадал подходящий случай. Мы впервые увидели его, точнее, его автомобиль, однажды туманным утром, проходя мимо фонтана на площади Санта-Мария. Машина громко ревела. Огромная красно-синяя скоростная «лянча», казалось, заняла всю площадь – так сильно грохотало эхо. Фиорелло шел вместе с нами. Он повернулся, чтобы обругать водителя автомобиля, но, увидев, кто сидит за рулем, издал восторженный крик. – Бало! Бало! – воскликнул он. Ответом стал выхлоп сизо-серого дыма, когда водитель переключил скорость и машина с ревом свернула в переулок, в который, казалось, с трудом смогла втиснуться. Фиорелло подпрыгивал от радости, размахивая тростью и подбрасывая шляпу, но Лаура, похоже, не испытывала особого восторга. Эсме просто удивилась. Она немедленно возвратилась к прерванному рассказу о платье, которое получила одна из ее подруг вскоре после того, как начала работать на госпожу Унал. Я попытался остановить ее, но это было бесполезно – она просто забылась. В итоге я пожал плечами, решив: пусть все идет своим чередом. Не особенно важно, что о нас думала Лаура Фискетти. Мы дошли до кафе «Монтенеро» и заняли свои обычные места. Маленький старичок, единственный официант, появился, чтобы вытереть совершенно чистый стол и принести кофе и булочки. Фиорелло не умолкал – он рассказывал о своем кузене: – Он привез подарки. У него всегда есть подарки. Ты должен с ним встретиться, Макс. Он любит англичан. Он вел с ними дела во время войны. И с русскими тоже. – Он уже сочинил свою версию нашей истории и излагал ее всем подряд. Меня это вполне устраивало. – Интересно, где он был. – Фиорелло на миг помрачнел, но тут же оживился. – Он обязан отыскать нас прежде, чем уедет из Рима. Он настоящий ублюдок. Мерзавец. Чудовище. Лаура плохо к нему относится. Она считает его воплощением капиталистического зла. Но она тоже не может противиться ему, верно, Лаура? Лаура пожала плечами: – Да, он не лишен грубоватого очарования, если ты говоришь об этом. Она улыбнулась своим мыслям. В этот момент вся площадь перед нами, казалось, затряслась и завыла, громкий визг и неистовый радостный рев донесся откуда-то из лабиринта улиц, как будто стая пьяных бабуинов напала на убежище траппистов. Красно-синяя «лянча» вырвалась из переулка, сделала резкий поворот, едва не врезавшись кузовом в наш маленький столик, и остановилась. С огромного переднего сиденья поднялся Сантуччи, стянул лайковые перчатки, пригладил волосы и вместо шлема надел серую мягкую фетровую шляпу. На плечи он накинул пальто из верблюжьей шерсти. Шляпу он носил набекрень, широкие поля прикрывали один глаз. Сантуччи коснулся губ серебряным мундштуком, поцеловал серебряный набалдашник своей роскошной трости и, как полубог, выпрыгнул на тротуар. Он был блестяще нагл и вульгарно романтичен, он наслаждался собственными выходками так же, как следовало наслаждаться ими всем нам. Аннибале совершенно отличался от столь же грациозного, но крошечного Баццанно, который с обезьяньим проворством перепрыгнул через ограждение кафе и бросился на улицу, чтобы обнять кузена. Шестифутовый Аннибале Сантуччи напоминал очаровательного подростка из мюзик-холла. Он мог бы стать кинозвездой. Он пожал мне руку, поцеловал кончики пальцев Эсме, сделал много общих комплиментов, которые буквально срывались у него с языка, и немедленно заказал нам вина и еды, хотя мы уверяли, что уже наелись, а для алкоголя еще слишком рано. – Никогда не говорите «слишком рано», – резко предостерег он. – Если вы будете так говорить, то очень быстро обнаружите, что стало слишком поздно. – Эти фразы звучали как афоризмы, вероятно, он часто их произносил, когда хотел произвести впечатление на осторожных знакомых. И они действительно подейстовали на Эсме. Она громко рассмеялась и на мгновение удостоилась его царственного внимания. Он придвинул стул поближе и начал рассказывать нам о Неаполе. Он занимался бизнесом на Искье, острове в заливе близ Капри, там сейчас жили его мать и отец. Началась забастовка лодочников, и ему пришлось отдать целое состояние, чтобы добраться до Искьи. – Парусная лодка. Прототип Ковчега! – Потом, вернувшись, он не смог раздобыть бензин для своего автомобиля из-за забастовки на бензозаправочных станциях. Сантуччи рассмеялся. – Это – начало истинного анархизма, когда каждому придется заботиться только о себе. У нас будут свои бензиновые насосы, отдельное водоснабжение, собственные коровы и ремонтные мастерские. Если мы не остановимся, то вскорости познаем страшную скуку, у человека останется время только на то, чтобы заботиться о себе и о своих машинах. Фиорелло! Лаура! – Театральный взмах – и Сантуччи, достав из внутреннего кармана пальто два черных бархатных футляра, вручил их нашим друзьям. Внутри оказались отделанные алмазами наручные часы, мужские и женские. – Мой марсельский друг очень добр. Он сказал, чтобы я передал их матери и отцу! – Ты почтительный сын, – иронически заметила Лаура, положив часы на свое крепкое запястье и с восторгом осмотрев их. – И на что им такая вещь? Чтобы отсчитывать последние часы? Бессмысленно! – Он повернулся к нам в искреннем раскаянии. – Пожалуйста, пожалуйста, простите мою грубость! Мы с Эсме готовы были простить ему все. Его улыбка казалась обезоруживающей, она его никогда не подводила. Фиорелло сказал, что мы собираемся в Париж, но у нас не хватает денег на билеты. Не может ли его кузен подыскать какую-нибудь работу по инженерной части? Сантуччи перешел к делу. Он поднял руку и небрежно произнес: – Тогда вы поедете со мной. Составите мне компанию, а? Я могу добраться туда меньше чем за день. Я сказал, что у нас много багажа, но мысль о «лянче» вызывала у меня восторг. Я чувствовал тот трепет радости, с которым всегда ожидал автомобильного спасения. Сантуччи не обратил на это внимания: – Моя машина безразмерна. Ее спроектировал мой родственник Баццанно, чтобы преодолеть обычные ограничения пространства. Разве он вам об этом не говорил? Я посмотрел на автомобиль, почти поверив Сантуччи. Фиорелло улыбнулся и ничего не сказал. – Он слишком скромен! – Аннибале хлопнул своего кузена по спине. – Этот уродливый маленький карлик – величайший изобретатель-метафизик в Италии. Лаура поцеловала его в щеку. – Ты говоришь с настоящим ученым, Бало. Сеньор Корнелиус создал собственный самолет и управлял им. Он изобрел луч смерти, который использовали против белых в Киеве! Ты, разумеется, читал об этом в газетах. Аннибале поклонился, не вставая со стула: – Тогда вы должны непременно отправиться со мной в Париж. Я постараюсь по дороге поэксплуатировать ваши мозги! Я согласился. Прекрасная возможность – это решало сразу несколько проблем и означало, что мы, вероятно, испытаем гораздо меньше затруднений на границе. Я обнаружил человека, привыкшего жить своим умом, ему приходилось бывать в том же положении, в которое могли попасть и мы. Не ожидая прямого ответа, я спросил Сантуччи, чем именно он занимается, заметив, что он, похоже, добился немалых успехов. – Я покупаю и продаю. Я путешествую. Я приезжаю в нужное место в нужное время. Вот как сейчас! Я дешево покупаю овец в Тоскане и дорого продаю их на Сицилии, где на свою прибыль покупаю вино и продаю его за огромные деньги в Берлине. Но все это на бумаге, синьор Корнелиус. Я едва ли хоть раз сам видел свои товары. – Он продемонстрировал мне идеально чистые руки. – Никакой грязи и спекуляций, а? Ни единой мозоли. Я предприниматель. Во время войны я узнал секрет: как стать хорошим генералом. Никогда не знакомься с солдатами. Следи за происходящим издалека и воспринимай все абстрактно. Сам я был водителем. Я управлял грузовиками и бронемобилями. Конечно, представлялись возможности для торговых сделок. После войны я просто продолжал водить машину. Где бы я ни останавливался – что-то покупал и продавал. Сейчас у меня нет серьезных денег, но есть хорошие костюмы, замечательный автомобиль и много девочек. Я не респектабелен, но меня уважают. И еще лучше: я необходим. У меня есть квартира в Милане, в которой я почти никогда не бываю. В результате мне даже не нужно платить арендную плату за постоянный офис. Вот мой офис! – И он указал на свою «лянчу». Капот был горячим, свежие краски сверкали под тонким слоем пыли. Лаура сказала, слегка поджав губы, как будто улыбаясь: – Он вам говорит, что он – бандит. На Искии он, вероятно, продал мать и отца. – Что можно в наши дни получить за старика и старуху? Они вышли из моды. Я обычный бандит, если вам так нравится. Но я уникальный художник. Поручись за меня, Фиорелло! Лаура энергично кивнула: – Ты, несомненно, уникален, мой дорогой. Фиорелло настаивал, что его кузен был самым лучшим художником из тех, которые появились после войны: – Искусство – это действие. Действие – это искусство. Логика проста. – И как всякая простая логика – это смехотворно. – Теперь Лаура рассмеялась по-настоящему. – Как жаль, что я не могу поехать с вами в Париж. – Фиорелло с отвращением осмотрелся по сторонам. – Рим как черствый пирог. Укусишь его – и сломаешь зубы. Слишком мало событий. Его нужно сделать посвежее. С помощью динамита. Во всем виновато правительство. – Правительство, – Сантуччи подмигнул, заметив случайного прохожего, – делает все возможное. – Слишком много терпимости! Нам нужно кровопролитие на улицах! – Фиорелло оседлал любимого конька. Он говорил быстро и очень громко. – Где же казаки? Сеньор Корнелиус сражался в России. Он наполовину русский. Или наполовину еврей? Он наполовину кто-то. Он знает, какие замечательные развлечения обеспечивает истинная тирания. Где наши собственные тираны, где та страна, которая некогда поставляла миру прекраснейших деспотов? Неужели они слишком робки и не могут выйти из укрытия? Я поеду с вами в Париж и отыщу настоящего Наполеона. Nicht wahr?[298] – Тогда будь готов к следующей среде. В среду я уезжаю. – Сантуччи бросил на стол несколько банкнот. Он сказал, что заберет нас прямо из отеля. Мы поедем через Милан и Швейцарию. Бывали мы в Альпах? Это чудесный опыт. – Пирог, может, и черствый. Но глазурь великолепна. – Погода была идеальной для автомобильного путешествия. Я уже предвкушал путешествие, особенно вместе с Сантуччи. Я всегда любил большие дорогие автомобили; садишься в такой – и забываешь обо всех заботах. Немногие проблемы, которые у меня еще были, останутся позади, едва «лянча» отправится в путь. Даже если бы я с самого начала не собирался ехать в Париж, то, вероятно, все равно принял бы предложение, хотя бы для того, чтобы прокатиться в таком автомобиле. Эсме также волновалась, хотя уже привыкла к Риму, кошкам и кафе. – Париж будет так же хорош? – спросила она. Я обещал ей, что будет даже лучше. Фиорелло склонился над нами, смеясь от удовольствия: – Ах, мои дорогие. Сегодня вечером у нас праздник – я поведу всех в кофейню «Греко» на виа Кондотти. Вам нужно найти новых друзей. В «Греко» все одновременно и иностранцы, и художники, так что вы будете как дома. Потом мы пойдем в кино. Вы слышали о Фэрбенксе? Изумительный комик. А Чаплин? А «Фантомас»? И все они вместе сегодня вечером! А завтра мы возьмем автомобиль или лошадь с повозкой и проведем день в Тиволи. Я хочу удостовериться, что вы повидаете все, – тогда вы захотите вернуться к нам как можно скорее! – Но ты же поедешь с нами, Фиорелло, – сказала Эсме. Он обнажил желтые зубы в усмешке: – Моя дорогая малышка! Моя кузина меня знает. Я не могу жить без римского воздуха. Мы с ней одного поля ягоды. Мы симбионты. За пределами Тиволи я начинаю растворяться. Если бы я отправился в Милан – просто исчез бы, сгинул, обратился в ничто. Но вы поедете в Париж за меня. Я буду думать о том, как вы там живете. И вы мне напишете, так что я смогу насладиться вашими впечатлениями. Он был странным маленьким созданием. Я почти поверил в то, что он сказал правду. Тем вечером в кинотеатре в перерыве между фильмами я встал, чтобы сходить в туалет. Возвращаясь в полумраке на свое место, я разглядел знакомую приземистую фигуру в передней части secondi posti[299]. Я был убежден, что это Бродманн. Я провел остаток сеанса, озираясь на него и ожидая, что он повернется, и я смогу разглядеть лицо. Я испугался. Затем мне показалось, что я видел бимбаши Хакира и Ермилова. Я точно знал, что Ермилов мертв. Я чувствовал боль от ударов нагайки. Меня преследовали мстительные евреи. Карфаген плел заговоры против меня. Я обрадовался, когда все мы встали и вышли в теплую и светлую римскую ночь. Скоро мы уже поглощали огромные тарелки феттучине и оладий в «Пастарелларо» на виа Сан-Кризогоно, неподалеку от площади Санта-Мария. Полагаю, мы так и не протрезвели до конца нашего пребывания в Риме. В последнюю ночь перед отъездом Фиорелло обнял меня. Он был по-настоящему опечален: – Ты должен вернуться к нам в следующем году, Макс. Ты нужен Италии. Ты нужен мне и Лауре. В Риме ты точно найдешь все, что тебе нужно. Поверь мне. Возвращайся к нам! – Как только уладятся мои дела в Англии, – пообещал я. Мы расстались со слезами на глазах, оба немного пошатывались. Наутро Эсме встала раньше меня. Я то зевал, то стонал. Она раздвинула занавески, склонилась над перилами небольшого балкона из кованого железа и помахала рукой: – Смотри, Максим, дорогой… Он здесь! Сантуччи сдержал свое обещание и приехал на огромном блестящем новом автомобиле, чтобы встретить нас, только это была не «лянчаЗ». Он где-то раздобыл американский «каннингем» размером почти с грузовик. Машина была вызывающего зеленого цвета с желтой отделкой. Гудок звучал так громко, что мог бы возвещать о наступлении Судного дня, а двигатель самой последней модели выдавал больше ста лошадиных сил. Сантуччи сидел за рулем, курил сигарету и дружелюбно болтал с толпой восторженных мальчишек. Другие машины на улице тормозили – все хотели получше разглядеть «каннингем». Сантуччи мог устроить пробку. Увидев нас на балконе, он сделал знак, чтобы мы поскорее спускались. Наш багаж был готов, и мы быстро оделись, пока швейцары забирали вещи и грузили в автомобиль. Мы обнаружили, что счет уже оплачен, по-видимому, нашим блестящим благодетелем. Все, что мне оставалось сделать, – это дать чаевые швейцарам. Мы сели на переднее сиденье, Эсме устроилась посередине. Сантуччи нажал на газ, и его огромная машина рванулась вперед на глазах у изумленных зрителей. Похоже, ему очень нравилось привлекать внимание. Он не объяснил, почему сменил автомобиль, и я решил, что было бы бестактно спрашивать об этом. Мы вскоре снова проехали через Тиволи. Сантуччи остановился на несколько минут возле небольшого коричневого домика, вошел внутрь, а затем появился, удовлетворенно улыбаясь. (В Тиволи произошли очень важные для меня события, когда я вернулся в Италию по личной просьбе дуче. Сначала я был настолько наивен, что думал, будто это пивная под открытым небом вроде тех, которые я видел в детстве в Аркадии.) После Тиволи дороги стали ухабистыми и зачастую очень пыльными, но иногда попадались превосходные участки. В конце концов, именно в Италии построили первую настоящую автостраду. Мы чудесно проводили время. «Каннингем» мог развивать скорость более восьмидесяти миль в час, и Сантуччи разгонял машину до предела при каждом удобном случае. Он говорил не умолкая в течение первых двух-трех часов, когда мимо нас проносились уютные солнечные деревни и обширные желтовато-коричневые поля. Иногда я отвечал, и он поднимал голову и внимательно вслушивался в мои слова. Мы беседовали главным образом об автомобилях и о транспорте вообще – эта тема интересовала нас обоих. Эсме, казалось, не возражала. Она смотрела вперед, спокойная и счастливая, наслаждаясь деревенскими видами и ощущением скорости. Около полудня Сантуччи попросил нас достать корзину, стоявшую на заднем сиденье. Оттуда мы вытащили цыплят, колбасы, хлеб, вино, мясную нарезку и бутылки зукко из Палермо – это вино не уступало лучшим произведениям французских виноделов. Теплый итальянский ветер овевал нас и успокаивал, как легкий алкоголь. Шелковые шарфы защищали наши рты от пыли, а очки, выданные Сантуччи, прикрывали наши глаза. – Совершенные автомобили! – сказал наш хозяин, всматриваясь вперед: он подумал, что там стоит полицейский (тогда в Италии действовало ограничение скорости – не более тридцати миль в час). – Лучшее, что создала война, а? – Аннибале разделял некоторые взгляды Баццанно. Он тоже дружил с Боччони и был рядом с художником, когда того ранили. – Боччони не должен был умереть. Это нелепость. Он ничего не добавил. Сантуччи, казалось, все в жизни драматизировал и превращал в некий словесный капитал, у него было сильно развито чувство осторожности, которое я назвал бы джентльменским. Позже я начал отмечать подобные качества у людей его типа, но тогда мне это было еще плохо знакомо. Я не понимал, зачем он хотел отвезти нас в Париж. И когда я задумываюсь об этом теперь, то обычно прихожу к выводу, что Сантуччи просто проявлял великодушие и альтруизм, – ему хотелось, чтобы мы стали его спутниками в долгом путешествии. Я по-настоящему полюбил этого человека, хотя тогда еще не привык к людям, которые видели положительные стороны войны. Возможно, потому, что в самой Италии боевые действия почти не велись, бывшие солдаты-итальянцы смотрели на вещи по-другому. Конечно, Баццанно и Сантуччи были не единственными итальянцами, которые вернулись с фронта и надеялись отыскать новые миры для завоевания, новые стимулы для вдохновения. Италия двинулась вперед, в то время как другие страны бессильно пали. В крови у итальянцев было что-то такое, что позволяло находить плюсы в самой мрачной ситуации. Они сохранили свой идеализм, они имели право торопиться, завоевывать Африку и уничтожать угрозу Карфагена, о котором итальянцы знали больше всех прочих. Их ахиллесовой пятой осталась римская католическая церковь. Если бы не она – итальянцам, возможно, принадлежала бы империя, от Атлантики до Красного моря. Сын – Сын Света, но Отец – Отец Неведения; он стирает слюни с подбородка декоративным посохом, его митра опускается на глаза и слепит его, а конечности дрожат от старческого паралича. Вот как старики высасывают жизнь у молодых. Они мешают нам обрести власть, они ревнуют к нашей энергии, быстроте наших умов, радости наших тел. Проклятие латинских стран – неблагоразумная верность устаревшим папским учреждениям и явная готовность к компромиссу с иудаизмом. Патриарх Константинопольский никогда не стал бы даже думать о таких компромиссах. Эта земля поражала нас тысячей оттенков золота, янтаря, старой слоновой кости, она потягивалась в солнечных лучах, как ленивая львица. Наши ноздри заполнял аромат бензина и диких маков, лимонов, горчицы и меда, наши сердца бились все чаще от ощущения простой, невинной свободы. Никто нас не преследовал. Бродманн стал призраком, изобретением моего утомленного сознания, как и Хакир. Турки и красные остались где-то за миллион миль от нас, они сражались в другой вселенной. Самодовольство Европы в те дни походило на подлинный оптимизм – все были готовы отвергнуть былые пороки и принять новые добродетели. Я даже обрадовался, когда неподалеку от Милана увидел у дороги ярко разукрашенные повозки цыганского племени. Я вспомнил о Зое, о своей первой любви. Эти цыгане воплощали продолжение романтической традиции, они были элементом прошлого, которое никому не угрожало, которое напоминало мне о постоянстве без упадка. Цыгане расположились лагерем у густой живой изгороди, их лошади ели траву у края дороги, а худые собаки носились взад и вперед в поисках объедков. Этот кочевой народ пережил тысячу европейских войн. Они говорили на языке, более древнем, чем санскрит, они прибыли с Востока не как завоеватели и не как торговцы, жаждущие власти, не как прозелиты темной религии, но как прирожденные странники, исполненные древней, простой мудрости. Я никогда не понимал предубеждения, с которым относились к этим людям. Так называемые цыгане, блуждающие вдоль автострад, – просто беспомощная вороватая шушера. Они слишком ленивы, чтобы работать, слишком неряшливы, чтобы содержать в порядке постоянное жилье. Эти дегенераты просто не в состоянии справиться с обычными проблемами городской жизни. Истинные цыгане, с темными кудрями и золотыми серьгами, со скрипками и шестым чувством, всегда вызывали у меня симпатию. Женщины-цыганки, смелые и агрессивные, были одними из первых красавиц на земле. Я обрадовался им. Я махнул им рукой из машины и очень огорчился, когда они не ответили. По-моему, Гитлер зашел слишком далеко, когда включил в свой список кочевников-захватчиков безвредных цыган. Сантуччи заранее извинился за Милан, который, по его словам, не мог сравниться с Римом, но для меня этот город стал настоящим открытием: фабрики и огромные офисные здания, рост промышленности – я следил за всем этим, затаив дыхание. Бесчисленные трамваи, ровно бегущие по переплетающимся рельсам… У нас в России не было ничего настолько величественного, даже Харьков казался гораздо меньше. Милан пропах химикатами и раскаленной сталью, тлеющей резиной и пылающими углями; улицы заполнял грохот металла, рев машин; здесь жили великолепные, энергичные люди. Почти все здания были современными, Милан, кажется, возник очень быстро. Мне говорили, что город уродлив; я, напротив, находил волшебство в его грязном промышленном блеске. Здесь инженер мог работать и творить, используя находящиеся под рукой материалы и богатый опыт. Мне Милан казался землей изобилия двадцатого века, эдемским садом безграничных возможностей. Неудивительно, что именно в этом городе по-настоящему зародилось новое активное движение, которое возглавил Муссолини. Милан – пульсирующее ядро поразительно нетерпеливой страны, динамо-машина, способная привести в действие могущественную мечту, которая стала бы воплощением истинной промышленной революции. Как и в Риме, я мог бы задержаться здесь подольше, вдыхая дым так, как другие вдыхают озон, заполняя легкие эссенцией металла и нефти. Но Эсме возненавидела Милан. Она сказала, что он пачкает ее кожу. Город был пугающим и слишком мрачным. Он был шумным. Я посмеялся над ней: – Ты должна привыкнуть к этому, моя красавица. Здесь твое будущее, как и мое. Она снова погрузилась в транс до самого вечера, пока Сантуччи не повез нас дальше. Мы провели ночь в крошечном пансионе у швейцарской границы. Мы смогли разглядеть вершины Альп. Сантуччи сказал, что горы были зубчатыми стенами крепости: крепости спокойствия, нейтралитета, буржуазной безопасности. – Самые великолепные горы в мире защищают самых унылых в мире людей. Вот парадокс, который занимает меня. Если вы, синьорина Эсме, цените чистоту и мир, то вам больше нечего искать. В Швейцарии люди жалуются, если колокольчик на шее у коровы звенит чуть громче положенного и если тюльпаны вырастают на дюйм выше обычного. Такова сущность тупого равноправия – средний класс стремится добиться комфорта любой ценой. Для искусства это – смерть. Больше нигде скука не отождествляется с добродетелью! Мы пересекли границу следующим утром. К нам отнеслись с неодобрительной любезностью. Как бы вскользь, но очень внимательно швейцарцы изучили наши документы – они не искали преступных намерений или радикализма, а им требовались свидетельства бедности. По-видимому, они сочли нас достаточно богатыми для того, чтобы допустить на денек в свою горную твердыню. Быть бедным в Швейцарии – самая грубая безвкусица. Мы вели машину по ровным, прекрасным и чистым дорогам. Эсме восхищалась опрятными клумбами, безупречным однообразием аккуратных городков, свежестью красок на стенах шале и ровными соломенными крышами ферм. Я уже почти ожидал увидеть мужчин, которые стоят возле сараев со щетками в руках и моют коров, как сегодня обитатели пригородов моют свои автомобили. Как ни странно, в Швейцарии три могущественных и жизнеспособных культуры объединились, породив настоящий вакуум. Лишенная жизненных сил и устремлений, Швейцария стала символом одного особого будущего – будущего, к которому стремились те самые мелкие умы, в конечном счете уничтожившие плоды моих усилий и таким образом сохранившие статус-кво. В тот вечер, на закате, мы пересекли французскую границу близ маленького городка под названием Сент-Круа, и Эсме обернулась и с грустью посмотрела назад – жена Лота, изгнанная из некоего чистенького Содома. Когда мы оставили позади гнетущую аккуратную Швейцарию, Сантуччи, похоже, почувствовал такое же облегчение, как и я. Он начал напевать какую-то популярную песню громким, немелодичным голосом. Как и большинство итальянцев, он полагал, что музыкален от природы, – точно так же негры пребывают в заблуждении, что им присуще естественное чувство ритма. Ветер нес нам прохладу, и в белом свете автомобильных фар по обе стороны дороги вырисовывались силуэты массивных дубов. Не осталось никаких явных признаков недавней войны, но мои географические познания были несколько смутными, и я не знал точно, велись ли боевые действия в этой части Франции. Благоуханный воздух и тихие маленькие города… Ипр и Верден произвели бы совсем другое впечатление, а здесь, казалось, все оставалось неизменным и гармоничным в течение многих столетий. Запыленные очки, которые все мы носили не снимая, также смягчали окружающий ландшафт. Сантуччи уверенно вел машину по узким дорогам, он как будто узнавал все крутые внезапные повороты и постоянно что-то напевал. Когда мы проносились мимо деревень, он произносил названия, смутно знакомые из газет. По словам Аннибале, он очень хорошо знал Францию. – Именно здесь я получил начальное коммерческое образование. – В 1916 году, когда его призвали в армию, Сантуччи служил здесь на аэродроме и сделался основным поставщиком виски и джина и для союзников, и для солдат Оси[300]. – Я не ограниченный националист, а практикующий международный анархист! Он рассмеялся и передал Эсме бутылку с вином, из которой только что пил. Моя девочка, казалось, позабыла о том, как не хотела покидать Швейцарию, и сделала большой глоток, вытерев рот кончиками прекрасных маленьких пальчиков. Сантуччи подмигнул ей. Эсме попыталась подмигнуть в ответ. Она сжала мою руку. Аннибале попросил, чтобы я вложил для него сигарету в мундштук. Я исполнил просьбу и поднес спичку к «Гарем леди» – ему нравилась эта марка. – Зачем вы едете в Англию, синьор Корнелиус? Вы, кажется, предпочитаете путешествовать, как и я. Собираетесь навестить семью? – У меня там жена. И еще дела. Я хочу зарегистрировать множество патентов. Все говорят, что лучше делать это в Англии. – Вы должны отправиться в Америку. Большинство моих братьев и кузенов уже там. Правда, полагаю, теперь это стало гораздо сложнее. Официально туда не попасть. Не попасть, если ты итальянец. Они думают, будто мы все – поджигатели! Я улыбнулся: – Я слышал, что так оно и есть. – По натуре, разумеется. Но мы учимся быть законопослушными. Мы верны Церкви и нашим семьям. Люди часто этого не понимают. Тем вечером мы остановились в Дижоне, где Сантуччи настоял на том, чтобы купить дюжину различных сортов горчицы. Он оделся более консервативно, возможно, из уважения к французам. «Горчицу нужно покупать только в Дижоне, а колбасу – в Лионе». Очевидно, маленькой женщине, которая управляла пансионом, Аннибале был хорошо известен. Она провела нас через низкий дверной проем в зал с белой штукатуркой и черными балками. На этом полированном деревянном полу мог валяться сам Вийон, держа в одной руке перо, в другой – кувшин грога. Когда мы уселись за резной стол у камина, хозяйка подала нам самые настоящие французские блюда. Даже худшие критики Франции прощают ей высокомерие и неуместную гордыню, когда сталкиваются с местной кухней. Эсме чмокала алыми губами и набивала живот до тех пор, пока не объелась. Ее глаза затуманились. Она снова оказалась на небесах. Наша хозяйка, убирая тарелки, улыбалась как победительница. Сантуччи обменялся с ней несколькими вежливыми фразами, а потом все мы медленно поднялись по узкой лестнице в свои комнаты. В наших безопасных покоях Эсме начала готовиться ко сну. Я потешался над ней. Со своими папильотками и притираниями она походила на маленькую девочку, которая притворялась женщиной. – Это волшебство продлится вечно, – сказала она, устроившись на кровати под балдахином, – но какова его цена, Симка? Это было не похоже на нее – задумываться о подобных вещах, Я несколько удивился, почти рассердился. Казалось, она проявляла неблагодарность, хотя я никак не мог понять, в чем причина. Я обнаружил, что расстроился, даже почувствовал раздражение. Конечно, это всего лишь неуместный пессимизм… Я все-таки справился с приступом плохого настроения. – Думаю, что цена уже заплачена. Тобой. Мной. – Кровать была белой и мягкой, мы нежились в теплой темноте маленькой комнаты с низким потолком. Я наслаждался почти детским ощущением безопасности. – Все это – награда за мои страдания. И ты разделяешь ее со мной. Ты тоже страдала. Я опустился на подушки со вздохом удовольствия. Наволочки украшала сложная вышивка. Эсме усмехнулась и прижалась ко мне – она снова успокоилась. Казалось, я достаточно легко переубедил ее – и себя. Эсме не имела права так говорить. Крепко обняв ее, я заснул. Сантуччи уже за завтраком очень торопился – нужно было отправляться. В Париже он собирался встретиться с другом. – Великолепный солдат с небольшой армией на продажу. На обратном пути мне понадобится автомобиль побольше. Мы поняли, что это шутка. Сантуччи надел строгий шелковый костюм пшеничного цвета. Я завидовал его элегантности, поскольку моя собственная одежда мало подходила для этой части света. Я решил купить себе и Эсме новый гардероб, как только мы обоснуемся в Англии. Я стал стесняться своей русской одежды, которая казалась такой модной в Одессе и оригинальной – в Константинополе. Здесь, однако, она выглядела тяжелой, бесформенной и неряшливой. Я снова почувствовал желание надеть форму, но осознавал, что она вряд ли подошла бы человеку, путешествующему с британским паспортом. Можно было продать часть моего багажа и на полученные деньги купить один приличный костюм. Такие детали я мог уладить в Париже. Я решил, что снова назовусь своим русским именем и состряпаю для Эсме документы, в которых будет сказано, что она моя сестра из Киева. Когда я обдумал все трудности и объем предстоящей работы, мне почти расхотелось ехать в Париж. Я утешал себя тем, что окажусь в Лондоне через неделю-другую. Я все еще не мог поверить, что всего лишь несколько сотен миль отделяли меня от миссис Корнелиус и ее любимого Уайтчепела. Лондон, как и многие огромные города, казался далеким и знаменитым, таким же оторванным от реальности, как мои непонятые мечты. Теперь Рим и Париж обрели реальные очертания, а Одесса и Константинополь стали просто туманной фантазией, из которой я шагнул в действительность. Во время путешествия я экономил кокаин, не желая остаться в Париже без порошка. Я использовал не больше пары щепоток по утрам. Кокаин всегда помогал мне спуститься с облаков на землю, заставлял обратиться к житейским проблемам. Я решил заняться делами, как только мы устроимся в городе. Я отправлюсь на поиски Коли – возможно, он еще не уехал. Коля поможет мне все решить. Я также пытался вообразить, на что будет похожа жизнь в Уайтчепеле. Меня охватывало волнение, я чувствовал даже какой-то трепет. Я вспоминал свою последнюю неловкую встречу с миссис Корнелиус, ее отрицательное отношение к моей связи с Эсме. Моя верная подруга изменит свое мнение, когда встретится с моей маленькой девочкой. Мы отправились в путь. Стояло прекрасное тихое утро, солнечный свет пробивался сквозь ряды сосен, позади оставались живописные улицы Дижона. А радостный Сантуччи описывал новый автомобиль, который он хотел купить, как только тот появится на рынке. Электрическая гоночная модель, рассказывал он. «Ситроен» уже создает ее. Теперь мы ехали среди холмов, покрытых редким лесом, мимо ярко-желтых горчичных полей. Иногда мы видели старые замки, деревеньки с каменными коричневыми домами и фермы. Равнодушные коровы паслись в полях, создавая то же ощущение бесконечного постоянства, которое господствовало в сельских районах Украины до революции. Сможет ли моя Украина когда-нибудь вернуться к своему былому совершенству? Конечно, думал я, трупы и разбитые пушки скоро исчезнут среди трав. Все позабудется… Откуда мне было знать? Мог ли я ожидать от Сталина такой жестокости и ненависти? Он вынес смертный приговор всей стране. Большевики заморили голодом русскую житницу! Они минировали луга, леса, целые деревни, чтобы взорвать местных жителей вместе с захватчиками. Я многократно замечал: люди настолько привыкают к войнам, ужасу и смерти, что начинают цепляться за них как за нечто неоспоримое – так более удачливые представители рода человеческого цепляются за древние мирные ритуалы. Почему люди в большинстве случаев сопротивляются переменам, даже если те обычно означают для них выживание? Сантуччи спросил, что я думаю о «Ситроен электрик». Я поделился с ним некоторыми из своих идей, которые касались автомобилей. Машины не должны зависеть от бензина. Их можно приводить в действие с помощью ракет или радиолучей. Я даже работал над проектом автомобиля, в котором движущей силой будут взрывы небольших зарядов динамита. Естественно, Аннибале это понравилось больше всего. – Динамит! Вот ваш ответ, синьор Корнелиус. От динамита наша новая Европа взлетит как феникс. Все это… – он взмахнул рукой в перчатке, указывая на небольшие холмы и ручьи, – …должно исчезнуть. Работа была сделана только наполовину, когда они ее прекратили, заключив злосчастное перемирие. Я никак не мог понять причин для такого разрушения. – В моем будущем найдется место всему. – Это звучало немного ханжески. – Чтобы создать по-настоящему новый мир, нужно уничтожить все воспоминания, все признаки, все ключи к разгадке прошлого. История должна исчезнуть! Он рассмеялся. Мы переезжали горбатый мост и на вершине подпрыгнули так, что несколько секунд парили в воздухе. Длинный капот «каннингема» блестел на солнце, как дуло пушки Круппа. Сантуччи обращался с машиной, как с оружием. Он испытывал радость, управляя ею. – Так вы – большевик! – Я пытался перекричать рев двигателя. – Вы должны побывать в России. Поезжайте туда поскорее. Они уже воплощают ваши теории! Он благосклонно выслушал это, качая головой и усмехаясь. – Но им не хватает стиля, мой друг. Если делать дела как следует, то делать их нужно с изяществом! Это вам скажет любой француз. Я встречал таких разряженных нигилистов в Питере. Почти все они умерли или попали в тюрьмы в первые дни триумфа Ленина. Мало того, я не относился к Сантуччи серьезно, даже немного жалел его. Если бы он когда-нибудь столкнулся с настоящей революцией, то стал бы, конечно, одной из ее первых жертв. Он был скорее плохим поэтом, чем плохим политиком, а плохие поэты всегда заслуживают прощения. Власть – это последнее, чего они хотят. Они обычно слишком боятся ответственности. Иногда власть им достается – тогда последствия могут оказаться самыми ужасными. Наш добрый водитель, однако, во всех отношениях был и забавным, и интересным. Его очарование оставалось очень сильным. Я хотел, чтобы он отправился в Лондон или Берлин. Пока человек движется, он не застывает. Автомобиль – лучшее средство побега от действительности, когда человек не находит своего истинного предназначения. И все же, когда Париж появился на горизонте, моя неуверенность исчезла. Мы проезжали через пригороды, иногда поднимаясь на небольшие холмы, иногда спускаясь в неглубокие долины. Я никак не ожидал, что так скоро увижу Эйфелеву башню. Она возвышалась над городом: восхитительная пирамида из стали и чугуна, приветствие девятнадцатого века нам, жителям будущего. Передо мной был город Жюля Верна, который прежде всего и указал мне путь в область науки и техники. Совсем рядом оживали гравюры из моего старого «Пирсона», а неподалеку виднелись монументы Наполеона, арки, гробницы, музеи и великолепные дворцы великих французских королей, почти неземные соборы и церкви. Все они казались порождениями чистого разума восемнадцатого столетия: чрезмерно рациональные, возможно, слишком холодные, но отличавшиеся превосходной чистотой и простотой. Мы проезжали по пригородным улицам в вечернем тумане, огромное красное солнце висело над нами. И всему этому порядку противостояли трущобы, неотремонтированные здания, невыразительные многоквартирные дома, узкие переулки и постоянное хаотичное движение, сильно отличавшееся от римского. Здесь все перемещались с ужасающей скоростью, как в прежнем Петербурге. Париж в сумерках озарялся электрическими лучами. Он был городом света, городом тонкого стекла и прекрасных каменных узоров. Его газовые лампы сияли ярким желтым светом. В уличных печах темно-красным пламенем горел древесный уголь. Я думал, что мог расслышать музыку, расслышать биение сердца, когда Сантуччи мчал свой чудовищный «каннингем» все ближе к центру города. Париж пах розовой водой, кофе и свежим хлебом. Он пах моторным маслом и чесноком, шоколадом и вином. Я посмотрел на Эсме и увидел в ее глазах слезы. Теперь она узрела подлинные небеса. Неверные существа, мы тотчас позабыли Рим. Париж немедленно стал нашей новой любовью. Сантуччи по-прежнему насвистывал мелодию Россини, но это уже нас не тревожило. Звон колоколов разносился от Нотр-Дама. Над Сеной звучали гудки лодочных сирен, когда мы преодолевали мосты острова Сите. Париж был настоящей симфонией упорядоченного движения и цвета. Алые и золотые крылья «Мулен Руж» напоминали спицы космического колеса. «Каннингем» быстро пронесся по рю Пигаль и вернулся вдоль бульвара Маджента к площади Республики. Сантуччи клялся, что никогда не мог освоиться с улицами Парижа. А потом мы внезапно оказались у зеленых, золотых и фиолетовых дверей Зимнего цирка, небольшого амфитеатра на бульваре дю Тампль. Как всегда, возле Сантуччи собрались дети, игравшие на тротуаре у платанов, они разглядывали огромный автомобиль, как будто это было видение Мадонны. Он прервал их молчание приветствием и гудком клаксона – тогда все начали задавать вопросы. Сантуччи послал одного мальчика в небольшой отель, вывеску которого освещала одна-единственная красная лампочка. Появился пухлый швейцар. Он вытирал губы пальцами руки, которая немного напоминала крыло пингвина. Француз, кивая и покачиваясь, приковылял к нам, выражая радость по поводу прибытия Сантуччи. Наш друг назвал его сержантом, пожал ему руку и заговорил об окопах. Сантуччи, казалось, существовал в сети отношений – деловых, личных, семейных. Он никогда не имел дел с незнакомцами. Даже человек, который наполнял ему бензобак, называл его мсье Сантуччи, жаловался на боль в спине и рассказывал о новом лекарстве, о котором прочитал в «Фигаро». Теперь я слушал, как швейцар справлялся о своих кузенах в Америке и погоде в Неаполе. Нам с Эсме его представили. Судя по церемониям, с которыми происходило это знакомство, мы оказались едва ли не близкими родственниками Сантуччи. Мы также обменялись рукопожатиями. Сержант сказал, что он всегда к нашим услугам. Не желаем ли мы поужинать? Сантуччи ответил, что у нас назначена встреча в другом месте. Швейцар громко свистнул. Появился мальчик, который встал на страже автомобиля, а нас повели в номера. В комнатушке были только старая двуспальная кровать, умывальник и несколько стульев, но жилье нам вполне подошло. После того как доставили багаж, мы вымылись и переоделись, но вскоре Аннибале Сантуччи постучал в нашу дверь и попросил поторопиться. Мы вернулись к лимузину. Клаксон загудел, и мы сневероятной скоростью помчались по очаровательным улицам обратно к Нотр-Даму – туда, где очертания громадного собора отражались в черной воде. Мы вновь проехали по мосту, потом по Сен-Мишель, а затем свернули в узкий переулок поблизости от Сен-Жермен. Остановив «каннингем» (половина корпуса оказалась на тротуаре, другая – на проезжей части), Сантуччи сказал, что мы приехали. Выйдя из машины, мы вошли в слабо освещенный ресторан, окна которого были занавешены с улицы. В газовом освещении интерьер казался теплым, как желтая слоновая кость. Белые льняные скатерти и серебряные приборы, пальмы в горшках, тишина и покой – это место было храмом еды, одним из тысяч, которые мне предстояло обнаружить в этом городе. В дальнем конце, в занавешенном алькове расположился худощавый пожилой человек. Он поднялся и протянул нам руку, тонкую, как умирающая орхидея. Его волосы и усы были превосходно подстрижены. От него пахло цветами. Старик печально улыбался и скорее напоминал не солдата, а священника. Он жестом пригласил нас за столик, хотя, казалось, наше присутствие его огорчило. Сантуччи представил нас как своих английских кузенов. Он сказал, что мы поедим вместе, а о делах можно поговорить потом. Старик отнесся к этому достаточно спокойно, хотя подобное изменение планов явно пришлось ему не по вкусу. Скрестив пальцы, он снова невозмутимо и терпеливо поклонился нам. Вероятно, он пользовался какими-то притираниями: где-то кожа казалась темной, где-то – неестественно розовой. Волосы его поредели. Только английский твидовый костюм и превосходный галстук выглядели не потертыми, а, напротив, почти противоестественно новыми. Он носил их, словно взятые взаймы доспехи. Мужчина нам не представился, хотя у меня сложилось впечатление, что он был аристократом, высокопоставленным генералом. Всякое любопытство, которое у меня оставалось на его счет, исчезло, когда подали еду. Началась превосходная трапеза. Сначала принесли говядину в винном соусе, потом мясное ассорти, сыр нешатель и крем-брюле. После ужина мы с Эсме остались за столом, слишком сытые, чтобы говорить, способные только глупо усмехаться, а Сантуччи и его клиент перебрались в бар и заказали коньяк. Деловые переговоры завершились, едва начавшись. Когда разговор подошел к концу, солдат не присоединился к нам, а быстро удалился. Сантуччи сел за стол и заказал арманьяк, «чтобы отпраздновать». – Все устроилось, – сказал он. – И, как видите, мне не пришлось осматривать армию лично. Деньги не переходили из рук в руки. Однако же все довольны. В этом суть международных финансов. – Куда пойдет армия? – Эсме редко задавала такие прямые вопросы. – Пойдет? – Сантуччи притворился удивленным. – Ну как же, на войну, конечно, голубка! Детали не важны, уверяю вас. Это солдаты. Им знакомы только сражения. Кто-то предоставляет услугу – в данном случае войну, – которая поможет им удовлетворить жажду крови и помешает причинить вред честным гражданам. Но все это уже решается по телеграфу и телефону. Сейчас меня ожидают в Бенгази неплохие комиссионные. Весь секрет в том, чтобы хранить деньги в разных частях мира и путешествовать из одного места в другое. Денежные запасы нужно по возможности разделять. Пусть люди переводят плату в Лондон или Лахор. Это дает возможность побывать в таких местах, в которых я никогда бы не оказался. Там я обычно нахожу новые возможности. Если кто-то ищет биржевого маклера, то я – биржевой маклер. Если кто-то хочет купить зерно, я становлюсь торговцем зерном. Быть посредником достаточно легко. Все полагаются на нетерпение, жадность, подозрительность. Люди скорее пожелают иметь дело с мастером на все руки, который хорош собой и готов говорить о грязных делах вроде денег и перевозок, а не с надменным и равнодушным специалистом. Товары редко проходят через мои руки, и я не несу ответственности за какие-то злоупотребления и мелкие нарушения закона. Мне никогда не добиться таких заработков, как у настоящего предпринимателя, но я живу хорошо, и, что самое важное, – он подмигнул Эсме, – у меня есть девочки в каждом порту. – Я не могу понять, почему другие люди не живут так, как вы. – Эсме была по-настоящему озадачена. Его спокойная речь казалась ей убедительной. Она не заметила иронии. Наш друг разгладил свой великолепный жилет, а потом небрежно махнул рукой: – Дело в том, что они – не Аннибале Сантуччи, голубка. – Он просто сожалел об этом. Он сочувствовал всем остальным людям. – Я отвезу вас в отель. Сейчас у меня есть кое-какие личные дела. Извините, что вас не приглашаю. Счет был оплачен банкнотами удивительной красоты. Мы ненадолго увидели Аннибале следующим утром, когда он расцеловал нас обоих на прощание и шепнул Эсме, что счет в гостинице оплачен на две недели вперед. – К тому времени вы уже уедете в Лондон. – Он обернулся ко мне. – Желаю вам удачи с вашими изобретениями, профессор. Пришлите мне открытку. Пригласите меня в гости, когда у вас будет возможность. Я наверняка найду чем заняться в Лондоне. Это ведь город воров – страна воров, богом клянусь! Смеясь, я сказал, что у меня нет его миланского адреса. Куда же я ему напишу? – Мендосе в Рим. Он всегда отыщет меня. В «Осу». В любую кофейню, куда я обычно захаживаю. – Он остановился у двери, вытащив из внутреннего кармана лист почтовой бумаги из отеля. – Это адреса некоторых друзей. Чудесные люди. Тебе они понравятся. Они здесь в изгнании. Я написал письмо. Навести их, если сможешь. Мы наблюдали, как гигантский зеленый автомобиль выехал на бульвар дю Темпль. «Каннингем» напоминал церемониальную баржу, которая двигалась по течению быстрой реки. Клаксон гудел. Двигатель бушевал, как миллион демонов, когда Сантуччи, набирая скорость, мчался мимо скульптур на площади Републики. Было чудесное утро. Мы не вернулись в отель, а, взявшись за руки, как всегда, двинулись по рю дю Тюренн по направлению к Отель-де-Виль. Мелкие капли дождя падали в потоках осеннего солнечного света. У всех, кроме нас, были зонтики, но мы в них не нуждались – мы приветствовали этот прекрасный дождь с тем же энтузиазмом, с каким приветствовали все, что предлагал нам Париж. Почти все листья еще были зелеными, но кое-где виднелись и золотые, и коричневые. Все казалось таким странным – в воздухе смешались сладкая меланхолия и праздничное волнение. В Париже с ноября 1918 года проходила грандиозная вечеринка – двадцать четыре часа в день. В ближайшее время мы должны были к ней присоединиться. Мы не колебались ни секунды. Пожалуй, в Париже для нас началась эпоха джаза.Глава одиннадцатая
Париж – не просто шлюха. Это настоящая королева шлюх, презирающая сутенеров, отгоняющая поклонников небрежной лестью, знающая: пусть красота увядает понемногу с каждым годом, но можно сохранить изящество и привлекательность, ведь то, чего лишает природа, легко вернет косметика. У Парижа, конечно, нет никакого золотого сердца. Этот город – как холодная продажная богиня, оценивающая секс точно так же, как взвешивают сладости. Богиня может быть удивительно чопорной, но, по сути, остается провинциальной матроной. Она придает большое значение внешности. Она знает точную цену всем добрым чувствам, и она продает романтику в розницу по граммам. Она – кружева, накрахмаленные до каменной твердости. Она – корсет, стягивающий кости. Она – ароматная приманка для мух; иллюзия наслаждения, способная лишить вас всех наличных денег с нежной девичьей улыбкой. Одна улыбка – сто франков. Очарование имеет свою рыночную цену, ее назначали бы на фондовой бирже, если бы кто-то когда-нибудь осмелился раскрыть правду. Но никто не решится, а если и посмеет, его все равно не услышат, ведь Париж, больше чем любой другой город, увлечен путаницей, маскировкой, обманом. Всем известно: где двусмысленность, там и деньги. Немногие парижане готовы согласиться с банальной мыслью: чем больше человек рассуждает о любви, флирте, проявлениях бессмертного чувства, тем чаще он демонстрирует жадность, продажность и необоримую жестокость. Ласковые слова зачастую неразрывно связаны с жадностью, которую они маскируют. Париж играл роль великой куртизанки на протяжении сотен лет. Город терпел поношения (а каким шлюхам не приходится от них страдать?) и даже иногда переживал эпохи вынужденной добродетели, домашней скуки, нерешительного раскаяния. Но шлюха очень скоро возвращалась к своему ремеслу, приподнимала алые юбки, надевала роскошные шляпы, являлась во всем блеске кокетства со слабым намеком на вульгарность и похабными гримасками. Но как она злилась, когда возникали сомнения в ее добродетели! Как она вопила и взывала к закону! Кроме того, не получая ответа на свои просьбы, она окончательно забывала обо всех претензиях на благовоспитанность. Она переходила в наступление. И все же случалось, что человек, которому она угрожала, ничего не пугался – тогда она снова начинала говорить нежным голосом, смирялась, потупляла глаза, смягчалась, бормотала извинения и выражала дружелюбие, распахивая свои утешительно-роскошные объятия. Позже, почувствовав, что может безнаказанно достичь цели, шлюха убивала своего предполагаемого завоевателя, когда он спал, раздевала его донага и выбрасывала тело из экипажа в реку. Париж задумчив и жаден. Это шлюха, способная изображать добродетель и высокомерие. Она сберегает свою красоту любой ценой, готовая отдаться и другу, и врагу. Сдаваясь врагу, она оглядывалась на него через плечо, имитируя достойную капитуляцию: мол, это тяжело, но что мне еще остается делать? Я беспомощна и не могу защититься. Эта проститутка – экран, на который мужчины проецируют свои величайшие фантазии, наделяют ее свойствами, которыми она в реальности не обладает, которыми не может обладать ни женщина, ни город. Эта шлюха также сбивает с толку и женщин. Она берет их за руки, она показывает им тайны своей красоты, она притворяется, что сделает их своими наперсницами, но на деле готовит их погибель. Иногда, если ее планы рушатся, она как будто опускает руки. Ее волосы выпадают. Она резко сдает. Ее поношенное платье свидетельствует о благородной бедности, она безнадежно и цинично поет о предательстве, смерти и конце романа. И вновь, прикидываясь уязвимой, она завоевывает сентиментальных союзников, покоряет новых жертв, а потом может безнаказанно стать прежней – бойкой и жадной. Она знает, сколько выпить и сколько съесть. Она ценит внешность превыше принципов, она радостно приветствует удобную ложь и решительно осуждает наивную честность. И как она любит развлекать солдат! Она предпочитает своих – но сгодятся любые. У нее есть склонность к золотым аксельбантам и серебряным медалям. Когда она видит раны и с безопасного расстояния вдыхает запах пороха, то сразу чувствует прилив волнения; марш боевого отряда, взмах запятнанного кровью знамени, горделивая поступь жеребца на плацу так же хороши, как наличные в руке, ведь она знает слабости солдат и может оценить их до последнего су. Она любит славу. Она охотится на львов. А если львов не найдется – что ж, она изготовит их из подходящих материалов. Там, где есть большие претензии, есть и бумажники, способные их подкрепить. Интриги ее влекут ничуть не меньше; чем больше тайн – тем больше золотых луидоров понадобится, чтобы купить молчание. Так что она ведет свою политику в потайных комнатах, в спальнях, в переулках и хорошо охраняемых зданиях, а риторика ее представителей поистине чрезмерна и поражает великолепным идеализмом, словами о чести, славе и этике. В Париже мы не отыщем мелкого цинизма страдающих молодых людей; зачастую эта шлюха напоказ ужасается цинизму, протестует, утверждает превосходство эмоций и человечности, но в своем поведении, как любая успешная проститутка, она цинична до кончиков ногтей, и единственная ценность, которой она по-настоящему дорожит, – это содержимое ее личного сейфа. Париж ограбит незнакомца гораздо изящнее, чем любой другой город. Сначала эта шлюха возьмет ваши деньги, а потом, если решит, что игра стоит свеч, заберет ваше сердце, ваш талант и, наконец, вашу жизнь. По сравнению с Парижем все прочие города наивны. Шлюха относится к соперницам с презрением или ненавистью. Если они нахальны, вульгарны или грубы, она обижается, опасаясь, что их дурная слава может прилипнуть и к ней. Она не хочет уступать в игре. Ее называли аристократкой, мадонной, ангелом. Она верит, что однажды проснется и обнаружит: ей больше не нужно притворяться. Она быстро станет настоящей дамой, достойной вдовой, подобно Вене или Праге, способной изящно стареть и добиваться власти не с помощью шантажа и лести, а на основе общего уважения. Это невозможно, и шлюха знает об этом, но цепляется за надежду, как иные цепляются за религию. В Париже, а не в Риме можно найти совершенное воплощение идеального католицизма. Всем известно, как небрежно итальянцы относятся к своей истории. Когда-то они правили миром и теперь знают, что смогли бы вернуть себе власть, если б они того пожелали, но она вызывает у них скуку. Даже Муссолини, едва получив бразды правления, сразу выпустил их из рук. Его смерть была трагедией. Он просто хлопнул дверью. Он мог бы окончить жизнь в тишине и покое, управляя магазином рядом с моим, возможно, маленьким рестораном или химчисткой. Но Рим – жестокая мать. Пытаясь продать свою благосклонность, она поднимается на разбитый постамент, задирает юбки и криками подзывает клиентов, как будто торгуя горячими каштанами или мороженым. Ей недостает терпения и разума, скромности и благородства. Ей следовало бы оставить это занятие и вспомнить о былых счастливых временах. Рим всегда считался скорее языческим, чем католическим. Религия здесь ничего не стоит без энергии и страсти. Французские священники прославились своим интеллектом, хитрыми манипуляциями, расчетливостью и жестокостью. Их совершенное воплощение – кардинал Ришелье, который опередил Ленина, фанатик, готовый уничтожить любого, кто самой своей индивидуальностью угрожает абстрактной идее государства, его подлинной религии – лично ему. Истинный католик по определению жаждет власти: все законы, на которые опирается католическая церковь, свидетельствуют об этом. Требование непрерывного размножения приводит к двум результатам: порабощение жен и увеличение числа детей, которыми можно управлять. Как эффектно французы подчинили религию своим потребностям! Эта религия ничего не требует от верующих, за исключением одного – соблюдать внешнюю обрядность. Есть определенная цена, которую приходится платить за сохранение видимости: осторожная епитимия. Но Бог им кажется гран-сеньором восемнадцатого столетия, закрывающим глаза на все преступления, пока не нарушают Его покой. Он практичный и разумный торговец, как и многие французские философы, и Его счета всегда в порядке. И Он предпочел бы, чтобы соборы восстановили и украсили как подобает, а органы заиграли в лад. Ему не нравится, когда вульгарные люди валятся на пол в Его доме, охваченные непристойной истерией. Французы усовершенствовали свою религию до предела. Итальянцы погрузились в полуязыческое одиночество, а испанцы, до сих пор так и не отвыкшие от человеческих жертв, с трудом удерживаются от того, чтобы залить Его алтари кровью быков и коз. Как холодно и высокомерно Ришелье уничтожил гугенотов! Вероятно, его лицо оставалось бесстрастным. Кардинал понимал их точку зрения. Но испанская инквизиция устроила свою бойню с подлинным энтузиазмом, с ненавистью и жестокостью, удовлетворяя стремление к ритуальным убийствам, услаждая слух своего темного Бога криками миллионов замученных душ, радуя его зловонием горящей плоти. Ибо имя этого бога – Молох. Вот кто скрывается под маской испанского Иеговы. Здесь укрылся Карфаген и все сыны Шема, отпрыски Вавилона, Ассирии, Ханаана, Арамеи, Аравии, Эфиопии и Израиля. Боги в обличье быков до сих пор бродят по улицам Барселоны. Ножи французов – иглы, которые могут высосать из человека жизнь, проникая под кожу дюйм за дюймом. Французы изображали дружелюбие. Они провозглашали тосты за свой город. Я на некоторое время стал знаменитостью. Но парижане только притворяются, что понимают смысл прогресса, для них все это – игрушки. Чтобы их впечатлить, нужно что-то яркое, шумное, красочное. Вкусы Парижа – вкусы шлюхи. Сантос-Дюмон[301] стал местным идолом, потому что его воздушные шары и дирижабли были безвкусны и роскошны, а его попытки взлететь казались такими эффектными. О нем столько говорили – ведь его аппараты были изготовлены из чудесных разноцветных шелков! Почти то же можно сказать обо всех тамошних летчиках. Они прекрасно выглядели в хорошо скроенных мундирах, но сделать могли немного, как парадные кавалеристы девятнадцатого века. Как всегда, их интересовала внешность, а не подлинная наука. Чтобы им понравиться, мне пришлось стать кем-то вроде Барнума[302], одного из их любимых американцев. Меня очень быстро оценили на Левом берегу. Я познакомился со всеми художниками и интеллектуалами, достойными такого звания. За мной ухаживали и мужчины, и женщины. Я курил опиум в модных публичных домах и нюхал кокс в лесбийских притонах. Все меня обожали. Я был их, мсье П, их «professeur russe»[303], их «petit colonel»[304]. Мы с Эсме были как Бензель и Гретель, блуждающие по Версальскому дворцу. Мы испытали настоящее потрясение. Друзья Сантуччи, ссыльные анархисты по фамилии Перонини (они оба красили волосы в рыжий цвет и всегда носили смокинг), ввели нас в общество преступников и радикалов. Я пожал руку самому Ламонту. Я сидел за одним столом с Антуанеттой Ферро и Вандой Сильвано[305] в «Лаперуссе»[306]. Великий астроном Лаланд регулярно обедал с нами в кафе «Ройал», и там я встретил его кузена Аполлинера[307], только что вернувшегося домой после четырехлетней службы в Иностранном легионе. Но хотя все они клялись в вечной дружбе и восхищались моим творческим гением, никто не мог нам помочь добраться до Англии. Через две недели мой оптимизм угас. Британское посольство отказалось предоставлять мне какую-либо информацию, организации русских эмигрантов ничего не могли пообещать и не располагали никакими новостями о Коле. Париж наводнили русские, многие из которых предъявляли верительные грамоты куда внушительнее моих, и власти были сыты нами по горло. Эсме, надо сказать, начала во мне сомневаться, особенно когда нам пришлось выехать из гостиницы и занять две ничтожных комнаты на улочке, которая ничем не отличалась от темных подворотен Монпарнаса. На рю де ла Юшетт располагалось множество захудалых баров и так называемых дансингов, здесь находились дешевые рыбные и мясные лавки и лотки с заплесневелыми фруктами и овощами. Шлюхи наводняли это местечко. В переулке появлялись почти все клошары Левого берега. По крайней мере одно из зданий было абсолютно заброшенным, там обитали кошмарные бродяги и нищие. Наши комнаты располагались по соседству, на верхнем этаже полуразрушенного дома, и они были немногим лучше того нищенского убежища, из которого я спас Эсме в Галате. Я понимал, что она об этом думала. Единственное преимущество нашего обиталища состояло в том, что в комнаты не проникал уличный шум. Поначалу Эсме старалась как могла – подметала полы и убирала мусор, но ее быстро охватила апатия. Она очень хотела проводить как можно больше времени на улицах, в веселой компании наших новых друзей, завсегдатаев кафе Монпарнаса и Монмартра, которые, по крайней мере, всегда щедро угощали нас вином. Думаю, они хотели нам добра – те люди, которые клялись, что смогут раздобыть для Эсме нужные документы. Они сделали фотографии, изучили мои русские бумаги. Они утверждали, что дружат и с высшими, и с низшими – и с мошенником с Сен-Жермен, и с секретарем английского посла. Но ни от кого из них не было толку. Я не хотел зависеть от них, но не мог отыскать в Париже работу по технической части, как в Киеве или Пере. Французская армия обеспечила страну многими тысячами кое-как обученных механиков, и большинство из них осталось без работы. Я мог надеяться только на то, что отыщу покровителя для одного из своих проектов. Я знал, что изобретение может подействовать на легкомысленных парижан, если покажется им сенсационным, и заявил, что намерен построить большой авиалайнер, способный с максимальной скоростью доставить в Америку сто пассажиров. Эсме просила меня соблюдать осторожность: – У тебя же нет чертежей такого корабля, Максим! Мы не должны привлекать внимание полиции. Я успокаивал ее. Я громко смеялся: – Что может сделать полиция? Доказать, что я не настоящий изобретатель? Моя маленькая голубка, если отхвачу свой кусок, понадобится лишь несколько часов, чтобы подготовить проект. Что ж, раз уж тебе так хочется, я готов приступить немедленно. Я начал рассказывать о своем изобретении в кафе. Я говорил о неизбежном успехе предприятия, о том, какие огромные состояния можно на нем заработать. – В самом деле, к этому нужно относиться как к солидному коммерческому проекту, – утверждал я. Американские туристы практически оккупировали Монмартр и Елисейские Поля. Чем чаще они будут приезжать и чем в большем количестве, тем лучше для всех, говорил я. Туризм к тому времени стал одним из главных источников дохода для всех крупных городов. Сдав в ломбард шубу, я оплатил новые визитные карточки, рекламирующие «Франко-американскую аэронавигационную компанию». Карточки я старался раздавать при всякой удобной возможности. Слухи обо мне медленно распространялись по Парижу. Многие говорили, что им уже известно о профессоре Пятницком, русском эксперте по самолетостроению, гениальном юноше, который создал в Киеве фиолетовый луч и в одиночку остановил красную конницу. Один журналист, приятель Лаланда, взял у меня интервью для своей газеты, через некоторое время появилась большая статья. Там многое было преувеличено, но в мою пользу. Меня называли донкихотствующим казаком, человеком науки и человеком действия, авантюристом, подобным Мюнхгаузену. У меня до сих пор хранится вырезка – «Ревью Куку»[308] от 15 сентября 1920 года. И это не единственное свидетельство общественного признания. Меня прославляло множество газет. Больше всего я страшился не того, что не смогу выжить, а того, что Эсме заскучает и разочаруется. Я так и не смог, к сожалению, сдержать свои чудесные обещания. Наши развлечения зависели от щедрости других. Еще в Риме она полюбила кино, а чтобы заплатить за билет на новый фильм Пикфорд или Сеннета[309], денег хватало не всегда. Мои дела шли хуже, а я, как ни парадоксально, все толстел благодаря бесплатным обедам, которые обеспечивали мои богемные друзья. Но что еще хуже, Эсме стыдилась своей одежды. Даже парижских художников отличал определенный стиль, и их женщины выглядели изящными независимо от того, насколько эксцентричными оставались их платья. Эсме, как ни старалась, не могла подражать им. Я уверял, что мне она кажется восхитительной и привлекательной, но женщины в подобных делах никогда не верят своим возлюбленным. Тем временем я продолжал расспрашивать о Коле, и мне стало ясно: в Париже полно людей, которые просто не могут признать, что они чего-то не знают. Очень многие притворялись, будто слышали о нем. Несколько русских эмигрантов утверждали, что встречали его на улочках по соседству или ужинали с ним пару дней назад, но почти все они оказались жуликами, которых интересовали только мои деньги. Возможно, из-за того, что наши русские дворяне в своих манерах и языке всегда ориентировались на Францию, в Париже собралось почти столько же эмигрантов, сколько в Константинополе. Русские рестораны вошли в моду. Русские художники устраивали выставки своих аляповатых картин. Русские танцоры шокировали весь мир причудливой хореографией, костюмами и отвратительной музыкой. Те самые элементы декаданса, которыми сопровождался триумф Ленина, теперь, как опасные споры, распространились во Франции. В результате парижане стали нас опасаться – и кто мог их в этом обвинить? Я с самого начала ошибся, открыв свою национальность. Я добился бы большего, если бы утверждал, что я еврей или египтянин! Иногда меня осаждали «синие чулки», которые бесконечно повторяли, как они сочувствуют стране, попавшей в ужасно тяжелое положение, а иногда ко мне и моим товарищам относились как к артистам какого-то гигантского цирка, приехавшим в город просто для того, чтобы развлечь скучающих обывателей. Париж цеплялся за все модное. Совсем недавно я услышал, что последнее повальное увлечение – американские комиксы. Министр культуры присудил премию иллюстратору «Маленькой сиротки Энни»[310], а муниципальные власти Парижа переименовали авеню Рузвельта[311]. Теперь она называется бульваром Бэтмена. И куда же подевались претензии современных французов на культурное превосходство? Они подражают худшей американской и английской поп-музыке, худшей дешевой литературе, худшим фильмам. Они, по-видимому, отождествляют этот хлам с той жизненной энергией, которую они утратили более полувека назад. Я надеялся, что де Голль сплотит свою страну (хотя он показался мне напыщенным тупицей, когда мы повстречались в 1943 году). Его правление отмечено только студенческими беспорядками и распространением порнографии. Он не смог подчинить Алжир и не смог поставить на место свою блудливую столицу. (Более зловещие слухи о его происхождении и истинных привязанностях я отвергаю из-за отсутствия доказательств. Очень важно, однако, что он не сумел совладать с мусульманами за границей и не возражал против появления арабов и турок в собственной столице. Я разумный человек и не желаю верить в теорию заговора, получившую в наши дни такое распространение у западных красных. Дело в том, что подлинный заговор готовился в течение многих столетий, и в результате христианский мир изменился настолько сильно, что его стало трудно узнать!) Наши дела шли все хуже и хуже. Эсме плакала при виде серых простыней и грязных окон. Она говорила, что нам не следовало уезжать из Рима. Итальянцы, конечно, были щедрее французов. Из России приходили ужасные новости. Верные присяге армии постоянно отступали и почти не получали помощи от союзников, теперь занятых турецкими делами. Я расспрашивал людей, приезжавших с юга России, о своей матери и друзьях, но ответов не получал. Бедолаги все еще не могли прийти в себя, все еще находились во власти кошмара. Казалось, тормошить их настолько же опасно, как пытаться разбудить сомнамбулу. Выходило много русских газет всех политических мастей, от яростно-монархических до крайне нигилистических, в них сообщались не факты, а мнения. В русских издательствах и русских информационных центрах, как и в отдельных кафе, которыми управляли русские, в основном все ограничивались сплетнями и нелепыми фантазиями. Эти эмигранты, подобно их берлинским коллегам, были удачливыми беженцами. В других местах сотни тысяч людей попадали в гражданские концентрационные лагеря, умирали от болезней или от отчаяния. И даже среди этих несчастных беженцев встречались сторонники Ленина и Троцкого. Ужасные последствия социализма стали всем очевидны, и все-таки французские социалисты готовили подобную судьбу своей собственной стране! Возможно, сопротивление оказалось бы гораздо мощнее, если бы наши газеты не печатали правдивые рассказы о злодеяниях настолько отвратительных, что обычные парижане не могли поверить прочитанному и отвергали подлинные истории, считая их лживой пропагандой. Я настаивал, что в газетах пишут правду, – я видел такие вещи собственными глазами. Я пострадал от рук красных добровольцев, и только бегство спасло мою жизнь. Но я вскоре понял, что лучше ничего не говорить. В те дни непрерывного, лихорадочного послевоенного веселья люди могли возненавидеть тех, кто говорил о смерти и ужасе или даже о чем-то менее значительном. Вот что им было нужно: новейший американский джаз, модные танцы, эксцентричные наряды. О героях войны уже забыли. Их место заняли потные негры, игравшие на банджо. И когда цена этих новых ощущений оказалась слишком высокой, они потребовали денег у разоренной Германии! (Разумеется, немцы устали. от таких требований. Они снова заняли город, после чего парижане просто пожали плечами, вдвое подняли цену на выпивку для немецких солдат и стали танцевать дальше.) Эсме была готова присоединиться к великой вечеринке. Ее стремление к хорошей жизни вызывало у меня беспокойство. Она была молода, ей хотелось посещать разные места, но, конечно, я никак не мог найти наличных. Вскоре мне пришлось продать ценный патент за несколько сотен франков. Моим агентом стал одесский еврей по фамилии Розенблюм. Я заставил себя вежливо побеседовать с ним и даже не отдернул руку, когда он протянул мне липкие пальцы, предлагая заключить союз. Он сказал, где я должен встретиться с его клиентом. Это случилось на Монмартре, в туристическом «Бал дю данс», в пасмурный день, когда колокол Савояр на башне Сакре-Кёр звонил «Ангелюс»[312]. Мне нравилась эта церковь. Казалось, ее перенесли откуда-то издалека, с Востока. Обычная толпа посетителей рассосалась. Эстрада опустела, стулья сдвинули, бар закрыли, и все-таки в помещении еще воняло дешевыми духами и молодым вином. Я вошел внутрь. Дверь за мной запер человек, с которым я согласился встретиться. Он тоже оказался украинцем, но из Марселя – он жил там с 1913 года. На мсье Свирском были яркий костюм в тонкую полоску и белая фетровая шляпа. Его руки были увешаны тяжелыми золотыми кольцами с грубо ограненными полудрагоценными камнями, главным образом темнокрасными. Он сказал, что работает брокером на серьезных южных промышленников, имеющих отделения в Париже. Он был лет на десять старше меня, но кожа на его лице казалась дряблой, как у ищейки, – словно что-то сушило его изнутри. Из-за этого Свирский выглядел печальным. Но его глаза напоминали твердые коричневые камни. Он расспросил меня об изобретении, которое я хотел продать. Он меня выслушал, и глаза его сверкнули, лицо сморщилось, губы искривились, как будто он считал себя обязанным проявить глубокомысленный интерес к моему отчету. Этот странный, нервный маленький субъект немедленно расслабился, когда я сказал, что добавить мне нечего. Тогда он озабоченно посмотрел в сторону бара. Свирский явно чувствовал неловкость – возможно, он хотел вести себя правильно, но не вполне понимал, чего от него ожидают. Он напоминал мне кое-как выдрессированного спаниеля. И все же в бумажнике у него лежали деньги вместе с листком бумаги, который мне следовало подписать: контракт на бланке марсельской проектной фирмы. Там упоминались лицензионные выплаты, которые я должен получить, когда мой тормоз безопасности начнет приносить доход. (Это устройство присоединялось к акселератору автомобиля. Оно автоматически срабатывало, когда водитель полностью отпускал педаль.) Мы болтали об Одессе и о хороших временах, которые мы там пережили. Он знал некоторые из моих любимых кафе. Он вспомнил «У лохматого Эзо», вспомнил имя аккордеониста, который постоянно играл в заведении. Я произвел на него впечатление, когда упомянул своего дядю Сеню. Семена Иосифовича знали все. – Так вы его племянник! Как тесен мир! – Он усмехнулся. – Мне лучше еще раз взглянуть на этот контракт. Вы слишком быстро его подписали. Почему вы не вошли в семейный бизнес? – Дядя Сеня послал меня в технический институт. Он хотел, чтобы я стал адвокатом, но у меня не было к этому призвания. Свирский воспринял это спокойно: – У вашей семьи нет особой склонности к юриспруденции. Я спросил, знал ли он моего кузена. Свирский сказал, что, по его мнению, Шура может находиться в Марселе. – Нет, – возразил я. – Говорят, его убили. Но Свирский был уверен, что Шура жив. – Он явился несколько лет назад и просил дать ему работу. Наверное, дезертировал. Его бы, наверное, устроило, если б люди решили, что он мертв, а? Вероятно, обменялся с кем-то документами и сел на корабль. Так обычно и делается. Неужели весь мир воскрес? Меня эта мысль просто потрясла. Да, все было очень похоже на Шуру. Я попросил Свирского передать моему кузену, чтобы тот связался со мной, если захочет. Мы поссорились из-за девушки. Я сожалел о случившемся. Я был уверен, что и он чувствует то же самое. В такие времена родственники должны быть вместе. – Да, верно, – сказал Свирский. – В Марселе все еще очень много украинцев. Разумеется, с начала войны прежняя торговля с Одессой таки почти прекратилась. Это большой позор. Нам всем было очень хорошо. Он зевнул. Теперь, заполучив мою подпись, Свирский чувствовал себя гораздо спокойнее. Мы согласились, что дела в Одессе уже никогда не пойдут так хорошо, как прежде. Золотой век миновал. В 1918 году только Париж вопреки всему пытался жить на широкую ногу. Апокалиптические политические идеи угрожали всей европейской жизни, предвещая новые войны и новые режимы. Свирский все еще надеялся, что большевики «немного расслабятся», как только окончательно победят в гражданской войне. – Они обязаны открыть морскую торговлю. Они ведь не сошли с ума. Но Свирский никогда не сталкивался с этой особой формой безумия. Я сказал, что настроен не так оптимистично. Эти люди готовы уничтожить все страны, которые угрожают их безумным мифам. Он настаивал, что все устаканится. Я поблагодарил Свирского за деньги и, пожав ему руку, покинул «Бал дю данс». В следующий раз мы встретились лишь через несколько лет. Тогда Свирский мог бы назвать меня пророком. Мой автоматический тормоз помог нам продержаться больше двух недель. Мы купили новую роскошную одежду. Мы посмотрели «Кабинет доктора Калигари»[313], и нас испугало его безумие. Этот модернистский экспрессионизм явственно свидетельствовал о том, что после поражения Германия стала нервной, почти психопатичной. Даже более обычные, менее иррациональные фильмы отражали ту же болезненную навязчивую идею смерти и психического заболевания. Эсме очень понравился «Полукровка». Никак нельзя было предположить, что этот фильм создал человек, который позднее подарил нам «Метрополис», «Нибелунгов» и «Женщину на Луне»[314]. Я в то время предпочитал «Пауков»[315] – эта картина казалась более понятной. Нам обоим, однако, нравился Чарли Чаплин, мы несколько раз смотрели «Тихую улицу» и «Иммигранта». Моей фавориткой стала Мэри Пикфорд, которая во многом напоминала Эсме. Мы посмотрели «Маленькую американку», «Ребекку с фермы Саннибрук» и «М’лисс». После просмотра мне захотелось перечитать рассказы Брета Гарта и отправиться в Калифорнию. Наверное, из всех фильмов Мэри Пикфорд мне больше всего нравился «Длинноногий папочка». Я сказал Эсме, что, если бы не любил ее, Мэри Пикфорд завладела бы моим сердцем. Эсме сказала, что, на ее взгляд, Мэри слишком хороша и мила. Я рассмеялся: – В таком случае она – твоя идеальная конкурентка! В Париже Америка стала для меня гораздо важнее, чем прежде, благодаря Д. У. Гриффиту, который так эффектно показал свою страну в величайшем из всех фильмов. Мы оба были просто одержимы «Рождением нации». Мы посмотрели фильм по меньшей мере двадцать раз. И в результате я начал понимать, что потенциал социального и научного прогресса сосредоточен в Соединенных Штатах. Если бы я сам снимал кино, то сделал бы именно таким. Один только Гриффит показал миру, что его страна населена не только колонистами, дикарями и гангстерами. Идеалы режиссера так напоминали мои собственные! Я обещал себе: как только моя компания по производству дирижаблей добьется успеха, я немедленно отправлюсь в США и лично поблагодарю его. Я хотел, чтобы он обратил свое внимание на проблемы России. Достаточно одного фильма, в котором ужасы большевизма будут показаны так ярко, как Гриффит показал злодеяния северян и саквояжников, подстрекавших негров столь же цинично, как Ленин подстрекал монголов, – и целый мир бросится на помощь моей стране. (Как ни странно, сами большевики это осознали. Проявив почти невероятную хитрость, они наняли плагиатора Эйзенштейна, чтобы тот представил их дело в искаженном виде. Хитрый еврей, способный подражать гениям, украл труд Гриффита, создав хвалебную оду своим кровожадным хозяевам, представив их в нелепом героическом образе: ненавистная Гриффиту толпа в свете прожекторов представлялась поистине благородной. Это доказывает: средства не могут быть хороши сами по себе. Все зависит от того, кто их использует. Именно поэтому изобретатель всегда должен сохранять осторожность. Я и теперь держу свои изобретения при себе. За последние полвека на них слишком часто покушались.) Париж продолжал танцевать. На всех улицах работали кафешантаны, публичные дома, бары. Пресыщенные люди приезжали со всех континентов, они мечтали поучаствовать в вечеринке. Американцы встречались повсюду. У них были деньги, хотя, как правило, они притворялись бедными. В своих любимых кафе на Левом берегу я встречал приезжих журналистов, живописцев, поэтов. Я спрашивал прибывших из США о Мэри Пикфорд и Лилиан Гиш, но они могли сообщить мне гораздо меньше, чем я сам узнал из киножурналов. Некоторые из них (главным образом жители Нью-Йорка) даже не имели представления, кто такой Дуглас Фэрбенкс! Прямо как русские, не слыхавшие о Стеньке Разине и царе Салтане! Их глубочайшее невежество вызывало у меня жалость. Они приезжали в Париж, отчаянно стараясь выглядеть интеллектуалами, читали невозможные французские романы Жида, Уиды и Мориака, пускали слюни над грязными выдумками Вилли-Коллетт, изданными под видом литературы. И в то же самое время они с восторгом рассуждали о массовом вкусе и дрыгали руками и ногами, изображая темнокожих собирателей хлопка, страдающих от предсмертного паралича. Я знал, что они смеялись надо мной, и все же я гораздо лучше чувствовал пульс эпохи, чем они. Они на самом деле воплощали прошлое, сами того не понимая. А я был истинным человеком своего времени. Они просто пытались повторить ностальгическую, невозможную фантазию конца века. И тем не менее некоторые из них снисходительно приобретали выпущенные мной акции «Аэронавигационной компании». Именно на эти средства, которые я тщательно учитывал в особом блокноте, мы и жили. Эсме снова начала страдать от головной боли, у нее повторялись приступы усталости, похожие на тот, что случился на лодке Казакяна. Сначала я сидел с ней, работая за нашим единственным столом, рисуя чертежи и сочиняя письма всем, кто мог бы нам помочь добраться до Англии. Постепенно я стал уходить все чаще, оставляя ее с керасиновой лампой и подержанными романами, купленными на соседних развалах. Деньги нужно было как-то добывать, а нам не всегда удавалось оплачивать самое необходимое. Один только кокаин в Париже стоил огромных денег. Он неожиданно вошел в моду в полусвете, официанты открыто продавали его в ночных клубах и ресторанах. Я впал в панику, понимая, что Эсме вскоре захочет бросить меня, – она не была создана для бедности или тяжелой работы. Лондон оставался недосягаемым. И мне приходилось тратить все больше и больше времени на поиски нового партнера, готового профинансировать строительство огромного дирижабля. Люди все сильнее опасались тех, кто проявлял интерес к их деньгам, – неважно, насколько убедительно выглядели проекты. Парижане в основном занимались тем, что брали деньги у других. Я страдал от страха и усталости, одна неудача следовала за другой. Эсме все глубже погружалась в себя, даже кокаин уже не действовал на нее. Я надеялся разыскать Колю. Я оставлял сообщения повсюду. Я прикреплял их на доски объявлений в эмигрантских общежитиях, передавал клочки бумаги незнакомцам. Я печатал объявления в русских газетах. И еще я писал миссис Корнелиус, майору Наю, мистеру Грину, умоляя их прислать нам денег на проезд до Англии и использовать свое влияние на английских чиновников в Лондоне и в Париже. Русские потешались надо мной. Они ехидно спрашивали: «Ваш князь уже появился?» или «Дирижабль полетит сегодня?» Это было отвратительно. Наконец, только чтобы избежать подобных унижений, я начал отрицать, что я русский. Однажды я стоял возле Зимнего цирка, перед отелем на рю дю Тампль, в котором мы жили после приезда в Париж, и ждал, когда артисты выйдут после дневной репетиции (я слышал, что многие русские теперь выступали в цирке в качестве наездников). И тут я явственно увидел Бродманна, одетого по последней моде в черную фетровую шляпу и пальто. Он быстро шагал по направлению к площади Республики. Взмахнув зонтиком, он подозвал такси и жестом пригласил еще какого-то человека присоединиться к нему. Этот мужчина был одет менее презентабельно, в коричневый костюм, – мне он показался французским интеллектуалом. Под мышкой незнакомец держал пачку газет. Я сразу догадался, что он придерживался радикальных убеждений. Бродманн улыбался и шутил, не обращая внимания на окружающих. Он явно преуспел, как это свойственно людям такого сорта. Несомненно, он изображал героя революции. Почти наверняка он стал агентом ЧК в какой-то небольшевистской организации. Дрожа от страха, я немедленно поспешил домой. Эсме была бледна, она что-то ела и пыталась читать Готье. Я ничего ей не сказал – не хотел тревожить ее еще сильнее. Но остаток вечера я провел дома, а на следующий день не стал бриться, решив отрастить бороду. Я сел на трамвай, следовавший на Монпарнасское кладбище. Поблизости от него располагались театр и кафе, кажется, под названием «Пеле Нала». Некогда там собирались итальянские актеры, но теперь это место стало прибежищем русских анархистов. Я пал так низко, что вынужден был общаться с отребьем. Я делал все ради Эсме. Я пошел бы на что угодно, лишь бы спасти ее от нищеты. Спрыгнув с подножки трамвая, я пересек улицу и вошел в кафе. Ограда кладбища осталась позади меня. Стоял холодный осенний день, было довольно светло. Кафе только что открылось. Внутри официанты еще отодвигали стулья от столов. Немногочисленные клиенты собрались в баре, они пили кофе из маленьких чашек и угощали друг друга сигаретами. Некоторые говорили на диалекте, который был мне знаком, – речь поселенцев, полурусских, полуукраинцев из Екатеринославской губернии. Я немного владел этим языком – по крайней мере, представлял общие правила – и смог приветствовать собравшихся. Однако они посмотрели на меня неприветливо и подозрительно. Эти люди, вероятно,провели в Париже несколько месяцев, но вид у них был до сих пор какой-то волчий. Я решил, что подобные люди не меняются нигде. Почти все носили обычную дешевую рабочую одежду, хотя у некоторых еще сохранились остатки мундиров – головные уборы, брюки или обувь. Я сказал им, что родился в Киеве, – это не произвело впечатления. Они немного расслабились, когда услышали, что я служил у Нестора Махно. Маленький батько все еще считался в их кругу великим героем. Высокий худощавый хромой мужчина, левая рука которого безжизненно висела, задал несколько вопросов, явно для того, чтобы проверить меня. Мои ответы его удовлетворили. – И кем вы были? – спросил он. – Зеленым? Или вы один из тех городских анархистов, которые пытались нас учить, как сражаться с красными? Я инстинктивно принял решение сказать им правду. – Нет, – произнес я. – Моя сестра была санитаркой в армии Махно. Может, вы ее знали? Эсме Лукьянова. – Знакомое имя, – сказал высокий мужчина. – Симпатичная блондиночка? – Да, она. – Так чем же вы занимались? – Я учитель. И инженер. Я был в агитпоезде, когда меня захватили белые. Они заперли нас в синагоге на верную смерть. Потом прорвались какие-то австралийцы и забрали нас в Одессу. Услышав, что белые наводнили город, а красные расстреливают анархистов, я сел на корабль вместе с беженцами. Они не хотели слушать рассказы о подвигах, эти мужчины. Многие из них оказались так называемыми «казаками» из Гуляйполя. Их не слишком интересовали истории других беглецов. Раненого звали Челанак, очевидно, он был немецким колонистом с примесью еврейской крови, поэтому я его и заподозрил. Он сказал, что его сочли мертвым после того, как большевики напали на Голту[316] в сентябре 1919 года. – Мы тогда тоже побеждали. – Он сделал паузу и отступил от меня на шаг, как будто осматривая картину. Потом он продолжил: – Я отполз в небольшой лесок, где греческие пехотинцы по обрывкам кителя приняли меня за белого офицера. Меня послали в Одессу, где находился плавучий госпиталь. Он направлялся в Болгарию, думаю. Но я остался в какой-то маленькой рыбацкой деревне, в которой мы остановились непонятно зачем. Я попытался вернуться – это случилось у самой границы. Меня схватили дезертиры, но не успели пристрелить – их поймали красные. Я снова сбежал, сначала в Польшу, потом в Вену и, наконец, во Францию. – Он нахмурился и понизил голос: – Но я тебя знаю, я уверен, знаю. Я его раньше никогда не видел. Кафе начали заполнять ветераны. Челанак прислонился к стойке и потягивал кофе. Его следующие слова были как будто совсем не связаны с предшествующими. Но говорил он очень многозначительно: – Я был с Махно, когда мы казнили Григорьева на виду у его собственной армии. Помнишь? Чубенко выстрелил первым, Махно – вторым, а я – последним. Мы сделали это из-за погромов, думаю. Я точно тебя знаю! Ты был одним из связных боротьбистов, которых мы обнаружили в отряде Григорьева. Бродманн! Ничего более ужасного он сказать не мог. Мне тотчас стало дурно. Я попытался улыбнуться. Он отбросил журнал, который держал в руке, и щелкнул пальцами: – Бродманн. Кто-то сказал, что ты в Париже. – Он осмотрелся по сторонам. Я едва не закричат: – Я не Бродманн! Ради бога, дружище! Меня зовут Корнелиус! Меня действительно схватил Ермилов, но я сбежал. Я был пленником Григорьева несколько дней, вот и все! Потом я встретился с сестрой в Гуляй-поле. Клянусь, это правда. Я был потрясен. Я видел Бродманна всего днем раньше. Это само по себе пугало. Но то, что бывшие бандиты приняли меня за ужасного предателя-еврея, было гораздо хуже. – Я встречал человека, который носил эту фамилию. Он был большевиком, хотя какое-то время притворялся боротьбистом. – Я пожалел об этом признании, едва слова сорвались с моих губ. – Товарищ Бродманна, так? Я знаю твое лицо. Я тебя знаю. Он не проявлял особой враждебности. Как будто он лично не испытывал ненависти к своим старым врагам. Но было непохоже, что все остальные разделяли его терпимость. Наверное, я вспотел. Я почти умолял его не продолжать разговор о нелепом сходстве. Я простирал к нему руки. Я никогда не видел этого полумертвеца прежде и не мог поверить в глупое совпадение, приведшее к тому, что он спутал меня с человеком, которого я боялся и презирал сильнее всех на свете. Я с трудом покачал головой: – Который Бродманн? С рыжей бородой? Из Александровска? Челанак засмеялся: – Нет-нет! Я видел тебя на митинге! Позавчера. Неподалеку от улицы Сен-Дени. Я тогда подумал, что ты и есть Бродманн. – Я не был на митинге, товарищ. Пожалуйста, не надо об этом! Неужели Бродманн в конце концов принесет мне смерть? – Ты знаешь, что Бродманн утверждает, будто помог убить Григорьева? Ты не убивал Григорьева, верно? – Конечно нет. – Извини. Сюда часто заходят чекисты. Должно быть, у тебя есть двойник, товарищ. Неприятно, да? Двойник, который служит в ЧК! Казалось, опасность миновала, но я никак не мог успокоиться. Я пришел туда только потому, что надеялся узнать новости о Коле, в прошлом связанном с кем-то из анархистов. В душном помещении собиралось все больше изгнанников, одни говорили на русском, другие – на французском, немецком, польском. Они держали в руках смятые газеты так же небрежно, как некогда мечи и винтовки. Я начал проталкиваться к выходу. Челанак ухватил меня за пальто: – Но ты, несомненно, друг Бродманна? Может, до сих пор боротьбист? Скажи хотя бы, зачем ты сюда пришел! – Из-за князя Петрова, – сказал я. – Какого черта ты ищешь здесь князя? – Он снова подошел ко мне. – Мы немного побаиваемся шпионов, друг Бродманна. – Я не друг Бродманна. Единственный Бродманн, которого я знал, пойман и расстрелян белыми в Одессе в прошлом году. Что касается Петрова, он сделал так же много, как и любой из нас, – и тоже пострадал. Разве для нашего движения существуют классовые ограничения? Если так, то вы, наверное, собираетесь исключить Кропоткина! – Я с ужасом осознал, что все глаза теперь устремлены на меня. Я заговорил более решительно: – Ты дурак, Челанак. – Я придвинулся к нему, ударил по высохшей руке, которая начала качаться, как маятник. – Не могу понять, почему ты выбрал меня. Я не причинил тебе вреда. Мы еще недавно вместе служили общему делу. Он ухватился за раненую руку здоровой, чтобы она перестала качаться. Потом он посмотрел в землю. – Прошу прощения, товарищ. У нас здесь нет никакого Петрова – разве что он сменил имя и звание. Не знаю, почему я так заговорил. Может, есть в тебе что-то такое… Мы оба тяжело дышали. Мы теперь стояли возле кафе и смотрели на кладбище, находившееся за железной оградой по ту сторону дороги. – Ты, по-моему, немного похож на Бродманна, – сказал он, пытаясь смягчить оскорбление. – Но я вижу, что ты – не он. Ты ни одеждой, ни выражением лица не напоминаешь чекиста. При дневном свете это очевидно. Я еще раз извиняюсь. Что я могу для тебя сделать? – Я надеялся отыскать князя Петрова, вот и все. – Сюда приходят только измученные и побежденные анархисты. Нас связывают страдания и жалость к себе. – Он улыбнулся, поправив кепку. – Возможно, именно поэтому я принял тебя за чекиста. Ты выглядишь не особенно подавленным. Иди с миром, товарищ. Но будь осторожен. Твое лицо не очень подходит для этих мест. – Он слегка расслабился. – В твоих глазах слишком много будущего. А эти кафе – цитадели утраченного прошлого. У нас нет сил, чтобы сделать еще шаг вперед. Я не могу вспомнить, попрощался ли с ним. Я помчался по рю Фруадево, мимо театра. Я бежал не от Челанака, а от Бродманна. Я был уверен, что анархист прав. Бродманн – наиболее подходящий кандидат в агенты ЧК. Он очень обрадовался бы, если бы представилась возможность меня уничтожить. В тот момент я был готов бежать обратно в Рим. Какую же глупость я совершил, когда бездумно принял приглашение Сантуччи! Я думал, что отсюда легче добраться до Лондона. Лучше бы я остался в Константинополе. Я решил, что совершенно необходимо поскорее выбраться из Парижа, возможно, уехать на юг или в Бельгию, а оттуда перебраться в Голландию или Германию. Я продам всю свою одежду. Все ценности, какие у меня остались. Я зашел в Люксембургский сад с его тонкими, неприятными с виду деревьями. Место казалось слишком открытым. Я помчался на улицу Сен-Мишель и постарался затеряться в толпе, едва не попал под трамвай и наконец добрался до нашего переулка. Он стал моим убежищем. Я сильно запыхался к тому времени, когда поднялся по лестнице на верхний этаж. Внутри, как всегда, было сумрачно. Эсме сидела на нашей грязной кровати и читала старый номер «Парижской жизни». Она просто кивнула мне. Я немедленно бросился к нашим запасам кокаина, чтобы поддержать свои силы. Эсме до сих пор не вытащила из волос вчерашние папильотки. Она становилась неряшливой, и в этом была моя вина. Мог ли Бродманн, подумал я, явиться в Париж специально для того, чтобы отыскать меня? Большевистские убийцы находились во всех столицах. Они занимались тем, что истребляли людей, избежавших расправы в России. На сей раз я обрадовался, что Эсме не отрывалась от журнала и не замечала, благодарение богу, моего волнения. Как я мог сказать ей, что нам нужно бежать? Ей стало бы только хуже, и тогда я просто не сумел бы скрыться: по пятам шел Бродманн, а Эсме и так находилась не в лучшем состоянии. Бродманн, конечно, знал о моем присутствии в Париже – я повсюду оставлял свой адрес, надеясь, что сведения в конце концов дойдут до Коли, и Бродманн или один из его агентов-чекистов могли в любой момент все узнать. Я молился, чтобы они пощадили Эсме. Сначала я решил взять свои драгоценные грузинские пистолеты и отнести их в дорогие магазины на набережной Вольтера, где туристы покупали старинные стулья эпохи Людовика XV и медали времен Наполеона, деревянные статуи святых, украденные из разрушенных во время осады церквей. Мне следовало совсем немного пройти по берегу Сены, чтобы достичь набережной. Я просто обязан был раздобыть денег на железнодорожные билеты. Однако я медлил. Я чувствовал, что откажусь от последних остатков своего наследия, если продам самое ценное и предам друга. Но у меня не осталось выбора. По всему Парижу беженцы принимали в точности такие же решения. Наверное, меня в те дни сберег некий яркий развратный ангел-хранитель, тот самый, который ввел меня в мир богемного Петербурга и познакомил с Колей. Он появился, крича и размахивая длинными пухлыми руками, на Пон-Неф, в том месте, где он выводил на набережную Конти. Человек как будто сошел с одной из гротескных башен Нотр-Дама – облаченный в ярко-желтый плащ, зеленый шейный платок, синий бархатный жакет и белые «оксфордские мешки»[317]. Я по привычке хотел сбежать от него, но потом остановился, а он перелетел через дорогу (плащ и брюки взметнулись, как оболочка сдувшегося воздушного шара) и обнял меня. Он прижимал меня к чудовищной груди и дышал мятной водкой мне в лицо. Он по-прежнему сохранил свое преувеличенное очарование и склонность к театральным фразам и жестам. Не вызывало сомнений и то, что его страсть ко мне (впервые проявившаяся в поезде, когда я был мальчиком, путешествовавшим из Киева в Санкт-Петербург, в Политехнический институт) ничуть не угасла. Это был артист балета Сергей Андреевич Цыпляков. – Твой дорогой Сережа, мой любимый Димка! – Он поцеловал меня в обе щеки, а потом в лоб. – О Димка! Ты не умер! И я не умер! Разве это не чудесно? Ты давно в Париже? Ты выглядишь не очень хорошо. – Он крепко схватил меня и внимательно осмотрел. – Я сказал тебе, что Париж – прекрасное место, и ты запомнил! Разве я не прав? Я приехал сюда в шестнадцатом с некоторыми другими артистами «Фолина», чтобы развлекать армию. И с тех пор я здесь. Какая удача, тебе не кажется? Мне казалось, что он когда-то решительно настаивал на том, что ни в коем случае нельзя покидать Петербург. Я хотел узнать, как ему удалось попасть в Париж, – для русских граждан это почти невозможно. – Мой дорогой, Фолин – гений. Бессердечный, эгоистичный, беспечный, но гений. Он убедил кого-то, что наши выступления повысят моральный уровень войск, сражающихся во Фландрии. И они позволили нам проехать. Примерно половина артистов – здесь. Дорогой, им не удалось завлечь меня в армию. И я по этому поводу не переживал. Очень повезло! В Париже нас все любят. Мне поступали предложения от Дягилева и от этого плагиатора Фокина. Мало того, что он украл имя Фолина, он украл и почти весь наш репертуар. Но это не имеет значения. Здесь сотни изумительных композиторов, как тебе известно. Куда ты направляешься, дорогой Димка? Я пришел к выводу, что дела у Сережи шли хорошо, и решил обдумать план действий. Возможно, я сумею занять нужные мне деньги или по крайней мере продать ему немного акций моей «Аэронавигационной компании». Я сказал, что просто вышел прогуляться, и он настоял, чтобы мы зашли в соседнее кафе, «Л’Эперон». – Как раз туда я и шел. Просто изумительное место. Там все так солидно и красиво. Ты не хочешь омлет? У них просто замечательные омлеты. Мы прогуливались мимо ящиков с подержанными книгами, которыми была заставлена тогда вся набережная до бульвара Сен-Мишель, переполненного, как всегда. Сережа, похоже, лично знал половину людей, встречавшихся нам на улице. «Л’Эперон» оказался одним из тех огромных современных заведений, которые вошли в моду после войны. Стеклянная стена занимала большую часть здания, а за ней виднелись фигуры грязных, длинноволосых, грубых самозванцев – художников, писателей и музыкантов. Я очень обрадовался, что на сцене не играет неизбежный джаз-банд. Нам пришлось сесть за столик с двумя явными гомосексуалистами, которые, к моему огорчению, немедленно предположили, что я был мальчиком на содержании у педераста Сережи. Но я готовился стерпеть даже это – лишь бы спасти себя и Эсме. Сережа начал хвастаться своими достижениями на танцевальной сцене: что говорили о нем парижские критики, как его пытался переманить у Фолина сам Дягилев. Рассказы Сережи слышал не только я, но и еще половина посетителей. Я терпел, кивал и улыбался – именно так я расплачивался за омлет, который оказался большим, но посредственным. Мой спутник заказал целую бутылку анисовой и настоял, чтобы мы ее распили. Я забыл о его пристрастии к алкоголю. К тому времени, когда мы встали из-за стола, я уже опьянел и согласился вернуться с Цыпляковым в его квартиру на рю Дофин. Когда мы, пошатываясь, шагали по булыжной мостовой, я спросил, не имеет ли он каких-нибудь сведений о Коле. – О да, – сказал Сережа, – я с ним довольно часто встречался с полгода назад. Он всегда обедает в «Липпе» на бульваре Сен-Жермен. Ты знаешь, где это? Не в моем вкусе. В основном деревенская кухня. Но, как тебе известно, он испытывает сентиментальную склонность к крестьянам. Сережа остановился, вынул ключ, отворил огромные ворота во внутренний двор и пропустил меня вперед. В другом конце двора располагалась лестница, ведущая к двери его квартиры. Там было просторно и светло, но у Цыплякова сохранились кулацкие вкусы. Повсюду стояли мелкие безделушки: фарфоровые свиньи, фарфоровые розы, подсвечники, золотые вазы с яркими цветами. Все пропахло несвежими духами. – Возьми те японские подушки, – сказал Сережа. – Так будет удобнее всего. Я надеялся, что надолго не задержусь. Я снял пальто и уселся на подушки, протянув руку к бокалу желтого перно, который держал Сережа. – Как я понял, ты по-прежнему не прочь нюхнуть? – спросил он. Интересно, догадался ли он, что я украл его кокаин тогда, в поезде. Я кивнул. – Главнейшая потребность в моей жизни, – ответил я. Я наблюдал за ним, когда он уселся за черный с золотом лакированный столик и начал готовить «снежок». – Надо заметить, – сказал Сережа ровным голосом, – что мы с Колей больше не поддерживаем отношения. Я считаю дурным его образ жизни, а его выбор спутников… Ну, Димка, дорогой, это же просто ужасно! И ему еще достало наглости оскорблять меня при нашей последней встрече. Он стал уж очень респектабельным. Не хочет знать старых приятелей. – Толстые губы, огромные глаза, раздутые ноздри – Сережа обернулся и бросил на меня загадочный, многозначительный взгляд. Он принес мне кокаин на небольшом мраморном блюде, и я вдохнул порошок через длинную золотую трубочку. Кокаин был гораздо лучше, чем у моих поставщиков. По крайней мере, мне следовало до отъезда узнать, где Сережа достает порошок. И тут он внезапно прыгнул – сделал настоящий балетный пируэт – и приземлился рядом со мной на подушках. Остатки вина пролились, и я попытался куда-то поставить бокал, но Сережа с громким смехом вырвал его у меня из рук и отбросил назад. – Ах, Димка, дорогой! Это было так грустно! Ты тоже тосковал? Я вспоминал те дни, вспоминал наш поезд. Ты был так молод и очарователен. Иногда, засыпая, я все еще чувствую твой запах. Ничто не сравнится с этим ароматом. Ни один химик не смог бы воссоздать его. И он у тебя еще сохранился. Сколько тебе лет? – Мне двадцать один год. – Я разбрасывал подушки, неловко пытаясь выбраться. – Наконец-то повзрослел. Хо-хо! – Он коснулся губами моего плеча и посмотрел на меня карими коровьими глазами. – А что ты делаешь в Париже? – Ищу работу, мне нужны деньги. Меня преследует ЧК из-за моих дел в Одессе. – У тебя нет денег? Меня поразило, как легко он вскочил на ноги. Сережа почти мгновенно выдвинул ящик стола и извлек оттуда несколько крупных купюр. Он снова уселся рядом, прижав деньги к моей рубашке. – Этого тебе хватит на некоторое время. Купи костюм. Тебе нужен хороший костюм. Я не хотел ссориться с ним и поэтому сказал: – Я расплачусь с тобой, Сережа. Слава богу, этого хватит на оплату счета от доктора! – Ты болен? Чахотка? – К сожалению, нет. Лобковые вши. Я подцепил их на Монмартре, полагаю. Он снова вскочил и начал инстинктивно почесывать бедра: – Ты еще от них не избавился? – Надо сказать тебе правду. Я как раз собирался узнать, вылечился я или нет. – О, я не стану тебя задерживать! Меня удивило, насколько эффективной оказалась эта уловка. – Я хотел бы увидеться с тобой снова, – сказал я, поднимаясь на ноги и спускаясь с кушетки на пол. Мне трудно было стоять прямо, хотя кокаин частично разогнал туман в голове. Вероятно, именно его мне следовало благодарить за ту находчивость, с которой я изобрел свое ужасное заболевание. – Непременно, Димка, любимый. Завтра. Давай помолимся всем святым, чтобы это ужасное испытание для тебя закончилось. Кажется, я заметил, как он осмотрел подушки, указав мне дорогу к выходу. Сережа послал мне воздушный поцелуй: – До завтра, Димка, мой дорогой. Я не был уверен, смогу ли выдержать еще одну встречу с огромным танцовщиком, но он был для меня единственной связью с Колей и источником денег, которые, в свою очередь, означали, что я смогу возвратиться домой с конфетами и цветами для Эсме. Это ее подбодрило. Она едва не заплакала, увидев мои подарки: – Неужели мы снова богаты, Максим? – Мы на пути к богатству, моя голубка. Думаю, что мне известно, где найти Колю. На Эсме это не произвело большого впечатления. Мой Коля казался ей мифом, символом надежды, а не реальности. Она, как правило, расстраивалась, стоило мне упомянуть его имя. Ей требовалось что-то более конкретное. – Обещаю тебе, Эсме, что мы скоро избавимся от всего этого. – Я сидел на кровати и стискивал ее руки, а она жевала конфеты. – Коля поможет мне реализовать проект «Аэронавигационной компании». Вот и все, что я мог ей сказать. Теперь требовалось срочно подыскать какое-то укрытие, где нас не найдут Бродманн и его чекисты. Даже Эсме заметила, с какими предосторожностями я в тот день запирал дверь. Я снова вышел на улицу в шесть часов вечера, наказав ей сидеть дома и открывать только мне по условному сигналу. К тому времени как я пришел к «Липпу», начался дождь. На улице было пасмурно, но декоративные медные панели и зеркала в ресторане ярко блестели. Это было старомодное двухэтажное семейное заведение, его посещали самые разные люди, в том числе и евреи. С некоторой нервозностью я толкнул вращающуюся дверь, вошел внутрь и обратился к метрдотелю. Зал уже был переполнен. Метрдотель спросил, заказывал ли я столик. Когда я ответил отрицательно, он покачал головой. Мне показалось, что он мог бы впустить кого-то другого, но моя внешность ему не понравилась. Подавленный, я вышел на Сен-Жермен. Я заходил во все магазины подряд и подолгу стоял у дверей, следя за входом в ресторан и надеясь увидеть Колю. В конце концов я отправился домой. Моя одежда уже поистрепалась, но если бы я облачился в один из своих мундиров, то стал бы ходячей мишенью для убийц из ЧК. Я решил, что должен купить себе новый костюм. Назавтра, ближе к полудню, я вновь отправился к Сереже. К тому времени я уже обдумал, как сопротивляться его домогательствам. Он отворил дверь, сонно моргая, но сразу оживился, завидев меня. Сережа накинул цветастое шелковое кимоно, затянуть пояс он не потрудился. Несомненно, Сережа надеялся, что вид его обнаженных бедер и гениталий подстегнет мой интерес. Мне уже было знакомо и то и другое. У меня сохранились самые подробные воспоминания о происшествии в поезде, когда он занимал верхнюю полку, а я – нижнюю. Однако я не смог ему помешать, когда он поцеловал меня в губы (от него разило перегаром) и обнял за талию. Потом Сережа потянулся к бюро и достал оттуда кокаин, предложив мне нюхнуть с той же легкостью, с какой обычно предлагают выпить кофе. Разумеется, я согласился. Он постепенно припомнил наш последний разговор: – Что тебе сказал доктор, Димка? Ты уже окончательно вылечился? – Почти. Лучшее лечение – какая-то примочка, но доктор говорит, что эта штука дорого стоит. Все прочие способы гораздо медленнее. – Ты спал с кем попало, Димка. Я всегда подозревал, что у тебя задатки маленькой шлюхи. – Вернувшись к столу, он открыл ящик и вытащил еще несколько купюр. – Этого хватит на примочку? Я с трудом овладел собой: подобное унизительное предположение пробудило во мне ярость, но эта же ярость помогла мне без зазрения совести принять его деньги. Пусть извращенец думает что угодно! Я никогда не стал бы спать с ним. Да, существует такая вещь, как любовь между мужчинами. Я не отрицаю, что испытал подобное. С любой красивой женщиной можно заняться любовью, пусть это будет всего лишь увлечение на час, но мужчина, который вызывает подобное желание, должен быть выдающимся во всех отношениях, и мне за всю жизнь встретился только один такой человек, а женщин, которых я по-настоящему любил, было две. Я провел у Сережи немного времени, поговорил с ним о труппе и его гастрольных планах, о его ссоре с администратором («Говорят, что я слишком много пью. А я отвечаю: кто сможет не пить, имея дело с такими тупыми деревянными балеринами, с трудом ползающими по сцене!»). Он спросил, где я живу. Не было никакого смысла ему лгать, и я сообщил, что живу на рю де ла Юшетт. – Но это – убогое место! Тамошние забегаловки кошмарны! Туда нужно приходить со своим хлебом, ножом и вилкой! О мой дорогой Димка, это ужасно! Было неблагоразумно упоминать об Эсме. – Я ехал в Англию, – сказал я. – Путешествовал с другом. Друг решил поехать дальше без меня, прихватив почти все мое имущество, включая документы. Он пришел в ужас и начал шумно выражать свое сочувствие. Это обеспечило мне еще порцию кокаина. Сережа старался не прикасаться ко мне. – О мой дорогой. Как только твоя проблема будет решена, ты переберешься ко мне. У меня очень много комнат, как ты сам видишь. У тебя будет отдельная спальня. И особый гардероб. Я буду тебе очень рад. Сам же знаешь, что ты всегда нравился мне, Димка. Я притворился, что эта перспектива меня восхищает: – Как замечательно, Сережа! Я сейчас вернусь к доктору и узнаю, есть ли у него примочка. Это, должно быть, займет всего несколько дней. – Бедняжка! Я понятия не имел, что ты так ужасно страдаешь. Что произошло? Ты цеплял женщин? Или бельгийцев? Судя по моему опыту, они никогда не знают, есть у них вши или нет. Вот мое правило, милый Димка: никогда не связывайся с женщинами и бельгийцами и будь осторожен с американскими трансвеститами. Они не меняют нижнее белье. Но ты ведь знаешь все про Пигаль, не так ли? – Не волнуйся. Я с ними никаких дел не имел. В этом случае, однако, я полагаю, во всем виноват турок. – О, ну конечно, турки! – Сережа вздрогнул. Я понял, что турецкие вши по какой-то невообразимой причине кажутся ему самыми отвратительными. – Бедняжка! Тебя изнасиловали? – Когда-нибудь я расскажу тебе о своих приключениях в Константинополе, Сережа. Ничего, если я вернусь завтра в это же время? – Конечно, мой дорогой. Или сегодня вечером, когда я вернусь домой. Нет! Не сегодня вечером. Да, утром. Сразу после двенадцати. Чудесно. Я пошел прямо в магазин одежды на улицу Тюренн. К счастью, моя фигура, за исключением некоторых округлостей, всегда оставалась прекрасной: настоящий мужской стандарт. У меня не возникло ни малейших трудностей при выборе костюма-тройки, новой рубашки, нескольких воротничков, галстука и ботинок. Сережиных денег – включая то, что осталось с прошлого раза, – хватило на оплату счета. Я вышел из магазина уже в новой одежде, прочие вещи я нес в аккуратном свертке. Когда я вернулся на рю де ла Юшетт, местные клошары посмотрели на меня с любопытством. Я вошел в убогий подъезд и поднялся по лестнице. Эсме уже встала с постели. Она сидела в халате за столом, медленно заполняя бланк, вырванный из журнала. – Это конкурс, – сказала она. – Приз – поездка на двоих в Египет. Я не стал ей говорить, что журнал старый. Ей не следовало терять надежду, пока надежда оставалась у меня. Она не обратила внимания на мой новый костюм, и я этому даже обрадовался. Тем вечером, отправившись в «Липп», я взял такси и обнаружил, что, хотя ресторан заполнен так же, как и днем раньше, теперь для меня нашелся уголок за одним из длинных столов наверху. Это не совсем меня устраивало, так как постоянные и привилегированные клиенты сидели в ресторане на первом этаже. Я немного поел, еда оказалась скорее немецкой, чем французской. Я уже привык к их спарже. Хотя счет был и невелик, но я оставил щедрые чаевые. Такие вещи производят впечатление на официантов, которые стремительно передают новости своим товарищам. Я хотел быть уверенным, что в следующий раз получу место внизу. Уходя, я поискал взглядом Колю, но его в заведении не было. Во время следующего визита я решил поговорить с метрдотелем. Но для того чтобы возвратиться в «Липп», следовало пережить неприятную встречу с Сергеем Андреевичем. Моей истории о докторе и его чудесной примочке не могло хватить больше чем на два визита, потом придется либо уступать, либо бежать. Я снова некоторое время простоял возле входа в ресторан. Когда я отправился домой, было уже за полночь. Эсме спала и не проснулась, когда я лег рядом. Я немедленно погрузился в сон. Еще три посещения все более и более нетерпеливого Сережи, еще три ужина в «Липпе»… Сережа предупредил меня, что не может и дальше давать мне деньги на лечение: доктор, похоже, меня попросту обманывает. Сережа знал очень хорошего доктора, своего собственного, – он верил, что этот специалист, несомненно, поможет мне. Во время четвертого визита я вынужден был сказать ему, что вылечился, но, оправдываясь сильным воспалением, смог удержать его от проявлений страсти, хотя его самообладание, которым Сережа никогда не отличался, подверглось сильнейшему испытанию. Больше я сделать ничего не мог. Мне нужны были деньги, чтобы найти Колю. Если я и впрямь отыщу своего друга, жизнь снова обретет смысл. Вскоре, примерно через неделю, главной моей проблемой стал способ отказаться от переезда к Сереже. Вдобавок он очень хотел посмотреть, где я живу. Однажды вечером я сидел в ресторане «Липп» за столиком внизу, у двери, думая о своем тяжелом положении и пытаясь изобрести оправдание, чтобы не ходить к Сереже, когда он вернется из театра. Поднося ко рту первый кусок спаржи, я увидел, как отворилась стеклянная дверь и вошел высокий красивый мужчина, одетый во все черное, за исключением белой рубашки. Рядом с ним шла столь же прекрасная женщина. Метрдотель приблизился к ним с очевидной радостью. Обернувшись в мою сторону, мужчина сначала слегка нахмурился, а потом улыбнулся широко, как школьник. Мое сердце едва не выскочило из груди. Метрдотель уже указывал на меня (я к тому времени справился о своем друге). Князь Николай Федорович Петров никогда не выглядел так хорошо. Я пришел в восторг. Все мое тело сотрясала дрожь. Я с трудом встал. Моя спаржа упала на пол. Я плакал. Он смеялся. Мы обнимались. – Димка! Димка! Димка… – Он гладил меня по плечам. Он целовал меня в щеки. Я настолько переволновался, что раскраснелся и слегка вспотел. – О Коля, я везде искал тебя… Мы немного успокоились, хотя все еще плакали и улыбались. Коля представил меня своей спутнице: – Княгиня Анаис Петрова, моя жена. Я не ревновал. У нее были черные бархатные глаза и такая же белая, как у Коли, кожа, подобная свежей слоновой кости. Его волосы остались бледными, почти молочного цвета, а ее локоны были цвета воронова крыла. На Анаис было желтовато-коричневое вечернее платье, а поверх него бежевая летняя накидка. Они были невообразимо прекрасны: возлюбленные, сошедшие со страниц книги, принц и принцесса из волшебной страны. Я поцеловал ей руку и, к своему превеликому смущению, вывалил на пол остатки спаржи. Коля, улыбнувшись, подозвал официанта, чтобы тот прибрался. – Ты ужинаешь один? – Я ужинал тут постоянно, надеясь, что ты придешь. – Я пожал плечами, немного смущенный чудесной встречей. – Моя спутница нездорова. Он был полон сочувствия: – А она русская? – По происхождению – да. Но я встретил ее в Константинополе. – Так ты был в Турции, а? Много приключений, Димка? Садись к нам за столик! Мы перебрались в дальний конец ресторана, в более уединенное место. Мне принесли новую тарелку спаржи. Коля заказал закуски. Он сказал Анаис, что я его старый друг и драгоценный спутник еще с дореволюционных времен, что я пробудил в нем поэтическое вдохновение и открыл ему будущее. Я вновь ощутил, как кровь прилила к моим щекам. Не было ничего дурного в том, чтобы любить мужчину, особенно такого, как Коля, – человека, которого Бог послал в мир смертных, чтобы указать им путь к совершенству. Он спросил, какие у меня новости. Я кратко рассказал, что со мной случилось после возвращения в Киев, о том, что ЧК, вероятно, до сих пор разыскивает меня в Париже. – А я‑то думал, что сильно пострадал! – Коля жил в Париже уже пару лет. Год назад он встретил Анаис, происходившую из старинного французского рода, и женился. Он все еще надеялся перебраться в Америку, но пока не мог решить проблемы с визой. Коля подозревал, что это связано с его службой у Керенского или, скорее, с его политическими взглядами в то время, когда он входил в правительство. – А чем ты занимаешься в Париже, Димка? – В основном ищу кредитора для новой компании. И часто хожу в кино. – Мы тоже страстно полюбили кино. Только что смотрели «Отца Сергия». Знаешь такой фильм? Уверен, режиссер сейчас в Париже. – Его фамилия Протазанов. – Анаис говорила по-французски со слабым, не парижским акцентом. Ее голос звучал мелодично и насмешливо. На губах ее всегда была улыбка. Очевидно, она преклонялась перед Колей так же, как и я. Возможно, потому, что у нас была одна общая страсть, мне Анаис очень понравилась. – Сейчас я почти не смотрю русские фильмы, – признался я. – Это слишком тяжелое испытание. Коля налил нам белого вина. – Понимаю. Есть у тебя любимый режиссер? Это мог быть только Гриффит. Я заговорил о «Рождении нации». Когда речь шла о других фильмах, я обсуждал актеров и актрис. Лилиан и Дороти Гиш, Дуглас Фэрбенкс, Чарли Чаплин, Бастер Китон, Мэри Пикфорд. Я видел их всех. – Вам, наверное, нравится Гарольд Ллойд! – Анаис пришла в восторг. – Разве он не чудесный! Такой нелепый! Такой забавный! – И Ферн Андра или Пола Негри? Разве ты не находишь их столь же привлекательными, как все эти американцы? – Коля сардонически усмехнулся. – И впрямь, Димка, ты становишься поклонником американцев! Я думал, что ты ненавидишь эту страну. Ты туда собираешься? – Мне вполне хватит Лондона. Помнишь миссис Корнелиус? Она согласилась помочь мне, когда я приеду. Но у меня тоже проблемы с визой. Возможно, если бы я был один, все прошло бы легче, но у моей подруги Эсме вообще нет документов. – Коля знал о моей первой Эсме. Я немного рассказал ему о встрече в лагере Махно. – Точная копия прежней. Эсме, которая очистилась. Анаис сказала: – Может, ее смогла бы удочерить приличная английская семья. Коля рассмеялся: – Ты слишком жестока, Анаис. Мы подумаем вместе и отыщем какое-нибудь решение. У твоего отца есть деловые связи в Англии. Он сможет помочь? – Коля обратился ко мне: – Отец Анаис – промышленный магнат, кавалер Легиона чести[318] и бывший член Палаты депутатов. Видишь, в какие влиятельные круги я теперь вхож, Димка? И все-таки не могу получить разрешение на выезд в Соединенные Штаты, чтобы преподавать там русский язык. Вместо этого я – альфонс. Анаис неодобрительно поморщилась: – Когда военные действия в России закончатся, ты сможешь вернуть по крайней мере часть своего состояния. Коля подмигнул мне. – Ты так думаешь, дорогая? Русские везде стали нищими гостями. Бедными родственниками всех остальных народов мира. Люди скоро перестанут нас терпеть. Официант подал основное блюдо. – Как далеко зашла ваша «Аэронавигационная компания», мсье Митрофанич? Анаис толкнула Колю, который фыркнул от смеха, и наклонилась ко мне. Естественно, она называла меня именем, под которым я жил в Петербурге. – Некоторые кредиторы заинтересовались проектом, но ничего конкретного пока нет. – Вы думаете, это хорошее деловое предприятие? – Мы используем в своих интересах рост туризма после войны. Количество пассажиров, путешествующих из Нью-Йорка в Париж, значительно возросло – и это только одно направление. Мое судно будет перемещаться гораздо быстрее круизных лайнеров, путешествия станут спокойнее и безопаснее. Конечно, мои проекты совершенствуются, я изучил все сведения о строительстве дирижаблей, которые удалось собрать за время войны. Теперь немцы обогнали всех. Британцы планируют начать коммерческие перевозки через год или два. За несколько месяцев мы сможем опередить и тех и других, если корабль привлечет всеобщее внимание. Например, если во время пробного полета он пересечет Атлантику за рекордный срок. – Это восхитительно, мсье. – Анаис аккуратно отрезала кусок мяса. – И весьма убедительно. Что ты об этом думаешь, Коля? – Он – гений, – просто ответил мой друг. – Я верю, что он способен на все. Разговор перешел на общие темы. Я внезапно испытал прилив абсолютного счастья. Вечер прошел очень успешно, я был в ударе. Мы ушли из ресторана едва ли не последними. Оба чудесных создания расцеловали меня на прощание, и Коля записал адрес, поклявшись, что очень скоро свяжется со мной. – Мы больше никогда не расстанемся! Насвистывая веселый мотив, я зашагал по рю Сен-Сюльпис и только тут понял, что забыл сообщить Коле о смерти его кузена, Алексея Леоновича, пилота, который едва не погубил меня, разбив свой самолет. Возможно, подумал я, было бы нетактично сразу заговаривать о таких вещах. Я мог все рассказать Коле в ближайшем будущем. Когда я вернулся, Эсме, как обычно, спала, но в тот вечер ее дыхание было быстрым и неровным. У нее начался жар. Я держал ее потное маленькое тельце на руках и укачивал ее, когда она стонала: – Не оставляй меня, Максим. Не оставляй меня. Я дал Эсме немного воды и аспирин, чтобы ослабить жар, а потом лег рядом с ней и попытался рассказать о своей встрече с Колей, но она вновь погрузилась в беспокойный сон. На следующее утро я отправился на поиски доктора. Ближайший жил на бульваре Сен-Мишель. Доктор Гюлак насквозь пропах табаком и розовой водой. Его моржовые усы пожелтели от никотина, кожа, покрытая пятнами, напоминала панцирь черепахи. Я помню седые редеющие волосы, до блеска отполированные ботинки и старомодный сюртук. Осмотрев мою девочку, он твердо сказал, что Эсме нужно хорошенько отдохнуть. Он дал микстуру и потребовал, чтобы Эсме принимала ее три раза в день. У нее анемия, сказал доктор. Она страдает от нервного истощения. – Но она очень молода, – сказал я старому дураку. – В ней полно жизненных сил. Она – ребенок! Доктор Гюлак недоверчиво посмотрел на меня: – Она употребляла слишком много алкоголя. И мне трудно перечислить все наркотики, которые она, несомненно, принимала. Кто-то должен следить за вашей сестрой, мсье, если вы сами не можете этого делать. Я не стал говорить ему, что Эсме употребляла наркотиков и спиртного не больше, чем я сам. – Она страдает от обычных в наше время симптомов, – неодобрительно заметил доктор. – У вас нет родителей? Лучше бы ей остаться с ними. – Мы сироты. Он вздохнул: – Не стану вас осуждать. Но вам нужен кто-то, способный направить вас по верному пути, мсье. Я советую вам уехать из Парижа. Поживите в провинции месяц-другой. Измените свой образ жизни. Я вызывал доктора, а не священника. Поучения меня раздражали. Тем не менее я вежливо поблагодарил его, сказал, что обдумаю это предложение, и отдал наши последние деньги. Когда я сел на стул у кровати Эсме и сжал ее теплую, мягкую руку, мне в голову пришла мысль: а не был ли я чрезмерно эгоистичен? Почему я настаивал, чтобы она вела такую же жизнь, как и я? Я всегда отличался невероятной активностью – я полагаю, это свойство живого ума. Другим людям редко удавалось за мной угнаться. Вероятно, я был несправедлив, ожидая от Эсме такой же энергии. Она слишком молода, она еще не имела представления о пределах собственных сил. Это погружение в коматозное состояние, возможно, стало для нее формой отдыха. Я решил ухаживать за ней, пока она окончательно не придет в себя. За это время я обдумаю положение. Я верил: теперь, когда для нас открылись новые возможности, дела пойдут лучше. У Эсме были все основания для беспокойства. Она, вероятно, инстинктивно чувствовала, что меня тревожит ЧК. Кроме того, я говорил ей, что мы поедем в Англию, а мы все еще оставались в Париже. Она по-прежнему слабо владела языком. Вероятно, Эсме начала тосковать по дому и не хотела мне в этом признаваться. Наверное, нет ничего хуже такой беспомощности – смотреть, как рядом кто-то бредит и дрожит в лихорадке, от которой не помогут никакие медицинские средства. Как бы то ни было, я совладал с паникой. Я подумал, что стоит проконсультироваться у кого-нибудь еще, и решил, что при первой же встрече с Колей попрошу его порекомендовать более знающего доктора, чем этот местный шарлатан. Как ни прискорбно, это почти наверняка означало, что мне придется посетить Сережу. Неужели Эсме всегда страдала от этой болезни? Что это было? Какая-то форма эпилепсии? Возможно, именно поэтому ее родители так обрадовались, узнав, что девочка отправится со мной. При первой же возможности я посетил ближайшую библиотеку и просмотрел медицинские книги. Не нашлось никаких описаний подобных случаев, Эсме не получала кокс в течение нескольких дней. Возможно, она страдала из-за этого? Мне удалось заставить ее принять немного кокаина, но ничего хорошего из этого не вышло. Я по-настоящему разочаровался в медицине, которая и по сей день остается какой-то средневековой. Иногда я сожалею, что судьба помешала мне стать врачом. С моими аналитическими и творческими способностями я смог бы, наверное, добиться куда больших результатов в медицине, чем в инженерном деле. Прежде всего я хотел помочь роду людскому, принести пользу, вытянуть человечество из болота невежества, приблизить его к небесам. Я так и не сумел преодолеть заблуждения своего времени, я верил, что общественные условия – главная причина всех бед. Я думал, что технологическая Утопия избавит человечество от страданий. Теперь я полагаю, что большинство людей страдает от значительного химического дисбаланса. Нам нужно отыскать идеальное сочетание веществ, питающих мозг. Увы, даже меня самого нельзя назвать нормальным и здравомыслящим. Вероятно, все дело в еде. Мы много знаем о калориях и витаминах, но как быть с микроэлементами, с мельчайшими частицами, которые мы глотаем? Крошечные кусочки металла, никогда не оказывающие физического воздействия, могут проникать в мозг, реагировать на магнитные поля, взаимодействовать со случайными электрическими импульсами. Эти металлические атомы, возможно, влияют на нашу повседневную жизнь куда сильнее, чем сама водородная бомба. Мы желаем жить в дружбе со всем миром, а через мгновение уже хотим взорвать его. Вот почему, например, лица людей так сильно меняются во время грозы. Очень жаль, что никто не обеспечил меня средствами для обстоятельного изучения этого вопроса. А ведь я очень старался. Несколько лет назад я обратился в Лондонский университет, перечислил все свои регалии и приложил статью «Эмиссия электронов в атмосфере и их влияние на высшие мозговые функции людей». Я надеялся, что они, по крайней мере, позволят мне поговорить со своими медиками. В итоге пришлось пойти на унижение и заплатить еврею-печатнику, чтобы сделать несколько сотен копий статьи, которые я разослал по больницам в Кенсингтоне и Челси. Я получил пару ответов, но они пришли от сумасшедших, от хиппи, которые утверждали, что электрические колебания – на самом деле послания от летающих тарелок! Отвечать на такое было ниже моего достоинства. Связан ли недуг Эсме с электричеством или с какой-то другой, до сих пор не открытой причиной, мне неведомо. Тогда я мог только ухаживать за ней. Я нанял сиделку, которая готовила суп и убирала постель до самого выздоровления моей девочки. Сережа, не ведая о том, оплатил все расходы. Несколько дней спустя я получил записку от Коли. Он снова приехал в город и пожелал встретиться и пообедать. Он назначил встречу на час дня в «Лаперуссе». Эсме свернулась калачиком под одеялом. Я оставил ей стакан с водой и записку, в которой сообщил, куда отправляюсь. Облачившись в новый костюм, я пошел на встречу с другом. Не стану утверждать, что шагал легко, – я все еще опасался, что могу повстречать на улице Бродманна. Кроме того, у меня не было особого желания сталкиваться с Сережей. Казалось, мое положение вот-вот переменится – но все могло рухнуть, если один из этих людей узнает правду. Коля,как обычно, был одет в черное. Он встал, чтобы приветствовать меня, когда я вошел в прохладное уютное помещение, расположенное над рестораном. В двубортном пиджаке он выглядел как успешный банкир – правда, чрезмерно бледный. Он извинился за то, что пришел без жены: – Думаю, неплохо бы нам поговорить наедине. Я очень обрадовался такой возможности. Есть особая любовь, которая возникает между мужчинами, любовь, которую знали и описывали греки, любовь, которая не терпит присутствия женщин. Она благородна, это спартанская любовь, очень далекая от омерзительных свиданий в общественных туалетах и нелегальных пабах на Хэмпстед-Хит и Лестер-сквер. Мы с Колей были частями одного существа. Не стану отрицать, что поклонялся ему. И я уверен, что он тоже меня любил. Мы стали единым целым. Коля сказал, что счастлив со своей женой. Она поразительно умна и очень обаятельна, как я, несомненно, заметил. К сожалению, безумно любя его, она хотела за все платить, а эта ситуация не была идеальной для человека, всегда управлявшего собственной судьбой. Однако она проявила немалый интерес к моей «Аэронавигационной компании», и если сумеет убедить своего отца и некоторых его друзей поддержать проект, то Колю, как ему казалось, могли назначить председателем. Не стану ли я возражать? Конечно, я согласился: – Лучше не придумаешь! В полумраке гостиничного номера мы откупорили шампанское, чтобы отпраздновать чудесное воссоединение. Я чувствовал запах Колиного тела, пробивавшийся сквозь роскошную одежду. Я невероятно сильно хотел его, но до того момента мои эмоции оставались подавленными. Коля сказал, что тоже скучал по мне. Нет ничего неправильного. Христос говорит, что нет ничего неправильного. Это, прежде всего, духовное состояние. Они обвиняют меня в том, что порождают их извращенные умы. Моя жизнь принадлежит мне. Я не их порождение. Как могут эти двуличные карлики понять мои муки? Они вложили в меня кусок металла. Они водят магнитом по карте, пытаясь заставить меня двигаться туда, куда хочется им. Но я сопротивляюсь. Я презираю их мелочность, их тупую мораль. Она не имеет никакого отношения к истинной морали. Я выше этих судов и судей. Никогда не бывало более чистой любви. Не бывало более чистой радости. Я не могу противостоять этому. И кто станет меня винить? Их металл шевелится и движется внутри меня, но я никогда не поддамся этому зародышу-демону – неважно, что они скажут или сделают. Ich vil geyn mayn aveyres shiteln. Ich vil shitein mayn zind in vasser. Ich vil gayn tashlikh makhen[319]. Что они знают? В чем они обвиняют меня? Я любил его разум даже больше, чем тело, я отдавался нам обоим, как ныне я отдаюсь лишь Богу. Я отрицаю все. Я не сделал ничего дурного. Я сам себе хозяин. Моя кровь чиста. Я не позволю им сделать меня мусульманином. Я силен, я выдержал все удары. Я не бросал вызов их лжи, только противостоял ей своими делами. Я хранил молчание и был верен себе. И пусть они верят во что хотят. Они не смогли удержать меня в своих лагерях. Они знали, что это несправедливо. Они называли меня мерзкими именами, они унижали меня, потому что я, по их словам, извращен и испорчен. Но откуда им знать? Слов не было: слова слишком глупы, а я сгорал от спасительного пламени. Я одержал победу силой своего разума, даром, доставшимся мне от Бога. Коля знал, что это означало. Он никогда не обвинял меня. Он был посланником Христа, ангелом. Он был Меркурием. Он был благородным мыслителем, настоящим русским дворянином – и все-таки оказался такой же жертвой, как я. Они забрали его силу. Нас сбили так, как дождь сбивает зерно. Но взращенное степью зерно нелегко погубить – оно прорастает снова, прежде чем развеется пепел пожара. Коля говорил, что наша встреча определена судьбой. Мы должны были отыскать друг друга. Крылья трепещут, белый металл поет. Все эти города обманули меня, и все же я не могу их ненавидеть. В течение недели были готовы все необходимые документы для создания новой компании. Собрались культурные люди с безвольными ртами и серьезными глазами, они склонили головы и поставили свои подписи – и я вновь стал профессором Максимом Артуровичем Пятницким, главным проектировщиком и ведущим акционером «Трансатлантической аэронавигационной компании Парижа, Брюсселя и Люцерны». Председатель – князь Николай Федорович Петров, президент – мсье Фердинанд де Грион. Мои рассказы произвели сильное впечатление на отца Анаис. Франция, серьезно заметил он, получит выгоду, воспользовавшись глупостью и злобой большевистского зверя. Мы с Эсме переехали в чудесную квартиру неподалеку от Люксембургского сада. Теперь мы одевались как хотели, обедали в старинных ресторанах и ходили на танцы в самые лучшие заведения. Моя любимая роза сразу расцвела. Тот доктор был дураком. Ей требовалось нечто противоположное сельскому воздуху. Ее, как и меня, питал город. За его пределами она начинала чахнуть. Однако, заботясь об Эсме, я не водил ее за собой повсюду, а старался, чтобы она отдыхала или развлекалась как-то иначе, когда я посещал клубы, где встречался с наиболее преуспевающими деловыми людьми Франции. Иногда я приносил свои огромные чертежи в небольшой отель в Нейи, где мы с Колей безмятежно обсуждали подробности нашего приключения. Регулярно получая зарплату, я позабыл о прежних проблемах, хотя Бродманн и Цыпляков еще иногда преследовали меня. Теперь у меня появились влиятельные друзья, они стали осмотрительны, те двое, и уже боялись меня беспокоить. Эсме советовала мне чаще гулять в одиночестве, говорила, что от этого мне становится лучше. Она оставалась дома и могла в это время читать или шить. Теперь я покупал кокаин высшего качества. Коля, по его словам, воздерживался от порошка с петербургских времен, но всегда был готов возобновить свой роман с «холодной чистой лунной возлюбленной». Он утверждал, что очень скучал все эти годы, что в моем обществе он словно возрождался. «Дирижабль еще не построен, а я уже чувствую, что лечу!» Коля продолжал писать стихи, но, по его словам, по-прежнему сжигал их раньше, чем успевали высохнуть чернила: «Поэзия слишком откровенна, она выражает чувства, которые не следует проявлять деловым людям». На участке земли на севере Парижа, принадлежавшем отцу Анаис, появился гигантский ангар. Были наняты механики и все необходимые специалисты. И я стал знаменитостью. В газетах появлялись объявления о нашем предприятии, иллюстрированные журналы печатали причудливые описания огромного воздушного лайнера, который пересечет под парусом Атлантику, – на рисунках изображались приемы в главном салоне, номера для новобрачных и бильярдные залы (наш аппарат будет идеально устойчивым!). У нас с Колей часто брали интервью. Нас называли русскими инженерами, гениями, на самолете спасшимися от ужасов революции. Я собрал огромную коллекцию вырезок, которые вклеивал в особую книгу. Эсме с восторгом разглядывала свое очаровательное маленькое личико на фотографиях, иногда она смотрела на картинки по несколько часов, как будто не могла поверить, что они настоящие. Наши апартаменты располагались на двух этажах, у нас появились горничная и повар. Мы могли приглашать в гости самых разных людей. Романтическая история моей прекрасной сестры произвела фурор в парижском обществе: нас разлучили в Киеве, в детстве, потом ее вывезли в Румынию и, наконец, в Константинополь, откуда я ее спас, на воздушном шаре мы пролетели над Балканами и прибыли в Италию. Рассказы об этом так часто появлялись в журналах, что, мне кажется, Эсме и сама поверила в них. Конечно, наши гости хотели услышать подробности. И что гораздо важнее, мы приобретали подтверждения своего особого положения – когда нам понадобились паспорта, у нас уже не возникло никаких проблем. Моя девочка очень быстро получила временное удостоверение на имя Эсме Пятницкой, родившейся в Киеве в 1907 году. Люди замечали, как мы похожи и как мы заботимся друг о друге. Только Коля знал всю правду. Мы хранили общую тайну и от этого получали еще большее удовольствие друг от друга. В прессе не появлялось никаких намеков на наши отношения. Мне кажется, следует соблюдать тайну частной жизни. Пусть пишут, что хотят. Легенды защищают, а не вредят. Огромный ангар для дирижаблей, очень быстро построенный в Сен-Дени, часто фотографировали, но репортерам никогда не разрешали входить внутрь. Промышленный шпионаж придумали не сегодня. Сооружение алюминиевого корпуса началось под моим личным наблюдением. Параллельно я обсуждал с инженерами, какой тип двигателей подойдет нам лучше всего. Мы решили использовать дизели, но были не уверены, стоило ли производить собственные или нужно заказывать где-то на стороне. Ни один завод не выпускал таких машин, которые нам требовались. Все этапы плана казались одинаково важными. Как только алюминиевые детали привезли с литейного завода, их взвесили с точностью до грамма. Вес корабля следовало уменьшить до предела. Мы обратились к крупнейшим производителям гелия и запросили их расценки. Мсье де Грион поначалу надеялся, что мы можем получить дополнительные средства от французского правительства, но в конце концов пришлось вывести акции на рынок. Наши затраты, конечно, были астрономическими, но мы знали, что доходы, вероятно, будут еще больше. Однако финансовые вопросы меня теперь почти не интересовали. Когда я стоял посреди тысячефутового ангара и следил, как лучи света из широких стеклянных окон на крыше падали на медленно строящийся каркас моего великолепного корабля, – я чувствовал, что столкнулся с силой, одновременно таинственной и пугающей. Уверен, именно такие чувства испытывали строители средневековых соборов. Моя самая драгоценная мечта вот-вот должна была воплотиться в жизнь. Сделан первый шаг к воздушному судну размером с небольшой город, в ближайшие два десятилетия я, несомненно, достигну поставленной цели. Вскоре появятся целые флоты таких громадин, они будут перевозить по небу грузы и пассажиров так же небрежно, как паромы перевозят людей через проливы. Кто-то другой, добившись такого успеха, мог бы (и это вполне понятно!) испытать эгоистическое ощущение власти и могущества. Я, однако, чувствовал только непостижимое смирение. Работа продвигалась так быстро, что мне приходилось уделять все больше времени Сен-Дени и все меньше – Эсме. Я брал ее с собой, когда удавалось, но не мог оказывать ей внимание, которое ей было необходимо. Я просил ее сближаться с женами наших деловых партнеров, ходить в кинематограф. Но иногда она чувствовала себя несчастной. Лишь изредка она жаловалась и говорила о своих страхах: – Я боюсь, что ты больше не любишь меня. – Конечно, это ерунда. Ты для меня – все. Я делаю это, потому что люблю тебя. Она говорила, что мой дирижабль – просто оправдание для того, чтобы ее бросить так же, как я бросил баронессу. Я это решительно отрицал (включая предположение, будто я бросил свою ревнивую и коварную любовницу!). Она, Эсме, была моей сестрой, моей дочерью, моей невестой. Сейчас она должна доверять мне больше, чем прежде. Неужели она не может представить, какой нам окажут прием, когда корабль прибудет в Нью-Йорк? Она уже наслаждалась плодами популярности. Вскоре она сделается мировой знаменитостью и получит огромное богатство. Но это не всегда успокаивало Эсме. – Ничего не будет, – говорила она. Ей не хватало фантазии, чтобы представить мой дирижабль в завершенном виде. – Это тянется слишком долго, – жаловалась она. – Должен быть какой-то более быстрый способ. Я смеялся над ее naïveté[320]. Мы работали с почти невероятной скоростью. Стоимость материалов росла практически каждый день, таким образом, в наших интересах было закончить строительство как можно скорее. Во-вторых, до нас доходили слухи и о британских и немецких планах по созданию больших коммерческих авиалайнеров. Немцам официально запретили строить цеппелины по договору с союзниками, так что я отмахнулся от этих рассказов. Построенные ими корабли были реквизированы британцами и американцами и переименованы. Шли, однако, разговоры о создателях цеппелинов, которые отправились работать в Америку, и это меня тревожило (я предполагал, что американцы станут нашими самыми опасными конкурентами). Фирма самого Цеппелина производила в Германии алюминиевые горшки и кастрюли. Прошли годы, прежде чем они получили разрешение на строительство воздушных кораблей. (Когда это время наконец настало, они украли почти все разработки, которые я осуществил во Франции, и заявили, что они принадлежат им. Я всегда признавал огромное влияние графа Цеппелина на развитие дирижаблестроения. Его преемник Эккенер, однако, не предложил никаких оригинальных идей. Вся репутация этого лакея – непосредственный результат его прежних связей с графом Цеппелином. Но не стоит напоминать о его позоре и о махинациях его еврейских хозяев.) В Рождество 1920 года я решил, что мой час наконец пробил. Прошло немногим более года с тех пор, как я сбежал от большевиков, убежденный, что все пропало, – и теперь я пил лучшее шампанское вместе со своим лучшим другом Колей и своей возродившейся сестрой Эсме, глядя, как монтажники в защитных очках, синих комбинезонах и огромных рукавицах, сидя наверху в люльках, забивают раскаленные красные стержни, соединяя основные части моего первого лайнера. Изамбард Кингдом Брюнель[321], наблюдавший, как обретает форму «Грейт Истерн», должно быть, испытывал такую же радость, как и я тогда: тепло в животе, яркий свет в глазах, вера в бессмертие. – Как ты собираешься ее назвать? – Коля поднес стакан к наполовину построенному носовому отсеку. У меня была дюжина предложений, но по-настоящему важным казалось только одно. Я положил укутанную в меха руку на маленькие плечи Эсме и нежно посмотрел на нее сверху вниз. Я знал, что на глазах у меня выступили слезы. Но я не стыдился их. – Я назову ее «La Rose de Kieff»[322].Глава двенадцатая
Я достиг совершеннолетия в тот день, когда выпал густой белый снег, заваливший ангар с моей «Розой Киева», и тогда же наконец получил письмо от миссис Корнелиус. Она снова поселилась в своем старом доме на Сидни-стрит в Уайтчепеле. Я и представить не мог, как же это хорошо – вернуться на родину. Она продолжала делать все возможное, чтобы помочь мне перебраться в Англию. Что еще важнее – майор Най обещал заняться моим делом. Он теперь получил постоянное место в Военном министерстве. Миссис Корнелиус была уверена, что они смогут вызвать меня в Англию самое позднее к весне. Тем временем добрый старый Лондон жил весело, и она была очень рада вернуться домой. Она посетила множество представлений. Она снова выступала на сцене, пока только в хоре, но ей предоставлялась возможность получить большую роль, если она правильно разыграет все карты. Я обрадовался, что она смогла продолжить карьеру. Я не собирался срочно отправляться в Лондон, но не видел никаких оснований мешать ее хлопотам. Я послал ей одну из своих вырезок в доказательство того, что и сам добился успеха. «Скоро, – написал я, – я смогу предложить вам работу – развлекать пассажиров на борту моего первого воздушного лайнера». Черный ангар, огромный квадрат, возносившийся над чистым снегом, в тот день пустовал – у рабочих был выходной. Я поехал в своем новом 3 1\2-литровом «хотчкисс турере» в Сен-Дени прежде всего для того, чтобы показать машину Эсме. Она решила, что это самый красивый автомобиль на свете. Я заподозрил, что наибольшее впечатление на нее произвело то, как синий корпус автомобиля сочетался с цветом ее глаз. Она завернулась в белую горностаевую шубку и стала почти невидимой – только пар от дыхания белым дымком поднимался в воздух. На мне, как обычно, была медвежья шуба, в карманах по-прежнему лежали казачьи пистолеты, которые я считал счастливыми. Все Рождество и новогодние праздники мы провели в бесконечных походах по вечеринкам. Мы встретили всех светских персонажей Парижа, включая странную негритянку Джанет Бейкер[323], мужеподобное высокомерие которой казалось мне порочным. Я был удивлен, что она оставалась звездой оперы, хотя, наверное, этот вид искусства, в котором ценятся крайности и преувеличения, всегда готов принять новое и непривычное. Мы подружились с мсье Делимье, одним из лучших французских министров, частным акционером компании и сторонником проекта коммерческих воздушных перевозок при участии правительства. Его заинтересовало мое происхождение. Он сказал, что у него много хороших друзей в русской среде. На той же вечеринке я встретил псевдоинтеллектуала, коммуниста и еврея Леона Блюма[324], который привел Францию к гибели в 1930‑х годах. В те дни было невозможно избежать встречи с евреями в любой сфере, будь то бизнес, искусство или политика. Они растили козлов отпущения и простофиль, на которых можно свалить вину, если дела пойдут не так, как надо. Поездка по снегу в Сен-Дени в мой день рождения остается одним из моих самых светлых воспоминаний. Тогда все шло прекрасно. У меня были признание, известность, работа и друзья. Немногие молодые люди в двадцать один год могли похвастаться такими достижениями. Прямые голые деревья, как салютующие солдаты, выстроились по обе стороны от дороги, стаи черных птиц выкрикивали свои приветствия, несколько снежинок упали с веток и теперь таяли на дрожащем капоте моего автомобиля, Эсме прижималась ко мне, когда водитель нажимал на газ. Из домов выбегали дети, они махали руками и кричали от восторга, церковные колокола пели, и даже овцы поднимали головы, чтобы проблеять нам «ура!». Я приподнял свою внушительную шляпу, приветствуя семейство, ехавшее в тележке, которую тащили две лошади серой масти. Я потянулся и нажал на клаксон, когда крестьянин с семейством пробирался по дороге от одного поля к другому. Я кричал от радости, видя в стальном небе летящих гусей, которые поднялись над большим ангаром и двигались все выше и выше, пока не скрылись с глаз: «Знамение!» Я приказал водителю остановить автомобиль и заставил Эсме выйти. Сторож, стоявший у ворот, узнал меня. Он пропустил нас, и мы прошли по свежему снегу в ангар. Отворив маленькую дверцу, мы проникли внутрь. Окна в крыше замерзли и приобрели волшебный вид. Лед в холодном прозрачном воздухе сверкал так, что опоры и леса мерцали, как серебро. – Это сказочная страна! – Эсме стояла в лучах света. На ее меха падал иней, похожий на маленькие звездочки. – Это сказка наяву. – Морозный воздух меня бодрил. Когда я говорил, снег приглушал эхо. – Подожди, мы еще взлетим выше облаков, ты и я, потягивая коктейли и слушая оркестр. Мы полетим в Америку. – Ты должен пригласить Дугласа Фэрбенкса – пусть он полетит первым! – Она стояла прямо под массивным корпусом дирижабля. – Он так любит приключения! Я сказал, что напишу ему в тот же вечер. По пути домой Эсме пожаловалась, что снег ее ослепил. У нее ужасно разболелась голова. Днем девушка легла в кровать и не смогла вечером пойти к де Гриону. Она настояла, чтобы я не отказывался от приглашения и пошел один. Я ушел, Эсме осталась одна. Она лежала, приложив к голове лед, – крошечная, нежная фигурка в постели, среди кружев и белого белья. Я чувствовал, что подвел ее. Возможно, переход от трущоб Галаты к парижскому высшему свету оказался слишком внезапным? Она часто тушевалась в обществе более искушенных людей старшего возраста, которые, конечно, предполагали, что она принадлежит к их классу. Она затруднялась в выборе слов, хотя все ценили ее скромное очарование. Считая Эсме моей сестрой, за ней ухаживали красивые молодые люди. Я не осуждал их. Меня это нисколько не огорчало. Я никогда не сомневался в искренней привязанности Эсме. Я уже говорил, что с удовольствием разрешал ей принимать приглашения на прогулку в парке или даже на обед, хотя и предупреждал, что намерения молодых людей не всегда будут благородными. Ей следовало принимать меры против тех, кто приглашал ее в мюзик-холлы или на частные ужины. Она доверчиво, не возражая, приняла мой совет. Она сказала, что я знаю о мире гораздо больше, чем она. В таких вопросах я был ее наставником, истинным старшим братом. Иногда казалось, что она принимала наш обман за чистую правду. Часто она и наедине называла меня братом. Когда мы занимались любовью (а это по целому ряду причин случалось довольно редко), Эсме говорила, что совокупление приобретало восхитительный оттенок греха, кровосмешения. Она оставалась моей свежей, прекрасной, чистой розой, лишенной недостатков, – как будто девственная невеста, перед которой открывался весь мир. Сам я наконец повзрослел и знал, что ей еще долго предстояло расти. Не стоило спешить. Ее девичество прекрасно – пока оно есть. Мою юность забрали война и революция. Я завидовал людям, которые могли наслаждаться юношеской свободой. Если бы у меня были дети, я обеспечил бы им абсолютную безопасность, долгое и хорошо спланированное обучение. Раннее столкновение с миром ни к чему хорошему не приводит. Я чувствовал, что за спиной у меня уже целая прожитая жизнь, но я не пожелал бы такого никому. К счастью, я смог уйти с вечеринки Гриона пораньше, вместе с Колей. Мы сказали, что должны обсудить некоторые технические проблемы. В Нейи, когда мы приняли немного свежего кокаина, Коля справился об Эсме. Если приступы будут продолжаться, то мне, по его мнению, следовало пригласить специалиста, которого он рекомендовал. – Но, возможно, она просто страдает от malaise du papillon. – Я не понял, что он имел в виду, когда говорил о «болезни бабочки»[325]. Он не захотел уточнять и добавил: – Димка, ты должен быть готов к тому, что она вскоре пойдет своей дорогой. Это проявление Колиной ревности показалось мне неожиданным. – У нее есть все, чего она хочет! Свобода, какой только она пожелает. Она получит все что угодно. Ты это знаешь, Коля. Она – ребенок. Я обязан защищать ее. Возможно, когда ей тоже исполнится двадцать один, я женюсь на ней. Это все, чего я жду. Похоже, мои слова произвели впечатление на Колю. Он согласился, что брак предоставлял определенные удобства. Он всегда с нежностью говорил о жене. Он любил ее так же сильно, как я – Эсме. Но мы слишком распереживались. Он встал и оделся. – Идем, мой милый Димка. Теперь мы отправимся на настоящую вечеринку. Мы поехали в моем «хотчкиссе» в ночной клуб на рю Буасси д’Англа, хотя уже было два часа утра. Здесь Коля чувствовал себя непринужденно. Нас окружали живописцы и поэты. Яркие зеленые, красные и фиолетовые фрески были выполнены в новейшем кубистском стиле. Музыка казалась лихорадочной, высокой, нервной и прерывистой, как в новых русских балетах. Я с тревогой ожидал появления Сережи – здесь было полно русских из Колиного прошлого, изгнанных призраков, отдавших свои антисоциальные таланты всеобщему хаосу. Мужчины открыто танцевали с другими мужчинами. Многие женщины носили фраки и обнимали своими похотливыми руками податливых молодых девушек. Танцуя, все целовались, обнимались, гладили и ласкали друг друга. Коля смело заказал у официанта «Ш и К», и нам тут же принесли «коктейль» – бутылку шампанского и небольшой пузырек с кокаином. Нас почти немедленно окружили знакомые, которые возникали у нашего стола из полутьмы. Некоторых я знал очень хорошо, еще со времен «Алого танго» и «Привала комедиантов». Они как будто перенеслись прямо из петербургского клуба в его парижскую версию, даже не сменив свою эксцентричную одежду. В прежние времена они казались достаточно безвредными, но среди них скрывались политики и гангстеры. Я предположил, что в Париже положение не изменилось. И конечно, некоторые люди, выглядевшие простыми клоунами, вскоре попытались задушить былую защитницу, мадемуазель Свободу. Из этого небезопасного логова мы перебрались на частную вечеринку, где Мистангет[326] и половина артистов из «Казино де Пари» устраивали импровизированное представление. Я как раз слушал смешную песню о полете на аэроплане – и тут кто-то коснулся моей руки. Хорошо одетый человек, темноглазый и смуглый, улыбнулся мне, как будто узнал старого знакомого. К моему удивлению (он казался французом), мужчина заговорил со мной по-русски. Он был из Одессы, но я никак не мог его вспомнить. – Ставицкий, – представился он, пожимая мне руку. – У нас был небольшой бизнес несколько лет назад. Вы тогда были еще мальчиком. Вы не изменились. Я тотчас вспомнил нашу единственную встречу. Этот человек с помощью моего кузена Шуры покупал кокаин у голландского дантиста, в приемной которого я и познакомился с миссис Корнелиус. Ставицкий был одет очень вычурно, как одесский денди, хотя теперь жил в Париже, а не в Одессе. – Вы, похоже, преуспеваете. – Я был рад его увидеть. Он усмехнулся: – Не стану жаловаться. Да и вы тоже кое-чего добились. Этот дирижабль, ваша афера, – удачная идея, а? Мне не понравилось, что он назвал мой проект аферой, но я привык к снисходительному жаргону парижан и поэтому не очень обиделся. Мы вместе пили водку и гренадин, как в старые добрые времена. Ставицкий сказал, что надеется повидаться со мной снова. Если у меня появятся другие патенты, следует ему сообщить. Когда Ставицкий уже возвращался к своему столику, я спросил, нет ли каких-нибудь известий о Шуре. – Я могу точно вам сказать, где он. Ведет небольшую операцию в Ницце. Я видел его неделю назад. Передать ему что-то? – Только то, что я в Париже. Он может найти меня через мастерскую по созданию дирижаблей в Сен-Дени. – Я ему скажу. – Ставицкий подмигнул. – Вам не стоит платить за это такие деньги. – Он указал на остатки нашего кокаина. – Приходите в следующий раз ко мне. Для друзей у меня особые цены. Он взмахнул рукой и исчез в волнующемся людском море, окружавшем нас. Он был добрым человеком, в следующие несколько лет добился заслуженной известности, но – увы – его использовали ленивые политиканы, которые, сами будучи евреями, выставили евреем и его. Ставицкого убили в маленькой хижине в швейцарских горах[327]. До некоторой степени, полагаю, мне следовало радоваться тому, как потом пошли мои дела, хотя тогда я никакой радости не испытывал. Если бы я задержался в Париже подольше, то и сам мог бы разделить судьбу Ставицкого. Поначалу ничто не предвещало беды. Но 30 января случилась забастовка в ангаре для дирижаблей. Все инженеры и монтеры потребовали более высокой заработной платы. Это было ударом хотя бы потому, что я считал наши отношения с рабочими просто превосходными. Мы стояли плечом к плечу, стремясь к общему идеалу. Во всем был повинен, несомненно, какой-то агитатор-социалист. Состоялось экстренное совещание совета. Мсье де Грион сказал, что мы, несомненно, должны отклонить все требования. Эти саботажники коварно подрывали самые основы французского общества. Речь шла не просто о наших непосредственных интересах, но об интересах всех приличных людей. Понимая его принципы, я был тем не менее обеспокоен смыслом его слов. Наш график оказался под угрозой. Мы обещали закончить проект через год. В нашем проспекте говорилось о первом путешествии в ноябре 1921 года и о регулярных рейсах с января 1922‑го. Остановить работу теперь было бы просто безумием. Мы не могли позволить себе нарушить ритм нашей работы. Мы не просто потеряли бы неделю или две: следовало поддерживать взаимодействие проектировщиков и инженеров на всех уровнях. Де Грион сочувствовал мне, но его аргументы были сильнее. Только мы с Колей проголосовали против резолюции, которая запрещала вести переговоры с рабочими. С этого момента я стал удивленным свидетелем безумной, не поддающейся описанию лавины событий. В течение месяца половина наших людей перешла в другие конторы. Мы не могли продолжать работу, не имея полной команды, наем и обучение нового персонала заняли бы очень много времени. Мсье де Грион оставался непреклонным. Я сказал, что его упрямство угрожает нам гибелью. Я видел, что мои мечты снова рухнули, в тот самый момент, когда я уже поверил в их осуществление. Постепенно в сомнительных газетах стали появляться разные истории. «Трансатлантическая аэронавигационная компания» попала в сложное положение и пыталась добиться финансирования от правительства. Акционеры начали продавать свои акции. К апрелю некоторые даже заговорили о предъявлении исков. По крайней мере, в одном скандальном листке нас с Колей назвали парочкой русских шарлатанов, обманувших французскую общественность своими мошенническими прожектами. У моей двери ночью и днем дежурили репортеры, которые пытались выяснить, была ли доля правды в этих слухах. Неужели компания на краю банкротства? Я приходил в бешенство. Я не мог ничего ответить. Я объяснял, что всегда был только ученым, а не финансистом. План представлялся исключительно убедительным, потому что мое судно – самое современное в своем роде. Я предъявлю миру свои достижения, если смогу закончить строительство. Я обвинял забастовщиков в близорукости. Это, конечно, стаю красной тряпкой для большевистской прессы. В заголовках красных газет появились обвинения, адресованные половине выдающихся бизнесменов Франции (а также «белогвардейским агентам»), – нас обвиняли в преднамеренном мошенничестве. Акции «Аэронавигационной компании» очень быстро упали в цене. Мсье де Грион с грустью сказал мне, что ему придется выйти из совета. Только Коля поддерживал меня, пытаясь убедить людей остаться, поскольку без них компания, несомненно, рухнет. – Зачем закрывать золотой рудник, когда нужно лишь продолжать копать? Но они не слушали. Они вызывали у меня отвращение. Эсме, похоже, совсем не поняла, что я имел в виду, когда речь зашла об этом предательстве и наших трудностях. Зачем нам снова нужно переезжать, отказываться от автомобиля, увольнять слуг? Я попросил ее относиться к нашим финансовым делам серьезнее. Ранее, чтобы найти Эсме какое-то занятие, я попросил ее озаботиться покупкой еды и одежды. Она плакала и говорила, что ничего не понимает. Это я должен был решать, что делать. Я вышел из себя. Ей надо взять себя в руки. У нас чрезвычайная ситуация! Я излил свой гнев на этого ребенка. Я выскочил из дома и в течение получаса прохаживался взад-вперед по улице, пытаясь успокоиться. Но когда я вернулся, ее не было. Слуги сказали, что она уехала на автомобиле, – вот и все. Я всерьез обеспокоился. Мы с Колей вместе поужинали. Он счел новости печальными, но с виду воспринял все несколько лучше, чем я. Он показал мне пакет, который доставили в офис в тот день. Коля вложил его в мою руку. – Что это? – Спасение, – сказал он. – Если нам оно нужно. К счастью, я ожидал, что это понадобится, если мы полетим на «Розе». Вскрыв конверт, я обнаружил совершенно новый французский паспорт на свое имя с визой на въезд в Соединенные Штаты. – Все практически чисто, – заверил Коля. – Помог мсье Делимье. Ты не помнишь, как заполнял анкету перед самым Рождеством? Я подписывал так много разных бумаг… Вообще, я серьезно относился к тем документам, на которых ставил подпись, потому что не знал, в какой степени несу ответственность за дела фирмы. Но я не смог ничего припомнить. – Ну, мы все были очень заняты тогда… – сказал Коля. – А есть ли паспорт для Эсме? – Она несовершеннолетняя. В отличие от тебя, у нее поначалу не было никаких бумаг, которые могли бы подтвердить национальность или, в конце концов, личность. Но ее паспорт скоро прибудет, я уверен. Новые документы, уложенные в нагрудный карман, казалось, теперь защищали мое сердце. – Но как же мы сохраним компанию, Коля? Все директора ушли в отставку. Теперь ни у кого нет акций, в том числе и у твоего тестя. Мы – единственные акционеры. – О, это правда. – Коля двумя бледными пальцами отодвинул тарелку и глотнул кларета. – Неглупо сделано, а? Интересно, а они вообще думали, что дело с кораблем зайдет так далеко? Я ничего не мог понять и просто кивнул. Он улыбнулся мне дружески, но слегка насмешливо, и вздохнул: – Димка, я полагаю, нас с тобой подставили, устроив мошенничество с акциями. Иначе почему нас никто не предупредил? Нам никто не посоветовал продать акции. Нам никто не предложил уйти в отставку. – Но вся катастрофа произошла из-за забастовки, – заметил я. Коля погладил меня по руке: – Забастовку, мой дорогой, легко организовать. А организовав, устроить все в пользу управляющих, а не рабочих. Все еще пребывая в недоумении, я пожал плечами и покачал головой: – Неужели забастовщиков подкупили? – Дьявол не всегда ходит с красным флагом, Димка. Иногда он посылает доверенных лиц. Агитаторов можно купить, особенно если они профессионалы. Когда ситуация накаляется, рабочие твердо стоят на своем. Капитал стоит на своем, и кто-то наживает состояние на дирижабле, который никогда не полетит. – Но кто? У меня неоплаченные счета. Нет доходов. Арендная плата. Разные долги. Слуги. У меня практически нет наличных. – И здесь то же самое, малыш. – Но мсье де Грион кажется достаточно обеспеченным, верно? И его друзья. Конечно, он тебя не подведет. Он побоится скандала. Ведь его дочь может пострадать. – Совершенно уверен: его вполне устроит, если банкротство компании мне серьезно навредит. Моя жена потом получит подарок. У меня больше не останется собственного капитала. И все снова будут довольны. Для него – просто идеальная ситуация. Возможно, он все это детально распланировал. Однако я склоняюсь к мысли, что решение нашлось случайно. Он надеялся получить крупные правительственные гранты, другие контракты. А так он может просто списать все потери. – И пострадают только обычные акционеры. Он пристально посмотрел мне прямо в глаза, как будто пытаясь передать телепатическое сообщение: – И ты, дорогой Димка. Есть еще огромные счета компании. Заработная плата, не выплаченная служащим и инженерам. Проекты, сырье, аренда. Все вместе, вероятно, не меньше миллиона. У меня закружилась голова. Я на миг лишился дара речи. Разумеется, заметил я, личной ответственности за все долги я не несу! Коля сжал мою руку: – Но скандал, связанный с банкротством, прежде всего коснется тебя. Желтая пресса уже обвиняет иностранцев. И они найдут прекрасную жертву – тебя. Иностранный жулик? Возможно, большевистский агент. У антисемитов тоже будет настоящий праздник. – Я не еврей! И не коммунист! – Как ты это докажешь? Слова Коли звучали очень убедительно. Он пытался объяснить мне реальное положение дел. Я понял: если люди, которые пожелают выставить меня лжецом и вором, займутся изучением моего прошлого и доберутся до одесских историй, то у недоброжелателей появятся убедительные для многих доказательства. И тем не менее я решил бороться с подобными инсинуациями. В конечном счете, это было в моих интересах. – Я знаком с адвокатами. Я докажу свою невиновность, Коля! Князь Петров не выразил ни малейшего восторга: Тебе для этого понадобятся деньги. Я помогу, но я теперь ограничен в средствах. Кто-то сможет ссудить тебе крупную сумму? После этого я пал духом. Несколько месяцев я избегал единственного человека, готового дать мне деньги (пусть он и требовал от меня слишком много). Во всем Париже больше никто не протянет мне руку помощи. Я снова оказался в проигрышном положении. В каком-то смысле оно было еще хуже, чем раньше. ЧК может пронюхать о моей уязвимости. Во мне вновь ожили старые страхи. Я поклялся, что никогда больше не сяду в тюрьму. Большевики однажды уже обвиняли меня в мошенничестве, в Киеве, а теперь самые настоящие мошенники хотели засадить меня в тюрьму, доказав, что я большевик! И все-таки я по-прежнему верил в свой дирижабль. Это был прекрасный проект. Реальный. Он, несомненно, меня спасет! – Британцы, как и голландцы, инвестируют средства в коммерческие воздушные перевозки. Почему бы не обратиться за поддержкой к ним? – Это невозможно с политической точки зрения, – очень спокойно ответил Коля. – Нам нужны частные средства. А те, у кого есть деньги, ненавидят скандалы. – Большая часть каркаса уже построена. У нас есть расчеты по газу, ткани и двигателям. Мы вот-вот определим стоимость гондолы. Все сработает, Коля! Мой друг расстроился еще сильнее. На глазах у него выступили слезы. – Димка, я советую тебе оставить надежду на постройку корабля. Спроектируй другой дирижабль. Найди нового покровителя за границей. Воспользуйся этим паспортом при первой возможности! – Мне придется уехать в Константинополь? – В Америку, разумеется. Там настоящие деньги. Там действительно заинтересованы в новых идеях. Да, если бы я мог выбирать, то отправился бы в Нью-Йорк. – Коля, это невозможно. Бумаги Эсме еще не готовы. – Они могут прийти в любой день. Ты не сумеешь ей помочь, если тебя арестуют. – У меня нет денег на билет. – Я смогу найти деньги на билет первого класса. Коля изо всех сил умолял меня спасаться, и я восхищался им все больше. Но я никак не мог собраться с силами. Жизнь казалась такой легкой и безопасной, перспективы – радужными, и вот в одно мгновение все рухнуло. – Мне нужно время, – ответил я. – Я не могу покинуть Эсме. Ты знаешь, как много она для меня значит. – Никто не заставляет тебя ее покидать, Димка. Она последует за тобой почти немедленно. Я позабочусь о ней. Она может жить у нас. Я знал, что он прав. Мне нужно было уехать раньше, чем выдвинут обвинения. Тогда, по крайней мере, я не окажусь в положении разыскиваемого преступника. – Слава богу, у меня есть друг, на которого можно положиться. Но что, если тебя тоже попытаются обвинить? – Ничего не случится. У меня есть семейные связи и титул – это прекрасные гарантии. Я боюсь, что пострадать можешь только ты один, Димка. Не стану божиться, но с виду похоже: они сознательно все устроили так, чтобы ответственность пала на тебя. Как простые люди могли совершить такое предательство? Я преодолел великое множество опасностей, я часто рисковал и терпел лишения, лишь бы проникнуть в ясный, простой, гармоничный мир, а в итоге меня предали, более тонко, более хладнокровно, чем в России. Франция, мать современного правосудия, собиралась пожертвовать мной, чтобы удовлетворить жадность и амбиции своих великих людей. Идеалист, человек разума беспомощен в поединке с силами пятого измерения, измерения тайной власти. Нечестивые радуются, когда побеждают поэтов и ученых, когда их бросают на алтари Гога и Магога и окровавленными ножами вырезают невинные сердца. Пятое измерение – земля Сиона, пространство, лежащее за пределами географии, темный мир темных мужчин и женщин, которые решили проникнуть в наши страны и захватить их, заменить всех нас двойниками, в которых вселятся духи мертвых карфагенян. Именно так Карфаген добивается успеха – используя деньги и человеческое безумие. Остались в прошлом слоны и бронзовые гонги, блестящие металлические орудия и крики бородатых красногубых солдат. Больше нет рабов, скованных цепями, бредущих под ударами кнутов и склоняющихся под палящим солнцем. Теперь рабы сидят за столами в идеально чистых офисах, они ползают в угольных забоях с современными безопасными лампами, они работают в клубных шоу и не могут понять, что душой и телом принадлежат невидимым существам, владыкам пятого измерения. Сион – это Карфаген, и Карфаген не умрет. Он принимает тысячу обличий, и его жертвы – честные, разумные, невинные и святые. Война продолжается, но нас слишком мало. Я могу расслышать их смех, далекий и беспощадный, дразнящий и жадный, отдающийся эхом из-за барьера, отделяющего одно измерение от другого. Смех Карфагена придает мне сил. Я сопротивляюсь. Они не могут понять. Они избивали меня своими прутьями. Они вынудили меня преклонить колени. И все-таки я продвигаюсь вперед. Im darf men keyn finger in moyl nit araynleygen![328] Армии Турции и Израиля объединяются против меня, но я продолжаю борьбу. У меня мало друзей, но они сильны. Мне очень жаль, что их не было рядом со мной в Париже, в те ужасные часы моего падения. Но настанет время для мести. Мы двинемся вперед, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.Первого апреля 1921 года город начал зеленеть и расцветать. Ранние утренние зори светлыми пятнами покрывали изящную поверхность Люксембургского сада, и люди, освобождаясь от зимних коконов, ходили по улицам все быстрее и легче. Симпатичные девочки оборачивались и смотрели на мой солидный автомобиль, когда я проезжал мимо, но я почти никого не замечал. Меня тревожили неприятности. Когда начали приходить письма от кредиторов, а люди на улицах возле наших опустевших контор стали меня оскорблять, я решил, что больше не могу ждать. Бродманн и его чекисты вот-вот поймут, что я беззащитен и слаб, а французская полиция арестует меня за мошенничество. С каждым днем дела шли все хуже. Не осталось никаких сомнений, что де Грион и его друзья из высшего общества решили принести меня в жертву, – так они смогли бы заявить, что иностранный авантюрист обманул их. Некоторые газетные статьи в консервативной печати, несомненно, были основаны на сведениях, полученных от де Гриона. Мы с Колей, как и большинство обычных акционеров, оказались единственными по-настоящему пострадавшими, но никак не могли это доказать. Все было на стороне де Гриона – все средства информации, в моем случае. Я читал статьи: там писали, что я большевистский агент, мошенническим способом добывающий золото для Москвы, что я представлял интересы немецких сионистов, что меня разыскивали за преступления в Италии и Турции. Я уже достаточно знал о таких кампаниях и мог предсказать результат. Я был превосходным козлом отпущения, как заметил Коля. Мне следовало позабыть о продолжении борьбы во Франции. Все могло кончиться только тюремным заключением. Мне нужно отправиться за границу и там очистить свое имя. С французским паспортом я без особых затруднений мог добраться до Англии, но я все еще находился бы слишком близко к источнику опасности. Коля, как всегда, дал самый лучший совет. Я проведу некоторое время в Америке, встречусь там с Эсме и Колей, а затем, когда всю эту историю позабудут, поеду в Англию. В тот день, возвращаясь домой, я решил рассказать Эсме о своем намерении сесть на корабль, идущий из Шербура в Нью-Йорк. Коля будет оберегать ее до тех пор, пока она не последует за мной. У меня не осталось выбора. В Америке я мог быстро вернуть себе честное имя. К тому времени, когда Эсме приедет, я снова добьюсь успеха. Наивность и оптимизм американцев теперь казались привлекательными. Очевидно, у них были деньги на разработку новых проектов. Они еще не поняли, какуювыгоду им принесла война. Теперь Америка, впервые в истории, стала основным международным кредитором, все еще не осознавая той огромной власти, которую она приобрела в мире, где почти все страны столкнулись с угрозой банкротства. В Соединенных Штатах прежние газетные вырезки окажутся очень полезными и подтвердят мои претензии. У меня скопилось много статей и интервью, в которых в основном шла речь о моих первых успехах в Киеве и Константинополе. Я приехал домой и обнаружил, что там никого нет. Неделю назад ушли слуги, но теперь исчезла и Эсме. Когда компания начала разваливаться, Эсме стала часто отлучаться из дому. Сначала ей приходилось появляться в обществе, чтобы в мое отсутствие справляться со скукой, а теперь она использовала выходы в свет, чтобы забыть об ужасах возвращающейся бедности. Я пообещал себе как следует растормошить ее накануне отъезда. Мы должны провести вместе несколько чудесных дней, прежде чем я сяду на «Мавританию», лайнер, который я избрал для путешествия. Это уже был не самый большой в мире корабль, и там нередко оставались свободные места, но все говорили, что этому судну свойственна довоенная элегантность, которой недоставало новомодным лайнерам «Кунард» с их современной отделкой и пастельными красками. Сев за стол, я написал письмо миссис Корнелиус. На мое последнее сообщение, в котором речь шла о достигнутых успехах, ответа не последовало. Теперь я должен был рассказать ей о перемене своего положения. Я не смогу оказаться в Англии в ближайшее время. У меня была виза на шесть месяцев пребывания в Америке, и я мог ее продлить в случае необходимости. Сначала я намеревался задержаться в Нью-Йорке, а потом отправиться в Вашингтон. Там я рассчитывал встретиться с правительственными чиновниками и предъявить им свои патенты. Я пожелал ей удачи на сцене, предположил, что ее таланты могут полнее раскрыться в кино, и попросил передать наилучшие пожелания майору Наю. Эсме не вернулась домой к восьми. Я оставил ей записку и отправился на встречу с Колей. Он настоял на том, чтобы посетить ночной клуб на рю Буасси д’Англа и попробовать хот-доги: «Так ты узнаешь, какую еду подают в Америке, и не будешь ничему удивляться!» Казалось, мой друг находился в приподнятом настроении, но я считал, что он просто притворяется, желая подбодрить меня. Расставание с ним было почти так же болезненно, как и расставание с Эсме. Он сказал, что, вероятно, приедет через несколько месяцев, как только утихнет скандал. Судя по всему, он сам привезет ко мне Эсме. Только на это я и надеялся. Я боялся снова окунуться в бездну кошмара и с трудом мог думать о самых важных вещах. Я не хотел покидать двух своих лучших друзей и уезжать из Европы. Соединенные Штаты до сих пор казались мне очень далекими. Огромная страна находилась где-то за краем мира. Но это придавало ей привлекательности. Сидя за небольшим столом под аркой, разукрашенной ярко-желтыми и темно-красными гротескными узорами, мы с Колей смотрели, как балерины танцевали под музыку негритянского оркестра, пародируя классические движения. У моего друга появились новые сведения: – Остановишься в отеле «Пенсильвания». Все говорят, что там великолепно. Отель настолько современен, что подземная железная дорога ведет прямиком в подвалы, просто для удобства гостей. Я заказал тебе номер через агентство Кука. В паспорте указано, что ты инженер, так что у тебя не возникнет проблем. Инженеры в Америке – национальные герои. В следующий раз ты явишься в Париж на своем собственном пассажирском самолете. Не бойся, Димка, ты докажешь, что все обвинения лживы! Мы выпили за мой успех, но я все еще боролся со страхом. В России моими действиями управляли великие исторические силы, но во Франции судьбу творил простой финансовый обман. (Все же теневой мир Карфагена, пятое измерение, живет по собственным правилам, он готовится завоевать нас, и его нынешнее оружие – деньги, фондовая биржа. Он находится на Востоке, и в то же время повсюду, ибо это измерение пересекает наш мир в тех плоскостях, которые пока еще не подвластны обычной науке.) Той ночью я попрощался с Колей. Отказавшись на сей раз от номера в Нейи, мы заняли комнату на рю Бонапарт. Это было чудесное прощание, мы плакали. Нам с Колей было суждено быть вместе, так же как и с Эсме. Тонкие черты моего друга в свете фонарей, пробивавшемся с улицы, напоминали призрачный, трагический лик Пьеро девятнадцатого века. Конечно, мы еще встретились до моего отъезда в Шербур, но тот вечер стал подлинным моментом расставания. Я пришел домой и обнаружил, что Эсме еще не разделась. Ее волосы были взъерошены. В белом с серебром вечернем платье она напоминала безумную рождественскую фею, порхающую по пустым комнатам. Эсме была пьяна. Она сказала, что вернулась и увидела, что меня нет. Уверенная, что я ее бросил, она взяла такси и решила искать меня на улицах. Я показал ей свою нераспечатанную записку, лежавшую там же, где я ее оставил. Она бездумно посмотрела на бумагу, молча качая головой. На мгновение глаза ее стали плоскими, как у марионетки, лишенными выражения и разума. Потом она опустила веки и осела на стул, как будто все ее тело свернулось в комок и ее рассудок втянуло в какую-то потаенную бездну. Я испугался, что вызвал подобную реакцию. Когда я попытался растормошить Эсме, она задрожала, взглянув на меня с испугом и ожиданием. Я отстранился от нее: – Что случилось? Она не могла пошевелиться. Губы девушки сжались, потом безвольно приоткрылись. В итоге я подхватил ее, отнес в спальню, уложил в постель и раздел. Она лежала, до подбородка укрытая простыней, ее глаза следили за мной, когда я готовился ко сну. Эсме не отвечала на мои вопросы. Я решил, что переволновался. Причина ее поведения – выпивка и позднее время. Я заснул, решив посвятить ее в свои планы утром. За завтраком Эсме снова стала собой – она была остроумна, весела, счастлива, как канарейка. Она договорилась пообедать с подругой Агнес на Елисейских Полях. Про Агнес я ничего раньше не слышат. Не пожелает ли Эсме, чтобы я ее сопровождал? Но у Агнес был какой-то секрет, который следовало обсудить в отсутствие мужчин. – У меня тоже есть важный секрет, Эсме. Тот, который я хотел рассказать вчера вечером. Эсме склонила голову набок, ее голубые глаза застыли, кусок тоета повис в воздухе на полпути ко рту. – Ты покупаешь новый автомобиль? Проблемы с дирижаблем? Небрежная и легкомысленная, она стала истинной парижанкой, которая не относится серьезно ни к чему, кроме только что купленной туши для ресниц. Я не завидовал ее счастью, но был немного раздражен и в итоге не сумел сдержать гнев и невесело рассмеялся: – Новости дурные, дорогая. Наша компания просто уничтожена. Стервятники уже близко, и я – единственное мясо, которое осталось им на поживу. Все остальные сбежали. Она неожиданно захихикала – словно птица запела во время похорон. – Они не смогут навредить тебе, Максим. Ты неуязвим. Ты придумаешь новый план. Я рассчитывал на сочувствие или, по крайней мере, на понимание. Эта уверенность меня не ободрила, а рассердила. – План довольно смелый, – сказал я. – Выслушай меня, Эсме. Она уже встала. Думаю, что она хотела укрыться от правды, сбежать от тревожных вестей. Вот почему она вела себя так странно накануне вечером. Она быстро и нервно направилась к двери, по-прежнему похожая на маленькую девочку. – Тогда, конечно, нам нужно поговорить, Максим. Я буду дома к вечеру. Давай выпьем чаю около четырех. Встретимся здесь? – Я хочу поговорить сейчас. – В четыре. – Она развернулась, подбежала ко мне, обвила руками мою шею, поцеловала в нос и улыбнулась. – Если новости дурные, то четыре часа – самое подходящее время, чтобы их услышать. Если хорошие – мы сможем сегодня вечером отпраздновать. Я посмотрел на груду писем, которые все еще боялся распечатать. Все они были связаны с крахом компании. Я так и не прочел их. Я вернулся в постель, пролежал там до обеда, пытаясь обдумать сложившуюся ситуацию. Я никак не мог поверить, что стал нищим. Я лежал в своей огромной чистой кровати, разглядывая декоративный потолок, а парижская весна проникала в роскошную комнату вместе с солнечными лучами. Моим единственным имуществом, за исключением счастливых пистолетов, оставался «хотчкисс», который следовало продать, а деньги передать Коле для Эсме. Было бы глупо отдавать деньги ей. Эсме распоряжалась ими, как правило, экстравагантно и могла все истратить за пару дней. Дом был оплачен только на месяц вперед, большая часть мебели распродана. Осталось решить всего несколько вопросов. Я мог положиться на Колю – он позаботится обо всем остальном. Единственное, чего я боялся, – что мои новости могут слишком сильно потрясти Эсме. Я опасался, что она снова впадет в ступор. Я не смогу ее покинуть, если случится припадок. Помня об этом, я попытался отрепетировать предстоящий разговор. Но одна половина моего мозга не могла как следует отвечать на вопросы другой. Я никак не хотел принять неизбежное: мне приходилось расставаться с девушкой, которую я считал частью себя. Но, по крайней мере, я уже привык к разочарованиям и предательствам. Со дня нашей первой встречи она видела только свет и свободу. Как тяжело ей придется теперь, когда она останется беззащитной! Я съел бутерброд и выпил стакан пива в баре за углом, а потом спустился по Сен-Мишель к Сене. Стояла сырая весенняя погода, легкий туман висел в воздухе и над водой. Книжные киоски на пристани по большей части закрылись, но несколько терпеливых стариков сидели, словно взъерошенные псы, и стерегли свои лотки. Звуки, доносившиеся с моста, были такими тихими и приглушенными, что мне показалось, будто время застыло и я остался единственным живым человеком в целом городе. Звуки становились все глуше и слабее. Люди, мимо которых я проходил, казались нереальными, как на кинопленке, хотя мое внимание то и дело привлекали яркие цветные пятна. Я двинулся по мосту к Нотр-Даму, остановился и осмотрел массивные двери собора. Они казались надежной баррикадой, защищавшей храм от разрушительного воздействия внешнего мира. Париж окружал меня всей своей чувственной прелестью, его деревья, на которых только начали распускаться почки, росли на большом расстоянии друг от друга. Париж был наименее сострадательным из городов, в основном занятым собой. Он неохотно награждал за успех и быстро карал за неудачи. Глядя на тогдашний надменный Париж, сложно было представить, на что походил город во время революции или осады, когда по улицам с криками носились буйные толпы. Я думал, что мог понять, как на город обрушились его же обитатели, обезумевшие существа с воспаленными глазами, пытавшиеся сжечь Париж и убедиться, что он смертен. Если их намерения были и впрямь таковы, они потерпели неудачу. Париж остался безразличным. Бедность и тревоги вызывали у него лишь отвращение. Шум оскорблял этот город – и он отворачивался. К тому времени, когда я повернул назад, начался сильный дождь. У небольшой круглой церкви Сен-Жюльен-ле-Повр я услышал почти механический стук капель воды и почувствовал запах сырости, доносившийся с церковного кладбища. Завеса дождя медленно надвигалась на меня. Я укрывался в проулках и дверных проемах. Я не мог допустить, чтобы меня обнаружил Бродманн или Цыпляков. Но Париж знал, где я, он намеревался выбросить меня, как будто я – чужеродное тело. Я мечтал о теплом хаосе Рима, даже о грязи и нищете Константинополя. Я не мог вообразить, на что похож Нью-Йорк. В других городах, в своих башнях из мрамора и гранита, все еще трудились картографы мира. Торговцы оружием и зерном щупали пульс доведенной до отчаяния планеты. Греков отдали на растерзание туркам, русских – полякам, украинцев – русским, а итальянцев – югославам. Достоинство и честность были хитроумно опозорены. Джазовая музыка заглушила все протесты. Может, в Америке, которая во многом несла ответственность за всеобщее смятение, еще хуже, чем здесь? Я сопротивлялся своему страху. Еще оставались русские колонии в Венесуэле, Бразилии, Перу и Аргентине. Если Соединенные Штаты не оправдают моих ожиданий, я могу отправиться на юг. Оттуда было бы легко вернуться в Европу. С этой утешительной мыслью я зашел в маленький кинотеатр «Одеон» и снова посмотрел фрагмент из «Рождения нации». Небо очистилось, и надежда вновь ожила. Я пришел домой в четыре, но Эсме не возвращалась до шести. Она очень мило извинялась, проклинала автобусы, такси и движение на Южном берегу, непрерывно целовала меня, рассказывала о подарке, который она мне купила. Эсме оставила его в трамвае. Она непременно раздобудет другой в понедельник. Было уже слишком поздно для чая, но, поскольку Эсме находилась в таком чудесном настроении, я решил с ней поговорить: – Эсме, я собираюсь уехать из Франции. – Что? – Она перестала рыться в своей сумочке. – В Рим? – Они посадят меня в тюрьму, если я не уберусь как можно дальше. Так что я поеду в Америку. Эсме слегка улыбнулась. Она подумала, что я шучу. – Но я хочу поехать в Америку с тобой. – Ты присоединишься ко мне, как только у Коли появится для тебя паспорт. Пока возникла заминка, потому что у тебя нет нужных документов. Очень многие эмигранты находятся в такой ситуации, и потому требуется время. Это займет не больше нескольких недель. А потом мы снова будем вместе. – Где я буду жить? – Она поморщилась, отложив сумочку в сторону. – Комнаты оплачены только на месяц. – Коля предложил тебе комнату в их парижской квартире. Они с Анаис бывают там редко, и тебе это жилище достанется в полное распоряжение. И слуги. Все, чего ты хочешь. Возможно, Коля и Анаис смогут привезти тебя в Нью-Йорк. Они собираются туда поехать в скором времени. Эсме побледнела и прикусила нижнюю губу. Она вертела головой, как будто что-то потеряла. – Тебе не нужно бояться, – мягко произнес я. – Ты скоро встретишься с Дугласом Фэрбенксом. Она улыбнулась: – Максим, ты любишь меня? – Всем сердцем. – Этот вопрос меня слегка обеспокоил. – Ты – моя жена, моя сестра. Моя дочь. Моя роза. – Я шагнул к ней. – Почему ты меня любишь? – Увидев тебя впервые, я что-то почувствовал. Как будто узнал. Я всегда искал тебя. И я нашел тебя снова. Я уже говорил тебе это. – Я тоже тебя люблю, Максим. – Она, казалось, все еще думала о чем-то другом – возможно, никак не могла смириться с новостями, которые я сообщил. – Я останусь, моя любимая, если тебе так хочется. Она была отважной, моя маленькая девочка. – Нет. Это неправильно. Я хочу, чтобы ты поехал. Я скоро присоединюсь к тебе. Ты должен следовать своей судьбе. Теперь она ведет тебя в Америку. – Ты просто великолепно все восприняла. Я ожидал рыданий. – Все к лучшему, – решительно ответила Эсме. Я протянул руку и коснулся пальцами ее губ. Эсме поцеловала кончики пальцев, глядя на меня со странным, почти трагическим выражением. Потом она вздохнула и опустила голову. Я сжал ее плечо. – Ты даже не заметишь, что я уйду. Ты будешь знать, что душой я всегда рядом с тобой. Я люблю тебя, Эсме. – Я всегда чувствую, что ты со мной. – В ее негромком голосе, как ни странно, слышалось смущение. Ее ответ был загадочным и в то же время трогательным. – Постарайся не скучать по мне, – сказал я. – Ты ведь не покинешь меня навсегда, правда, Максим? – Ничего подобного! Когда-нибудь мы поженимся. Когда ты станешь достаточно взрослой с точки зрения закона. – Я улыбнулся. – Возможно, в Америке – там брачный возраст меньше. Так будет даже лучше. Хочешь, поженимся на Диком Западе? А в гостях у нас будут индейские воины? В маленькой деревянной церкви посреди прерий? – Это будет так чудесно и романтично! – Эсме встала. Внезапно смутившись, она взяла меня за руку. – Пойдем в постель! Наш вечер прошел прекрасно, любовные ласки были нежными и спокойными. Повторилось то, что пережили мы с Колей. Когда любовники собираются расстаться на время, происходит своего рода освобождение. О Эсме, моя сестра. Моя вечная спутница. Мой идеал. Я никогда не хотел, чтобы ты стала женщиной. Они взяли тебя и окунули твое лицо в грязь и ужас мира. Ты сказала, что наконец проснулась. Но что дурного в снах? Они никому не вредят. Они не оставляют следов. Зачем говорить о смерти, когда она неизбежна? Что вынуждает этих людей распространять печальные новости, как крысы распространяют чуму? Зачем нам нужно терпеть страх? Меня лишили красоты и надежды. Кнутами и пистолетами они изгнали меня из детства в эту невыносимую, холодную, непроглядную пустыню. Дети бредут по грязи двадцатого века. Они бредут по разрушенному миру, бездомные и лишенные любви. Questo dev’essere un errore. Non mi dimentichi[329]. Men ken platsn![330] Дождь лил до самого Шербура: волны дождя летели, как дым, над лугами и лесами, французские цветы цвели и листья на деревьях трепетали. В поезде было тепло. Там пахло углем, чесноком и старушечьими духами. Моя отважная маленькая девочка стояла рядом с Колей на платформе, махая носовым платком, оборачиваясь и то и дело улыбаясь моему другу, как будто в ответ на его удачные шутки. Коля явно замерз – он надел тонкую черную шляпу из камвольной ткани, руки засунул в карманы, на его бледном лице ничего не отражалось, он с каким-то напряжением ожидал отхода поезда. Эсме, в красном и белом, порхала, как праздничный флаг. Она, кажется, все еще подпрыгивала, махая мне платком, когда поезд повернул и я потерял ее из виду. В тот момент я не очень беспокоился. Перспектива путешествия, как обычно, отодвинула на задний план все прочие мысли. Я не хотел размышлять о том бедствии, которое лишило меня первого настоящего шанса на успех. Если бы я сосредоточился на подобных мыслях, это кончилось бы в лучшем случае ненужной меланхолией, а в худшем – безумием. Так что я откинулся на сиденье, приподнял шляпу, приветствуя трех старых дев, собиравшихся в гости к сестрам, и благонравного школьника, державшего в руках томик Золя, а затем стал смотреть в окно. Я видел лишь светлую сторону событий. Я был, в конце концов, Максимом Артуровичем Пятницким, гражданином Франции, деловым человеком, собиравшимся сесть на гигантский пароход. О скандале позабудут. Мои достижения запомнят. Теперь я носил прекрасную одежду, в багаже у меня лежали патенты вместе с грузинскими пистолетами. Не было нужды впустую тратить время на извинения. Я стал свободным человеком. Мне исполнился двадцать один год. Я уже пережил больше, чем большинство людей переживает за много лет. А в Америке мои дипломы и достойный военный опыт произведут еще более внушительное впечатление, чем в Европе. Старые девы, беседуя со мной, явно восторгались моими манерами и внешностью. Когда поезд достиг конечной станции, я помог им сойти на платформу, а потом уже занялся своими делами. Окруженный множеством носильщиков, я прошел от станции к докам. Мой корабль нельзя было не заметить. Это судно затмевало все здания и все прочие корабли, стоявшие в порту. Я никогда не видел такого большого лайнера. Я смотрел вверх, пытаясь разглядеть обстановку на палубах. Маленькие белые лица поворачивались ко мне издалека. «Мавритания» предстала массивной стеной из темного металла, увенчанной белыми с золотом уступами: «монстр девятипалубный», как описал ее Киплинг[331]. Надежно отслужив всю войну, теперь она вновь вернулась в частные руки и тем не менее осталась кораблем, к которому большинство путешественников испытывали сильнейшую привязанность, особенно теперь, когда трусливые подводные лодки потопили ее сестру, «Лузитанию»[332]. Опередив носильщиков, я поднялся по трапу, приготовленному для пассажиров первого класса. У высокой арки (такая могла вести во дворец) меня приветствовал одетый в форму стюард, который осмотрел мой билет, а потом проводил меня на шлюпочную палубу первого класса. В гавани навязчивые гудки буксирного судна грубо и резко разносились в тающем тумане. Медь, дерево, краска и посеребренный металл моего корабля излучали внутреннее сияние, как будто «Мавритания» была живым созданием. Я никогда не испытывал такого ощущения безопасности, как в тот момент, когда входил в свою каюту. Дав стюарду и швейцарам чаевые и задержавшись, чтобы выглянуть в иллюминатор и осмотреть крыши и шпили Шербура, я улегся на широкую кровать и зажег сигарету. Я не беспокоился о том, сколько времени займет мое путешествие – пусть даже целый год или больше. На мгновение меня неожиданно пронзила острая боль. Я понял, что ни Эсме, ни Коли здесь не будет и они не смогут разделить мой восторг. Но потом я принял немного кокаина и вскоре взял себя в руки. Я решил, что буду мыслить позитивно и наслаждаться каждым мгновением, проведенным на борту плавучего города. В конце концов, у меня до сих пор не сложилось ясного представления о том, что делать по прибытии в Америку. Я вымылся и переоделся. Два часа спустя суматоха на судне внезапно прекратилась. Не желая отказываться от новых впечатлений, я вышел из каюты как раз в тот момент, когда мы отчаливали от берега. Я присоединился к другим пассажирам, уже стоявшим у поручней на носу корабля. Буксиры медленно вытягивали нас в открытое море. Солнце светило слабо, мутные оранжевые отблески виднелись у горизонта. Море было серо-белым, вокруг летало множество птиц. Взревела корабельная сирена, восторженно прощаясь с берегом. Буксиры, шипя и гудя, отошли от корабля и помчались прочь, рассекая волны и втягивая невидимые лебедки. Нос «Мавритании» опустился, затем изящно поднялся. Мы с восторгом приветствовали брызги морской воды, которые приносил к нам легкий бриз. Между нами уже возникло ощущение товарищества, как и должно быть всегда на таком судне. Мы уходили в волшебные сумерки. Медленно, один за другим, на корабле зажигались ряды электрических ламп. «Мавритания» была великолепна. Она казалась невероятным, неземным чудом. И этот благородный, аристократический корабль поворачивал на закат, к западу. Я спустился в каюту – хотел перед обедом добавить еще несколько штрихов к своему костюму. Я внимательно осмотрел отражение в зеркале, повязывая галстук. Увиденное меня вполне удовлетворило – я был бесспорно красив. Фигура оставалась превосходной, высокий лоб свидетельствовал о серьезности и благородном происхождении, выдающийся нос подчеркивал агрессивную, но вполне обоснованную самоуверенность, в темных глазах светилась романтическая чувствительность. Я мог с легкостью войти в круг дворян и интеллектуалов. Выпрямив спину, я послал последний привет Франции. Я с превеликой радостью покидал эту землю надменных воров с мягкими руками и древними именами. Теперь я вдыхал чистый воздух океана. Впервые после отъезда из Одессы я мог не скрывать своего имени и не опасаться ревности, зависти или убийства. Я предположил, что в первый вечер из соображений хорошего тона не стоило облачаться в мундир, но его можно надеть на следующий день. Через некоторое время я, в накрахмаленном, превосходно сшитом смокинге, спустился по широкой бело-желтой лестнице в кают-компанию. Звуки оркестровых барабанов и скрипок доносились из далекого обеденного салона. Играли вальс. Я едва не заплакал от умиления. Хриплый джаз, яркие цвета кубистов, умные глупости, конструктивистские изыски – всего этого здесь как бы не существовало. Я окунулся в мир благородства и богатства, к вступлению в который готовился всегда, с самых первых лет в Киеве. До сих пор меня всегда лишали такой возможности – либо невежественная толпа, либо хитроумные буржуа-банкиры. Признаюсь, я пребывал в приподнятом настроении. Я испытывал чувство, которое могу описать только как благоговение. Я чувствовал, что приблизился к блаженству. На плавучем острове «Мавритании» теперь я смогу добраться до своего мира. Я наконец обрел истинное духовное пристанище!
Глава тринадцатая
«Мавритания» была настоящим городом-государством, созданным в соответствии со строгими научными принципами. Она воплощала лучшее будущее. Здесь сделали все для пользы и удобства обитателей. Метрополисы грядущего также обеспечат людям защиту от стихий, роскошь, безопасность и возможность перемещаться, но вдобавок они еще и полетят по воздуху. Город расположится там, где будет удобно его гражданам. Он будет согрет, освещен и обеспечен энергией из центрального источника, который сохранит в идеальном состоянии великодушный главный инженер. Дисциплина станет совершенно добровольной. Граждане будут знать, что нарушение кодекса приведет к изоляции и, возможно, к изгнанию в менее гостеприимный окружающий мир. «Мавритания» – это красота и свобода, мир, где почитают искусство, разум и деловые успехи, где здоровье, красота и остроумие – это норма, где все действительно равны хотя бы потому, что заслужили право подняться на борт. Поэтому здесь каждый мужчина – лорд, а каждая женщина – леди. Это будущее уже победило природу, но продолжает уважать ее, оно рассталось с ошибками и нелепостями прошлого, но все же сохранило человечность. Новый мир станет полностью самоуправляемым. В центральном совете будут работать специально избранные чиновники, и всем позволят жить и трудиться ради общего блага. Великий патриарх Константинопольский станет главой воссоединенной церкви. Черно-желтые орды Карфагена рассеются через несколько поколений, это произойдет из-за постоянного кровосмешения. Светлокожие спортивные юноши и девушки посмотрят вниз сквозь облака и увидят нежные сады Индии, обширные поля Китая, охотничьи заказники Конго – свое наследие. Человеческая натура не изменится, но определенные искушения и угрозы исчезнут: голос Карфагена умолкнет навсегда, ислам и Сион погибнут, как погибнет все языческое и невежественное. Лишившись поддержки, наш древний враг сгорит в лучах истины. Кришна и Будда станут занятными легендами былых эпох. Евреев, негров и татар будут считать какими-то чудовищами из доисторических легенд. Мир Византии, мир свободных городов-государств отправит своих посланников к новым планетам. Они преодолеют тьму межзвездного пространства, даруя блага человечества иным солнечным системам, заполняя Вселенную любовью к Христу. «Velocita massima!»[333] – таков будет девиз наших мудрых пионеров. Наши лайнеры не зря носят имена римских провинций, современных городов, областей, иногда целых наций – названия, которые больше не связаны с определенными точками на карте. Свободные от уз пространства, мы преодолеем и ограничения времени. Национальность станет делом личного выбора – так, моряки смогут выбирать корабли, на которых пожелают служить. И выбор огромен: Умбрия, Кампания или Лузитания, Нью-Йорк, Париж, Стокгольм, Рим, Сент-Луис, Глазго, Бремен, Орегон, Миннесота, Калифорния, Бургундия, Ланкашир, Саксония или Нормандия, Великобритания, Соединенные Штаты, Франция или Германия. Заменив прежние, привязанные к точкам на карте государства, они освободят нас от устаревших взглядов, бесполезных экономических теорий, ветхой морали. Так мы обретаем подлинную свободу – свободу передвижения. Мы гуляем по террасным паркам и пышным лесам, как я гулял по галереям и проходам «Мавритании». Мы обедаем в удобных помещениях, под сенью фонтанов, играет нежная музыка, а мы смотрим на мир, остающийся внизу. Огромные подводные туннели соединяют континентальные массивы, по автоматическим железным дорогам перемещаются грузы, за садами ухаживают механические слуги, стада животных обитают в контролируемой окружающей среде. Болезни побеждены. Мы избавляемся от прежних страхов, от голода и безнадежности. Возможно, побеждена сама смерть. В юности я прочитал роман Жюля Верна «Плавающий город», в котором он изобразил мир, очень похожий на «Мавританию». Я, в свою очередь, изобразил преемников «Мавритании». Здесь, среди равных, я чувствовал, что разум мой свободен и может решать самые сложные проблемы. Меня всегда окружала восторженная аудитория. Очарованные моими видениями, некоторые люди даже просили у меня автографы. На этих образованных, богатых мужчин и женщин нелегко было произвести впечатление. На второй день я ужинал за капитанским столом. Я надел свой казачий мундир с неприметными знаками отличия. С тех пор почти все пассажиры, говорившие по-английски, называли меня полковником Пьятом. Некоторые дружелюбные развязные американцы именовали меня Максом Питерсоном. Русские слова звучали для них слишком странно, но американцы все-таки приняли меня, сочтя одним из своих. Я нисколько не возражал против такого английского варианта имени. Как всегда, я прежде всего старался приспособиться к культуре господствующей нации. Имена никогда не имели для меня особого значения. Важнее всего то, что представляет собой человек, – мудро заметила во время путешествия одна английская дама. Она была виконтессой, связанной родственными узами с благороднейшими семействами Европы. «Мавритания» стала совершенным воплощением английского стиля: резной дуб и красное дерево, металлические лифты, открытые камины и кожаная обивка. Пассажиры с легкостью представляли, что они переселились в благородное прошлое Англии. Атмосфера безопасности сохранялась даже на палубе в открытом море, когда корабль легко мчался вперед. Нос «Мавритании» поднимался на шестьдесят футов, а потом опускался в бушующие волны, раздвигая огромные массы воды. Лайнер грохотал и гудел, он ревел, наслаждаясь собственной неимоверной силой. Меня приветствовали в рулевой рубке как человека науки. Капитан Харгривз гордо рассказывал о военном прошлом судна, о рекордной скорости, которую «Мавритания» показала в Атлантике. Он говорил о прискорбной гибели другого подобного лайнера, «Лузитании», – его поразили предательские торпеды у побережья Ирландии, и это стало сигналом для всей Америки – страна взялась за оружие и бросилась на борьбу с кайзером. На меня произвели впечатление огромные паровые турбины. У лайнера было только два основных паровых конденсатора, но они могли вырабатывать миллион фунтов пара в час. Двадцать пять котлов круглые сутки топили крепкие, покрытые потом мужчины, которые, казалось, никогда не уставали. – Ливерпульские ирландцы, – сказал Харгривз. – Единственные кочегары, которые могут с ними сравниться, это венгры. Конечно, у нас только британские матросы, так как британское судно – по закону часть нашей страны. Именно поэтому «Кунард» никогда не использовал иностранные средства, даже в дурные времена. «Кунард» и Англия – синонимы. Это был гордый старый морской волк, человек, на которого нелегко произвести впечатление. Мне льстил его интерес к моим описаниям больших скоростных судов. Позже я узнал, что капитан Харгривз вернулся домой из последнего плавания. Он настолько сильно был привязан к судну, что умер в тот момент, когда «Мавритания» бросила якорь в Саутгемптоне. Моими добрыми друзьями (кажется, именно они и прозвали меня Питерсоном) стали молодые американцы, такие же бывшие военные, как и я. Капитан Джеймс Рембрандт (почти как Ван Дейк) и майор Люциус Мортимер, модно одетые, представительные и красивые, – американские джентльмены до самых кончиков ногтей. Мы познакомились в курительной первого класса. Они приобщили меня к «ромовому джину» и покеру. Я легко выиграл первую партию, и американцы сказали, что я, очевидно, прирожденный игрок, а потом предложили дать им шанс отыграться следующим вечером. Я согласился, хотя потом мне пришлось отменить нашу встречу: я встретил миссис Гелдорф. Дама путешествовала одна, и ей требовался партнер для танцев в бальном зале. У миссис Гелдорф были темные вьющиеся волосы, ей было около сорока. Она поклялась, что я – самый красивый юноша, которого ей приходилось видеть. Она представила меня Тому Кэдвалладеру («Я беру мясо в Миссисипи, но в Аризону я беру шестизарядный»). Он рассказывал мне о своей молодости, о сражениях с апачами и с интересом выслушивал истории о моем казацком прошлом. Он предложил мне познакомиться с Джорджем Стоунхаузом, адвокатом из Атланты, у которого были деловые связи по всему миру. Миссис Гелдорф сказала, что Стоунхауз – один из самых богатых и влиятельных миллионеров на Юге. Аккуратный маленький джентльмен с мягким голосом и глазами, как у терьера, жующий сигары, как старые комнатные туфли, мистер Стоунхауз оказался замечательным, очень веселым попутчиком. Наши взгляды во многом совпадали. Стоунхауз как-то раз сказал при мне Тому Кэдвалладеру, что с такими людьми они могли сделать на Юге гораздо больше. Сам Кэдвалладер был невысоким и толстым, краснолицым (так обычно выглядят пьющие люди), но стоило заглянуть в его маленькие голубые глазки – и первое впечатление развеивалось. Они со Стоунхаузом рассуждали о проблемах, начавшихся после войны. Все переменилось, и появилось очень много новых трудностей. В основном они, похоже, были связаны с агитаторами с востока, которых присылали, чтобы будоражить рабочих. Почти все, что говорили новые знакомые, казалось мне бессмысленным: «Саквояжники пытались пролезть черным ходом, после того как мы остановили их у передней двери». Только поездка на Юг могла просветить меня. Миссис Гелдорф была родом из Бостона. Она посмеивалась над своими спутниками. Гражданская война закончилась, но «глупые старые чудики продолжают сражаться с пустотой». Ее, казалось, веселили эти споры. Мужчины называли ее «чертовой янки», и все-таки она им нравилась. Их соперничество, похожее на борьбу украинцев и великороссов, было просто шуткой. Все соблюдали правила вежливости и никогда не переходили на личности – такой тон был принят на борту нашего судна, беседовал ли я с лордом и леди Купер из знаменитого пивного концерна или с сэром Хамфри Тин-Гарбеттом, королевским консулом. Миссис Гелдорф называла здешнее неформальное общество «нашим кланом», в него также вошли сэр Джеймс Мэггс, член парламента от Керри, и его очаровательная жена и дочь, мистер и миссис Уилкинсон, кутюрье с Саут-Одли-стрит, сэр Лоуренс Лейн, актер, игравший в шекспировских пьесах, и его прелестная невеста Глория, тоже актриса, Уильям Браун, продюсер кинофильмов, мистер и миссис Дьюхерст, землевладельцы из Кройдона, миссис Гладстон, вдова знаменитого канцлера, мистер и миссис Стинсон, специалисты по устройству садов из Чикаго, и мистер Фред Т. Хэлперт, который, по его словам, нажил состояние на новой модели винта. Мы с ним вели долгие интересные беседы, но мои идеи казались ему слишком сложными, что он часто и с восхищением признавал. Мистеру Брауну я дал адрес миссис Корнелиус, сообщив, что это одна из лучших актрис на лондонской сцене. Он пообещал, что по возвращении в Лондон немедленно ей напишет и предложит пройти прослушивание, и поблагодарил меня за любезную рекомендацию. Тем временем, страдая от разлуки с Эсме и недостатка женского общества, я нашел утешение в объятиях миссис Хелен Роу. Эта худая рыжеволосая дама, которая совсем недавно развелась с теннисистом, возвращалась теперь в Нью-Йорк. Она хотела пожить с родителями перед поездкой в Калифорнию, где собиралась, по ее словам, долго отдыхать. Впрочем, она могла поехать и во Флориду. Хелен испытывала ко мне более чем платонический интерес, и мы провели несколько ночей вместе, хотя ее привычка громко сопеть и одновременно орать: «Вставь сильнее, ты, заморский ублюдок!» меня немного смущала. Однако миссис Роу дала мне свой нью-йоркский адрес, и это, вместе с другими полученными приглашениями, означало, что я не останусь в полном одиночестве после прибытия в Америку. «Мавритания» была великой страной, в которой недоставало только лесов и рек, но когда-нибудь ее тезки восполнят этот пробел. Там имелись магазины и все необходимые гостям заведения – кинотеатры, театры, спортивные залы, лектории и выставки. Работали, конечно, и бары, американцы с особым удовольствием их посещали, так как алкоголь в Штатах находился под запретом. Дни тянулись размеренно, еду подавали точно по графику, все жили в бесконечной и роскошной грезе, и каждое требование пассажиров спешили исполнить воспитанные стюарды, старавшиеся предугадать наши малейшие желания. Корреспонденты плавали на «Мавритании» туда и обратно, почти никогда не сходя на берег, разве только для того, чтобы сдать в редакцию статью: на корабле происходило много замечательных событий. Вдали от берега зачастую раскрывались интересные секреты. Дела граждан «Мавритании» представляли огромный интерес для менее успешных людей, которые никогда не смогли бы себе позволить путешествия на борту огромного лайнера. Эти яркие, живые миры, способные выбирать себе орбиты, воплощение очарования и воспитания – идеальные символы успеха. Общество, которое отказывается от таких символов, утрачивает традиции и способность к развитию. Они обещают будущее, которое может стать общим для всех. В этих мирах, в прекраснейших комбинациях современных технологий, почти все таланты творческих людей достигают наивысшего расцвета. Неудивительно, что значимость страны измеряется количеством больших лайнеров, которые плавают под ее флагами. Именно поэтому мировые правительства оказывают столь значительные почести ведущим судовладельцам. Престиж не так легко заслужить. Престиж – и мера власти страны, и та польза, которую страна извлекает из этой власти. Прошлое и будущее соединяются. Лучший из миров может в конце концов стать нашим. Слабые, тихие, злобные голоса Карфагена не потревожат нас здесь. Мы – граждане свободной страны. Мы поднимаемся к небесам, оставляя землю жестоким, невежественным и развратным. Пусть поубивают друг друга. Усталые руки облаченных в доспехи мужчин станут подниматься и опускаться, и под ударами будут падать все новые и новые люди; черный дым скроет долины, и заполыхают церкви. Не останется зеленых деревьев и чистой воды. Голодные дети будут ползать в грязи, воняющей кровью и мочой, а их умирающие матери станут раздвигать больные ноги для коченеющих солдат, рыдая об утраченной жизни. Мы, однако, избежали апокалипсиса благодаря нашему благородству и дару предвидения. Россия содрогается в смертных муках, Германия стонет в цепях, Англия страдает от незалеченных ран, а Франция наконец-то смотрится в зеркало и видит, что ее косметика осыпается, обнажая отвратительные язвы. Но мы нашли небо и населили его благородной сталью, серебряными крыльями и золотыми куполами. Мы можем только оплакивать оставшихся внизу, пойманных в ловушку ужасного безумия. Мы рыдаем над ними. Больше ничего поделать нельзя. Толпа нанесет удар, если учует слабость (а великодушие будет воспринято как слабость). Толпа не сможет добраться до корабля. Здесь мы в безопасности. Но нет никакой безопасности в тех летающих цилиндрах, которые до отказа забиты людьми, не способными ходить и обеспечивать себя, пассивно ожидающими зловонных подносов. Неудивительно, что они жалуются, злятся, паникуют. Вот полет, которого заслуживает толпа: если дать им что-то лучшее – они этого не оценят. Но такой полет ничего не дает людям утонченным. Именно поэтому я больше не путешествую. Что там осталось в Атлантике? Единственный большой «Кунард»[334], на котором, как я слышал, даже не переодеваются к обеду? Одно польское корыто, пара жалких советских чудовищ, построенных в Германии, полных крыс и дырявых спасательных шлюпок, гротескных пародий на великолепных предшественников? Голландские грузовики? Какие-то южноамериканские банановозы? Один-единственный регулярный перевозчик? А тем временем небеса, в которых могли бы парить мои великолепные воздушные города, замусорены вонючими стальными трубами, которые куда хуже, чем туристические автобусы. Золотые города исчезают и падают, как осенние листья. Унылая зима покрывает мир нечистым белым снегом, кровь и грязь, поднимаясь вверх, поражает пространство, как рак. Когда снег тает – появляется нечто уродливое и мерзкое. Приземляются серые самолеты, из них выползают ошеломленные, еле волочащие ноги скоты. Самолеты снова принимают такой же груз и как можно скорее перевозят его в другое столь же грязное место. Некоторые из этих существ «путешествуют по делу», некоторые находятся «в отпуске». Что они могут сказать друг другу? И как? Знаки рисовать будут? Red tsu der vant![335] И это все, что осталось? Наши пророки изгнаны. Наши дети стали рабами. Наши города завоеваны, и нас гонят прочь. О Карфаген, ты одержал победу одним лишь предательством! Ты сокрушил нас своей хитростью и злонравием. Ядом и клеветой. И мы лишились места и имени. Наши лица скрыты, наша одежда порвана. Захватчики взяли наших дочерей в наложницы и унесли наше золото на свои алтари. О Карфаген, ты плюнул на наши святыни, разрушил наши храмы и рассеял по ветру пепел наших книг. Мы плакали о твоей участи, Карфаген, а ты обратил наши слезы против нас. Мы не узнали грека, когда Он заговорил с нами. Мы не послушали Его. Мы изгнаны в бесконечную ночь. И мы больше не можем отыскать грека. В ужасной навозной куче современной России свинья тупо разглядывает огромные портреты своих хозяев. Возможно, грек придет туда и принесет сострадание тем, которые все еще взывают к Нему. Карфаген похитил наше будущее. Наши крылья усохли. Враги вырвали наши глаза, и мы поднимаем окровавленные глазницы к небесам, слыша лишь звуки наших утраченных городов. Постепенно мы забываем о будущем. In shut arein![336] Скоро мы все позабудем. Карфагену никто не будет угрожать. Они не позволят мне летать. Я не приму их yiddishkeit[337]. Они вложили кусок металла мне в живот. Они пытались удержать меня, но доктора ничего не смогли найти. Я искал грека в Спрингфилде, но Он отправился в Лос-Анджелес, и я больше не могу следовать за Ним. Я не стану путешествовать в их грязных цилиндрах. Зачем становиться порохом в пуле, которая направлена мне прямо в сердце? Я видел истинные чудеса, я бродил по сияющим коридорам воздушного города, на многие мили выше облаков, и слушал музыку невидимого оркестра. Вот танцуют люди. Я слышу, как они смеются и беседуют. Они изящны и учтивы, они – обитатели новой «Мавритании», воплощения красоты и разума. Им не нужно искать грека. Он уже пришел к ним. Взлет – как будто набежала огромная волна, и город дрожит, белые башни мерцают под покровом огромного защитного купола. Город летит по воздуху, плывет по облакам, которые катятся к вершинам Гималаев. Потом корабль с невообразимой скоростью поворачивает и плывет к яркому пламени Солнца. Он движется на запад так же, как катер мог бы плыть по воде. Корпус качается и вибрирует, из труб со свистом вырывается пар, и этот звук кажется похоронной песнью, в которойговорится о потерянных мечтах и утраченном будущем, Они забрали мое дитя, meine einiklach[338]. Из четырех черно-красных труб «Мавритании» поднимаются в синее небо столбы дыма. Море спокойно, от горизонта до горизонта, и здесь мы в безопасности, пока не появится свобода и террасы Вавилона, желтые, кремовые и оранжевые, не предстанут перед нами в лучах заходящего солнца. До тех пор я стану бродить по полированным палубам, кивая знакомым, снимая шляпу, вдыхая морской воздух, а в это время мелкие капли воды будут освежать мою кожу, а Хелен Роу – хватать меня за руку и кричать: – Ты видишь дельфинов? – Мы где-то у берегов Вест-Индии. Хелен уверена, что вчера видела чайку. – Или, по крайней мере, птиц, похожих на них. Палубы простираются перед нами, мы, негромко беседуя, прогуливаемся вдоль множества арок. Мы – избранное общество. Мы целиком отдаемся благостному и волшебному торжеству, мы склоняемся перед духом практической науки, воплощенном в самом корабле. Тысячи кубических футов металла и механизмов – и их поддерживают и направляют сложнейшие двигатели. Еще сто лет назад ничего подобного и представить было нельзя. История не меняется, потому что люди всегда предпочитали ложное спасение повторения. В минуты кризиса они ищут знакомое, они возвращаются к известному, и неважно, насколько это уместно в их положении. Неофобия – великая разрушительная болезнь человеческого рода, она распространяется посредством истеричных жестов, тревожных фраз, возбужденных голосов, посредством запаха, наконец. Наш корабль скользит к красным и золотым куполам и шпилям: впереди – Москва и Кремль. Мы церемонно приветствуем царя, конституционного монарха в этой благородной демократии. В ответ он передает привет нам. Великие державы пребывают в мирном равновесии. Они снова взяли на себя ответственность за мир. Корабль качается, как старый дом на ветру. «Они заб’рут тя, Иван, если так бу’ет ’род’лжаться». Миссис Корнелиус хочет добра. Возможно, она смотрит на вещи иначе, гораздо проще, чем я. Америка должна была взять на себя ответственность. В этом больше нет ничьей вины. Мы видали хорошие времена, говорит она. «’омнишь Лос-Андж’лес, да?» Она хохочет, вспоминая анекдот. Она лучше запоминает мелкие детали. Я все еще могу представить, как огромный белый гидроплан отходит от Лонг-Бич и делает вираж в сторону острова Каталина. Блестящая вода льется с его поплавков. На миг гидроплан скрывается за высокими бледными пальмами. Потом он появляется снова, двигатели ревут, когда гидроплан делает резкий поворот и наконец скрывается из вида. Звук стихает, прибой остается. Я не уверен, что могу вынести такой яркий бесконечный свет. Я никогда не принимал их лекарств. Возможно, мне следовало остаться в седле. Белые безликие головы оборачиваются к Кресту. Христа вспоминают в огне и лунном свете. В Теннесси Христос отмщен в крови и стали. Миссис Корнелиус говорит, что в конце концов все обычно к лучшему. Это – подтверждение ее терпимости и оптимизма. Лично я больше не в силах держаться, я пал духом. Слишком многие пострадали. Слишком многие потерпели неудачу. Маленькие девочки поют песни в церкви. Христос воскрес! Мы попрали смерть смертью и даровали жизнь сущим во гробах! Я не вижу доказательств. Почти все покинули нас. Теперь вокруг нас только Judenknechte[339], и нам приходится с этим мириться. В четверг днем я закрываю свой магазин. Я прогуливаюсь неподалеку от тихих монастырей в северной части Портобелло-роуд. Здесь торговцы металлическим ломом развешивают свои рекламы, они сообщают, сколько заплатят за свинец, медь, цинк, на сальных досках, стоящих возле дверных проемов, занавешенных старыми пальто и грязными тряпками. В четверг днем создается ощущение мира и покоя, конфликт как будто прекращается. Звук автомобильных двигателей становится приглушенным и отдаленным, как жужжание пчел в летнем саду. В июле и августе можно увидеть на улицах бабочек, которые танцуют над стенами монастырей. Дети бегают туда-сюда по обочинам и тротуарам, с их грязных губ срываются сокровенные слова, их нелепые лица искажаются странными гримасами. Монахини бессмысленно улыбаются. Мусорные пакеты шуршат на ветру. Беспокойные псы, поджимая хвосты, тщательно обнюхивают кучи, надеясь отыскать что-то съестное. Если им это удается, они стремительно мчатся прочь, всегда виноватые, всегда ожидающие нападения. Они рычат и вертятся в переулках и подворотнях. Здания наклоняются и оседают под бременем вырождения и бедности, старухи выискивают гнилые фрукты в сточных канавах, тяжело дыша и медленно сгибаясь. Самодовольные мальчишки, глядя на прохожих, кривят губы. Они держат руки в задних карманах и перекрикиваются друг с другом, как вороны, слетевшиеся на падаль. Маленькие накрашенные девочки устремляют на мужчин похотливые, презрительные взгляды. Облачные горы поднимаются над стенами и крышами, ослепительно белея в солнечном свете, голоса ангелов и Девы Марии сливаются в едином хоре. Чтобы поселиться в городе под прочным золотым куполом, мне потребовалось бы вернуться почти на пятьдесят лет назад. Тогда все это казалось возможным. Сыновья миссис Корнелиус называют меня никчемным старым фашистом, но они говорят это всем. Я – провидец, не больше и не меньше. Они не могли понять, как плохо все было. Они считают этот ужас вполне естественным. Мы надеялись на лучшее. В 1959 году я написал, что почти все наши возможности утрачены. Что осталось от империи? Что осталось от закона? И неужели из-за этого можно утверждать, что я – luftmentsh[340]? В 1964 году я обратился к Гарольду Уилсону, я умолял его заняться важнейшими проблемами этой страны. Он, должно быть, рассмеялся, выбросил мое письмо и возложил свои руки на руль, повернув наш корабль в сторону миража. Они говорили, что мы зарабатывали легкие деньги. Они говорили, что мы наслаждались новым веком свободы и надежды. Я видел только безвластие и проклятие. Они говорили, что я занудливый старый еврей. Они готовы были сказать что угодно, лишь бы заглушить мои пророчества. Сегодня некоторые из них, конечно, уже поняли, как жестоко обманулись. Ничтожные создания скрываются среди руин, смеясь и издеваясь, они заползают в трещины, прячутся под разбитыми плитами. Это – наследие Карфагена. Неужели социалисты до сих пор не избавились от своей эйфории? Неужели они добились того, на что надеялись мы? Khob’n in bod![341] Эти герои рабочего класса открыли новые методы имущественных спекуляций, они продали всю страну омерзительным красногубым покупателям из Карфагена. Я не надеюсь прожить еще много лет. Я был слишком откровенен, и все мои предсказания оказались бесполезными. Миссис Корнелиус говорит, что я трачу свои силы впустую. Я совершил ошибку, назвав вам свое настоящее имя. Вчера вечером мы ходили в кино. Мы смотрели «Этих великолепных мужчин на их летательных аппаратах»[342]. Теперь все наши достижения кажутся людям смешными. Рты разеваются, пустые головы запрокидываются. Самолеты – просто подпорки для комических клоунских трюков. Тогда я был истинным luftmensch. Дождь стучит по крыше. Электрический свет мерцает, отражаясь от стропил. За моими машинами нужно следить. Мне нужно их как следует соединить. Вот о чем я молил – об ученике, которому я мог бы передать свои идеи, но мне его не послали. В сороковых и пятидесятых я встречался с разумными людьми. Их было немало в барах и винных клубах Сохо и Челси. Дилан Томас[343] говорил мне, что я истинный гений. Он носил костюм на несколько размеров больше, чем следовало, но прислушивался к моим словам. Таким даром наделены поэты. Я знаю, что теперь он делает звукозаписи. Суперзвезда. Однажды в «Мандрагоре» мы говорили о том, что могли бы вместе написать пьесу. Уши поэта могут слышать глас Божий. Томас пил, потому что слышал слишком много. Но то, что он сейчас творит на радио, – это просто шум. Он просто оглушил себя. Генри Уильямс, дрессировщик выдр и успешный романист, говорил, что мои политические теории – самые значительные из тех, с которыми ему приходилось сталкиваться. Он отрастил бороду и волосы, как Иегова, лицо его было округлым, румяным и здоровым. Его подружки красились под блондинок, потому что он так просил. В шестидесятых, однако, я оказался в Спрингфилде. Это была другая эпоха. И те же самые люди, которые превозносили меня как выдающегося ученого, потом рассуждали о химической нестабильности моего мозга и травили меня ларгактилом и транксеном[344]. С’ trappo rumore[345]. Эти наркотики производят в Швейцарии. Их создали, чтобы подавить индивидуальность. Такова основная задача. Они только этим и занимаются. Они выслали Муссолини. Они выслали бы и меня. Они продают наркотики Карфагену, который наживается на несчастьях всей Европы. Я планировал построить город, занимающий все Альпы, но из этого ничего не вышло. «Мавритания» – мирная страна. Я хотел бы стать ее вечным гражданином. Капитан Рембрандт говорил, что пересекал Атлантику почти двадцать раз. «Но вам не обогнать старую добрую „Мавританию“». Ее рекорд так и не был побит. Рембрандт отыграл свои деньги за карточным столом, но я, по его мнению, слишком часто пасовал. Он пожаловался, что игра из-за этого стала скучной. Я извинился и сказал, что мне нужны наличные. Отказавшись играть со мной в карты, он и его неразлучный спутник Мортимер купили мне выпить и расспросили о моих патентах. Они были мужественными, обаятельными молодыми людьми, очень опрятными и аккуратными – типичные выпускники Гарварда или Йеля, такие гладкие и чистые. Они сказали, что мои идеи, несомненно, принесут немалый доход. Я без всякого труда смогу их продать, как только приеду в Нью-Йорк. Инвесторы выстроятся в очередь. Однако если мне потребуется помощь, то они всегда к моим услугам. Они сообщили мне нью-йоркский почтовый адрес на случай, если я захочу с ними связаться. Они говорили, что почти все время путешествуют. Я прогуливался по галереям магазинов «Мавритании» вместе с Хелен Роу, осматривая огромные стеклянные витрины, полные платьев, пальто и духов, мехов, драгоценных камней и золота. Здесь было доступно все самое лучшее. Я купил Хелен немыслимо огромную коробку французского шоколада. Она поцеловала меня в щеку. Она сказала, что я сам конфетка. Море успокоилось, и судно, казалось, еле двигалось, но на самом деле мы неслись вперед очень быстро. Угольные турбины были мощнее любых корабельных двигателей на жидком топливе. Позднее, после пожара на борту, «Мавританию» перестроили под нефтяное топливо, но корабль еще восемь лет оставался самым быстроходным океанским лайнером – такая долгая жизнь казалась просто невероятной. Я недавно читал, что «Кунард» финансировал эксперименты некоего молодого человека, который пытался развить новаторский проект дирижабля. Я обрадовался – моя мечта не умерла, хотя человек, который продавал идею, казался каким-то шарлатаном. Тем не менее я написал в его компанию и предложил свои услуги. Я не получил ответа. Конечно, я ничего об этом не слышал с тех пор. Подобные люди позорят идеи подлинных провидцев. Nit gefіdlt[346]. Когда «Мавритания» медленно поворачивала к гавани, Том Кэдвалладер предложил мне одну из своих гаванских сигар и сказал, что будет рад сойти на берег, хотя путешествие ему очень понравилось. «Самая худшая часть поездки – это путь через весь Нью-Йорк к железнодорожной станции». Он надеялся, что корабль бросит якорь в положенное время, так как ему не хотелось проводить ночь в «городе-синагоге». Я спросил, хорошо ли он знает Нью-Йорк и что он думает об отеле «Пенсильвания». Он слышал об этой гостинице хорошие отзывы. «Я никогда не задерживался в этом городе больше чем на восемь часов. И большую часть времени я проводил в квартире у приятеля. Не знаю Нью-Йорка и не желаю узнавать. Там почти нет настоящих американцев». Он решил, что допустил оплошность, и добавил: «Не то чтобы я имел что-то против иностранцев. Нью-Йорк – это дурные ирландцы и отвратительные евреи. Если этого мало, то вот вам неаполитанские отбросы, крестьяне из беднейших частей Сицилии. Здесь – главный рассадник анархии. И этот город уверен, что он выше всей остальной страны. Нью-Йорк, полковник Пьят, это не Америка. Никогда не путайте одно с другим. Приезжайте в Атланту, если хотите узнать настоящую Америку». Он мне уже дал свой адрес. Я поблагодарил Кэдвалладера и решил, что попытаюсь навестить его, когда спланирую свой маршрут. В первую очередь я собирался побывать в Вашингтоне. Мистер Кэдвалладер понял, что я не собираюсь навсегда поселиться в Америке, и от этого, мне кажется, стал гораздо приветливее. Он уже убедил меня, что закон об ограничении иммиграции был лучшим нововведением с начала войны. Но, как обычно, терпимые христиане слишком поздно спохватываются. Евреи уже входят в ворота и начинают заниматься своими делами. Они говорят, что хотят только жить и работать и не собираются никому вредить. Ikh kikel zikh fun gelekhter![347] Огромный плавучий город замедляет ход. Дважды звучит долгое, громкое приветствие сирены. Снаружи сердито бьется вода, которую рассекают огромные винты, офицеры отдают команды матросам, шум сигналов из рулевой рубки не дает расслышать голоса, уже искаженные мегафонами. Деревянная обшивка на внутренних переборках качается, дым становится гуще. «Мавритания» останавливается, она дрожит и переводит дух, пока капитан ожидает новых приказов. Нью-Йорк сразу за горизонтом. Сотни пассажиров, некоторые с биноклями в руках, вышли на палубу, желая первыми бросить взгляд на конечный пункт нашего путешествия, но пока это было невозможно. Стюард посоветовал нам пообедать. Он заверил всех, что пройдет несколько часов, прежде чем мы войдем в Гудзон. Нетерпеливое волнение охватило весь огромный корабль. Во время еды люди внезапно оживились. Они заказывали икру, они пили шампанское – они уже праздновали прибытие. Женщины были так красивы в своих изумительных одеяниях, в шелках и горностаевых накидках, мужчины были так спокойны и изящны! Выпрямив спину, я стоял на верхней шлюпочной палубе, горделиво облачившись в свой белый мундир, в форму истинного сына Дона. Я курил сигару и следил за матросами, которые быстро разматывали канаты, готовя наши якоря и лини. Я остался один. Меня переполняло ощущение благополучия. Свежий воздух заполнял мои легкие. Кокаин очищал разум и обострял чувства. Я был спокоен и бесстрашен. Меня приняли аристократы англосаксонского мира, великие мужчины и женщины, предки которых, храня веру в могущество закона, распространили свой язык, свои нравы и верования на половину планеты и продолжали, даже сейчас, продвигаться дальше. Горизонт темнеет. Тонкая линия. Весь корабль словно бы говорит: «Это – земля». Медленно преодолевая милю за милей, мы входим в широкую гавань, пока там, прямо перед нами, не поднимаются из самого океана невероятные башни. Восхитительно! Это – Манхэттен, город без прошлого. Город, у которого есть только будущее. Мечта. С правой стороны, серо-зеленая, с виду намного меньше, чем я мог вообразить, стояла Свобода, грандиозный дар Франции Новому Свету. Она слепа. Она держит каменный факел, который, теперь во всяком случае, ничего не освещает. Хелен Роу с удовольствием наблюдает за мной, когда я восторгаюсь этими новыми достопримечательностями. – Ее голова пуста, – говорит Хелен. – Ты сможешь туда зайти, если захочешь.Глава четырнадцатая
Прекрасное чудовище, великодушная машина, Нью-Йорк спокойно терпит орду дураков и жуликов, которые ищут безопасности в его глубоких каньонах и среди утесов арендованных квартир. Однако то, что некогда было достоинством, теперь превратилось в недостаток. Со времен голландских основателей Нью-Йорк перестал опасаться тех католиков и евреев, которые укрывались в его тепле, высасывая жизненные силы и ничего не предлагая взамен. В 1921 году все еще удавалось удержать их в Нижнем Ист-Сайде, Гарлеме, Чайнатауне, Бауэри и Бруклине, и все-таки ньюйоркцы не хотели замечать, что Карфаген растет во чреве города, который все называли Новым Вавилоном. Карфаген пожирал своего породителя изнутри. Вот что пытался нам показать Д. У. Гриффит в своей оклеветанной притче под названием «Нетерпимость». Изысканный шедевр стал финансовым провалом из-за вмешательства тех самых евреев и католиков, о происках которых режиссер пытался нас предупредить. Компания Гриффита обанкротилась, его голос умело заглушили, и его собственные работники спокойно смотрели на мучения великого человека. Слишком многое отвлекало внимание: Таммани, Сион, Ватикан, Татария разбрасывали золото, устраивая зловредные интермедии, строя бордели и казино, обеспечивая все мыслимые развлечения, выдуманные не столько для того, чтобы эксплуатировать бедных, сколько для того, чтобы обольстить богачей, из тех старых патрицианских семейств, которые создали благосостояние Америки. Их сыновей и дочерей тем временем соблазняли симпатичными безделушками, негритянским джазом и самогоном. Гриффит создал величайшее в своем роде произведение. В каждой фразе, в каждой сцене, даже в самой прекрасной, можно было уловить одно и то же важное сообщение: «Остерегайтесь слуг Рима и Сиона!!! Следуйте только за Христом!!! Вы отыщете врага в своих стенах! Опасайтесь жреца и раввина – ибо одну руку он дружески протягивает вам, а в другой прячет нож!!! Всегда будьте бдительны! Будьте глухи к лжепророкам и искушениям похоти, гордыни и жадности!!! JUDA VERRECKE![348] День твоего суда близок!» В современных декорациях мы видим молодого человека, ложно обвиненного и уничтоженного силами международных финансистов. Мы становимся свидетелями подлого предательства и истребления французских протестантов католичкой, королевой Екатериной де Медичи. Мы видим жрецов Вавилона, разрушающих собственную цивилизацию изнутри и открывающих ворота вторгающемуся персидскому тирану! А еще мы видим Иисуса из Назарета, дарующего нам и надежду, и спасение от всего этого ужаса. И они еще жаловались, что это неясно! Неясно! Er macht die Tür auf! Lassen sie ihn hereinkommen![349] Просто они отказывались замечать очевидное. Они не хотели задумываться. Все та же старая история. Как ни иронично, это и история Гриффита, это и моя история. Я иногда задумывался о смысле такого совпадения – его жизнь и деятельность зачастую напоминали мои. Я уверен, что всякий поймет, как много надежд и упований я возлагал на Гриффита и Америку, которую он воплощал. И вообразите мой ужас: едва преодолев последний таможенный барьер, стоя возле такси, пока носильщик грузил мои вещи, я прочел в «Нью-Йорк геральд», что компания великого режиссера вот-вот будет объявлена несостоятельной. Это стало ужасным ударом, ведь я собирался предложить Гриффиту свои услуги, как только закончу дела в Вашингтоне. Ошеломленный, я направился к себе в гостиницу. Я двигался к сердцу города по переполненным улицам между огромными небоскребами и перекрещенными металлическими лентами надземных железных дорог. Наконец, когда мой разум начал усваивать обильные новые впечатления, я отбросил газету, решив, что мистер Гриффит найдет способ справиться со всеми трудностями. Я не думал, что Нью-Йорк хоть в чем-то напомнит мне родину, и все же как будто вернулся домой. Конечно, этот город был намного больше и здесь все казалось предельно сконцентрированным, но мне он показался смесью Санкт-Петербурга, Киева и Одессы – он был гораздо понятнее, чем все европейские города, в которых я побывал. Я, например, не ожидал, что столкнусь с таким изобилием проявлений классического, старомодного хорошего вкуса в архитектуре и декоре. Такси наконец остановилось возле огромного здания отеля «Пенсильвания», и дверь передо мной распахнул темнокожий мужчина, одетый в форму и белые перчатки. Он приветствовал меня в самой благородной манере, и я почти поверил, что моя мать и капитан Браун ожидают меня по ту сторону массивной входной двери. Я так хотел, чтобы они, вместе с Колей и Эсме, оказались рядом и смогли разделить мои чувства. Швейцары снова занялись моим багажом. Внутри «Пенсильвания» была еще внушительнее, чем снаружи. Холл казался просторнее Нотр-Дама, по краям располагались магазины и рестораны. Один из ресторанов мог похвастаться огромным фонтаном. Высоко вверху, вдоль всего холла, тянулся тщательно спроектированный балкон. Легкие колонны и роскошь отделки придавали этому помещению вид языческого римского храма. Было бы вполне уместно, если бы персонал носил не со вкусом пошитые обычные костюмы, а тоги. Я порадовался тому, что облачился в свой самый роскошный мундир. В таком наряде мне не стыдно было войти в великолепный отель. Я направился по толстому узорчатому ковру к стойке администратора. Мой заказ подтвердил вежливый доброжелательный человек, сообщивший, что его фамилия Корниган и он помощник менеджера. Я мог обратиться к нему, если мне что-нибудь понадобится или что-то не понравится. Затем в лифте, который был так разукрашен позолоченным железом и резным дубом, что мог бы возносить на Олимп самого Зевса, я поднялся на восемнадцатый этаж и вошел в комнату, по роскоши и размеру не уступавшую лучшим номерам европейских гостиниц. И вновь мой дорогой Коля не подвел меня. Я тут же почувствовал себя в безопасности, даже несмотря на то, что мне никогда раньше не приходилось жить так высоко над землей. Швейцар был по-настоящему признателен за чаевые. Он сказал, что всегда к моим услугам. Так проявилась еще одна неожиданная особенность этого города: благовоспитанность и веселая любезность его жителей. Из окон своего номера я мог разглядеть улицу, оставшуюся далеко внизу. Там стояла крошечная готическая церковь, втиснутая между более высокими зданиями, по ее ступеням туда-сюда бродили миниатюрные фигурки. Я узнал, что на самом деле это собор Святого Патрика. Думаю, я обрадовался, увидев, как умалена здешняя цитадель папства. Мне почти сразу стало ясно, что Нью-Йорк – город, вполне сознательно и энергично трудящийся ради будущего, нетерпеливо преодолевающий все преграды и угрозы, мешающие двигаться вперед. Он постоянно экспериментирует, он готов отбросить старое и заменить его чем-то новым и лучшим. То, что город все еще хранил традиции, было очевидно – многие интерьеры казались данью уважения нашей общей культуре, тем не менее он не боялся прогресса, как боялись его почти все европейские города. Распаковав вещи, переодевшись и немного отдохнув, я по старой привычке отправился бродить по улицам, чтобы самостоятельно изучить чудеса и тайны Манхэттена. В 1921 году Эмпайр-стейт-билдинг был просто далеким идеалом, а Крайслер, красивейший из всех небоскребов, еще только строился. Именно эти башни окончательно затмили крупнейшего конкурента Нью-Йорка – Чикаго, так что он наконец отказался от дальнейшего соревнования. Ничего об этом не зная, я был по-настоящему поражен странными пропорциями двадцатиэтажного Флэт-айрон-билдинг и классической величественностью башни «Таймс». Я приплыл на Левиафане в город Бегемота[350], и хотя отчасти меня пугала невообразимая громадность этого места, прежде всего я радовался. Никакая фотография не могла подготовить европейца к восприятию таких масштабов и объяснить ему, на что похож город на самом деле: по-настоящему современное, беззастенчивое, невообразимое урбанистическое средоточие стали, камня и кирпича, беззаботно установленное на крошечной скальной плите посреди отмели в Атлантическом океане. Что касается того, каким стал Нью-Йорк, когда карфагеняне сокрушили его, – нет, я не хочу говорить об этом. В 1921 году город излучал подлинную, безграничную, поистине прекрасную уверенность в научном и общественном прогрессе. В городе объединились типические черты всех прочих городов Земли. Он был столицей, задуманной как нечто неповторимое, миллионы людей могли здесь жить и работать вместе ради победы человечества над природой, прошлым, самим нашим происхождением. В ту первую ночь я лежал с открытыми глазами и слушал, как бьется сердце Нью-Йорка, такое же сильное, как мое собственное. Я почти поверил, что мы с этим городом чувствуем некое непостижимое сродство, мы суть одно и то же, мы энергичны и разумны, мы хотим оставить след в мире и при этом не хотим ничего радикально менять. Здесь объединились светлые надежды шести миллионов людей, их мечты о лучшем мире. Здесь технология человечества могла победить тех древних демонов, которые порабощали наших предков на протяжении бесчисленных поколений. Здесь делались состояния, превосходившие все предыдущие, здесь мечты возносились на недостижимые прежде высоты. Здесь открывались возможности, о которых люди до сих пор не задумывались. И уже нельзя было удивляться тому, что провинциальные умы, сельские умы, умы маленьких людей, могли отвергнуть этот мир и назвать его злым лишь потому, что он казался таким необычным. Многие американцы отказывались даже останавливаться на противоположной стороне нью-йоркского моста и смотреть на это чудо издалека. Им город казался не только новым Вавилоном, для них он был Содомом и Гоморрой, Римом и Иерусалимом вместе взятыми. Я не мог догадаться, что такое презрение к страхам других людей вскоре покажется глупым, – они понимали нечто такое, чего я поначалу понять не мог. Нью-Йорк был могущественной машиной. Как и все прочие машины, он лишен этики. Добро или зло полностью зависели от побуждений того, кто контролировал механизм. Это была чувствительная и очень сложная машина. Все, чего ей недоставало, – способности перемещаться с места на место. Когда-нибудь, думал я, у нее появится и она. Удивительное геометрическое сочетание пожарных лестниц, водонапорных башен, надземных железных дорог, трамвайных проводов, причудливых железных украшений, телефонных линий, силовых кабелей, мостов, светящихся вывесок и арок в сочетании с самими зданиями создавало очень сложную, неповторимую систему знаков. Из бесконечного разнообразия кривых и углов, казалось, складывались буквы таинственного и едва понятного алфавита. Многоуровневый, как человеческий мозг, Нью-Йорк был наделен столь же безграничным творческим и интеллектуальным потенциалом. Он непрерывно двигался, словно кровь текла по лабиринту вен и артерий, и большинство ее капель были снабжены моторами, хотя встречалось еще очень много лошадей. Постоянно перемещаясь, эти трамваи, такси, автобусы, автомобили и фургоны неистово толкали друг друга, как бревна в бурном потоке. Огромные авеню и улицы, трубопроводы этой обширной машины, кипели и шипели, заполненные тысячами клапанов и решеток, и все же никто не стал бы утверждать, что граждане Нью-Йорка были автоматами с серыми лицами, созданными только для того, чтобы служить городу, как утверждал Ланг в своем фильме «Метрополис». Нью-Йорк тогда находился под жестким контролем граждан, которые по большей части были урожденными американцами или англоговорящими поселенцами. Они построили город, а теперь использовали его для собственного удобства. Это можно было понять – стоило посмотреть, как они вели себя на улицах, как легко, по-дружески обращались с современными технологиями. Я никогда не видел, чтобы к новым идеям относились с таким дружелюбным интересом, как в Нью-Йорке, и никогда уже больше ничего подобного не увижу. Все изобретения, выходившие с фабрик Эдисона, Форда, Теслы и других волшебников, героев Америки двадцатого века, все устройства и чудеса нашей машинной эры, были приняты жителями Нью-Йорка как доступные и естественные. Казалось, здесь в каждой семье имелся легковой автомобиль, патефон, пылесос, электрический утюг, электровыжималка, кроме того, самые обыкновенные люди владели телефонами, холодильниками и автоматическими стиральными машинами. Только у выродившихся иммигрантов, необразованных, ревнивых, отчаянно жадных сыновей и дочерей европейских сточных канав, азиатских наркоманов и африканских дикарей не было этих вещей (в таких количествах, по крайней мере), и это, конечно, объяснялось в значительной степени тем, что примитивные существа никак не могли с ними управиться: действительно, многие чужаки с суеверным ужасом относились, например, к стиральным машинам и не хотели их ставить в своих берлогах, даже когда власти предлагали это сделать. Город ослепил меня блестящими вывесками, сотканными из тысяч крошечных цветных лампочек. Всюду я слышал скрежет металла о металл, жужжание двигателей, щелканье винтов, треск счетчиков, а с железных дорог, больших и маленьких, открытых и подземных, доносились визг колес, предупреждающие сигналы, рев пара и шум пневматических тормозов. Мне это казалось симфонией, темы которой возникали постепенно, как в творениях Вагнера, и в самый неожиданный момент складывались в единое целое. По улицам взад-вперед шлялись оборванцы. Они продавали газеты, безалкогольные напитки, мороженое, леденцы. Они вопили до невозможности искаженные фразы – поначалу я не мог разобрать ни слова. Кроме того, эта беспрестанная жизнь продолжалась в непривычном климате – жара становилась почти осязаемой, я взмок с ног до головы, едва отошел на несколько сотен ярдов от отеля. В первое утро я бесцельно бродил по городу. Я просто прогуливался от одного квартала к другому, изучая окрестности, как делал всегда. Я наслаждался суматохой и своей анонимностью. Где-то в районе Девятнадцатой Ист-стрит я вошел в небольшое кафе и заказал чашку кофе. Жители Нью-Йорка, которых другие американцы обычно считают невоспитанными, оказались исключительно вежливыми по сравнению, скажем, с парижанами. Допив кофе, я их немного порасспрашивал. В итоге мне указали дорогу к большому ломбарду, располагавшемуся всего в паре кварталов от кафе. Здесь я смог сдать золотое кольцо с гравировкой, врученное мне мсье де Грионом в качестве рождественского подарка, и получить за него вполне приличную сумму. Затем я прошел еще немного, добрался до Шестой авеню и вскоре обнаружил недурной магазин мужской одежды. Там для меня очень быстро подобрали белый льняной костюм, белые короткие гетры, перчатки и панаму. Я теперь был одет по погоде – к сожалению, не следовало забывать о пыли и грязи. Впрочем, если говорить о стиле, у меня сложилось впечатление, что не имеет особого значения, какую одежду я выберу. За исключением Константинополя, я нигде больше не видел такого огромного разнообразия расовых типов и национальных костюмов. Некоторые выглядели странно (например хасиды или китайцы с косичками), но другие демонстрировали свое культурное происхождение более аккуратно, облачаясь в баварские шляпы, русские туфли, брюки модели «турин»[351]. Больше всего меня порадовало то, что не подтвердились рассказы о смуглых иностранцах, заполонивших улицы города. Их в центральных районах Нью-Йорка оказалось не больше, чем в других космополитичных городах. Нью-Йорк в этом отношении немногим отличался от Одессы. В тот день я прошел по Седьмой авеню до Гринвич-Виллидж, до окруженных деревьями площадей и зданий восемнадцатого столетия. Эти относительно низкие многоквартирные дома и магазины напомнили мне своей респектабельностью Киев моего детства, хотя тогда в этот уютный и недорогой район уже начали переезжать художники, что придавало ему некое сходство с окрестностями Левого берега Сены. Мне то и дело казалось, что я перенесся куда-то за город. Изобилие цветов и листвы услаждало мои чувства. Я некоторое время просидел на Вашингтон-сквер, наблюдая за детьми, игравшими в знакомые игры. Я считаю, такие почти сельские районы должны быть в каждом настоящем городе. Там можно обрести спокойствие, которое не обрести и в деревне. Здесь я частенько ходил в сад на крыше «Универмага Дерри и Тома». Летом я бывал там два-три раза в неделю, находя такое же умиротворение. Случалось, туда доносился шум транспорта, но был как будто из другого мира, издалека. В погожий день я слушал плеск фонтанов и смотрел, как розовые фламинго перебираются из одного пруда в другой, – немногие удовольствия могут сравниться с этим. Но теперь, конечно, «Дерри» продан русской еврейке, но она превратила свой сад в заповедник для модных и богатых и не допускает туда одиноких стариков и старух. Кому интересно, что теперь мне негде присесть, негде покормить птиц, некуда бросить монетку, чтобы загадать желание? В Нью-Йорке у меня выработалось очень сильное чувство владения ситуацией, инстинктивное понимание окружающей среды обеспечивало безопасность. Чем сложнее город, тем лучше я себя чувствую. Сельский житель в ужасе отступает, столкнувшись с видами и звуками города, не в силах справиться с миллионами переплетающихся впечатлений. Ему кажется, что город соткан из противоречий, тайн и угроз. Как и в Константинополе, в Нью-Йорке я немедленно расслабился. Городские опасности легко оценить или предугадать. За городом я беспомощен. Что значит для меня треск ветки, падение листа, глубина следов на земле? Если Нью-Йорк был, как говорили многие, джунглями, то я был зверем, созданным природой для этих джунглей. Я бесцельно прогуливался по городу и впитывал образы, звуки и ароматы. Через несколько дней я узнал практически все, с чем мне предстояло столкнуться, и что, в случае необходимости, предстояло преодолеть. Я пару раз встретился с Хелен Роу, но она торопилась уехать во Флориду. Она говорила, что Нью-Йорк – грязный город, а люди в нем – мусор. Наш корабельный роман почти тотчас же закончился, стоило ей сойти на берег. Теперь, когда Хелен встретилась со знакомыми молодыми людьми, которые водили ее на танцы и в ночные клубы, она утратила интерес ко мне. Я вздохнул с облегчением – мне тоже не хотелось продолжать эту интрижку. Я написал Эсме, сообщил о своем прибытии, об отеле и обо всем прочем. Я написал Коле и послал открытку миссис Корнелиус, упомянув об Уильяме Брауне, продюсере. Я очень хотел, чтобы все они оказались рядом, особенно Эсме. Многообразие города порадовало бы ее так же, как меня. Должен признать, однако, что в первую неделю я меньше, чем обычно, думал о своих дорогих друзьях и почти не занимался карьерой. Я жил мечтами о волнующих открытиях. Я ел стейки, омаров и хот-доги, русские блюда здесь были столь же прекрасны и изысканны, как в Одессе. Я посещал итальянские, французские и китайские рестораны. Я ходил в кино на новейшие фильмы, смотрел водевили. Я ездил в трамваях, автобусах и поездах. В это время я довольствовался собственным обществом, спутники только отвлекали бы меня. Я плавал в водах, одновременно странных и очень знакомых, современных и все же полных ностальгии. Здесь встречались автоматы по продаже газированной воды; фантастические копии тех кафе, что я посещал в Киеве, пропахшие сиропами и леденцами, отделанные красным деревом и дубом, медью и хромом и украшенные роскошными зеркалами; рестораны, в которых, казалось, росли небольшие леса; кинотеатры, как будто перенесенные прямиком из древней Ассирии; особняки, достаточно огромные, чтобы стать обиталищами европейских императоров. Стоя на пересечении Пятой авеню и Четырнадцатой стрит, я наблюдал, как надвигались черные грозовые облака, как они заслоняли солнце, пока наконец меня не окружило дикое шипение дождя, рев и отблески молнии. Я укрылся в дверном проеме. Я прошел ночью почти весь Бродвей, посетил зоопарк, купил батат у продавца в Центральном парке, снял за гроши симпатичных проституток (некоторые из них знали по-английски еще меньше, чем константинопольские шлюхи). Я непринужденно болтал с незнакомцами – в Европе такое невозможно. Я говорил им, как чудесен их город. Истинный житель Нью-Йорка полагает, что не существует никакого другого мира, он редко интересуется, откуда вы, просто хочет услышать, нравится ли вам Нью-Йорк. Поэтому мне было очень приятно сохранять анонимность, наслаждаясь всеми преимуществами общения. У меня еще оставалось много хорошего кокаина, и я мог с легкостью раздобыть еще с помощью девочек, которым покровительствовал. Когда не было алкоголя, я бодро пил виноградный сок или кока-колу. Спиртное, конечно, оставалось популярной и несколько утомительной темой для разговоров. Газеты печатали бесконечные истории о подпольной торговле. Запрет и его последствия стали навязчивой идеей для целой нации. Но это мало значило для меня. Я был как ребенок на каникулах. Мне хотелось одного – стоять на берегу, смотреть, как приходят и уходят корабли, изучать самолеты, представленные на выставке военной авиации. Америка, ошибочно считавшая себя родоначальницей воздухоплавания, приняла самолеты с той же готовностью, с какой приняла свою родную модель «Т»[352]. Я не понимал парадоксов культуры, которая с подобной легкостью признавала технические новшества и в то же время подчинялась влиянию замшелых представлений религиозных экстремистов. В дни своего расцвета Нью-Йорк не интересовался мнением остальной Америки, он жил как независимый город-государство. Главными банкирами были Морган и Карнеги[353]. Восток властвовал только в лавчонках, где продавали ковры. Нью-Йорк сдался на милость Карфагена в 1929 году – это был самый большой трофей, захваченный врагами. Как Константинополь, центр христианского мира, сделался столицей Оттоманской империи, так и Нью-Йорк стал столицей Карфагена. Одолев его, они одолели Америку. В конечном счете это неизбежно позволит им захватить весь мир. Не подозревая о грядущих бедствиях, я гулял, следуя за бродячими оркестрами в Бруклин и Квинс, и видел Джорджа М. Кохана[354], этого истинного американца, в его новейшем мюзикле. Я ел печеных моллюсков и свежих устриц у Шипсхэд-Бей. Я сидел возле Центрального вокзала, читая «Нью-Йорк таймс», в изложении которой все проблемы Европы казались далекими, мелкими, даже слегка нелепыми. Меня больше всего интересовали права ученых и их соблюдение в Америке. Я читал, что президент Хардинг вручил мадам Кюри[355] капсулу радия, стоившую сто тысяч долларов, в качестве подарка от американских женщин. После резкого спада продаж автомобили Генри Форда снова стали пользоваться спросом. Я также узнал, что компания Эдисона предложила анкету для всех соискателей. К своему отчаянию (поскольку я планировал в дальнейшем предложить им свои услуги), я не смог ответить ни на один вопрос. Помню, там спрашивалось: «Какой американский город занимает ведущие позиции в производстве стиральных машин?». Эдисон, как я узнал из газет, был крайне недоволен результатами этих тестов. Он решил, что университетские выпускники ужасно невежественны. Возможно, это и к лучшему: мне не пришлось унижаться, работая на идиотов. Новости об обнаружении партии нелегального виски в самом сердце Бронкса очень быстро стали куда более интересными, чем истории об отказе Уоррена Хардинга присоединиться к Лиге Наций. Моей единственной реакцией на передовую статью, в которой осуждалось торговое соглашение Британии с Советской Россией, стала смутная надежда. Теперь я мог написать матери о том, насколько вдохновляющей оказалась Америка. Возможно, ей разрешат приехать ко мне и поселиться здесь. Очень многие из нас тогда хотели верить, что после окончания гражданской войны, когда иностранные правительства возобновят отношения с Россией, многие крайности уйдут в прошлое. Я чувствовал, что судьба России больше не представляет для меня особого интереса, разве что в связи с судьбой моей матери и капитана Брауна (кроме того, официально я считался французом). Не имело значения и поражение испанской армии от Абд аль-Керима в Марокко. Безусловно, самой лучшей новостью стала готовность американского правительства финансировать развитие внутренней авиации. Прочитав об этом, я изучил свои ограниченные ресурсы и занялся устройством дел. Мои каникулы в Нью-Йорке подходили к концу. Следовало отправляться в Вашингтон. Примерно три недели спустя после прибытия в Нью-Йорк я купил чертежную бумагу, все необходимые принадлежности для рисования, заперся в номере с кокаином, кофе и запасом еды и начал тщательно копировать проекты и технические спецификации своих уже запатентованных изобретений. Я складывал их в большую папку. Затем я занялся незапатентованными проектами – трансатлантическими посадочными платформами для самолетов, дирижаблями-госпиталями, которые можно было разместить где угодно, межконтинентальными туннелями, дешевыми методами добычи алюминия из глины, способами производства синтетической резины, летательными аппаратами тяжелее воздуха и дирижаблями с ракетными двигателями. Все это следовало отправить для регистрации в американское патентное бюро. Другие чертежи я решил отослать непосредственно министру внутренних дел, который, как я понял, отвечал за научные проекты. Я также подобрал копии различных газетных статей, хотя они были в основном на французском языке. Корабельная газета поместила небольшую заметку на английском обо мне и моей работе – ее я тоже приложил. Через несколько дней я был совершенно вымотан, но работу все же закончил. Я отнес оба конверта на почту и отправил заказные письма. Потом я заглянул в «Немецкое кафе» на Чемберс-стрит и заказал огромные порции колбасы, телятины, квашеной капусты и клецок. Резной мрамор и темный оникс, колонны, головы животных, полированные каменные стойки – этот ресторан был настоящим монументом стабильности. Позднее в обществе одной из молодых особ я отправился посмотреть мюзикл и какое-то кино в театр «Казино». К полуночи я зашел к ней домой, где-то в районе Девятой авеню и Пятьдесят третьей стрит (линия надземной железной дороги проходила всего в нескольких футах от ее окон). Там я оставался в течение двух дней, развлекаясь с Мэй и ее маленькой ясноглазой подругой Ирмой. Когда я вернулся в «Пенсильванию», меня ожидало сообщение. С немалым удовольствием я узнал, что звонил Люциус Мортимер. Он остановился в отеле «Астор». Он спрашивал, не желаю ли я с ним пообедать. Сообщение пришло только утром. У меня еще было время позвонить в «Астор» и принять приглашение. Я надеялся насладиться обществом респектабельного молодого майора. Я потратил остаток дня, купаясь, отдыхая и собирая различные документы. В семь я оделся. Решив, что вечер достаточно теплый, а на такси можно сэкономить, я прошел несколько кварталов к Сорок четвертой и Бродвею. Я уже превосходно изучил центр Нью-Йорка. Единая система, как и повсюду в Америке, была достаточно рациональна и могла существенно облегчить жизнь – стоило только разобраться в основах ееустройства. Der Raster liegt fest, aber die Vielfalt der Bilder ist unendlich. New York ist eine Stadt der nah beieinanderliegenden Gegensätze[356]. Воздух пропах маслом и специями, кофе, жареной ветчиной и сметаной. Дикая дневная суматоха поутихла, и движение стало умеренным, почти успокоительным. Я шел, посвистывая, к лучшему отелю в Нью-Йорке и думал о своей удаче. «Астор» оказался богатым и респектабельным заведением, но, на мой взгляд, не столь внушительным, как «Пенсильвания». Фасад был из красного кирпича, известняка, зеленого сланца и меди, а внутри отель выглядел очень строгим. Интерьер больше подходил для храма или музея. «Астор», с темными деревянными стенами и внушительными фресками, действительно напоминал и храм, и музей. Любезный швейцар вел меня мимо блеска ар-нуво, мрамора и золота, старинных ионических пилястр, разрисованных стен, гобеленов и трофеев в помещения, которые он назвал «холостяцкими квартирами». В комнате, стены которой были увешаны картинами на темы охоты, за столом у дальней стены меня ожидал друг. Светловолосый Мортимер, как и я, сменил мундир на вечерний костюм. Он встал и с доброжелательной улыбкой поприветствовал меня: – Я так рад, что вы еще здесь, полковник Питерсон. Я боялся, что мне придется отправиться за вами в Вашингтон. Когда мы поели, Мортимер сказал, что после нашей последней встречи пару раз пересек Атлантику. Теперь он решил некоторое время отдохнуть от морских путешествий. Во время круиза кто-то упоминал обо мне, и майор вспомнил о наших разговорах. Это сподвигло его отыскать меня. Аккуратно разрезая мясо, он сказал, что с огромным сожалением услышал о французском скандале. Я отложил нож и вилку и спросил, что он имеет в виду. Мортимер смутился. Прежде чем он смог что-то объяснить, появился официант, и мы заказали следующее блюдо. Тогда Мортимер достал из кармана пиджака сложенный газетный лист. – Это из «Монд», – сказал он, передавая мне вырезку. Газета вышла почти месяц назад. – Вы ничего не видели? Это, пожалуй, к лучшему. Чем дальше я читал, тем страшнее мне становилось. Заголовки были наглядны. В газете имелись фотографии – мои, мсье де Гриона, Коли – прежних, более счастливых времен. Странный эскиз моего законченного дирижабля. Закрытый ангар около Сен-Дени. Наша авиационная компания развалилась, и полиция подозревала мошенничество. Согласно полицейским отчетам, главный инженер сбежал из Франции, прихватив важные документы, доказывающие честность его партнеров. Зять мсье де Гриона, князь Николай Петров, был назван пострадавшим. Я его обманул. Якобы большая часть акций принадлежала мне. Я их продал с немалой прибылью и сбежал с этим состоянием, возможно, обратно в Константинополь, где меня будто бы разыскивали англичане за помощь мятежникам Мустафы Кемаля. Моя сестра, оставшаяся в Париже без средств к существованию, ничего не подозревала. – Это бессмысленно, – сказал я Мортимеру. – Князь Петров – мой лучший друг. Его, очевидно, неверно поняли. Но это, черт побери, дурные вести для меня. Я ничего не знал! – Сомневаюсь, что вас могут выдать на основании тех доказательств, которые у них якобы имеются. – Мортимер очень мне сочувствовал. – Похоже, вы не предвидели подобной ситуации? – Петров предупредил меня, что в случае краха компании меня могут сделать козлом отпущения. Именно поэтому я приехал в Америку. Но я не представлял, как отвратительны эти газеты. Эти статьи просто бессмысленны. Они явно подтасовали факты и переврали слова Коли. Он мой самый старый, самый близкий друг. Должно быть, это мсье де Грион их надоумил. Он всегда меня недолюбливал. Эсме должна скоро приехать. Надеюсь, что она не пострадает! – Она еще собирается приехать? – Несомненно. Как и Петров. – У них есть ваш адрес? Возможно, это хорошо, что вы поедете в Вашингтон. Он, нахмурившись, поглядел на меня с каким-то подозрением, словно не мог поверить, что я столь невинен. Меня это оскорбило. – Я всегда вел дела честно, майор Мортимер. К вашему сведению, в Турции меня тоже не ищут. Я помог задержать некоторых мятежных националистов и шпионов. Я покинул Константинополь исключительно по личным мотивам. – Видимо, с вами дурно обошлись, полковник. Если бы скандал разразился здесь, могли быть серьезные и нежелательные последствия. Вы знаете, желтая пресса считает, что все иностранцы – анархисты и бандиты, пытающиеся уничтожить страну. – Он отодвинулся от стола, когда официант начал расставлять чистые тарелки, а потом внезапно усмехнулся. – Не хотите выпить? Впервые с тех пор, как я прибыл в Америку, мне захотелось водки. Я энергично кивнул, и Мортимер подмигнул мне: – Мы покончим с делами, а потом пойдем и навестим моих друзей. Они нам помогут. Что думаете на этот счет? – Он сложил вырезку и убрал ее в карман. Я пришел в замешательство. Было не так легко очистить мое имя. Помочь мог только Коля. Эсме согласится выступить свидетельницей. Но где и когда пройдут слушания? Я спросил об этом у Мортимера. – В Париже. Черт возьми, я уверен в этом. В Штатах вы в полной безопасности. Но шансы на продление визы, однако, существенно уменьшаются. Вам нужны друзья в высшем свете, старина! – Мортимер внимательным взглядом окинул сырную тарелку, его нож застыл в воздухе. Потом он со вздохом подцепил кусок «бостон блю». – В Атланте есть мистер Кэдвалладер. – Адвокат? Но это ваше слово против их слов. Я думал о другой стратегии поведения. Кого вы знаете в Вашингтоне? Я никого не смог назвать и задумался. Майор Мортимер дожевал свой сыр. – Вероятно, я сумел бы вам помочь. Я знаю нескольких человек, у которых есть хорошие политические связи. Понадобится ли вам рекомендательное письмо? – Вы очень любезны. Сомневаюсь, что мне удалось изобразить восторг. Мое будущее снова стало неопределенным. Я не мог возвратиться в Европу. Вероятно, придется бежать из Соединенных Штатов. Неужели Эсме навсегда потеряна для меня? Я не поддавался панике. Я отчаянно пытался сконцентрироваться, но теперь все казалось еще хуже, чем раньше. Я плохо помню окончание трапезы. В какой-то момент майор Мортимер помог мне выйти на тротуар и поймал такси. Через четверть часа мы вошли в синие вращающиеся двери одного из многочисленных подпольных баров Нью-Йорка. Внутри нас ожидало то же самое, что я уже видел в Париже: шумная джазовая музыка, дикие танцы и прочее. Именно в тот момент мне меньше всего хотелось находиться в подобном месте, но Мортимер потащил меня сквозь толпу в темную заднюю комнату. Он заказал напитки. Коктейли были не очень крепкие, но я с удовольствием выпил несколько. Подпольные бары посещали весьма приличные люди. Мы зашли не в обычное богемное кафе. Люциус Мортимер был здесь со многими знаком и, очевидно, являлся постоянным и популярным клиентом. С друзьями он беседовал на жаргоне, который я никак не мог понять. Я слышал, как они с Джимми Рембрандтом говорили на этом наречии на борту судна. Я быстро опьянел. Около часа спустя, когда я продолжал невнятно рассказывать о своих проблемах, Люциус сжал мою руку и посмотрел мне прямо в глаза. – Макс, – сказал он, – я считаю себя вашим другом и попытаюсь вам помочь. Скоро сюда придет Джимми. Мы поговорим с ним. Что если мы поедем с вами в Вашингтон? Я могу представить вас своим друзьям. Вы же захватили с собой все свои патенты? Я рассказал, что успел предпринять. В моих письмах говорилось, что я скоро буду в Вашингтоне и позвоню, чтобы подтвердить доставку чертежей. Это разумно, сказал Мортимер. Мне нужно расслабиться и сделать еще глоток. Как только я встречусь с нужными людьми, мои проблемы останутся позади. – Вы можете положиться на меня, я никому и слова не скажу о скандале с дирижаблем. Но рано или поздно это может выйти наружу, вы должны подготовиться к такому повороту событий. Кто предупрежден – тот вооружен. Журналистам сейчас надо только одного: потребовать расправы над иностранцами. Только на прошлой неделе в моем родном городе в Огайо ку-клукс-клан линчевал двух итальянцев. Они были или анархистами, или католиками. Русских любят еще меньше. Так что вам нужно всем прямо заявить, что вы – француз. Называйтесь по-прежнему Максом Питерсоном. Вы можете быть наполовину англичанином. Это избавит от подозрений. Я вас прикрою. Скажем, что мы встретились во время войны, когда вы летали в эскадрилье «Лафайет». Все любят летчиков из «Лафайет». Я не хотел участвовать в обмане, однако признал, что Мортимер лучше понимал положение дел. В итоге пришлось согласиться: пусть он решает, что сказать людям. Я готов был во всем следовать его советам. Меня по-прежнему поражало чистосердечие и великодушие американца. Какой европеец захотел бы столько сделать для едва знакомого человека? Я едва сдерживал слезы, когда появился Джимми Рембрандт в сопровождении двух молодых женщин, актрис из здешнего шоу. Он обнял меня крепко, как настоящий русский. Он похлопал меня по спине, сообщив, что сильно соскучился. Мы заказали бутылку весьма сомнительного шампанского. Джимми в основном угощал им леди, которые, кудахча и прихорашиваясь, в розовых и синих перьях и шелках скоро стали напоминать напуганных цыплят. – Похоже на большое приключение! – Рембрандт явно обрадовался. – Мы завтра же поездом отправимся в Вашингтон. Вы сможете уехать так скоро, Макс? Мы выпили за нашу удачу, за нашу общую судьбу, за нашу счастливую встречу на «Мавритании». С такими чудесными компаньонами у меня не возникнет никаких трудностей, когда я приеду завоевывать американскую столицу. Они шутливо предлагали мне «вспомнить» мать-англичанку, отца, замечательного французского солдата, и его отца, который сражался на стороне южан в годы гражданской войны. Мы даже поговорили о предке, руководившем полком добровольцев в Войне за независимость. К тому времени, когда мы вышли из бара, я снова развеселился, уже наполовину поверив в свою новую личность. Мои приятели нашли самый удачный компромисс, особенно с учетом нашей общей цели. Их друзья были южанами и считались только с теми иностранцами, которые поддерживали Юг шестьдесят лет назад. Мать Джимми Рембрандта, по его словам, родилась в Луизиане, а отец, родом из Пенсильвании, был активным членом Демократической партии до несчастного случая на скачках, который произошел перед самой войной. Вскоре после полуночи мы заказали такси до моего отеля, а мои спутники поднимали воображаемые бокалы за Макса Питерсона, французского джентльмена, и пытались научить меня насвистывать «Дикси». Мелодия очень важна, серьезно говорили они, но если я хочу завоевать привязанность их друзей, то следует выучить все слова. Что до моих политических взглядов, то, по мнению Рембрандта и Мортимера, они были просто идеальными. По-дружески шутливо Джимми и Люциус помогли мне войти в лифт, а потом направились в «Астор», пообещав встретить меня в холле на следующее утро. Наше сотрудничество должно было принести всем огромную выгоду. Мои французские авиационные проекты, по их словам, покажутся картонными моделями в сравнении с новыми замыслами, которые будут реализованы в Америке. Я вернулся к себе в комнату и попытался собрать вещи. Но как только я остался один, мной неожиданно овладела меланхолия. Я лежал в постели и оплакивал Эсме. Сколько еще времени пройдет до нашего воссоединения? Чем я провинился перед Богом, за что меня карают так строго, тогда как циничные богачи и безжалостные властители остаются безнаказанными? Уехать из Нью-Йорка было мудрым решением. Здесь меня подстерегали все те же знакомые враждебные силы, хотя я едва ли мог это предположить. Бродя по городу, я видел темных эмиссаров Карфагена, занятых своими черными делами. То тут, то там появлялись признаки опасности, но они оставались незамеченными. В некоторых домах Гарлема, занятых приличными немецкими семьями, которым угрожали со всех сторон афроамериканцы и выходцы с Востока, я видел в окнах плакаты: «Keine Juden und keine Hunde»[357]. Но прошел год-другой, и эти надписи исчезли. Потом и сами семейства покинули город, а смеющиеся негры превратили удобные здания в запущенные трущобы. Нью-Йорк попытался принять их – это был вопрос гордости. Но Нью-Йорк совершил ошибку – все зашло слишком далеко. Город столкнулся с немыслимой ересью: все эти темнокожие мессии и иудействующие лжепророки расплодились во множестве. Христиан учат все терпеть, и мы терпим – но мы не можем и не должны терпеть зло. Лицемерие и воровство не останутся безнаказанными. Те евреи-сефарды – они утверждали, что были испанскими донами, как будто этим стоило хвастаться. Испанскую империю создало карфагенское золото, она была пропитана языческим стремлением к разрушению. Американцы уже разгромили врагов в нескольких героических войнах. Но теперь враги возвращаются под тысячами разных масок. Их не остановить. И их einiklach злорадствует в огромных башнях, стальных и бетонных крепостях, катается в «роллс-ройсах» по Уолл-стрит, управляет судьбами всего мира, в то время как доны Маленькой Италии, Бруклина, Бронкса и испанского Гарлема становятся богаче Морганов или Карнеги и не создают ни благотворительных учреждений, ни фондов, ни библиотек – они только разрушают. Я не могу винить себя в том, что сталось с Нью-Йорком. Если бы я присмотрелся, то сразу бы увидел гниль и плесень. Меня ослепил невероятный потенциал города, его величие, его красота. И для меня он остался самым красивым городом на земле. Когда теплое утреннее солнце озаряло серые и желтые башни и садилось, подсвечивая алым Бруклинский мост, я задыхался от изумления – и неважно, сколько раз я уже это видел. Я слышал, что в Нью-Йорке уничтожают всю былую красоту, заменяют прежние небоскребы сооружениями из черного стекла и невыразительного камня. Они разбили вдребезги почти все, а то, что не разбили, распотрошили и испортили. Отель «Пенсильвания» теперь стал серым, неуютным кроличьим садком, лишенным стиля и вкуса. Его перекупила фирма «Хилтон» и превратила в машину для переработки путешественников, выходящих из этих нелепых летающих цилиндров. И все сделано во имя демократии. Идея всеобщего равенства – вредная идея. Мечты великих строителей Нью-Йорка, убитого архитектора Стэнфорда Уайта[358], становятся искаженными кошмарами. Призрак старого города нависает над новым. Уайта убили в саду на крыше Мэдисон-сквер, через дорогу от того места, где стоял мой отель. Он построил декорации для собственной смерти. И теперь эти декорации уничтожены. Он привез в Америку все лучшее, что отыскал в Европе, он создал архитектуру, которая была простой, истинно американской по стилистике и пропорциям. Теперь все над этим потешаются. В целом мире силы Карфагена подрывают нашу культуру, наши воспоминания, наши памятники, заменяя их одинаковыми зданиями, которые строятся теперь в разных странах. Они уничтожают наше наследие, они стирают наши воспоминания. Даже наши души находятся под угрозой уничтожения. В 1906 году враги Уайта замыслили его убийство. Убийцей стал еврей по фамилии Toy, который утверждал, что Уайт обольстил его жену. Надо отметить, что Toy в итоге признали невиновным, поскольку он совершил преступление в состоянии аффекта. Злодей избежал наказания. Карфаген произвел еще один выстрел – и остался безнаказанным. Поистине, Ich vil geyn mayn aveyres shitein![359] В восемь часов утра, подкрепив свои силы кокаином и упаковав чемоданы, я позвал швейцара, а потом спустился в коридор, по которому разносилось эхо наших шагов. Когда я оплатил счет (это сильно уменьшило мои денежные запасы), ко мне приблизился Джимми Рембрандт. Он улыбался и был полон энергии. Пожав мне руку, Джимми заявил, что я выгляжу великолепно. Мортимер, по его словам, чувствовал себя нехорошо и с трудом мог говорить, но поедет вместе с нами поездом. Мы вышли из вестибюля и направились к Пенсильванскому вокзалу. Мои сумки везли на тележке позади нас. – Люс боится, что у него грипп. Но мы-то знаем, откуда у него такие симптомы, Макс, верно? Войдя в дорическую галерею, украшенную рядами изящных магазинов и столбами света, в которых танцевали пылинки, мы увидели, что у главной лестницы стоял Мортимер. Он был так же хорошо одет, как Рембрандт, но действительно казался бледным и жалким. Он попытался мне улыбнуться: – А, полковник Питерсон, знаменитый французский летчик. Джимми рассмеялся. – Надеюсь, вам понравится красный цвет, полковник. – Мое смущение его удивило. – Они уже очень скоро расстелят для вас ковер в Вашингтоне. Вокруг нас бесчисленные жители Нью-Йорка торопились по своим делам. Вокзал располагался под нами, и мы спустились по ступеням в сорок футов шириной (построенным из травертина на римский манер) в главный вестибюль, отделанный сливочного цвета камнем, который, очевидно, должен был напоминать о римских банях. На протяжении многих лет коренные жители Нью-Йорка считали себя наследниками традиций Древнего Рима. Сегодня, конечно, армии Ватикана сделали возможным неожиданное и нежелательное сравнение с более современным Римом. – Положитесь на нас, – продолжал Джимми, – и через неделю весь Вашингтон будет есть из наших рук. Наш багаж убрали, и мы отправились завтракать в один из прекрасных ресторанов, расположенных в здании вокзала. К полудню мы уже сидели в великолепном курьерском поезде – настоящей стальной симфонии, ведущую партию в которой исполнял массивный локомотив. Состав медленно выехал с Пенсильванского вокзала. Только прежние царские поезда могли соперничать с этим воплощением американской роскоши. Америка, как и Россия, зависела от железных дорог. Как и Россия, она тратила всю свою гордость и искусство на создание этих движущихся цитаделей комфорта. Мы зарезервировали столики в вагоне-ресторане, но майор Мортимер не испытывал желания есть. Он предложил нам с капитаном Рембрандтом оставить его наедине с тяжкими страданиями и занять места у огромного окна. Небоскребы Нью-Йорка постепенно уступили место одноэтажным пригородам, а затем показались холмы и леса Нью-Джерси. Мы пересекали широкие железные паутины мостов, которые тянулись над такими же, как в России, широкими реками, мы двигались вдоль океанского побережья, а затем повернули на запад и миновали бескрайние поля, подобные которым можно было увидеть в моей родной украинской степи. Мы проносились мимо фабрик или электростанций, ярко сиявших в летних сумерках. И я внезапно подумал, что все эти леса, эти чудесные поля, эти сталелитейные заводы и генераторы демонстрируют не просто огромное богатство, но и огромный оптимизм. Я впервые осознал, как велика эта страна. Пространство казалось столь же безграничным, как в России, вдобавок здесь были столь же неисчерпаемые ресурсы, столь же безграничные способности к расширению. Проблемы Европы стали незначительными, как и ее ничтожные амбиции. Мне не следовало опасаться мелких стран с мелкими идеями. Здесь, в Америке, я смогу добиться того, чего когда-то надеялся достичь на Украине. Поглощая обед, я разглядывал равнины и луга Америки, ее большие серые города и золотые холмы и беседовал с Джимми о технологической Утопии, которую предполагал создать. Она будет истинно американской, она уничтожит древние традиции отсталой Европы, она сосредоточится на будущем. И на ней будет стоять ярлык «Сделано в США». Джимми пришел в восторг, но в то же время мое рвение его как будто удивило. – Это дело, – повторял он. – Это самое оно. Он был абсолютно убежден, что в Европе мой гений растрачивался впустую. Я слишком талантлив для нее. Соединенные Штаты достаточно велики и достаточно могущественны, чтобы принять то, что я предлагаю, и заплатить все, что мне причитается. Америка готовилась двигаться вперед еще быстрее, чем прежде. Здесь делалось так много денег, что не хватало вещей, на которые их можно было бы потратить. Джимми сказал, что мне следует подумать о создании компании по примеру Эдисона. Нужно нанять сотрудников, технический персонал, различных экспертов, нужно построить мастерские: – Вложите капитал в Америку, Макс, и вы покорите все сердца и умы, какие вам только понадобятся. Сейчас самое подходящее время. Самый ритм движения поезда, ровный, устойчивый, поддерживал меня в убеждении, что Вашингтон обеспечит мне средства, признание, ресурсы, которые предназначались мне по праву. Парижское происшествие было мелкой неудачей. Теперь я стал осторожнее, я уже не доверял кому попало. Я молил, чтобы Коля поскорее выбрался из той ужасной паутины жадности и интриг, привез Эсме и присоединился ко мне в американской столице. – Во Франции нет ни наличных, ни сил, чтобы устраивать по-настоящему большие дела, – сказал Джимми. Мы пересекали Делавэр. Вдалеке на крутых берегах реки виднелись высокие сосны, дымовые трубы, опоры. – Вот где вы ошиблись, Макс. Не имеет значения, насколько хорош план. Нужно принимать в расчет также время и место. Я сказал, что по-прежнему виню социалистические профсоюзы, но Джимми не согласился со мной: – Союзы устраивают забастовки потому, что им или их лидерам за это платят. Возможно, они хотели добиться более высокой зарплаты. Но скорее всего кто-то подсунул им деньжат. – Он сделал паузу и многозначительно посмотрел на меня, но я понятия не имел, что ему хотелось услышать. Он продолжил: – Это мог быть кто угодно. Ваши собственные руководители. Немцы. Британцы. – Мне все еще трудно поверить, что люди способны на такие подлости. – В этом вы похожи на американцев, старик. Мы потрясены этим. И именно поэтому мы решили отказаться от контактов с Европой. Пусть втыкают друг другу ножи в спину. Мы не дадим им шанса уничтожить нас. Убедившись, что недомогание Люциуса не слишком серьезно, мы перебрались в глубокие шикарные кресла, стоявшие в вагоне-клубе. Здесь, среди блестящей меди и массивного красного дерева, мы курили сигары и пили крепкое пиво, в которое Джимми как-то ухитрился добавить скотч. Курьерский поезд с величественной, размеренной быстротой мчался среди холмов и долин, поросших лесом. Вагон был исключительно удобен: мягкие сиденья, просторные проходы, хорошо вышколенные официанты, способные исполнить практически любое желание. Я подумал о том, сможет ли Россия, вернувшись на истинный путь, достичь такого уровня железнодорожного сообщения. В конце концов, у России, как и у США, были почти безграничные запасы подходящих ресурсов. Вот модель, которой нам следовало подражать. Америка научилась бороться с большевистской угрозой. В отличие от Нью-Йорка, в остальной части страны осознали опасность и начали преследовать красных решительнее, чем когда-либо в Европе. Раньше, до войны, Америка отличалась почти безграничной терпимостью ко всем прочим странам – и в результате очень быстро узнала, как дорого обходится такое благородство. Теперь, когда она заперла свои двери, никто не мог ее обвинить. Америка пыталась изолировать себя от социальных и психических заболеваний, распространившихся по ту сторону Атлантики. Увы, она не смогла понять, что взялась за дело слишком поздно, – наступил 1929 год, и Карфаген нанес удар. Вся страна пошатнулась и в отчаянии позвала на помощь. И кто же явился на зов, улыбаясь и протягивая руку помощи? Самаритянин, назвавшийся именем великого американца? Франклин Д. Рузвельт. Друг большевиков и мишлинг[360] выступил вперед, взялся за руль, и с тех пор Соединенные Штаты были обречены. Страна стала самым большим трофеем, доставшимся Карфагену. Но когда я сидел в пульмановском вагоне рядом с Рембрандтом и курил сигару, борьба еще не окончилась. И я готовился принять в ней участие. Я приложил все усилия, объединившись со множеством благородных американцев, но над нашими страданиями посмеялись – власти преследовали нас. А в это время Восток терпеливо ждал. Nito tsu vemen isu reydn…[361] Они посадили еврея в Белый дом точно так же, как полвека назад посадили еврея на Даунинг-стрит, 10. Еще один управлял Францией. Целый комитет управлял Германией. Об Испании и говорить нечего. Португалия? Дания? Кто знает? Они скажут: «Ver veyst?»[362] И, что ужаснее всего, вероятно, будут правы. Восточный фатализм одолевает их. Они валятся прямо посреди улицы, держа в руках трубки с опием. И они называют меня дураком? Они – зомби, одурманенные таинственными хозяевами, а затем отправленные в бой против президента. Их не убивают. Полиция гуманна. Полицейские знают, что губит этих еле движущихся, грязных существ, сыновей и дочерей почтенных граждан. Но что они могут сделать? Поезд приближался к Вашингтону, и Джимми привел меня обратно в купе, где лежал, заняв сразу три сиденья, Люциус Мортимер. Он внезапно проснулся, впился взглядом в Джимми, как будто решив, что мы собирались на него напасть, потом узнал нас и заулыбался. Когда мы справились о его здоровье, Мортимер сказал, что чувствует себя намного лучше. Мы собрались выходить. В вагонах работали вентиляторы, и я не был готов к жаре. Мне стало очень трудно дышать, едва только я вышел на платформу. Я думал: раз в Нью-Йорке тепло, то моя легкая одежда подойдет и для Вашингтона, но влажность здесь оказалась слишком высокой. Я как будто упал в озеро и судорожно пытался дышать под водой. Я не думал ни о чем другом, пока мы не сели в такси и не отправились в отель. Я, задыхаясь, откинулся на спинку сиденья, а Джимми и Люциус смеялись над моими мучениями. Они знали, чего ожидать, и уже привыкли к этому. Я спросил, кто перевел правительство в самый центр настоящего тропического болота. Поначалу за окнами я видел только густые заросли, но потом появились лужайки, кирпичные и каменные здания, стоявшие поодаль друг от друга. Я испытал некоторое неудобство, так как уже успел привыкнуть к тесноте Нью-Йорка. Пока мы ехали к отелю, я боролся с желанием сорвать занавески с окон такси. Уже наступали сумерки, и все-таки воздух был горячим и влажным. Город казался мне практически заброшенным, как будто это и не город вовсе. – Или со временем станет полегче, – сочувственно заметил Джимми, – или погода доконает вас. Теперь снаружи появились смутные очертания широких, усаженных деревьями улиц, больших белых зданий, освещенных вывесок. Дома стояли все теснее, они стали немного повыше к тому времени, когда мы остановились, но я все еще чувствовал неловкость, и физическую, и психологическую, когда мы вошли в тускло освещенный вестибюль старомодного отеля, выбранного моими друзьями. Он назывался «Уормли» и считался, очевидно, очень респектабельным. Мы, похоже, были самыми молодыми постояльцами. В отличие от мира снаружи, отель показался необычайно тесным и переполненным. В моем маленьком номере на обоях виднелись изображения летящих беркутов. На потолке висел большой вентилятор. Он достаточно охладил воздух, чтобы я смог прийти в себя, помыться и переодеться к обеду. Джимми и Люциус уже договорились о встрече со своими друзьями-политиками, так что я хотел произвести наилучшее впечатление. К тому времени, когда мы вышли на улицу, стало совсем темно. Улицы были хорошо освещены, но слишком широки, и электрические фонари светили среди густой листвы дубов, каштанов и вишен. Вашингтон производил впечатление полугорода, полулеса. Я снова почувствовал себя неловко, как будто по глупости покинул знакомый мир, где мог доверять своему разуму, и удалился в мир, в котором не получится принимать тщательно взвешенные решения. В этом месте было что-то одновременно искусственное и сельское. Вашингтон казался еще менее естественной столицей, чем Санкт-Петербург. Возможно, единственный вид промышленности здесь – это политика? Я спросил об этом своих спутников, и они удивились. – Главная здешняя продукция – жара и черномазые, – сказал Джимми, – и в темноте вы всего этого не увидите. Пенсильвания-авеню была такой же широкой и зеленой, как и все прочие улицы, которые я видел в этом городе. Чуть в стороне от дороги стоял колониальный (англичане используют слово «георгианский») неогреческий особняк, в котором располагался ресторан «Покок». Внутри царила такая же атмосфера, как в лучших лондонских клубах. Женщин туда не допускали, и почти все комнаты заполняли состоятельные, уверенные в себе мужчины, по большей части, очевидно, хорошо знакомые друг с другом. И снова мы трое оказались самыми молодыми гостями. Я предположил, что большинство клиентов заведения занимались политикой. Они держались с уверенной любезностью мужчин, привыкших к власти. Преобладали седые волосы и белые бакенбарды, большие сигары и негромкие шутливые замечания. Кажется, я никогда раньше не бывал в заведении, которое до самого узора на ковре отличалось бы такой непроницаемостью. Можно с уверенностью сказать, что все собравшиеся были настоящими коренными американцами. Я думаю, это помогло мне расслабиться. Когда мы втроем вошли в ресторан («Как три мушкетера», – заметил Джимми), нас приветствовал почтительный негр, указавший на стол, за которым уже сидели двое пожилых людей. Стол располагался в алькове, укрытом кружевными занавесками и тяжелыми портьерами. На стенах ресторана «Покок» висели застекленные полки, заполненные старинными книгами, украшениями, бесчисленными антикварными безделушками. Все они, как заверил меня Джимми, представляли историческую ценность. Это было мое первое настоящее столкновение с навязчивой идеей, которой одержимы все американцы: любая вещь старше двадцати лет уже считается старинной. Джимми извинился за то, что назначил встречу в «Пококе», – он считал ресторан душным и «сухим». В Вашингтоне почти невозможно было получить выпивку – только в частном доме. За обедом нам придется ограничиваться виноградным соком и шипучкой. Меня такое положение дел скорее удивляло, чем расстраивало, хотя я привык к вину, но многих американцев этот запрет просто бесил. За столом меня представили мистеру Чарльзу Роффи и мистеру Ричарду Гилпину, которые приветствовали нас весьма изысканно и благородно. Они сказали, что рады знакомству. – Счастлив приветствовать такого выдающегося гостя в нашей столице, – произнес мистер Роффи. Мне следовало называть их Чарли и Диком. Я сказал, что также очень рад нашей встрече и буду польщен, если они станут называть меня Максом. Они заулыбались, рассмеялись и потрепали меня по руке, заявив, что они оба люди открытые и не любят формальностей. Они рады, что их грубые нравы мне подходят. Это самоуничижение, как я понял, отличало в Америке людей по-настоящему благородного происхождения. Чарли Роффи был высокого роста, большой мягкий живот едва не разрывал пуговицы на его жилете. Он дышал тяжело, как многие толстые мужчины, и красноту его лица лишь подчеркивали синевато-серые глаза, копна песочного цвета волос, начавших редеть, и седеющие усы. Он слышал, что моя мать англичанка. Его предки из Йоркшира. Бывал ли я в Йоркшире? Я сказал, что редко бывал на севере, только в раннем детстве. Это, очевидно, удовлетворило Джимми Рембрандта, который поглядел на Люциуса Мортимера с видом учителя, наблюдающего за успехами любимого ученика. Дик Гилпин оказался чуть старше, с суровым лицом военного, которое могло бы быть у викторианского генерала, с густыми белыми моржовыми усами и довольно длинными белоснежными волосами. С виду он представлялся выдающимся государственным деятелем. Он внимательно посмотрел на меня и шутливо заметил, что его собственные предки были несколько более сдержанны, когда говорили о своем происхождении. Он полагал, что некоторые из них воровали рогатый скот в Кенте. Вполне возможно, мои предки повесили кого-то из его предков. Это была еще одна особенность американских аристократов – они часто рассуждали о невероятных совпадениях в некоем неясном прошлом. Меня подобные заявления слегка смутили. Позже я встречал мужчин, рассказывавших романтические истории о своем индейском происхождении, при этом их деды, которые были первопоселенцами, весело описывали, как перерезали почти всех аборигенов. Кроме того, я дивился тонкому юмору, изысканности и вежливости этих двух южных дипломатов. В России американцев всегда считали грубыми, наивными людьми, одетыми в оленьи шкуры или вульгарные клетчатые костюмы, поедающими сырое мясо буйвола, громко требующими у официантов пирога. А эти американцы называли меня уважаемым сэром и с некоторым сожалением обсуждали ухудшение меню в «Дельмонико»[363]. Эти два очаровательных джентльмена сразу завоевали мое расположение. Они открыли мне мир, о котором я не мог и мечтать, продемонстрировали истинно южную элегантность и силу. На время это компенсировало мне утрату Эсме. Чарли Роффи сказал, что они с Диком из Мемфиса. Их деньги вложены в хлопок – отрасль сейчас быстро развивается. Однако они предвидели скорое снижение оборотов. Мемфису нужны новые деньги. Это означало, что Мемфису необходима промышленность, Река всегда способствовала торговле хлопком. Возможно, она поможет и некоторым другим предприятиям, но он и его партнер склонялись к более высоким скоростям. С самого начата войны он верил: будущее принадлежит авиации. Дик Гилпин с энтузиазмом согласился. Оба джентльмена опасались, что если не удастся как можно скорее привлечь инвестиции для развития южной авиационной промышленности, то Север, как они выразились, еще раз разобьет их в пух и прах, на сей раз в области коммерческих воздушных перевозок. Югу необходима авиационная промышленность, с собственными марками машин, собственными аэродромами, собственным управлением. Сотни летчиков, вернувшихся из Европы, были южанами. Так что опытных сотрудников легко отыскать. Он знает многих политических деятелей, близких к правительству Хардинга, они разделяют эти взгляды и могут помочь в получении правительственных контрактов. – Прежде всего мы должны придумать, Макс, самый лучший самолет, а также несколько убедительных проектов аэродрома. Тогда мы обсудим перечень услуг, которые будем оказывать. Самое главное – машины должны строиться в Теннесси. Только солидное производство обеспечит нам успех. Пусть нас перестанут считать фермерами. Мы вложим в заводы прибыль, пока она у нас еще есть. Деньги – это не вклады и акции, это – кирпичи и известковый раствор. Мы надеемся, что вы поможете нам осуществить эту мечту, сэр. Меня обрадовала его прямота. Я сказал, что уже имею некоторый опыт в организации фабрик за границей и, конечно, располагаю самыми передовыми проектами самолетов различных видов, и легче воздуха, и тяжелее воздуха. – Мы должны убедить в этом правительственные департаменты, вы же понимаете, – заметил Дик Гилпин. – Хорош с виду – хорош на деле, как говорится. В этом городе у нас много конкурентов, это вам тоже должно быть ясно. Надеясь, что это не преждевременно, я отважился показать им некоторые из своих газетных вырезок. В конце концов, именно они были моими верительными грамотами. Я принес с собой и диплом Санкт-Петербургской академии, различные письма и все документы, которые сумел вывезти из России. Конечно, все они были на иностранных языках, кроме статьи из корабельной газеты, но увиденное, казалось, удовлетворило обоих мужчин. Только российские газеты их обеспокоили. Желая произвести впечатление, я сделал глупую ошибку. – На каком это языке, сынок? – спросил Чарли Роффи, поглаживая седые усы. Меня спас не кто иной, как Рембрандт: – На греческом. Как вам известно, сэр, многие европейские университеты все еще выдают дипломы на этом языке. Дик Гилпин успокоился: – Так это не русский! Я не хотел бы внезапно узнать, что вы были большевиком, мой мальчик! Я ответил совершенно серьезно: – Я посвятил себя уничтожению большевизма во всех его видах. Это их успокоило и вызвало сильнейшее одобрение. Дик Гилпин поднял руку, быстро кивнул, его подбородок коснулся груди, губы расплылись в улыбке: – Вы были в Европе и видели, во что они могут превратить страну. Простите наши дурные манеры, сэр. Джимми Рембрандт сказал, что завтра он получит перевод моих дипломов и общий список моих достижений. Тем временем некоторые из моих чертежей уже лежали на столе министра внутренних дел и в патентном бюро. Это также вызвало прилив энтузиазма у наших хозяев, хотя их немного удивило, почему я послал патенты в Министерство внутренних дел. Я сказал, что, по моему мнению, для них там лучшее место. Мои изобретения, в конце концов, были очень разными – от самолетов до плугов. – У нас много хороших друзей в этом департаменте. – Дик Гилпин закурил сигару. – Если мы можем быть вам полезны – пожалуйста, только дайте знать. Мы условились встретиться через день. Тогда мы смогли бы обсудить планы на будущее более подробно. Джентльмены выразили сожаление, что деловые обязательства мешают им провести с нами весь вечер. Прежде чем уйти они настояли на том, чтобы оплатить счет. Они оставили нас за кофе. Капитан Рембрандт искренне радовался. – Вы попали в яблочко, – сказал он. – Эти двое скряг – самые хитрые старые лисы в Вашингтоне. Они знают всех и могут получить почти все, чего захотят. Теперь они будут проверять вас, Макс, Но не волнуйтесь, они не станут заглядывать в иностранные газеты. Я был немного удивлен этим очевидным цинизмом, ведь раньше он говорил о Роффи и Гилпине с куда большим восторгом. Капитан ответил, что это не цинизм: – Это практический взгляд на вещи, Макс. Мы в городе политиков. Они должны быть в вас абсолютно уверены. – Я до сих пор не понимаю, чего они хотят. – Опыта, – сказал Люциус Мортимер. – Серьезности. Им нужен по крайней мере один настоящий ученый, подлинный авторитет, способный развить и доработать проекты. Только тогда они смогут рассчитывать на правительственную поддержку. А это означает, что они получат первые лицензии на коммерческие полеты из Мемфиса. Гилпин ничего не говорил вам, но его сын был пилотом. Мальчик так и не вернулся из Франции. Он часто размышлял о том времени, когда пассажирские самолеты заменят поезда. Именно поэтому Гилпин хочет войти в дело как можно скорее. Взгляните на состояния, заработанные на железных дорогах. И на Форда с его автомобилями. В следующий раз куш сорвут в воздухе. Я сказал, что редко сталкивался с таким отношением к делу. Но я не мог понять, зачем компаньонам нужен новый самолет. – Роффи верит, что человек, который управляет производством самолетов, в итоге будет контролировать все воздушное сообщение, Макс. – Мортимер извлек следующую сигару. – Моргану не просто принадлежали составы. Он купил фабрики, на которых производили локомотивы. Роффи хочет вывести Юг из промышленного кризиса. Вы часто говорили о «Рождении нации» – значит, понимаете, что я имею в виду. Пока экономика Дикси остается сельскохозяйственной, южане не смогут бросить вызов крупным финансовым интересам Севера. Роффи сталкивается с сопротивлением более консервативных людей в Мемфисе, но он точно знает, чего хочет. Его двоюродный дед владел пароходом в те времена, когда в водах Миссисипи до самого Нью-Орлеана практически не было кораблей. Но Мемфис слишком долго полагался на реку и хлопок. Гилпин видит, что этому приходит конец. Не через десять лет, наверное. Но через двадцать. А пока, можно сказать, они покупают себе страховку. – Вы говорили, что он хитер. – Я был осторожен, быстрое развитие событий меня смущало. – Я не хочу, чтобы Гилпин впутал меня в еще одно мошенничество. – Это не мошенничество, старик, это симфония, – сказал Люциус Мортимер. – Он имеет в виду, что предприятие это не только финансовое, но и в какой-то мере идеалистическое. Оно принесет всем участникам только благо. Джимми Рембрандт заметил мое замешательство. Я так никогда и не сумел овладеть американским сленгом, хотя мои познания, конечно, увеличивались. Но все же, когда они говорили одновременно, я многого не понимал. Поздно вечером мы выехали из города и направились в Арлингтон. Джимми и Люциус сказали, что нам нужно отпраздновать событие. Взятый в аренду автомобиль оказался одним из лучших созданий Форда, хотя по сравнению с теми машинами, к которым я привык, он был вполне обыкновенным. В лучах лунного света мы свернули с главной дороги и медленно поехали по лесной тропе, которая вывела нас к большому дому. Он походил на старый южный особняк, с каменной верандой и мраморными столбами, хотя большая часть стен была изготовлена из красного кирпича. Окна прикрывали белые ставни. Здесь, по словам моих друзей, мы могли раздобыть приличную выпивку. Дом оказался чем-то вроде закрытого клуба, несомненно предназначенного для богачей. В нем, за исключением холла, не было общих помещений. Строго одетая леди средних лет проводила нас в комнаты, стены которых были задрапированы красным бархатом и темными сосновыми панелями. – Все оплачено, – загадочно сообщил Джимми. – Можете заказывать, что захотите. Я в очередной раз смутился, не вполне поняв, что значили эти слова. Помещение было красиво обставлено в стиле, напоминавшем о Франции эпохи Империи. Я обнаружил две или три небольших передних, из которых можно было пройти в главный зал, отделанную мрамором ванную и туалет. Окна не открывали, поэтому мир оставался где-то далеко, а в доме царили тишина и спокойствие. Я до сих пор не мог прийти в себя. Очевидно, мои друзья решили на некоторое время сохранить тайну – я был уверен, что они заметили мое смятение. – Полагаю, надо выпить шампанского. – Люциус ослабил узел галстука. – Даже если это немного преждевременно. Что скажете о приятном женском обществе, Макс? Только самое лучшее. Нам оказали честь, допустив сюда, знаете ли. Вообще-то, чтобы пройти в эти двери, вы должны быть сенатором или адмиралом лет шестидесяти. До меня наконец дошло, что мы оказались в дорогом публичном доме. Я слышал, что в Америке существовали места, куда деловые мужчины могли приехать, не опасаясь помех или скандалов. Предусмотрительность и ловкость современных американцев продолжали меня удивлять. Во всякой культуре есть особые тонкости, которые сложно постичь, пока сам с ними не столкнешься. Я провел свою первую ночь в американской столице, нюхая превосходный «снежок» и распивая посредственное игристое вино с восхитительной шлюшкой, румяной блондинкой в зеленом атласном белье. Она называла меня «милым» и говорила, что я «просто очаровашка». Девочки из Нью-Йорка – всего лишь обычные проститутки, которых можно найти в любом большом городе. Эти вашингтонские шлюхи были игрушками генералов и конгрессменов. Они находились на более высоком уровне. An oysnam fun der velt![364] Я никогда не испытывал такого наслаждения в борделе. Следующим утром Джимми Рембрандт спросил,понравились ли мне девочки. Sind die Russen und Polen Freunde?[365] Я узнал, как вознаграждается успех в Америке. Это помогло мне освободиться от бремени меланхолии. Мне было почти невыносимо думать об Эсме или о трудностях, с которыми бедному Коле приходилось сталкиваться в Париже, где он до сих пор отчаянно трудился, чтобы очистить мое имя. Но подобные мысли ни к чему не вели. Чем больше я буду развлекаться сейчас, тем лучше смогу действовать, когда придет время воссоединиться. Есть цена, которую нужно платить за такой способ выживания. Ich habe es dreifach bezahlt[366].Глава пятнадцатая
Ветер из Татарии разносит споры разрушения по всему миру. Сидя во дворцах, ужасно далекие от реальности безвольные султаны вызывают фантастически злобных духов, которые влияют на судьбы миллионов конкретных людей. Хорошо обученные гурии, вечно сосущие и ласкающие члены своих господ, подтверждают иллюзию абсолютной власти. Этот восточный ветер одурманил многих, однажды вдохнувших его. Ароматные потоки носятся по самым богатым торговым городам мира, убеждая людей в том, что им достаточно лишь заговорить об удаче, чтобы немедленно стать богатыми, достаточно только устроить причудливый заговор, чтобы тотчас обрести политическую власть. Сотни других людей могут увлечься этими фантазиями и таким образом обрести иллюзорную реальность. В Вашингтоне я вознесся на седьмое небо. Джимми Рембрандт и Люциус Мортимер сами слегка оторвались от земли, потому и не могли меня сдержать. Даже Чарли Роффи и Дик Гилпин вдохновляли меня, рассуждая сначала о тысячах, затем о миллионах и даже о миллиардах. Речь шла об издержках или о базовых расходах. Мои деньги, как они часто повторяли, не пригодятся. Ведь именно в Вашингтоне, месте настолько нереальном, что оно почти не казалось городом, я узнал: «кусок» – это валютная единица. Все говорили о «кусках» и «половинах кусков». «Куски» – это нечто неизмеримое. Они нужны, чтобы покупать мечты и впечатлять других величием этих мечтаний. Валюта стала настолько распространенной, что мысли об обычных долларах и центах представлялись почти вульгарными. Став служащим «Хлопкового консорциума Миссисипи и Теннесси», я обзавелся собственным банковским счетом, но практически не пользовался им: почти все делалось за чужие деньги. Вашингтон – скорее мираж, нежели город. Его почтенные памятники так тщательно сохраняются, внешность так важна для него, что все остальное кажется несущественным. Политические деятели и народ, который они якобы представляют, придают огромное значение внешнему облику. Иногда Вашингтон казался менее реальным, чем Вавилон Гриффита. Здесь я постиг истинный смысл политического лицемерия: в то время как федеральные агенты преследовали производителей самогона, заключали в тюрьму фермеров, неспособных заплатить налоги, и осаждали публичные дома, сенаторы Америки, конгрессмены, генералы и промышленники, финансисты и предприниматели упивались виски высшего качества и трахали разных девочек дважды в день. Они передавали друг другу неимоверные суммы, в то время же публично восхваляя бережливость и тяжелую работу, здравый смысл, справедливую оплату поденного труда. Они заполняли правительственные залы звучной риторикой, превращая самые невнятные эвфемизмы в железные истины. По вечерам они хвастались дружбой с бутлегерами и содержательницами публичных домов и продавали свои голоса тому, кто предлагал самую высокую цену. А тем временем Уоррен Хардинг (его убили, как только он начал понимать всю опасность коррупции) слепо улыбался, гордясь чистотой и благородством учреждений своей страны. Вашингтон – это грандиозные сооружения из белого мрамора, главная задача которых – производить впечатление и вызывать благоговение у тех невинных, чьи деньги пошли на постройку. Этот город – и опровержение демократии, и ее завещание. При всем богатстве строительных материалов, при огромном весе гранита и штукатурки Вашингтон иллюзорен. Почти у каждого наблюдателя в какой-то момент могло возникнуть ощущение, что город вот-вот пустится наутек, что он готов исчезнуть в любой момент. Я, по крайней мере, на время поддался чарам. Округлые ляжки хористок вздымались вверх, крошечные юбчонки разлетались в стороны, коротко стриженные волосы поражали почти так же, как яркие прекрасные улыбки девиц, хриплые стоны саксофонов заполняли залы, автомобили мчались из Монреаля, а катера прибывали из Мэна. Американцы узнали у европейцев, что можно противопоставить деньгам. Сделки могли совершаться в атмосфере двусмысленности; там, где были абстракции, были и кредиты. Разговоры стоили дешево и приносили огромные дивиденды. Ветер из Татарии проник в Новый Свет. Германия переступила черту – Вашингтон даже не обратил на это внимания. Вот какую цену страна заплатила за собственное безумие. Мы видели, как пухлые губы Рудольфа Валентино сжимали сигарету, мы пели слезливо-сентиментальную «Подержанную розу», мы изображали горе и отчаяние, которых большинство не понимало. Здесь никто ничего не понимал. Едва осознав это, Америка стала «великой державой» и все же ушла от ответственности. Экспортные товары отправлялись за границу, а капитал оставался дома, и выходило, что Европа оплачивала удовольствия Америки, а сама слабела и разрушалась. Прошло почти десять лет – и Америке был предъявлен счет. Прошло еще двадцать, прежде чем она этот счет оплатила. В своих огромных храмах, построенных в подражание грекам, но с египетским размахом, эти политиканы изображали римлян, но жили по принципам Карфагена. Их город – центр экономических преимуществ, окруженный внешними кольцами уменьшающегося богатства, кольцами, расходящимися все дальше и достигающими в конце концов огромных масс негров, населяющих полуразрушенные здания девятнадцатого века, лачуги и хижины, расположенные так далеко от лужаек и монументов, что они неким странным способом становятся невидимыми. Негры напоминали армию, бесцельно осаждавшую город, для нападения на который не было ни храбрости, ни сил. Их нельзя было нанять, от них нельзя было откупиться, их нельзя было изгнать. Они не изменились: они погрязли в выпивке и наркотиках, скулили свои ужасные блюзы, иногда посылали нескольких калек или женщин и детей в центр – просить милостыню. Большинство, как я выяснил, отказались от хорошей работы на Юге, решив, что здесь они получат гораздо больше. Обнаружив свою ошибку, они оказались слишком трусливыми, чтобы возвратиться к работе, которую могли исполнять лучше всего, – к ручному и механическому труду, такому, как сбор хлопка или монтаж автомобилей. Как бестолковые гунны, отставшие от орды, они жили за счет милостыни, поданной слишком добросердечными или слишком встревоженными людьми, не способными отказать им. Эти ленивые существа всегда казались мне загадочными. Они достаточно спокойны, но до тех пор, пока на них не подействует какой-то циничный белый, преследующий собственные цели. Если нужны еще какие-то подтверждения возрастающей слепоты и эгоизма Вашингтона, то вот самое главное – отказ принять меры для решения проблемы негров. (В конечном итоге они стали авангардом карфагенской атаки, пушечным мясом восточных командиров. Немногочисленные истинные патриции, наследники старинных южных семейств, предупреждали о последствиях, но общество было настроено против этих людей и против таких, как я, – нас осмеивали, изгоняли, грабили, пророческие видения чернили и уничтожали.) Я не претендую на звание великого пророка. Я никогда не верил в грядущую погибель. Да, я был оптимистом в те дни, я искал подтверждения собственной веры в цивилизацию. И найти их было довольно легко. Я верил, что, если люди доброй воли объединятся, справедливость в итоге одержит победу. Волна гедонизма, накатившая на Запад, непременно схлынет, когда люди позабудут о войне. Неужели могло быть иначе? Откуда я мог знать о разветвленном, сложном заговоре, главной целью которого было не что иное, как полное порабощение белой расы? Конечно, кое-кто уже обо всем догадался. Я читал статьи о растущей силе Рыцарей Огненного Креста. Меня увлекли их романтичные костюмы и ритуалы, но я предположил, что все общество – легенда времен Реконструкции, которую Гриффит использовал, чтобы оживить и наполнить смыслом свою изумительную аллегорию. Новость о том, что общество до сих пор существует, воспламенила мое воображение. В Вашингтоне немногие открыто разделяли мой энтузиазм, но немало людей в конфиденциальных беседах поддерживали клан. Эти политики, сидевшие в башнях из слоновой кости, с готовностью позволяли другим мужчинам облачаться в боевые одежды, садиться на коней и отправляться на битву. Но они только что предоставили право голоса женщинам (как всем известно, существам близоруким и терпимым) и теперь не желали высказываться публично. Они боялись потерять голоса и, как следствие, лишиться прав на безбедную жизнь в коридорах власти. Тем временем, впечатленный энтузиазмом своих молодых друзей, я решил использовать радиоволны на определенных частотах для управления аэропланами с центральной станции. Если направлять электрические импульсы к двигателям, запас энергии будет практически безграничным. Не нуждаясь в дозаправке, самолеты могли легко преодолевать расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, не приземляясь и перевозя более сотни пассажиров за один рейс. Возможно, самолет мог бы даже облететь весь мир без единой остановки! Когда вечерами мы расставались с компаньонами, я работал в своем гостиничном номере до двух часов ночи. Иногда я почти не спал, постоянно поддерживая силы кокаином и другими стимуляторами. Я не чуждался женского общества – нужно было как-то справиться с ужасным ощущением утраты, которое возникало всякий раз, когда я вспоминал об Эсме. Пока я не получил ни единого ответа из Парижа. Я думаю, что это и заставляло меня так усиленно работать. Мои мемфисские друзья, по их словам, делали успехи, добиваясь поддержки конгресса и частных вкладчиков. Приходилось дергать за ниточки и давать «на лапы», но они вскоре надеялись добиться желаемого результата. Кроме того, если мне станет скучно в Вашингтоне, я могу переехать в Мемфис. Они постоянно путешествовали туда-обратно. Я, однако, хотел остаться в столице. Джимми и Люциус повстречали политических деятелей, которым нравилось играть в карты, так что они тоже решили задержаться. Они всегда с готовностью знакомили меня с молодыми женщинами из офисов и магазинов, скучающими замужними дамами и восхитительными проститутками. У меня появилось множество непристойных партнерш, готовых на самые необычные сексуальные излишества. Я узнал, что в пуританской стране личное удовольствие прямо пропорционально общественной нравственности. Например, я провел Рождество в небольшом отеле близ Арлингтона совершенно голым в обществе шестерых других мужчин и более чем дюжины молодых женщин, две из них были квартеронками. К тому времени мои патенты подтвердили и зарегистрировали (но из Министерства внутренних дел пришел только вежливый ответ, а от министра торговли я не получил ничего). Чтобы хватило денег на особые расходы, которых не обеспечивали мои покровители, я продал коммерческие права на одно из своих мелких изобретений, беспроводной генератор для лечения ревматизма. Он достался бизнесмену-северянину, который позднее вывел мою машину на рынок и нажил состояние. Впрочем, я уехал из Америки к тому времени, когда появились его рекламные объявления. (Я случайно их увидел потом в старом журнале.) На следующий день после Рождества я отправился с Люциусом и Джимми на шоу Зигфельда[367]. Их беспокоило то, что я был слишком нетерпеливым, так как события развивались медленно. Я постарался переубедить своих друзей. Я уже научился ждать. В глубине души я считал, что авиакомпания – первый шаг на пути к тому, чтобы занять место Эдисона в пантеоне самых знаменитых и успешных изобретателей Америки. Джимми спросил, удобный ли у меня номер и обеспечен ли я всем необходимым. Я не хотел демонстрировать свой восторг: – О, все в полном порядке. Я – человек простых вкусов. – И, разумеется, у вас нет никаких финансовых проблем. Люциус рассмеялся: – Это должно беспокоить Макса меньше всего! Я был благодарен им за гостеприимство и не спешил разуверять в том, что обладаю собственными средствами. Даже с самым благодушным бизнесменом легче иметь дело, если производишь впечатление обеспеченного человека. Нехватку средств я объяснял весьма туманно, упоминая о проблемах с обналичиванием чеков, выписанных на иностранные банки. Из этого мои друзья сделали вывод, что я держу свои деньги в основном в Швейцарии. Я не стал их разочаровывать. Эти сведения, несомненно, дошли до мемфисских партнеров. Когда настанет время обсуждать доход и распределение акций, я буду в выигрышном положении. Все слышали историю металлургической компании, которую владельцы решили продать Дж. П. Моргану за пять миллионов, захотели сначала запросить десять, а затем услышали, что он даст им двадцать, прежде чем успели открыть рты. В Вашингтоне мне пришлось изучить основы бизнеса. Нужно было приноровиться к новому окружению, и поэтому не следовало забывать об условностях и правилах. Отцы-пилигримы приравняли набожность к материальному богатству. Сказать янки, что ты беден, почти так же плохо, как признаться отлученному от Церкви, что ты католик. Вдобавок почти все считают, что богатый иностранец существенно отличается от бедного. Возможно, благодаря моей осторожности и сообразительности, а также любезности Роффи и Гилпина я не испытал затруднений, когда понадобилось продлить мою визу. Канун Нового года и мой день рождения стали одной непрерывной вечеринкой где-то в Мэриленде. Меня окружали известные светские люди, политики и военные. Я мало что могу вспомнить, за исключением того, что занимался любовью с одной леди, в синем кружевном платье, за диваном и с другой, в желтом платье, на ковре в библиотеке. После недавнего радиовыступления президента Хардинга с Арлингтонского кладбища все заинтересовались моими идеями насчет радио. Потом началось что-то вроде протеста против воздушных путешествий – все началось с катастрофы «ZR‑2»! в Англии, когда судно рухнуло и в огне сгорели, помимо прочих, шестнадцать американцев. Люди заговорили [368] о том, что коммерческие перелеты – дело далекого будущего. В настоящее время они слишком опасны. Я возражал. Мои проекты были настолько передовыми, что подобные несчастные случаи попросту исключались. Радиоуправление позволило бы повысить уровень безопасности моего самолета. В те недели, на рубеже 1922 года, я рассказывал о принципах действия радиоволн десяткам выдающихся людей. Я приобрел известность в Вашингтоне, меня часто приглашали на вечеринки или тихие обеды, чтобы поговорить о науке и ее будущем. Меня упоминали в светской хронике как Макса Питерсона. Меня считали авторитетом и цитировали во многих статьях о будущем, подобные которым, кажется, всегда появляются в газетах в начале года. Обычно меня описывали как профессора Макса Питерсона, известного французского летчика и изобретателя. У меня до сих пор хранятся эти статьи из «Джексон экзаминер», «Вашингтон уорлд», «Делавэр диспатч», «Ист-Тексес дефендер» и многих других ведущих журналов. Цитаты не всегда были точными, мое имя иногда писали с орфографическими ошибками, но это доказывало и мне, и другим, что я добился определенного положения в Америке. Чарли Роффи и Дик Гилпин порадовались моей растущей известности, когда вернулись из Мемфиса в конце месяца. Это могло им помочь. Они также пострадали после крушения «ZR‑2». Но полет Стинсона и Берто1 на моноплане и рекорд непрерывного пребывания в воздухе (более двадцати шести часов) существенно улучшили положение, как и новый рекорд высоты. Мы теперь с огромной скоростью приближались к финалу, сказал Роффи. В любой момент из Капитолия мог поступить сигнал. Мне следовало серьезно подумать о том, чтобы собрать вещи и переехать в Мемфис. Я был готов расстаться с Вашингтоном. У меня все еще оставалось несколько сотен долларов в запасе после продажи патента, но Джимми Рембрандт остался без средств раньше меня, и я ссудил ему пять сотен. Вдобавок некая замужняя дама, жена сенатора из Новой Англии, начала преследовать меня в отеле – она звонила в неподходящее время и угрожала, что обвинит меня в изнасиловании и потребует моей высылки, если я не соглашусь с ней встретиться. Я не хотел оказаться жеребцом, которого могли использовать как угодно, вопреки его воле. Покинув город, я избавился бы от всех затруднений. Женщина перестала бы [369] мешать моей работе, которая уже подходила к завершению. Я подготовил технические спецификации и схемы будущего передатчика радиоволн. Во время следующего визита Чарли Роффи спросил, получится ли у меня выехать в Мемфис к третьему февраля. Я заявил, что буду в его распоряжении. Казалось, он очень волновался. Все было улажено, кроме незначительных документов. Наше авиационное предприятие могло стартовать меньше чем через месяц. Мне не понадобилось много времени, чтобы привести в порядок дела. Я зарегистрировал свое новое изобретение. Я еще раз написал Эсме и Коле. Было опасно связываться со мной напрямую, но сообщение можно передать через миссис Корнелиус. Я написал своей подруге-кокни, сообщил, как идут дела, и пожелал ей удачи. Моя звезда вот-вот взойдет в Теннесси. В ближайшее время у меня, несомненно, появятся собственный особняк и плантация. Она может разыскать меня под именем полковника Питерсона в «Адлер апартментс», Линдон-стрит, Мемфис, Теннесси, где Дик Гилпин снял для меня комнаты. Тем вечером я в последний раз поужинал со своими юными благодетелями. Сами они возвращались в Нью-Йорк по делу. Они сказали, что при первой же возможности попытаются увидеться со мной в Мемфисе. Мы неизбежно встретимся в ближайшем будущем, заверил Джимми. В конце концов, мы по-прежнему оставались «тремя мушкетерами». Пятьсот долларов он мне обещал прислать через несколько дней. Третьего февраля 1922 года я сел в пульмановский вагон, который обслуживала Южная железнодорожная компания. Всего через сорок пять часов я оказался в «городе Нового Нила» – так его назвал Марк Твен. Падал легкий снег. Завернувшись в медвежью шубу, чувствуя прилив уверенности, когда моих бедер касались казацкие пистолеты, я сидел в отдельном купе. Я воображал себя первопроходцем девятнадцатого века, собирающимся исследовать девственный континент. Я устал от Вашингтона и его декадентских радостей. Я с нетерпением ждал более суровых удовольствий Мемфиса. Прозвенел звонок. Поезд зашумел. Позже, в сумраке, я прошел в технический вагон. Позади меня как будто рушились огромные памятники и колонны. Колея превратилась в две тонких черных линии в неясном пространстве, которое постепенно становилось все более хаотичным. Вскоре перед глазами у меня остался только движущийся занавес снежной бури, он скрывал одну мечту так, чтобы ее могла заменить другая.Глава шестнадцатая
Река Миссисипи, столь же судоходная и широкая, как Волга, столь же важная для американской истории, как Днепр для нашей русской, вилась среди невысоких холмов. Увидев ее, я вздрогнул, словно мне открылась давно знакомая картина. Я как будто никогда не уезжал из России. Когда я поднялся с постели и выглянул в просвет между шторками, едва не поверил, что еду на поезде в Киев. Все пережитое с 1917 года показалось одной долгой лихорадочной галлюцинацией. Потом появились рекламные щиты и вывески на английском, и в сиянии рассвета мы свернули к предместьям Мемфиса. Ряды жалких, некрашеных лачуг внезапно сменились пустыми пространствами, посреди которых возвышались грандиозные викторианские здания, украшенные резьбой по дереву в подражание готическим соборам и французским замкам. И все тонким слоем покрывал снег. По-прежнему сохранялось впечатление, что я находился в предреволюционной Украине. Здания в пригородах были низкими, а улицы – широкими. Трамвайные вагоны, элегантно отделанные медью и неброско покрашенные, ровно катились вдоль рядов голых деревьев. Ярко расцвеченные фронтоны и ставни были бы уместнее в маленьком поселке, а не в большом городе. И вот среди тумана в лучах восходящего солнца появились более высокие здания. Когда поезд сделал поворот, я увидел ряды огромных пароходов с боковыми и кормовыми колесами, пришвартованных к причалам, на которых лежали горы товаров. Я мог бы поверить, что оказался в Нижнем Новгороде, если б не острые баптистские шпили, занявшие место наших православных луковичных куполов. Кроме того, машин здесь было гораздо больше, чем в русских городах. Следовательно, больше было и шоссейных дорог. Клубы темного дыма растворялись в тумане. Тишина постепенно уступала место звукам оживленного торгового порта, который готовился к началу трудового дня. Потом иллюзия дружелюбия исчезла – появились бригады негров, которые дымили короткими трубками и перебрасывались шутками. Они направлялись к пристани от железнодорожных путей. Я к тому времени уже привык к черным лицам, но иногда они все-таки появлялись в неожиданных местах и обстоятельствах. Все слуги на Юге были темнокожими, от проводника в поезде до аккуратного извозчика, которого послали, чтобы довезти меня от станции до гостиницы. Он сказал, что его зовут Гибсон. Извозчик носил старомодное коричневое пальто с медными пуговицами и белые перчатки. Говорил он низким, ровным голосом, который удивительным образом отличался от монотонного ритмичного скулежа швейцаров, разносчиков газет и других бездельников, которые носились повсюду, подпрыгивая почти по-звериному. На северо-востоке негры так себя не вели. Я решил, что они какой-то другой породы. Экипаж проехал по Мэйн-стрит, через весь город, оказавшийся куда современнее, чем я ожидал; повсюду продолжалось строительство. Хотя здешние небоскребы и не достигали такой высоты, как в Нью-Йорке, но я увидел несколько зданий в четырнадцать этажей. Трамваи, электрическое освещение, яркие вывески, автомобили, универмаги и многочисленные рестораны – все производило то самое успокоительное впечатление, которого мне не хватало в Вашингтоне и которое ярко проявилось в Нью-Йорке. Относительно небольшой Мемфис был все-таки настоящим городом. Коляска остановилась возле «Адлер апартментс» на Линден-стрит. С одной стороны от входа располагался офис «Вестерн Юнион». Увидев его, я очень обрадовался. Здесь мои вещи передали двум швейцарам, а белый управляющий приветствовал меня и показал номер, расположенный на втором этаже. На мистере Бэскине был темный габардиновый костюм, в руках он держал шляпу и пальто. Он пояснил, что у него назначена встреча. Управляющий продемонстрировал мне все удобства, пожелал приятного пребывания в Мемфисе и вежливо заметил, что он всегда к моим услугам, если что-то понадобится. К полудню горничная приготовила одежду, и я смог вымыться и привести себя в порядок. Потом я надежно спрятал свои чертежи и решил позавтракать. Мемфису недоставало нью-йоркского блеска и вашингтонского скромного обаяния, но у этого города была своя привлекательная атмосфера, которая мне показалась очень приятной после нескольких месяцев ирреального существования в столице. Свернув с Линден-стрит на Мэйн, я прогулялся мимо кинотеатра, театра, крупных магазинов и общественных зданий. Это успокаивало меня, как и сеть знаков и вывесок, рекламировавших все – от табака до красок, от лекарств до электротоваров. В очаровательном недорогом ресторане с немецким названием я попробовал местные блюда, которые ничем не напоминали европейские. Так я впервые отведал коровий горох и кукурузный хлеб, что было неизбежно. Сладковатой густой белой подливкой полили и цыпленка, и картофель. После еды я почувствовал себя кораблем, до самых бортов загруженным балластом. С трудом переводя дух, я вернулся в «Адлер». Швейцар приветствовал меня, назвав полковником Питерсоном. Эти цветные слуги были невероятно трудолюбивы, добросовестны и исполнительны. Самое ужасное, что могли сделать люди, – это пробудить в них недовольство (как показал Гриффит в «Рождении нации»). Статус-кво действовал превосходно. Кроме того, я не испытывал предубеждения по отношению к жителям Мемфиса. У меня не возникло затруднений в ресторане, хотя мой акцент было трудно распознать. Здесь еще сохранилось старомодное южное гостеприимство. В ближайшие недели я обнаружил, что люди готовы признать мой акцент каким-нибудь местным вариантом английского или французского. Конечно, надо мной иногда подшучивали, замечая, например, что я говорю так, будто держу яйцо во рту, но я почти не сталкивался с подозрительностью, которую проявляли на юге ко всем иностранцам. Южане были так же любопытны, как и прочие американцы, но никогда не обижались, если слышали в ответ, что вы не сможете ответить на какие-то вопросы. Я почти всегда с готовностью отвечал им, пускай и не всегда правдиво. Мне пришлось принять предложение Джимми и Люциуса, хотя, возможно, их стремление выдумать для меня более подходящую маску и привело к некоторым нежелательным результатам. Я не хотел их смущать. Вернувшись в «Адлер», я улегся в кровать и просмотрел «Мемфисский коммерческий вестник». Большая часть материалов мне показалась непонятной. Однако я с интересом обнаружил, что в городе уже шли разговоры о необходимости постоянного аэродрома. Я не совсем понимал, что делать в Мемфисе, но решил, что лучше подождать, пока я не получу новостей от мистера Роффи или от мистера Гилпина. Номер был достаточно удобным, хотя немного старомодным по нью-йоркским стандартам. В моем распоряжении находились спальня, гостиная, ванная и гардероб. Набор услуг оказался невелик, но можно было питаться самостоятельно. Я впервые столкнулся с таким явлением, как самообслуживание. Меня это вполне устроило, хотя я был не очень опытен в приготовлении чая, кофе и прочего. Все-таки я умел приспосабливаться и потому быстро всему научился. Горничная, заверил меня мистер Бэскин, за небольшое вознаграждение охотно приготовит завтрак. Теперь, когда первоначальное волнение улеглось, мое настроение снова начало портиться. Вновь появились мысли об Эсме, Коле, матери и капитане Брауне. В качестве утешения я принялся сочинять письма, излагать обстоятельства своего путешествия через Ноксвилл в Мемфис, рассказывать о знакомстве с рекой Гекльберри Финна и с южанами. Я написал несколько таких писем, и тут в дверь номера постучали. Я встал из-за стола, чтобы открыть дверь. Передо мной стоял Чарли Роффи, восторженный и извиняющийся. Его живот поднимался и опускался, лицо раскраснелось после подъема по лестнице. – Мне так жаль, что мы не смогли встретить вас на станции, полковник. Вы, должно быть, считаете нас невоспитанными проходимцами. Мы с Диком возвращались из Джексона и немного задержались. Я очень надеюсь, что вам все понравилось. Я ответил, что всем доволен. И предположил, что могут возникнуть некоторые незначительные трудности, связанные с квартирой, и, вероятно, позже мне понадобятся советы по мелочам, но сейчас я был уверен, что через пару дней почувствую себя настоящим аборигеном. – Конечно, так, сэр. Если нужно, мы подыщем для вас слугу. Еще что-нибудь вам требуется? Наличные? – У меня сейчас вполне достаточно средств. – Я замялся. – Было бы недурно, если бы вы указали мне, где можно найти… общество. Он был удивлен. – Мы не такие отсталые, как хотят думать некоторые. Нужно соблюдать осторожность, и, я уверен, вы это оцените. Чем меньше город, тем больше в нем глаз, да? Но, конечно, все можно устроить. Теперь, скажите мне, привезли ли вы свои проекты? – Они в этом ящике. – Роскошно! – Чарли Роффи опустил подбородок и надулся, как петух, а потом посмотрел на меня искоса. Его розовые губы изогнулись в улыбке. – Я по-настоящему рад нашей встрече, сэр. Это истинная удача. Это судьба. Мемфис скоро будет на подъеме. Он стремится двинуться в будущее как можно быстрее. Это самый лучший момент для нашего объединения. Скажите, сэр, не хотите поужинать со мной и Диком Гилпином чуть позже? Я сказал ему, что с удовольствием приму приглашение. Я заметил, что подражаю любезности пожилого человека. Его поведение было волнующим напоминанием о моем прошлом. Южная вежливость очень убедительна и зачастую, как ни странно, агрессивна. Она свидетельствует о тщательно сохраняемой культуре и о стремлении к поддержанию порядка. Она становится вызовом посторонним при том, что кажется чем-то совершенно противоположным. Как я обнаружил, южане могли порицать собственные грубые нравы, и это самоуничижение свидетельствовало о подлинном высокомерии. Такое часто встречалось в культурах, которые со всех сторон подвергаются нападкам, – я тотчас признал это свойство. Южане разделяли нашу русскую привязанность к колоритной речи и красочным выражениям, и поэтому здесь я мог чувствовать себя более непринужденно. Мне редко приходилось высказывать свое мнение – они как будто всегда заранее принимали мое согласие, и это, конечно, оказалось очень удобно. (Как выяснилось, разногласий между нами вообще практически не было.) – Я зайду за вами около шести, – сказал Чарли Роффи перед уходом. – А пока вам стоит осмотреться. Снаружи стоит такси. На меня вновь произвело впечатление его южное гостеприимство. Я решил отложить оставшиеся письма на потом. Как и во многих городах, основу жизни которых составляла речная торговля, истинным центром Мемфиса были пристани. У реки стояли склады, затем располагались конторы, потом магазины, отели, разные заведения, общественные здания. И поодаль находились жилые районы, от бедных черных до богатых белых. Я осмотрел захудалую Билл-стрит и соседние улочки, с их ломбардами, убогими кафе и магазинами подержанной одежды, – здесь не было для меня ничего интересного. Вида волочащих ноги чернокожих и воплей каких-то ужасных младенцев оказалось вполне достаточно – я удержался от дальнейшего изучения этих мест. Я не мог (и до сих пор не могу) разделить сентиментальное восхищение исполнителями дикарских песнопений и рабских причитаний, которые свободно и безнравственно живут на омерзительных улицах. Еще в сороковых я встречал людей, которые интересовались, встречал ли я Мемфис Минни или У. К. Хэнди[370]. Я отвечал им, что никогда не видел и не слышал ни этих, ни других крикливых негров. Только поколение, пресытившееся всеми мыслимыми и немыслимыми ощущениями, могло сделать своими героями и героинями несчастных наркоманов и алкоголиков, которые (по большей части вполне заслуженно) умерли в молодом возрасте. А что касается их белых подражателей – они предали свое прошлое. А теперь я вижу, что они поставили статую какой-то Слепой Дыни на городской площади и назвали улицу в честь женоподобного дервиша Пресли[371]. Когда я был в Мемфисе, он воплощал все лучшие свойства Юга. Теперь, очевидно, он вобрал все худшее. Там, где белые подражают черным, Карфаген одержал победу. Неужели современный Мемфис пал под давлением восточного shmaltz[372]? Он пошел по пути других? Неужели они устроили декорации из пластика и штукатурки, чтобы воплотить какие-то ностальгические фантазии, и ради этого уничтожили величественный камень и роскошный мрамор? Те огромные кирпичные дома свидетельствовали о заслуженном успехе и древнем богатстве, о национальной гордости и общественном статусе. По центральным улицам тянулись телефонные провода, электрические линии рассекали небо повсюду, куда ни бросишь взор. Трамваи пели, как колокола Нотр-Дама, а огромные пароходы выводили на реке свои печальные мелодии. Хлопку, основе жизни Мемфиса, угрожал искусственный шелк. Некогда Мемфис кормил докеров Ливерпуля и рабочих Манчестера, и те, в свою очередь, вознаграждали его. Самый большой отель в Мемфисе назвали в честь английского филантропа Пибоди, имя которого до сих пор красуется на лондонских домах Пибоди. Мемфис не был провинциальным поселением, которое можно разрушить одним-единственным дуновением экономического ветра. Мемфис пережил один долгий период процветания и теперь готовился пережить следующий. Здесь могли построить первый муниципальный аэропорт. В конечном счете в результате таинственных исторических и географических процессов город стал бы медицинской столицей Юга, здесь появились бы десятки больниц, медицинских училищ, клиник и исследовательских центров. В путеводителях написали бы, что деятельность основных предприятий Мемфиса когда-то была связана с хлопком, а теперь – с болезнями и их лечением. Мое объяснение связано с целебными свойствами грязи Миссисипи и ее сходством с грязью, обнаруженной в лиманах старой Одессы до революции. Иногда я представляю, что Мемфис превратился в тысячу невыразительных белых небоскребов, окружающих несколько акров идеального негритянского города, заключенного в герметичную оболочку. Туристы приезжают туда, чтобы послушать играющих на банджо негров, которые стенают о своих печалях за сто долларов в день. В других случаях я воображаю, что ничего не изменилось, что я снова иду по Мэйн-стрит так же, как в первый раз. На улице оживленное движение. Гудят клаксоны, ржут кони, грохочут и лязгают трамваи и автобусы, а полицейские из последних сил пытаются справиться с потоком автомобилей и экипажей. Я помню, как мой возница, спокойно пожимая плечами, удерживал свою лошадь. Он сказал, что такое скопление необычно, но его никак нельзя предвидеть. Он предложил мне пройти несколько кварталов до отеля пешком, если я спешу. Время шло к шести. Так как вознице уже заплатили, я дал ему хорошие чаевые и пожелал удачи. Мне нравилось пробираться по этим переполненным городским улицам. В отличие от Вашингтона, Мемфис был естественным городом. Он вырос спонтанно, как только возникла экономическая необходимость. Если Нью-Йорк воплощал будущее, то Мемфис – знакомое настоящее. Я двигался среди крикливых водителей и увертливых пешеходов, и меня переполнял восторг. Слишком долго я жил в одних только столицах. И вот наконец передо мной город, основу которого составляет не древняя сила, не монументы, а жители. Здесь я не чувствовал подавленности. Действительно, казалось вполне возможным, что я завоюю Мемфис. Возможно, здесь я смогу найти новую отправную точку, как нашел ее в Киеве. Я родился в городе, обязанном своим существованием реке. Поэтому я легко мог добиться успеха в Мемфисе. Тем вечером я ужинал со щедрыми джентльменами, Роффи и Гилпином, в ресторане под названием «Янсенс», неподалеку от моей гостиницы. Пища была самой обыкновенной, но здоровой и, похоже, очень нравилась моим хозяевам. С ними пришла молодая особа, и я поначалу подумал, с некоторым восхищением, что она станет моей спутницей. Пандора Фэрфакс была ясноглазой темноволосой невысокой женщиной, которая отличалась дерзостью и самоуверенностью. Она немного напоминала Зою, девочку-цыганку из моего детства. К своему удивлению, я узнал, что она была летчицей. Она недавно приехала в Мемфис, чтобы выступить с показательными полетами. Теперь миссис Фэрфакс хотела поселиться здесь. Она и ее муж были летчиками. – Мы гастролировали в провинции, – сказала она, – но думаем, что пора с этим кончать. Чарли Роффи просиял: – Иначе ваши зубы могут очень скоро расшататься. – Он тотчас пояснил: – Самый известный трюк мисс Пандоры – она висит в воздухе, сжимая зубами трапецию, которая крепится к самолету ее мужа. Она также совершает прогулки в воздухе по крылу самолета и прыжки с парашютом. Это произвело на меня впечатление. Мисс Фэрфакс была привлекательна и интересна. Она пожелала услышать мои собственные рассказы о полетах. Чем я управлял, какой машиной? Я постарался ответить как можно обстоятельнее. Она сказала, что завидует моему опыту с «эртцем» («Хотя это, судя по всему, та еще болванка»). Я мог полетать на их «де хэвилленде DH‑4», если захочу. Тронутый ее великодушием, я сказал, что заберусь в кабину в мгновение ока, если когда-нибудь представится возможность. Гилпин уже рассказал ей о новом аэропорте и о самолете, который я спроектировал. Миссис Фэрфакс захотела посмотреть мои чертежи. – Вы сможете изучить их, как только пожелаете, – сказал я. Она и ее муж как раз пытались создать частный аэродром, но наши планы идеально дополняли друг друга. – Чем нас больше, тем веселее, – произнесла она. Миссис Фэрфакс ушла рано. Пожимая мне руку, она тепло улыбнулась: – Надеюсь, что мы сможем помочь друг другу, полковник Питерсон. Когда миссис Фэрфакс удалилась, Дик Гилпин с восторгом заговорил о ней. В этой части страны ее знали все. Она начала работать машинисткой, но выучилась летать всего через несколько дней офисной работы. – Она оказалась прирожденной летчицей. Ее муж – военный ас. Вы, возможно, даже встречались с ним. Я сказал, что не могу вспомнить никого по фамилии Фэрфакс. – Прекрасный человек, – сказал Чарли Роффи, предлагая мне большую сигару. – И здравого смысла у него побольше, чем у других летчиков. Дик Гилпин сказал, что, если я не возражаю, они договорятся об интервью для «Коммерческого вестника». Газета была лучшей в Мемфисе. Журналисты, возможно, захотят поместить мою фотографию в мундире. Я с готовностью согласился. Чарли Роффи сказал, что это очень поможет их делу. Он спросил, можно ли зайти ко мне около девяти следующим утром. Я предоставил себя в его распоряжение. – Я здесь ваш гость, – сказал я, – и хочу делать то, что лучше всего послужит нашим общим интересам. Мои друзья высадили меня возле «Адлер апартментс», а потом уехали. Впервые за много месяцев я отправился прямиком в постель и немедленно погрузился в сон. Мне снился Мемфис, возносящийся над рекой на серебряных облаках, а я был капитаном, который прокладывал курс над прериями Канзаса и Дакоты. Старый Шаттерхэнд[373], охотник на буйволов, облаченный в оленьи шкуры, стоял рядом со мной, держа в руках свое длинное ружье. Прерии будут снова принадлежать странствующим городам Америки, и смерти не станет. В Мемфисе я не мог увидеть Бродманна, не мог принять его за Берникова. Берников мертв, его искалеченное тело лежало на мощеном причале в Батуме. Как Бродманн может догнать меня? Он был евреем и коммунистом. Ему никогда не позволили бы проникнуть сюда. Бород снижается и разворачивается, когда я направляю его к солнцу. Свет слепит меня. Что такого обнаружил я в городе собак, чего так хотел Бродманн? Снова виден горизонт. Saat kactir? Jego widzialem, ale ciebie nie widzialem[374]. Мечта всегда уводит на Запад, она всегда совсем рядом. Конечно, все кончится у моря. Я отважный человек. Я могу вести корабль. Я понимаю наше положение. Но что же это за поиски? Я должен сосредоточиться. Мы падаем. Я чувствую слабость. Ich will nicht Soldat werden![375] Как Бродманн мог мне навредить? Они думают, что кусок металла сделает меня их рабом? Я не стану мусульманином. Я враг султанов. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein[376]. Gibt es etwas Neues?[377] Я не поеду в Берлин. После завтрака я отправился в редакцию газеты. Журналист, который брал у меня интервью, сказал, что статья выйдет в следующем номере. Что я думал о Мемфисе? О Юге? Они прекрасны, заявил я, и люди здесь очень воспитанны. Он спросил, где я жил в Англии. В Уайтчепеле, сообщил я (я был почти уверен, что знаю эти места, так часто о них говорила миссис Корнелиус). Он спросил, похож ли Уайтчепел на Мемфис. Я ответил, что есть некоторые примечательные общие черты. Река, конечно, и количество негров. Репортер хотел, чтобы я уточнил. Но мне пришлось ограничиться заявлением, что наши негры вели себя прилично и работали в основном в доках и общественных туалетах, которые широко распространились в Лондоне, – это часто отмечали путешественники, Все было достаточно близко к правде, в конце концов. Мои фантазии зачастую предвосхищали реальность. Интервью утомило меня сильнее, чем я предполагал, и после обеда я с превеликой радостью сел в машину Пандоры Фэрфакс и поехал знакомиться с ее мужем. Он оказался высоким человеком с орлиным профилем, небольшие шрамы на правой щеке только подчеркивали его обаяние. Как и многие ветераны-летчики, он был не слишком разговорчив и вел себя достаточно скромно. Это вызывало симпатию и в то же время подчеркивало его значительность. Мы поговорили об ужасных боевых вылетах во время войны. Он управлял главным образом английскими самолетами, а также парой французских и американских машин. Он выразил надежду, что я останусь на ужин. Тем вечером сам я говорил очень немного, но старался побольше вытянуть из Генри Фэрфакса. Точнее, я задавал ему вопросы, на которые в основном отвечала Пандора. Он был родом из Миннесоты и больше всего на свете любил те края. Жители Мемфиса относились к самолетам без всякого предубеждения. Во время войны неподалеку располагалась авиабаза, и местные обитатели уже повидали самые разные летающие машины. Он недолго преподавал на авиабазе. Капиталовложения в Мемфис – это очень хороший выбор. Здесь люди куда прогрессивнее, чем думают многие чужаки. Было бы глупо рассказывать ему, что инвестировать мне нечего, за исключением таланта. Если местные жители решат, что я приехал, чтобы вложить деньги в их город, они будут относиться ко мне гораздо дружелюбнее. Фэрфаксы спросили, как давно я знаю Гилпина и Роффи. Я упомянул, что мы познакомились в Вашингтоне в прошлом году. Генри Фэрфакс проявил интерес к моим друзьям. Мистер Роффи связался с Фэрфакеами совсем недавно. Он хотел, чтобы они поддержали проект аэропорта. Некоторые думали, что его можно устроить на Мад-Айленде, который находится поодаль от причалов. Я ничего об этом не знал, но высказал сомнение: – Не знаю, достаточно ли велик остров. Расширение аэропорта в будущем может оказаться почти невозможным. Они согласились. – Но земля в Мемфисе не очень дешевая, – сказала Пандора. – Есть проекты строительства нескольких крупных отелей и других зданий. Вы, вероятно, видели, как идут работы. Все говорят, что Мемфис будет быстро расти. По крайней мере, все этого ожидают. – Мы и сами так думаем, – заметил ее муж. Она рассмеялась: – Я называю это просто – воспользоваться случаем. Небольшой деревянный дом в пригороде Мемфиса казался почти деревенским. У Фэрфаксов было электричество, но сейчаскабель порвался, и они освещали комнаты керасиновыми лампами. Это было очень приятное чувство – я как будто вернулся назад в прошлое, чтобы побеседовать о чудесах будущего. После ужина зашел знакомый хозяев, еще один летчик, майор Александр Синклер. Вел он себя очень просто, говорил прямо, но причины его визита показались несколько загадочными. Он недавно приехал из Атланты. Я спросил, знает ли он Тома Кэдвалладера. «Только по слухам», – сказал он. Майор вел себя слегка отчужденно, хотя, очевидно, прилагал все усилия, чтобы выглядеть общительным. Позже, после порции хорошего самогона, он проникся ко мне теплыми чувствами. Майора заинтересовало, что я был авиатором во Франции. Он, очевидно, успокоился, когда речь зашла о католической церкви, и я заявил, что, по-моему, папе римскому придется за многое ответить. Только очень сильный человек, вставший на антиклерикальные позиции, мог спасти Италию. Синклер упомянул о собственных приключениях в Европе и спросил, знаю ли я кого-то из его уцелевших товарищей. Я честно ответил, что летал преимущественно на Восточном фронте. Я находился в Экспедиционном корпусе союзников во время русской гражданской войны. Майор проявил огромный интерес к тому, что я думал о большевиках и евреях. Я довольно долго и откровенно высказывал ему свои суждения, оправдываясь, что он задел меня за живое. Но Синклер пришел в восторг: – Вам не следует сдерживаться в разговоре со мной, полковник. Я полностью разделяю ваши взгляды. Задумывался ли я когда-нибудь о выступлении перед обширной аудиторией на тему опасностей католицизма и большевизма? Я сказал, что любое предупреждение, которое я могу дать американскому народу, будет искренним и основанным на реальном опыте. – Но я скорее человек действия, а не слова, майор Синклер. Уже было очень поздно, и я заметил, что хозяева устали. Майор настаивал на том, чтобы отвезти меня в Мемфис, несмотря на то, что он собирался остаться у Фэрфаксов. Я несколько эгоистично принял его предложение. Мы сразу привязались друг к другу – подобное иногда случается с людьми, которые не имеют как будто ничего общего между собой. Мы оба, однако, были интеллектуалами, которые «верили в действие вместо плача», как выразился Синклер. Он высадил меня возле «Адлерс апартментс» в два часа утра, записал мой адрес и сказал, что будет ждать нашей следующей встречи. На сей раз я ложился в постель в гораздо лучшем настроении, чем прежде. Новые друзья произвели на меня превосходное впечатление, особенно майор Синклер. Это были люди, с которыми очень удобно работать: проницательные молодые американцы, готовые к столкновению с опасностями современного мира и в то же самое время способные использовать в своих интересах огромные возможности, которые им открываются. Потом я снова оказался в положении какой-то светской знаменитости. В ближайшие дни я познакомился с другими жителями Мемфиса, молодыми и старыми, проявлявшими серьезный интерес к будущему своего города – и к будущему всего христианского мира. Сложившееся на Севере впечатление, что в южных областях люди старомодны и медлительны, оказалось совершенно ложным. Жители Дикси могли придавать огромное значение историческим традициям, но они верили в современные технологии и новые идеи. Все, чего им до сих пор не хватало, – это финансы, ведь с самого начала гражданской войны северные промышленники систематически обирали Юг. Американской экономикой до сих пор управлял Север, центром которого был Нью-Йорк. Владельцы плантаций, которых принуждали выращивать огромное количество хлопка, в самые урожайные годы узнавали, что их цены слишком высоки. Таким образом Нью-Йорк и Чикаго получали дешевое сырье. Но я прекрасно знал: если побежденной стране иногда недостает материальных богатств, то их недостаток зачастую компенсируется глубокой духовностью и величественной гордостью. Эти качества могли показаться нелепыми негодяям и саквояжникам, так точно изображенным мистером Гриффитом, но в итоге они всегда намного важнее бесчисленных предприятий с потогонной системой и вертящимися машинами. Эти качества дают людям способность ждать. Исключительное упрямство позволяет им определять сроки, выбирать нужные моменты, отыскивать особые методы действия. Я начал понимать, в какой мере это относилось к Мемфису. Не забывая о принципах, во имя которых местные жители участвовали в великой войне, город теперь готовился к тщательно продуманному движению вперед на всех фронтах. Мне это напомнило об Италии, которая очень долго страдала от папской тирании, а теперь готовилась ровным, спокойным шагом войти во вторую четверть двадцатого века. Адские фабричные города с Севера, городская беднота, нищенские условия, которые, как и в русских городах, стали причиной анархии и волнений, – все это не для Мемфиса. Мемфис собирался перейти от хлопка и мулов к инженерному делу и сфере услуг. Здесь малочисленные рабочие силы могли существовать в идеальной окружающей среде, производя то, за что охотно заплатит весь мир. Я пользовался доверием самых влиятельных людей города. К моим мнениям прислушивался «Босс» Крамп[378], которого все признавали важнейшим человеком в Мемфисе: харизматичный человек, наделенный огромной политической энергией и блестящей способностью вникать в суть дела. Его единственная ошибка заключалась в том, что он повернулся спиной к людям, которые очень хотели ему помочь. Но, если б не эта единственная ошибка, он мог бы стать настоящим южным Муссолини. Суждения «Босса» по негритянскому вопросу были просто гениальными. Они существенно расширили мой кругозор. Его планы на независимость Юга намного опередили свое время. Еще один дальновидный человек был тогда ведущим бизнесменом Мемфиса, создателем сети современных супермаркетов «Пигли Вигли». Он возводил для себя великолепный мраморный особняк розового, как свиная кожа, цвета возле Овертон-парка и однажды днем пригласил меня осмотреть наполовину построенный дворец. Евреи погубили его прежде, чем он успел поселиться в своем особняке. Звали этого человека, разумеется, Кларенс Сондерс[379]. Я помню, что он проявил особый интерес к моим проектам автоматического магазина самообслуживания с электрическим управлением. Я полагаю, в конце жизни, продолжая отважно сражаться с объединенными силами Карфагена, которые к тому времени почти уничтожили страну, он попытался реализовать мою мечту. Однако его силы были подточены Великой депрессией. Люди, казалось, думали, что это какая-то природная катастрофа, вроде засухи или землетрясения. Спросите любого украинца, был ли землетрясением Сталин. Но то были мои золотые деньки, и даже бремя страданий, вызванных разлукой с Эсме, стало значительно легче. Я делился своим видением будущего со множеством сочувственно настроенных людей. Я никогда не испытывал прежде ничего подобного. Я всегда чувствовал себя изолированным, одиноким пророком, окруженным лишь несколькими добрыми друзьями, которые, подобно Коле, поддерживали меня, не до конца понимая мою мечту. Мы хотели построить более крупный, более роскошный, более рациональный Мемфис, создать центр культурного и финансового возрождения Юга. Мемфис должен был стать городом, где железная дорога и автомобили выйдут из моды; городом электросамолетов и дирижаблей, движущихся тротуаров, многоуровневых торговых рядов, картинных галерей, в которых будут выставлять лучшие в мире работы; городом, где преступления и бедность исчезнут, где не понадобятся услуги черной расы. Всю ручную работу будут исполнять машины. Мы не собирались бросать негров на произвол судьбы. Им можно было построить особый городок, где они жили бы своей жизнью, посещали собственные школы, храмы и театры. Южане сильнее всего чувствуют обязательства перед неграми (представление о южанах – бессердечных тиранах – еще одна ложь, созданная на Севере). Я всегда прямо заявлял: я охотно им услужу, но не собираюсь задерживаться в Соединенных Штатах надолго. Но, будучи идеалистом, я решил на время связать свою жизнь с главным городом Теннесси. Фэрфаксы стали моими верными друзьями. Они тоже считались чужаками, хотя гостеприимный Юг и принял их. Хотя я никогда не управлял их «DH – 4», я дважды летал с Пандорой Фэрфакс и получал интеллектуальное и духовное наслаждение от этого опыта. С воздуха открывался уникальный вид, который давал истинное представление о размере и очертаниях обширных равнин Дельты и широкой мелкой реки, которая, кажется, течет в бесконечность, а на самом деле – к Новому Орлеану. На меня произвели огромное впечатление люди, которые первыми достигли этой реки, преодолев огромные расстояния, чтобы их дети могли расти здесь и получить в наследство землю, речники, которые плавали на плоскодонках под парусами, перевозя меха, хлопок и золото, чтобы сделать Сент-Луис и Новый Орлеан самыми богатыми и оживленными городами своего времени. Иногда я жалею, что мой отец, при всей его революционной глупости, не стал одним из тех, кто эмигрировал в Америку. Тогда, по крайней мере, у меня появилась бы возможность расти без страха, без вечной угрозы погружения в кошмар. Я мог бы сделать куда больше для своей страны, если бы был коренным американцем, и в свою очередь получил бы заслуженную награду. Mein Vater kam bis an die Grenze. Wohin gehen wir jetzt?[380] Кто знает? Те же самые силы, которые уничтожили Кларенса Сондерса, могли уничтожить и меня. По крайней мере, я остался в живых и могу напомнить другим о времени, когда в мире еще были подлинная надежда и вера и люди еще могли опознать своих врагов. Но какое значение это имеет сегодня? Враг очень силен, он смеется надо мной. Даже люди, которые слушают меня в пабе, думают, что я шучу. В Мемфисе я научился водить новый «бьюик», предоставленный в мое распоряжение мистером Гилпином: дело оказалось достаточно простым, хотя мне часто мешала глупость других водителей, не наделенных от природы ни умением водить автомобиль, ни достаточным воображением, чтобы понять пожелания (или хотя бы заметить существование) своих собратьев, также путешествующих по дорогам. На «бьюике» (а позднее, когда его пришлось сдать в ремонт, на «форде») я катался по усаженным деревьями пригородам Мемфиса или выезжал на шоссе, которое вело в Арканзас. Я очень скоро проникся любовью к городу и не проявил ни малейшего нетерпения, когда мистер Роффи объяснил, что центральные и местные власти решают вопрос о предоставлении необходимых для нашей работы грантов медленнее, чем он надеялся. По всей Мэйн-стрит я видел строительные площадки – здесь готовились возводить огромные роскошные здания. Скоро должны были запустить новые трамваи. Сложная паутина переплетающихся проводов, протянувшаяся по всем улицам города, в некотором смысле стала символом нашего неуклонного движения вперед. В один февральский день, более теплый и влажный, чем обычно, город внезапно заполнил запах свежей смолы и угля с поездов и кораблей – в холодной атмосфере запах почти сразу рассеивался. В тот день меня навестил желанный гость – майор Синклер. На сей раз он прибыл в Мемфис по воздуху. Он взволнованно рассказывал о своем новом судне. Маленький дирижабль стоял в углу аэродрома Фэрфакса. На боку виднелась реклама нового журнала, который стал еще одной навязчивой идеей моего друга. Майор был полон энтузиазма. – Эти слова облетят всю страну. Это знамя величайшего крестового похода, который когда-либо видела Америка! В Соединенных Штатах дует новый ветер, Макс, и он рождается в Атланте! Корабль, как и издание, которое он рекламировал, назывался «Рыцарь-ястреб». В тот же вечер мы с Синклером отправились к причальной мачте. Мы оба курили сигары, царила спокойная, уютная тишина, которая всегда сопутствует старым товарищам, когда они просто наслаждаются обществом друг друга. Гондола небольшого дирижабля почти касалась земли. Она была сделана из легкого металла, слегка помята и оцарапана и покрыта тонким слоем белой краски. Большой красный мальтийский крест красовался с обеих сторон гондолы. Хотя судно удерживало сразу несколько канатов, оно все равно покачивалось под дуновением умеренного юго-западного бриза. Иногда доносился слабый скрип, как будто распорки где-то подвергались перегрузке. Гондола была открытой. Я увидел три кабины, напоминавшие кабины самолета, в одной из них располагался механизм управления. По словам Синклера, это был последний дирижабль, изготовленный в британском классе 882, большую часть таких кораблей продали в Америку. Британцы называли их «блимпами» в честь легендарного полковника Блимпа[381], одного из их величайших патриотов. В задней части стоял двигатель – «роллс-ройс» на семьдесят пять лошадиных сил. Майор Синклер, очевидно, гордился своей машиной. – Это только начало, – говорил он. – Я уже планирую построить усовершенствованную модель. Мне хотелось бы услышать ваше мнение. Но это не главная причина моего приезда в Мемфис. Мне поручено задание. Есть пара мест, которые нужно посетить до возвращения в Атланту. Нужно рекламировать журнал. Попытаться привлечь подписчиков, если смогу. – У него здесь было и другое дело, но майор пока о нем не хотел говорить. Он планировал провести в городе по крайней мере неделю. – В любом случае посмотрите машину. Я хотел бы узнать, что вы думаете. Синклер помог мне подняться по короткой лестнице в главную кабину и осмотреть средства управления. Я изучил рулевой механизм, переключатели, измерительные приборы. Майору Синклеру не следовало знать, что это было мое первое близкое знакомство с обычным дирижаблем. Меня просто зачаровала работа руля и элеронов. Я сказал, что, по-моему, это превосходная машина. – Конечно, она слегка примитивна. – Он как будто извинялся. – Но нам нужно с чего-то начать. Я согласился с ним. Я до сих пор не понимал, к чему он клонит. – Была мысль построить навесы для кабин, – сказал майор. – Но я пришел к выводу, что они будут почти бесполезны большую часть времени. Здесь можно укрыться от дождя не хуже, чем в обычном самолете или воздушном шаре. Стоя в качающейся кабине, я ухватился за один из шести тросов, которыми гондола крепилась к основному корпусу. Слабо пружинивший баллон был изготовлен из какой-то простой серебристой ткани. Хотя дирижабль был гораздо меньше моего будущего воздушного корабля, он тем не менее оставался реальным и абсолютно надежным воздушным транспортным средством. Я радовался, как школьник, попавший на петушиные бои. Майор Синклер с удовольствием выслушивал мои похвалы. Скоро он взобрался в одну из двух задних кабин. Наклонившись надо мной, пока я сидел перед панелью управления, он рассказывал об особенностях полета на этом дирижабле. Я изучил ножные педали, которые управляли и высотой, и углом полета, и быстро освоился с машиной. Это было куда проще, чем летать в аппаратах тяжелее воздуха. Я вообразил, что поднялся на тысячу футов над землей и мог лететь куда угодно, и удовлетворенно вздохнул. Я верил, что пройдет совсем немного времени, и моя мечта воплотится в жизнь. Тогда я поведу гораздо большее судно. Я стану адмиралом собственной воздушной армады! Свет погас, когда я спустился по небольшой металлической лестнице на землю. Майор Синклер последовал за мной, а потом сделал странный жест, который я никак не мог истолковать. Он опустил голову, провел затянутой в перчатку рукой по тонким прямым губам и нахмурился. Я выжидал. Через некоторое время летчик поднял голову. Он казался очень серьезным – не то не хотел говорить, не то не мог подыскать нужные слова. Он молча взял меня за руку. Мы в сумерках направились к тем деревянным лачугам, в которых теперь располагался офис Фэрфакса. Было очень тихо. Ветер стих, и воздух стал теплее как раз тогда, когда солнце зашло. Майор Синклер заговорил негромким, спокойным голосом, обращаясь ко мне не только по фамилии, но и по званию, как будто его слова выражали какую-то официальную точку зрения: – Полковник Питерсон, сэр, я знаю, что в ваших жилах течет и французская, и английская кровь. Полагаю, вы намерены когда-нибудь возвратиться в Европу. – Так и есть, майор. – Я понимаю, что вы протестант. Мы можем считать это само собой разумеющимся. Надеюсь, вы простите мне нарушение правил хорошего тона. Скажите, сможете ли вы отправиться со мной и рассказать о нынешнем тяжелом положении уроженцам этой страны, истинным англосаксам? Я решительно ответил: – Я не боюсь высказывать свои суждения, майор. Полагаю, что над англосаксами нависла смертельная опасность. У меня есть все основания считать, что им все сильнее угрожает объединенная армия большевистских евреев и папистов, которые неустанно готовят заговоры, натравливая на белых людей черные и желтые расы. Я видел насилие и беззаконие, которое эти силы устроили в России. С ужасом ожидаю, что этот кошмар может распространиться по всему миру. Майор задумчиво кивнул, соглашаясь со мной: – Вы подтвердили то, что я понял уже давно. Что бы вы сказали, если бы кто-то предложил вам сыграть важную роль в этой битве? – Я не сторонник насилия, майор. – Это вполне очевидно. – Майор поджал губы. Он внезапно остановился в полутьме, прямо у входа в дом. – Я хочу попросить вас о небольшом одолжении. Прошу, не считайте, что вы будете мне чем-то обязаны, если решите отказаться. – Он застегнул свою летную куртку. – Не могли бы вы выступить перед группой друзей и единомышленников и рассказать им о своих впечатлениях от красной революции? Вы сослужили бы великую службу им и всей Америке. – Вы хотите, чтобы я произнес какую-то речь? – Скорее это будет неформальная беседа, Макс, с заинтересованными людьми, которые имеют немалый вес в обществе и разделяют ваши взгляды. Во-первых, я прежде никогда не выступал с речами на английском языке – разумеется, это меня беспокоило. Во-вторых, я не испытывал особенного желания привлекать ненужное внимание. И все же предложение майора обеспечивало немало преимуществ. Кроме того, тогда, как и теперь, я осознавал: все случившееся в России должно стать страшным предостережением для остального мира. Конечно, я считал своим долгом принять предложение. Я спросил, как все будет организовано. Майор Синклер по-прежнему говорил негромко и значительно: – Через несколько дней некий пароход отойдет от пристани в Мемфисе и двинется вниз по реке к Виксбургу. В определенный час он вернется в Мемфис, и все пассажиры сойдут на берег до рассвета. Все на борту поклялись хранить тайну. Той ночью будут приняты решения, которые повлияют на судьбу всей страны. Я был и заинтригован, и впечатлен. – Майор, я польщен, что вы так верите в мои силы. – Вы сможете уделить нам несколько часов и выступить на том корабле в следующую среду, Макс? Я заверил его, что непременно найду время для столь важного дела. Он выпрямился и твердо пожал мне руку, посмотрев на меня серьезнее, чем когда-либо: – Спасибо. Стоило нам вернуться к дороге и «бьюику», как майор снова стал таким же доброжелательным, как обычно. Казалось, он никогда не обращался ко мне ни с какими просьбами. Я сказал ему, что хотел бы однажды увидеть, как «Рыцарь-ястреб» ведет себя в воздухе. Он обещал взять меня в полет, как только я пожелаю. К тому времени, конечно, мне стало ясно: майор Синклер был куда более значительной персоной, чем он сам утверждал. Он явно представлял какую-то важную политическую силу. Я мысленно поздравил себя, что мне удалось найти такого друга. И все-таки даже тогда я не понял до конца смысла его вопросов и предложений. Уже не в первый раз люди подобного типа инстинктивно осознавали, что я заслуживаю доверия. Я никогда не мог понять, что же они во мне находили. Вероятно, это как-то связано с моей постоянной ненавистью к лицемерию и нетерпимости, прямотой, с которой я обыкновенно рассуждал о важнейших проблемах. Я всегда ненавидел компромиссы. В тот вечер я сел за стол и при свете газовой настольной лампы написал Эсме еще одно длинное письмо, содержавшее описание всех моих успехов. Америка приняла меня с куда большей готовностью, чем я смел надеяться. Я собирался приложить все усилия, чтобы Эсме присоединилась ко мне как можно скорее. В короткой записке, адресованной миссис Корнелиус, я рекомендовал Америку как страну огромных возможностей. Если она приедет в Штаты, то сможет достичь таких высот, каких только пожелает. Что до меня, то, судя по всему, мое имя скоро будет известно в каждой семье, как имена Маркони или Веллингтона. Скоро она услышит о самолете Питерсона, домашней стиральной машине Питерсона и радиоуправляемом автомобиле Питерсона. Для меня не имело особого значения, будет ли в названии использоваться мое настоящее имя. Я не отличался эгоизмом и не стремился к славе. Вполне достаточно просто делать свое дело, и неважно, если о Пятницком позабудут навсегда. Мемфис прижал меня к своему большому и доброму сердцу. И этот город в прессе северян называли «столицей убийств США» всего лишь потому, что были подтасованы статистические данные, которые якобы доказывали, что здесь высокий уровень убийств! Мемфис был самым дружелюбным городом, который я повидал со времен отъезда из Одессы. Количество убийств стало непосредственным результатом здешней терпимости – в бедные пригороды Мемфиса впустили слишком много темнокожих и иммигрантов-католиков. Вдобавок раненых зачастую отправляли в больницы Мемфиса, пользовавшиеся заслуженно высокой репутацией. Если пострадавшие умирали, ужасные цифры становились еще ужаснее! Мемфис развивался, как всегда говорили мои политические друзья, а развитие и рост невозможны без боли и страданий. В тот вечер я ужинал с мистером Роффи и миссис Трубшоу, худощавой, но очень привлекательной руководительницей местного женского клуба. Я с энтузиазмом рассказал о дирижабле майора Синклера. Нам нужно задуматься о постройке нескольких таких небольших судов, которые могли стать вспомогательной авиацией в нашем воздушном флоте, состоявшем из аппаратов с жесткими крыльями. Чарли Роффи идея показалась очень интересной. На миссис Трубшоу она произвела большое впечатление. Женщина заметила, что мне, очевидно, свойствен огромный научный и политический размах. Она завидовала полной приключений жизни, которую я вел, – ей казалось, что моя история напоминает историю графа Пулавского[382]. Я был совершенно сбит с толку. – Простите, мадам, но вынужден сознаться в своем невежестве. – Вам нужно прочесть о нем в библиотеке. Он приехал из Европы. – Миссис Трубшоу говорила твердо, внушительно и возвышенно. – Чтобы принять участие в нашей Войне за независимость. Величайший защитник свободы. Польский дворянин, солдат. Истинный американец во всем, кроме национальности. Он дал свое имя городу Пуласки в Теннесси, где родился мой отец, умер он, служа Вашингтону. Вы могли бы оказаться реинкарнацией графа Казимира. Вы случайно не верите в прежние жизни, полковник Питерсон? – Миссис Трубшоу тряхнула головой, и ее темные кудри всколыхнулись. Мне пришлось сказать, что я не поляк и не католик, а обычный христианин, поэтому, разумеется, я верю в искупление и воскресение. Если это одно и то же, то я разделяю ее убеждения. Миссис Трубшоу, как и многие женщины, с которыми я встречался в подобных обстоятельствах, отличалась особым сочетанием деловой хватки и безумного романтизма. Мы возвращались вместе в такси. Едва сев в машину, она начала целовать меня, потом несколько неловко сжала мой член и заявила, что я герой, перед которым она не может устоять. Я тоже посчитал сопротивление неуместным, поэтому такси отправилось в «Адлер апартментс», где мы быстро выразили взаимное восхищение. Почти все мои партнерши в те времена принадлежали к тому же классу, что и миссис Трубшоу. Полагаю, они считали меня привлекательным по двум причинам: я был экзотическим партнером и вряд ли мог задержаться в Мемфисе надолго. Меня в свой черед интересовали желания и ограничения американской буржуазии. Я периодически посещал с мистером Гилпином и другими джентльменами, которые именовали себя «охотниками», знаменитый и процветающий городской квартал красных фонарей, но предпочитал более оригинальные и познавательные авантюры, которые зачастую предлагали почтенные матери семейств; как ни странно, почти все они родились не в Мемфисе. Общепринятое объяснение сводилось к тому, что послевоенная жизнь уничтожила ограничения, и люди пытались обрести то, чего им якобы не хватало в мире «викторианской морали». По-моему, все было гораздо проще: из-за недостатка мужчин многие женщины вели себя так, будто попали на распродажу одежды. Они тотчас стали соперничать друг с другом и позабыли о прежней разборчивости – зачастую на распродажах женщины покупают вещи, на которые они обычно даже не посмотрели бы. Это положение дел меня вполне устраивало, так как я хранил верность далекой Эсме, экономил деньги и мог почти не опасаться венерических заболеваний. (Однако именно в публичном доме я впервые провел время с чистокровной негритянкой.) Как и многие американские города в те времена, Мемфис представлял удивительный контраст исключительного общественного пуританизма и необузданного частного разврата, гораздо более заметный, чем в Европе. Америка получила ужасное наследство – англиканскую мораль – и попыталась сдержать врожденную активность и веселость, создав законы, никак не связанные с природными и историческими свойствами страны. Это только усилило лицемерие и хаос. Законы нации должны всегда отражать национальный характер. Америка часто нарушала это правило. Здесь царствовали холодные английские законы, которые стали фактически бессмысленными, скажем, в Калифорнии. Пытаясь воплотить в жизнь мечты отцов-основателей и забывая о потребностях ныне живущих граждан, Америка ослабила себя, стала шизофреничной. Конечно, этой стране по-настоящему угрожали. Поселенцы, которые страдали и умерли, чтобы создать Соединенные Штаты, совершали подвиги во имя великого англосаксонского эгалитарного идеала. В 1922 году этот идеал эксплуатировали и искажали иммигранты, требовавшие для себя благ, за которые они не хотели платить. Уже прошло время, когда можно было управлять этими людьми с помощью методов отцов-основателей. Большинство вновь прибывших даже не признавали веру, на которой базировались исходные принципы. Они хранили верность главному раввину, папе римскому, Карлу Марксу и В. И. Ленину, они служили космополитическим идеалам. Неудивительно, что сколько бы ни находилось баптисток, пытающихся запретить алкоголь, всегда обнаруживалось столько же итальянцев и евреев (не говоря об изменниках-ирландцах), готовых продавать его. Американцы отчаянно пытались сохранить порядок и стабильность под угрозой хаоса, который надвигался со всех сторон. Тот, кто осуждает их, просто не может понять их страхи. Я тоже участвовал в последней битве с врагами Америки – это была благородная и обреченная на поражение оборона, защита последнего рубежа Юга от наступления Севера. В трудном бою проявили отвагу, благородство, порядочность и здравый смысл простые люди, отважные потомки Кита Карсона, Буффало Билла и Джесси Джеймса[383]. Их попытка сражаться с врагами моральным оружием протестантизма вполне понятна, хотя они не всегда правильно выбирали цели. Настает время, когда только политическая активность и сила духа могут принести победу; такова горькая, жестокая истина. Христос – наш владыка, это благородный греческий пастырь. И все же агнца следует защищать от волков и шакалов другим оружием, а не текстами Ветхого Завета и запретами немногих радостей, которые облегчают бремя нашего странствия по сей юдоли слез. Я не хочу обижать достойных пасторов и прихожанок, которые видели доказательства торжества зла в злоупотреблении удовольствиями жизни, но я никогда не считал, что нужно законодательным образом запрещать эти удовольствия. Я видел немало пьяных на улицах Киева (у нас в России запрет был введен задолго до Вольстеда[384]), ибо необразованным людям, как правило, не хватает самообладания, и я не стану возражать против того, что нужна строгая, отеческая забота. Но всеобщие запреты приводят только к росту преступности. Демократия не может справиться с выродившимися беженцами, которые всю жизнь знали только тиранию. В последующие дни я несколько раз встречался с миссис Трубшоу и наслаждался нашим общением, хотя иногда было трудно справляться с разными деталями нижнего белья, которые она никогда не снимала, подчиняясь собственным представлениям о морали. Как-то около полудня она принесла мне бутерброды и номер «Коммерческого вестника» с ужасными новостями, которые повлияли на мою дальнейшую жизнь куда сильнее, чем я мог предположить. «Рома» рухнул на Хэмптонскую военную базу. Этот полудирижабль, только недавно приобретенный в Италии, потерпел крушение, когда сломался рулевой механизм. Корабль взорвался при столкновении с землей, погибли тридцать четыре из сорока пяти членов команды. Я не смог даже доесть цыпленка под майонезом. Я оплакивал бедных летчиков. Величественная история воздухоплавания была написана кровью этих храбрых пионеров, которые, предвкушая радостные открытия, бросились в верхние слои атмосферы, не ведая, какая судьба их ожидала. Миссис Трубшоу поправляла бледно-голубые лямки комбинации. – Что случилось, дорогой? Я заплакал. Разочарованно вздохнув, она начала неловко успокаивать меня. Финансисты настолько непостоянны, что почти любое мелкое изменение общественного климата может их напугать. Вот что я понял, когда окунулся в складки душистого шелка, хлопка и плоти и начал (поначалу с некоторыми затруднениями) искать утешение в женском очаровании миссис Трубшоу. Это случилось незадолго до того, как нас прервал громкий стук в дверь. Раздался голос, повторявший мое имя. Миссис Трубшоу узнала мистера Роффи. Она собрала свою верхнюю одежду и скрылась в маленькой гардеробной. Роффи напоминал индейку, для которой уже купили топор к Рождеству, как говорили на Юге. Он, похоже, обезумел. В руке он держал смятую газету. – Я не задержу вас надолго, полковник Питерсон. Вижу, вы уже прочитали отчет. Что вы собираетесь делать? Это может как-то нас коснуться? – У нас есть аэродром и готовые самолеты. Вряд ли тут возможно какое-то сравнение. Вдобавок та машина была изготовлена даже не в Америке. Он слегка успокоился, но не окончательно. – Я все еще думаю, что это может серьезно повлиять на наш план. Если наши люди в Вашингтоне потеряют самообладание, то мемфисские партнеры тоже струсят. И с чем мы останемся? – С солидным, практичным и ценным планом, мистер Роффи. – Я отыскал пояс своего халата. – Конечно, я понимаю ваши страхи. Но подозреваю, что это в худшем случае приведет к небольшой задержке. – Вы куда спокойнее, чем я, сэр. – Невидящим взором он посмотрел на мою измятую постель. – И куда спокойнее, чем будут люди в Вашингтоне, учитывая, как разворачиваются события. – Тогда нам нужно возродить их оптимизм. Я был уверен в себе, его страхи не вызывали во мне сочувствия. Думаю, что после моих замечаний он попытался взять себя в руки. – Проблема, полковник, состоит в том, как мы это сделаем. Они сохранят самообладание, если мы сами продемонстрируем его. Мы должны показать, что абсолютно уверены в будущем нашей компании. – Может, еще одно интервью в газете? – предложил я. Он безнадежно улыбнулся: – Это может помочь. Но слов недостаточно. Не сейчас. Теперь нам, возможно, придется выложить деньги на стол. – Я не понимаю вас, мистер Роффи. Он вздохнул, пригладил пальцами шевелюру и откашлялся: – Я готов достать сто пятьдесят тысяч долларов наличными прямо сейчас. Если бы каждый из нас инвестировал в компанию столько же, это показало бы, что мы совершенно серьезны. Это также помогло бы нам сохранить кредит. То, чего мы не получим от Конгресса, сможем раздобыть на месте. Тогда никаких потерь не случится. В этом городе очень многие зависят от нас даже теперь. – Я понимаю, мистер Роффи. – Конечно, его слова поставили меня в тупик. Я заставил их поверить, что так же богат, как они, и теперь никак не мог отказаться от предложения, которое выглядело вполне разумным. – Мои деньги вложены в иностранные акции и банки. Уверен, вы это осознаете. Я никак не смогу быстро раздобыть ту сумму, о которой вы говорите. Он явно огорчился: – Это может стать единственным нашим спасением, полковник, поверьте. Когда он ушел, я вернулся в постель. Ко мне присоединилась миссис Трубшоу, с которой я разделил небольшую порцию кокаина из своих убывающих запасов. Она слышала только часть беседы и, конечно, была последним человеком, которому я мог довериться. Я осознавал, что положение мое не просто сомнительно, но также и, до некоторой степени, опасно. Во многих кварталах Мемфиса шестизарядный кольт все еще считался лучшим средством для решения вопросов чести. – Мистер Роффи беспокоится из-за крушения дирижабля? – спросила позже миссис Трубшоу. – У вас был в этом деле финансовый интерес? – В некотором роде. Я не мог никому признаться, что фактически не имею средств. Все зависело от моих проектов, которые воплотятся в металле и дереве. После этого деньги, без сомнения, появятся. До тех пор я буду разлучен с Эсме. Я не мог смириться с этой мыслью. Эсме верила, что я скоро пошлю за ней. В Мемфисе от меня тоже многого ждали. Мой гигантский шестимоторный пассажирский самолет с четырьмя крыльями и четырьмя отдельными шасси должны были запустить в производство в следующем году. Местные фабрики ожидали заказов. Мой энергетический проектор радиолуча через несколько месяцев собирались представить в качестве опытного образца, а моя радиоуправляемая автоматическая посадочная система непременно украсила бы главную башню аэродрома, который следовало разместить в Парк-филде. Все модели сделаны, все проекты подготовлены. Все распланировано, и многие жители Мемфиса ожидали доходов. Как только мы получим новости из Вашингтона, как только подтвердится федеральное финансирование, основные финансовые игроки в Мемфисе непременно вложат средства, недаром город находится под контролем «Босса» Крампа. И вот теперь, похоже, все это может рухнуть, если мне не удастся раздобыть ничтожную сумму. Мне следовало, по крайней мере, попытаться собрать деньги. Как только миссис Трубшоу отправилась на какую-то деловую встречу, я пошел в офис «Вестерн Юнион» и послал телеграмму в Париж Коле, единственному человеку, на которого я мог надеяться. Не осталось времени для тайн. Я написал: «Нужно сто пятьдесят тысяч долларов для важного предприятия, дело серьезное и безотлагательное. Питерсон». Я рискнул и в качестве обратного адреса указал почтовое отделение «Вестерн Юнион», Мемфис, Теннесси. Оператор заверил меня, что сообщит, как только последует ответ. Он дал мне копию телеграммы. Она позволила бы мне доказать мистеру Роффи, что я действительно хочу получить средства. Я позвонил своему партнеру в арендованный им дом на Поплэр-авеню, около Овертон-парка, – это был также наш рабочий адрес. Я сказал, что у меня есть кое-какая информация. Мистер Роффи предложил встретиться вечером в частном клубе «У Мэй» на Фронт-стрит. В течение часа я бесцельно бродил по центру Мемфиса, разглядывал витрины, изучал столбы из кованого железа на тротуарах с покрытием – в наши дни таких, кажется, уже нигде не осталось, но они были очень удобны. Я купил шоколадных конфет в бумажном кульке, рассмотрел множество вывесок на Мэйн-стрит и в конце концов оказался в нескольких шагах от восьмиэтажной крепости, настоящей Новой Аркадии, которая на самом деле именовалась вокзалом Юнион. Войдя туда, я взял несколько листков с расписанием поездов, молясь о том, чтобы мне не пришлось покидать Мемфис так же поспешно, как я покидал некоторые другие города. Прошло еще слишком мало времени – Коля не успел бы ответить. Я сел в экипаж и поехал в Овертонский зоопарк. Там я провел впустую еще час, разглядывая нескольких несчастных представителей американской и африканской фауны. В сумерках я возвратился в «Адлер» и зашел в офис «Вестерн Юнион». Ответа на мою телеграмму не было. Решив не падать духом, я облачился в свой лучший вечерний костюм и на такси отправился на Фронт-стрит. Клуб располагался в частном доме, в котором когда-то находился офис пароходной компании, в нескольких кварталах от здания почты. На железных мостах над рекой и на пароходах возле дамбы горели огоньки, но в остальном местность казалась совершенно пустынной. Я вошел в клуб и передал пальто и шляпу симпатичной цветной горничной, одетой в очень короткое платье, напоминавшее греческую тунику. Я почувствовал себя чуть лучше. В подобных заведениях царил уют, как будто стиравший все мирские заботы. Мистер Роффи тоже попытался привести себя в порядок. Он снова выглядел как достойный южный джентльмен, каким и был. Он улыбнулся, поднявшись с кушетки в углу помещения, которое Мэй называла своим танцзалом, и направился ко мне. Мы пошли наверх, в частные апартаменты, стены которых были покрыты темно-желтыми и красными бархатными драпировками, а обстановка ограничивалась огромной кроватью, позолоченным креслом и умывальником. Я показал копию своей телеграммы. Он просиял от облегчения. – Все получится, я уверен. Мне очень жаль, что пришлось причинить вам такое неудобство, полковник. Но следует сохранять доверие. Это крайне важно, вы же понимаете. Как только получите подтверждение, телеграфируйте в Первый национальный банк. Тогда мы переведем все в наличные. Я удивился: – Ведь это привлечет нежелательное внимание! – Нам нужно все внимание, какое мы можем привлечь, полковник. Мистер Гилпин в Вашингтоне прямо сейчас, он получает свои деньги, а мои уже в банке, в сейфе. Стоит сложить все эти средства – и я тут же появлюсь перед фотографами. Верьте мне, полковник, ничто не производит на людей такого впечатления, как вид настоящих долларовых банкнот. В этой части света куча долларов – это лучшее доказательство искренности и серьезности, лучше, чем письмо о неограниченном кредите от Государственного банка Англии. – Что ж, мистер Роффи, надеюсь, вы правы. Это чрезвычайно утомительно и немного сложно для меня – сделать телеграфный перевод на такую сумму, притом внезапно. Вы знаете, как французы относятся к подобным вещам. Я ни на секунду не поверил, что Коля мог раздобыть такую большую сумму, но даже если бы он прислал шестую часть денег, это уже подтвердило бы мою финансовую состоятельность. Через несколько дней римская катастрофа позабудется, и все придет в норму. Американские газеты непрерывно требовали новых сенсаций. Несомненно, какой-то ужасный пожар или обрушение здания отвлекут внимание публики от катастрофы дирижабля. Тем временем я объясню, что мои средства очень медленно освобождаются из-за особенностей финансовой политики французского правительства, а потом они больше не понадобятся. В эти рациональные размышления вторглось некоторое беспокойство. На следующий день, когда никакой телеграммы от Коли не пришло, я отправил другое сообщение: «Срочное финансовое дело. Пожалуйста, ответь». Я не стал показывать эту телеграмму мистеру Роффи, когда он заглянул ко мне, направляясь на обед с мистером Гилпином («Вернулся из Вашингтона с саквояжем, полным банкнот»), остановившимся в отеле «Гайозо». Мне пришло в голову, что я ничего не дождусь от Коли, потому что у меня нет его нового адреса. Возможно, он как раз ехал в Соединенные Штаты вместе с Эсме. Я очень волновался из-за того, что не мог сообщить Коле всю правду, но я не хотел втягивать его в свои проблемы и вдобавок не собирался выдавать свое местонахождение французской полиции. Возможно, я уже зашел слишком далеко. Коля мог подумать, что прикроет меня, если не ответит. К следующей среде я по-прежнему ничего не получил. Я успокаивал мистера Роффи, объясняя ему, что мой французский банк – просто отделение швейцарского банка. А в швейцарском банке заявили, что в Мемфисе нет отделения Первого национального. Тогда я отправил телеграмму за подписью «Питерсон» в свой прежний банк, «Кредит лионез» на бульваре Сен-Жермен, сообщив адрес банка в Мемфисе и указав, что они должны как можно скорее переправить оговоренную сумму. Копия этой телеграммы удовлетворила мистера Роффи, хотя он по-прежнему оставался мрачным и нервным. С мистером Гилпином я столкнулся лишь однажды, около Корт-сквер, небольшого парка в центре города. Встреча была случайной, и он странно на меня посмотрел, как будто полагал, что я уже обманул его доверие. Я, изображая полное спокойствие, сказал, что все в порядке. Он ответил: «Рад слышать», – и поспешно удалился. Он, казалось, переживал неудачу не так мужественно, как его друг. Желанное успокоение пришло, когда я в тот же вечер сел в большой лимузин и отправился с майором Синклером к дамбе. Пароход, по его словам, зафрахтован «Ли компани», которой владел тот самый Роберт Э. Ли из песни[385]: «Когда-то по этой реке плавало более сотни больших лодок. Теперь осталось не больше десяти». Плавучие театры и частные туристические поездки приносили основной доход немногочисленным мелким бизнесменам. Майор спросил, говорил ли я кому-нибудь о предстоящей встрече. Я уверил его, что никому не сказал ни слова. – Сегодня важная ночь, – произнес он и повторил это несколько раз по дороге к пристани. – Будут приняты важные решения. Я подумал, что стоило бы попросить его о помощи в решении моей финансовой проблемы, но вовремя сдержался. На данном этапе подобная просьба была совершенно неуместна. Последние лучи заходящего солнца касались поверхности воды, река была спокойной и грязной. Пробиваясь сквозь густые облака, они скользили по железным опорам огромных мостов и причалов. В этом тусклом свете все выглядело нереальным, как на плохой кинопленке. У пристани стояло четыре корабля, два совсем маленьких, а один – очень большой. Белые корпуса в свете солнца казались то коричневыми, то красными. Мрачные толпы негров, двигавшиеся к Фронт-стрит, напоминали индейцев чикасо[386], возвращающихся из охотничьей экспедиции, – я словно вернулся в те дни, когда Дэви Крокетт[387] пил в таверне Белл. Славный герой пограничья, конгрессмен, мыслитель и человек дела – как и я. Как и меня, его бросили друзья. Крокетт стал мучеником, он погиб в одном из самых первых сражений состоронниками папы римского. Несколько черных автомобилей, похожих на наш, уже стояло на дамбе. Из них выходили мужчины в тяжелых пальто и широкополых шляпах. Лиц разглядеть я не мог. Все гости, казалось, предпринимали немалые усилия, чтобы их не опознали. Мужчины поднимались на борт огромного колесного парохода, возвышавшегося над другими лодками, пришвартованными поблизости. Совсем недавно на высоком кремовом борту корабля золотыми буквами написали название. В рулевой рубке готовились к отплытию одетые в форму моряки. Другие собирались отдать швартовы. «Натан Б. Форрест»[388] уже стоял под парами. Двигатель шумел, корабль вздрагивал, и его корпус бился о крепкие доски причала. Подняв воротники пальто, чтобы защититься от пронизывающего холодного ветра, мы пробрались мимо тюков и бочек к сходням, где присоединились к остальным гостям. В отличие от морских судов, к которым я привык, на пароходе было три палубы, а над ними возвышалась рулевая рубка. Первая палуба располагалась практически у ватерлинии: все подобные корабли строились с плоским днищем – так легче преодолевать речные отмели. На корабле пахло свежей краской. Когда я коснулся рукой деревянного столба, чтобы удержать равновесие, пальцы прилипли к поверхности. «Натан Б. Форрест» отремонтировали всего пару дней назад, покрасив все в красный, белый и синий цвета. Майор Синклер проводил меня по металлическим лестницам на верхнюю палубу, где располагались небольшие частные каюты. – Мы займем вот эту. – Он открыл дубовую дверь и зажег керосиновую лампу, висевшую на цепи у потолка. – Будьте как дома. Майор говорил с обычной любезностью, но было ясно, что он думает о каких-то других делах. Синклер продемонстрировал мне обстановку каюты, показал полку с безалкогольными напитками в маленьком шкафчике над единственной койкой. В каюте также преобладали национальные цвета: синие стены, красная ковровая дорожка, белые простыни и подушки. На стене над койкой висели скрещенные флаги Союза и Конфедерации. Теперь стало очевидно, что важное соглашение, которое следовало любой ценой скрыть от непосвященных, напрямую связано с государственной политикой. Я не мог представить, чего эти люди хотят от меня, – может, они собирались предложить мне официальную должность, например, место первого советника по науке штата Теннесси. В таком случае я мог бы следить за постройкой абсолютно новых аэродромов в Нэшвилле, Мемфисе, Чаттануге и в других местах. Теннесси стал бы образцом для всех Соединенных Штатов. Я предположил, что через несколько лет смог бы вернуться в Вашингтон, возможно, в качестве первого ученого секретаря. Я выстроил бы новые научные и технические схемы, объединив всю страну от Калифорнии до канадской границы, я создавал бы электростанции, аэродромы, фабрики, чтобы производить самолеты, автомобили и локомотивы, современные верфи, чтобы строить новые виды суперкораблей, о которых я мечтал. Я не Lügner[389], как этот высокомерный shnorer[390] Эйнштейн, так одурачивший всех американцев, что они сделали его национальным героем. Мои летающие города поднялись бы над Канзасом – сверкая и шумя, они помчались бы над прериями, где прежде кочевали сиу и пауни. Люди снова станут кочевниками, но по-настоящему цивилизованными. Но там, где прежде человек ограничивался вигвамами и travois[391], теперь он будет использовать электроэнергию. Люди смогут перемещаться туда, где погода хороша, а запасы велики. К 1940 году Соединенные Штаты станут цитаделью просвещения и научных чудес. Они воспротивятся наступающей Восточной Африке, принесут спасение Европе и даруют России новую Византию. Но мог ли я тогда догадаться? Карфаген прорвал нашу оборону, напал на наших самых бдительных стражей, когда они спали. Меня наделили даром пророчества, а я слишком много думал о себе и не сумел воспользоваться чудесной способностью. Они вложили кусок металла мне в живот. Он может вырасти. Эта угроза постоянна. Но я справлюсь. Я не рожу их чудовищное дитя. Я не их n’div Я истинный сын Днепра и Дона. Я – свет против тьмы. Я – наука и истина, и меня нельзя судить, как вы судите обычных людей. Но 1а febbre[392]. Я – Прометей, сошедший с гор Кавказа. Я несу слова грека и свет, который надобен, чтобы прочесть их и увидеть всех еретиков. Я пою «Начальника жизни нашея»[393]. Христос воскрес! Христос Сын и Единственный Бог одолел Отца, который предал Его. Он изгнал еврейского Иегову. Их бог блуждает по земле, плача и простирая руки. Авраам предал своего сына. Иегова предал всех нас. Передайте греку, что мы следуем за Ним. Пусть папа римский и все его легионы падут на колени с криком: «Kyrios! Мы признаем Тебя!» И в Риме появится новый хозяин, и Он будет могучим владыкой. Он посмотрит в будущее и увидит, что это хорошо. И Его избранниками станут люди знания, создатели чудес, капитаны летающих городов. Должен признать, что я пребывал в возбужденном состоянии, когда майор Синклер предложил показать остальную часть корабля («можно убить немного времени»). Вторая палуба, со столами и скамейками, летом использовалась в качестве ресторана. Частично обитая деревом, а частично укрытая холщовым тентом, она пустовала. Мы спустились на первую, самую большую палубу. Это был один огромный зал, украшенный чудесными орнаментами, позолоченными свитками и резными фигурами муз. Меня окружали хрустальные, медные и серебряные детали, зеркала и колонны, похожие на мраморные, и везде преобладали красные, белые и синие цвета. Скрещенные флаги висели повсюду, особенно много их оказалось на огромной сцене в дальнем конце помещения. «Натан Б. Форрест», верно, когда-то считался одним из величайших плавучих театров, которые в годы расцвета ходили по всей Миссисипи. Майор Синклер стоял, сложив руки и прислонившись спиной к колонне. Он слегка улыбнулся, услышав, как я восхищаюсь богатством обстановки. – Я бывал здесь в детстве, – сказал он, – и смотрел на артистов. – В его голосе звучала нотка печали. – Но теперь железные дороги и кинотеатры почти уничтожили этот вид транспорта и связанные с ним развлечения. И в этом виноваты как раз люди, подобные нам. Верно, Макс? Скоро значительная часть современного мира станет прошлым, как я полагаю. Я согласился: – Какая ирония – мы сами страдаем от наших собственных изобретений. Мой друг посмотрел на часы: – Нам нужно уходить отсюда. Пробравшись между рядами широко расставленных сидений, он вывел меня через боковую дверь на открытую площадку, а потом на третью палубу. Уже стемнело. Я услышал приглушенный крик из рулевой рубки и увидел, что матросы внизу сматывают веревки и цепи. Свист пара показался мне долгим, низким стоном. Потом послышался скрежет, весь корабль содрогнулся, когда огромные лопасти колеса ударили по воде. Электрический свет отражался от белой пены. Машина заработала на полную мощность. Котлы гремели и стонали, поршни визжали. Внезапно мы отошли от причала. Мы двинулись, медленно и величественно, в темную бесконечность реки Миссисипи. Огни Мемфиса остались позади, мы выплыли на середину реки. В других частях корабля слышался топот ног. Тогда майор Синклер попросил меня вернуться в каюту. Весь корабль, казалось, заполнил механический ритм, решительный, почти военный. Время отмеряли медь, сталь и железо. Мой друг поднял маленькую сумку и попросил меня подождать некоторое время. Он сказал, что вернется, как только сможет. Я плеснул себе кока-колы и уселся на койку, задумавшись о предстоящей встрече с губернатором и его людьми. Решив поправить нервы с помощью кокаина, я нащупал в кармане пакет – и тут свист раздался во второй раз. Ритмичные звуки исчезли. Корабль снова погрузился в тишину, за исключением вибрации двигателей, ровного плеска и стона колеса. Я хотел выйти на палубу, но не мог обмануть доверие майора Синклера. Через несколько мгновений бледный летчик отворил дверь каюты – очевидно, он немного успокоился. Под мышкой Синклер держал какой-то сверток, а все его тело скрывало длинное синее шелковое одеяние. На груди, у самого сердца, был вышит желтый мальтийский крест в синем круге. Символ очень напоминал тот, который я видел на его дирижабле. – Вы готовы, полковник? – негромко и серьезно, как прежде, спросил майор. Именно таким голосом он задавал мне таинственные вопросы и говорил о столь же таинственном приглашении. Я почувствовал облегчение. Видимо, мне не придется встречаться с губернатором. Я войду в общество франкмасонов, что само по себе и полезно, и благородно. Длинное одеяние слегка шевелилось под дуновением речного бриза, высокий летчик выглядел в этом облачении несколько неестественно. Он отступил в сторону, приглашая меня выйти на палубу. В темноте он напоминал домовладельца, который вскочил с постели и по ошибке надел халат жены. Я последовал за майором на нижнюю палубу. Вода была черной, берега скрылись из вида. Если бы не брызги воды, можно было бы подумать, что мы дрейфуем в космосе, а не плывем по течению реки. Синклер открыл маленькую металлическую дверь на корме, и мы попали в помещение, где горел тусклый электрический свет. Мы, очевидно, проникли в гримерную, где в былые времена актеры приводили себя в порядок перед выходом на сцену. Здесь пахло плесенью, и мне показалось, что еще сохранились остатки несвежего грима. Тогда майор Синклер поднял руки над головой, опустив ткань, которая скрыла его лицо. Потом он отворил дверь. Свет почти полностью ослепил меня, когда мы с майором вышли на сцену. Я мигал, пытаясь разобрать, что происходит. Постепенно я разглядел сцену, освещенную гигантским крестом, состоящим из сотен крошечных лампочек. Передо мной был раздвинут занавес. Помещение было погружено в полумрак, свет исходил лишь от большого распятия, находившегося позади меня. Мне удалось разглядеть множество разноцветных капюшонов и одежд, на каждом из одеяний был вышит крест, заключенный в круг. Все люди приветственно поднимали правые руки, сжимая скрытые перчатками пальцы в кулаки. Вокруг меня на сцене стояли и другие фигуры в капюшонах и балахонах. Это был один из самых волнующих моментов в моей жизни. Я затаил дыхание. Как некий древний святой герой, представший пред чашей Грааля, я чувствовал желание немедля опуститься на колени. Теперь я понял, что повстречал тех легендарных Рыцарей Огненного Креста, всадников свободы, которые спасли свою землю от полного хаоса. До сих пор я видел их только на фотографиях в новостях и, конечно, на экране в «Рождении нации». Мои ноги начали дрожать. Ручейки пота потекли по коже. Из-под атласных капюшонов на меня смотрело несколько сотен пар глаз, как будто оценивая. Ich war dort![394] На меня неотрывно взирали святые воины Америки, верховные жрецы знаменитого ку-клукс-клана! От людей, собравшихся в той комнате, исходило ощущение огромной власти. Это была психическая энергия, настолько мощная, что я на мгновение предположил: плавучий зал не сможет сдержать ее и взорвется, как взрываются солнца, и тогда берега Миссисипи и Арканзаса внезапно озарит яркий свет. В жутком блеске огненного креста, среди шелеста одежд – белых, зеленых, серых, темно-красных, черных и синих – и растущего ропота низких, мужественных голосов майор Синклер отвел меня к стулу, стоявшему в боковой части сцены. За крестом висело огромное знамя – летящий дракон с легендарным «Quod Semper, quod ubique, quod ab omnibus»[395], красно-черный, заключенный в равносторонний треугольник. Меня взволновало все происходящее, и особенно эффектное появление таинственной фигуры, которая теперь шагнула вперед. Сияющее пурпурное одеяние вырисовывалось на фоне креста в игре света и тени. Я осознал, какая огромная честь мне оказана, когда во всеуслышание объявили, что нас удостоит своим присутствием сам Имперский маг[396]. Затем начался приветственный ритуал. Все склонили в молитве укрытые капюшонами головы, повторяя напев Великого кладца: простую и искреннюю просьбу, обращенную к Богу, который помогал и помогает хранить святые идеалы клана. Молитва закончилась, Имперский маг взмахнул руками, и в собрании воцарилась абсолютная тишина. – Все гении, Великие драконы и гидры, Великие титаны и фурии, гиганты, Высокие циклопы и ужасы, и все прочие граждане ку-клукс-клана, во имя отважных и почитаемых мертвых, я приветствую вас и принимаю в этом особом и тайном клонверсе[397]. Вы собрались из всех сфер нашей империи по делу великой и ужасной важности, дабы обсудить будущее Соединенных Штатов Америки, которым все вы поклялись хранить верность до самой смерти. Я очень смутно помню начавшиеся после этого ритуалы. Звучали песни и ответствия, речи и откровения, большей частью на тайном языке клана. Невозможно было понять крики «Ауаk!» и «Аkiа!» или «Kigy!» и «San Bog!», но «Присяга клансмена» никогда не сотрется из моей памяти, ибо в дальнейшем я слышал ее не раз: «Я верю в Бога, и в истины христианской религии, и в то, что безбожная страна не может долго процветать. Я верю, что Церковь, не основанная на принципах морали и справедливости, – это насмешка над Богом и человеком. Я верю, что Церковь, которую не беспокоит благосостояние простых людей, не достойна веры. Я верю в вечное отделение Церкви от государства. Я не присягал ни одному иностранному правительству, императору, королю, папе римскому и никакой иной иностранной политической или религиозной силе. Я верую лишь в Звезды и Полосы и верую в Единого Бога. Я верую лишь в законы и свободу. Я верую в предотвращение забастовок, устроенных иностранными агитаторами. Я верую в ограничение иностранной иммиграции. Я коренной американец, и я верую, что в этой стране мне принадлежат исключительные права, превосходящие права иностранцев». Звуки этих чистых голосов едва не довели меня до слез. Я как будто снова оказался в Александровском соборе в Киеве, снова слушал пение священников и имена героев Киева, помянутых в молитвах, хотя теперь собравшиеся говорили о Рыцарях Камелии, Рыцарях Полуночной Тайны, Ордене Американского Рыцарства, Рыцарях Великого Леса. «Перед Богом клянусь клятвой верною, клятвой тяжкою, клятвой страшною. Перед Богом клянусь клятвой страшною: на Руси государю, как пес служить. Спаси, Господи, люди Твоя!» О Боже, храни людей Своих! Боже, Царя храни! Как мы плакали и целовали Библию! А они называли дни, недели и месяцы согласно традиции клана: Смертельный, Кошмарный, Отвратительный и так далее. Даже годы они отсчитывали от начала третьей реинкарнации клана, с 1915 года, вскоре после премьеры «Рождения нации» под названием «Клансмен»[398]. Религия и мораль стали воинственными, их поддерживал праведный гнев. О, грек поднял свой меч! Христос воскрес! Христос воскрес! Эти благородные, отважные люди стояли и молча слушали речь Имперского мага. То было исповедание веры клана, напоминание всем присутствующим о благородных идеалах и истинной цели ордена. Лидер процитировал полковника Уинфилда Джонса[399], который, по его словам, был не клансменом, но объективным наблюдателем, написавшим историю клана. Имперский маг подчеркнул, как важно приобретать и сохранять таких друзей. – Полковник Джонс, братья клансмены, поведал нам, что англосакс – это совершенный тип человека. Ему должны уступить эгоистичные евреи, культурные греки, благородные римляне и восточные мистики. Псалмопевец, должно быть, имел в виду именно англосаксов, когда ударил по струнам своей беззвучной арфы и пропел: «О Боже, не много Ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему»[400]. Ку-клукс-клан стремится к тому, чтобы в жилах всех правителей текла эта всепобеждающая кровь. Ку-клукс-клан поддерживает благородных, верных и добрых во имя торжества Закона и развития рода человеческого. Наш великий мистический орден, братья-клансмены, теперь насчитывает миллионы членов. Мы выступаем от имени большинства американцев, от имени потомков наших великих пионеров, настроенных против интеллектуальных полукровок-либералов. Мы, американцы, – наследники разных народов так называемой нордической расы, которая, при всех ее ошибках, даровала миру почти всю современную цивилизацию. И эти американцы сейчас страдают от множества бедствий и унижений. Святость нашей субботы, наших домов, целомудрия и, наконец, даже нашего права учить собственных детей в собственных школах основам нашего вероисповедания – все отнято у нас. Люди, которые хранят верность древним заветам, постоянно подвергаются осмеянию. Мы страдаем от лишений. Будущее наших детей под угрозой. Наши крупные города и промышленные и торговые предприятия находятся под контролем чужаков, которые подтасовали карты успеха и процветания. Они пришли, чтобы править нами. Речь Имперского мага была одной из самых возвышенных, одной из самых правдивых из всех, что мне приходилось слышать. Он продолжал рассказ о том, как предвзято относились к коренным американцам бизнесмены, законники и правительственные чиновники. Он говорил, что мировая война показала: миллионы людей, которых допустили к наследию нордических американцев, на самом деле хранили верность другим идеалам. Нужно наконец понять, что чужак обычно остается чужаком, независимо от того, что с ним случилось и какое образование он получил. Смешение народов оказалось ужасной катастрофой. Само название – плавильный котел, тигель[401] – изобретено евреями, представителями расы, которая решительно отказывалась растворяться в чуждой среде. Американец мог работать лучше иностранца, но иностранец оказывался хитрее американца. Чужаки из Восточной и Южной Европы привыкли к нищете. И иностранные идеи были так же опасны, как и сами иностранцы, независимо от того, насколько убедительно они звучали. – Клан взывает к американским расовым инстинктам, к здравому смыслу, который является важнейшим следствием этих инстинктов. Новейшие исследования научно подтверждают наши выводы. Три расовых инстинкта жизненно важны для целей нашего ордена, для создания Америки, которая исполнит мечты и оправдает героические подвиги людей, создавших страну. Эти инстинкты таковы: верность белой расе, традициям Америки и духу протестантизма. Они выражены в лозунге клана: «Владычество коренных белых протестантов!»[402]. И тогда весь зал в один голос повторил: «Владычество коренных белых протестантов!» Как будто подхваченный этой волной откликов, Имперский маг поднял руки над головой. Он заговорил о патриотизме, о сохранении чистоты расы пионеров: – Расовая целостность – это необходимое свойство истинных граждан. Человеческие расы и народы так же различны, как породы животных. Нельзя заставить бульдога пастись вместе с овцами! Аплодисменты зазвучали вновь, но Имперский маг шевельнул рукой, призывая к тишине. Шум тотчас смолк. – Клан не настроен против всех иностранцев, только против тех чужаков, которые пытаются управлять американцами! Западные евреи наделены большими способностями, но они далеки от нордической расы, и прежде всего нас разделяет религия. Еще хуже недавние иммигранты, восточные евреи, известные как ашкеназы, обращенные в иудаизм монголы, называемые хазарами[403]. Они настолько далеки от нордической расы, что надежды на их ассимиляцию не может быть. Белая раса должна остаться высшей не только в Америке, но и во всем мире! Мысль о том, что белые и цветные могут жить в гармонии, просто абсурдна. Вся история – один непрекращающийся расовый конфликт. Этот факт не согласуется со слезливыми теориями космополитизма, но он не подвержен сомнению. Клансмен говорит, что белые не будут рабами! Негр – это особая забота и проблема белых американцев, негр здесь не по собственной вине. Однако нам не следует обещать социальное равенство, которое все равно невозможно. Клан с нетерпением ждет дня, когда проблема негров будет решена на рациональной основе, когда все государства примут законы, делающие сексуальные отношения между белыми и цветными преступлением! – Маг снова остановил аплодисменты. Он заговорил о попытках Рима управлять Америкой: – Наши первые колонии были созданы для того, чтобы освободить Америку от власти Рима. – Он объяснил, что протестантизм и нордическая раса едины. Все прочие народы хотели уничтожить эту расу, особенно католики. – Католики – самое крупное, самое сильное, самое цельное из всех враждебных объединений, они часто заключают союзы с другими группами чужаков, чтобы бороться против американских интересов; именно об этом они договорились сейчас с нью-йоркскими евреями. Долг клана – рассказать обо всем как можно большему числу людей. Наш долг – использовать демократическую систему, чтобы обеспечить участие кандидатов-клансменов во всех возможных выборах и добиться победы клана! Именно так мы спасем Америку. Не с помощью насилия или диктатуры толпы, а благодаря чистоте наших идеалов. Мы уже к этому близки! Wie lange wir es dauern?[404] Недолго. Встал еще один клансмен, он заговорил о клокардах, действующих во всех слоях общества. Кладды настаивали, что клан и церковь – это синонимы. Друзья в высоких креслах, посторонние, поддерживающие взгляды клана, – все они готовы помочь. Выдающиеся заграничные гости поддержали устремления клана. Они отрицают злобные и лживые наветы тех газет, которые утверждают, что мы – ограниченные, неграмотные люди! Когда шум стих, Имперский маг спокойно произнес: – Один из таких гостей сегодня вечером с нами. Великий дракон сферы воздуха представит нашего гостя. Несколько секунд продолжались вежливые аплодисменты, потом они стихли, и ровный гул корабельных двигателей остался единственным заметным звуком. Тогда вперед вышел майор Синклер, который решительно произнес: – Братья Огненного Креста, нас почтил своим присутствием великий ученый и летчик, прибывший из Европы. Он сражался с турками, большевиками, католиками и евреями, и в его жилах течет кровь наших предков, которые открыли и обустроили эту землю. Его мать – француженка, его отец – англичанин. Он нередко высказывал в частных беседах собственные взгляды, которые можно назвать стопроцентно американскими, – думаю, вы согласитесь с этим. Он приехал к нам не для того, чтобы критиковать и угрожать, как многие чужаки. Он чтит наши традиции. Мы навсегда запомним, что именно англичане поддержали Конфедерацию. Но если мои суждения об истории Юга покажутся вам ограниченными, то я прошу у вас прощения, братья. Я просто хочу показать, что не все чужаки – критики, фанатики или агитаторы. Он рассказал, что я – ученый, инженер, авиатор и богобоязненный протестант. – Противник всего, что мы боимся и ненавидим. Я пригласил на наш клонверс представителя тех, кто поддерживает нас разумно и свободно. Но, братья, этот человек вдобавок стал свидетелем ужасов неудержимого безумия. Мы приветствуем истинного рыцаря воздуха, который собственными руками сражался с кровавым большевизмом и спас тысячи людей от красного террора. Я представляю вам своего друга – знаю, что он станет и вашим другом. Полковник Макс Питерсон! Аплодисменты, которые я услышал, были довольно громкими, но в то же время осторожными. Я не готовился к выступлению и потому сильно нервничал. И тем не менее теперь, оказавшись здесь, я решил высказаться от всего сердца. Все, что у меня было, – это искренность. Я едва не расплакался, когда начинал свою речь. И пока «Натан Б. Форрест» двигался вниз по грязным водам Миссисипи к Виксбургу, я рассказывал об ужасных опасностях, угрожавших Европе, и о том, как я был пленником большевиков. В каком-то смысле я изложил слушателям всю свою биографию. Постепенно я завладел их вниманием и добился расположения. Когда я почувствовал отклик, мое красноречие достигло высот, на которые я возносился лишь однажды, когда выступал с речью в университете в Петербурге. Я нарисовал им скорбную картину – отчаявшиеся женщины и дети пытались сесть на корабли, чтобы спастись от ревнивых и мстительных евреев. Католическая церковь ослабила Италию, Франция утратила силу, позволив евреям управлять экономикой и парламентом. Даже Англия подвергалась опасности со стороны тех же самых атеистов, социалистов и сионистов, которые напали на пострадавшую Германию. Я описал, как Муссолини и его люди сопротивлялись папе римскому и, следовательно, пытались создать страну, которая привлечет обратно многих американских иммигрантов. В Ирландии ложа оранжистов и другие протестантские организации подвергались атакам католиков-республиканцев, которые пытались установить тиранию в Ольстере. (Я знал, что многие клансмены пришли в орден из таких лож. Интерес к моей речи заметно усилился.) Потом я заговорил об угрозе ислама. Я объяснил, как еврейские деньги, католическое оружие и негритянская жажда крови угрожают всем нашим великим учреждениям. Я говорил в течение по крайней мере часа, описывая достоинства американцев, их достижения во всех областях, особенно в науке и инженерном деле. Я показал, какой опасности подвергались индустриальные центры, как иностранцы проникали в мир развлечений, как они завладевали газетами и создавали радиостанции. Только сильное законодательство могло одолеть соблазны джина и джаза. Россия разрушена, Европа застыла на краю. Если Америка не рухнет в бездну хаоса, то сможет подать пример другим. Слушатели вскакивали на ноги и размахивали руками в знак согласия. Я ликовал. Я закончил речь описанием своего видения американского будущего. Америка станет сильной и здоровой. Чистые, независимые города и плодородные земли прокормят великое множество людей. Американцы будут без страха ходить по ночным улицам и переулкам. Иностранцы, которые не смогут плодить детей из-за больших налогов на каждого ребенка, исчезнут в течение нескольких десятилетий. Развитие генетической науки позволит создать новую породу более сильных и здоровых нордических американцев, которые изменят мир. – И наконец, – закончил я, стараясь перекричать непрерывные аплодисменты, – это будет Америка, где слово «клансмен» станет синонимом чести, достоинства и благородства. Ваши потомки снова возглавят эту страну. Только клансмены, как показал мистер Гриффит, поддерживают прогресс и нравственность. Они готовы до последней капли крови сражаться за христианскую чистоту, за веру, которая смогла породить прекраснейшую цивилизацию в мире: ее могучие герои поражали весь мир своей силой и отвагой еще в славные дни Афин и Спарты! Мой идеализм, искренность и непосредственность произвели впечатление на всех присутствующих. Я сел под звуки несмолкающих аплодисментов. Мой акцент, обычно вызывавший подозрения, стал подтверждением откровенности и доказательством их христианской терпимости. У меня не было никаких эгоистических оснований для столь решительных суждений, и это придало всему сказанному особый смысл. Я чувствовал, что наконец обрел себя. Великий кладд принял мой завет. Я был настолько счастлив, что едва заметил, как он перешел к обычным делам. Клан рос чрезвычайно быстро во всех сферах, особенно на Западе и Среднем Западе, где клансмены или кандидаты, которых он поддерживал, занимали немало важных постов. Их недооценивали, местами они сталкивались с яростным сопротивлением, но их силы росли с каждым днем. Меня впечатлило доверие клана – мне позволили присутствовать при самых секретных выступлениях. Особенно важным был рассказ Великого клокарда о разных значительных людях, на которых можно было положиться: – Выборы продолжаются постоянно. И мы побеждаем. В следующем году, например, когда выборы пройдут в Мемфисе, мы непременно получим большинство в правлении. Мы уже избрали кандидатов на выборы в штате. Нас просто невозможно остановить. У нас миллионы членов, вдобавок многие миллионы проголосуют за клан. Мы уже готовим кандидатов на пост президента от республиканской и от демократической партий. В ближайшие пять лет нашим национальным лидером станет клансмен. Эти последние сведения показались новыми и волнующими не только мне, но и людям в зале. Я теперь понял, почему данный конкретный клонверс был столь важен. Следовало найти средства материальные и моральные, чтобы начать важный новый этап воплощения политической программы клана. Из толпы вышел Великий циклоп, который назвал свой ранг и сферу. Он был в основном согласен со всеми высказанными идеями. Однако его огорчала дурная слава, из-за которой клан мог потерпеть поражение на ключевых выборах. Некоторые члены ордена надели белые капюшоны только для того, чтобы добиться личных целей. В последнее время в Миссури клансмены дважды убивали членов семей, с которыми враждовали в течение многих лет. – Даже у черномазых есть права. Мне известен случай, когда негритянку и ее отца убили из-за того, что у нее якобы был ребенок от клансмена. Подобные беззакония, хотя и редкие, привлекают внимание враждебной прессы. Наши политические враги бессовестно преувеличивают их. Я полагаю, что Имперский маг должен издать указ об изгнании правонарушителей из рядов клана. Если он этого не сделает, то мы лишимся поддержки как раз тогда, когда она нам больше всего нужна. Имперский маг поднял руку в отороченном золотом пурпуре – он был готов ответить. – Разве вы не согласны: то, что хорошо для Массачусетса, брат циклоп, не обязательно подойдет для Техаса? – Он говорил медленно, тщательно взвешивая каждое слово. – Там у людей есть некоторые серьезные проблемы. То же самое касается и Калифорнии с ее фермерами-япошками. Если некоторые из наших парней клеймят или избивают людей, переступающих черту, – и я не говорю, что одобряю их, – может статься, таков единственный разумный выход в той части страны. Я уверен, что никто из нас не желает людям зла, независимо от их расы, происхождения и убеждений. Но мы никогда не должны забывать о главнейших принципах нашего ордена, возродившегося в ту решающую ночь на Стоун-Маунтин в Джорджии семь лет назад. Нам нужно помнить о том, что привлекает обычных людей в наш орден. Мы показали, что готовы принять меры, на которые боятся пойти другие. Мы всегда должны быть готовы, если потребуется, поднять оружие в защиту достойного христианского образа жизни. Страх должен стать таким же оружием в нашем арсенале, как убеждение или вера. Наша обязанность – подавать людям пример. Седовласый клансмен поднял руку, привлекая внимание: – Мы не можем ставить под угрозу христианские принципы ради получения нескольких голосов либералов. – Вот именно! – Имперскому магу это понравилось. Потом заговорил Великий клаби из Айовы: – Если клансмен станет следующим президентом США, мы осудим разгул насилия где бы то ни было! Последовала пауза, и возникло некоторое напряжение, а потом Имперский маг со сдержанным достоинством ответил: – Это тоже верно. Сегодня в нашей власти избрать половину губернаторов страны, а возможно, и больше. С тех пор как я организовал этот орден, мы за три года увеличили количество членов от нескольких тысяч до могучей силы, достаточно большой, чтобы заставить Вашингтон дважды призадуматься. В дальнем конце плавучего зала раздался голос: – Это правда! Имперский маг любезно склонил голову, добавив: – Нам также следует признать поразительные успехи миссис Моган в привлечении новых членов. Со своего места на противоположном конце сцены поднялся Великий кладд. Когда он сделал шаг, корабль содрогнулся, как будто меняя курс. – Я согласен. Имперский маг и миссис Моган придумали чертовски надежный метод расширения наших рядов. Деньги опускаются в сундуки наших кампаний. Нравится нам это или нет, но такова наша главная задача. До тех пор, пока мы не сможем выбрать кандидатов в президенты и от республиканцев, и от демократической партии, предпочтительно по открытому списку клана, нам придется рыться в дерьме. – Мы – американцы! – Громкий голос Имперского мага заглушил общий ропот. – Мы верим в демократические порядки, такова одна из основ нашего государства. Это означает, что мы должны завоевывать голоса. Голоса стоят денег, особенно когда дело доходит до назначений. У нас должны быть сильные кандидаты. Безупречные люди. Истинные белые, которые смогут отстаивать наши принципы и нашу веру. Люди, которые нам нужны, обходятся недешево. Нам пригодятся и пятицентовики, и десятицентовики от всех членов. Великий клаби из Айовы решительно ответил: – Люди, которые вам нужны, сдерживают конные налеты и суды Линча. Останавливая самых ретивых и грубых, мы скоро сможем заполучить собственных судей и начальников полиции. Они сделают то, что мы сейчас делаем в «комитетах бдительности». Нам не следует вести дела с этими лошадниками. Используйте свою власть, чтобы уничтожить или остановить их. Потом сообщите об этом газетчикам. Увидите, сколько людей присоединится к клану по коммерческим соображениям. Страховые агенты, владельцы магазинов, банкиры, хозяева фабрик – все солидные, респектабельные люди. Образованные люди. Надолго ли они останутся с нами, если решат, что слишком многие надели белые капюшоны потому, что они вне закона? – Маски уравнивают нас, – произнес стоявший в тени Великий клалифф. – Страховой клерк чувствует гнев и желание бороться с несправедливостью точно так же, как всякий батрак. Банкиру острые ощущения от конных налетов нравятся не меньше, чем кузнецу. Вы не понимаете, сколько людей одобряет то, что наши парни устроили в Гаррисоне в прошлом году[405]. Но они никогда не скажут об этом прямо. Мы справились с проклятой забастовкой и вышвырнули так называемых методистов из города. Девяносто девять процентов жителей Арканзаса нас поддержали. – Вашингтон важнее. – Еще один Великий циклоп вышел вперед, размахивая руками. – Кровь любит деньги, но деньги не любят крови. Внезапно вскочил майор Синклер: – Вспомните, почему мы существуем, сэр. Если мы позабудем, что мы – прежде всего защитники белой расы, то можем в тот же миг распустить орден. Мы настойчивы, сильны, разумны, и это легко заметить. Я присоединился к братству в первые годы, в Атланте, потому что нашим женщинам угрожали на улицах, на них косились черномазые и иностранцы. Я не хочу дожить до того дня, когда мои дети будут работать на завладевших деньгами евреев и вступать с ними в браки, когда они откажутся от своей веры, поддавшись уговорам каких-нибудь джазовых иезуитов. Больше мне определенно нечего сказать, джентльмены! Его слова с энтузиазмом поддержали, и Имперский маг спокойно произнес: – Спасибо, Великий дракон. Я думаю, вы говорите от имени всех нас. Но даже после этого одобрительные крики и отдельные возгласы клансменов смолкли не сразу. Я испытывал искреннюю симпатию к этим людям, мне нравилось то, как прямо и честно они говорили и действовали. Я всегда сочувствовал идеалистам, где бы с ними ни сталкивался. Если бы это было уместно, уверен, я бы тоже вскочил на ноги и начал аплодировать. Имперский маг был суров: – Ни один человек никогда не подвергал сомнению мою верность и способность дать этому ордену власть, которая ему теперь принадлежит. Когда полковник Симмонс поручил мне управление кланом, он был прекрасно осведомлен о моей вере в наши идеалы. Он это подтвердит, когда возвратится после заслуженного отдыха и предстанет перед нами как Император. Полковник Симмонс написал книгу, которая стала для нас всем, наш великий «Клоран»[406]. Я клянусь этой книгой или самой Святой Библией: он поддержит все, что я сделал, и все, что я сделаю. А пока я прошу вас терпеливо относиться к нашим наиболее порывистым братьям. И я согласен, что нам следует использовать более изощренные методы везде, где только возможно. Его поддержал еще один Великий дракон, говоривший с резким новоанглийским акцентом: – Я не думаю, что кто-то из присутствующих станет подвергать сомнению веру полковника Симмонса в нашего Имперского мага. Он хотел снять напряженность, хотя я не видел вреда в их спорах. При дворе короля Артура, в конце концов, тоже случались разногласия. Спор подошел к концу, и атмосфера улучшилась. Имперский кладд сказал: – Пока Имперский клаби дает финансовый отчет, некоторые сановники должны ненадолго нас покинуть, чтобы обсудить определенные вопросы, затронутые сегодня вечером. После этого майор Синклер подал мне знак, и мы последовали за Имперским магом через боковую дверь в небольшую гардеробную. Здесь лидер клана глубоко вздохнул, сняв свой высокий головной убор. – В этих штуках ужасно душно, даже зимой. – Он улыбнулся и протянул мне красивую, ухоженную руку. – Спасибо, что пришли, полковник. Я много слышал о вас. Я Эдди Кларк[407]. Мне кажется, вы выпиваете. Я сказал ему, что пью умеренно. – Тогда давайте восстановим силы у меня в каюте. Это был худощавый, изящный мужчина. Он вел себя интеллигентно, культурно, тем самым демонстрируя лживость представлений о клансменах как о небритых хамах. Очки в роговой оправе и темные вьющиеся волосы придавали ему облик академика из какого-то чудесного университетского городка, а не могущественного политического деятеля. Он вел себя непринужденно и был очень обаятелен, это во многом объясняло его успех. Он присоединился к клану в 1920 году в качестве Клеагла, а теперь стал опытным руководителем. Полковнику Симмонсу, романтичному и благородному старому южанину, недоставало политической воли, чтобы сделать клан подлинной силой, какой он стал теперь. Но та решающая ночь на Стоун-Маунтине, когда он собрал нескольких братьев по духу, чтобы возродить орден Рыцарей Огненного Креста, до сих пор считалась важнейшим моментом в истории движения. Каюта Имперского мага располагалась на носу корабля, здесь качка была не так заметна. Он подошел к стене, нажал на потайную кнопку и открыл небольшой шкафчик, полный превосходного алкоголя. – Разумеется, эти услуги включены в стоимость аренды корабля. Я попросил простой водки. Мне никогда не нравилась американская привычка смешивать напитки так, что все они на вкус напоминали газировку с сиропом. Майор Синклер и мистер Кларк выбрали ржаное виски. Мы подняли рюмки. – За долгое и выгодное сотрудничество, полковник. – Кларк не скрывал своего восторга. – Меня потрясло то, что вы сказали, и то, как вы это сказали. Из первых уст. Да, нам стоило рискнуть и пригласить вас. Этот клонверс, как вы, вероятно, понимаете, имеет особое значение. К тому же он предоставил нашим ведущим деятелям со всех концов страны возможность хорошенько вас рассмотреть. А вы, в свою очередь, теперь неплохо понимаете, к чему мы стремимся и какие проблемы перед нами стоят. Он говорил спокойно, но многозначительно. Это была не просто вежливая беседа. Он почти ухаживал за мной, изучал меня, как мне казалось, с необычайным уважением. – Вы знаете, как я восхищаюсь кланом, мистер Кларк. Еще в Европе я был поражен самоотверженностью и отвагой ваших рыцарей. В Европе нет ничего, что могло бы сравниться с вашим орденом, хотя там он, несомненно, необходим. – Я говорил искренне, и все же мне было интересно, чего он от меня хочет. Кларк снова наполнил наши бокалы: – Нас уже очень много, и наши ряды постоянно пополняются, полковник Питерсон. В некоторых штатах большинство составляют те, кого называют «белыми бедняками». Несомненно, вы заметили, что на меня оказывают давление, требуя призвать к порядку людей, которые немного перегибают палку в своем энтузиазме. Я отказываюсь. Я считаю, что нужно всеми имеющимися средствами привлекать представителей высших классов, которые сейчас поддерживают нас только мыслями, а не делами. Чтобы стать подлинной политической силой, мы должны добиться их поддержки, в том числе финансовой. Вы понимаете меня? – Учитывая роль клана в борьбе с забастовками, я удивлен, что вас до сих пор не финансируют крупнейшие промышленники. У вас, несомненно, общие интересы. Возможно, только нелестные отзывы в прессе вызывают у них сомнения. – Я надеялся, что эта оценка покажется разумной. – В яблочко, полковник Питерсон. – Мистер Кларк хлопнул майора Синклера по плечу. – Вы были правы насчет этого человека, Эл. Я вам благодарен. – Он снова обернулся ко мне. – Именно поэтому мы хотим пригласить вас, полковник. Устроить общенациональный лекционный тур. Все газеты во всех городах, которые вы посетите, напечатают ваши слова. Я читал статьи в мемфисских газетах. У вас превосходная репутация. Вы можете авторитетно рассуждать об ужасах неограниченной иммиграции. Вы респектабельный, разумный, привлекательный человек, люди вас послушают. Вы выдающийся ученый, у вас нет корыстных целей, вы не связаны с американскими политиками. Ваша скромная поддержка клана может оказать нам неоценимую помощь в деле пополнения рядов. Мы хотели бы финансировать вас, но не напрямую. Оплата будет щедрой, а все условия путешествия – первоклассными. Клан может быть не только опасным врагом, – он сделал паузу, и я подумал, не является ли это своеобразным предупреждением, – но еще и верным другом. Разумеется, мне это понравилось. Предложение клана могло существенно повлиять на улучшение моего статуса. К сожалению, я думал, что оно противоречит моему желанию следить за постройкой мемфисского аэродрома и самолета. И все же присоединение к такой влиятельной политической группе обещало множество преимуществ. Оно могло означать полную безопасность для нас с Эсме и, вероятно, важную должность в правительстве, которую я вполне заслуживал. По этой причине я не стал сразу отказываться. – Это очень лестно, сэр. Однако в настоящее время у меня есть неотложные дела. Я был бы признателен, если бы мне дали несколько дней, чтобы обдумать ваше предложение. Имперский маг уже предположил, что мне потребуется время. – Майор Синклер будет в Мемфисе через несколько дней. Он полетит обратно в Атланту на «Рыцаре-ястребе». Вы завтра собираетесь в Литл-Рок, не так ли, Эл? – Если погода не испортится. Я мог бы в один перелет преодолеть все расстояние. Что бы я ни решил, я все равно проведу в Мемфисе еще немало времени. Мистер Кларк просиял: – Итак, когда примете решение, полковник Питерсон, просто сообщитемайору Синклеру. Он передаст мне новости в Кланкресте, нашем штабе в Атланте. – Надеюсь, что вскоре свяжусь с вами, сэр. Между нами возникла сильная, почти сверхъестественная связь, когда мы стояли в этой красно-бело-синей каюте. Мистер Кларк рассказал майору Синклеру историю об одном федеральном шпионе, который попал в аварию. Если рассказ предназначался для моих ушей – в нем не было необходимости. Я уже знал, как клан наказывал шпионов и предателей, и полностью одобрял их тактику. Мы подняли бокалы в последнем тосте: «За Америку!». В глазах майора Синклера сиял свет идеалистического патриотизма. Майор напоминал тех отважных русских аристократов, которые обещали отдать жизнь за царя и Христа в борьбе против большевизма. Я вновь с трудом сдержал слезы. – За Америку! – сказал я. В первые часы холодного мемфисского утра «Натан Б. Форрест» медленно приближался к пристани. Я стоял у поручней рядом с майором Синклером, наблюдая, как вода в лучах рассвета постепенно приобретает ртутный цвет. За время, проведенное на борту, я свел знакомство с ведущими клансменами из разных концов страны. Мы все ликовали. С 1920 года силы клана стремительно росли. Все происходило очень быстро. Многие члены еще не понимали, какого могущества достиг орден. Клеагл Индианаполиса объяснил мне, что клан вынужден хранить тайну. Невидимая империя ку-клукс-клана была создана для борьбы с чужеродными группировками, имеющими отделения во всех странах: сионистами, «Рыцарями Колумба», анархистами, сицилийской «Черной рукой», мормонами, тонгами[408]. Мистер Кларк подчеркнул: если они открыто заявят о своих интересах и целях – то же сделаем и мы. В интересах демократии мы вынуждены использовать вражеские методы, пока у нас нет власти в Вашингтоне. А когда власть будет у нас в руках – мы вызовем их на открытый бой согласно закону. Они заплатят за долгие годы лицемерия и лжи. И неважно, идет ли речь о колдовских культах в Луизиане или о католиках в Таммани-холле. Подобно мне, мистер Кларк никогда не забывал о морали, каким бы окольным ни казался путь к ней. Майор Синклер пребывал в наилучшем настроении, когда отвозил меня в «Адлер апартментс». Прежде чем расстаться, мы крепко пожали друг другу руки и немного постояли, любуясь восходом. Майор сказал, что я произвел прекрасное впечатление. Он искренне надеялся, что я захочу помочь делу, с которым связана его жизнь. Я поднялся в свою комнату, размышляя о всемирном клане. Я думал, сколько общего у греческого православия и протестантизма. Они выступали против Рима. Объединившись, рыцари ку-клукс-клана могли победить всех врагов христианского мира. Лежа в постели, я мечтал о будущем, когда победа наконец будет одержана. Свободные люди в свободном мире избавятся от масок, регалии будут нужны только на церемониях – так, к примеру, почтенные южане иногда облачаются в мундиры Конфедерации. Огромные сияющие города поднимутся к небесам, больше не опасаясь иностранной угрозы. Кажется, я еще немного побаивался. Приняв приглашение и взойдя на борт «Натана Б. Форреста», я сделал решительный шаг – пути назад не было. Где-то в тени прятался Бродманн, он усмехался и дразнил меня, грозя пальцем, намекая на тонкую и невообразимую месть. Я посмотрел вверх и увидел, что последний из городов удаляется. Я остался один. Я проспал всего несколько часов. Я почти обрадовался, когда меня разбудил громкий барабанный стук в дверь. Поспешно натянув халат, спотыкаясь, я открыл посетителю. Это оказался мистер Роффи. – Вы спите допоздна, полковник. Вел он себя сурово, почти нетерпеливо. Он шагнул в темную комнату и сел в мое кресло. Я отдернул занавески и распахнул ставни – свет оказался неожиданно ярким и ослепил меня. Тем временем мистер Роффи пригладил волосы, поправил жилет и немного успокоился. – Извините меня за вторжение. У меня есть кое-какие чрезвычайно хорошие новости, сэр. Я решил сразу приехать к вам, чтобы сообщить их. Меня поразил контраст между внешностью мистера Роффи и его словами. – Не хотите кофе? – Я потянулся за банкой. – Спасибо, я уже позавтракал. Но я закурю, если вы не возражаете. – Он зажег большую сигару и втянул дым так, как изголодавшийся ребенок глотает материнское молоко. – Сегодня утром мистер Гилпин получил сообщение. Наша стратегия принесла плоды. Мы получили практически все необходимые подписи – Торговой палаты, Законодательного собрания штата, самого Конгресса. Они называют это «Мемфисским экспериментом», знаете ли. Вся страна будет следить за нами. Если мы добьемся успеха, Нэшвилл готов начать собственный проект, используя нашу компанию в качестве базовой. Он явно был сбит с толку и расстроен, но я не мог понять, насколько это связано с его сообщением. – Когда мы начинаем работу? – спросил я. – В начале июня, если получим участок, который нам нужен. – Он тяжело вздохнул, возможно, пытаясь успокоиться. – Решающим для нас стало требование четырехсот пятидесяти тысяч долларов залога. Все, что нам сейчас нужно, – выложить наличные. Остальное пойдет как часы. Мы, несомненно, немедленно вернем наши деньги. Наша прибыль в первый же год будет стократной. Вы получили известия из Европы? Я тяжело вздохнул и присел на край кровати. Конечно, я ничего не получал. Я изо всех сил старался сдержать дрожь. Мистер Роффи уставился на меня сквозь завесу сигарного дыма. – Что случилось? – Я, в общем-то, надеялся, что за дверью мальчик из «Вестерн Юнион». Мои агенты сообщают, что инфляция в Германии вызвала панику по всему континенту. Именно поэтому дела движутся так медленно. – Весь наш план зависит от вашего взноса, полковник. Возможно, в Нью-Йорке у вас есть какие-то средства, которые можно перевести в наличные. – Недостаточно. – Я больше не мог придумать никаких оправданий. Вскоре, если Коля не ответит, мне придется признать, что я на самом деле беден. Я полагал (возможно, это прозвучит абсурдно), что в таком случае моя жизнь может подвергнуться опасности. Наконец я добавил: – Сегодня придет ответ. А пока не поможет ли моя долговая расписка? – Лучше, чем ничего. – В голосе мистера Роффи звучали одновременно и страх, и подозрение. Извинившись, я удалился в ванную и принял немного кокаина. Когда я вернулся, руки по-прежнему дрожали, но мне удалось составить документ, в котором я пообещал передать сто пятьдесят тысяч долларов «Мемфисской авиационной компании». – Наличные скоро будут, – заявил я. – Сегодня или никогда, полковник. – Мистер Роффи аккуратно свернул документ и убрал его в нагрудный карман. Медленно поднявшись на ноги, посетитель повернулся к двери. – Все зависит от вас. Завтра мы втроем будем стоять у руля большого предприятия – или нас вываляют в смоле и перьях и вышвырнут из города. Мы с мистером Гилпином дали гарантии банкам, сенаторам, конгрессменам, чиновникам и кредиторам. Если не будет ваших денег, мы разоримся. Это, конечно, очень плохо и для мистера Гилпина, и для меня. Мы – люди чести. Насмешки и унижения, вероятно, погубят Гилпина. Но ведь вам тоже придется несладко, полковник. Тюрьма? Вас, разумеется, вышлют. Куда, как вы полагаете? – Его рука дрожала, когда он подносил сигару ко рту. – Во Францию? Эта перспектива встревожила меня больше всего. Меня арестуют, как только я сойду на берег в Гавре. Я выпроводил Роффи. Вдохнув немалую дозу кокаина, я принял ванну, переоделся, выпил теплый кофе, который приготовил сам. Мне следовало рискнуть и послать Коле еще одну телеграмму. Какие оставались варианты? И тут меня внезапно осенило. Наш эксцентричный итальянский друг когда-то предлагал мне связаться с его кузенами, добившимися успеха в Америке. Я составил телеграмму на французском и пошел в «Вестерн Юнион». Я отправил послание Аннибале Сантуччи в Рим по адресу «Ресторан Мендосы, виа Каталана». Я объяснил, что мне нужно на несколько дней взять взаймы крупную сумму. Знает ли он в Америке человека, который мог бы помочь? Ответ нужно прислать на имя полковника Питерсона. Я в панике отослал еще несколько телеграмм Эсме, сообщив, что люблю и не забываю ее, а также миссис Корнелиус, которую попросил связаться со мной как можно быстрее. Я сделал все, что мог. Когда я поднимался по лестнице в свой номер, миссис Трубшоу, которой я назначил встречу, вошла через центральную дверь и спросила обо мне. Она меня отвлекла, а мне это было необходимо. Остальную часть дня я провел среди ее застежек и бантов, в изысканном греховном разврате. Я потратил остатки универсального лекарства, которое местные жители называли «конфеткой». Миссис Трубшоу отметила, что мистер Роффи и мистер Гилпин выглядят как-то нехорошо. Она боялась, что они прожигают жизнь. Если они не научатся осторожности, смерти от сердечного приступа им не миновать. «Два старых прохвоста так и не выросли», – сказала она. К вечеру, когда миссис Трубшоу помчалась домой, чтобы приготовить ужин мужу, я еще не получил ответов на свои телеграммы. Мне предстояло снова встретиться с партнерами и дать убедительное объяснение тому, что денег пока нет. Я подумал о неудачном вложении акций, о незадачливых брокерах, которые поместили капитал в какой-то сомнительный фонд. Но эта история требовала подтверждений и доказательств. Я вновь облачился в лучший вечерний костюм, затем сел и стал ждать неизбежного стука в дверь. Я решил: если они не появятся в течение часа, стоит отправиться в ближайший публичный дом хотя бы для того, чтобы пополнить запасы кокаина. В семь тридцать я надел пальто и потянулся за шляпой и перчатками. В это время раздался стук. Открыв дверь и увидев мистера Гилпина, я был потрясен. Его обычно румяное лицо побледнело. Кожа, казалось, обвисла – теперь он походил не на бравого вояку, а на заключенного, поникли даже его усы. Он без единого слова переступил порог. Я тотчас сообщил, что пока не получил новостей. – Мы так и поняли, полковник. – Он тяжело вздохнул. – Мы делаем все, что можем, лишь бы потянуть время. Я хорошо разбираюсь в людях. Я знаю, что вы не бросите нас в трудную минуту. – Я целый день посылал телеграммы во Францию, Италию и Англию. Он как-то странно кивнул: – Вы понимаете, что последствия могут быть самыми серьезными? – Наш план абсолютно надежен. Конечно, препятствия могут задержать нас, но мы преодолеем все трудности. – Это не так просто, сэр. Мистер Роффи дал твердые гарантии. Наши триста тысяч не покрывают этой суммы. Ваше участие – дело жизни и смерти. Роффи уже на грани, сэр. Он думает о самоубийстве. Надеюсь, что вы не испытываете никаких подозрений на наш счет… – Я вам целиком и полностью доверяю, мистер Гилпин. Все проблемы – из-за ситуации в Европе. Почти все правительства замораживают финансовые потоки – для них это нечто само собой разумеющееся. – Но ведь сто пятьдесят тысяч долларов – не такие уж большие деньги для вас, сэр? – Он провел рукой по волосам, которые пару дней назад напоминали белую львиную гриву. Сегодня этот лев был похож на дохлую кошку. – Средства вложены в основном в ценные бумаги. Мои агенты делают все возможное. Я надеюсь получить средства взаймы у своего банка. Но пока никаких подтверждений нет. Погрузившись в размышления, мистер Гилпин затуманенным взглядом окинул мою комнату. Потом он трагически посмотрел на меня: – Поймите, все дело в семье Роффи. Он – человек чести. Если он поймет, что не сможет сдержать слово… – Гилпин снова вздохнул и устремил взгляд на мой письменный стол. Полагаю, он начинал относиться ко мне с подозрением, но все-таки еще не хотел выражать свои сомнения открыто. Мое положение с моральной точки зрения было ужасно. Все мои выдумки могли теперь привести к гибели человека. – До этого не дойдет, мистер Гилпин, – сказал я. – Я добился небольшой отсрочки. Он смотрел на меня так, как будто я лично убил его старого друга. Он ушел, не подав мне руки. Вскоре я вышел из дома и зашагал по Мэдисон-стрит. Трамваи звенели и дребезжали на холодных улицах, свет из кафе и магазинов не мог рассеять темноту. Свернув за угол, я оказался возле довольно респектабельного бара, в котором завел роман с работавшей за стойкой молодой девушкой из Чаттануги. Я постучал и вошел внутрь. Почти на последние деньги я купил несколько больших пакетов «конфеток». Я был настроен сделать все возможное, чтобы избежать скандала и спасти Роффи от разорения. Я провел ночь у своей подруги и наутро вернулся в квартиру. К моему счастью, пришла телеграмма. Сантуччи ответил. Он не потрудился сократить свое сообщение. Он был столь же многословен, как и в личной беседе. Мне повезло, он оказался в Риме. Обычно в это время Сантуччи находился в Милане. У всех наших друзей дела шли хорошо, они стали «серьезно относиться к государственным делам». Все посылали мне и Эсме наилучшие пожелания. Сантуччи дал два адреса, один в Чикаго, другой в Сан-Франциско. Фамилии у обоих его друзей были одинаковые – Потеччи, или Поттер. Сантуччи не был уверен, какой город ближе к Мемфису. Где на самом деле этот Мемфис? Неужели я попал в плен к пропавшему колену египетскому? Этот многословный ответ, настолько доброжелательный и великодушный, настолько похожий на самого Сантуччи, меня очень обрадовал, даже несмотря на то, что я ожидал чего-то более полезного. От Коли, Эсме и миссис Корнелиус я не получил ничего. Я отыскал карту Соединенных Штатов. Взяв нитку, я попытался выяснить, какой из этих двух городов был ближе к Мемфису, но тут в мою дверь постучал швейцар. Он протянул мне записку. К моей превеликой радости, она была от Джимми Рембрандта! Он только что приехал в город и обедал в кафе Планкетта на Монро-стрит. Джимми просил, чтобы я присоединился к нему, если сейчас свободен. Он хотел срочно обсудить личное дело. Моя первая мысль была о том, что он получил новости от Коли. Потом мне пришло в голову, что он просто хотел вернуть взятые взаймы пятьсот долларов. Джимми мог бы даже помочь мне найти деньги, которые спасут меня и моих партнеров. Надежда во мне боролась с отчаянием. Я переоделся и поспешил в ресторан. Это было старомодное заведение с дубовыми кабинками, мраморными столиками и отделкой в стиле рококо. Джимми уже начал есть, когда я окликнул его. Он раздраженно огляделся. Выражение его лица не изменилось, когда он меня узнал, – Джимми остался мрачным и сердитым. Он почти неохотно встал из-за стола и вытер губы салфеткой, избегая моего взгляда, как будто я застал его за поеданием человеческой плоти. Я ничего не мог понять. Когда Джимми сел, я заметил, что он явно путешествовал всю ночь – его костюм был помят. Джимми как-то механически расправил плечи и улыбнулся. Он попросил, чтобы официант не приносил основное блюдо, пока я не сделаю заказ. Я сказал, что он выглядит очень усталым. Джимми прилагал усилия, чтобы сохранять обычную учтивость. Это встревожило меня еще сильнее. Некоторое время мы вели светскую беседу, и все наши реплики звучали несколько натянуто. К тому времени, когда принесли мою еду, я уже хотел спросить Джимми, что не в порядке. Неужели он чувствует себя настолько виноватым из-за того, что до сих пор не смог мне вернуть пятьсот долларов? Доев свиную отбивную, он аккуратно положил нож и вилку на тарелку, вздохнул, а потом посмотрел на меня светлыми серыми глазами. – Макс, я явился как друг и хочу тебя малость вразумить. Он говорил совсем не так, как раньше: резче и как будто спокойнее – примерно как Сантуччи. Он использовал сленг, на котором раньше беседовал с Люциусом Мортимером. Теперь я мог лучше понимать его – прежде всего из-за близких отношений с проститутками, которые тоже говорили на этом диалекте. Я понял суть его первой фразы, но понятия не имел, что Джимми хотел сказать. – Этот Роффи… – Рембрандт сделал паузу. – Он спятил и готов как следует врезать. Он думает, что ты – жульман. Именно поэтому я здесь. Чтобы ты все просек. – Мистер Гилпин сказал, что мистер Роффи очень беспокоится. – Он с ума сходит. Он сказал мне, что ты его подставил. От твоей налички зависит спасение проекта аэропорта. Что произошло, Макс? Ты собираешься сбежать? Ты думаешь, что они – просто парочка кидал, или что? – Конечно, я им доверяю. Я сделал все, что мог, лишь бы получить деньги. Я ужасно беспокоюсь из-за этого, Джимми. Мистер Гилпин сказал мне, что мистер Роффи подумывает о самоубийстве. – Скажем так: сейчас он немного не в себе, Макс. Похоже, Роффи достаточно разозлился и может в любой момент накапать. – На кого? – На тебя. Он говорит, что сдаст тебя полицейским. Может, натравит газетчиков. Расскажет, почему ты поспешно уехал из Франции. У него есть на тебя кое-что, приятель. Он всю твою карьеру знает. Я удивленно уставился на Джимми: – Как он мог узнать? Джимми, я настаиваю… – Должно быть, кто-то подкинул ему информацию. Или он раскопал то же, что и я. Я почувствовал себя совсем дурно. Я отодвинул свою тарелку. – Ты знаешь, что эти обвинения совершенно ложны! Я объяснил это, когда мы впервые встретились в Нью-Йорке. И ты мне поверил! – Для Роффи это не важно, по крайней мере теперь. Подумай о своих делах, Макс. Жулик и самозванец? Для властей этого достаточно. Тебя депортируют во Францию. И наверняка посадят в каталажку. Я слабеющей рукой подал знак официанту, и тот унес мою тарелку. Я попросил стакан воды. Меня всего трясло. На сей раз я не мог справиться с дрожью. – У него есть моя долговая расписка, Джимми. – И что?.. Я наклонил к нему голову и многозначительно прошептал: – Ты знаешь, что обвинения были ложными! – Да, это обман. Но такие обвинения могут прилипнуть. Ты в это веришь – иначе тебя бы здесь не было. Они обвинят тебя, Макс, если ты не заплатишь свою треть. Что это для тебя? Сто пятьдесят несчастных кусков? Успокой их как можно быстрее. Рассчитайся с Роффи и Гилпином. Ты скоро все получишь обратно. Ты же не захочешь смотреть, как твои друзья идут на дно. По крайней мере, послушай моего совета. Я должен был это сказать. Роффи уже спятил, он способен на все. Если он не остынет, готов поклясться, что тебе не уехать из Мемфиса иначе как в ящике со льдом. – Он убьет меня? – Может, не сам Роффи. Но у него есть друзья, которые не слишком разборчивы. Я поверил ему. Я уже вспотел. От внезапно нахлынувшего ужаса я едва мог перевести дыхание. Да, я был со смертью на «ты», но от того легче не становилось. Казалось, что-то сильно сдавило мне грудь. – Разве ты не можешь поговорить с ним? Сказать, что я прилагаю все усилия? – Макс, просто отдай Роффи его комиссионные. Что с того, если он и впрямь надувает тебя? Это лишь маленький кусочек твоего пирога. В газетах писали, что ты прихватил двадцать миллионов. Там всегда пишут ерунду, я знаю. Я скорее готов считать, что ты взял десять. Ты можешь себе позволить такие расходы. – Джимми, я говорил тебе, что газеты врали! – К тому времени я весь покрылся потом. – Так что, пять? – Я ничего не крал. Я приехал в Нью-Йорк почти без гроша. Я жил за счет Роффи и Гилпина. В Нью-Йорке я продал кое-какие драгоценности, но теперь у меня нет ни цента! С шепота я перешел почти на крик. Потом я попытался вновь понизить голос. Он стал совсем хриплым. По крайней мере, хоть кому-то я рассказал всю правду. Я почувствовал, как тяжкий груз падает с моих плеч. Но на его месте оказалось новое бремя, и я полностью перестал себя контролировать. – Патент в Вашингтоне ушел за гроши. Вот как я смог ссудить тебе пять сотен. Если бы я сказал им, что сижу на мели, они бы мне не поверили. Ты же сам мне советовал: делай вид, что ты богат, – и только тогда люди начнут относиться к тебе серьезно – неважно, насколько хороши твои идеи. Я послушал твоего совета, Джимми! Лицо Рембрандта стало совсем белым. Он закурил сигарету и настороженно посмотрел на меня: – Макс, какая-то снежная буря просто… Откуда мне знать, что это не бред? – Кокаин на меня так не действует. – Ты хочешь сказать, что по-настоящему невиновен? Лягушатники действительно подставили тебя? Ты чист как слеза? Я кивнул: – Раньше ты мне верил. – И ты не сможешь раздобыть даже пару сотен долларов? – Ну, разве что если заложу свою одежду. Джимми шепотом выругался. – Но во всех чертовых газетах писали, что ты крупный жулик, Макс. Мошенник столетия! – Он посмотрел на меня как удивленный ребенок. – Господи Иисусе! Неожиданно я почувствовал себя виноватым: – Наверное, кто-то и получил деньги. Но это был не я. Скептически поморщившись, он выдохнул дым: – Выходит, ты чертово трепло! Подстава! Сбежал из страны, так и не поняв, что случилось. Здорово! Так, похоже, мы теперь выглядим как настоящие болваны! – Он покачал головой. – Значит, Рождества не будет, – добавил он, как будто обращаясь ко всему ресторану. – Ты не прав, если ты думаешь, что Коля предал меня. Я подозреваю де Гриона. Мой друг – князь королевской крови. Он спас меня, Джимми. Он спас бы меня и теперь, если бы мог. У меня нет его нового адреса. Однако друг из Италии… – Какое роскошное жульничество! Джимми уже не слушал меня. Мне его реакция показалась странной. Он как будто восторгался преступниками, которые меня предали, а еще смеялся над собой. А ведь буквально несколько минут назад он предупредил, что моя жизнь в опасности. Возможно, ирония помогала ему скрыть собственный страх, но в любом случае это меня встревожило. На губах его появилась улыбка, затем он нахмурился: – И какими же идиотами мы себя выставили! Нас надули, как малых детей! Все эти месяцы… Планы. Расходы. Мы все вбухали в дело. Это я заставил Люциуса уговорить тех старых хитрецов! О господи! Хотя многие из его замечаний оставались неясными, можно было сказать, что он по-настоящему расстроен. – Уверяю тебя, Джимми, я всей душой поддерживаю план. Я никогда не хотел никого обманывать, а меньше всего тебя и майора Мортимера. Я предлагал свои услуги, свои патенты, свои навыки, мозги. И ведь с этой стороны все в порядке. Если бы у меня были наличные, я немедленно отдал бы их мистеру Роффи! Я поставил на кон не меньше, чем он. Я не хочу, чтобы наш план рухнул. Джимми явно расстроился. Он поручился за меня перед друзьями, а я его так подвел. Я не мог успокоиться и все извинялся и извинялся. Я попытался взять его за руку. Он как будто не заметил моего прикосновения. Джимми словно бы вообще ничего вокруг не видел. Он рассеянно смотрел на круглые лампы, висевшие вверху, и чему-то усмехался. Неужели мы оба сошли с ума? Я не мог тогда понять, почему он так реагирует. Конечно, это был просто шок. Много раз я возвращался к этой встрече и ломал голову над тем, почему он совершенно неожиданно рассмеялся. Я изумленно уставился на него. – О господи Иисусе! – Он был беспомощен. – Мы сами нашли приключения на свои задницы! Ему не следовало брать всю вину на себя. Ответственность за случившееся лежала отчасти и на мне. Я никогда не обманывался в подобных делах. Biddena natla’ ila barra. Mashi yesma’[409].Глава семнадцатая
Почему радуются другие люди? Этот вопрос зачастую ставил меня в тупик. Реакция Джимми Рембрандта на мои затруднения в течение нескольких лет оставалась для меня загадкой. Когда мы с ним расставались возле кафе Планкетта, он все никак не мог прийти в себя и иногда фыркал и морщился от смеха. Он пожелал мне удачи, «хотя мне кажется, Роффи и Гилпину она понадобится больше». Он еще раз взмахнул дрожащей рукой и, не сказав больше ни слова, быстро зашагал по Монро-стрит и скрылся среди теней. Я видел мало забавного в своем тогдашнем положении. И совсем уж невесело стало на следующий день, когда я, приехав с пустыми руками из офиса «Вестерн Юнион», увидел Пандору Фэрфакс. Она выпрыгнула из автомобиля и бросилась ко мне. Миссис Фэрфакс спросила, видел ли я кого-то из своих партнеров. Похоже, оба исчезли, не оплатив аренду как своих квартир, так и моей. Они также задолжали значительные суммы различным типографам, проектировщикам, механикам, инженерам и рекламным агентствам. Ей самой пообещали наличные за аренду самолета. Рассчитывая на аванс за консультации, она уже сделала первый взнос за новый самолет. – Ходят слухи, – сказала она, – что люди «Босса» Крампа получили приказ достать их живыми или мертвыми. Тем вечером я оказался в необычайно затруднительном положении – мне пришлось объяснять, почему мои партнеры не оставили никаких координат. Я сказал, что, по-моему, они постоянно живут в Вашингтоне. Один из суровых подручных «Босса» Крампа пообещал проверить это. Он казался сердитым и подозрительным, но здравый смысл, вероятно, заставил его признать, что я говорю правду. Вдобавок он хорошо знал, какое положение я занимал в обществе, – очевидно, я ни в каком мошенничестве повинен не был. Тем не менее меня отвезли в небольшой офис над складом молочных продуктов на Юнион-авеню. Там я встретился с самим Э. X. Крампом. «Босс» был спокоен и вежлив. Он оказался выше, чем я ожидал, и носил бледно-синий костюм. У него были округлые, ровные черты лица, наманикюренные ногти и очки в роговой оправе. Он тоже почти сразу поверил, что мне ничего не известно о местонахождении партнеров и о деньгах, которые они задолжали в городе. Конечно, теперь Босс отрицал, что доверял этим двоим, и заявлял, что никогда ничего не слышал о залоге в четыреста пятьдесят тысяч долларов, который с нас потребовали. Было неблагоразумно говорить ему, что если бы требование не предъявили, то счета были бы быстро оплачены, и Мемфис к концу года стал бы гораздо богаче. Надо признаться, я не хотел ни с кем делиться своими предположениями: мои партнеры, убежденные, что я предал их, в панике бежали. Не имея возможности раздобыть еще сто пятьдесят тысяч долларов, они забрали свои деньги и вышли из дела. Я не хочу возлагать вину за собственные неудачи на других. Я позволил им поверить, что я богат. Они поступили честно. Если бы они хотели мне отомстить, то могли бы разгласить сведения о моем прошлом. Так что я по-прежнему верил в их честность. Некоторые из нас просто сильнее других. Возможно, оказавшись в их положении, я продолжал бы стоять на своем и преодолевать затруднения, а они просто потеряли самообладание. Больше всего, конечно, я сожалел о том, что пришлось заморозить еще один многообещающий, смелый и коммерчески выгодный проект. Политическая машина «Босса» Крампа теперь работала против моих планов. Он об этом сказал прямо. Теперь мне понятно, что моя дружба с майором Синклером, возможно, как-то повлияла на это решение. К сожалению, Крамп противостоял ку-клукс-клану, и поэтому он так и не смог привести Мемфис к процветанию. Эта вражда, основанная на злобных слухах, распространявшихся прокатолическим «Коммерческим вестником», – единственная причина, по которой Крамп так и не достиг высокого положения, на которое мог рассчитывать благодаря интеллекту и характеру. Возможно, он считал клансменов своими соперниками. Союз с кланом обеспечил бы ему не местное, а национальное влияние. Некоторое время я недоумевал по поводу исчезновения Джимми Рембрандта. Я подумал, что Джимми опасался моего гнева, потому что он в некотором роде бросил меня, а также Роффи и Гилпина. Возможно, он все еще переживал из-за пятисот долларов, которые задолжал мне. Узнав о состоянии Роффи, он мог подумать, что в случае моего убийства будет привлечен к делу. По-видимому, он возвратился в Нью-Йорк. Мне не полегчало, когда майор Синклер высказал свое откровенное мнение: Роффи и Гилпин были парочкой саквояжников и попросту использовали меня в своих целях. Я не понимал, какой им от этого был прок. Я решил, что не стоит рассказывать майору о том, какую роль я сыграл в их затруднениях, но заверил Синклера: только самые ужасные обстоятельства могли вынудить этих двоих оставить меня. Я заметил, что не лишился наличных. Я не нес ответственности за долги авиакомпании и за личные долги моих партнеров. Я строил самые дикие предположения, я думал о том, что какие-то иностранцы, пожелавшие уничтожить наше великое предприятие, похитили моих партнеров или избавились от них как-то иначе. Мне давно уже очевидно, что все крупные катастрофы дирижаблей в 1920‑х и 1930‑х годах – это результат сионистского саботажа. Также вероятно, что мои партнеры попали в лапы еврейских или итальянских ростовщиков. Ростовщики, как известно, жестоко обходились с неимущими должниками, неспособными платить непомерные проценты. Это также объясняло, почему Роффи и Гилпин так отчаянно перепугались в самом конце, когда я не сумел раздобыть деньги. Я изложил эту теорию полицейским, которые ко мне обратились. Они пообещали во всем разобраться. Но все они были людьми Крампа. Они пришли к выводу, что городские жители, и я в том числе, стали жертвами пары первоклассных мошенников. Конечно, в глубине души во всех неудачах я винил только себя и продолжал защищать своих партнеров даже в штабе полиции, куда меня пригласили, чтобы сделать официальное заявление. Потом у меня взяли интервью газетчики. Но заголовки на следующий день, само собой разумеется, выражали общее неблагосклонное отношение к Роффи и Гилпину. Я удостоился некоторого сочувствия, но их назвали «злодеями». По иронии судьбы, точно так же называли и меня во французских газетах. Полагаю, Коля защищал мое имя так же отчаянно, как я своих партнеров, и так же тщетно. Как только пресса находит козла отпущения, ее уже не остановить. Самый убедительный пример, разумеется, Адольф Гитлер. Никто никогда не пишет о пользе, которую он принес Германии, все просто повторяют разные дурные слухи. Подобные несправедливости становятся совершенно очевидными для человека, который прожил на свете так же долго и увидел столько же, сколько я. И уже не стоит о них рассказывать. Мир погружается в хаос. Правосудие – это фантазия, о которой скоро позабудут, как позабудут о белой расе, породившей эту фантазию. Любой подтвердит, что я – человек, наделенный интуицией, интеллектом, необычайными моральными качествами. Я не испытываю предубеждений по отношению к другим народам или взглядам. Но когда мне и моим собратьям угрожает омерзительный кровосос – что делать? Смолчать? Опустить руки? В решающий момент эти два старика сбежали. Если бы они остались, теперь считались бы героями, им поставили бы памятники в Овертон-парке. И все же их решение, как оказалось, принесло значительную пользу другим людям, хотя Роффи и Гилпин никогда не услышат за это благодарности. Они сбежали от разбитой мечты, которая вот-вот должна была стать реальностью. И у меня не осталось иного выбора, кроме как принять предложение Имперского мага. Я полечу в Атланту и там подниму свое знамя, я отправлюсь вместе с благородными рыцарями в великий крестовый поход, цель которого – спасение разума, справедливости, нравственности и свободы во всем мире. Я пришел к этому решению на следующий день после исчезновения моих партнеров. Похоже, кто-то в Мемфисе подвергал сомнению мои верительные грамоты, мою искренность, даже мое благородство. Меня дважды оскорбляли на улице. Мистер Бэскин в письменной форме предложил мне освободить квартиру. Даже миссис Трубшоу, которая, как я сначала подумал, приехала, чтобы утешить меня, предъявила какие-то смехотворные требования: она якобы ссудила мистеру Роффи две тысячи долларов и теперь настаивала на том, что мой моральный долг – выплатить ей деньги. Одно только время могло показать, кто лжесвидетельствовал и кто на самом деле пал жертвой обмана. Древние святые и герои отворачивались от эгоистичных и материальных проблем, получив знак свыше. Я тоже воспринял все эти события как некий знак: мне следовало отправиться дальше, нужно было странствовать по Америке и нести новую весть во все концы этой великой энергичной страны. В течение года я добьюсь такой известности, что история о небольшой фабрике и незначительном муниципальном аэропорте покажется ничтожной мелочью. Мне предоставили возможность завоевать весь Новый Свет с помощью собственной гениальности. Могучая, с научной точки зрения прогрессивная Америка станет самой сильной страной на Земле. Одержав победу здесь, я смогу повлиять на судьбы всего мира. И тогда наконец Россия, моя древняя, духовно богатая Россия, будет спасена от большевистских мусорщиков. Степи снова станут зелеными и красивыми, пшеница заколосится, леса сохранят покой и тишину, и появятся новые золотые города, города возрожденной Византии. Не стану утверждать, что сам Бог создал необходимые условия, изгнав бедных Гилпина и Роффи из Мемфиса, и дал мне возможность исполнить Его дело с помощью рыцарей ку-клукс-клана. Я не столь тщеславен. Однако не может быть сомнений: то, что поначалу казалось бедствием, помогло мне встать на верный путь и использовать дарованные Богом пророческие способности, чтобы послужить благу христианской веры. Как грек Павел был избран, чтобы стать посланником Христа в Риме, так и я, можно сказать, наследник греческого идеала, должен был стать апостолом в этом Новом Риме. Приняв решение, я тотчас почувствовал прилив радости. Все тревоги остались позади. Я больше не ждал новостей от Эсме, Коли или миссис Корнелиус. Я снова увижусь с ними через определенное время. Каждым атомом своего существа я осознавал, что наконец обрел истинное призвание. Я покинул Мемфис на следующий день, поднявшись в небо со старой тренировочной авиабазы «Паркфилд». Я покинул и огорченных друзей, и суровых критиков, под шум огромной толпы, которая собралась, чтобы увидеть, как «Рыцарь-ястреб» снимается с якоря. Мы поднимались в пугающее небо – черные облака катились и мчались над землей, которая становилась все темнее и темнее. Надвигался шторм. Шторм шел с юга. Надвигался шторм, который охватит все Соединенные Штаты. И пророки Америки встанут на палубах летающих городов и на платформах гигантских дирижаблей и будут выкрикивать свои предупреждения, словно исходящие с самих небес: «Остерегайтесь еретика, неверного, язычника! Проснись, Америка, перед лицом ужасной опасности! Узри вражеский меч, который рассекает тебя, когда ты спишь! Услышь вражеский голос, который обольщает твоих детей, вражеские верования, которые отнимают у тебя твою религию! Проснись, Америка, во имя Христа, узри угрозу и спасение!» Шторм несет пророка Божьего на шумных крыльях, гром и молния возвещают о его прибытии. С Юга, из Мемфиса, который некогда располагался в Египте, он придет, как пришел Моисей, чтобы повести детей Нового Света к великолепному будущему, их законному наследию. От плодородной Флориды до холодной Аляски, где царь некогда поднял свой штандарт, где двуглавый орел окинул взглядом землю и обрел наконец союзника, с которым можно построить христианский мир заново, – повсюду услышат глас пророка. Проснись, Америка! Корабль пророка виден в небе, и его знак – пламенный крест, греческий крест Kyrios. И так грек даровал имя и силу Его рыцарям. Kuklos: круг[410]. Kuklos: круг Солнца. Круг и крест – Единое! Господи помилуй! Христос воскрес! Христос воскрес! «Рыцарь-ястреб», освобожденный от тросов, ровно поднялся в воздух над полем. Сильные порывы ветра сотрясали корпус. Корабль дрожал и качался при каждом ударе. Я вцепился в стенку кабины, глядя, как скрывается внизу толпа. Ветер был очень силен, и я боялся, что мы разобьемся, но майор Синклер управлял такими аппаратами много раз, с самого начала войны. Он крепко держался за руль, изящно и аккуратно регулируя высоту и направление движения. Двигатель «роллс-ройс» ревел в полную силу. Мы двигались вперед, пока не оказались над большой рекой и стоявшими на якорях пароходами. Мемфис, с его центром из стали и бетона, кирпичными и деревянными пригородными домами, мостами и железнодорожными путями, постепенно утрачивал свои неповторимые очертания, становился неотличимым от других городов, построенных на берегах реки. Я склонился над краем кабины, наблюдая, как майор Синклер управляет дирижаблем. Ветер бил мне в лицо, трепал одежду, срывал с головы шлем и очки. Наша гондола дрожала так сильно, что мне казалось: вот-вот вылетят заклепки. Все, что не было прочно закреплено, грохотало с неимоверной силой, однако майор Синклер ничуть не беспокоился. Ему это возбужденное состояние казалось настолько привычным, что я сомневаюсь, замечал ли он вообще что-нибудь. Позже, когда двигатель перестал работать в полную силу, а ветер немного поутих, майор крикнул мне: – Этим маленьким дирижаблям не хватает мощности, они не могут держать курс так же хорошо, как большие суда. В спокойную погоду с ними намного легче. Высотомер в моей кабине показывал, что мы уже поднялись на тысячу футов, а стрелка спидометра застыла на сорока пяти узлах. Сначала я чувствовал некоторую неловкость, но неприятные ощущения забывались, когда я сквозь ветровое стекло разглядывал огромные поля и ряды деревьев. Прямо под нами тянулись железнодорожные пути, вдоль которых, как было принято в те времена примитивных приборов, и летел майор Синклер. Вскоре мое внимание привлек длинный грузовой поезд – он, подобно огнедышащему змею, полз по желто-коричневой земле. Иногда на грунтовых дорогах появлялись крошечные автомобили или, чаще, запряженные лошадьми коляски, виднелись скопления лачуг, особняки, которые, несомненно, были центрами больших плантаций. По-прежнему дул свежий ветер, солнце часто скрывали ослепительные изменчивые облака. Майор Синклер собирался заночевать в Литл-Роке. Там он мог заправиться горючим, закончить свои дела в Арканзасе, а затем отправиться на юго-восток, в Тускалусу, и раздобыть еще бензина. Оттуда, сказал майор, он почти наверняка полетит прямо в Атланту. С ним обычно летал механик, но несколько дней назад этого человека в пьяном виде задержали полицейские в Ноксвилле, теперь он находился в тюрьме. (Майор Синклер больше не собирался с ним работать: «Он мог подвести меня, и я дал бы ему шанс. Но я не позволю ему подставлять клан. Он знал, что его ожидает».) Наша работа в Литл-Роке в основном заключалась в том, чтобы «показывать товар лицом». Мы должны были прорекламировать журнал, сделать несколько кругов над городом и разбросать листовки, убедив всех в том, что клан – не сборище недовольных фермеров и отсталых рабочих, как утверждали некоторые. Потом мы должны приземлиться за городом и принять на борт денежные средства, предназначенные для центрального казначейства в Атланте. Лично я был бы рад снова отправиться на восток. В тот момент мы боролись со встречным ветром. Если он не утихнет, то поможет нам, когда мы наконец направимся в Джорджию. Майору Синклеру постоянно приходилось выравнивать курс, в то время как я, сверяясь с картой и компасом, играл роль летчика-наблюдателя. Обширные пространства моему непривычному взгляду казались неотличимыми друг от друга, и я надеялся, что верно определял те небольшие реки и леса, дороги и плантации, которые иногда появлялись внизу. Мы долго летели над Арканзасом, вдоль западного берега Миссисипи, и я стал замечать, что обработанных земель становится все меньше. Казалось, почти всю территорию занимали девственные леса. Мы попали на территории мелких землевладельцев и сборщиков урожая. Определять направление становилось все сложнее. Ветер постепенно набирал прежнюю силу. Майор Синклер вынужден был уделять все внимание управлению судном, а я отчаянно осматривал землю в поисках ориентиров, хотя бы отдаленно напоминающих указанные на карте. Скоро пошел дождь, и я уже не мог разглядеть местность. Мы летели, полагаясь только на компас. Порывы ветра и дождь со снегом, рев двигателя, визг металлических деталей – из-за этого мы даже не могли расслышать друг друга. По стеклам моих очков текла вода. Я с трудом различал голову и плечи майора Синклера, сидевшего впереди. Крайнее неудобство и неуверенность – самые типичные особенности «романтики полета» тех времен. Едва мне удалось как-то приспособиться ко всему этому, как на нас внезапно с новой силой обрушился ветер. Он налетел, как огромная волна. Наша гондола начала подпрыгивать на канатах. Я был уверен, что нас выбросит из кабин или разорвет на кусочки, когда взорвется газовый баллон. Я увидел, что майор Синклер качает головой и делает знаки рукой. Мы спускались. Я был уверен, что это катастрофа. Я перестал дрожать и спокойно приготовился к смерти. Нос машины уже опустился к земле, гондола начала раскачиваться в стороны, как безумный маятник. Когда майор Синклер открыл газовый клапан для быстрого спуска, шум двигателя позади нас стих. Мы провели в воздухе не более пяти часов. Я подумал: как нелепо, что после всех мечтаний о великолепных летающих лайнерах мне предстоит погибнуть в этой ветхой посудине, списанной из правительственных запасов. Но потом судно стало спускаться медленнее, и я понял, что майор Синклер справился с управлением. Я надеялся, что мы находились близко к Литл-Року. Но больше было похоже на то, что мой друг хотел проникнуть в эпицентр шторма с намерением испытать наши силы. Проливной дождь продолжал терзать нас, и я все еще опасался, что тросы могут лопнуть. Постепенно спокойствие духа вернулось ко мне – и тут двигатель внезапно заглох. Ветер отшвырнул наш беспомощный дирижабль назад и вбок. Я не мог понять, что Синклер пытается мне сообщить жестами, но было ясно, что нам не оставалось ничего, кроме как приземлиться. Я понятия не имел, как майор собирался это осуществить. Обычно на земле стояли люди, готовые подхватить наши швартовочные тросы. Мой друг, вероятно, надеялся отыскать маленький городок или большую ферму, где найдется достаточно здоровых мужчин, способных подтянуть аппарат к земле. Я на собственном опыте узнал, в чем маленький дирижабль уступает легкому самолету. Вдобавок на «Рыцаре-ястребе» не было радио, и летчик никак не мог попросить помощи. Дождь постепенно слабел, ветер успокаивался. Нас несло вниз, к земле, и нам открывался мрачный вид: затопленные равнины и редкие тонкие деревья. В сером свете казалось, что весь мир превратился в грязную пустошь, заваленную экскрементами. На мгновение я поверил, что мы уже мертвы и брошены в преддверие ада. Но тут Синклер закричал и взмахнул левой рукой, указывая куда-то на горизонт. Из грязи поднимались здания, больше похожие на природные образования, мало отличающиеся по цвету от окружающего мира. И снова майор сосредоточился на своем двигателе, выкрикивая проклятия всякий раз, когда ему приходилось на несколько секунд прерывать работу, чтобы стряхнуть воду с рук или вытереть лицо. Через некоторое время мотор заворчал, неестественно зафыркал и, наконец, ожил. Синклер что-то прокричал, пропеллер завертелся, и мы с грохотом помчались вперед. Я не расслышал ни единого слова. Майор знаками показал мне, что нужно вытащитьшлюпочный якорь из запасной кабины справа. Летчик объяснял мне ранее, что с помощью этого якоря он надеялся осуществить аварийную посадку. Я понял смысл его указаний – и тут же сжался в комок: гондола начала резко раскачиваться. Я испугался, что вот-вот упаду. Чтобы спастись, я развел колени, прижав их к стенкам кабины. Майор Синклер, занятый регулировкой мотора, не мог помочь мне. Свернутая веревка лежала на моих уцелевших чемоданах. Покрытый потом, охваченный паникой, я наконец ухватился за конец веревки и потащил ее к себе, когда гондола более-менее выровнялась. На пару секунд я расслабился, сделал глубокий вдох, а потом взял в правую руку шлюпочный якорь и приготовился его сбросить. Оглянувшись назад и удостоверившись, что я готов, Синклер наклонил судно еще сильнее, ведя его вниз, как чудовищный снаряд, направленный на лачуги. Темнело так быстро, что я не знал, смогу ли рассмотреть, куда нацелить наш якорь. – Ищите дерево! – кричал Синклер. – Или большую ограду. Заборы бесполезны! Он снизил скорость, держа судно почти неподвижно против бушующего ветра, который все еще заставлял гондолу ужасно раскачиваться. Дважды, вглядываясь во мрак, я упускал возможность зацепиться за чахлое дерево. К тому времени уже наступили сумерки. Наконец, охваченный отчаянием, я швырнул якорь наугад в поле. Он во что-то вонзился, но нас протащило еще несколько ярдов, а потом, к моему огромному облегчению, машина резко остановилась. Майор Синклер отключил двигатель, кое-как отрегулировав угол наклона дирижабля. Мы всматривались в полумрак. «Рыцарь-ястреб» повис меньше чем в пятидесяти футах от болотистой земли. Синклер потянулся назад и сорвал кожух с небольшой лебедки. Мы взялись за рукояти и, тщательно рассчитывая каждое движение, постепенно опустили «Рыцаря-ястреба». К нам вернулось хорошее настроение, мы улыбались друг другу, как сельские дурачки. Лебедка была надежной. Майор Синклер крикнул мне, что нужно сбросить веревочную лестницу, спуститься и проверить, твердо ли закреплен якорь. Ветер все не стихал, наш газовый баллон гудел и слегка подрагивал, тросы скрипели. Я, по-прежнему улыбаясь, начал спускаться по качающейся лестнице. Примерно через десять футов мои летные ботинки погрузились в грязь. Я прошел вдоль троса и обнаружил, что якорь зацепился за камень. Я слегка подтянул трос, а затем обмотал веревку вокруг маленького дуба. Наша машина теперь была в безопасности до утра. Нам, конечно, тоже следовало подождать до утра, прежде чем продолжить путешествие. В те времена из-за плохой погоды прекращались все полеты. Вот почему эксперты-авиаторы, такие, как я, изо всех сил старались разработать машины, способные летать по ночам, независимо от погодных условий. Мои идеи намного опережали те, которые были положены в основу конструкции дирижабля Синклера, – этот проект разработали в 1914 году, но дизайн за восемь лет не изменился. Дирижабли стоили гораздо дороже, чем маленькие самолеты. Мы, конечно, поволновались, но такой поворот событий нас нисколько не удивил. Летчик обычно поздравлял себя, если ему удавалось совершить перелет без единой посадки. К тому времени, когда майор Синклер спустился на землю рядом со мной, уже совсем стемнело. Летчик покачал головой и пожал плечами. Он заметил, что был чрезмерно оптимистичен, когда ожидал, что северо-восточный ветер стихнет. Теперь у нас не оставалось выбора – приходилось обращаться за помощью к обитателям ближайших зданий. Я спросил, благоразумно ли оставлять судно без охраны. Он рассмеялся и взял меня за руку. – Вы думаете, что его украдут какие-то ниггеры? Идемте, полковник. Посмотрим, сможем ли мы раздобыть горячую еду. Мы пробирались по грязи, ориентируясь на тусклый, желтоватый свет керосиновых ламп. Облака стремительно проносились по небу. Время от времени в свете луны возникали здания: грубые, некрашеные лачуги, наскоро залатанные ржавым железом и досками разных размеров. Когда мы приблизились, в дверном проеме появилась какая-то фигура. Человек разглядывал нас из-под навеса в течение нескольких секунд. Затем дверь внезапно захлопнули. Из другого незастекленного окна на нас уставились маленькие черные лица. Я почувствовал некоторую неловкость. Майор Синклер засмеялся: – Это всего лишь лачуги черномазых, полковник. Должно быть, дальше мы обнаружим что-то еще. Мы пробирались по этому запущенному штетлю, слыша кудахтанье цыплят, странные, загадочные шумы, скрип ставней. Наконец мы выбрались на грунтовую дорогу. Чуть дальше мы наткнулись на скопление зданий по обе стороны колеи. Они были в почти таком же плохом состоянии, как и все прочие сооружения. Однако майор Синклер, кажется, был уверен, что здесь нам повезет больше. Он снял шлем и очки, посоветовав мне последовать его примеру. – Люди здесь осторожны и малость суеверны. Мы же не хотим, чтобы какой-нибудь дурак выстрелил, приняв нас за грабителей или призраков. Пока я ждал у разбитых ворот, он выбрал одно из ближайших зданий и вошел во двор, крича: – Эй, привет! Есть кто дома? Он подошел к ветхой решетчатой двери и постучал о косяк. Я увидел, что за дверью замерцала свеча. Майор Синклер начал объяснять кому-то, что нам не нужен хозяин дома. Мы просто проезжали мимо и хотели остановиться на ночлег. – Благодарю вас, мэм, – произнес он наконец. Майор возвратился ко мне, качая головой и улыбаясь: – Они не намного умнее черномазых. Никто из мужчин еще не вернулся с поля, и она не станет открывать дверь незнакомцам. Дальше по дороге, примерно в полумиле отсюда, живет проповедник. Будем надеяться, что он окажется более гостеприимным. Грязная колея вела мимо сломанных заборов, куч непонятных обломков, тонких, голых деревьев, курятников и загонов для свиней. Пару раз мы замечали молчаливых, нездорового вида детей и худых женщин в поношенной одежде. Никто с нами не заговаривал. В лунном свете все это печальное поселение казалось жутким и угрожающим, зловонным и погруженным в безнадежную нищету. Я никак не ожидал, что снова увижу нечто подобное, – мне хватило одного раза, когда я в 1919 году, к несчастью, странствовал по украинской степи. Ведь я считал, что здесь, в Америке, все были гораздо богаче, и только люди европейского происхождения явно страдали от этого бремени невысказанного, неотступного отчаяния. Но этим сельским жителям не хватало пищи физической и духовной, они проживали свои жизни в беспомощном забытьи. Трудно сказать, был ли их общий идиотический облик результатом стечения обстоятельств или кровосмешения, но такие же лица я видел и в России, и в трущобах Константинополя. Я обрадовался, когда мы заметили дощатое здание церкви, рядом с которым располагался захудалый дом проповедника. Во дворе играли дети, которые выглядели такими же отсталыми и голодными, как и все остальные. Женщина в дешевом платье подошла к двери. Она что-то проворчала. У нее были светло-серые глаза и землистая кожа. Ей вряд ли минуло сорок, но руки ее покрывали коричневые пятна, как у глубокой старухи. На учтивый вопрос Синклера она ответила вежливо, с усталой улыбкой: ее муж был занят в другой церкви, где он проводил молитвенные встречи по средам. Он вернется около девяти. Майор Синклер рассказал о нашей проблеме. Жена проповедника сказала, что нам нужно вернуться по дороге к дому мисс Бедлоу. Она сдавала комнаты. Мой друг поблагодарил женщину, сказав, что мы ей очень обязаны. Я снова вспомнил о грязных синагогах штетля, о ветхих храмах в украинских деревнях, о священниках, зачастую столь же невежественных, как их прихожане, но ничего не сказал об этом Синклеру: я смутно подозревал, что подобные сравнения могут его обидеть. В конце концов мы заметили указатель, на который не обратили внимания, направляясь к церкви. Дом мисс Бедлоу когда-то был выкрашен в зеленый цвет. Кто-то пытался обрабатывать землю в палисаднике, и дорожка выглядела вполне ухоженной. Майор Синклер поднялся на крыльцо по деревянным ступеням. Он снова постучал. На сей раз я смог ясно разглядеть человека, который ответил на стук, – свет оказался более ярким. Человек был очень толстым. Я увидел красное, обветренное лицо, круглую голову, светлые волосы. Бровей практически не было. Толстяк носил розовую фуфайку и комбинезон, верхняя часть которого была расстегнута. Он что-то жевал, в углах рта я заметил пятна. Он вроде бы не проявлял особой подозрительности, но не пытался скрыть любопытство, переводя взгляд с меня на майора Синклера и снова на меня. Мой друг объяснил, в каком затруднительном положении мы оказались. Услышанное произвело на толстяка впечатление, хотя и не сразу, – он почти перестал жевать. – Так вы, ребята, летчики? Я с трудом мог его понять. Слова фактически звучали как: «Тавы ребя-я-я лета-а-а», с растянутыми гласными звуками. У меня хороший слух, я быстро имитирую чужие акценты и слова. Но в данном случае я был готов признать поражение. Мужчина вернулся в дом и позвал мисс Бедлоу, которая появилась почти сразу: аккуратная бесцветная женщина в старомодном шерстяном платье. У нее была одна комната, она могла пустить нас на ночлег, но нам придется спать вместе. Она сказала, что плата – доллар с человека плюс двадцать пять центов, если понадобится завтрак. Она могла приготовить нам и ужин. За свинину и зелень следовало заплатить еще тридцать центов. Майор Синклер серьезно заметил, что цена вполне разумная (думаю, что женщина запросила столько, сколько осмелилась), и мисс Бедлоу успокоилась и предложила нам войти. В доме пахло плесенью и горячей едой. Мебель, занавески и ковры были потертыми, но чистыми. За исключением некоторых внешних отличий, практически то же самое при подобных обстоятельствах можно увидеть в доме украинского мужика. Таково было мое первое реальное столкновение с американскими крестьянами, и опыт оказался очень печальным. Полагаю, я ожидал большего от Соединенных Штатов. Мы поднялись по скрипучей лестнице в нашу комнату, избавились от летного снаряжения, вымылись в ванне и снова спустились, чтобы познакомиться с другими гостями. Две пожилых вдовы, толстяк, мрачный батрак и молодой идиот – все они отнеслись к моему акценту с насмешливым удивлением. Когда майор Синклер сказал им, что я из Англии, выражения их лиц практически не изменились. Сначала заговорил толстяк. Он служил во Франции больше года. Он слышал, что в Англии хорошо. Англия похожа на Францию? В некоторых отношениях, сказал я. В других она больше похожа на Мэриленд. Он никогда не был в Мэриленде. Он слышал, что там тоже неплохо. Он некоторое время хмурился, а затем высказал свою точку зрения: Франция могла быть еще лучше, если б не ужасы, которые там натворили боттти. Пожав плечами, он добавил: – Но я считаю, что теперь она стала чище, чем была. Я сказал, что раны Франции заживают. Майор Синклер заметил, что мне трудно говорить, и взял беседу на себя. Я и правда понимал местных не многим лучше, чем они меня. Майор объяснил, где мы сели и почему. Ему также удалось немного рассказать о ку-клукс-клане, о проблемах белых, связанных с черными рабочими. Толстяк сказал, что у них никогда не возникало затруднений с местными черномазыми, разве что какой-нибудь парень перебирал самогона, и тогда за дело приходилось браться шерифу Карфагена. – Вы сказали – Карфагена? – Я подумал, что ослышался. – Именно, – подтвердил толстяк, которого удивила моя очевидная заинтересованность. Он вежливо ожидал от меня каких-то пояснений. – Везде есть Карфагены, – улыбаясь, произнес Синклер. – И Лондоны, и Парижи, и Санкт-Петербурги. – Он обернулся к толстяку. – Тогда мы не слишком сильно сбились с курса. – Он развернул карту. – Вот Пайн-Блафф. А вот здесь – Литл-Рок. Да, теперь я вижу. – Он улыбнулся. – Мы наверняка будем там завтра к полудню, – сказал он мне. Как и я, майор Синклер почти не притронулся к отвратительной тюре из жира и бесформенных овощей, которую нам поднесли. Мы пожелали всем доброй ночи и вернулись в комнату. Там мы легли не раздеваясь и кое-как проспали до рассвета. Я выглянул из узкого окна, посмотрел на голые деревья и дырявые крыши и с облегчением обнаружил, что ветер поутих. Серые тучи разошлись, утреннее солнце поднималось в небо, в котором повисли массивные кучевые облака, – все предвещало сухую погоду. Позавтракав овсянкой и беконом, мы расплатились с мисс Бедлоу. Она сказала, что, судя по всему, сможет помочь с нашим аэропланом. Пройдя по грунтовой дороге мимо пары-тройки домов, во дворе, заваленном старыми покрышками и ржавым металлом, мы обнаружили двух жилистых молодых людей, которые бездельничали на крыльце, так сильно прогнившем, что половина ступеней провалилась. Это были Бобби и Джеки Джо Дэлли. Майор Синклер быстро договорился с ними, и мы вчетвером вернулись туда, где был пришвартован наш транспорт. К тому времени слухи о нашем прибытии распространились, очевидно, по всему селению. Мы оказались в центре внимания. Сначала белые дети, а потом женщины и старики столпились вокруг нас. Качающийся газовый баллон «Рыцаря-ястреба» мы увидели лишь тогда, когда оказались в негритянской части. Афроамериканцы, держась в стороне от белых, столпились поодаль, когда наша процессия вышла в поле. Меня начинало тревожить количество этих людей, а также их молчание – оно казалось зловещим. Эти голодные нездоровые лица могли принадлежать каннибалам. Мне стало дурно. Черные или белые – я уже не замечал особой разницы. Они окружали нас, они стояли в рваном, чиненом тряпье, с тонкими неловкими конечностями, бессмысленными глазами, красными ртами. От них исходило ужасное зловоние. Я чувствовал, что вот-вот начнется истерика. Я очень хотел, чтобы небольшая порция кокаина помогла мне поправить нервы, но порошок лежал в моем багаже. Майор Синклер казался невозмутимым. Я ничего не говорил о своих страхах и все же сохранял уверенность, что эти люди никогда не позволят нам оторваться от земли, что они в любую секунду набросятся на нас, лишат всего имущества, сорвут самую плоть с наших костей и пожрут ее. Я чувствовал дрожь в коленках – все больше тощих тел собиралось вокруг меня. Синклер улыбался. Он шутил с ними. Неужели он не видел того, что видел я? Это был истинный Карфаген! Выродившееся отребье человечества, жаждущее забрать все, ради чего я трудился; невежественные, безнадежные, тупые враги цивилизации, столь же неспособные вообразить или создать лучший мир, как те негодяи, от которых я сбежал в Киеве, как те евреи, от которых я спасался в Александровской, или глупые дикари из внутренних районов Анатолии. Только огромным усилием воли я заставил себя пошевелиться. Во рту пересохло, колени подгибались, сердце стучало с ужасающей частотой. Синклер мог подумать, что я действую неразумно, но подобная нищета никогда не угрожала ему. А я знал: если мы как можно скорее не доберемся до дирижабля, эта толпа нас поглотит. Им нужно было все, что мы перевозили. Они ненавидели нас за то, что у нас был воздушный корабль. Они завидовали, потому что мне удалось создать нечто подобное. Они ненавидели каждого, кто отличался от них. Все новое несло перемены, угрожало отвратительному течению их жизней. Они готовы были защищать привычный порядок любой ценой. Кусок металла шевелился у меня в животе. Голова кружилась. Я не мог бежать. Desidero un antisettico![411] От них пахло болезнями. Масса увеличивалась, давление росло. Я не мог дышать. Меня окружали скелеты с огромными жадными глазами, они тянули свои кривые когти к тому, чего не могли даже назвать. Я отказывался присоединиться к ним в лагерях, хотя они говорили, что я – их брат. Именно так они вербуют людей. Я никогда не стану мусульманином. Я устою против соблазнов Карфагена. Я бился с Карфагеном хитростью и отвагой. Я знаю его уловки. Я слышал его завораживающее нытье, его рассказы о нищете, его мольбы о сочувствии, его льстивый шепот. Они были готовы на все, чтобы удержать меня. Они говорили, что я такой же, но это ложь. Один несчастный случай с ножом – и они уже говорят, что я – один из них! Нелепое решение моего отца – и я лишен своего наследия. Мое будущее похищено, я лишился своего места в мире. Карфаген рассеивался, как ядовитый газ. Бродманн искоса смотрел на меня, выглядывая из-за облаков. Мой живот сжимался. Я едва сумел подняться по лестнице в кабину. Меня смущали эти ужасные глаза. Негры выкрикивали что-то нечленораздельное и подпрыгивали. Некоторые дети смеялись. Другие плакали. Майор Синклер говорил со мной, когда усаживался в переднюю кабину, но я не слышал его. Мое дыхание было неровным. Они все еще могли сбросить нас в эту желтую грязь. Я надел очки и прикрыл глаза – теперь им не увидеть моих слез. Майор Синклер взмахнул рукой. Он был спокоен и самоуверен. Эти негодяи подхватили наши веревки и потянули нас над полем. Вся толпа побежала следом. Они что-то вопили: странные, скотские завывания. Майор Синклер закричал мне: «Лебедка! Поднимайте якорь, дружище!» Меня мучила жажда. Я не мог ответить. Все еще дрожа, я повиновался. Я мог видеть, как разевались жадные рты, показывая гниющие зубы, как жадные руки проникали в самое мое существо. Я ничего не должен Карфагену. Я – истинный славянин. Во мне нет их крови. У меня нет перед ними никаких обязательств, нет ни жалости, ни милосердия, ни братства. Их дыхание воняло нищетой. Они были моими врагами. Я чувствовал это – в их одеждах, в их еде, в их хижинах, в их полях. Я кричал им вниз, чтобы они освободили меня и отпустили веревки. Они бежали, напоминая огромную волну, сметающую дамбу, – подлинное наводнение человеческого отребья. Грязные мальчишки все еще держались за якорь, отказываясь его отпускать. Их вопли заполняли мою голову. Я не хотел ничего такого. Я не был ко всему этому готов. Они – несчастные слуги отчаяния, враги оптимизма, послушные рабы большевизма. Карфаген снова воскрес, не просто в Арканзасе, в Миссури или в Луизиане, но во всех частях Соединенных Штатов – словно симптомы рака. И в Европе тоже. На Востоке он уже завладел всем. Повсюду невежество, голод, фатализм, дурная кровь, слепота. Они сидели в своих штетлях, а потом начинали стучать большие барабаны и гудеть медные трубы, и тогда Карфаген поднимался и, улыбаясь красными губами, тянулся за копьем и щитом. Он облизывал толстые губы и смотрел уверенно и завистливо на плоды наших трудов, на урожай нашей цивилизации. Его черные глаза ярко светились, и из горла доносилось низкое рычание, когда он потягивался и испытывал свою силу, и его сердце переполнял гнев, обращенный против тех, кто пытался уничтожить его, кто сумел добиться преимущества за счет морали и храбрости. И его смуглые руки извивались в предвкушении. Его голодное, мерзостное дыхание слышалось в переулках города, среди лачуг и убежищ, среди шатров и палаток, оно разносилось над пустырями и полями – и в конце концов этот звук заглушал все остальные. Он заглушает гимны и молитвы истинных христиан. Наши прекрасные песни и наши стихи, чистые голоса наших маленьких девочек, наши клятвы – все исчезает в отвратительном реве. Смеющийся Карфаген стоит на руинах наших грез. Наша кровь бежит по его подбородку. Наши памятники обращаются в пепел под его ногами. Зверь победил! Бессмысленная толпа правит землей. Хаос становится единственно возможным состоянием человека. Я это предсказывал. И мы, узревшие знамения (как знамение Божье, ниспосланное, когда Он опустил дирижабль на землю), не утрачивали бдительности. Таков был наш долг – предупреждать всех, кто захочет слушать. Борьба не закончена, хотя мы проиграли очень много сражений. Они никогда не сделают меня мусульманином. Я не склонюсь. Я держу спину прямо. Меня не обольстить приятными фантазиями. Я справлюсь с самыми ужасными заблуждениями. Gehorsam nicht folgn. Ich bin baamter! Bafeln! A mol, ich bin andersh[412]. Разве они не понимают? Я не знаю их языка. Подол – ничто. Каждый должен работать, где может. Они долго смеялись своим шуткам, но наконец отпустили веревки, и наше судно вырвалось на свободу. Они играли с нами, наслаждаясь властью. Руки, и белые, и черные, махали нам, качались, как чахлые тростинки. Я пытался вернуть самообладание. Майор Синклер все еще не понял, как близок я был к поражению. Мы все еще поднимались в серебристое небо. Я так радовался, что покидаю Карфаген. Литл-Рок ждал нас. Мне не верилось, что впереди могут подстерегать еще более ужасные испытания. Они заперли меня в Спрингфилде, когда розы были в цвету. О Эсме, моя сестра, ты так и не приехала повидаться со мной! Они стерли мое имя из твоей памяти. Теперь я знаю, как они действуют. Они сказали тебе, что меня не существовало. Они хотели забрать тебя. Карфаген набросился на нас и унес тебя. Они погубили мою мать. Мать, они превратили тебя в пепел? Твои кости сгорели в их отвратительных ямах, где голодные солдаты бродили по тлеющей человеческой плоти, и автоматы трещали день и ночь, и звуки проклятий отражались эхом в ущелье, в котором мы с Эсме когда-то играли. Ты осталась с ней, Эсме, или ты была уже мертва, стерта в порошок непримиримыми машинами стального царя? Или ты искала утешения среди мусульман в карфагенском лагере для военнопленных? Я не видел тебя в Спрингфилде, но Спрингфилд – это дюжина различных поселений. Карты меняются, меняются и места. Мои летающие города будут знать, куда им лететь. В отделении полиции мне говорят, что ничего не могут поделать с афроамериканцами. Они сочувствуют мне, но у них связаны руки. Мы все боимся говорить откровенно. Великие движения были подавлены, наши герои умирают в цепях или уже убиты. Только посредственностям позволяют жить. Они – тени, оставленные Карфагеном, чтобы обмануть нас, чтобы заставить поверить, будто наш мир еще существует. Но меня не обманут. Я не сдамся. Они не смогут запереть меня в своих лагерях, в своих гетто, в своих городах среди черномазых и безродных, за колючей проволокой. Я не стану носить их печать. Я не такой, как они. Я достоин лучшего. Какое они имеют право называть меня мишлингом? Halbjuden?[413] Меня предали еще до рождения. Das Blut gerinnt. Das Blut gerinnt[414]. Как и обещал майор Синклер, мы прибыли в Литл-Рок к полудню. Наши красочные листовки падали на аккуратные борозды улиц, как семена на весенние поля. Малочисленная толпа приветствовала нас, когда мы пришвартовывались в небольшом парке в предместье. Мы приняли на борт деньги, за которыми, собственно, и прилетели, заправили горючим наш бак и быстро отправились дальше, в Тускалусу. Болезнь, которая одолела меня в Карфагене, казалось, отступила вскоре после того, как мы покинули Литл-Рок. Когда мы плыли над ровными крышами Тускалусы, я окончательно выздоровел. Я начал думать, что отравился, поскольку мой организм плохо принимал свинину. Ветер дул нам в спину, небо сияло синевой, а мы взяли курс на Атланту, главный город Юга, центр мира, который некогда считали сокрушенным и побежденным. Теперь он возродился, как огненный мстительный феникс. Атланта, сожженная дотла безжалостными врагами, истерзанная, разграбленная и брошенная на верную смерть, вскоре собралась с силами. Ее огромные серебряные башни поднимались над пустошами. Белые извилистые дороги протянулись в ее небесах. Я видел Атланту издалека, и она была восхитительна. В ее сердце сияла огромная золотая корона. Теперь, когда погода улучшилась, майор Синклер снова находился в превосходной форме. Сельская местность, простиравшаяся под нами, казалась все более уютной. Город, полускрытый рядами темно-зеленых сосен, выглядел чистым и современным – ничего подобного я не ожидал. Но, не достигнув золотого купола, мы повернули на север от Стоун-Маунтин и направились к обширным землям Кланкреста, обиталищу Имперского мага, центру ку-клукс-клана. Мы прибыли к вечеру, пролетев над бровкой холма к широкой лужайке, окружавшей декоративное озеро, в котором бурлил фонтан. Аккуратные дорожки пересекали зеленые поля. Чуть выше стоял большой дом, настолько роскошный, что ему позавидовал бы сам царь. Это было воплощение изысканного южного вкуса, с мраморными колоннами и портиками – неогреческий особняк, внушительный и безмятежный, озаренный теплыми лучами февральского вечернего солнца. Представлялось, как какой-нибудь житель Джорджии прогуливался здесь верхом в золотые деньки накануне гражданской войны. Когда майор Синклер аккуратно посадил «Рыцаря-ястреба» у озера, негритянские слуги, облаченные в безупречные красно-бело-синие мундиры в колониальном стиле, выбежали из дома и ухватились за наши тросы, подтащив дирижабль к паре столбов, установленных около дома, очевидно, именно для этой цели. Затем нас постепенно опустили на землю с помощью лебедки, и судно твердо встало на якорь. Мы с легкостью спустились на траву. Майор Синклер, как обычно, доброжелательный и вежливый, поблагодарил негров и попросил их отнести наш багаж в дом. Осмотрев мраморные с синими прожилками полированные стены и высокие окна Кланкреста, я решил, что обиталище Имперского мага уже на равных соперничало с Белым домом, который я видел в Вашингтоне и счел не слишком внушительным. Мы направились по широкой мраморной веранде к центральному входу в здание и как раз свернули за угол, когда навстречу нам вышел сам мистер Кларк. Для меня встреча с этим скромным, интеллигентным человеком была по-настоящему волнующей – я бы не так волновался, даже если бы столкнулся с самим мистером Хардингом. Мистер Кларк, одетый в легкий серый костюм, шел к нам легко и изящно. Он со своей семьей как будто жил в этом особняке всегда. Мистер Кларк вел себя спокойно и вежливо, как настоящий ученый, тем самым подтверждая мое мнение: он был прирожденным джентльменом, которому от природы свойственно спокойное чувство собственного достоинства. Он радушно пожал нам руки, спросил, как прошло путешествие, и выразил удовольствие, что я решил присоединиться к клану. Майор Синклер с улыбкой рассказал о нашем вынужденном пребывании в Карфагене. – Не думаю, что полковнику Питерсону понравились тамошние условия. – Он засмеялся. – Одни черномазые и нищее отребье. Не так ли, полковник? – Да, этой стороной Юга никто гордиться не станет, сэр, – разумно заметил мистер Кларк. – Не так плохо, полагаю, как в нью-йоркских трущобах, но живо напоминает о временах саквояжников. Все переменится, особенно когда приезжих эксплуататоров наконец прогонят. – Он указал нам на главный вход. – В те времена, сэр, как вам, наверное, известно, клан сурово обходился с головорезами, которые использовали в своих интересах возрождение Юга. Куда суровее, чем сегодня. «Рождение нации» это наглядно продемонстрировало. Я кивнул в знак согласия. – Эта война началась по экономическим причинам, неважно, что там говорили янки. Положение рабов интересовало их не больше, чем Саймон Легри[415]. Южане постоянно заботились о благе негров. Когда мы были разбиты, эти несчастные мерзавцы пострадали первыми. Если бы нашу Конфедерацию оставили в покое, здешние края превратились бы в рай земной, настоящий образец для остальной Америки и для всего мира. Мы остановились у стеклянных дверей с роскошными старинными металлическими украшениями. Майор Синклер, казалось, с особым удовольствием рассматривал высокие изгороди и аккуратную подъездную дорожку, посыпанную гравием. – Наша страна слишком велика и разнообразна, чтобы ей можно было управлять как единым целым. Каждый штат прекрасно знает свои интересы. А вот федеральное правительство всегда доставляет неприятности. Мы вошли в просторный зал, также отделанный мрамором и увешанный старинными холстами. В альковах стояли алебастровые урны, разукрашенные золотом. – Вы хотите уменьшить влияние правительства и на местном, и на национальном уровнях, если я верно понял? – Я хотел произвести на него впечатление своим глубоким пониманием американской политики. Я положил руку на полированную крышку концертного рояля и посмотрел на широкую лестницу, украшенную огромным знаменем клана, Великим кленсайном[416]. – Права личности – важнейшая забота рыцарей ку-клукс-клана. – Мистер Кларк собирался обсудить эту тему подробнее, но тут на лестнице появилась высокая красивая женщина с волосами цвета воронова крыла. – Моя дорогая! Полковник Питерсон, это моя коллега, миссис Моган. Она не меньше моего сделала для укрепления нынешних позиций нашей организации. На миссис Моган были строгое черное платье и украшения из серебра и янтаря. У нее был широкий лоб и массивная нижняя челюсть, а ее манеры впечатляли еще больше, чем манеры мистера Кларка. Я тотчас предположил, что она его любовница, даже в какой-то степени серый кардинал ордена. Они казались прекрасной парой. Спустившись с лестницы, миссис Моган протянула мне руку и мило улыбнулась: – Вы – иностранный джентльмен, который поможет нам убрать чужаков туда, откуда они явились. – Ну, Бесси, это не совсем так. – Мистер Кларк говорил с ней, как с ребенком, но я от души рассмеялся. Миссис Моган была женщиной очень ироничной, и я сразу оценил ее остроумие. – Миссис Моган, – сказал я с поклоном, целуя ее руку, – если я смогу предотвратить в Америке то, что случилось в Европе, если мне удастся изгнать отсюда зло, – я буду более чем удовлетворен. О, полковник Питерсон, я уверена, вы слишком воспитанны, чтобы злоупотребить гостеприимством. Я ценю ваши идеалы. И вдобавок можно неплохо заработать. – После этих слов она посмотрела на меня, чуть заметно подмигнув, как будто желая разрядить обстановку. Она немного напомнила мне баронессу. – Ребята, вы, должно быть, устали. Что вы хотите для начала? Выпить? Или умыться? Мы выбрали последнее. – Уилсон покажет вам комнаты. Мы встретимся здесь перед обедом. Миссис Моган ответила на мой чуть заметный поклон столь же незаметной улыбкой, и мы расстались. Уилсон, дворецкий, отвел нас на второй этаж. По мраморному коридору, покрытому коврами, мы прошли к своим комнатам. Мое помещение было куда роскошнее, чем номер в дорогом отеле. Я никогда не видел ничего подобного. Ощущение подлинного богатства, охватившее меня, напомнило чувство, которое я испытал в доме дяди Сени в Одессе, поняв, что в мое распоряжение предоставлена целая комната, в то время как многие считали вполне естественным спать в той же комнате, в которой только что поели. Я не смог удержаться и осмотрел все ящики во встроенных шкафах и изучил тщательно продуманное устройство уборной. Вся обстановка была подобрана с безупречным вкусом, в знакомых патриотических цветах, кое-где вдобавок виднелись золото и серебро. Обои сначала показались довольно простыми – до тех пор, пока я не рассмотрел их поближе. Основной узор был выполнен в виде ромбов с инициалами ку-клукс-клана. Но центральное место в номере, конечно, занимала огромная кровать под балдахином в наполеоновском стиле. На ее спинке виднелись рисунки, напоминавшие о величайших победах Америки в борьбе за свободу и честь. Над ними красовался стилизованный капюшон клансмена с девизом, выведенным роскошным готическим шрифтом: «Suppressio veri suggestio falsi»[417]. Это упоминание о методах наших врагов было вполне уместным. Французские окна гостиной выходили на балкон, с которого открывался вид на лужайки и озеро. Я бы очень хотел, чтобы те дураки, которые даже сегодня пытаются меня уверить, будто клан – сборище невежественных бандитов, смогли посетить Кланкрест в дни его славы. Эти люди, которые даже не знают, какую вилку нужно использовать для рыбы, онемели бы от удивления. Мне открылось воплощение доброты и цивилизованности. Здесь никто не подвергал сомнению мое yichuss[418].Глава восемнадцатая
Если я – мученик, страдающий за свои убеждения, то мне досталась превосходная компания, и жаловаться не на что. Иные современники пострадали куда больше. Их унижали, заключали в тюрьмы, пытали, вешали или сжигали заживо. Я потерпел поражение не из-за предательства отдельных людей. Я стал жертвой истории, но пережил немало прекрасных минут, созерцая мир во всей его красоте, занимаясь любовью с восхитительными женщинами, наслаждаясь благами долгой дружбы и общественного признания. Я не собираюсь ныть о своих неудачах и обвинять других в своих поражениях. Я отвечаю за свои действия. Пусть мне не оказывают уважения, на которое я мог бы претендовать! Что с того? Я, по крайней мере, был верен себе. Султаны приплывают из города собак. Они покидают Карфаген в потоках черной крови. Их корабли бросают якоря в гаванях, заваленных трупами. Пугала висят во дворах, насмехаясь над разрушенными городами Запада. Только славяне по-прежнему готовы сопротивляться им, но они все еще в цепях. Стальной царь умер и никому не открыл, где спрятал ключ. Эти светловолосые голубоглазые девочки так прекрасны; они роются в моей одежде, отыскивая шелковые чулки и атласные трусики, подобные тем, которые могла бы носить Эсме. Я не в силах удержаться. Я все отдаю. Запад дышит на ладан, и я не смогу жить вечно. Султаны бродят по палубам мрачных военных кораблей, рассматривая истерзанные берега, уже павшие под гнетом собственного вырождения. Существа, которые управляли всего несколькими ярдами Бухенвальда или Освенцима, теперь хотят властвовать над целым миром. Но султаны – лжецы, они утверждают, что я их подданный. Во мне нет их blut. Ich habe langen geschlafen. Jesus erweckte die Toten[419]. Я не пожелал стать мусульманином. Я лишился матери. Я несколько раз подавал запросы, но никто не знал, что с ней произошло. Потом, после войны, в 1948 году в Лондоне я встретил Бродманна. Он был уже стар и, вероятно, болен туберкулезом. Он сообщил мне, что находился в Киеве, когда пришли войска СС. Он работал в их конторе и заметил ее имя в списке; он видел, как она спускалась в яр. Возможно, он сказал это только для того, чтобы задеть меня. Почему она оказалась в списке? Почему он не попал в яр? Он признался, что как раз там и работал. Он тоже находился в плену. У меня не было оснований доверять Бродманну. Он лгал даже тогда, пытаясь сбить меня с толку. «Зачем ты преследовал меня?» – спросил я. «Ничего подобного, – ответил он. – Я никуда не выезжал до сорок шестого. Меня послали в Чехословакию». Это было отвратительно – имя моей матери срывалось с бледных губ Бродманна. Я предположил, что он попал в немилость, но по-прежнему оставался чекистом и надеялся искупить грехи, заманив меня обратно. Но я был уже слишком опытен. Кто угодно мог узнать имя моей матери, которое, несомненно, сохранилось в моем деле, вместе с нашим старым адресом. Конечно, я не пользовался прежней фамилией. Я, по крайней мере, чувствую свою ответственность, я стараюсь обезопасить родственников, которые все еще живут в России. Кто-то мне сказал, что Бродманн умер в Испании в 1950 году. Несомненно, к тому времени он стал говорить, что был доном-сефардом! Католический псевдофашист Франко, наверное, принял его как брата! Интересно, как он объяснил, что случилось на аэродроме Темпельхоф 1939 году![420] Все они одинаковы. Они тоже стали бы султанами, если бы представилась возможность. Возможно, Бродманн как раз и был таким, он жил, предавая людей, подобных моей матери. Черные корабли размером с города, их носы рассекают желтую грязь, когда они завоевывают землю. Они неумолимы. Они поднимают разные загадочные флаги, но я всегда узнаю знамена Карфагена. Именно поэтому они так сильно ненавидят меня. И все же не подлежит сомнению: люди, наделенные этим даром, узнают друг друга без разговоров. Так случилось со мной и с майором Синклером, а позже с Эдди Кларком и миссис Бесси Моган. Я думаю, это – некая форма телепатии. Одно духовное откровение – и устанавливается мгновенная связь. Мы – члены тайного братства, сокрытого от окружающих! Однако я никогда не подумал бы, что мне представится возможность столь удивительная, как та, которую обеспечил Имперский маг: обратиться к целой стране! В России со мной не могло случиться ничего подобного. Действительно, мистер Кларк в последнее время получал немало сообщений о надвигающемся ужасе – какой-то наемник не смог убить Ленина, и это дало Троцкому и остальным возможность с еще большей злобой обрушить большевистский молот на истерзанные останки одной из самых благородных наций в мире. В тот вечер за столом я пришел в ярость; я произнес целую речь против убийц России. К моему удивлению, хозяева и майор Синклер встали и начали аплодировать. Я произвел впечатление даже на слуг-негров. Я гостил в Кланкресте больше недели. Майор Синклер возвратился в Дельту («по неоконченному делу»), оставив меня обсуждать стратегию и маршрут предполагаемого тура с мистером Кларком, миссис Моган и несколькими видными деятелями клана. Эдди Кларк рассказал, что у него есть противники внутри организации. – Их негодование вызывает моя близость к полковнику Симмонсу – они считают, что я каким-то образом обогащаюсь. Это не соответствует действительности. Полагаю, всегда найдутся люди, которые замечают чужой альтруизм и считают его отражением собственной жадности. Мы скоро дадим им урок. Я спросил, между прочим, где находится сам великий основатель. Естественно, мне очень хотелось с ним повстречаться. – Он посвятил свою душу и тело клану, Макс. Он не какой-нибудь желторотый юнец. Он устал и отправился на отдых во Флориду. Он прекратит эти чертовски глупые слухи, когда вернется. Он знает, что мы сделали для него. Три года назад здесь радовались мелкой монете. Сегодня речь идет о миллионах. Я очень высоко ценил то, что мистер Кларк уделял мне время в столь сложных обстоятельствах. Миссис Моган взяла на себя ответственность за мою подготовку, она разрабатывала планы и детали предполагаемых речей и предупреждала, в каких случаях следовало выражаться уклончиво, а когда можно было выступать решительно. Базовый текст я взял прямо у Гриффита (сценарий я помнил наизусть), и миссис Моган помогла мне его доработать. Первый тур начинался в Портленде, штат Орегон, и охватывал примерно полсотни городов на юге и западе. Миссис Моган думала, что мне понадобится передышка, прежде чем я пойду в атаку на северо-восточные крепости великой империи Карфагена. Мы были настолько заняты, что я не смог осмотреть Атланту; у меня нашлось время только чтобы позвонить мистеру Кэдвалладеру. Возможно, он уже прочитал парижские газеты, поскольку держался несколько сдержанно. Он неопределенно намекнул, что хотел бы пригласить меня на завтрак. Выход в общество в конце концов состоялся – мои хозяева устроили две больших вечеринки, чтобы развлечь самых богатых и влиятельных сторонников. Вот так в сводчатом танцевальном зале, который мог сравниться с версальским, я повстречал многих выдающихся граждан Америки. Соблюдая строжайшую секретность, прибывали судьи, сенаторы, банкиры, профсоюзные боссы, промышленники и финансисты. Некоторые из них уже поддерживали наше дело, другие хотели узнать, чем клан сможет им помочь. Некоторые, как я подозреваю, просто следили, куда дует ветер, и раздумывали, какую прибыль сулит союз с новыми политическими силами. Мистер Кларк, образованный джентльмен старой закатки, производил на них впечатление, вдобавок никто не мог сопротивляться очарованию Бесси Моган. Поговаривали, что мое участие прекрасно демонстрировало беспристрастность клана. – Мы не угрожаем людям. Только тот, кто называет себя нашим врагом, становится им, – объяснял мистер Кларк человеку с опухшим лицом, которого звали Сэмюэль Ральстон, кажется, индейскому политическому деятелю (хотя по виду этого сказать было нельзя). Благодаря голосам клана год спустя он стал сенатором в Вашингтоне. Интересно, сколько либералов проголосовали бы за Сидящего Быка[421] на выборах в палату представителей? Ральстон, по моему мнению, был всего лишь оппортунистом. Он проявил явную невежливость, когда я попытался заинтересовать его своими методами выращивания зерновых под толстыми стеклянными крышами в контролируемых погодных условиях. Любой человек, который принимал близко к сердцу интересы своих собратьев, понял бы, что я имел в виду. Однако меня внимательно выслушал огромный, волочащий ноги человек, примерно шести футов четырех дюймов ростом, толстый, носивший один из тех свободных пиджаков, которые зачастую предпочитают чрезмерно упитанные люди (они, наверное, полагают, что следует надевать все, во что только можно влезть). Ему было лет тридцать пять, у него было какое-то кроткое, почти детское лицо. Мужчина рассеянно осмотрел меня и, пригладив взъерошенные светлые волосы, спросил, не инженер ли я. – Ученый-экспериментатор. – Я улыбнулся ему в ответ. – Изобретения – моя профессия. Ему хотелось поговорить. – Мне здесь неуютно. – Он извинялся. – Хочется сбежать от этого шума. Он пожал мне руку. Его звали Джон Дружище Хевер; по его словам, жил он по большей части на Западном побережье. Хевер занимался нефтью, но, когда мы разговорились, выяснилось, что прежде всего его интересовало кино. – Меня привлекает все, что касается кинематографа. А вас? Больше часа мы обсуждали очарование Мэри Пикфорд и Лилиан Гиш, нашу общую любовь к фильмам Гриффита, нашу ненависть к людям, которые подстроили провал «Нетерпимости». Общество Хевера показалось мне куда более приятным, чем компания напыщенных, важных людей, которых привлек в Кланкрест «сильный запах капусты», как выразилась миссис Моган. Хевер, по его утверждению, ничего не знал о политике. Его интерес к клану казался сугубо романтическим, и я подозреваю, что он вступил в орден, чтобы получить облачение и разыгрывать маленького полковника из фильма Гриффита. В отличие от прочих американцев, Хевер знал имена многих европейских режиссеров, включая Груне и Мурнау. По правде сказать, он интересовался кино еще сильнее, чем я. Наконец миссис Моган увела меня от Джона Хевера, чтобы познакомить с судьей О'Грэйди из какого-то местечка под названием Тархил или Тауэр-Хилл, которое я и по сей день не могу отыскать на карте. Теперь мне кажется, что он был самозванцем, одним из многих агентов, частных и федеральных, нанятых, чтобы шпионить за кланом. Очевидно, он добился расположения Эдди Кларка, поскольку общались они очень душевно. Если у Эдди Кларка и была какая-то слабость, то исключительно склонность доверять слишком многим. Он от природы отличался добродушием и честностью; возможно, поэтому он был немного самонадеян и не сумел разглядеть подлость и хитрость некоторых людей из своего ближайшего окружения. Остаток вечера оказался, возможно, наиболее интересным – я провел его с известным журналистом, родившимся в Сакраменто, но теперь работавшим в газете вСеверной Каролине. Журналист написал книгу, в которой убедительно доказал, что Авраама Линкольна застрелили по прямому указанию папы римского. Благодаря Гриффиту я уже видел на экране, как Джон Уилкс Бут убил президента, а потом совершил безумный прыжок из ложи театра Форда на сцену и на сломанной ноге заковылял дальше. «Sic semper tyrannis!»[422] – кричал он на латыни. Вот одно из доказательств огромной власти Рима над человеческим разумом. Журналист рассказывал о тайном соглашении в Вероне, о решении «черного» папы римского, генерала иезуитского ордена, и «белого» папы римского уничтожить демократию. Убиты пять президентов, сказал он, и все по приказу этих двух пап римских. Папство очень тесно связано с Ротшильдами. Католики проникли в Японию, постоянно усиливая свое влияние, чтобы настроить желтую расу против Соединенных Штатов. Калифорнийцы уже заметили первые проявления японского вторжения. Эти скрытные и мрачные человечки быстро размножались. Они были авангардом восточной армады иезуитов. – Инструменты иногда меняются, – сказал мне журналист, – но тактика – никогда. Будет ли у нас свой сэр Фрэнсис Дрейк, когда настанет наш черед? Его доводы, а также очевидная эрудиция позволяли объяснить на первый взгляд необъяснимые события, особенно большое количество убийств американских президентов. Многих участников заговора против Линкольна так и не призвали к ответу. Подстрекатели, конечно, оставались в Риме и продолжали посылать все необходимое для дальнейшей борьбы, включая оружие и ящики с боеприпасами с личной подписью папы, подарки так называемым «Рыцарям Колумба», «Рыцарям Золотого Креста». Мне следовало использовать эти факты в своих лекциях. На рассвете 15 марта 1922 года мы с миссис Моган в машине прибыли в пригород Смирны и там спокойно сели в роскошный синий пульмановский вагон, избежав таким образом нежелательной огласки и скрыв мою связь с Кланкрестом. Мы отправились в Портленд, через Канзас-Сити, Денвер и Солт-Лейк-Сити, проделав почти две тысячи семьсот миль с востока на запад. Безусловно, то была самая продолжительная поездка, которую мне приходилось совершать. Я был взволнован, задумчив и признателен за удобства; я наслаждался свободой железнодорожного путешествия в приятном обществе миссис Моган. Телосложением и внешностью она слегка напоминала баронессу фон Рюкстуль, и одновременно было в ней нечто общее и с миссис Корнелиус. Миссис Моган тоже пела мне эстрадные песенки, но не могла исполнять их живо и энергично, с неповторимым выговором кокни. В клубном вагоне мы присоединились к другим пассажирам и спели «Встреть меня в Сент-Луисе, Луи», «Свет полной луны», «Милую Аделину» и «Алло, Центральная, дайте мне Небеса». Я до сих пор скучаю по уюту и хорошему обществу тех старых американских клубных вагонов, в которых незнакомцы встречались, беседовали и веселились, как в поездах Российской империи. А огромные, огромные 2-6-6-2 локомотивы, верные, неутомимые, могучие, тянули нас вдоль пустынь, прерий, гор и болот, через бесконечные леса и глубокие туннели. Теперь все это исчезло. Я слышал, что некие темные силы национализировали американские пассажирские поезда. Как и в Англии, они стали грязными, невыразительными, ненадежными и совсем не романтичными. Теперь частные лица не могут даже арендовать пульмановские вагоны. Гибли тысячи индейцев и пионеров, трудились миллионы чернорабочих, рисковали многие финансисты – все ради того, чтобы обеспечить движение великой Железной Лошади. Теперь их жертвы оказались бессмысленными. Я часто думаю о том, как пошли бы дела, если бы Россия добилась успеха в колонизации Америки. Сан-Франциско все еще оставался бы Санкт-Петербургом. А вместо этого Санкт-Петербург – злосчастный городишко во Флориде, где еврейские матери семейств едят блины на молоке и селедку и запах пота отравляет сырой воздух. Почему они осушили одно болото и создали вместо него другое? Я все еще мечтаю о том, что Америка станет новой Византией, славянским оплотом нашего православия. Если бы славяне устроили свое государство только на западе и севере континента, со своим царем и своим древним законом, – тогда ни Гитлер, ни Хирохито не осмелились бы начать войну. Миссис Моган говорила, что рада отойти подальше от борьбы. Она работала на мистера Кларка и его партнеров в рекламном агентстве в Джорджии, когда полковник Симмонс попросил их помочь в спасении гибнущего клана. Теперь орден обрел новые силы, и миссис Моган чувствовала, что могла с удовольствием его оставить и вернуться к более спокойной жизни. – Проблема в том, что Эдди очень втянулся в это дело. Оно для него важнее еды и питья. Она сидела в клубном вагоне, скрестив ноги под восхитительным темно-зеленым платьем. Я понимал ее истинно женское желание освободиться от бремени политики, но сочувствовал мистеру Кларку. Женщины редко понимают принципиальные проблемы. По мнению миссис Моган, ее задача состояла в том, чтобы организовать финансовую систему и сбор членских взносов. – Теперь это становится слишком опасно. Иногда я боюсь, что кое-кто так меня ненавидит, что готов убить. Она смеялась над своими собственными фантазиями. Я сказал, что она явно переутомилась. Я надеялся, что эта поездка станет чем-то вроде каникул. Она согласилась, но, когда мы подъехали к Орегону, постепенно стала вести себя более деловито. – Сначала ты станешь килгрэппом королевских всадников в красных одеяниях. Это своего рода ответвление группы рожденных за границей стопроцентных американцев. Вот почему мы сначала едем в Портленд. Их орден очень влиятелен, там нужно выступить. Но настоящим дебютом станет Сиэтл. Тепло ее тела и аромат ее духов пробуждали во мне похоть. Я думаю, она заметила это, когда мы сидели близко друг к другу в обитом бархатом углу купе, но возмущения не выразила. Однако любовниками мы стали уже после Сиэтла. Те месяцы были для меня счастливыми. В Портленде церемония посвящения оказалась настолько волнующей, что я с трудом сдерживал слезы. Я поклялся поддерживать все истинно американское и защищать честь Соединенных Штатов прежде всего. Публичное выступление, как и предсказывала миссис Моган, имело ограниченный успех. Два дня спустя в Сиэтле, однако, я выступал с торжественной речью перед большой аудиторией. Я словно перенесся в тот чудесный день в Санкт-Петербурге, когда весь институт приветствовал мое дипломное выступление на тему онтологического подхода к науке. Я начал с цитаты из «Рождения нации»: «Былые враги с Севера и Юга объединились ради совместной защиты неотъемлемых прав арийцев». Я говорил о зависти, которую другие расы испытывали к белым протестантам, о нашей обязанности противостоять постоянной угрозе во всех ее обличьях. Я закончил еще одной цитатой из шедевра Гриффита, из той сцены, где Линч, одержимый жаждой власти мулат, собирался жениться на Лилиан Гиш. Это должно было стать примером всем нам: «Мои люди заполняют улицы. С ними я построю Черную империю, и вы, моя королева, воссядете рядом со мной!» Я сказал, что мечты Линча – это мечты тех, кто завидует нашим победам, достигнутым тяжелым трудом. Я напомнил о флаге, на котором алое пятно крови южной женщины, неоценимой жертвы на алтаре цивилизации, напомнил, как маленький полковник поднял древний символ свободного народа, огненный крест холмов старой Шотландии, и потушил его пламя самой сладкой кровью, какая когда-либо орошала пески Времени. На этом флаге – лозунг, сказал я. Лозунг, который нам следует помнить сегодня: «Мы победим, ибо наше дело справедливо! Победа или смерть! Победа или смерть!» Слушатели все еще аплодировали и стучали ногами, когда я покидал зал, чтобы успеть на ночной экспресс в Чикаго. Позже, когда большой состав во тьме мчался по просторам Северо-Запада, большое, жадное тело миссис Моган опустилось на меня. Она резко сбросила одеяло с моей койки, решительно вставила в себя мой напряженный член и начала меня трахать. Бесси оказалась не только умной, но и похотливой. Когда посреди ночи я начал уставать, она достала маленькую коробочку – она назвала ее «крылышками». Это был чистый кокаин. Она стала моим лучшим поставщиком, а взамен пользовалась моим послушным телом. Тур продолжался. Я узнавал свою спутницу все лучше. Я понял, что она была серым кардиналом клана. Если Эдди Кларку не удастся справиться с конкурирующими фракциями, она подготовит меня ему на смену. Но я не собирался предавать своего друга. Я предал бы Бесси, если бы мне пришлось это сделать. Моя честь не позволила бы мне ничего иного. Забросив большинство клановых обязанностей, она посвящала большую часть своего времени мне, иногда исчезая по загадочным делам, когда у нас выдавалась передышка (думаю, она где-то скрывала ребенка). В других случаях Бесси проявляла интерес к особым удовольствиям. Иногда она находила в городе подругу, и мы втроем резвились, пока все простыни в номере не пропитывались нашими соками. Куда бы мы ни отправились – меня везде приветствовали с энтузиазмом. Я всегда пояснял, что выступаю прямо и чистосердечно, что мои услуги оплачивает агентство, именуемое «Ассоциацией юго-восточных лекторов», и что я никак не связан с политическими группами. Я был прежде всего ученым. Я давал интервью, даже выступал несколько раз по радио (тогда это считалось новинкой), и после моих выступлений ряды клана росли. Я вносил свою лепту в дело свободы. И естественно, находились люди, которые пытались остановить меня. Я сначала испугался писем, в которых безумцы угрожали убить или искалечить меня сотней разных способов. Но миссис Моган просто посмеялась над ними. Это, по ее словам, было вполне нормально: верный признак того, что я попал в точку. Потом в меня выстрелили из дальнего конца зала в Балтиморе, пуля попала в одну из колонн, и мой костюм присыпало штукатуркой, но Бесси заверила, что это сделано ради рекламы. Стрелял клансмен, чтобы обеспечить газетам интересную историю и таким образом добиться публикации отчета о моем выступлении. Я успокоился. Мы долго посмеивались над этим происшествием. И когда нечто подобное повторилось в канзасском Уичито, я легко стряхнул пыль, улыбнулся и пошутил. Аудиторию мое хладнокровие впечатлило, даже несмотря на то, что план сработал не совсем удачно и местная женщина, которая меня представляла, была легко ранена в плечо. Этот несчастный случай, однако, показался пустяком по сравнению с другой ложкой дегтя в нашей восхитительной бочке меда. Помимо зловредных фанатиков, большевиков и иностранных агитаторов, пытавшихся помешать моим выступлениям, которых решительно останавливали люди миссис Моган, мне пришлось столкнуться и с Бродманном. В первый раз я увидел его на вокзале Юнион в Чикаго во время пересадки на поезд, направляющийся в Цинциннати. Он держал руки в карманах кожаного пальто, широкополая шляпа скрывала его глаза; он стоял в тени каменной арки, рядом с табачным киоском. Бродманн внимательно посмотрел на меня, но не бросился в погоню. Я думаю, что он легко вышел на мой след в Париже. Чекист, казалось, играл в какую-то свою игру. Я никак не мог понять ее правил. Возможно, он рассчитывал сбить меня с толку. Я действительно начал волноваться, когда подумал о том, сколько агентов у него могло быть в поезде. К счастью, Бесси Моган всегда уделяла должное внимание безопасности, и в наше отделение входили только работники поездной бригады. Во второй раз я увидел Бродманна, когда мы стояли в Сент-Луисе на перекрестке. Внезапно мой взгляд коснулся знакомого злорадного лица – Бродманн, на сей раз без шляпы, сидел в проезжающем мимо трамвае и усмехался. После этого он затаился или, возможно, потерял след. Однако я по-прежнему чувствовал, что за мной шпионят. Наконец я принял это как должное и постарался больше не думать о слежке. Моя миссия была гораздо важнее, чем нелепая вендетта Бродманна. Мы предупредили американцев, и многие нас услышали, но Америка так и не очнулась. Она не желала думать о том, что творилось в Европе, она пребывала в состоянии эйфории. Она не желала участвовать в решении международных проблем; началось отчуждение. И в результате произошла катастрофа. Америка приняла меня, не стану этого отрицать. Она была щедра в те времена, до успешной атаки сионистов в 1929 году. И я сделал для Америки все, что мог. Я выступал в городах, которые назывались Афинами, Каиром, Римом и Спартой. Я выступал в Санкт-Петербурге, Севастополе и Одессе, а позади меня стояли опытные вербовщики клана, которые подписывали контракты с новыми членами везде, где я появлялся. Я по-прежнему регулярно посылал письма и открытки Эсме и Коле, но только миссис Корнелиус ответила на мои послания. Она выступала в успешной театральной труппе. Она называла это концертными вечеринками. Она работала в основном в хоре, иногда представлялась возможность выступить с небольшим сольным номером. Менеджер был душкой. Он считал, что они должны попытать удачи в Америке, где английские шоу завоевали популярность. Шанс невелик, но кто знает? Она могла бы встретиться со мной. Я написал, что очень рад за нее, и спросил, удалось ли ей разыскать Колю и Эсме. Я сообщил, что моя собственная «актерская карьера» развивается успешно. В те месяцы 1922 года было легко поверить, что хаос удалось сдержать. Клан повсюду процветал. Вашингтон прислушивался к нам. Президент Хардинг дополнил закон об ограничении иммиграции. В Италии Муссолини добился успеха и решительно выступил против папы римского. Но я думаю, что пророческие знаки можно было истолковать, если б я пожелал их увидеть. Социалистическая Германия сблизилась с большевистской Россией, турки победили греков в Смирне, Мустафа Кемаль провозгласил себя президентом. Рим, казалось, одерживал победу в ирландской гражданской войне. Хардинг, ослабевший от яда, попытался запретить забастовки железнодорожников и потерпел неудачу. Карфаген приближался, просачиваясь сквозь наши заслоны, – опоры дамбы уже прогнили. Миссис Моган рассказала мне, что шахтеры избили, расстреляли и повесили двадцать девять штрейкбрехеров в Иллинойсе. Это, по крайней мере, позволяло мне во время лекций приводить красноречивые примеры, подтверждающие мои пророчества. Тем не менее клан собирал силы. Они готовились остановить грядущий потоп. Поддержанные кланом кандидаты победили на предварительных выборах в Техасе. Тысячи тайных сторонников ордена обещали поддержку на множестве клановых голосований под огненными крестами стофутовой высоты. Наемники лейбористов заправляли в Чикаго. Клан трудился неустанно, ночью и днем, чтобы одолеть их. Он наносил удары по бутлегерам и профсоюзным боссам. Все указывало на то, что победа будет за нами. В дирижабле майора Синклера я вылетел из Хьюстона в Чарльстон – разумеется, инкогнито; считалось, что мне по-прежнему не стоит афишировать связь с кланом. Я летал во множестве других машин, но никогда не переставал размышлять о проекте собственного гигантского пассажирского самолета, который должен в конце концов подняться в небеса. Почти каждый день я думал о том, что мой час вот-вот пробьет. Обо мне писали крупнейшие общенациональные газеты. «Британский профессор предсказывает великое будущее Америки» или «Воздушный ас предостерегает США против большевистской угрозы» – гласили заголовки. При таком общественном признании у меня были все основания для оптимизма. Вскоре я рассчитывал получить в свое распоряжение неограниченные средства. Огромную политическую власть я хотел использовать во благо общества. В Нью-Мексико, когда я отправлялся на выступление, в меня выстрелил анархист. Пуля пролетела очень далеко от меня и убила какого-то юношу. В Техасе я удостоился чести поучаствовать в ночной конной поездке в тайную долину клана. Здесь, у пылающего креста, меня приветствовали более двух тысяч клансменов. Я был облачен в роскошные красные одеяния, и меня называли первым и лучшим посланником клана. Потом состоялся суд над двумя мужчинами. Белого обвиняли в супружеской измене. Приговор был таков: клеймо ККК выжгли у него на спине, согласно закону клана. Негра, который оскорбил белую женщину, забили до смерти плетьми у ног обиженной леди. Это не было решением жестоких, тупых людей. Нет, это была демонстрация безжалостного правосудия клана. Газеты, разумеется, все преувеличили. В России я видел и не такое. И те самые репортеры, которые защищали Троцкого, во весь голос осуждали клан. Больше добавить нечего. Я с удовольствием окунулся в работу. Меня беспокоило отсутствие новостей от Эсме. Занятому человеку некогда раздумывать. Я презираю эту моду на самоанализ. Она идет рука об руку с самовлюбленностью. Если вы заняты делом, то вам некогда испытывать недовольство или подолгу размышлять о своих болячках. Настоящая боль, как однажды сказал мой приятель, никогда не длится больше пяти минут. Все остальное – только фантазии. Бесплодные размышления ведут к истерии и психическим заболеваниям. Идеи бесполезны, если они не воплощаются на деле. Но я не забывал об окружающем мире. Случай с мистером Роффи – показательный пример. В Варшаве, Индиане, где я уже однажды читал лекции, меня попросили выступить снова. Штат был «решительно клановым», и здесь готовились к выборам губернатора. Как обычно, местные члены ордена устроили нам с миссис Моган роскошный прием, и мы вернулись в отель «У Пакстона» довольно поздно, чтобы отметить визит в более интимной обстановке. На следующее утро меня разбудил швейцар. Закрыв дверь в спальню, где все еще отдыхала миссис Моган, я спросил, что ему нужно. – Джентльмен говорит, сэр, что это очень срочно. Он сейчас внизу. – Швейцар передал мне послание. Записку, как оказалось, написал Кларенс Роффи. У него были новости, которые представляли для меня интерес. Решив, что это брат Чарли, я попросил пригласить его; я подумал, что он хочет сообщить о желании Роффи вернуться к нашему проекту аэродрома. Я попросил швейцара подождать полчаса, а потом, когда придет джентльмен, подать завтрак. У миссис Моган испортилось настроение, и она отвернулась от меня. Я объяснил, что происходит, и попросил ее удалиться в другую комнату; она могла прийти к завтраку и встретиться с братом Роффи. Я уже привел себя в порядок, когда Кларенс Роффи постучал в дверь. Он вошел в комнату, и я едва сдержал смех. Конечно, меня просто разыграли. Разумеется, это был Чарли Роффи, правда, выглядел он не слишком хорошо – мягкая фетровая шляпа и полосатый костюм явно знавали лучшие дни. Его красное лицо опухло, кожа утратила прежний здоровый вид. Он сел на стул, который я. ему пододвинул, и сказал, что не прочь позавтракать. Я крепко пожал ему руку, пытаясь показать, что не испытываю к нему ни малейшей неприязни. Его рука была мягкой и липкой. Бедняге нездоровилось. – Почему вы назвались Кларенсом? – спросил я. – Не самый лучший псевдоним! Он нахмурился. – Я имел в виду Чарли, – сказал Роффи. – Я очень рад вас видеть! Ужасно переживаю из-за того, что подвел вас. Если бы вы не уехали из Мемфиса так быстро, все было бы в порядке. Я думаю, что головорезы «Босса» Крампа представляли слишком большую угрозу, да? Вы попали в беду из-за этого займа? Как мистер Гилпин? И Джимми Рембрандт? Слышно что-нибудь о майоре Мортимере? Он потерял с ними связь. Голос его дрожал. Что бы я ни говорил, он никак не мог успокоиться. В конце концов он вытащил из кармана несколько листков, копии переводов из французских журналов, в которых меня критиковали. Еще он показал мою помятую долговую расписку на сто пятьдесят тысяч долларов. – Вы все это уже видели, я знаю. У меня есть оригиналы. – Джимми мне об этом говорил. Вы приехали, чтобы предупредить меня? Мне угрожает опасность? Его глаза расширились. Он стал вести себя менее сдержанно: – Мистер Пятницкий, вас бы уничтожили, если бы общественность узнала, что вы – русский еврей, который имел отношение к науке разве что год назад, мошенничая в Париже. – Несомненно, если бы поверили в это. Того же опасался и капитан Рембрандт в Мемфисе. Разумеется, все это неправда, и я не очень волнуюсь. – Я положил руку ему на плечо. – Что вы хотите мне сказать? Эти небылицы раскопали мои политические противники? Роффи откашлялся. Он никак не мог заговорить, потом решительно кивнул. – Да, нечто подобное возможно, сэр. – Он вздохнул, расправил плечи и с интересом посмотрел мне в лицо. – Из-за вас, сэр, я лишился денег и нахожусь в бегах. Я не могу вернуться в Вашингтон, где работал в течение многих лет. Теперь все знают, что я – мошенник. Вы мне кое-что должны, мой друг. Так что я готов продать все эти материалы, и мы квиты. Что скажете? Я был потрясен: как низко пал джентльмен благородного происхождения! Я с состраданием произнес: – Вам ничего не нужно мне продавать, мистер Роффи. Я всегда с уважением относился к вашей репутации. Вам нужно просто попросить о помощи. Я, как вы говорите, нес частичную ответственность. Сколько вам нужно? – Десять штук. Он пожал плечами и посмотрел в окно. Я печально улыбнулся: – У вас до сих пор какое-то преувеличенное представление о моем состоянии. Мистер Роффи, в память о старых добрых временах могу ссудить вам тысячу. Пока он обдумывал мое предложение, вошла миссис Моган, свежая и цветущая, одетая в красное бархатное платье. Она нахмурилась, когда я представил ей посетителя. Очевидно, ей не понравилась его потертая одежда. Она резко спросила, не встречались ли они где-нибудь прежде. Я объяснил, что Роффи был моим старым деловым партнером, которому нужна помощь. Он нервно вскочил и быстро проговорил: – Хорошо. Я согласен на тысячу. – Вы голодны. Оставайтесь позавтракать. Его это явно смутило. Я выписал чек. Он вручил мне конверт. – Так вы – вымогатель, верно, мистер Роффи? – произнесла миссис Моган самым что ни на есть сладким голосом. Я оценил ее юмор, но Роффи ее слова возмутили. – Это, черт побери, не ваше дело! – Он приподнял шляпу и вышел, оттолкнув официанта, который принес нам завтрак. Миссис Моган нахмурилась: – Тебе следует ввести меня в курс дела. – Мы сели за стол. – И не бойся огласки. Ты знаешь, что я не стану на тебя стучать. У клана уже есть на тебя кое-что, и побольше, чем ты думаешь. В итоге я изложил ей всю историю от начала до конца, объяснив, почему нельзя было ни в чем винить Роффи. Самое меньшее, что я мог сделать, – это дать ему немного денег. Миссис Моган сидела, не притрагиваясь к еде. Она качала головой и вздыхала, потом быстро поднялась, отбросила салфетку и сказала, что спустится в холл, чтобы позвонить. У меня все будет в порядке. Когда клан утверждает, что позаботится о своих друзьях, это означает, что все так и будет. Через десять минут миссис Моган вернулась. Радостно улыбаясь, она наклонилась и погладила меня по лицу. – Если о тебе пойдут дурные слухи, будет плохо для всех. Я уже знаю, на что это похоже – пострадать от желтой прессы. Отмени выплату по чеку как можно скорее. – Клан заплатит мистеру Роффи? Она улыбкой подтвердила мое предположение. Вот оно – истинное великодушие! Тем вечером, выходя на сцену, чтобы поведать полному залу о большевиках, кровопролитии и грядущей битве за Америку, я был уверен в своем будущем как никогда. После решения вопроса с моим долгом мистеру Роффи я сразу позабыл и о зловещем двойнике. Бродманн хотел завладеть моей душой с тех пор, как стал свидетелем моего унижения. Американские окраины пробуждали во мне слишком много воспоминаний. Равнины казались родными степями, огромные леса – лесами средней полосы России. В Скалистых горах и горах Голубого хребта я мог избавиться от призраков Бродманна, Ермилова и Эсме. Эти массивные пики даровали мне неожиданное спокойствие всякий раз, когда мы, пересекая страну, миновали горы. В больших, современных, типично американских городах я избавлялся от прошлого, от терзаний, связанных с последними месяцами, проведенными в России. Они изнасиловали тебя. Они украли твою душу и твое сердце. Они забрали самое существо твое. Ровные кварталы Акрона, Питсбурга, Кливленда и Канзас-Сити укрывали меня, обещали анонимность. В Новом Орлеане и Сан-Франциско слишком многое было знакомо – отдельные дома, конструкции из кованого железа, кирпича и штукатурки напоминали мне о матери. Только дурак поддается страданиям. Для них нет оправдания, они не приносят выгоды, что бы ни говорили католики. Некоторое время я считал Чикаго самым красивым городом в Америке; массивные, изящные башни казались блестящими памятниками человеческому трудолюбию и оптимизму. Америка в 1922 году тревожно искала новых путей к будущему. Пусть ее энтузиазм иногда был чрезмерным, но он контрастировал с усталым цинизмом Европы, мрачным унижением России, хаотичным упадком Востока. Преодолевая провинциальное самодовольство, американский гражданин понимал свою силу. Возможно, в те дни он вполне естественно уклонялся от исполнения международных обязанностей. Я вспоминал историю Фальстафа, в которой Генрих сопротивлялся своей божественной роли и собрался с силами только в последний момент; он избавился от французской галантности, когда бросился вперед со своей «горсточкой счастливцев»[423]. Конечно, надо учесть, что ему не приходилось бороться с евреями. Короткие юбки, вино, некоторые наркотики и многие другие вещи, вызывавшие отвращение у большинства моих слушателей, мне не казались явными признаками вырождения или неизбежного бунта. Люди, которые положили жизни на преследование проституток, бутлегеров и игроков, могли бы лучше послужить стране, если бы обрушились на воротил, эксплуатировавших граждан и управлявших обычными повседневными потребностями, занимались едой, одеждой, жильем и транспортом. Превращая удовольствия в преступления, пуритане передавали власть прямо в руки преступников. Пуританин кричит: «Это не должно существовать, поэтому оно не существует!» А богачам позволительно утверждать: «Это существует, потому что кто-то может получить от этого прибыль». Умеренность достигается не законом, а примером. Если поставки становятся редкими и ненадежными, товар приобретает более высокую стоимость на рынке. Это когда-то относилось к путешествиям, поездам, кораблям, самолетам, даже автомобилям. В Детройте, на вечеринке, устроенной майором Синклером для людей, занятых в авиабизнесе, я повстречал молодого Линдберга и подбросил ему идею беспосадочного перелета через Атлантику. Практически весь самолет нужно превратить в топливный бак, сказал я, нужно использовать все возможное пространство, даже крылья. Но он был одержим южноамериканскими маршрутами. Он так и не присоединился к клану, хотя позднее взял на себя мои обязанности и использовал свою репутацию для поддержки борьбы с чужаками. Многие инженеры, ученые, солдаты и летчики разделяли мои взгляды. Мы можем преодолеть социальные трудности, если обозначим их с предельной ясностью, недоступной философам и художникам. Только так мы в состоянии решить проблемы. Управление Америкой нужно было поручить Генри Форду и полковнику Линдбергу. И в результате сегодня мы увидели бы совсем другую страну. На протяжении того года власть клана возрастала. Мои туры становились все более и более продуманными и масштабными. Когда я въезжал в город в открытом автомобиле, меня обычно сопровождали группы пеших поклонников, которые забрасывали мою голову и плечи лентами и конфетти. Перед началом речей выступали проповедники и пели хоры. Со мной фотографировались местные политики. Мое имя использовали в рекламных объявлениях и газетных заголовках. В то же время я никогда не позволял ни слушателям, ни самому себе забывать, что я прежде всего ученый, – не было ничего дурного в том, чтобы решать мои подлинные задачи именно таким образом. Я оценил американское искусство рекламной шумихи. Таким образом, по иронии судьбы я восторжествовал именно тогда, когда мои технические проекты временно потерпели неудачу. Трудно сказать, как я повлиял на социальные и научные представления будущих поколений. Идеями, которые я небрежно отбрасывал – атомные электростанции, телевидение и ракеты, – позже воспользовались другие. Известные журналы, такие как «Популярная механика», «Мир радио» и «Воздушные асы», хватались за мои пророчества, в то время как подражатели Верна и Уэллса переводили их на язык беллетристики. Между 1925‑м и 1940 годами порой издавались целые книги технических предсказаний, полностью заимствованных у меня! Тогда я не задумывался, как широко распространятся мои пророчества. Мне являлись поразительные видения, и я с готовностью делился ими со всем родом человеческим. Даже сегодня я не жалею о своем великодушии, но чувствую себя немного уязвленным, не получая заслуженного признания. Я был бы рад занять даже ничтожное место в истории. Возможно, приезд в Англию был ошибкой. Здесь всегда относились с подозрением к новому и странному. В последнее время, лежа в полуразрушенной гробнице, как всегда преисполненная самодовольства и самолюбования, Англия ведет себя так, будто ей есть чем гордиться, хотя Юнион Джек давно стал символом нарушенных обещаний и преданных идеалов. С мая по сентябрь приезжают туристы, они разглядывают гвардейцев, древние камни, королевские экипажи. Их обманывает британская иллюзия. Но в Ноттинг-Хилле и Брикстоне, в Миллуолле и Тоттенхэме рушатся здания, наклоняются и дрожат от самого легкого ветра непрочные башни, трескаются тротуары, переулки заполняют зловещие тени: вот на чем держится фасад империи. Мы – жертвы подлого обмана. Англичане утратили гордость, позабыли о чести, отказались от самопознания. В богатой стране все это не обязательно показалось бы недостатком, в бедной – стало кошмарным бедствием. Миссис Корнелиус, похоже, думала, что всегда повторяется одно и то же. Я говорил ей: это только кажется. Англия – раскрашенный труп; плоть гниет под коркой заблуждений. «Живи и дай жить другим, Иван», – говорила она. Но то, что некогда было благородной терпимостью, теперь стало просто низостью. Я мог бы их спасти. Когда мои летающие города украли, спасительная нить была перерезана. Способен ли я теперь не ненавидеть их? Jene Leute sind verarmt[424]. Наконец я посетил Лос-Анджелес. Друзья миссис Моган устроили для нас экскурсию по киностудиям. Я пожал руку Дугласу Фэрбенксу! Клара Боу поцеловала меня в щеку! Фэрбенкс воплощал все американские добродетели, хотя его настоящая фамилия была Ульман. У меня сохранилась фотография с автографом – он в костюме Робин Гуда. Я провел в Голливуде только одну ночь, потому что выступал с лекциями в Анахайме, но увиденное произвело впечатление. Все было изящным и культурным: идеальное сочетание богатства, вкуса, безопасности и приятной атмосферы. Я побеседовал с несколькими людьми и предложил новые техники киносъемки. Они сказали, что я опередил свое время. (После приезда в Англию я рассказывал о том, что помог становлению звукового кино. Я предложил свои услуги Корде, но, как обычно, натолкнулся на давно знакомую стену.) Я хотел вернуться в Лос-Анджелес и попросил, чтобы миссис Моган как можно скорее организовала там лекцию. Она сказала, что сделает все возможное, но в сфере развлечений у них серьезных интересов нет. Мы решили не приезжать в Кланкрест на Рождество, так как миссис Моган больше не хотела встречаться с мистером Кларком. Он был одержим борьбой с так называемой «бандой Эванса». Эта группировка требовала, чтобы полковник Симмонс освободил Кларка от исполнения обязанностей и назначил на его место дантиста из Техаса. Я бы с удовольствием поддержал своего друга, если бы мог. Но миссис Моган сказала, что мое присутствие только усложнит и без того трудную ситуацию. Лучшее, что мы могли сделать, – держаться в стороне от внутренней политики и продолжать свою миссию во всем мире. Это показалось мне вполне разумным; в итоге мы прервали тур в Мичигане, остановившись в замечательном загородном отеле, который конфиденциально арендовал на праздники сенатор, друг миссис Моган. Он называл себя дядя Роско. Я так никогда и не узнал его настоящее имя, хотя полагаю, он был из Иллинойса. Отель напоминал фантастическую Швейцарию, его окружали засыпанные снегом сосны и со всех сторон укрывали холмы. Мы провели истинное американское Рождество – именно таким оно и должно быть. Посреди танцевального зала стояло огромное дерево, увешанное мишурой и цветными блестками, яркими подарками и стеклянными безделушками. Наш сенатор, переодетый Санта-Клаусом, лично раздавал подарки своим гостям. Я объелся индейкой, мясным пирогом и другими прекрасными традиционными блюдами. Местные детишки в ангельских одеяниях пели гимны «О город Вифлеем» и «Тихая ночь». Мне не хватало лишь моей Эсме. Миссис Моган спела «Белые листья зимы покрывают землю», а я исполнил для гостей «Это старое железо». Молодые распутницы, нанятые сенатором, чтобы немного развлечь преимущественно мужскую аудиторию, тоже продемонстрировали во время праздника особые таланты. Мы с миссис Моган удалились в комнату с девочкой по имени Дженни. Но, конечно, сексуальное удовольствие и чувства – разные вещи. После двух выступлений, в Сиу-Сити, Айова, и в Спрингфилде, Индиана, мы сели в поезд до Уилмингтона, Делавэр. Этот восхитительный город, основанный в семнадцатом столетии, был связан с именами величайших современных американских художников, таких, как Говард Пайл, реалистический талант которого как раз достиг расцвета. Мы стали гостями мистера и миссис Ван дер Клир, горнозаводчиков, и у них отпраздновали Новый год и мой день рождения (я настаивал, что он первого января) в традиционном американском свободном и в то же время формальном стиле. На следующий день, однако, наступило разочарование. В самом деле, это происшествие очень смутило всех участников и возродило многие страхи, о которых я как будто позабыл. Мы только что закончили обед в красивой оранжерее под стеклянным куполом (сквозь стекло пробивались яркие лучи зимнего солнца), когда вошел дворецкий мистера Ван дер Клира. Он объявил, что кто-то желает видеть хозяина. Извинившись, наш друг вышел. Через пять минут дворецкий вернулся и попросил меня присоединиться к мистеру Ван дер Клиру и его гостю в библиотеке. Я вошел в уютную комнату и закрыл за собой дверь. Незнакомец был одет в дорогое твидовое пальто и самый обычный серый костюм. Он был невысок, бледен (такими бледными бывают только полицейские), с почти абсолютно лысой головой. Из-за очков большие голубые глаза казались еще больше. Мужчина напоминал чекиста, однако показал мне значок, заявив, что он агент федерального министерства юстиции. Мистер Ван дер Клир сказал, что присоединится к своей жене и миссис Моган. Если мне потребуется какая-то помощь, я всегда могу пригласить его. Федерала звали Харрис. Его вопросы были настолько туманными, что я с трудом мог понять, к чему он клонит. Все это имело какое-то отношение к моему бывшему партнеру, который был замешан, как утверждал Харрис, в каком-то мошенничестве с землей в Северной Дакоте. Мои ответы, казалось, его удовлетворили, и Харрис вскоре смягчился. – Один из них теперь мертв. Возможно, самоубийство. Все его бросили как лишний груз после этой мемфисской аферы. А вы как-то связаны с ку-клукс-кланом, мистер Питерсон? Думаю, он пытался обманом выманить у меня информацию. Но я хотел узнать, кто же умер. – Вы не назвали мне имя, мистер Харрис. – Как насчет Роффи? – спросил он. – Конечно, я знал его. Бедняга покончил с собой? Конечно, он не был замешан в чем-то незаконном? Харрис бесцеремонно ответил: – Для вас все сложилось очень хорошо, мистер Питерсон. Во всяком случае, меня ваша история вполне удовлетворила. Думаю, вас тоже одурачили. – Он пожал мне руку, но его последние слова прозвучали не очень радостно: – Возможно, мы поговорим о клане в другой раз. После этой встречи мое состояние ухудшилось. Я снова ощутил присутствие Бродманна. Северяне могли выслать меня, если пожелают. Моя виза была продлена на неопределенный срок, но ее могли отменить в любое время. Вернувшись за стол, я сказал, что уладил незначительную проблему с иммиграционным бюро, и подал знак миссис Моган. Я хотел поговорить с ней наедине. Час спустя мы прогуливались возле дома, наши ботинки пробивали снежную корку. Миссис Моган уверяла, что последние слова Харриса – это просто попытка запугать меня. Он хотел увидеть мою реакцию и, возможно, интересовался, как я поведу себя потом. – Мы будем делать то же, что и всегда. Твои деньги переводятся в лекционное агентство, а оттуда в наши банки. Агентство платит налоги со своей прибыли. Все в порядке. Они не могут вышвырнуть тебя за то, что ты предупреждаешь Америку о ее врагах! И у тебя есть твои собственные счета; у тебя все в порядке. Расслабься, Макс. – Она поцеловала меня в замерзшую щеку. – Почти все люди держатся подальше от дерьма. Федералам нравится вынюхивать, пока они что-нибудь не учуют. Но ты чист. Ты сидишь на заднице ровно, как монашка в монастыре. Я послушался ее, однако не мог окончательно избавиться от подозрения, что кто-то выжидает, не допущу ли я ошибку. Возможно, когда клан перестанет меня защищать, они нанесут удар. Кроме Бродманна, у меня не было явных врагов, но, конечно, я отважно выступал против злобных сил, угрожающих этой стране. Любое столкновение интересов – и может начаться вендетта. На меня бы напали, а я даже не догадался бы, кто мой враг и какие силы он представлял. Следующие недели оказались еще более успешными, чем предыдущие. Воздавая должное моему красноречию, миссис Моган сказала, что в некоторых залах лекции фактически отменили, несомненно, под давлением организации, которую мы между собой называли АМОК – африканцы, метисы, ориенталисты, католики. Миссис Моган не испугалась. После этого тура, который закончится в начале весны, мне следует отдохнуть, сказала она. Мы собрали уже много капусты. Вопреки ее советам я положил все свои деньги на банковские счета и отказывался даже от самых заманчивых инвестиций. Я понял, что еще слишком наивен в финансовых вопросах. Если бы я принял участие в какой-нибудь новой кампании, то лишь после долгих консультаций с экспертами. Я все еще намеревался вернуться во Францию, чтобы очистить свое имя и в случае необходимости отыскать Колю и Эсме. Теперь меня беспокоило, что они стали жертвами ЧК, возможно, их уже посадили в тюрьму, вывезли в Россию или убили. Я надеялся снова посетить Италию, как только достигну своей основной цели. Моя привязанность к этой стране не ослабевала. Я с волнением следил за карьерой Муссолини и хотел увидеть все своими глазами, так как американские газеты давали крайне ненадежные отчеты о событиях в Европе. К тому времени, когда мы добрались до Канзас-Сити, ко мне вернулось душевное спокойствие. Моя популярность достигла пика. Мы заняли весь верхний этаж небольшого отеля на улице у реки, а затем отправились пообедать в превосходный ресторан, который специализировался на местных блюдах. Когда мы в такси вернулись в отель, миссис Моган узнала, что на столе в номере ее ждет телеграмма. Она была от Эдди Кларка из Атланты. Миссис Моган внимательно прочитала сообщение; казалось, оно было зашифровано. Потом моя спутница расправила плечи и сделала глубокий вдох. – Дурные вести? – спросил я. Она склонила голову набок и подмигнула мне: – Ну, это не так уж важно, Макс. Мы легли спать. Утром, прежде чем подняться, Бесси призналась, что телеграмма от Кларка встревожила ее. Содержание не радовало, но еще хуже было то, что мистер Кларк счел необходимым отправить послание. Если он нуждался в ее поддержке – значит, он проигрывал сражение фракции Эванса. Она боялась, что в следующий раз могут напасть уже на нее. – Это означает, что он нервничает, – сказала миссис Моган. – Как только мужество оставит его, все будет кончено. Я сказал, что мы должны немедленно возвратиться в Атланту, но она покачала головой: – Держись сейчас подальше от всего этого, тогда ты сможешь помочь ему позже. Насколько известно Эвансу и компании, тебя наняла организация, а не Эдди. Они могут вычеркнуть тебя из своих ведомостей, но не подумают, что ты представляешь реальную угрозу. – Им, вероятно, известно, что мы путешествуем вместе. – Если нас спросят, скажу, что Эдди был разъярен, когда я с тобой сбежала. Пойдет? Я согласился, но при этом почувствовал себя несчастным. Это был особенно низкий обман, учитывая, что Кларку, моему благодетелю и ее бывшему возлюбленному, угрожали со всех сторон. – Макс, тебе всегда следует помнить, – настаивала она, – что клан – это тот, кому принадлежит власть в настоящее время. Если это – Эванс, то сила у Эванса. Ему остается только крикнуть: «Предатель!» – и тебе чертовски хорошо известно, что в таком случае нас ждет. Если речь обо мне, то я не хочу оказаться там. Нам обоим есть что терять. Эдди пошел на риск. В лучшем случае газеты просто раздуют скандал. Они будут рады поставить на первые полосы меня в неглиже. Не всегда грязное белье следует стирать на людях, Макс. Если она была уверена, что для нас это единственный способ остаться на свободе и помочь Эдди Кларку, когда мы ему понадобимся, – что ж, мне оставалось только принять ее аргументы. Мы решили продолжать тур, но оба чувствовали сильное волнение. В Денвере нас приняли неоднозначно, и местные члены клана, казалось, испытывали некоторую неловкость, но в основном нам сочувствовали. Мы сократили тур по Колорадо, направившись вместо этого в более дружественные Айдахо и Орегон, где я насладился уже привычным огромным успехом. Орегону навеки отведено особое место в моем сердце. Никто не мог сказать, что в этом штате существовали какие-то особенные расовые проблемы, но здесь осознавали потенциальную опасность, и в Орегоне клан насчитывал рекордное количество членов. Из Юджина мы должны были поехать в Реддинг, Калифорния, но в последний момент услышали, что ангажемент отменили. Получив эти новости, миссис Моган погрузилась в размышления. Потом она сделала пару телефонных звонков и послала несколько телеграмм. Чуть позже, в спальне, она сообщила о нашем следующем выступлении. – В Уолкере, штат Невада, – сказала она. – Местный клеагл согласился покрыть наши издержки и снять зал. После этого мы получим еще несколько больших заказов во Фресно и Бейкерсфилде. Она выражалась туманнее, чем обычно. Я спросил, что пошло не так. Она призналась, что сомневается. – Это инстинкт, Макс. Воняет тухлой рыбой. – Нам угрожает опасность? – Я не вполне уверена. Но мы должны быть готовы после Фресно залечь на дно, чтобы поглядеть, куда подует ветер. Ты сможешь поехать со мнойв Нью-Йорк, если захочешь. – Было бы недурно провести так какое-то время. Спасибо, Бесси. – Не стоит благодарности. – Она внезапно усмехнулась и поцеловала меня, но смотрела настороженно, как олень у водопоя. Ситуация ухудшилась на следующее утро, когда мы выезжали. Я услышал, как миссис Моган кричала на клерка: – Что, черт возьми, вы хотите сказать? Нет подтверждения? Здесь же есть моя подпись! С каких это пор я должна выписывать в отеле заверенный чек? За комнату должно быть заплачено вперед. Нет, у меня нет чертовых наличных. Позовите менеджера. Как его зовут? Мистер Эйнсфилд. Так. Я дам вам номер. Наши чеки всегда гарантированы на местном уровне. Это есть в контракте. Я поставил сумку и подошел к стойке, возле которой застыла пунцовая от гнева миссис Моган. – Что случилось? – Тупые ублюдки, которые организовали ваше выступление, полковник, забыли заплатить отелю или выписать гарантийное письмо, вот и все. Обычно за наше проживание и поездки нес ответственность клан, менялись только имена. И вот впервые возникла проблема. Меня всегда впечатляла любезность и активность местных начальников. Мистера Эйнсфилда отыскали в его магазине. Он был клеаглом, ответственным за организацию моей лекции. Я услышал медовый голос миссис Моган, которая продолжала злобно сверлить взглядом смущенную женщину, сидевшую за стойкой в двух футах от нее: – Так, может быть, вы сейчас приедете, мистер Эйнсфилд, и дадите им гарантии? – Она разозлилась еще сильнее, услышав его ответ. – Нет, мистер Эйнсфилд, нам нужно сесть в поезд. Как насчет немедленно? Вы не думаете, что будет очень стыдно, если мы явимся и вытащим вас из постели, ха-ха! Ее угрозы сработали, и Фредди Эйнсфилд приехал на такси через десять минут. Он извинился перед нами и заплатил клерку наличными, даже дал чаевые швейцару, который отнес наш багаж в то же самое такси. – Мы не получали никаких инструкций, – сказал он. – Мы не знаем, что происходит, миссис Моган. Все запуталось. Я слышал, что контракт мистера Кларка аннулирован. Якобы мистер Эванс обвинил его в безнравственности. Это правда? Федералы охотятся за ним? Или это всего лишь слухи, мэм? – Нам ничего не известно, мистер Эйнсфилд, – холодно ответила она. – Мы никак не связаны с кланом, хотя, конечно, нас часто приглашают выступать перед такими чудесными людьми, как вы. Вам нужно связаться с Атлантой. – Мы пытались. Все линии заняты. Кто-то сказал, что полковника Симмонса застрелили католики. – Это для меня совершенная новость, мистер Эйнсфилд. Она нырнула в такси, и я последовал за ней, обрадованный, что удалось избежать затруднений. Я сказал, что, по-моему, она неплохо справилась с этим делом. Миссис Моган покачала головой: – Вонь становится все сильнее, Макс. У нас оставалось время только на то, чтобы купить билеты в отделанном мрамором холле. Потом носильщик повез огромную гору багажа, а мы помчались за ним по платформе. Поезд оказался обычным составом эконом-класса без пульмановских спальных вагонов, но мы все равно обрадовались. В Рино предстояла пересадка. Переводя дух, я высунулся из окна, осмотрелся и увидел еще одного пассажира, который опаздывал сильнее, чем мы. Он промчался сквозь клубы пара и вскочил на подножку служебного вагона, когда мы въезжали в невыразительный пригород Юджина. Я снова расслабился. Миссис Моган изучала письменные приглашения. Скоро на горизонте появились скалистые, покрытые лесом холмы; по небольшим ущельям мчались реки. Уолкер располагался на краю пустыни. Раньше меня никогда не приглашали в бесплодную Неваду. Я подозревал, что причина – обособленная жизнь тамошних обитателей. Клонкавы[425], наверное, там редкость, подумал я. Когда миссис Моган убрала бумаги в сумку, я спросил, что она думает по этому поводу. – Просто случайность, я полагаю, – сказала она. – Им нужен был кто-то для выступления через несколько дней, а мы внезапно оказались свободны. Не ожидай многого от Уолкера, Макс. Нам повезет, если мы покроем расходы. Если сто человек заплатят по пятьдесят центов, чтобы увидеть тебя, будет чудо. Разгладив складки на своем темно-коричневом пиджаке, человек, запрыгнувший в поезд, шумно опустился в кресло напротив нас. На его вытянутом лице застыла улыбка. Я дружелюбно заметил: – Это было непросто, да? Я видел ваш великолепный рывок. Браво! Он порылся во внутреннем кармане пиджака и вежливо спросил: – Вы джентльмен, известный как полковник Питерсон? – Он достал значок. Еще один федерал. – Да, это мое имя, сэр. – Я скрыл свое беспокойство. – Понадобится дьявольски хорошее объяснение, – сказала миссис Моган. – Какого черта вы выслеживаете нас, как настоящих жуликов? Что вам угодно, – она осмотрела значок, – мистер Джордж Г. Каллахан? – Не преувеличивайте, миссис, – успокаивающе произнес федерал. – Я пытался поймать вас в отеле. Мне сказали, что вы сели на этот поезд. Вот и все. Мне поручили задать полковнику Питерсону несколько вопросов. Обычное дело. Все остальные пассажиры проявили интерес к нашей беседе. Мы как будто стали актерами, игравшими для них бесплатный спектакль. – Давайте немного отойдем, если позволите, – сказал Каллахан. Мы последовали за ним через три вагона и наконец вышли на небольшую открытую наблюдательную площадку; здесь дул сильный ветер и было шумно, зато мы избавились от посторонних глаз и ушей. Становилось все теплее, солнце серебрило рельсы позади поезда, а мистер Каллахан, стараясь перекричать шум колес, спросил, могу ли я сообщить, кто организовывал мои туры. Он открыл блокнот, чтобы записать мой ответ. – Ассоциация юго-восточных лекторов, – сообщил я. – И что это такое, сэр? Миссис Моган объяснила, как работает лекционное агентство. – И кто руководит всем этим, сэр? Она снова ответила: – Я, офицер. Это мой бизнес. В чем же проблема? Он записал и это, а затем попросил меня показать паспорт и визу. Я дал ему документы, объяснив, что Питерсон – профессиональное имя, которое легче воспринять местным слушателям. – Я здесь не для того, чтобы мешать вам, сэр. – Он говорил так, будто я оскорбил его. – Насколько мне известно, в смене имени нет ничего незаконного. Если это не связано с преследованием за мошенничество, конечно. – Каллахан усмехнулся. Он ни в чем меня не подозревал. Он, в конце концов, просто осуществлял обычную проверку иностранца, привлекавшего много внимания. – У нас возникло подозрение, что ваши туры мог устроить ку-клукс-клан, – сказал он. – И знаете, почему мы так подумали, сэр? – Клан часто нанимает залы и продает билеты на выступления полковника Питерсона. – Миссис Моган никогда не говорила неправды, если ее слова можно было легко проверить. – Наше агентство просто выполняет заказы. Очевидно, они поступают и от разных групп клана. – А вы никак не связаны с ку-клукс-кланом, мэм? – Нет. – Теперь – нет? – Если хотите. Господи боже, офицер, тут нет никакой тайны, мы с Эдди Кларком запустили это шоу, но я давным-давно ушла в отставку. Они меня не любят и никогда не любили. – Но они использовали ваше агентство, – сказал он. – Мое агентство абсолютно независимо. Мы беремся за любые заказы, хоть от бостонского дамского кружка кройки и шитья, хоть от «Рыцарей Колумба». – Это тоже было записано в блокнот. – Но мистер Эйнсфилд, например, входит в совершенно иную организацию. – Он – видный член клана, мэм. Разве вы об этом не знали? – Нас пригласила Протестантская лига защиты, мистер Каллахан. У меня в сумочке лежит контракт. А сумочка лежит на полке над моим местом. – Интересно, сможете ли вы хотя бы примерно обозначить гонорары, мэм. – Самые разные – от пятидесяти до пятисот долларов. – Через ваше агентство, мэм, проходят кругленькие суммы. – У нас успешный бизнес. Мы знаем свое дело. – Уверен в этом, мэм. Мы проверили тех двоих, которые пытались вас надуть в Мемфисе, полковник. – Он снова внезапно сменил тактику. – Один ускользнул от нас окончательно. Другой называл себя Роффи. Вы с ним встречались, сэр? – Нехорошо, Каллахан. – Миссис Моган говорила свысока, как будто обсуждала неудачную передачу на футбольном матче. – Роффи мертв. Один из ваших ребят сообщил нам об этом почти три месяца назад. Да, мы ничего не знаем о другом. – Роффи был нездоров, – заметил я. Я чувствовал, что Бесси слишком рискует, обвиняя его. – В прошлом году один друг предупредил меня, что он склонен к самоубийству, но я не поверил. – Конечно, – сказал мистер Каллахан, закрывая свой блокнот. – Спасибо, что уделили мне время, сэр. Могу ли я спросить, куда вы теперь направляетесь? – Это поезд в Рино, – фыркнула миссис Моган. – Я думала, вам это известно. Он спокойно улыбнулся. – Я выступаю в Уолкере через несколько дней, – произнес я. – Уолкер, – медленно повторил Каллахан. – Не слышал об этом городе. И кто же вас пригласил на сей раз? – Большевистская революционная партия. – Миссис Моган развернулась и пошла обратно по составу. – Общество убийц президента. Ватиканская лига ветеранов. Чертов мерзавец, католическая ищейка. Не помогай ему, Макс. Он не имеет права. Я перевел взгляд на Каллахана, и он покачал головой, как будто отпуская меня. Я пошел за миссис Моган. Каллахан остался в техническом вагоне, спокойно делая записи в блокноте, а мы возвратились на свои места. За окном мы теперь видели широкое спокойное озеро. – Он гоняется за кланом, Макс, а не за тобой. – Миссис Моган была заинтригована и взволнована, она как будто наслаждалась этой схваткой. – Он просто рассчитывает, что ты окажешься простаком и выболтаешь что-нибудь полезное. У нас все в порядке. Налоговая служба не может нас достать. Мы зарегистрированы, платим налоги. В отчетах все идеально. Все кошерно. Но все это – серьезная причина для того, чтобы никогда больше не возвращаться в Атланту. – Она улыбнулась. – Мы ничего не признаем, хотя ему известно, что происходит. Ему пришлось бы нелегко, если б он захотел доказать преступное намерение. Я полагаю, что он хочет нас взять на испуг. Я не знаю почему. Нам нужно на некоторое время залечь на дно, поменять имена и задержаться в Нью-Йорке, пока все не закончится. Я больше ни о чем не спросил, говорить что-то было бессмысленно. Думаю, мистер Каллахан вышел на следующей остановке, хотя подозреваю, что другие агенты остались в поезде. Нам пришлось ждать около часа на обычной железнодорожной станции в Рино; в сумерках прибыл поезд на Уолкер. Кроме группы индейцев, возвращавшихся в свою резервацию, мы оказались единственными пассажирами. К тому времени как поезд тронулся, наступила ночь. Наш вагон был совсем новым, с яркой черно-желтой обивкой, напоминавшей тело гигантской пчелы. Мы медленно продвигались по земле, которая становилась все более и более невыразительной. Когда мы сошли в Уолкере, станция уже опустела. Было темно и холодно. Мы не смогли найти носильщика и сами потащили багаж к выходу. Контролера не оказалось. Улица за воротами станции была пустынна. Несколько огней и несколько маленьких электрических вывесок оживляли город вдалеке. Поселение оказалось не слишком достойным памятником энергичному, деятельному следопыту и борцу с индейцами Джиму Уолкеру. Я предположил, что местечко знавало лучшие дни. Мне стало неловко. Обстановка ничем не напоминала ту, к которой мы привыкли. Обычно нас встречали большие группы людей, мэры и другие видные граждане, делегации приходских или женских обществ. Даже по ночам нас выходили приветствовать представители местных организаций клана. Темной ночью, стоя на холодном ветру, я чувствовал смутную угрозу. Может статься, Бродманн повернул все против нас. Они часто действовали очень тонкими методами. Самое логичное объяснение заключалось в том, что все руководители клана временно смещены из-за борьбы за власть, которая продолжалась в Атланте. Но я все-таки не мог успокоиться. Вдруг послышался шум автомобильного двигателя. Потом вспыхнули фары, и «форд» модели «Т» появился на перекрестке и подъехал к нам. Машина остановилась у обочины. – Полковник Питерсон? – Взволнованный водитель всматривался в темноту. – Я – Питерсон. Юноша лет восемнадцати вышел из автомобиля; он назвался Фредди Поулсоном. – Простите, что я опоздал, сэр, мэм. Мой папа не смог. Важная непредвиденная встреча. Ребята из Рино должны были приехать сюда, но до завтра им тоже не освободиться. Я сразу расслабился. Мое предположение оказалось верным. – Поможете нам с багажом? Мы обменялись рукопожатиями. У меня был только один чемодан, но миссис Моган везла немало вещей. Он постарался сделать все, что мог. Это был краснощекий, светловолосый симпатичный юноша, похожий на крестьянина, родившегося в русской степи. Ничего зловещего в нем я не заметил. Он проводил нас к зданию, располагавшемуся всего в нескольких минутах ходьбы от станции. Кирпичное, с необычной облицовкой, оно было украшено вывеской «Гранд-отель „Филадельфия“». Казалось, гостиницу заперли на ночь – в ней было темно. Едва миссис Моган начала возмущаться, как дверь отворил закутанный в халат старик с керосиновых лампой в руке. Мы вошли в неуютный холл и, по настоянию мужчины, расписались в книге постояльцев, прежде чем подняться в комнаты. Заведение напоминало большой частный дом, переделанный под гостиницу. Внутри было чисто. Оранжевые ковры и желто-белые обои с геральдическими лилиями, очевидно, появились недавно, и все же дом отчего-то казался запущенным. Мы привыкли к совсем другим гостиницам, но теперь оказались в Уолкере. Фредди Поулсон сказал, что заглянет утром. Я зашел в комнату миссис Моган и увидел, что моя спутница хмурится. Ее настроение не улучшилось. – Я сделала глупость, – сказала она. – Я поддалась страху. Если Юджин был сковородой, то эта дыра – просто адское пламя. – Мы можем все отменить, – утешил я ее. – И утром уедем. Она задумалась: – Я не знаю, Макс. С другой стороны, Уолкер точно не в центре внимания. – Миссис Моган вздохнула. – Но если бы я искала чего-то подобного – могла бы взамен выбрать любой паршивый городишко. Я не пойму, зачем мы приехали в этот Уолкер. Слушай, я не очень хорошо знаю Хирама Эванса и не могу тебе сказать, кто за ним стоит, с кем он связан, каких парней он может вызвать и откуда. Кроме того, я не знаю, что у него есть против Эдди и насколько сильно он хочет навредить его друзьям. – Никто не ожидал, что ты будешь все это знать, Бесси. – Это была моя работа. Наверное, я думала, что смогу по-прежнему брать проценты, не пачкая руки. Ну, вот и расплата. Уолкер, Невада, два часа утра. Думаю, они пытаются нам что-то сказать, Макс. – Кто? – спросил я. – И что? – Вот об этом-то я и думаю. – Она прижала меня к себе, я вдохнул ее восхитительный аромат. – Лучше сделай все хорошо. – Она расстегнула мой пояс. Следующим утром мы встретили Фредди Поулсона в холле. Яркий солнечный свет проникал в окна, создавая резкие тени. Снаружи виднелась сонная главная улица небольшого западного городка. Низкие здания казались вытянутыми, как будто город увядал: детали были неясны, словно на фотографии, которую слишком сильно увеличили. Город, возможно, стал бы гораздо лучше, если б уменьшился в размерах. Мы позавтракали в кафе «Новая Калифорния». В Неваде все было названо в честь других штатов, как будто люди в самом деле сомневались, что хотят жить именно здесь. От скуки миссис Моган раскладывала столовые приборы на красных и белых квадратах клеенки. Тонкий слой пыли и, возможно, песка покрывал белую эмалевую сахарницу и сливочник. – Может, вы сумеете ввести нас в курс дела, мистер Поулсон. Какова программа на сегодняшний вечер? Он извинился за город и за все неудобства. Он знал, как сказала миссис Моган, что мы попали в «дурной переплет». – Я сам не очень разобрался. Они будут ждать вас в оперном театре. В восемь часов, кажется. – А какую рекламу мы получим, мистер Поулсон? – спросила миссис Моган. – Я так полагаю, что это выступление только для, как бы сказать, местного отделения? Бесси нахмурилась: – Вы слышали, что творится в Атланте, мистер Поулсон? – Только то, что контракт с мистером Кларком расторгнут. Его место занял новый человек. Судя по тому, что я слышал, неплохой парень. – Он откашлялся. – Вряд ли я смогу вам много рассказать. – Фредди встал, чтобы оплатить счет. Глядя, как он вытаскивает бумажник из заднего кармана и неловко улыбается женщине у кассового аппарата, миссис Моган сказала: – Он знает, что оказался не на своем месте. – Она задумчиво потягивала кофе, глядя через стекло на тихую улицу. Мимо нас проехали несколько экипажей и автомобилей, силуэты которых резко вырисовались в ярком свете. Меня бы не удивило, если б мы увидели стадо коров. – Я полагаю, что его отец – один из немногих клансменов в городе. Они рассчитывают только на поддержку из Рино. В таком случае почему они захотели устроить здесь наше выступление? – Она приняла решение. – Подожди и возвращайся в отель с Поулсоном. Скажи ему, что мне нужно кое-что купить. – Где ты будешь? – В «Вестерн Юнион», возможно. Или в «Уэллс фарго». В общем, что-нибудь найду. – Она собиралась разослать еще несколько телеграмм. К полудню беседа с мистером Поулсоном начала меня утомлять. Мы сидели в пустом гостиничном баре, потягивая кока-колу и сарсапарель. Я рассуждал об авиации, кораблестроении, инженерном деле. А он мог говорить только о рогатом скоте и горной промышленности, да и то не слишком много. Миссис Моган по возвращении показалась мне более оживленной; она снова стала собой. Ко мне вернулась былая уверенность. Бесси предложила: если у нас есть свободное время, почему бы не встретиться с прессой. Мистер Поулсон покраснел, услышав это. – С Билли Стрэкером, который собирался написать статью для «Информанта»? Ну, ему пришлось уехать из города по другому делу. Мы пошли в кино. Фильмы показывали в том же оперном театре, в котором я должен был выступать той ночью. Меня удивило, что нет никаких афиш, а потом я вспомнил, что выступление, кажется, предназначалось только для членов общества. На фасаде оперного театра кирпичная кладка причудливо сочеталась с резьбой по дереву, внутри красовались псевдогреческие украшения из штукатурки. Все карнизы когда-то были покрыты позолотой. Теперь золото облезло. Мы посмотрели эпизод «Алой маски», кинохронику, короткую комедию с Фэрбенксом, нелепую сексуальную мелодраму с Глорией Свенсон под названием «Мужское и женское» и два приключенческих фильма с Бронко Билли, которые показались практически одинаковыми. Я подумал, что на сеанс собрался весь город; было не продохнуть. При этом фильмы превосходили все, что можно увидеть в кинотеатрах сегодня. Тройные сеансы в «Эссольдо» напротив моего магазина – просто хлам. Монстры заняли место людей. Когда мы возвратились в гранд-отель «Филадельфию», уже стемнело. Миссис Моган казалась очень нежной и романтичной после киносеанса, но как только я облачился в свой обычный смокинг, снова стала практичной. Бесси пристально меня осмотрела, расчесала мне волосы и поправила галстук. – Чем хуже толпа, тем лучше ты должен выглядеть, – сказала она. Мы спустились и встретили возбужденного мистера Поулсона, который отвел нас в ресторан, находившийся в двух кварталах от гостиницы. Заведение именовалось «Счастливый индеец». Мы заказали гамбургеры. – Очевидно, индеец оказался несчастным, – заметила миссис Моган, оставив свою порцию недоеденной. – Слушайте, – добавила она. – Я знаю, как туда добраться. Вы, мальчики, бегите вперед. А мне надо кое-что сделать… Она посмотрела на дверь туалета, и Поулсон покраснел еще сильнее. Бесси протянула мне руку под столом. В пальцах она сжимала небольшой бумажный пакет. Я взял у нее кокаин, хотя не мог им воспользоваться. Я предположил, что у нее появился план, возможно, как-то связанный с недавно отправленными телеграммами, так что уверил Поулсона, что с миссис Моган все будет в порядке, и мы направились в оперный театр. На фасаде не горел ни один фонарь. Возможно, предстояла тайная встреча вроде той, которую я посетил на пароходе. Я надеялся, что по крайней мере узнаю о судьбе Эдди Кларка. Мы свернули в проулок, освещенный фонарем, висевшим над служебным входом. Здесь было мрачно и тихо и пахло крысами. – Сказали, что нужно идти прямо на сцену. – Поулсон вспотел. Кажется, мне стало его жаль. Слепящие огни рампы озаряли сцену, в зале горел тусклый электрический свет. Серебристый киноэкран висел на прежнем месте, и моя тень падала на светлый прямоугольник, словно я оказался в немецком экспрессионистском фильме. Я почувствовал редкий приступ страха перед аудиторией. В животе у меня бурлило и ныло. Когда огни рампы внезапно погасли, я, сбитый с толку, посмотрел на ряды пустых кресел. В центральном проходе, разделявшем передние и задние ряды, я наконец разглядел дюжину молчаливых клансменов в капюшонах и балахонах. Они застыли со сложенными руками, суровые и мрачные. Мне вспомнился эпизод из «Рождения нации», когда предателя Гаса приговаривают к смерти. – Я очень рад вас видеть, – сказал я. – Я уже подумал, что остался один! – Мы все собрались, маленький еврей. – Низкий, глубокий голос звучал знакомо. – Вперед. Давай послушаем, как ты свистишь. Только тогда я понял, что никакие они не клансмены.Глава девятнадцатая
Они отвезли меня в пустыню. Канюки устраивались на ночлег в То| тенбургене[426], и красная пыль забивала мне горло, делая речь неразборчивой. Одним из них точно был Бродманн. Я узнал его глаза – он ликовал, когда кнуты рассекали мой дорогой вечерний костюм. Я не верил, что она бросила меня им на растерзание. Откуда она знала? «Твоя любовница все правильно поняла. Тебе следовало сбежать с ней». Они преподали мне урок, заявил их предводитель, и мне следовало хорошенько это запомнить. Мне было плохо. Они оттащили меня в пустынное место, окруженное холмами, похожими на остатки разрушенных башен. Меня вырвало на песок. «Снимите с него штаны. Давайте его проверим». Конечно, это было единственное доказательство, которое им требовалось. Мой отец заплатит за каждый удар, за каждую рану и царапину. Луна и звезды были огромны и светили невероятно ярко. Я лежал один на скале посреди пустоты, а эти фальшивые клансмены били меня, и белые руки вздымались и опускались. Она была Иудой, не я. У женщин нет совести. Они всегда будут предавать мужчин. Меня оставили им на поживу, а она сбежала в поезде, следующем на север. Я поднял руку. Я хотел рассказать им правду. Кнут ударил меня по пальцам. Я видел, как кровь лилась из набухающих ран. Вот и все, что я видел, – blut[427]. Я знаю их адскую инквизицию. Я знаю их тайные уговоры. Они и сами не всегда понимают эти связи. Неужели они проникли в клан? Неужели Эванс – человек папы римского? С тех пор, с 1923 года, власть клана ослабела. Это, вероятно, был заговор. Пропаганда против Кларка стала ужасной. Nito tsu remen tsu reydn! Yidden samen a Folk vos serstert. A narrisch Folk. Sie hat nicht geantwortet. Ich habe das Buch gelesen und jene Leute sind verarmt. Wer Jude ist, bestimme Ich![428] Wer Jude ist, bestimme Ich! Zol dos zayn factish. Fort tsurik. Vue iz mayn froy?[429] В их пустыне моя кровь и слезы исчезали среди песка под чистыми черными небесами. Они с безразличной жестокостью смотрели на меня из полумрака. Я страдал и терпел. Я не стану мусульманином. Карфаген может убить меня. Но Карфаген не может меня одолеть. Кусок металла в моем животе шевелится, и меня рвет, но диббук[430] снова побежден. Я всегда буду сильнее его. На рассвете я подполз к своему багажу. Сумки даже не открывали (враги были слишком брезгливы!), и все мои вещи остались на месте. Бумажник, паспорт, деньги. Все, что я оставил в «Гранд Филадельфии». Я нашел еще немного кокаина. Он придал мне сил – я смог сменить одежду, но не сумел стереть кровь, которая покрывала все тело. Я протащил вещи по кустам к грунтовой дороге, и вскоре подъехал грузовик. Он остановился. Мальчик, сидевший за рулем, почесался, засунув руку под комбинезон, но удивления не выказал. Он решил, что на меня напали и украли машину. Он сказал, что за доллар может отвезти меня в Карсон-Сити. Добрый самаритянин! Это за бензин, сказал он. Я дал ему доллар. Он предложил мне немного воды из своей бутылки, так что я смыл кровь с рук и ног. Он высадил меня на станции. В Карсон-Сити я взял билет на первый же поезд. Он шел в Сан-Франциско. Мне нужно было найти настоящие улицы, чтобы скрыться. Я удостоверился, что за мной никто не последовал. Я знал, что должен сохранять инкогнито. Бродманн, федералы, а теперь и сам ку-клукс-клан – все выступили против меня. Это был заговор, о котором, похоже, знал я один. Diesmal wollte der Jude gans sicher gehen[431]. Похоже, на некоторое время мне следовало взять другое имя. Воспользовавшись удобствами в поезде и избавившись от сильной боли с помощью большой дозы кокаина, я немного успокоился к тому времени, как мы приблизились к Окленду. У меня было сломано ребро, но я смог наложить повязку. В любом случае следовало подождать, пока раны заживут. Теперь я был готов логически обдумать сложившуюся ситуацию. Я пришел к разумному выводу: различные группировки, которые выступили против меня, не подозревали друг о друге. Я подвергался опасности, потому что у меня больше не осталось защиты. Я, очевидно, стал более уязвимым для тех, кто и раньше угрожал моей жизни. Полумертвый после избиения, я не пережил бы новых атак. Я знал, что подлинные клансмены не могли быть моими противниками, и все же никаких доказательств этого не имелось. Следовало предположить, что в орден проникли шпионы. Сам Эванс, возможно, вражеский агент. Клан объявил войну папе римскому и большевикам, евреям и японцам. Наземное путешествие в Сан-Франциско, конечно, было равносильно попытке спрятаться в логове льва. Там всегда находился передовой плацдарм Востока в Америке. Огромная природная гавань сделала город лучшим и самым важным тихоокеанским портом, а золото и серебро из близлежащих шахт принесли богатство. Мои собственные предки могли бы обосноваться на этих крутых склонах, прибыв на парусных судах из Одессы и Порт-Артура, чтобы торговать сначала с индейцами, а потом с пионерами, охотниками, которые приносили им шкуры бобров, медведей, оленей и буйволов с отрогов Скалистых гор. Когда Сан-Франциско еще был частью мексиканской Калифорнии, российский посланник Резанов[432] влюбился в сестру дона Луиса Антонио Айгуеллы, но католическая церковь сыграла свою обычную разрушительную роль, и Консуэла Айгуелла закончила жизнь в женском монастыре. Потом славяне и англосаксы объединились и изгнали Рим за пределы Сан-Диего, установив главенство закона в краю, который сэр Фрэнсис Дрейк назвал Новым Альбионом. Панславизм никогда не был враждебен англосаксам, наоборот, он всегда помогал им найти потенциальных союзников. Мой поезд медленно двигался к станции, расположенной на самом побережье. Я мог разглядеть мачты, синий океан, движущиеся корабли. Мы подъехали к заливу. Локомотив остановился на огромной насыпи из камня и бетона: то был Оклендский мол. Пассажиры толпой двинулись от вагонов к парому «Саутерн пасифик»; в те дни не существовало других способов проникнуть в Сан-Франциско. Я обрадовался: я снова чувствовал запах морской соли, я стоял на палубе парома и разглядывал чаек, летавших над нами, когда паром плыл по темно-бирюзовым волнам к горе и ее башням. Многие называли Сан-Франциско прекраснейшим городом Тихоокеанского побережья, западным Нью-Йорком. Густая растительность и сверкающие камни напоминали о Константинополе – и в то же время это был совсем другой город. На здешних холмах после великого землетрясения построили современную столицу, полную офисов и многоквартирных домов, зданий столь же великолепных, как в Чикаго. Издалека город казался прекрасным. Изменит ли что-то столетие жестокой истории, станет ли город другим к наступлению миллениума? Насилие и человеческая жадность в конце концов всегда приводят к одним и тем же результатам. Наш паром наконец остановился у причала. Над ним возвышалось сооружение, которое поначалу показалось мне церковным шпилем, на самом деле это была башня Ферри-билдинг. Мы прошли по грязным сводчатым переходам, потом я вынес свой чемодан на обширную площадь, полную автомобилей, такси и грохочущих фуникулеров, маршруты которых начинались и заканчивались здесь. Подозреваю, что я до сих пор двигался и стоял на ногах исключительно за счет прилива адреналина; я не осмелился остановиться и тотчас же направился к ближайшему вагону канатной дороги. Он рванулся вперед, зазвенел звонок, массивная конструкция загудела, оконные стекла задребезжали, и мы поехали по Маркет-стрит, которая была, как всегда, переполнена людьми, машинами и разнообразными магазинами. Ошеломленный и уставший, я сделал не самый лучший выбор – этот транспорт на поверку оказался лишь странной разновидностью вагонетки. Я выскочил прежде, чем фуникулер совершил еще один отвратительный скачок. Я совсем не представлял, куда следует пойти. Возможно, стоило отправиться на Рашен-Хилл[433] (я слышал, что это квартал художников – именно такие районы я обычно выбирал), но теперь я боялся, что меня узнают. Интеллектуалы читают газеты, и некоторые из них сочувствуют либералам. Я прошел по двум или трем улицам, преодолевая невероятные подъемы и спуски, которые также могли соперничать с константинопольскими (хотя здесь недоставало каменных лестниц), и, к своему огорчению, снова оказался на Маркет-стрит с ее четырьмя рядами проводов, суматохой и разноязыким шумом. Я свернул на другую улицу и с ужасом осознал, что изумрудная, темно-красная и золоченая резьба по дереву была поистине варварской китайской поделкой. Я невольно забрел в печально известный китайский квартал Сан-Франциско, обиталище враждебных тонгов. Я чувствовал здешний запах, смесь специй, уксуса, древних ароматов, острой еды и опиума – поистине чуждый кошмар! Я не знал, когда смогу добраться до своих денег, и поэтому берег небольшой запас наличных. Я не хотел ловить такси. Я старался как можно дальше убраться от желтой угрозы. К тому времени я ужасно устал, меня бил озноб. Я решил, что нужно попытаться снять номер в первом попавшемся недорогом отеле. Район был оживленный, но несколько запущенный: убогие ресторанчики и развлечения, реклама дешевой еды, пародийные шоу, кинотеатры и танцзалы. Многие из женщин, выходивших на улицу в конце дня, очевидно, были проститутками. Я не испытывал никакого предубеждения против них. Напротив, я почти сразу же успокоился, заметив их дружеское отношение. В этом районе я мог расслабиться и прийти в себя. Я поднялся по обветшалым ступеням в пятиэтажное здание из красного кирпича, которое именовалось «Отелем Голдберга „Берлин на Кирни-стрит“». Стойка располагалась в дальнем конце короткого неосвещенного коридора. Я с трудом разглядел смуглого человека, дремавшего по ту сторону барьера. Он что-то проворчал, обращаясь ко мне. Комнаты у них были. Я зарегистрировался под именем Майкла Фицджеральда, уверенный, что мой акцент легко спутать с медленным, раскатистым произношением жителей Зеленого острова. Я даже сообщил портье, что до недавнего времени состоял при католической миссии в Харбине, в Китае, и теперь с удовольствием снова могу поговорить на английском языке, после очень долгого перерыва. В тот момент я чувствовал себя в безопасности. Я выиграл время для отдыха и размышлений. Мне следовало подольше задержаться в Сан-Франциско. По крайней мере, здесь были корабли, которые могли отвезти меня в любую часть Тихого океана и в любой крупный морской порт на американском побережье – неважно, на юг или на север. Я слышал, что Аргентина – прогрессивная страна, готовая к экспериментам. В Буэнос-Айресе даже было представительство «Хэрродс»[434]! Моя комната от пола до потолка была окрашена в тускло-оранжевый цвет. Мебель оказалась того же оттенка. Серые простыни и раковина с отбитыми краями очень резко выделялись на этом фоне. Я бросил чемодан на кровать и отправился в ближайшую бакалейную лавку, чтобы купить самое необходимое и запастись едой, которую мог проглотить, не повредив израненные губы. Мое лицо начало ныть, когда кокаин перестал действовать. Все тело захлестывали нарастающие волны боли. Я купил газету в киоске на углу, как только увидел заголовки. Газетчики были вне себя от восхищения, повествуя о громком скандале в рядах клана. Какой-то сомнительный дантист из Техаса, Хирам Эванс, провозгласил себя, как писали в статье, Имперским магом и заявил о намерении избавить клан от предателей, людей аморальных и сомнительных. Несколько минут спустя после успешного переворота Эдди Кларк был обвинен согласно законам Вольстеда и Манна[435] в распутстве и аморальном поведении; речь шла о событиях, произошедших несколько лет назад. Миссис Моган описывали как женщину сомнительных моральных качеств, любовницу еврея-спекулянта. Полковник Симмонс вступил в конфликт с Эвансом. О майоре Синклере не упоминали. Я не знал, искалечили его, как меня, или же убили. Согласно репортерским отчетам, Кланкрест стал столь же зловещим, как двор Калигулы, заговорщики и убийцы прятались во всех коридорах. Клан, казалось, находился на грани распада. Я с недоверием отнесся к большей части прочитанного («Ножи для предателей клана», «Угроза смерти для Кларка и его сторонников»), но стало ясно: в Атланте у меня больше не осталось друзей. Расследование моего дела Министерством юстиции могло быть частью большой атаки на членов клана. Несомненно, предатели внутри ордена поставляли федералам информацию, большей частью приукрашенную или просто ложную, надеясь избежать обвинения. Вот почему Каллахан преследовал меня. И Бродманн, конечно, притворяясь полицейским, мог помогать ему, одновременно сообщая клану лживые сведения обо мне. Ситуация прояснялась. Любой человек, связанный с Кларком, Моган или даже Симмонсом, становился идеальной жертвой для охоты на ведьм. Клан, расколовшийся на фракции, больше не мог ничем помочь. Миссис Моган бросили на растерзание волкам. Она, в свою очередь, выдала им мои тайны. Теперь было бы чистейшим безумием попытаться снять со счетов деньги. Если я получу по чеку наличные, вероятно, Каллахан вскоре об этом узнает и быстро выследит меня. Если он действительно работает вместе с Бродманном, моя Немезида обязательно попытается разжечь ненависть клана. Возможно, мне следовало пробраться в Канаду, а оттуда направиться в Англию. Но пока я соблюдал разумные предосторожности, Сан-Франциско, несмотря на возможное возвращение нежелательных воспоминаний, оставался для меня идеальным убежищем. Густо населенные склоны заполняли представители разных стран, богачи и бедняки, чудаки, сумасшедшие, калеки, нищие и самые разные преступники. В трущобах не творилось таких ужасных злодеяний, как в Галате, особняки казались чуть менее роскошными, чем в Стамбуле, но во всех прочих отношениях это был столь же вызывающий и разноликий город. Я сидел в своей комнате, смазывая раны бальзамом и антисептиком, ожидая того момента, когда следы побоев исчезнут и я приобрету если не презентабельный, то хотя бы непримечательный вид. Я решил обратиться за помощью к кузену Сантуччи, Винсу Потеччи из ресторана «Венеция». Я изучил купленную карту и обнаружил, что заведение располагалось совсем недалеко, на Тэйлор-стрит. Я мог добраться туда в трамвае. Поскольку Синклер и «Рыцарь-ястреб» исчезли (через много лет я узнал, что майор сбежал на своем корабле в Мексику и закончил жизнь, приобщая даго к радостям воздушных путешествий), мистер Потеччи остался моим единственным надежным знакомым в Америке. Я хотел, пока дела не придут в норму, на время возвратиться к старой работе вольнонаемного механика, но в то же время рассчитывал и на получение ссуды. Я готов был положиться на милость кузена Сантуччи. Как только мои лицо и руки зажили и следы избиения стали почти незаметными, я отправился на Тэйлор-стрит, улицу возле рыбацких причалов, где в промежутках между зданиями виднелись снасти небольших кораблей. Здесь витал аппетитный запах свежих даров моря и недавно приготовленных омаров. Облака чаек висели над причалами, птицы кричали и вертелись, сражаясь за отбросы. Я отыскал ресторан и вручил записку сонной старухе, которая крепко сжала конверт обеими руками. Она зевнула и заверила меня, что все будет благополучно передано по назначению, Потом я пешком пошел обратно. Меня окружал обычный утренний Сан-Франциско, сквозь сырой туман пробивались тонкие лучи света. Я, по обыкновению, решил исследовать город. Я не хотел проводить много времени в постели. Мне следовало упражняться. Продвигаясь по небольшим улицам и переулкам в сторону отеля, я в конечном счете оказался в трущобах, где собирались наркоманы и пьяницы. Иногда мне что-то шептали из приоткрытых дверей, но, в общем, никто меня не беспокоил. Я свернул на Клей-стрит, осмотрел небольшой запущенный театр и с удивлением обнаружил, что с афиши мне улыбается миссис Корнелиус. Она была одной из трех девушек на фотографии, участницей кордебалета, рекламировавшей шоу под названием «Красотки из Блайти. Самое новое сенсационное шоу из Англии». Я рассмеялся. Кошмар подступал все ближе, и я поверил, что уже начались галлюцинации. Я заставил себя пройти несколько футов и осмотреть выставленные за пыльным окном холодные закуски, в то же время пытаясь собраться с мыслями. Я медленно приходил в себя. Как и большинство зданий в этом районе, театр был невысоким сооружением, пропитанным сыростью, – кирпичи расслаивалась, белая краска шелушилась. По какой-то нелепой прихоти заведение именовалось «Русской комедией Страноффа». Я увидел рекламу фильмов и живых шоу. Мне пришло в голову, что, возможно, миссис Корнелиус смогла заключить контракт с киношниками: не приезжала в Сан-Франциско сама, а просто появлялась на экране. Я дернул дверь. Она была заперта, как и черный ход. Дневной спектакль начинался в половине третьего. Я в изумлении возвратился в отель Голдберга и уселся на узкую кровать, чтобы написать еще одну записку. Я предположил, что миссис Корнелиус работает в театре. Если мне не позволят пройти через служебный вход, то она, по крайней мере, сможет прочитать мое послание и впустить меня или передать ответ, когда освободится. Я еще раз порадовался спасительному инстинкту, который всегда приводил меня в большие города, где подобные совпадения были совершенно обычным делом. Миссис Корнелиус, мой ангел-хранитель, могла снова спасти меня. Надежда возродилась: мои теперешние обстоятельства – это просто мелкая неудача в карьере, которая при небольшом везении может снова пойти успешно. Когда в два часа я подошел к служебному входу, меня никто не остановил. Я свободно блуждал по таинственному лабиринту заплесневелых, отделанных плиткой коридоров и наконец обнаружил раздевалки. Их было всего три. На одной висела вывеска «Актеры», на второй – «Актрисы», а на третьей – загадочные «Прочие». Я постучал в дверь дамской гардеробной и услышал знакомое английское хихиканье и повизгиванье. Меня пригласили войти. Я повернул ручку двери и внезапно окунулся в хаос мишуры и дешевых ярких тканей, меня окутал запах пота, грима и резких духов. Держа в руке сигарету, еще не переодевшаяся для выступления, в великолепном розовом платье с несколькими зелеными деталями, миссис Корнелиус стояла, прислонившись к неоштукатуренной стене. Ее светлые волосы были по моде распущены, на губах – ярко-красная помада. От эффектной косметики она стала еще прекраснее, чем в Константинополе, во время нашей последней встречи. Миссис Корнелиус узнала меня. Сначала она просто качала головой. – Черт поб’ри, – сказала она. – ’лянь-ка, Иван! – Она захихикала. – Вовремя ты п’явился. Выгляишь не оч-то. А ты ведь го’орил, шо у тьбя ’се х’рошо, а! ’Ришел забрать мня в Голливуд? Я нерешительно пробирался вперед – кругом царила суматоха. Я столкнулся с двумя другими молодыми женщинами. Наконец мне удалось поцеловать руку миссис Корнелиус. – Вы остаетесь прекраснейшим созданием в мире! Я был очарован, как всегда. Я не мог скрыть восторг. У меня за спиной хихикали и перешептывались тощие юные особы. Миссис Корнелиус наклонилась, чтобы поцеловать меня в щеку. Ее аромат пьянил. – Да п’рестань, Иван. Нам на сцену через десять минут выхо’ить! Однак’ не м’гу ’казать, шо не рада тьбя ви’ить. Очень рада, ’де ты был? Настала моя очередь улыбнуться. – О, где я только не был. В прошлом году – на гастролях. – Шо? Играл? – Можно и так сказать. Здесь это называют чтением лекций. А как давно вы здесь? Она прибыла в Нью-Йорк прошлым летом. Шоу было заказано агентством, которое обещало, что они выступят во всех главных театрах. – А замест то’о мы пляшем меж черт’выми киношками, п’ка они м’няют пленку. Шобы ’роклятые ’сетители не сбежали из дрянных залов! – Она пожала плечами, как будто отмахиваясь от разочарований со своим обычным добродушием. – Но по крайности мы работам. Эти янки – недурные зрители по большей части. Здесь у нас самые большие сборы с Фили-черт-ее-задери-дельфии. Мы п’лутчам деньги раз в неделю, п’том дого’оор продлеват. Не знаю, шо нам делать, если его не продлят. Эт’ малый, к’торый был нашим менеджером, сбежал в феврале в Бразилию, со вторым премьером. Дрянной маленький гомик! Разговаривая со мной, она начала, с бессознательной грацией, переодеваться. – И кто твой администратор? – Я тоже в затруднительном положении. Директор сменился, контрактов нет. Я сейчас не у дел. Она оглядела меня, держа сигарету в углу рта, и неодобрительно нахмурила брови: – Ты шо, скот воровал, шо ли? Как эт’ струслось, Иван? – Ковбои, – сказал я. – Мое последнее выступление прошло не слишком хорошо. В одном из тех западных городов. – Да, – согласилась она, – обычно они сообтщат, када выступление идет не очень х’рошо. Так ты без работы, а? Ты за’седа мож присоединиться к нам. Видно, в прошлый раз ты выбрал хуж’ некуда. Я про менеджера. Она аккуратно поправила колготки и украшенный блестками лифчик. Костюм ничем не отличался от тех, что были на ее приятельницах. Ничего другого мне не оставалось. Я очень хотел находиться рядом с женщиной, которая всегда была моей самой надежной подругой. А между тем я не имел никакого опытатеатральных выступлений. Я не знал, какова оплата и как договориться с дирекцией. Но я и на этот раз не сомневался, что быстро научусь. Я сказал, что у этой идеи есть свои плюсы. Казалось, миссис Корнелиус была приятно удивлена. – Угости мня ужином после шоу, – сказала она, когда из зала донеслись искаженные звуки музыки. – И мы еще об этом п’говорим. – Она исчезла в темноте. – О, пожалуйста, помогите нам! – поспешно прошептала последняя девочка, обращая ко мне огромные испуганные глаза. Потом все трое помчались на сцену. Девушка, шедшая сзади, мне улыбнулась. Той ночью мы с миссис Корнелиус ужинали в «Гонконг Вилли» на Грант-авеню. – Эт правда твоя вина, – сказала она. – Ты писал все эти черт’вы письма, рассказ’вая, как тут х’рошо. Вот я и уцепилась за эт дело, да? Тьбе лучше обдумать то, шо я предлагаю. Она уже убедила меня (она всегда меня убеждала), что умение «трепать языком» делает меня идеальным менеджером «Красоток из Блайти». – Нужно ’се’о-т’ несколько сотен долл’ров, шобы нам выпутаться. У тьбя ведь стольк есь, верн? П’пробуй, Иван, тьбе ’се одно делать больше нече’о. У нас и афишки, и тряпье есь. Ты мож эт сделать! Маленькая ставка – и ты владешь «Красотками». Я был слишком смущен и не смог сказать ей, что мои деньги трудно «ликвидировать». Я обещал все решить поскорее. Я поверил, что смогу управлять труппой. Миссис Корнелиус объяснила, как важно удерживать внимание владельцев театров достаточно долго, чтобы они убедились в ценности представления. Но требовались деньги для развития шоу, для оплаты дорожных расходов и прочего. Это означало, что мне придется рискнуть и посетить банк. Тут я призадумался. Когда я возвратился в отель Голдберга, в алькове у стойки меня поджидал молодой человек. Он был высок, модно одет и вежлив; ходил он, расправив плечи, как военный или спортсмен. Я подумал, что он из Министерства юстиции, и собирался спросить, как меня выследили, и тут юноша назвался Гарри Галиано и энергично пожал мне руку. Я с облегчением понял, что его прислал кузен Аннибале Сантуччи. Мое сообщение дошло до адресата. – Если вы не очень заняты, босс мог бы с вами встретиться сегодня вечером, – серьезно и вежливо заметил Гарри. Я сказал, что ненадолго поднимусь к себе в комнату. Там я воспользовался «крылышками» миссис Моган, чтобы не уснуть в ближайшие несколько часов. Когда я присоединился к Гарри, он внезапно улыбнулся с той же веселой беззаботностью, что и Сантуччи. Он гордо сопроводил меня за угол, на центральную улицу; там был припаркован большой синий «паккард». – Будьте моим гостем, – сказал Гарри. Он изящным жестом распахнул пассажирскую дверь. Некоторое время мы ехали в тишине по разноликому, сияющему огнями ночному Сан-Франциско. Туман сгущался. Гарри сосредоточенно вел свою большую машину по запутанным дорогам Маркета, мимо конечной остановки канатной дороги, к причалу, который казался просто рядом желтых огней, уходящих в туман. Мы увидели с полдюжины мужчин в синих комбинезонах, указавших нам дорогу к трапу, потом въехали на паром, который с жалобным стоном отошел от причала и, набрав скорость, поплыл по невидимым водам залива. Только когда «паккард» остановился и мы вышли из машины покурить, Гарри разговорился. Они с Винсом, по его словам, были давними приятелями, сначала работали поварами в отеле, потом стали владельцами ресторанов. Сейчас босс управлял престижным загородным клубом неподалеку от Беркли. Туда мы и направлялись. Мне понравится клуб. Он был очень европейский. Высшего класса. Мы покинули паром на Оклендской стороне. Темная вода осталась позади, городские улицы на склонах сменились отдельными домами, потом мы выехали на широкое и прямое шоссе, которое тянулось среди холмов. Наконец, свернув на усаженную кустами дорогу, мы приблизились к большому трехэтажному зданию, напоминавшему мраморную гасиенду. На нем красовалась освещенная вывеска: придорожная гостиница «Голд Наггет». Очевидно, ресторан считался модным, снаружи уже стояло не меньше двадцати автомобилей. Окна были закрыты плотными занавесками, снаружи разглядеть ничего не удавалось; только музыка и смех разгоняли ночной холод. Гарри припарковал «паккард» за домом, подвел меня к боковой двери и еле слышно постучал. Нас впустил другой итальянец, печальный и худой, в обтягивающей вечерней одежде. Он сказал, что босс наверху и ждет нас. По каменной лестнице мы поднялись на верхний этаж. Внезапно мы оказались в коридоре, роскошно отделанном в новейшем джазовом стиле. Я вспомнил Италию и тамошних футуристов. Мы миновали несколько комнат, оформленных в том же духе. Все кругом было серым, синим или розовым, включая стеклянные столы и настенные зеркала. Потом в дальнем конце обитого плюшем сводчатого прохода появился приземистый смуглый человек средних лет, также облаченный в смокинг. Он протянул мне руку. – Мистер Петерс? Я Винс Поттер. Могу я вам предложить выпить? Это все настоящее. – Он решительно открыл откидную дверцу бара, напоминавшего огромный орган из какого-нибудь большого кинотеатра. – Вы в деле? Когда я сказал ему: «Да», – Винс, казалось, задумался. Потом он пожал плечами и плеснул мне «Маккоя». На вкус он оказался в точности как виски. Он явно хотел мне помочь и разговаривал весело, немного иронично: – Так что у вас стряслось? Я получил телеграмму от маленького Аннибале из Рима, он просил присмотреть за вами. А потом ничего. Мы думали, что вы мертвы, понимаете? Где это было? В Миннесоте? В Сент-Поле? А теперь вам нужна работа или что? У вас есть опыт? Какой? – Я прежде всего ученый и инженер. Я немного рассказал о своей карьере, о том, как, ни в чем не повинный, столкнулся и с ку-клукс-кланом, и с Министерством юстиции. На некоторое время мне понадобятся работа и новое имя. – Я могу заниматься самолетами, лодками, автомобилями. Любыми механизмами. Я решил, что лучше не заострять внимания на моих лекциях; мне не хотелось оскорблять иммигранта, который почти наверняка получил католическое воспитание. Кроме того, это не имело никакого отношения к моему нынешнему положению. Когда я закончил говорить, Винс нахмурился, но услышанное, казалось, произвело на него впечатление. – Дайте-ка мне разобраться, – сказал он. – Вы сумеете запустить двигатель, к примеру. О’кей? Без ключей? – Конечно. Это очень легко. – Я не мог уследить за ходом его мыслей. Он пожал плечами и смешал мне еще один «Маккой». – Всегда полезный талант. Но чем вы занимались в первую очередь? В другой стране? С Аннибале вы, наверное, продавали и покупали. Именно этим он чаще всего и занимается. – Да, верно. – Так вы были в Париже. И что вы там делали? – В основном аэропланы. – Я не хотел упоминать о скандале с компанией по строительству дирижаблей. К моему удивлению, он заулыбался: – Господи Иисусе! Как, черт возьми, вы бросили Кертисса[436]? Нет, не говорите мне. Конечно, уверен, там, наверху, тоже правительства и революции и все такое. Как в Мексике и во всей Южной Америке. Ну, скажу я вам, контрабанда спиртного по сравнению с этим мелкое дельце, хотя, признаюсь, теперь весьма выгодное. Нам приходится защищать довольно большую территорию. – Он выразил легкое сочувствующее недоумение. – Что я могу вам сказать? Работа? Вы всегда можете ее получить. Но я не хочу вас унижать. Наши лодки и автомобили нуждаются в починке, конечно, но механиков много. Станьте водителем. Пожалуйста. Но вы этого не захотите. Через год мы сможем предложить что-то получше для человека вроде вас. Я расширяю дело и вхожу в законный бизнес. Не знаю, как еще вас выручить, разве что начать войну с Панамой. Я прервал Винса, не дожидаясь, пока он начнет извиняться. Я мог легко найти работу. То, что мне действительно требовалось, – это новая личность, паспорт, предпочтительно американский. Он расслабился. Винс был радушным добросердечным человеком и очень хотел помочь другу своего кузена. Он не мог найти мне работу, достойную моих талантов, потому что это оскорбило бы других его служащих, но надеялся на практике показать свои добрые намерения. – Невелико дело. Нужно какое-то конкретное имя? Или вам все равно? Несколько фотографий – и мы сочиним совершенно новую историю. Я сказал ему, что в настоящее время использую псевдоним Майкл Фитцпатрик. Казалось, его удивил выбор ирландского имени. Немного подумав, он сказал: – Вы не думаете, что это может настроить людей против вас? Я его понял. Я лучше всех понимал, с каким подозрением относились к Таммани. – Как насчет Мэнни Пасковица? – спросил он. – Я знал Мэнни Пасковица, он недавно скончался. Это было бы очень хорошо, потому что в морге на него нацепили табличку «Джон Доу». – Я бы предпочел что-нибудь менее еврейское. – Понимаю. – Он что-то промычал, глядя в пространство. – А как звучит Палленберг? Мэтт Палленберг, швед. Никто не питает ненависти к шведам, разве только финны и датчане. Но кого волнует, что они думают? Хорошее имя. Он проиграл бой с таможенным катером у островов Санта-Барбары несколько месяцев назад. Я знаю наверняка, что он никогда не носил при себе удостоверения личности, выходя на дело. Лет ему было столько же, сколько вам. По-моему, он родился в Стокгольме. Приехал сюда с семьей двадцать лет назад. В яблочко. Что может быть лучше? – Я очень вам признателен, мистер Поттер. – Даже не говорите об этом. Просто удовольствие. Оставайтесь на связи. Мы уверены, что для такого образованного человека, как вы, скоро откроются большие возможности. Когда-нибудь мы начнем совместный бизнес, я в этом уверен. Итак, нужно что-то еще? Я спросил, не станет ли Винс возражать, если мою почту будут присылать в его ресторан на Северном пляже. Он сказал, что с радостью окажет мне эту услугу. Винс Потеччи, изображая радушного хозяина, к которому не вовремя пришел гость, похлопал меня по спине, выдал одну из своих гаванских сигар, а потом снова поручил заботам Гарри Галиано. Тот с ностальгией рассказал мне о своем детстве в Толедо. Гарри гнал машину очень быстро, чтобы успеть на последний паром в Сан-Франциско. Лишь когда мы подъехали к «Голдбергу», я понял, что мой спутник говорил о Толедо в штате Огайо. Гарри обещал приехать следующим вечером и забрать мои фотографии. Он заверил, понадобится самое большее три дня для решения всех проблем. Я спросил, как он возвратится в Окленд ночью. Гарри рассмеялся. У него дела на Северном пляже, пояснил он. Это в пяти минутах от дома. На прощание Гарри заметил: – Поосторожнее. Берегите себя, пока я не вернусь. В этом городе нужно быть настороже. Никогда никому не верьте, проверяйте все, что вам говорят. Думаю, он знал о том, что меня разыскивал Бродманн. Возможно, он даже слышал что-то о Каллахане, федеральном агенте. Не желая меня тревожить, Гарри все же пытался предупредить об их происках. Вернувшись к себе в номер, я успокоился и решил все обдумать. Теперь я мог строить планы на будущее. Безусловно, предложение миссис Корнелиус было лучшим, но меня беспокоило получение денег по чеку. Короче говоря, стоило как можно скорее убраться из Сан-Франциско и позабыть о прежней личине, о Питерсоне. В любом случае вряд ли следовало оставлять преследователям подсказки, в какую часть страны (и уж тем более в какой город) я направляюсь. Без поддержки «Красотки из Блайти» непременно пропадут, а миссис Корнелиус и ее подруги останутся без средств. А если вложить несколько сотен долларов – у нас будет возможность раскрутиться как следует, и я смогу зарабатывать на жизнь вполне легальным способом. А главное – я заслужу благодарность своей старой подруги (в конце концов, сколько раз она спасала меня от смерти, не говоря уже о разных неприятностях?) и останусь рядом с одной из двух моих любимых женщин. Неужели ради этого не стоило рискнуть? Следующим вечером миссис Корнелиус пригласила меня в меблированные комнаты, чтобы обсудить дела. Отдав фотографии Гарри Галиано, я почувствовал себя немного лучше. И вот я вошел в здание, по сравнению с которым заведение Голдберга казалось отелем «Ритц». Как отвратительно – такая прекрасная женщина, которая близко зналась с принцами и мировыми лидерами, унизилась до подобной тесной лачуги! Неудивительно, что ей требовалась финансовая поддержка! С нравственной точки зрения все это неправильно. Женщине, наделенной чувствительностью, талантом и красотой, женщине такого происхождения не пристало думать о том, как поддергивать повыше постельные принадлежности, чтобы паразиты, ползающие по полу, не перебирались по ночам на тело. – Ох, – отважно сказала миссис Корнелиус, – знавала я и п’хуже, Иван. Однако, надо ’казать, цены тут невелики, зато черт’вы насекомые прост огромны! Она рассмеялась и предложила мне джина, купленного как раз по случаю нашей встречи. Она спросила, подумал ли я о том, чтобы стать «главным акционером и менеджером нашей маленькой труппы». Я не стал обременять ее собственными проблемами, а просто сказал, что жду вестей от своего бухгалтера. – Лучше п’торопись, Иван, – сказала она, – а то я отправлюсь в ближайший женский монастырь и приму там постриг! Я испугался, представив, что ее поработит Церковь, и спросил, есть ли другие варианты. – Нужно ’де-т выколотить деньжат, – ответила миссис Корнелиус, – или ’ридется стать побродяжкой, как в здешних м’стах г’в’рят. Бить или пить – ’от в чем вопрос, Иван! За ее показным весельем, подумал я, скрывалось глубочайшее отчаяние. Я был единственным, кто мог ее спасти. Об этом она сказала той ночью, когда поцеловала меня в щеку и махнула рукой на прощание. Я немного перебрал и всячески старался это скрыть, пробираясь по неровным незнакомым улицам в первые утренние часы. Каким-то образом я оказался на Стоктон-стрит, в нейтральной зоне между Маленькой Италией и китайским кварталом, и в голову мне пришла дурацкая мысль – куда же теперь идти, на север или на юг. Наконец, немного призадумавшись, я осознал, что следует направляться на восток. Я все-таки сориентировался – к счастью, на моем пути оказалась знакомая ночная аптека на Дюпон-стрит. Эта часть города была практически пустынна. Минуло три часа утра. Мелкая морось повисла в воздухе, и свет уличных фонарей стал неровным и тусклым. Я не надел ни пальто, ни шляпы; подняв воротник пиджака и опустив голову, я прибавил шагу и наконец свернул на Кирни-стрит. Я не поднимал головы до тех пор, пока не оказался в квартале от гостиницы Голдберга. Присмотревшись, я заметил фигуру в тяжелом кожаном пальто и широкополой шляпе, которая вышла из желтого круга газового света и с неестественной скоростью двинулась к Бродвею. Я как будто спугнул вора. И когда неизвестный ускорял шаг, удаляясь от меня под дождем, я внезапно понял, что вижу Бродманна! Он следил за отелем и не ожидал, что я подкрадусь сзади! Закрыв входную дверь гостиницы и осторожно пробравшись в темноте по коридору, застеленному рваным линолеумом, я обдумал это новое осложнение. Если Бродманн работал один (или со своими товарищами-чекистами), у меня, возможно, осталось немного времени; если он действовал в союзе с Министерством юстиции или кланом, то следовало немедленно покинуть город. В любом случае теперь нечего было терять – мне предстояло найти способ поддержать миссис Корнелиус. Я усмехнулся. Я снова ускользну от них. Я стану актером-менеджером. Сэром Уильямом Шекспиром. Маленьким Фло Зигфельдом. Странствующим актером, идущим по стопам Диккенса и Оскара Уайльда! И восхитительная, вечно женственная миссис Корнелиус станет Джульеттой для моего Ромео и Фрэнки для моего Джонни! На следующий день я вернулся в «Странофф», чтобы сообщить о своем решении. Миссис Корнелиус больше не следовало разрываться между притонами и монашескими орденами. Жалкое прозябание на службе у папы римского никогда не станет ее уделом, пока я жив и дышу. Она пришла в восторг, как Лилиан Гиш, спасенная в последнюю минуту от объятий злобного мулата; миссис Корнелиус обняла меня, сказав, что я «м’лодчага» и «счастье». Она немедленно начала планировать маршруты наших будущих выступлений. Я предложил ей пятьсот долларов, заметив, что она может потратить деньги на вещи, которые необходимы для существования «Красоток из Блайти». – Х’рошо, – ответила она, не в силах усидеть на месте, – в первую оч’редь нам понадобится приличная машина! Не ’олнуйся, Иван. Ты об этом не пожалешь, клянусь. Назавтра доставили мои новые документы, более солидные и убедительные, чем все предыдущие. По-прежнему опасаясь возвращения Бродманна, я поспешил в расположенное на Ноб-Хилл отделение Калифорнийского банка. Там я предъявил чек на семьсот пятьдесят долларов, выписанный на имя Мэтта Палленберга, и подписался как Макс Питерсон. По крайней мере, никто не мог предположить, что это один и тот же человек. При обмене чека на наличные мне сразу стало ясно, как делаются дела в Сан-Франциско. Надо признаться, я немного вспотел, когда клерк, узнав, что я послал чек из Милуоки (чтобы запутать следы), со значительным видом попросил совета у кого-то невидимого, сверился с какими-то бумагами, серьезно пошептался с несколькими коллегами, а потом вернулся, осмотрел мои документы (там даже был указан адрес в Олбани), счел их удовлетворительными и наконец решительно поинтересовался, в каких купюрах я хочу получить деньги, – как будто чек ему вручили лишь пару секунд назад. Я попросил пятьсот долларов крупными купюрами. Их я немедленно отдал миссис Корнелиус для нашей театральной компании. Остальные деньги я взял пятерками и десятками – на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая покупку высококачественного кокаина в китайском квартале. С деньгами я снова стал настоящим человеком; я почувствовал, что управляю собственной судьбой. Я теперь был не иностранцем сомнительного происхождения, а скандинавом, потомком викингов (как и все представители старинных семейств Киева), тех выносливых, предприимчивых людей, которые открыли Америку задолго до испанского еврея Колумба, вырезали свои руны на источенных морем утесах Лонг-Айленда и Нантакета, посвятив эти земли великим решительным богам – Одину, Фрейе и Тору. Именно они, живые, разумные боги, имели куда больше прав на эту энергичную страну, нежели мрачный Иегова бледных ограниченных пуритан. Я расстался с ку-клукс-кланом. Эти дураки упустили свой шанс, потеряли лучших друзей и из-за мелких внутренних дрязг не смогли одержать победу. Они погибли после множества глупостей и ссор – вполне логичный финал. Индиана могла бы стать первым подлинным штатом клана, но еще один скандал положил конец и этой мечте[437]. Полковник Симмонс, Эдди Кларк, даже майор Синклер и я – все стали мучениками, погубленными недалекими осторожными людьми или ненадежными друзьями вроде миссис Моган. Мои дары, которыми так цинично злоупотребили политики и стяжатели, погубившие идеалистов, подобных Роффи и Гилпину, еще могли превратить Америку в мирового лидера технического прогресса. Если бы им в будущем понадобились мои услуги – следовало поклониться мне в ноги и попросить о помощи. Я решил отказаться от искушений их мира и посвятить себя сцене и частным научным исследованиям. Я не позволю им преследовать меня. Я сам решу, когда покинуть Америку, когда раскрыть мою истинную личность. Как они удивятся! Как я посмеюсь над ними, когда мой поразительный паровой дирижабль, моя собственная усовершенствованная модель «Авитора Гермеса-младшего», который вылетел из Сан-Франциско в 1869 году[438], проплывет в небесах над Золотыми Воротами, обгоняя огромные локомотивы «Саутерн пасифик». А потом, когда тысячефутовый огненный крест вспыхнет на горе Шаста, это станет сигналом: ку-клукс-клан очистился и вновь готов выступить в священный поход, дабы освободить Америку от завистливых цепей Востока! И тогда я окажусь во главе колонны! Мы помчимся в машинах из золота, дерева и ослепительного серебра, и наши враги изведают беспомощность абсолютного ужаса. Мы отомстим, но наша месть будет благородной. Проснись, Америка! Твои небеса заполняет армия мстителей, и выживут только верные! Первая фаза моего Kampfzeit[439] подошла к концу. Скоро начнется вторая. А пока, став обычным странствующим актером, я смешаюсь с простыми людьми, обрету новые силы в самых корнях Америки. Я взлетел слишком высоко и слишком быстро, но в том нет моей вины. Теперь мне нужно восстановить силы, встать на твердую землю и начать все сначала. Америка, ты не услышишь моего плача! Twoje dzielo. Наша маленькая труппа вырастет, но не слишком, а я сохраню верность своим идеалам. На некоторое время, однако, их следует приспособить к требованиям музыкальной комедии. Erst waren es Sieben. Sie kämpften und blutetan für Amerikas Freiheit[440]. Миссис Корнелиус за бесценок купила старый «кадиллак», бывшую машину скорой помощи. Ее немного переоборудовали и написали с обеих сторон название нашей труппы – и автомобиль оказался просто идеальным. Миссис Корнелиус и две девушки – вот и все, что осталось от первоначального состава, но моя подруга была уверена, что нам следовало увеличить численность до семи актеров, наняв новых участников во время путешествия. Девушки закупили материал и изготовили новые костюмы, некоторые из них выполнялись по эскизам, которые я набросал для миссис Корнелиус в качестве своего первого вклада в театральный проект. В ближайшее время мы готовились двинуться на север вдоль Тихоокеанского побережья. Я, конечно, волновался; нервничал я больше обычного, потому что сомневался в своих способностях актера-менеджера. Миссис Корнелиус постоянно уверяла меня, что это просто пара пустяков, гораздо проще, чем кажется. Тем не менее я дважды едва не отказался от первоначального плана и уже почти решился сесть на первый же катер до Таити. В конце концов я собрался с силами. Я написал Эсме, Коле и еще Сантуччи, которого поблагодарил за помощь. Я сообщил, что со мной можно связаться через ресторан «Венеция» на Тэйлор-стрит. Я оставил политику, потому что столкнулся с коррупцией и не смог преодолеть отвращение. Теперь я хотел вернуться к научной карьере. Решение не стоило откладывать. Выходя из гостиницы на встречу с миссис Корнелиус, которая уже уложила мои вещи в багажник фургона, я увидел Бродманна, или, точнее, его кожаное пальто. Мой враг скрылся из вида, свернув за угол возле пекарни. Я побежал за ним, но он успел уйти довольно далеко. Я никак не мог понять, почему он так старается избежать встречи и узнавания. Нельзя было угадать, в какую сложную игру он играл со своими союзниками и противниками. Вместо того чтобы отправиться прямо к месту назначенной встречи, я двинулся в обход, пробираясь по переулкам и запутывая следы; в итоге я дошел до небольшой аптеки на Дюпон-стрит несколько позже, чем планировалось. Все остальные уже сидели в фургоне. Две девушки устроились позади, а миссис Корнелиус, которая немного выпила, ждала на переднем сиденье. Мотор уже завели, и мы, по ее словам, «могли катиться». Облегченно вздохнув, я опустил рычаг тормоза и нажал на педаль. Машина поехала по Маркет-стрит. Двигатель у фургона был превосходный, учитывая его возраст, но «кадиллак» оказался несколько перегружен. Миссис Корнелиус развеселилась, как в прежние времена; мы с девушками подпевали, когда она исполняла свои любимые песни. К тому времени, когда машина двинулась в сторону Салинаса, мы спели уже большую часть репертуара миссис Корнелиус, и я научил ее «Старой, луне Кентукки», которую в свою очередь узнал всего месяц назад от двуличной миссис Моган. Иногда я оглядывался назад, чтобы удостовериться, не преследует ли нас человек, похожий на Бродманна. Я был по-детски счастлив, снова оказавшись рядом с моей дорогой подругой. Es dir oys s’harts![441] Я мог выбросить прошлое из головы и сосредоточиться на будущем. Я нежно поцеловал миссис Корнелиус в щеку. Она захихикала: – Так и бу’ет, Иван. Мы на пути к славе, парень! Мгновение спустя, удивленно вздохнув, она потрепала меня по колену.Глава двадцатая
Я не могу вернуться в Одессу. И даже если смогу – что я там найду? Оживший труп? Дурную копию? От моих городов ничего не осталось. Все, что осталось, – это будущее, но теперь недоступно и оно, ибо Карфаген уничтожил все, на чем оно основывалось. Настоящее омерзительно. Неужели они ожидают, что я смогу с этим что-то поделать? Эти пропавшие города, эти погубленные чудеса! Я обещал спасение. Они отвергли его. Разве еврей в Аркадии не предал меня? Я любил его. Кусок металла вложили в мое тело, когда я лежал, беспомощный, в их синагоге. Я знаю, кто еврей, а кто нет. Я знаю путь к безопасному, упорядоченному миру. Я знаю, где правда, а где вымысел. Не ограничившись победой в реальном мире, Карфаген объявил войну моим мечтам. Карфаген выступил против Византии. Я сражался. Я отбросил врага. Мои мечты снова ожили. Черные руки больше не цеплялись за мои якоря. Черные глаза больше не следили за мной. С чего мне чувствовать себя виноватым? Я всего добился сам. Я – очень опытный инженер. В том году, и в следующем тоже, мачты Карфагена не показывались на горизонте. Откуда мне было знать, что Карфаген по-прежнему преследовал нас? Я путешествовал в мире иллюзий. И не могу сказать, что сожалею об этом. Нет, я хотел бы увидеть, как моя фантазия возродится. Реальность сама по себе ничего не стоит. Но я не знал этого. Те нацисты были варварами. Как и большевики, они стали верными новобранцами в пехоте Карфагена. Они назвали Гитлера своим новым Александром. Какие города они оставили за собой? Какие памятники? Заксенхаузен? Бухенвальд? Дахау? Двенадцать миллионов убитых lagervolk (пятьдесят процентов – евреи, пятьдесят процентов – славяне); еще двадцать миллионов разных трупов и одну недоделанную ракету? Почему все постройки Шпеера простояли только пятнадцать лет? Даже турки проявляли уважение к Константинополю, хотя бы в своих подражаниях. Карфаген творит только пепел и грязь, смешивает их, покрывает раствором гнутую колючую проволоку, а затем восторгается результатами, этими неуклюжими гротескными созданиями, похожими на Übermenschen[442] из их оскудевшей мифологии. Теперь у меня нет времени на самозваных врагов Карфагена. Их слишком легко обмануть. Мою баронессу фон Рюкстуль убили в Берлине. Этот город никогда не был хорошим убежищем для славян-филосемитов, и все же именно русская бомба отняла у нее жизнь. Ответ Сталина на все вопросы – самый простой. Если проблему не удавалось решить, он ее уничтожал. Nit problem. Вот основа философии Карфагена. Я не могу понять эту Liebschaft mit der Nazi. Er verfluchte die Zukunft. Er verlachte den Amerikaner. Er lachte laut! But was ist Amerika und seiner Venegurung in kontrast? Es ist kornish! Der Nazi er eine Wille. Um so besser. Begreifen sie das Problem?[443] Эти daytsh broynfel Lombard-tseshterniks[444] не лучше большевиков, которые занимаются теми же нелепостями. Освенцим? Треблинка? Бабий Яр? Я обещал им Александрию, которая парит в небесах! Там всегда светло и всегда тепло. Я полагаю, что успех, которого мы добились на Тихоокеанском побережье, можно объяснить только новизной. Миссис Корнелиус была самой природой предназначена для шоу-бизнеса, основу ее таланта составляла бьющая через край жизненная энергия. Сама она всегда признавала, что лишена каких бы то ни было выдающихся дарований. Я организовал очень много выступлений в Калифорнии, потому что там чувствовал себя более непринужденно (раньше я практически не появлялся в этом штате). Мы снова стали невинными; Wandervögel[445], летящими из города в город. Это обеспечило нашей труппе определенные преимущества. Если не задерживаться подолгу на одном месте и быстро перемещаться по миру, то можно спастись от стрел критики – новизна и оригинальность зачастую заменяют талант. Почти все наши зрители радовались любому развлечению, и мы неплохо удовлетворяли их потребности. Мы перемещались от Кресент-Сити на границе с Орегоном к Сан-Диего. Мы даже хотели отправиться в Мексику, но сочли это неблагоразумным, учитывая проблемы, к которым могло привести столкновение с иммиграционными службами. Наша программа обычно состояла из нескольких номеров. Иногда, чтобы заполнить паузу или продлить представление, я даже возвращался к своему прежнему занятию и читал шахтерам лекции о чудесах будущего или рассказывал рыбакам об опасностях иностранного коммунизма. Мы также исполняли небольшую оригинальную пьесу. Сочинил ее я. Надевая форму донского казака и размахивая грузинскими пистолетами, я изображал русского князя, любовника большевистской комиссарши – миссис Корнелиус. В конце концов она решала отправиться со мной в изгнание. Я назвал пьесу «Белый рыцарь и красная королева». Мне очень польстило, что именно это сочинение оказалось самым популярным нашим номером. Зачастую ему аплодировали дольше, чем кинофильмам, которые показывали до и после представления. Мы именовались «Англичанами в сиянии рампы», а миссис Корнелиус избрала сценический псевдоним Шарлин Чаплин. Меня чаще всего называли Барри Мором. Многие директора полагали, что подобные имена привлекали публику. В глубине души я осознавал, что это обманчивое сходство с известными людьми могло смутить и разозлить зрителей, которых заставляли поверить в то, что их любимые кинозвезды выступали на дощатой сцене летнего театра в Редондо-Бич. Я научился подыскивать дешевое жилье и торговаться с хозяевами карнавалов, оперных театров (до сухого закона они были салунами) и ветхих кинотеатров. Наш фургон оказался очень выгодным приобретением. Зачастую он служил нам убежищем. Цыганская жизнь была очень полезна и по-настоящему удобна для всех. Конечно, мы часто уставали и сидели на мели, но никогда не унывали. Хороший климат сильно меняет настроение. Солнечный свет – прекрасное противоядие от всех болезней. Англичане ценят его почти так же, как русские. Двух других девочек звали Мейбл Черч и Этель Эмбси. Публика знала их под именами Глория де Курси и Констанция Бакингем-Фэйр-бенк. Обе они были простыми, веселыми созданиями, популярность которых во многом основывалась на том, что девочки довольно легко одаривали своей благосклонностью поклонников за кулисами. Мы наняли сильно пьющего жонглера и комика по имени Гарольд Хоуп: восторг аудитории чаще вызывала его неловкость, а не способность управляться с булавами. На некоторое время к нам присоединился молодой исполнитель негритянских песен, Уилл Олсен. Мы расстались с ним неподалеку от Монтерея после того, как он попытался навязать свое общество миссис Корнелиус. Потом мы наняли вождя по имени Бычий Нос, огнеглотателя из Бруклина. Его племя больше напоминало Plattfussindianern (как шутили в Германии в 1930 годах), чем Schwarzefussindianern[446]. Воздух, который он выдыхал, вспыхивал сам по себе. Меня всегда удивляло, как вечно пьяному вождю удавалось не сгореть. То была настоящая идиллия. Меня почти всегда окружали женщины, я наслаждался дружбой и советами миссис Корнелиус, мало думал о будущем и еще меньше – о прошлом. Маленькие калифорнийские городки были, как правило, гостеприимны. Здесь царила невинность, которой так не хватает современным американцам. Репутацию этих мест не запятнали цветные пришельцы, не испортили безбожные идеологии. Люди там собирались возле автоматов по продаже газированной воды, в аптеках и парикмахерских, а салуны, когда они существовали, были такими же тихими, мирными и внушительными, как храмы. Я видел брошюры Диснейленда. Но вы же не сможете воссоздать Мейн-стрит как ностальгическую интермедию на нелепой ярмарке, которой заправляют мормоны, переодетые мышами из мультиков. Devo tornare indietro?[447] Америка потеряла Мейн-стрит, когда повернулась спиной к Европе и оставила нас сражаться с Карфагеном. Она устремила взгляд вглубь себя, когда ее власть и идеализм достигли зенита. Если бы она посмотрела наружу, то сохранила бы все, о чем теперь тоскует. Я был там. Америка решительно шла по пути самоуничтожения. Она страдала от вечного заблуждения богачей: их богатство – это награда за некое врожденное моральное превосходство. Я, насладившись восторгами безответственной юности Калифорнии, увидел конец прекрасной золотой поры, эпохи веселья и радости. Но время, проведенное на гастролях, не было потрачено впустую. Я много узнал о простых людях, живущих на сущие гроши, сталкивающихся с реальностью мира, который многие европейцы все еще считают очаровательно наивным или испорченным. Я разочаровался в Америке позже, когда понял: она отказалась от подобающего лидирующего положения просто потому, что хотела любви, а не уважения. В двадцатых годах Америка еще сохраняла чувство собственного достоинства. Вот почему тогда можно было пройти по Мейнстрит, вдыхая запах содовой, солода, кофе и сиропа, в тех самых городках, где всего лишь пару поколений назад люди убивали друг друга из-за золотых самородков и участков земли. Мы путешествовали по маршруту Лолы Монтес[448], которая танцевала в деревянных хижинах и палаточных лагерях всего лишь семьдесят лет назад. В деревянных домах Лост-Хилла и в новых кирпичных сооружениях округа Калаверас, в бескрайних пустынях и густых лесах, среди горных хребтов и пологих холмов, в мире золота, серебра и нефти мы пели наши песни и декламировали наши монологи. В городах, где дощатые настилы защищали наши ноги от грязи, мы могли повернуть за угол и увидеть посреди улицы огромную нефтяную скважину. Великая Материнская жила[449], которая принесла в Сан-Франциско богатство и безумие, была выработана, и все же по склонам холмов бродили разведчики. Мы проезжали по сверкающим ущельям Высокой Сьерры и по огромной долине Сан-Хоакина, когда сливы были в самом цвету; мы странствовали по полям, по равнинам, заросшим эвкалиптами, насколько хватало глаз. Мы останавливались и вдыхали почти наркотический аромат апельсиновых рощ, срывали с деревьев свежие персики, объедались форелью, выловленной в прохладных реках. Мы выступали в сараях, палатках и холлах обветшалых отелей. Мы добрались до Флагштока, Аризона, и однажды ночью разбили лагерь неподалеку от края Большого каньона. Этот дикий простор нельзя описать, нельзя передать словами или картинами. Мы проехали в старой машине скорой помощи по Цветной пустыне. В Долине памятников глаза индейцев смотрели на гибель всех мечтаний. На лицах детей навахо застыло выражение, которое я уже видел в Галате и еще раньше – в штетлях среди степей Украины. Эти люди родились в эпоху, в которой для них не было места. Их ритуалы и традиции утратили цель и смысл. Теперь безвинные индейцы стали изгоями. Они стали паразитами на своей собственной земле, как завоеванные армяне, палестинские евреи и российские кулаки. Они стали musselmanisch, как говорили в Бухенвальде. Они, по сути, разучились жить, эти образцовые граждане Карфагена. Иногда дорога приводила нас в более крупные города или, по крайней мере, в пригороды. В Оберне, мирном северокалифорнийском городе, где телеграфные столбы были все еще выше большинства зданий, я снова увидел Бродманна. Я шел от кафе под названием «Гремучка Дика» к местному почтовому отделению. На широкой улице движение почти замерло, я видел только двуколку и пару-тройку велосипедов. День был сонным и солнечным. Похоже, что в Оберне началась сиеста. В руках я держал письмо для Эсме и открытку для Коли. Я, как обычно, интересовался новостями и выражал надежду, что скоро одно из моих писем дойдет до моих друзей, где бы они ни были. Я отказывался даже думать о том, что их насильно вывезли в Россию. Бродманн стоял на деревянном балконе старого отеля «Фриман», расположенного на самой вершине холма. Я смог хорошо разглядеть знакомую фигуру. Прежде чем скрыться в темноте своей комнаты, он взмахнул рукой. Я был абсолютно уверен, что Бродманн просто дразнил меня, однако он мог подавать кому-то знак. Я стал очень осторожным после этой встречи и, к раздражению миссис Корнелиус, настоял на том, чтобы покинуть Оберн: первоначально мы планировали там заночевать. В течение следующей недели мне было сложно играть на сцене, но я не видел смысла в том, чтобы пугать остальных своими открытиями. Я все еще не мог разгадать намерений Бродманна, однако очень обрадовался, когда мы повернули на юг. Мы выступали на ярмарках и карнавалах, в деревянных сараях и великолепных театрах; их строили в расчете на прирост населения, которого так и не случилось; теперь роскошные здания медленно приходили в упадок. Мы играли на пирсах и дощатых настилах морских курортов, на местных ярмарках и цветочных праздниках. Мы стали цыганами и радовались каждому представлению, даже если иногда и мечтали о дне, когда Флоренс Зигфельд или Сесил Б. Демилль увидят нас и пожелают заключить с нами контракт. В глубине души все мы догадывались, что такого никогда не случится. Ближе всего мы подошли к успеху в Сан-Луис-Обиспо, когда услышали, что в зале сидит один из ассистентов Уильяма Рэндольфа Херста[450]. Очевидно, босс приказал ему подыскать какое-то местное шоу для вечеринки на ранчо Херста, расположенном среди холмов неподалеку от городка. Я пришел к выводу, что мы им не подошли. Контракта нам не предложили. В ноябре 1923 года, в Хантингтон-Бич, мы показывали нашу русскую пьеску, несколько скетчей и попурри из песен, заполняя паузы между двумя кинодрамами и четырьмя другими шоу в Мэдисоне, небольшом пляжном мюзик-холле на окраине зоны развлечений. Подобно некоторым другим деревушкам на побережье океана в Южной Калифорнии, Хантингтон-Бич стал отчасти курортом с небольшими отелями, ярмарочной площадью, уличными аттракционами, а отчасти нефтяным городом. Среди почтенных семейств, пьяных нефтяников, скучающих стариков и других обычных посетителей выделялся дорого одетый, но неопрятный человек, сидевший в первом ряду; он не сводил глаз с миссис Корнелиус. Признаюсь, я почувствовал укол ревности. Мужчина просидел на наших выступлениях два дня подряд, и Этель предположила, что это театральный агент; но когда он появился за кулисами с букетом, который я счел вульгарным и по цвету, и по размеру, – я все вспомнил. Он, однако, меня не узнал, возможно, из-за грима. Я сумел преградить ему путь прежде, чем посетитель проник в нашу уборную. Он вел себя очень смирно, даже подобострастно. Огромный седовласый мужчина (ему не исполнилось и сорока), дрожа и всхлипывая, проговорил, что ему очень хотелось бы познакомиться с миссис Корнелиус и выразить искреннее восхищение ее игрой. Я встречался с ним в Атланте, на вечеринке в Клан-кресте. Джон Дружище Хевер, инженер-нефтяник, слегка вспотевший от жары, немного располневший, вероятно, все равно не вспомнил бы об этой встрече. В его глазах была только миссис Корнелиус. Он говорил только о ней. Хевер был очарован. Я постарался избавиться от него как можно быстрее. Последнее, чего бы мне хотелось, – чтобы о моем новом имени и местонахождении проведал клан. Не меньше меня пугало и то, что на след могут выйти враги клана. Кроме того, я не думал, что Хевер был подходящим поклонником для миссис Корнелиус. Я взял букет и карточку и отослал посетителя. Я отдал цветы миссис Корнелиус, но карточку ей не показал. Я сказал, что понятия не имею, кто принес букет. На следующий день, однако, Хевер вернулся снова, с розами и гардениями; он по-прежнему настаивал на знакомстве. К сожалению, мне приходилось избавляться от этого человека каждый вечер в течение всей недели. По крайней мере, я смог защитить от него миссис Корнелиус. Я вздохнул спокойно лишь тогда, когда мы снова отправились в путь, двинувшись вдоль побережья в Сан-Диего. Огромные белые буруны Тихого океана, пальмы и желтые пляжи скоро отвлекли меня от Джона Хевера, его нелепой страсти и беспокойства, зародившегося при столкновении с этим нежданным свидетелем моей былой карьеры. Пока мы играли в небольших псевдоиспанских театрах у границы, жизнь становилась все легче и легче. У нас даже скопилось несколько долларов. Я часто задумывался о том, как сложилась бы жизнь, если я решил бы навсегда остаться актером. Вероятно, вскорости я бы стал беспокойным, как Джон Уэйн или Фрэнк Синатра, и вернулся бы в политику. Сейчас модно смеяться над амбициями губернатора Рейгана, но кто может сказать, развились бы его природные таланты, если бы он не использовал все возможности, если бы он не бросался на защиту старых обычаев с шестизарядным в руке? Он добился успеха, потому что искренне верил в слова своих героев. А разве не это нужно успешному политику? Я думаю, дело не в том, что ты играешь роль, а в том, что выбираешь роль по душе. В конце 1923 – начале 1924 года у нас было достаточно работы, чтобы сводить концы с концами. Мы стали разборчивыми и начали отказываться от заказов похуже. Теперь мы выступали только в настоящих театрах и несколько раз появлялись на первом месте в программе. Жизнь была хороша. Мы не слишком оплакивали Уоррена Хардинга, еще одну жертву «черного» папы, когда он умер. Кальвин Кулидж[451] казался здравомыслящим человеком. Наше положение оставалось стабильным. Новость о смерти Ленина в январе 1924 года ненадолго подарила мне надежду – возможно, я снова увижу свою мать. Но ничего не изменилось. В Англии большевики усилили влияние, когда социалисты Рамси Макдональда захватили власть. Карфаген наступал, но я ничего не замечал. Я даже не задумывался об этом. Я согласился с миссис Корнелиус, которая сказала однажды утром, прочитав заметку о мюнхенской неудаче Гитлера: «Еж’ли спросишь м’ня, х’рошо, шо мы оказались далеко оттуда, Иван!» Надежда на политическую стабильность сохранилась лишь в Италии. В России большевики ужесточали контроль. Стало ясно, что Ленин сдерживал восточные силы, теперь, очевидно, пришедшие к власти. В апреле 1924 года по настоянию миссис Корнелиус, но вопреки моим возражениям (хотя я с нетерпением ждал возвращения к городской жизни) мы направились в «Странофф» в Сан-Франциско. Они предложили нам утроить прежний гонорар. Мы не смогли отказаться. Театр стал еще чуть более ветхим, но в общем не изменился. Миссис Корнелиус даже отыскала кусок жевательной резинки там, куда она его прилепила во время своего последнего визита. Мы включили «Белого рыцаря и красную королеву» в афишу, на которой также значились «След Зорро» Дугласа Фэрбенкса и «Четыре всадника Апокалипсиса» Рудольфа Валентино. После нашего второго выступления в мою гримерную вошел Гарри Галиано. Он был в хорошем настроении; широко улыбаясь, гость пожал мне руку. – Эй, –воскликнул Гарри, – вы тут большие дела делаете! Он принес мне письмо. Оно пришло некоторое время назад и лежало у Винса Поттера на Северном пляже. – Из Италии, – сказал Гарри. Я, дрожа, протянул руку к письму. Оно должно было решительно изменить мою жизнь и напомнить о моем долге, моем lebensplan, моем изначальном пути. Прежде чем я успел открыть письмо, Гарри как-то неловко снял шляпу и со сдерживаемой грустью сообщил мне, что Винса предательски убили примерно за неделю до того, как пришло письмо. Гарри знал: Винсу хотелось бы, чтобы я получил послание. Я спросил, знает ли он, кто убил его босса. Гарри спокойно заверил меня, что правосудие скоро свершится. Он извинился за свои дурные манеры. Если бы оставалось время, чтобы меня разыскать, он непременно пригласил бы меня на похороны, ведь я стал «почти родственником». Я с удивлением услышал, что Винс внимательно следил за моей карьерой. – Мы видели вас однажды ночью, когда вы выступали где-то возле Эврики. Но мы успели посмотреть только половину шоу, потому что направлялись в Вивервиль. Мы решили, что вы в высшей лиге. Просто класс. Винс хотел пригласить вас выступать в клубе. Он был одним из самых чудесных парней на свете. Но слишком мягким, знаете ли, слишком добрым. Это письмо было вложено в другое послание, от его кузена Аннибале. Я, понимаете ли, рассматривал афиши, вдобавок в «Экзаминере» написали, что ваше шоу снова в городе. И вот мы здесь. Конверт был смят и надорван, как будто его выбросили, а потом подняли и расправили. Я едва осмеливался открыть его. Гарри усмехнулся: – Кстати, вспомнил. Вы выписывали фальшивые чеки, Мэтт? – О чем, черт возьми, вы говорите? – Может, вы слышали о ком-то по фамилии Каллахан? Он ищет вас. Или, во всяком случае, Палленберга. Это связано с чеком. Вот и все, что мне известно. – Вы видели Каллахана? – Нет. Просто ходят такие слухи. – Он из Министерства юстиции. – Дело плохо, – сказал Гарри. – С федералами никак не справиться. – А больше вы ничего не слышали? – Вы думаете, я стал бы скрывать? Понимаете, к чему все это может привести? – Это никому не повредит, Гарри. – Уверен. – Гарри дружески потрепал меня по руке. – Оставайтесь на связи, ладно? У нас есть планы, как у Винса, подзаняться развлечениями. Мы всегда готовы дать работу старому другу. Я поблагодарил Гарри, заверив, что свяжусь с ним снова, даже если больше ничего не услышу о Каллахане. Хотя Гарри и не был особенно симпатичным, природа наделила его природной грацией галантных Медичи эпохи Ренессанса. В дальнейшем он завязал с контрабандой спиртного и обратился, как и планировал, к шоу-бизнесу и разным проектам в Лас-Вегасе. По моим последним сведениям, он до сих пор жив и здоров. Письмо, конечно, было от Эсме. У меня оно хранится до сих пор, но если бы я его и потерял, то смог бы вспомнить дословно. War Sie es. Ich gebe allmein Weltstädten weg; aber ich gäbe nicht alle meine Briefe[452]. Ее детский почерк, ее ошибки, ее бессознательный переход с одного языка на другой – все пробуждало глубокие чувства, которые я скрыл, оставив ее в Париже. Я всегда понимал, что найдется разумное объяснение. Наконец я узнал, почему она не смогла ничего написать или последовать за мной в Америку. Mäyn shvester, mayn froy![453] Она только недавно получила от меня весточку. Почти сразу после того, как я уехал из Парижа, она решила жить одна, так как жену Коли, Анаис, видимо, злило ее присутствие. Коля любезно помог ей подыскать квартиру. Некоторое время Эсме работала регистраторшей в офисе одного из деловых друзей Коли. Потом неожиданно что-то стряслось. Эсме выражалась неопределенно: «Глупая, бессмысленная ссора». Она ушла с работы и устроилась официанткой в ночной клуб. Потом, измученная приставаниями клиентов, она, к счастью, однажды столкнулась с Аннибале Сантуччи. Тот посочувствовал ей и предложил свою дружбу и защиту. Зная, что она была моей невестой, итальянец вел себя благородно, и она возвратилась в Рим вместе с ним. Там она жила у его кузины, леди исключительной христианской нравственности, и в конечном счете нашла работу официантки в клубе. Эсме изо всех сил старалась заработать денег на дорогу в Америку. Она писала мне, но письма возвращались. Никто не знал моего адреса. К сожалению, как раз тогда, когда она скопила достаточно денег на билет, ее ограбила женщина, снимавшая с ней квартиру. В итоге полиция арестовала ее за бродяжничество (жизнь в Риме становилась все сложнее). Наконец, снова встретив Аннибале, она увидела мои последние письма к нему и сразу написала по моему новому адресу. Она мечтала о встрече со мной, радовалась, что я преуспел в Америке; она приехала бы ко мне, если б у нее были деньги. Теперь она обзавелась настоящим итальянским паспортом благодаря друзьям Аннибале в правительстве, но чтобы приехать в Америку, ей понадобятся доллары. Могу ли я ответить как можно скорее? Эсме дала адрес отеля близ Тиволи, где она зарегистрировалась под именем синьоры Сильваны Растелли. На это же имя был выписан паспорт. Она надеялась, что я все еще не оставил мысли о свадьбе. Она была хорошей девочкой. Mayn freydik, mayn gut bubeleh![454] Она искренне любила меня, и ее сердце разбилось в миг нашего расставания. Wann kommen Sie wieder?[455] Конечно, я был вне себя от радости. Я восхищался тем, что моя маленькая девочка смогла о себе позаботиться во время нашей долгой разлуки. Придя в восторг, я почти не обратил внимания на новости Гарри о Каллахане. Mayn froy. Sie fährt morgen![456] Я показал письмо миссис Корнелиус. Она внимательно прочитала его, сначала со сжатыми губами и хмурым взглядом, затем со странной улыбкой. Естественно, я совершенно не понимал того, что обычная женская ревность может исказить самую объективную информацию. Миссис Корнелиус в этом отношении оказалась типичной женщиной. Она многозначительно спросила: – И ты шо, с’бирашься ей послать ’сю наличку, Иван? – В том-то и проблема. У меня нет нужной суммы. И мне трудно раздобыть больше. Конечно, она должна получить билет первого класса. – Лучше напиши и дай ей знать, шо ты не мож е ’о купить, верно? – Я не могу так поступить, миссис Корнелиус. – Она меня удивляла. – Эсме – моя суженая. Мы собираемся пожениться. Я оставил ее только потому, что у нее не было паспорта. – Она е’о шо-то очень легко п’лучила. – Итальянский. Не французский. Вы можете представить, что ей пришлось испытать? Она даже не говорит об этом. Просто не хочет вспоминать. Я знал, что Коля ее не бросит. Все эти проклятые буржуа! Эта Анаис! Я всегда считал ее высокомерной. Злобная сука! Но, слава богу, Аннибале проявил великодушие. Я у него в долгу. Он был истинным другом для нас обоих. – Ясно дело. – Миссис Корнелиус, похоже, ревновала. – И вдоба’ок идеальная леди, черт’ва монахиня. Остается чистенькой, нетронутой, б’режет сьбя для будуще’о мужа. Просто обрыдаться можно. – Миссис Корнелиус посочувствовала мне. – У тьбя доброе сердце, Иван, при ’сей твоей к’шмарной жизни. Если б у тьбя была хоть капля здравого смысла, ты бы сразу разорвал эт’ ’роклятое письмо. Конечно, я не последовал ее совету. Миссис Корнелиус, как и в Константинополе, хотела только добра. Но она не встречалась с Эсме. Как только я познакомлю ее со своей избранницей, все разъяснится. Я изо всех сил пытался заработать денег. Миссис Корнелиус в итоге успокоилась. Наверное, она поняла серьезность моих намерений. Она больше не пыталась переубедить меня. Она согласилась, что я сам хозяин своей жизни. Все, о чем она просила, – чтобы я тратил свои средства, а не деньги труппы. Ей не следовало ничего опасаться. Я мог честно зарабатывать обычным способом. Мне нужен был только покровитель, способный заплатить за патенты. К счастью, я оказался в нужном месте. Лос-Анджелес и Сан-Франциско, не говоря уже о пятистах милях между ними, привлекли внимание состоятельных людей, таких как Хьюз и Дэвенпорт; многие крупные промышленные предприятия разместились в этом штате. Но я понятия не имел, к кому обратиться и с чего начать. Я находился в затруднительном положении, потому что никак не мог связаться с Вашингтоном или со своими старыми партнерами по клану, а рассказ Гарри Галиано о Каллахане просто испугал меня. Я не смел больше обналичивать чеки. Мне приходилось проявлять величайшую осмотрительность в поисках финансовой поддержки. Все патенты были выписаны на мое имя. Мне требовался сочувствующий слушатель и доверенный партнер с открытой чековой книжкой. Поэтому я должен был предложить свои патенты кому-то, готовому сохранить тайну до тех пор, пока я не очищу свое имя и не стану гражданином США. Гарри Галиано, очевидно, еще не проявлял интереса к промышленности. У него, однако, могли быть друзья, которые занимались индустриальными проектами. Точно так же люди из мира кино, как всем известно, опасались вкладывать капиталы во что-то серьезное, за исключением фильмов. Я вышел на сцену в каком-то ошеломлении, я говорил и жестикулировал совершенно автоматически. Я мысленно перечислял фирмы: Гилмор, Кертисс, Локхид, Дуглас, Студебеккер, Мартин и так далее. В большинстве своем они занимались какими-то авиационными проектами. А я утратил веру в дирижабли и самолеты и не хотел с ними связываться. Они принесли мне слишком много бед. Нефть – вот о чем я подумал. Я доработал свой проект автомобиля, работавшего на газовом топливе, машины, использующей побочные продукты нефтедобычи. Такое топливо обошлось бы гораздо дешевле обычного бензина. Единственная серьезная техническая проблема заключалась в том, как хранить и подавать газ. Он был гораздо менее стабилен, чем нефть. Чтобы решить этот вопрос, я изобрел новый тип цилиндра и, попутно, безопасный метод зажигания, который используется и сегодня. Все знали, сколько стоит очистка калифорнийской сырой нефти, и понимали, чем все в конечном счете закончится. Обработка газа обходилась куда дешевле. В отличие от бензина его можно было производить, а не добывать. Казалось неизбежным, что мой газовый, а возможно, и динамитный, автомобиль в скором времени заменит обычные машины. Параллельно с этими проектами я создал новую конструкцию насоса и метод быстрой очистки, которые радикально уменьшили бы затраты на обслуживание и обеспечили бы миллион баррелей в день на каждую нынешнюю тысячу. К тому времени, когда мы закончили вечернее выступление, я пришел к выводу, что вскоре раздобуду более чем достаточно денег. Я направился из театра в ближайший офис «Вестерн Юнион» и телеграфировал Эсме: «Получил письмо, все понял и в ближайшее время пришлю билет». Я вернулся в свою берлогу примерно в три часа ночи, отпраздновав чудесные новости в дешевом притоне, где подавали джин. Я проживал в «Апартаментах Мальвани» на Джонс-стрит, неподалеку от театра. Там была необычная стеклянная дверь, укрепленная проволочной сеткой; стойка располагалась в вестибюле между этой и другой такой же дверью. Когда я забирал ключ у ночного портье-японца, он мне что-то прошептал. Я подумал, что он интересуется, не нужна ли мне женщина (тогда все ночные портье по утрам задавали подобные вопросы). Я сказал ему: «Нет». По другую сторону второй стеклянной двери я увидел чей-то силуэт; высокий человек, сидевший у лестницы, теперь поднялся мне навстречу. Сначала я испугался, подумав, что это Бродманн. Но мужчина был гораздо выше. Я открыл вторую дверь и зажег в коридоре свет. Чуть заметно улыбаясь и держа руки глубоко в карманах плаща, передо мной стоял офицер Каллахан; вел он себя очень вежливо, даже скромно. Я не думал о причинах. Эсме была совсем близко – и теперь, похоже, меня задержат и не позволят встретиться с ней. У меня не было визы, только поддельные документы. Меня посадят в федеральную тюрьму, а потом вышлют. И это было лучшее, на что я мог надеяться. – Полагаю, сейчас я беседую с мистером Палленбергом, – сказал Каллахан. Я не отвечал. Я продолжал смотреть на него, я был почти готов его убить. Я пришел в отчаяние. Я не мог больше страдать в разлуке со своей девушкой, это было немыслимо. – Итак, – Каллахан отвел от меня взгляд, – где вы хотите поговорить, сэр? Я провел его вверх по лестнице и отпер дверь в мою комнату. Он подождал, пока я войду, а затем последовал за мной. Как только я зажег лампу, первым делом осмотрелся по сторонам, чтобы проверить, не осталось ли где-то на виду кокаина. Порошок был спрятан, но если бы Каллахан решил осмотреть мой багаж, то легко бы его отыскал. Я вытер пот со лба. – Вы знаете, что ваши счета заморожены, верно, сэр? – Ирландец посмотрел на кровать. Она не была застелена. Он наклонился, поправил изношенное покрывало, затем уселся, расстегнул плащ и вытащил тот же самый блокнот, который я уже видел в поезде. – Мы заметили, что вы не пользовались счетом. За исключением одного только чека. – Полагаю, это была моя единственная ошибка, – сказал я. – Возможно. Вы ничего хорошего не добились, сбежав из Уокера и не оплатив счет за гостиницу. Я не был уверен, что следует ему рассказывать. В подобной ситуации я оказался в России, в ЧК. Я давно понял, что информацию нужно придерживать. Я ждал, не раскроет ли Каллахан карты. – Это было бессмысленное, мелкое преступление, – сказал он. – До тех пор руки ваши были чисты, по крайней мере, по нашим сведениям. А за это вас можно привлечь. Я ничего не ответил, и он продолжил: – А теперь вы поменяли имя, явно для того, чтобы остаться здесь незаконно, так как вы не пытались продлить свою визу. – И это все? Он вздохнул: – Хороший адвокат может помочь вам задержаться в стране на несколько месяцев, возможно, и дольше. Вы явно хотите здесь остаться. Может, в Европе произошли какие-то события, о которых вы стремитесь позабыть? – Он многозначительно посмотрел на меня. Глаза католика. Внезапно я понял, что он, вполне вероятно, был несостоявшимся священником. – Вы можете помочь мне? – спросил я. Во рту у меня пересохло. Я дрожал. Я сознательно позволил ему увидеть, насколько я встревожен. – Помощь я хотел предложить вам в прошлом году. – Я наблюдал, как он медленно входил в роль. – Мы не вампиры. И мы не всегда соблюдаем букву закона. Что случилось? – Я был напуган, мистер Каллахан. – Усевшись по другую сторону кровати, я старался не смотреть на него прямо. Я попытался представить, что сижу в исповедальне и нас разделяет решетка. – Мне угрожали. – Кто? – Его тон смягчился. – Вы можете сказать? – Когда я приехал сюда, то не очень хорошо представлял, что такое ку-клукс-клан. Я люблю Америку. Они предложили мне выступать с лекциями. Это казалось идеальным способом зарабатывать на жизнь во время путешествий по вашей стране. Я никогда не планировал оставаться здесь навсегда. К тому времени, когда я понял, что такое клан на самом деле, я уже завяз. Конечно, я понимал, что было бы неразумно ссориться с ними. – Я догадывался, – вздохнул он. – Продолжайте. У меня не оставалось другого выбора, кроме как продолжать эту пародию на религиозные ритуалы, описывать ему мой ужас, угрозы клана, мои попытки спастись, наконец, решение отказаться от дальнейших лекций после разговора с ним в поезде. Затем миссис Моган выдала меня наемным бандитам. Они избили меня и бросили полумертвым. Я скрывался от клана, не от Министерства юстиции. Конечно, у меня не было ни малейшего желания возвращаться в Европу. Я не сделал ничего дурного. Я боролся с большевиками в России. Я помог сотням, а возможно, и тысячам людей выбраться из Одессы. Комиссар ЧК Бродманн, несомненно, получил приказ выследить меня. Я встал и открыл дверцу шкафа, в котором висела моя одежда. Там находился и один из моих русских мундиров. – Эти награды честно заслужены, – произнес я. Я рассказал, как совершал боевые вылеты против красных, как потерпел крушение и едва не утонул. И все же Бродманн отыскал меня, и мне пришлось сбежать из Одессы и вернуться во Францию, к себе на родину. Там я стал жертвой заговора чекистов. Я приехал в Америку, надеясь, что обо мне в конце концов позабудут. Если я теперь вернусь, то это, вероятно, будет означать верную смерть. Я работал на клан, потому что думал, будто клан борется с большевиками. Я не понимал их революционных целей. Теперь Каллахан быстро кивал, по-прежнему делая записи. Он почти автоматически повторял: «Продолжайте», – и всячески выражал искреннее сочувствие. – Вот и все, мистер Каллахан. Больше сказать нечего, за исключением нескольких деталей. Я уверен, что и клан, и ЧК все еще охотятся за мной. Если вы смогли меня найти, то и они скоро найдут. Полагаю, что мне угрожает смерть. Он решительно покачал головой: – Только Министерство юстиции могло изучить состояние ваших банковских счетов. Вы должны понять, что наша работа состоит и в том, чтобы защищать людей. Почему вы не пришли ко мне? Я догадался, что вы невиновны. Я дал вам свою карточку. – Я думал, вы закончили расследование. Я не мог поверить, что совершил какое-то преступление. Но Бесси сказала, что вы посадите меня в тюрьму. – Мистер Вискерс вами не интересовался. Он хотел получить информацию о Бесси Моган, чтобы надолго упечь ее за решетку. Мы практически уверены, что она представляла клан в полудюжине мошеннических делишек, – Каллахан сделал паузу, – включая поставку наркотиков и проституцию. Вы это подтвердили. Она, Кларк и та другая женщина, Тайлер, начинали с мелких плутней. Но они привели клан к большим деньгам. У Моган был вес и была история. Ее старик пошел на электрический стул за двойной поджог в Толедо. Мы почти уверены, что она его подставила. Вы знали об этом что-нибудь? – Нет. – Так я и предполагал. С вами все ясно. Вы были любителем, но она – профессионалка. Она имела дело с грязными деньгами. Она поставляла потаскушек и практически все что угодно, от громил до самогона, чертовым чиновникам и политикам этой страны, готовым брать взятки. Так что нам нужны на нее материалы, если мы хотим, чтобы она запела как следует. – Он сделал паузу. – Именно поэтому я готов заключить с вами сделку, мистер Палленберг. – Вы хотите получить от меня информацию? У меня не было ничего стоящего. Миссис Моган всегда держала в секрете свои дела. Он принял мои колебания за выражение страха или, возможно, верности. – Она подставила вас. Почему бы не ответить ей тем же? Если вы волнуетесь по поводу встречных обвинений, то гарантирую: на свидетельском месте вам стоять не придется. Мы прикроем вас со всех сторон. И вы сможете продолжать свои дела – неважно, чем вы сейчас занимаетесь. Делайте что угодно – только насвистите нам весь мотивчик и поставьте внизу свою подпись. Я подумал, что мне представляется возможность немедленно спасти Эсме. – Как насчет моих денег? – спросил я. – Вы откроете счета? – Невозможно. Мы уже предъявили ордер. Эти средства – предполагаемая прибыль от преступной деятельности. Когда миссис Моган сядет, а еще лучше – когда все мошенники, которым она подсовывала взятки, окажутся в тюрьме, тогда мы сможем что-то предпринять. А пока нам хотелось бы знать о вашем местонахождении. Вы наш тайный свидетель, и мы не хотим, чтобы вы покинули страну. Вы автоматически получаете статус «пребывание на неопределенный срок». Все, что от вас требуется, – прижать к ногтю шлюху, которая вас подставила. Если вы этого не сделаете – привет, Россия. Я все понял. Казалось, я мог получить свободу, но, как это ни печально, мне по-прежнему нужно было искать деньги на билет для Эсме. Я решил, в интересах правосудия и ради тех, кого я любил, все-таки сделать заявление. Я чувствовал себя загнанной в угол крысой, но выбора у меня не было. Я говорил всю ночь, ужасно сожалея, что не мог добраться до кокаина и поддержать свои силы. Я называл все имена, какие приходили мне на ум. Я пояснил, что майор Синклер был настоящим идеалистом. По требованию своего исповедника я изобретал оргии, убийства, извращения и взятки. Некоторых людей я не знал по имени, но пришел к выводу, что они были воротилами в Вашингтоне. Я превзошел самого себя. Джордж Каллахан едва не пел от восторга к тому времени, когда я взял из его руки авторучку и подписался на последней странице: «Макс Питерсон». – Это чудесно, – пробормотал он со странным ирландским акцентом. – Чудесно, мистер Питерсон. – Он закрыл блокнот. – Теперь, если вы не надули меня, мы в деле. Все, что нам нужно, – отыскать миссис Моган, арестовать ее и допросить на основании этого краткого отчета. Тогда мы сможем начать дело против политиков, за которыми мы на самом деле гоняемся. Я вам очень признателен. Может, вы не понимаете, а может, не хотите понимать, но вы сегодня ночью оказали важную услугу обществу. – Он уже потирал руки. – Я и вправду понимаю это, мистер Каллахан. У меня нет никакого желания связываться с преступниками. Если бы я лучше ориентировался в том, что происходит в вашей стране, то не оказался бы в таком положении. – Со своей стороны, мистер Питерсон, я вам очень благодарен. – На его худом монашеском лице появилась ликующая ухмылка, которую он так и не смог стереть. Уходя, Каллахан вручил мне новую карточку. – Если вы попадете в беду, позвоните по этому номеру и попросите Джорджа Каллахана. – Теперь клан будет жаждать крови, мистер Каллахан? Я знал, что пожертвовал многим, лишь бы воссоединиться с моей Эсме. Избиение в пустыре около Уолкера было ерундой по сравнению с жестокими пытками, которыми прославился клан. Хороший друг, но жестокий враг, как говорил Эдди Кларк. По крайней мере, он оказался в тюрьме, хотя ничего не совершил. Он понял бы, в какое положение я попал. Если бы его не предали, меня бы не потревожили ни Министерство юстиции, ни Бродманн; не возникло бы и необходимости зарабатывать деньги на билет для Эсме. Миссис Моган, напротив, заслужила все, что с ней случилось. Никто никогда не обвинил бы меня в том, что я ее предал. Она сбежала из Уолкера, бросив меня на поживу клансменам-ренегатам. И даже тогда, если бы у меня был выбор, я не стал бы свидетельствовать против нее. Но любой разумный человек согласится: если какая-то женщина и заслужила гибели, то это, конечно, миссис Моган. Эсме нуждалась в помощи. Моя невинная сестра, моя дочь, моя любовь! О, я осыплю розами ее ложе. Schönen roten rosen for meyn freydik froy! Moja siostra rozy. Mayn gelihte! Она спасет меня от этих groylik gadles![457] Она откроет правду. Когда она окажется рядом, мои города снова поднимутся в небеса. И я не убоюсь врагов. Die Freunde sind gekommen und die Feinde entkommen![458] Миссис Корнелиус sitzt am Steuer[459]. Она сразу поняла, что я не спал. Хотя моя подруга не любила водить машину, чувствуя, что в таком случае теряет лицо, все-таки ей пришлось сесть за руль, когда мы следующим утром уезжали из города, направляясь в Холлистер. Она была неопытной, хотя и гордой, автомобилисткой; зеленое атласное платье с бахромой почти не скрывало бедер, и ее сильные мускулы напрягались, когда она вела фургон по шоссе, непрерывно выкрикивая проклятия. Однажды миссис Корнелиус сделала паузу, достаточную, чтобы почти сочувственно поинтересоваться, что меня напугало. Тогда я рассказал о визите федерального офицера. – ’от это да! – воскликнула она. – Мы ’се попали в п’реплет. Я и прочие девочки тоже нелегалы, верно? – Только до тех пор, пока я не позвоню по телефону. Этот человек доверяет мне. Я сумел помочь государству в деле национальной важности. – ’от же каким гадством ты занимашся, Иван! – Она резко крутанула руль. – Ты малький черт’в предатель! – Она расхохоталась. – Не, не г’вори мне. Я не спрашивала! Я рассмеялся вместе с ней. Теперь я почти всегда мог угадать, когда она шутила. Из Холлистера я послал Эсме еще одну телеграмму и позвонил своему новому другу Каллахану. Его не оказалось в офисе. Мне дали другой номер. Это было далеко от Нью-Йорка. Выяснилось, что он еще не приехал. Я решил приблизительно через день позвонить снова и помочь миссис Корнелиус. Der Hund verfolgte der Hase[460]. Он уже взял след. Тем вечером мы играли в Берберском театре, и мое выступление, хотя и не столь примитивное, как раньше, снова прошло плохо. Аудитория заметно обеспокоилась. Миссис Корнелиус дважды незаметно пнула меня. Когда мы ушли со сцены, она прошипела: – Если ты хошь пом’нять мое имя с Розы на Эсме, эт’ м’ня не колышет. Но, будь ты ’роклят, делай шо-ни’удь! Они уж начали думать, шо у нас се’о’дня клятая комедия. Я извинился. Я сказал, что она должна понять мои чувства. – Х’рошо п’нимаю, Иван, – жестко сказала она. – Чертовски х’рошо! Теперь я посвящал все свободное время изучению специализированных журналов и поискам возможных инвесторов. Гарантии Каллахана, когда я все тщательно обдумал, оказались не слишком надежными. Все-таки было очень глупо упоминать о Максе Питерсоне. Клан (я об этом помнил) пользовался значительной финансовой поддержкой крупных сельскохозяйственных союзов на Западном побережье. Несомненно, в промышленности сохранялись такие же связи. Я прилагал усилия, чтобы как можно тщательнее играть свои роли, но с каждым днем становился все более и более рассеянным. И с каждым днем, потерянным впустую, снова и снова предавал надежды моей маленькой девочки. Во Фресно госпожа Корнелиус внезапно прервала представление и начала петь свои песни. После этого она не разговаривала со мной целый день. Время подходило к концу, а все мои письма оставались без ответа. Эсме могла подумать, что я ее больше не люблю. Из Мохаве, где мы за день трижды сыграли «Белого рыцаря и красную королеву», я отправил телеграмму, уверяя свою возлюбленную, что все проблемы решаются. Я вел наш небольшой грузовик по белому шоссе, вдоль берега моря, под ярким солнцем Южной Калифорнии. Но в глазах моих была только Эсме. Я уже воображал, как обрадуется всему этому миру моя прекрасная юная жена. Она сядет рядом со мной и возьмет меня за руку, поражаясь невообразимой роскоши природы. Я снова вернусь к научной работе. Вся Америка нас зауважает, мы будем общаться с великими и знаменитыми. Но эта фантазия только усилила мою панику. Я мог лишиться светлого будущего. Мне нужна была финансовая поддержка. Рано или поздно, когда Каллахан схватит миссис Моган, моя жизнь подвергнется опасности. Мне следовало действовать как можно скорее. Единственное, о чем я не сказал Каллахану: где, по моим предположениям, миссис Моган скрывалась. Эти сведения были слишком ценными, чтобы добавлять их к прочим. Возможно, она сменила имя и занялась новой операцией. Поэтому я знал, что может пройти несколько месяцев, прежде чем Каллахан выследит мою бывшую любовницу. За эти месяцы я собирался заработать немного денег, привезти Эсме в Америку, жениться на ней, а затем бежать в Буэнос-Айрес. Там не хватало инженеров, а богачи охотно вкладывали капитал в новые проекты, вероятно, ради повышения престижа Аргентины. Кроме того, многие русские эмигранты уже перебрались туда; их военный опыт и навыки немало помогли правительству. Но всего этого не случится, напомнил я самому себе, если мне не удастся как можно быстрее отыскать того, кого на театральном жаргоне звали «ангелом». Мы остановились поужинать у небольшого прилавка с хот-догами, одиноко стоявшего на пляже. Миссис Корнелиус отвела меня в сторону. – Ты нех’рошо выгля’ишь, Иван. Я еще раз это ’кажу, и ’се. Забудь ее! Я мило улыбнулся своей старой подруге: – Как можно забыть совершенство, моя дорогая, добрая миссис Корнелиус? Забыть девочку, о которой ты мечтал всю жизнь, которую ты считал навеки пропавшей и которая чудесным образом вернулась, – не один раз, а дважды. Это не просто случайность! Я оплакивал свою Эсме пять лет. Я поклялся, что никогда больше не буду оплакивать ее. К ее вечному стыду (она извинилась всего три недели назад в «Элджине»), миссис Корнелиус ответила мне одним из многочисленных новейших американских ругательств. Тогда на меня это не подействовало. Я знал, что в глубине души миссис Корнелиус очень добра; она просто боялась того, что вскоре расстанется со мной. Я мог бы успокоить ее, если б только она меня выслушала. Я любил ее, как буду любить всегда. Но Эсме овладела мной. Я увидел, как моторный катер, ревущий, как недорезанная свинья, подошел близко к берегу, а потом двинулся прямо навстречу прибою и с визгом умчался к горизонту. На палубе стояли двое мужчин. Один держал руль. Второй поднес к глазам бинокль и осмотрел пляж. Я снова подумал о том, всю ли правду рассказал мне Каллахан. Я позабыл спросить его о связи с Бродманном. Совершенно точно, он не возражал, когда я говорил, что ЧК идет по моему следу. Я был уверен, что человек с биноклем – это Бродманн. Миссис Корнелиус думала, что я просто злился, когда гнал ее и всех остальных обратно к фургону. Мои спутники, по обыкновению, веселились и хихикали как дети. На следующий день, незадолго до заката, мы прибыли в Санта-Монику, откуда я снова телеграфировал Эсме, сообщив о своем местонахождении и поклявшись, что скоро она получит билет первого класса. Я настолько разволновался, что подумал уже о продаже фургона, но потом вспомнил свое обещание, данное миссис Корнелиус. Я все-таки не мог пасть так низко. Мы собирались задержаться в Хантингтон-Бич по крайней мере на неделю и, как обычно, устроить тур по ближайшим морским курортам. Это место находилось достаточно близко от Лос-Анджелеса, и я мог сделать его своей штаб-квартирой; отсюда можно было отправляться на поиски потенциальных «ангелов». К утру я написал еще две дюжины более или менее одинаковых писем и при первой же возможности разослал их. Я пытался внушить Эсме, которая находилась за шесть тысяч миль, в Риме, что нужно доверять мне и не падать духом. Я изучил график движения и отыскал несколько кораблей, которые отплывали из Генуи в течение месяца. В следующей телеграмме я перечислил названия и даты и попросил Эсме выбрать, что ей подойдет больше. Это, по крайней мере, должно было убедить малышку в моей искренности. Я никогда не подведу ее – mayn shvester, mayn sibe![461] В тот день мы сыграли первый дневной спектакль в «Знаменитом водевильном театре Мэдисона» на гулком, неровном дощатом настиле. Театр был обращен к большому бетонному молу и песчаному пляжу. Этот курорт показался мне настолько калифорнийским, что я его по-настоящему полюбил. По духу, по крайней мере, он напоминал старую Одессу, вульгарные пригороды у побережья, где играли духовые оркестры и крутились карусели, Фонтан и Аркадию. По утесам тянулись кривые деревянные лестницы, ведущие к пляжам, где огромные горы воды разлетались брызгами, а буруны уносились к самому горизонту. Здесь собирались купальщики, загорали пожилые люди, семьи устраивали пикники под яркими зонтиками, а совсем недалеко стояли массивные, огромные нефтяные вышки, ряды которых тянулись от утесов до океана. Это был настоящий лес, обрамлявший Хантингтон-Бич с обеих сторон. Совсем рядом с источником богатства располагались и средства для его растраты. Галереи развлечений, веселые ярмарки, музыкальные автоматы, киоски с сахарной ватой, журнальные киоски, колеса обозрения, американские горки, туристические катера – все было выкрашено в яркие цвета и становилось еще ярче в дивном свете тихоокеанского солнца, на фоне синевы океана и бесконечности ясного неба. Иногда самолеты проносились над самыми верхушками американских горок. На аэропланах катались взволнованные бабушки и дедушки, ошеломленные дети, испуганные нефтяники со своими счастливыми спутницами, серьезные молодые люди. Иногда скоростные моторные лодки проносились по морю, рассекая волны и оставляя позади клочья белой пены. И постоянно поднимались и опускались нефтяные насосы, крепкие старые машины, похожие на гигантских птиц, клюющих зерно. Вместе с высокими решетками буровых установок они как будто повторяли сцену из романа Г. Дж. Уэллса: марсиане вторгались из океанских глубин и, сбитые с толку, смотрели с любопытством на праздничную толпу, которая видела в них очередную не слишком интересную новинку. Увы, лисички играли, не думая о своей судьбе, как всегда говорил приятель миссис Корнелиус, мошенник Бишоп, приканчивая пятую пинту в «Бленем Армз» в пятницу ночью (это было еще до того, как он перебрался в «Олд Фолкс Хоум» близ Литтлхэмптона). В отличие от Европы, Америка никогда не стыдилась источников своего процветания, разве что в том случае, когда по иронии судьбы они были связаны с пивоварением или перегонкой. Несколько лет назад я познакомился с мистером Шлитцем. Полагаю, молодой человек учился здесь в университете. Он признался мне, что ему не претит то, что именно его предки-пивовары прославили Милуоки; возражал он только против того, что совпадение названия пива и его имени «адски мешало»[462]. Большой Лос-Анджелес ныне занимает четыре тысячи квадратных миль; прежние дома из самана и дерева теперь растворились среди небоскребов, выстроенных по образцам гасиенд шестнадцатого столетия; сверкающая гипсовая отделка прикрыта огромными пальмами, привезенными из Африки и Австралии. Этот город – поистине Zukunft Kaiserstadt Imperye Yishov fun tsukunft![463] Город-император будущего. В сердце его история растворяется, преображается и меняется. Сердце Лос-Анджелеса – не в прохладном спокойствии двадцатипятиэтажного здания муниципалитета, роскошного строения из белого бетона, не на территории Янг-Ha, заставе карфагенских метисов, разрушенной во время междоусобных войн католических солдат-священников; не в смоляных ямах или обсерваториях, не в музеях и университетах; даже не в фантастических культах, которые превращают реальный мир в сферу, заполненную ртутью. Сердце Большого Лос-Анджелеса там, где Вайн-стрит пересекает Голливудский бульвар, в обычном скоплении бизнесцентров, магазинов и кинотеатров. В молодости я воображал, что этот перекресток и окружающее пространство заполняли римские центурионы, испанские религиозные процессии, караваны индийских слонов с огромными слоновьими седлами, над которыми развевались облака разноцветных шелков; армии норманнов и англосаксов, Екатерины Великой, Бисмарка и Наполеона; парижские толпы 1793 года и буйные казаки Стеньки Разина; королевская процессия первого императора династии Мин; ковбои и индейцы; космическая полиция… Недостаток достоверности – важнейшее свойство плавильного котла Америки. Это было смешение времен и культур. Миллионы образов напоминали бесчисленные грани какого-то сверкающего драгоценного камня. Желтые и красные вагоны приезжали и уезжали, исполненные поразительной самоуверенности; электрические и телефонные линии, опутавшие Голливуд, уже сплелись в сложные узоры. Бледные таитянские пальмы покачивались под дуновением легкого бриза вместе с кипарисами древней Иордании, дубами Англии и тополями Роны; все краски в туманных отсветах казались поблекшими. Это освещение придавало окружающим холмам волшебный вид, они как будто дрожали. Казалось, стоит нам переступить какую-то невидимую границу – и мы окажемся в другом месте и в другом времени, а Голливуд исчезнет: шепот в небесах, слабый аромат кофе, красок и свежей древесины. И прежде всего – свобода. Этот город – прекрасная модель моего flitshtot[464], моей надежды. Великому Лос-Анджелесу все пляжные городки казались веселыми акробатами, призванными развлекать повелителя; исключение составлял лишь Лонг-Бич, обидчивый трудолюбивый царедворец, вечно предсказывающий воображаемое будущее столицы. Миссис Корнелиус, Мейбл, Этель, Гарри Хоуп и я (наш бруклинский индеец сгинул в каком-то безымянном заведении) теперь попали в мир движущихся насосов и грохочущих буровых установок, мир кружащихся каруселей, мир хулиганов и шумных толп; но нас все это не волновало. Нас окружали спокойные пейзажи, напоминавшие о детстве, и мы, как всегда, чувствовали, что вернулись домой. Теперь я старался не подводить миссис Корнелиус. Я выкладывался как мог. Ни один казацкий офицер никогда не говорил так яростно и взволнованно, сопровождая свою речь столь значительными жестами. Я кричал, обращаясь к невидимым большевистским ордам: «Назад, трусы! Богом, царем и Святой Русью клянусь, что отомщу некоторым из вас и отправлю вас на тот Последний суд, где вас будут судить и осудят за преступления те силы, которые превыше меня!» Потом меня спасала миссис Корнелиус, облаченная в тунику цвета хаки и колготки; после разговора со мной она понимала, что дело, которому она служит, – неправое, жестокое и губительное. Она чудесно подыгрывала мне, действуя отважно и решительно. Если бы Сесил Б. Демилль оказался в зале, то он, возможно, тотчас предложил бы нам контракты. Я по привычке огляделся, надеясь увидеть Джона Хевера на его обычном месте. Но Хевер покинул нас. Цветов за кулисы больше не приносили. Тем вечером, перед нашим заключительным выходом, миссис Корнелиус находилась в приподнятом настроении. Она оценила мои старания. Она сказала, что я могу быть просто чудесным, когда захочу. Она надеялась, что я перестану выставлять себя дураком и, возможно, еще раз попытаю удачи в театрах на Восточном побережье. Мы могли начать в Атлантик-Сити. Я напомнил ей, что скоро могу сесть за стол инженера, но пообещал не покидать труппу без предупреждения. Мы услышали наше музыкальное вступление и, танцуя, выскочили на сцену, начиная первый номер – «Дьявол прибыл в Россию, и дьявол взмахнул флагом» под музыку «Попарно вошли звери»1. Мы вновь очаровали аудиторию. Мы знали, что находились, как говорится, на взлете. Только когда Этель на фортепьяно начала наигрывать финал, «Молот и Серп не смогут сокрушить и погубить наши сердца» на мотив «Маршем через Джорджию», я вновь огляделся в поисках Хевера, но вместо него увидел в дальней части зала пятерых клансменов в капюшонах. Во рту у меня сразу пересохло. Я с трудом прохрипел последние строки. Ноги задрожали, а в живот как будто воткнули нож. Миссис Корнелиус забеспокоилась. – Ка’ого черта это значит? – прошептала она. Когда зрители засвистели, затопали и зашумели, пять клансменов начали аплодировать. Они хлопали ритмично, чуть медленнее, чем прочие зрители; они продолжали аплодировать, понемногу наращивая скорость, пока один из них не поднял над головой сжатую в кулак руку. «Смерть троим! Смерть еврею, японцу и иезуиту! Смерть иноверцам!» Я решил, что они тотчас бросятся на сцену и попытаются схватить меня. Поначалу мне пришло в голову, что Каллахан меня предал. А теперь, если они не играли со мной в кошки-мышки, я склонен поверить, что видел истинных борцов, Klansmen Alte Kämpfer[465] [466], которые все еще цеплялись за идеалы Umzikhtbar Imperye[467]. Нас дважды вызывали на поклоны, чего прежде никогда не случалось. Мы кланялись и махали руками. С моего лица не сходила идиотская усмешка. Когда мы вышли в третий раз, рыцари ку-клукс-клана исчезли, и зрители покидали маленький зал. – Надеюсь, эти ублюдки не часто та’ое устраиват. – Миссис Корнелиус отпустила мою руку. – Они могли разнести эт’ чертов сарай. У меня были собственные причины желать, чтобы зрители поскорее убрались. В раздевалке миссис Корнелиус заставила меня выпить стакан отвратительного мексиканского бренди. – Ты вспотел, как свиння! Ко’о напугался на сей раз? Этих тупых пидоров в ночных рубашках? ’росто детишки-переростки буянят. – Она засмеялась. – Ты ж не думал, шо это реальные призраки, а? – Миссис Корнелиус плеснула мне в стакан еще немного темно-коричневой жидкости. Начав выпивать прямо в гримерке, мы быстро набрались, как в давние времена на «Рио-Крузе». Мы пели песни кокни, которые она по-настоящему любила и которые по большей части не пользовались популярностью в Америке. Она сказала, что «почти п’жалела», когда Ленин умер. – Не дивлясь, шо он так быстро свалился. Он был просто одержим работой. – Миссис Корнелиус усмехнулась. – И со’сем не думал о людях. Надо признаться, и мой Леон совсем та’ой же, но, клянусь, он справится лучше, если ему дадут шанс. Хоть это ’ряд ли, ведь он же жид. Ее пророчество оказалось удивительно верным. За десять лет Сталин убрал из своего правящего комитета всех евреев. Грузины всегда возвращаются к корням. Нас не удастся обмануть так легко, как этих московских интеллектуалов. Я напомнил миссис Корнелиус, что не испытываю ни малейшего сочувствия к большевикам. Все они просто злобные серийные убийцы. Одурманенные наркотиками безумцы. Она кивнула в знак согласия, как будто полагала это само собой разумеющимся: – Да. – Она, казалось, ждала дальнейшего развития темы, но я уже сказал все, что следовало. – О да, они т’кие, – подтвердила она. Миссис Корнелиус развалилась на крошечном туалетном столике, не сняв хаки и высокие сапоги, и начала ностальгически вспоминать о том, как мы впервые встретились в приемной одесского дантиста. Она прилично выпила и поэтому не смогла вспомнить, где мы столкнулись во второй раз. Я напомнил, что она была в Красной армии Троцкого. Она спасла мне жизнь в Киеве и посадила меня в поезд, который по стечению обстоятельств привез меня к Эсме. Она улыбнулась и коснулась пальцами моей щеки: – Какая мы занятная парочка, а? – Не очень, – сказал я. Она расхохоталась. Die Rosen wachsen nicht in den Himmel. Esmé, mayn fli umgenoyenist. Bu vest körnen. Hob nisht moyre. Vifl a zeyger fort op der shif keyn Nyu-York? Vifl is der zeyger? S’iz heys. ikh red nit keyn Yiddish! ikh red nit keyn Yiddish! Blaybn lebn… Mayn snop likht in beyn-hashmoshes… Es tut mir leyd. Esmé! Es tut mir leyd![468] Nekhtn in ovnt…[469] На следующий день я снова играл превосходно. По крайней мере, в своих собственных глазах мы стали прекрасным сценическим дуэтом, романтической парой, подобия которой теперь можно часто увидеть на экране. Белый рыцарь и красная королева казались почти реальными. Иллюзия передалась и нашей аудитории – простые люди, что бы ни говорили циники, умеют ценить серьезные эмоциональные драмы, – и это также ослабило мою уже привычную тревогу, вызванную мыслями об Эсме. В результате я почти привязался к этой роли и с нетерпением ожидал наших шоу – ничего подобного прежде не случалось. Пришла телеграмма из Тиволи: название корабля не имеет значения. Самое главное – плата за проезд. Эсме любила меня и хотела увидеться вновь. Я уверен, что хочу нашей встречи? Ikh farshtey nit. Firt mikh tsu, ikh bet aykh, tsu di Heim. Khazart iber, zayt azoy gut[470]. Я не понимаю. Я ответил обратной почтой, что деньги вот-вот поступят, а я считаю часы, оставшиеся до нашей встречи. Во время вечернего шоу я испугался, заметив Джона Хевера на его обычном месте у сцены; он едва не пускал слюни, охваченный безумной страстью к миссис Корнелиус. Ивсе же я почувствовал некоторое облегчение, увидев его. Мы выступали просто прекрасно. У Хевера, должно быть, вздулись волдыри на ладонях – так сильно он хлопал. Он точно по часам подошел к служебному входу, где я вовремя преградил ему дорогу. Я, как обычно, взял дорогие красные и белые розы и визитную карточку цвета слоновой кости. Он был нетерпеливым, простодушным мальчиком; его страсть становилась все сильнее. Хевер обещал все что угодно за знакомство с моей партнершей. Она никогда не играла так блестяще. Она – английская Бернар. Она – само совершенство. – Пожалуйста, поймите, сэр, что я никогда ничего подобного прежде не делал. Я не просто поклонник у служебного входа. Я влюблен, сэр. – И тут его осенило (довольно поздно, по-моему). – Боже мой! Вы ведь не ее муж? Я провел большим пальцем по рельефной надписи на карточке. – Миссис Корнелиус – вдова. Она по этому поводу высказывалась несколько туманно. Я вспомнил о том, сколько времени мы провели за разговорами о кино. Хевер продемонстрировал превосходное знание европейских фильмов. Теперь он с энтузиазмом и слезами в голосе рассуждал о том, что миссис Корнелиус суждено стать кинозвездой. Я сказал, что передам и пожелания, и розы. Он извинился, что пропустил наши предшествующие шоу. – Я только что приобрел долю в кинобизнесе. Думаю, что могу быть вам полезен. Я могу предоставить всю студию в ваше распоряжение. Как нелепо, что именно таким оказался «ангел», о появлении которого я молился всего несколько недель назад. А в целом Городе Ангелов ни одна проектная фирма не ответила на мои письма. Мне пришло на ум, что можно попросить взятку за то, чтобы провести его в гримерку миссис Корнелиус. Как еще (исключая воровство) я мог сдержать слово, данное Эсме? Но только дурак стал бы таскать с собой наличными сумму, которой хватило бы на билет первого класса из Европы. У меня сложилось впечатление, что мистер Хевер, как он ни был ослеплен страстью, прекрасно знал цену деньгам. Однако теперь я мог представить, как выживет миссис Корнелиус, оставшись одна, без моей поддержки. Я не знал, что собой представляет доля Хевера – акции какой-то никчемной местной компании или пятьдесят процентов «Фокс», – но постарался как можно вежливее выпроводить его. Я испытывал определенное сочувствие к человеку, охваченному навязчивой идеей. Я посоветовал ему зайти завтра после нашего дневного спектакля, к тому времени я надеялся получить какой-нибудь ответ. Он так униженно благодарил, что мне стало противно. На сей раз я отдал его карточку миссис Корнелиус: – Думаю, что завел полезное знакомство. Этот человек может помочь вам с работой в кино. Она покачала головой: – Никада про его не слышала. – К тому времени она уже держала в голове имена всех важных людей в Голливуде. – Не надо недооценивать Хевера. Он только что вошел в бизнес. Я точно знаю, что он увлеченный человек. Во всяком случае, он может обеспечить хорошую подготовку шоу. Мы заработаем приличные деньги. Она подмигнула мне: – Тут шо-то для тьбя есь, Иван? – Она обдумала мои слова. – Но ты знашь мое правило: «Не продавай дешево то, шо тьбе нишо не стоит» и «Зря одежу не сымай». Я обиделся. – Я просто предлагаю встретиться с ним. Он очень приятный парень. Я не прошу вас заниматься проституцией! – А ’от на свой счет я не очень уверена, – сказала она. – Эт’ запах денег творит со мной ’транные вещи. Я решил, что смогу раздобыть денег, продав свои грузинские пистолеты. В конце концов, у меня не осталось больше ничего ценного, а нувориши Лос-Анджелеса, по слухам, платили просто огромные суммы за то, что теперь называлось подлинным антиквариатом. Я сказал об этом миссис Корнелиус. Она пожала плечами: – Без толку. Ты ведь немного гордишься ими. Вроде талисманов, верно? Г’това поклясться, эти пист’леты ’рострелили немало еврейских задниц. А впрочем, делай как знашь. Она не хотела мне помочь. Я придумал и другой вариант – отправиться в ссудную кассу и узнать, смогу ли я получить деньги под залог шоу. Никому об этом знать не стоило, но, согласно подписанному нами клочку бумаги, за свои пятьсот долларов я получал «исключительные права». Теперь я пребывал в ужасном состоянии – паника, гнев, разочарование и страдание смешались. Я мечтал о своей Эсме. Это было бы настоящим самоубийством – подвести ее и в результате потерять. Как будто убить ребенка. Wie heisst dieses Lied?[471]Глава двадцать первая
Я играл все лучше, одновременно погружаясь в пучину скорби и отчаяния. В тот краткий период своей жизни я превосходил всяких там Бэрриморов. Еще немного – и мы бы сделали настоящую карьеру. Тем не менее меня очень радовало, что на наших шоу не появлялись поклонники из числа клансменов! Если бы хоть один человек меня узнал, мне не удалось бы избежать приглашения на «ночную скачку». Я видел, что случалось с предателями. Клансмены прибивали их яйца к дереву, зажигали внизу огонь и вручали нож, приказывая: «Режь или сгори!» Я сталкивался с подобными ужасами только на Украине, где такие же скоты заживо снимали с людей кожу и жарили младенцев на листах железа. Именно они и были охранниками в Освенциме. Есть такие украинцы, о существовании которых предпочитают не вспоминать. В конце дня я, как обычно, увидел мистера Хевера – он дрожал и краснел, готовый провалиться на месте в ожидании ответа. Я сказал ему, что миссис Корнелиус не любит, когда нарушают ее уединение. – Я понимаю, – сказал он несколько раз. Отчасти из любопытства, отчасти потому, что мне все еще хотелось вытянуть из него немного денег на оплату билета для Эсме, я попытался разговорить Хевера. Много ли он путешествовал? Давно ли обитает в Калифорнии? Где он проживает постоянно? Что он думает о политической ситуации? Странно, что такой крупный человек оказался таким неловким. Преждевременно поседевшие волосы, тонкий голос, непреодолимое смущение – все в нем вызывало жалость. Хевер отказался от путешествий, предпочитая пользоваться телефоном. Он жил «на холмах», но каждый день садился в автобус и отправлялся на работу. Хевер был верным республиканцем, как и его отец. Он почти всю свою сознательную жизнь провел в этом штате и считал, что партия республиканцев больше других сделала для Калифорнии. Эти слова мне многое объяснили – особенно если вспомнить, чем интересовался Хевер всего пару лет назад. Мне показалось, что он тоже захотел окончательно освободиться от этого нового эрзац-клана, отринувшего былые идеалы ради блек-джека, побоищ и кнутов. Я разделял взгляды Хевера. Тем не менее я не мог выбросить из головы совершенно недостойную мысль: если он вспомнит о нашей встрече в Атланте, то смутится куда больше меня. Я сказал, что, прожив здесь так долго, человек неизбежно начинает испытывать интерес к кинобизнесу. Хевер пожал плечами, заметив, что фильмы – «в некотором роде хобби». Его работа не имела ничего общего с кино. Он был инженером. Я, разумеется, уже знал об этом. – И в какой сфере? – Мне было любопытно, скажет ли он правду. – Нефть, – ответил он. – Вы работали в крупной компании? – Пожалуй, да. Ему не терпелось сменить тему и вернуться к разговору о миссис Корнелиус. Однако я внезапно превратился из ловца-любителя в настоящего игрока-профессионала. Передо мной стоял человек, который мог познакомить меня с большими шишками! Если действовать осторожно, я сумею помочь миссис Корнелиус и в то же время самому себе. Прискорбно, что я больше не мог намекать на связи клана – мы оба о них не упоминали. Я заметил, однако, что Хевер старательно избегал разговоров о политике. Меня это удивило. Я обдумывал, что делать дальше. Я с трудом сдерживался: мне очень хотелось прямо здесь открыть свою папку и сунуть бумаги ему под нос. Я хотел показать Хеверу чертежи. Я знал, на профессионального инженера произведет впечатление то, что многие любезно называли моей «гениальностью». Откуда ему было знать, что театральный актер окажется выдающимся ученым? Это просто бессмысленно. С какой стати ученый захочет вступить в труппу странствующих актеров? А с какой стати, подумал я, инженер-нефтяник будет тратить деньги на производство фильмов? Возможно, он меня поймет. Но при всем своем оптимизме я решил пока сохранить тайну. Вместо этого я спросил, могу ли я передать какое-то послание (вместе с отвратительным букетом из черных и красных гвоздик) прекрасной даме. – Если она захочет исполнить мое главнейшее желание, – безнадежно пробормотал он, – то пусть примет приглашение поужинать сегодня в отеле «Голливуд». Я попытался сохранить серьезный вид и заявил, что попробую сделать все возможное. – Убедите ее, что мои намерения благородны! – Он с каждой секундой волновался все больше. – Думаю, она в этом совершенно уверена, мистер Хевер. Я отнес его цветы в комнату великой актрисы. Она заинтересовалась ими раньше, чем я успел что-то сказать. – Ка’ого черта они п’красили их в та’ой цвет, Иван? Я попросил ее внимательно выслушать меня. Хевер – состоятельный человек с превосходными связями в обществе, компаньон на киностудии. – Я советую вам, ради нашей общей выгоды, принять его приглашение. Отель «Голливуд» – место, где обедают самые важные люди. Вы же читали журналы. Разве вам не интересно? Боже, мне жаль, что он любит не меня. Я ухватился бы за эту возможность! Она рассмеялась, и ее гнев понемногу угас. – Иван, я ’се еще думаю, шо ты ’родаешь мое тело, как малький сутенер. – Он настаивал, что у него благородные намерения. – Это не черт’в трах, Иван, – сказала она устало. – Я не могу вынести ’роклятой скуки. Х’рошо, я пойду. Это не нормально, Иван. Обычно, если я только п’думаю поужинать с ка’им‑то парнем, ты сразу корчишь свои треклятые рожи. – Я думаю о вашей карьере. Она вздохнула: – Я чувствую, шо узнаю о твоих планах только тада, када он заг’врит! Тащи е’о и п’торопись. Она чопорно расправила кимоно и розовыми пальцами пригладила кудряшки. Она уже подсознательно источала сексуальность такой силы, что я с трудом выбрался из комнаты; потом я закрыл дверь, расправил плечи и медленно направился к дневному свету и неопрятному существу с коровьими глазами, которое застыло у входа. – Миссис Корнелиус передает вам наилучшие пожелания, – сказал я. – Она будет рада увидеться с вами через пять минут и договориться о сегодняшнем ужине. Я почти втащил бедного монстра в комнату его обожаемой мадонны. Миссис Корнелиус с радостью позволила мне присутствовать при разговоре. Она явно сочла Хевера очаровательным, и почти все ее высокомерие исчезло к тому времени, когда она простилась с гостем. Моя подруга с нежной улыбкой сказала, что встретит его у выхода после нашего вечернего представления. Он покачнулся, едва не сломав дверь. – Он милашка, – сказала миссис Корнелиус. – И шо ты хошь от м’ня се’одня вечером? Шобы я обчистила его карманы? – Конечно, нет. Просто упомяните о том, что я – опытный инженер, что у меня есть патенты на несколько изобретений, которые могут сэкономить деньги в нефтяном бизнесе, что я получил образование в Санкт-Петербурге и работал в серьезных компаниях во Франции, Мемфисе… Она приподняла пухлую руку. – Притухни, Иван, бога ради. Я не упомню ’сю твою биографию. Думать, тьбе от это’о шо-то п’репадет, так? – У него, судя по всему, есть связи с важными людьми в нефтяной отрасли. Мне нужна только рекомендация. – Ты уверен в этом? – Клянусь! Она подняла брови: – Оки-доки, если ты так г’воришь. Твои идеи обычно не так ’росты. Шо мы творим ради черт’вой любви! В тот вечер на сцене я вновь старался изо всех сил. Миссис Корнелиус играла великолепно. Дружище сидел в кресле, извиваясь, дрожа от восторга, не в силах поверить, что его мечта вот-вот осуществится. Нас трижды вызывали на поклоны (на сей раз без помощи клана), и мы удалились в приподнятом настроении. – Ты ’росто из кожи вон лез, Иван. Должна ’ризнать, я не думала, шо ты так смож. ’должение за ’должение, как я засе’да г’ворю. Собираясь в ресторан, она постаралась одеться получше, даже достала одну из своих шляпок из зеленого и желтого атласа. Миссис Корнелиус облачилась в темно-синее платье, расшитое светлым бисером у горла, на плечах и на коленях. Желтые туфли прекрасно сочетались со шляпкой. – Шо думать, Иван? – Миссис Корнелиус явно восхищалась собой. – Просто п’трясно, это я тьбе г’ворю! – Она глубоко вздохнула – так, что платье на груди едва не разорвалось. – Ну шо ж, за дело. Уви’имся позже, надесь. Она положила руку на бедро, пародируя жесты современных манекенщиц, подхватила блестящую, синюю с черным сумочку и, пританцовывая, умчалась на свидание. Как только она ушла, я начал волноваться. Я то и дело скрещивал пальцы, а потом разводил руками, потому что чувствовал себя очень глупо. Я думал, что сойду с ума, просто ожидая новостей; потом я направился в соседнюю комнату, где Мейбл и Этель поправляли чулки, и спросил, какие у них планы. «Ничего особого», – сказала Этель. Она толкнула в бок свою подругу. Раньше им всегда нравилась наша «возня». Хорошенько накрасившись и надев туфли на высоких каблуках, эти тощие девчонки становились почти привлекательными. Я подхватил их под руки и повел по дощатому настилу через ярко освещенную ярмарочную площадь. Море было черным и спокойным. Я услышал ровный гул нефтяных насосов и подумал о том, сколько влюбленных прячется под покровом шума и темноты. Хантингтон-Бич был просто великолепен; жизнь здесь кипела. Огромные грубо нарисованные головы взлетали над балаганами, откуда доносились треск, гром или звон крошечных колокольчиков. Зазывалы что-то вопили на своем языке, более древнем, чем язык цыган, и танцовщицы, еще менее привлекательные, чем мои спутницы, извивались и трясли своими ничтожными выпуклостями под звуки какого-то fartsayrik цилиндра Эдисона. Запах нефти доносился с пляжа и смешивался с вонью бензина на территории ярмарки, с запахами гамбургеров и хот-догов, глазированных яблок, розовой сахарной ваты и сахарных палочек. Земля кое-где была покрыта неровными дощатыми настилами; там, где становилось слишком грязно, она превращалась в настоящий музей калифорнийского мусора – яркие краски бутылок, коробок и бумажных пакетов уже начинали тускнеть. Мои партнерши по сцене снимали комнату вместе с миссис Корнелиус. Я решил, что будет неблагоразумно идти туда, – вдруг свидание закончится преждевременно. Я отвел их в свою комнату, которую снимал в доме неподалеку от ярмарки. Казалось, мы никуда не уходили. Огни вспыхивали и мигали, автоматически повторялась мелодия вальса, будто доносившаяся из другого, более галантного века, и худощавое, почти бесполое тело Этель поднималось и опускалось на моем по ошибке обрезанном члене, а в это время Мейбл (что было для нее необычно) присела надо мной, а потом, чуть слышно застонав, прижала взмокшую киску к моим губам. Я старался как мог, а потом почувствовал, что задыхаюсь, Я не забыл Эсме. Я представлял ее нежное, невинное личико как раз тогда, когда Мейбл устраивалась у меня на плечах. Удивительно, как сильно Эсме походила на Лилиан Гиш. Она без всякого труда добилась бы успеха в кино, стоило ей только захотеть. Я уже начал надеяться, что смогу открыть сразу двух замечательных новых звезд. Я хотел остаться актером, искушение было очень сильным, но я больше не мог противиться своей судьбе. Я мог предложить миру другие дары: Luftshif1, лодки, технику. В конечном счете они пробудили мечту о безграничной свободе, о моих воздушных городах. Eybik, fargesn, ikh blaybn lebn [472] [473]. Я проводил дам в их пансион, расположенный в нескольких кварталах от моего. Они приготовили мне кофе и начали болтать о просмотренных фильмах, знакомых мужчинах и занятных рекламных объявлениях. В три часа утра они вместе улеглись и заснули. Миссис Корнелиус, вернувшись, слегка удивилась, когда увидела меня в комнате. Она вздрогнула и громко икнула. – Прости, Иван. А ка’ого черта ты делашь в моей комнате? – Я хотел услышать, как все прошло. – Ты мне не бабуля. – Она нахмурилась. – Я п’ка не на твоих условиях работаю. – Потом она усмехнулась и сняла шляпку. – Он милашка, взаправду. Мягкий как масло, да! Не коснулся м’ня и пальцем, как он казал. – На нее это произвело впечатление. – И он устроил просмотр со своими партнерами по «Ласки». Я не жалусь. Но эт отель ’се-таки сарай. Я думала, бу’ет шо-то повеселее. П’веришь ли, ника’ой черт’вой выпивки. Женщина, к’торая там заправлят, – бывшая бандерша, я уверена. Я был по-настоящему рад за нее, но следовало выяснить, как решилось мое дело. – Вы смогли замолвить слово о моих изобретениях? Миссис Корнелиус села на свою узкую кровать и начала аккуратно снимать тонкие шелковые чулки. Она стала пунцовой. Кровать дрожала и скрипела. Миссис Корнелиус чуть слышно рассмеялась: – Тьбя можно читать как черт’ву книгу, Иван. Честное слово, я не могла настаивать! Если тьбе нужен инж’нер, у к’торого есть свободная наличка, то это Джон Эварт Хевер-младший. Он не просто черт’в миллионер, у к’тороо нефтяные вышки по ’сей К’лифорнии и Тьхасу. Его черт’в папаша тоже миллионер. А вдобавок есть Джон Эварт Хевер-старший, клятый дядя-миллионер. Када они хотят заняться благотворительностью, то садятся в большой «роллс-ройс», валят к Уильяму Рэндолфу Херсту и смо’рят, как жи’ут бедняки. – Миссис Корнелиус просто наслаждалась моим удивлением. Она погладила меня по руке. – Не буду г’ворить, шо не благодарна тьбе за знакомство, Иван. Дружище считат, шо он главный кандидат от республиканцев на место губернатора, на следующих выборах точно, ’редставь, шо я буду первой леди штата! – Миссис Корнелиус больше не смогла сдерживать смех и разбудила своих соседок, которые потребовали, чтобы она заткнулась. – Но вы не упоминали обо мне? – Завтра мы опять обедам. В ка’ом‑то месте у Лагуна-Бич, кажись. Рыбный рест’ран. ’се по-х’рошему, а? – Она снова подмигнула. – Мне же надо было оценить активы, как г’ворится. Но я ’се сделаю завтра вечером, Иван, обещаю. В эт раз просто нишо б не вышло. П’ка, д’рогуша. Уви’имся на шоу. Мне ж надо как следут выспаться, верно? И, пропев пару строк из «Разобьем их на Олд-Кент-роуд», она указала мне на дверь. Я ушел с чувством, что миссис Корнелиус не вполне осознает всю серьезность ситуации, в которой я оказался. Меня обрадовало, что у нее все складывается хорошо и что состояние Хевера так велико, но по некоторым причинам моя паника усилилась. Возможно, я заподозрил, что она может предать меня (мне не следовало даже думать об этом!) и не захочет ни с кем делить деньги Хевера. Подобно индейцу, который выследил последнего буйвола и отказывался рассказывать об этом соплеменникам. Хевер принадлежал мне точно так же, как и миссис К. Вот почему следующим утром я сел в большой вагон «Ред кар», который с грохотом помчался по прибрежной дороге к Марина-дель-Рей. Неподалеку от большого крытого павильона «Венеция» я пересел в желтый автобус, едущий в сторону от побережья. Эта система общественного транспорта казалась мне замечательной, она могла бы стать образцом для большинства других городов. Хантингтонские вагоны строились в Сент-Луисе, проект был просто великолепен, а сами машины сделаны на века. Их назвали в честь владельцев линии, старинной богатой семьи, поселившейся в Калифорнии еще во время правления испанских донов. Я видел едва ли не последний рейс большого серебристо-серого «Похоронного вагона», последнего в своем роде[474]. Не способные конкурировать с быстро умножающимися автомобилями, они исчезли буквально в течение года. Разыскать «Юго-Западную минеральную компанию» оказалось несложно. Она занимала целое здание на бульваре Уилшир. В нем было около двадцати этажей, и оно стояло посреди небольшого парка. Я назвал свое имя клерку у внушительной стойки администратора, занимавшей почти весь первый этаж. На клерка произвело немалое впечатление то, что меня пригласили прямо наверх. Симпатичная секретарша встретила меня у лифта и повела по прохладным серым коридорам, уставленным горшками с пальмами и папоротниками. Наконец мы добрались до распахнутой настежь массивной двери. В кабинете сидел сам Дружище, как всегда неопрятный, в светлом костюме. Хевер едва не сдавил меня в объятиях – как будто слоненок поднялся на задние ноги, подражая человеку. – Счастлив вас видеть, Палленберг. – Даже в привычном окружении он волновался и говорил, запинаясь и сопровождая речь неловкими движениями. – Ничего дурного не случилось, надеюсь? Он был бледен как мел, когда неуклюже вел меня мимо роскошной мебели красного дерева к своему старинному столу. Из окна открывался вид на морское побережье. Отсюда город казался каким-то странным, незавершенным, как мозаика: неровные участки зелени, резкие асимметричные пятна грязи и аккуратные квадраты сияющего бетона. Как будто в этой части Лос-Анджелеса продолжались некие органические изменения. Хевер повернулся к окну спиной, одним коротким неверным жестом предложив мне стул, сигару и шипучку. Я опустился в глубокое кожаное кресло и встретился взглядом с взволнованным хозяином кабинета. – Вы принесли сообщение от миссис Корнелиус, верно? Я пожал плечами, улыбнулся и покачал головой: – Она сказала, что все прошло чудесно. Она с нетерпением ждет сегодняшнего вечера. Лагуна-Бич? Я сомневаюсь, что вам теперь понадобится мое посредничество, мистер Хевер. Миссис Корнелиус – самостоятельная женщина. Он повернул голову набок – похоже, так выражалось одобрение и согласие. – Самостоятельная. – Хевер просиял. Он перешел к любимой теме: – Женщина, наделенная множеством чудесных дарований. – Хозяин кабинета радовался, как маленький щенок. – Я думал, вы пришли сюда сообщить, что я провалил вступительные экзамены. Она не самодовольная дура, эта девушка. Прямо вам скажу, Палленберг, я не очень-то хорошо умею ладить с дамами. Он вздохнул и расслабился: похоже, Хевер считал, что только что сделал смелое признание. Он развалился в кресле и явно ждал моего ответа. Я встречался с подобными личностями и прежде, но он был первым миллионером, попавшимся на моем пути. Хевер совершенно не соответствовал моим ожиданиям – я считал, что человек, управляющий тысячами судеб, должен выглядеть и действовать совершенно иначе. Думаю, никому не следовало говорить ему, какой властью он наделен: он просто окаменел бы от ужаса, пытаясь понять, чего от него ожидает такое множество людей. Хеверу нелегко было управиться и с одним собеседником. Переходя к цели визита, я чувствовал себя настоящим убийцей, и все же решил продолжить разговор – ради Эсме. – По правде сказать, мистер Хевер, мы с вами уже встречались. – Я замялся. – Мы тогда говорили немного об инженерии будущего, но главным образом о нашем общем интересе к кинематографу. Я помню, что вы называли некоторых немцев. Пабста? Мурнау? Он впился в меня взглядом; ужас был просто нескрываемым. – В Кланкресте. В Атланте, мистер Хевер. На вечеринке у Эдди Кларка пару лет назад. Вы сказали мне, что сделали большое пожертвование на нужды клана. Внезапно его массивное тело подлетело, как обезумевший воздушный шар. Прикрыв голову рукой, он с ужасом уставился на меня. Бледность быстро сменилась густым румянцем. Потом Хевер сделал очень глубокий вдох и вцепился в край стола. – Миссис Корнелиус знает об этом? – С чего бы? – Так она… – не проговорил, а скорее простонал Дружище. Очевидно, он подумал о том, что любовь всей его жизни пошла на свидание только для того, чтобы помочь мне. Еще один глубокий вдох. Он начал бесцельно ходить по ковру – как будто слон в поисках слоновьего кладбища. Я быстро заговорил, не отрывая от него взгляда: – Мистер Хевер, сэр. Думаю, что у вас сложилось ошибочное представление… – Вы ведь не шантажируете меня, Палленберг… О боже. – Он словно поднялся на небеса и обнаружил, что там уже поселился дьявол. Я хотел пожать ему руку и заверить, что его счастью ничто не угрожает. – Дружба миссис Корнелиус очень много для меня значит. Вы не знаете, что мне пришлось пережить… – Он снова извинялся за то, что говорит о себе. Я был оскорблен. – Не стану отрицать, что мое финансовое положение весьма печально, мистер Хевер. Но, – я продемонстрировал хорошее знание местного сленга, – ад замерзнет прежде, чем я попытаюсь занять денег у друга. Пожалуйста, расслабьтесь. Я знал, насколько он возбужден. Он все еще не мог поверить в свою удачу. Он родился миллионером и не видел в жизни ничего, кроме хорошего, – и все же боялся, что у него украдут счастье, точно так же, как ребенок из трущоб Киева, который знал по собственному опыту, что нет ничего важнее счастливого случая. Хевер почти поверил, что его мечта рухнула. Я продолжал: – Все, что я говорю в этой комнате, останется между нами и никогда не дойдет до миссис Корнелиус. Какие бы ни были у вас отношения – я не стану их разрушать. Хевер посмотрел на меня с тем же самым выражением благодарности, которое появилось на его лице, когда я впервые пообещал ему встречу с обожаемым идолом. Но он недоумевал: – Тогда зачем вы здесь? Дружище только начал любовную игру и теперь не замечал всего остального мира и его обитателей. – Думаю, вам следует знать, что Министерство юстиции заморозило мои активы на неопределенный срок. Если кого-то и шантажируют, то именно меня. Я – их главный свидетель в деле против клана, который может разоблачить почти всех тайных сторонников ордена в стране. И я не преувеличиваю. – Вы знаете, что я ожидаю назначения на губернаторский пост в следующем году? – Хевер прищурился, как будто изучая неясное будущее. – Да. Я просто хотел, чтобы вы не теряли уверенности. Я не сдамся, в каком бы отчаянном положении ни оказался. Но это – крушение моей карьеры. – Вы блестящий актер, мистер Палленберг. Я горько рассмеялся, взял свою шляпу и встал. – Это ирония судьбы, мистер Хевер. Это все, что мне остается в настоящее время. Если вы помните нашу беседу в Кланкресте, я прежде всего ученый. Я рассказывал вам о некоторых своих идеях. Вы говорили, что они произвели на вас впечатление. На мгновение он вспомнил о том мире, который существовал до встречи с миссис Корнелиус. – Какой же я дурак! Конечно! Вы были тем молодцом, который предложил накрыть крышей всю Айову! Извините меня, мистер Палленберг. Я сегодня как в тумане. – Улыбка на его лице появлялась и исчезала. Он протопал по комнате и во второй раз пожал мне руку. – У вас были и другие идеи. Я помню, что посчитал вас единственным умным человеком на том унылом сборище. Как же вы стали актером? Я думал, что вы теперь большой человек в ку-клукс-клане. Даже не говорите! Мне очень стыдно. Они меня водили за нос несколько месяцев. Жаль, что я не смог вернуть свои деньги. Вы пришли предупредить меня, верно? – Боюсь, мы с вами в одной лодке. – Я рассказал ему часть своей истории. Он слушал с серьезным и тупым сочувствием. – Вот так, – закончил я, – отличный ученый стал третьесортным актером. Что бы ни случилось, мистер Хевер, вашего имени я никогда не назову. Жирная нижняя губа Хевера дрогнула. Он испытывал приступ сентиментальности. Дружище сказал, что я настоящий человек. Какую помощь он мог мне оказать? Какие эксперименты я проводил, когда клан меня похитил? Я рассказал ему о своем газовом автомобиле, новом методе очистки нефти и всасывающем насосе. Он выразил восторг. Я показал немного грубых набросков, которые принес с собой, и объяснил, что был вынужден сменить имя. Все патенты были выписаны на имя Пятницкого. Он изучил их, время от времени вежливо кивая и задавая вопросы. Я поздравил себя: мы достигли взаимопонимания. Прежде чем покинуть офис Хевера, я услышал очень много громких слов о достоинствах миссис Корнелиус, о его собственных недостатках и о моей гениальности; в итоге он смог меня поддержать. Я получил проект контракта с инженерной компанией «Золотой штат» (подразделением империи Хевера) и кассовый чек на две тысячи пятьсот долларов, мой аванс от первого гонорара в десять тысяч долларов. Я потребовал зарплату двести долларов в неделю. Моя должность, главный инженер-экспериментатор, была обозначена в контракте. Когда мои изобретения начнут приносить доход, я получу пятьдесят процентов чистой прибыли. Жизнь начиналась снова. Эсме вот-вот приедет! Ich kann ohne dich nicht leben. Я не сделал ничего дурного! Все было ради общей выгоды. Du wirst mich minieren, mein Schatz, meine Geliebte. Я не мог ничего поделать. Es ist zu spät. Ich kenne mein Schicksal. Zu spät für den Seelenfrieden! Wir kämpfen nur, um ein gewisses Gleichgewicht aufrechzuerhalten[475]. Я, подобно изобретателю эпохи Возрождения, нашел могущественного покровителя, вот и все. Миссис Корнелиус скоро стала постоянной спутницей Хевера. На страницах, посвященных светской жизни, печатали ее фотографии и называли английской красавицей и дочерью крупного банкира. В ближайшие две недели мы подписали документы, передав права на «Англичан в свете рампы» Этель, Мейбл и Гарольду Хоупу вместе со всем реквизитом, фургоном и достаточной суммой денег, чтобы девочки могли вернуться в Англию, если пожелают. У них теперь были настоящие визы. Обе сказали, что хотят остаться в Калифорнии. Мейбл заявила: если миссис Корнелиус сделала это, то и у нее есть шанс, «пусть даже удастся отыскать только богатого киномеханика!» Миссис Корнелиус готовилась к первым кинопробам на студии «Ласки»; фильм назывался «Сельма и виноград». Моя подруга шепнула мне, что Дружище – самый милый миллионер из всех, каких она видела, и настоящий джентльмен. Она поблагодарила меня за настойчивость, которую я проявил, когда зашла речь о первом свидании. – Ты для ’сех нас сделал тогда много х’рошего, Иван! Она даже простила мне то, что я сговаривался с Хевером за ее спиной. (Она просто не понимала, насколько должна быть мне благодарна!) Миссис Корнелиус, по ее словам, удивилась, когда Хевер поддержал мой план. Обычно он вел дела медлительно и осторожно. Я бывал у нее в номере в отеле «Беверли-Хиллз». Иногда я катал свою подругу на машине по прекрасным лесистым дорогам близ отеля. У меня появился вполне приличный зеленый с золотом «пежо‑163». Эту роскошную «торпеду» мне предоставили, когда я подписал свой последний контракт. Мне нравилась роскошь псевдоиспанского дворца, в котором поселилась миссис Корнелиус, я парил среди розовых и бледносиних облаков, как будто заполнявших огромные комнаты. Облаченный в новую одежду (джодпуры[476], сапоги для верховой езды и аскотский галстук – так одевались почти все автомобилисты), я валялся на диванах в отеле; я проводил у своей подруги немало времени. Мой собственный уютный домик располагался в приморском пригороде Венеция, поблизости от Гранд-канала. Я просто наслаждался голливудской экстравагантностью. Где еще можно было отыскать такую копию европейского города, в которой причудливое сочетание дерева и кирпича заменяло камни оригинала? Голливуд уже тогда начал влиять на всю Южную Калифорнию. Он стал духовным и культурным центром Лос-Анджелеса. На многие мили вокруг вырастали целые городки, которые никогда не появились бы, если б не фантазии и таланты киношных декораторов. В тех местах дожди шли редко, и продуманные архитектурные фантазии можно было создавать дешево и быстро. В Голливуде все могли подражать богачам. Голливуд построил первую в мире истинную демократию. Мы с миссис Корнелиус – по разным причинам – испытывали настоящий восторг. Утром я купил билет Эсме, а потом позвонил госпоже Корнелиус, чтобы сообщить ей новости. Она посоветовала не пересылать Эсме наличные. Ведь деньги могли снова украсть. И я послал своей девушке не подлежащий возврату билет первого класса на «Икозиум», который отплывал из Генуи 21 июля. – Заказное письмо с уведомлением, – сказал я. – Оплачено наличными. Как прекрасно, что у меня снова есть деньги! – Ты мерзкий мелкий педик, – нежно сказала миссис Корнелиус. Она примеряла обновки перед огромным, во всю стену, зеркалом. – Я думаю, шо мы – птицы невысокой п’лета, я и ты, Иван, ’от п’чему ’сегда бу’ет ошибкой сам знашь шо. Я улыбнулся, не вполне соглашаясь с ней. – Мы бы ’десь не оказались, – заметила она, – если б слишком далеко зашли. – Она поправила длинный шарф, обмотанный вокруг талии. Шарф был алым, а атласное нижнее белье – бледно-зеленым. – ’от п’чему ты так волно’вался весь день. – Она поцеловала меня в лоб, потянувшись за головным убором из ярко-синих страусиных перьев, лежавшим у меня за спиной. – Ах, х’рошо. Кто-то ж должен помочь тьбе ’се это потратить, а? – За время интрижки с Хевером она стала терпимее относиться к тому, что по-прежнему называла «моим безумным увлечением». Это правда, я дрожал от волнения. К концу следующего месяца я после всех этих скорбных лет должен был воссоединиться с моей любимой Эсме. Все мое тело трепетало и изнывало в ожидании нашей встречи. Экстаз превосходил все прочие ощущения. Думаю, я переживал это так сильно, потому что чувствовал одновременно уверенность, легкость и безопасность. Wann sehe ich Sie wider? Ich habe lange geschlafen. Die Zeit vergeht. Sie hat ihr Tat selbst zu verantworten. Прошло три года. Seit 1921. Wo sind wir? Drei jahre! Ich habe geschlafen. Der Traum is eybik. Der Traum wird morgen nicht kommen. Hat sie mein Trait im missdeutet? Mit Esmé ich…[477] Каждый день я посещал свою новую штаб-квартиру, свою небольшую фабрику. По предложению Хевера мы купили мастерские обанкротившейся фирмы – ее владельцы собирались построить систему фуникулеров, которая должна была связать разные холмы Лос-Анджелеса. Среди доков на Лонг-Бич располагались конторы нескольких небольших проектных фирм. Днем там визжали пилы и грохотали заклепки, гудели печи и били молотки – как будто в пещере гномов. Из этого района открывался прекрасный вид на гавань. Мрачные военные корабли, которые стояли там в течение многих недель, очевидно, покинутые командами, за исключением горстки дежурных, внезапно снимались с якорей и уходили. Я наблюдал, как прилетают и улетают гидропланы. Некоторые прототипы «Кертисса» уже были закончены. Я решил, что со временем смогу консультировать Кертисса и его людей. Удивительно, сколько моих предложений они приняли, сколько моих изобретений использовали в производстве. Естественно, я так и не получил ни денег, ни благодарности. Я не волновался о таких вещах. Я просто наблюдал, как поплавки гидросамолетов касались поверхности воды, как появлялись над горизонтом крылья, как вертелись винты и взлетали прекрасные маленькие аппараты. У меня было очень много работы с нашим переделанным «бьюиком турером». В основном мои обязанности заключались в наблюдении за механиками. Мы наняли трех прекрасных специалистов и одного подсобного рабочего. Заменив бензобаки на баллоны со сжатым газом, мы проводили эксперименты, подавая газ к двигателю. Я изучил несколько типов паровых машин, включая превосходную модель «Стэнли», снятую с производства в 1920 году. Все, что мы узнали, следовало применить к нашему опытному образцу. Мне повезло – меня окружали молодые энтузиасты, братья по духу, поклявшиеся хранить тайну. Иногда, когда решались особенно сложные проблемы, мы все трудились ночи напролет. Мне следовало благодарить за помощь все тот же живительный порошок. При таком заработке я мог позволить себе все необходимое. Es ken nisht shatn[478]. Постепенно газовый автомобиль обретал форму. Я по-прежнему с нетерпением ожидал того дня, когда изящные ноги Эсме коснутся земли Америки. У меня не было фотографий моей маленькой девочки, приходилось довольствоваться множеством изображений Лилиан (а иногда Дороти) Гиш. Они были куда очаровательнее Клары Боу или Глории Свенсон. Всего через несколько лет мы потеряли «Сердце нации», а взамен получили «Самую горячую джазовую крошку в городе». Я молился, чтобы моя little shvester, mayn meydl, mayn metsie, не огрубела и не изменилась под влиянием тяжелых жизненных обстоятельств. Судя по ее письмам, она осталась той же самой восхитительной Mädchen из моих грез, моей неизменной доченькой; милой хозяйкой моего mazl[479]. И все же она слишком долго прожила в сени Ватикана. Мне известны уловки иезуитов. Они могут протащить грех в рай, если Г. Дж. Уэллс расскажет им, как построить его zeygermashin[480]. Помоги нам Бог, если они станут инженерами. Тогда мы увидим их zindmashin![481] Возможно, Эсме стала циничной. А как могло быть иначе – она ведь так долго копила деньги, а потом их украли, в тот самый момент, когда они были нужнее всего? Мне знакомы подобные чувства. И все-таки я боролся с цинизмом, сохранял свой идеализм, несмотря ни на что. Я был уверен, что моя сестра, мое альтер эго, столь же успешно отстояла свою невинность. Скоро мы будем вместе, мы сможем продолжить наш zukhn[482], этот священный поиск чистоты, которую мы знали в Киеве, спокойствия, которое некогда заполняло наши сердца, zilber[483] ясной мысли. Iber morgn du vest kumen[484]. Я верил, но, как говорится, вера моя не была тверда. Я тосковал, я ждал доказательств. Здесь прошли золотые годы моей жизни – здесь, в Калифорнии. Я, всегда любивший серебро, понял ценность золота. В солнечном свете есть чистота, о которой я не догадывался, пока не приехал в Лос-Анджелес. Я знаю, что Карфаген боится серебра и полагается на золото, но не хочу осуждать сам металл. Я мечтал о нашем соединении: чистота моего интеллекта сольется с чистотой ее плоти. Я старательно считал дни. Когда я счастлив, мне всегда работается легко. Пришлось слегка надавить на Хевера, но это было вполне оправданно. Проект оказался превосходным. Двигатель показывал недурные результаты. Он мог увеличить и без того чудовищное состояние Хевера, подтвердив правоту принятого решения. Дружище и миссис Корнелиус иногда посещали мастерскую, но они были настолько заняты друг другом, что практически не воспринимали моих описаний. Это меня не беспокоило. Я предпочитал работать, когда у меня над душой никто не стоял. Миссис Корнелиус никогда не узнала, что я помог склонить чашу весов в ее пользу; я получил от Хевера надежные гарантии, а не просто положился на мимолетное безумное увлечение. Она вот-вот должна была стать кинозвездой. Мне не в чем себя винить. Wer hat gewennen? Das Spiel war unent schieden[485]. Все были довольны. Und nun ist der Traum Wirklichkeit. Es ist höchste Zeit, dass ich auf main Schiff zurükhehre. Karthago wird von einem glühenden Hass auf die Weissen verzehrt, die er als Wurzel alien Übels in der Welt betrachtet, – obwohl ich andereseits wieder gehört habe, dass sinige weisse Wissenschaftler in seinen Diensten stehen. Seine Mittel wachsen folglich ständig. Gelt…[486] Золотые купола возносятся над Атлантой, над Одессой, над Спартой. Эти купола возвышаются в Джексоне и Джубиле; медные и оловянные, как в Киеве, они растут в Санкт-Петербурге, штат Флорида, и в крупных городах Алабамы, среди красного кирпича; они выше купола Христа Спасителя, но это купола не Чести и Закона, а всего лишь демократии. Часы бьют, солнечный шар слепит; красно-бело-синий флаг развевается на блестящем столбе; мне кажется, на этом месте должно быть русское распятие. И эти сапфировые небеса – неужто они никогда не станут серебряными? Аллигаторы в Аркадии валяются в грязи в металлических резервуарах. Их тяжелые челюсти с треском сжимаются, блестят неровные зубы; они валятся друг на друга, они забывают о смерти – ведь они прожили так долго. Маленькие сородичи атлантических чудовищ, слепые воплощения будущего Карфагена; теперь из них сделают сумочки для домохозяек из Беверли-Хиллз, ботинки для поющих ковбоев и пояса для дантистов-миллионеров. Еврей в Аркадии был добр. Wir steigen unter leichtem Schaukeln vom Bodenauf, wobei der Motor sin kaum varnehmbares Schnurren von sich gab[487]. Я прибыл в Аркадию, не подозревая о существовании тех древних монстров. Они не знали, что созданы ради прибыли. Еврей дал мне тепло и дал мне пищу. Своими руками он кормил меня; своими сухими губами он даровал мне пророчество. Возможно, я ошибся, когда поверил ему. Der blut, der toyt, der kamf, der blitz, der synemmen, der oyfgeheybung![488] Der oyfegebrakhtkayt! Ich haben das Opferbereit, meine Glaube, meine Schöpferdrang, meine Arbeit, mein Genie, meine Jugden, mein Kamerad, mein Kampf, meine Mission, mein Engel, mein Schicksal. Я силен в этом. Karthago nicht viel von der Art der Leute wusste. Das Geheimnis seiner Kraft? Der shtof![489] Когда они забрали его у меня, я ненадолго ослабел. Но есть такая вещь, как возрождение. Вот чего они не понимают. Еврей обещал мне спасение, у него были добрые глаза. В этой иной Аркадии я слышу вялый стук насосов, слышу, как скребут когти по стальному полу. Эти аллигаторы… От них пахнет злом древнего Карфагена. Я заглядываю по ту сторону забора – и они усмехаются вслед, разевая пасти. Он был нежен. Самый лучший из евреев. Der shtof никогда не был der Mayster. Ikh bin abn meditsin-mayster[490]. Он сказал, что собирался найти работу в одесской газете. Он готовился принять большевиков, когда они придут. Возможно, он уже был одним из них. Я сел в трамвай, следовавший вдоль побережья. Я больше никогда его не видел. Der Engelsfestung eybik iz. Ikh bin dorshtik. Ikh bin hungerik. Vos iz dos? La Cite de…[491] Город Ангелов вечен; он должен стать новой Византией. Она поглотит и извергнет Карфаген, изгнав все, что ей не нужно. Святой лес – место, где Парсифаль обнаружил чашу Грааля. Здесь все должны обрести спасение, здесь, на последнем берегу. Мы странствовали так долго. Карфаген не сможет победить здесь, хотя его угроза сохранится всегда. По крайней мере, я в это верил. Может, я стал слишком самонадеянным и ленивым под добрым южным калифорнийским солнцем. Говорят, такое со многими случается. Возможно, меня обольстили здешняя роскошь, шарм, аристократичность. Сомнений не было – я блаженствовал. Моя машина строилась так стремительно, что вскоре у меня появилось свободное время, и я зачастую проводил его с друзьями, посещая дома их знакомых. По большей части эти N’divim, эти новые принцы, были наделены изяществом и остроумием, которых обычно недоставало их европейским коллегам. Их мир постоянно расширялся и менялся – с помощью искусства, промышленности и интеллекта. Они имели все основания держаться с достоинством, строить дворцы среди покрытых лесами холмов и чувствовать свою принадлежность к высшему сословию. Им не нравилась никчемная мораль, которая служит буржуа оправданием его недостатков. И все-таки они никогда не порицали своих европейских предшественников и не смеялись над ними. Конечно, они взяли у европейцев так много, что иногда казалось: в Старом Свете ничего не осталось, все увезли вНовый Свет и собрали здесь. Гобелены эпохи Возрождения, столы времен Иакова I и люстры Людовика – все подлинные. В домах, которые я посещал, было очень много таких вещей. Но почти в каждом большом особняке можно было отыскать и сугубо американские детали. В середине июля 1924 года я навестил мистера и миссис Том Микс[492]. Французская мебель и средневековые доспехи, шотландские щиты и старинные палаши соседствовали в их особняке с индейскими головными уборами, коллекцией обитых серебром седел и другими сувенирами с Дикого Запада. Это была гостеприимная и скромная пара. Миссис Микс очень тепло встретила меня. Она сказала, что я вылитый Валентино. Конечно, я немного напоминал этого актера – прежде всего цветом глаз и кожи, – но я решительно заявил, что в моих жилах нет ни капли итальянской крови. Джон Хевер предпочитал общество людей кино (полагаю, что он навсегда сохранил любовь к большому экрану) и часто приглашал меня куда-нибудь на обед или на уик-энд. Думаю, у него были особые причины так действовать: Хевер хотел доказать даже этому спокойному миру, что его отношения с миссис Корнелиус исключительно платонические. Я играл роль дуэньи (хотя, разумеется, стал жертвой обычных отвратительных сплетен). Именно так мне наконец удалось проникнуть в Пикфэр[493]. Этот особняк стал непретенциозным воплощением хорошего вкуса, созданным под влиянием псевдотюдоровского стиля, столь популярного в Англии, – его не называли дворцом, его богатство не нуждалось в рекламе. Здесь были отдельные элементы швейцарского шале, кое-где виднелись следы испанской архитектуры, но в основном Пикфэйр, со всеми пятнадцатью акрами благоустроенной территории, напоминал идеальную английскую усадьбу, даже огромный бассейн не казался чрезмерным. За обедом я разговорился с очаровательным атлетом, который не вспомнил о нашей прошлой встрече. Дагги оказался прекрасным хозяином. Узнав о моем интересе к океанским лайнерам, он достал семейный фотоальбом. Больше всего ему запомнилась поездка на «Лапландии» с Мэри: «Потому что это был наш медовый месяц». Тогда он как раз заканчивал работу над «Багдадским вором» – возможно, самым экзотическим его фильмом. В доме висело множество эскизов. Минареты, купола и зубчатые стены напомнили мне о Константинополе. Здесь воплотилась Азия – такая, какой она должна быть. Фэрбенкс никогда не считал денег, строя декорации. Он создавал большие и маленькие города, замки и горы в натуральную величину. Вот что убеждало зрителей в реальности историй. Мэри Пикфорд тогда рассталась с детством и попыталась стать более модной «джазовой деткой», сыграв Дороти Вернон из Хэддон-холла. Я видел ее «Розиту» и был глубоко разочарован. От имени всех поклонников я попросил ее вернуться к более невинным ролям. Мэри очень вежливо начала объяснять, чего пыталась добиться, но тут нас прервал ее муж, явно страдавший от ревности. Эта вспышка заставила всех собравшихся на мгновение умолкнуть. Никто не сомневался, что я подкатывал к его жене. Я сделал вид, что не заметил перешептываний и даже упоминаний о какой-то жидовской ящерице, особенно странных, учитывая тот факт, что не меньше половины гостей были еврейского происхождения. Это меня поначалу поразило. Евреи, которые обосновались на холмах вокруг Голливуда, ничем не напоминали тех, которых я видел на Украине. Сэмюэль Голдфиш, например, был человеком исключительно элегантным и образованным. Он сказал мне по секрету, что в детстве восхищался Шекспиром. Он по-настоящему хотел лишь одного: перенести эти великие драмы на киноэкран. – Это – истории, – уверенно говорил он. – А истории – это истории, как к ним ни относись. Он и Дружище Хевер уже стали сопродюсерами двух успешных фильмов – «Тесс из рода д’Эрбервиллей» и «Башни лжи». Хевер рассказал ему, что я – автор успешной пьесы, которая в течение года собирала на гастролях полные залы. Когда я описал сюжет, он одобрительно кивнул. Голдфиш признался, что интересуется этой темой, и с подходящими актерами сможет добиться очень хорошего результата. Он предложил мне отпечатать резюме и прислать ему. – Хотя, если Дружище доволен, то, надо полагать, и я буду доволен. Потом, чтобы сгладить некоторую неловкость, Мэри Пикфорд хлопнула в ладоши и пригласила всех в другую комнату, «чтобы посмотреть киношку». Мы увидели «Мертона фильмов» с Гленном Хантером и Виолой Даной, которые сидели рядом с нами в зале! Это была забавная комедия – сегодня такие называют сатирическими – о кинопромышленности. Некоторые намеки показались мне туманными, но киношники сочли эти загадочные для меня сцены наиболее забавными. Позднее я гораздо лучше узнал голливудских аристократов, но те первые несколько недель, пьянящие и чарующие, стали едва ли не самыми чудесными в моей жизни. Никогда не повторится тот восторг, который я испытал при встрече с Тедой Барой[494]. Я нашел ее милой, воспитанной леди. В ее доме царила приятная, почти стародевическая атмосфера, за исключением одной комнаты, украшенной memento mori[495], восточными гобеленами, тигриными шкурами и саркофагами. Она смущенно объяснила, что фотографировалась только там. Она хотела играть такие же роли, как Гиш или Пикфорд, но все вокруг настаивали, чтобы она всегда оставалась женщиной-вамп. Такое давление мне знакомо. Все мы, до некоторой степени, играем роли, которых от нас требует общество. Один из немногих голливудских иудеев, которых я счел вульгарными, приехал из Киева. Я сразу его разгадал. Мы видели таких Селзников[496] на Подоле, они расхаживали в ярких костюмах, демонстрировали кольца и золотые цепочки для часов, курили огромные сигары, выставляя напоказ богатство. Неудивительно, что иногда простые городские жители выступали против них. Селзник хвастался мне, что в 1917 году послал царю телеграмму. Он вспоминал о своей жестокой шутке, развалившись среди бархата и атласа в гостиной Клары Боу, куда нас с миссис Корнелиус (для разнообразия без Хевера) пригласили на чай. Мисс Боу оказалась радушной и заботливой хозяйкой. – Понимаете, я узнал, что царь отрекся. Таки я себе думаю, какого же черта? Я пошлю ему телеграмму. И знаете, что я ему написал? Вы и ваша полиция нехорошо со мной обходились, когда я был мальчиком в Киеве. И вот-таки я и многие мои люди приехали в Америку. И мы хорошо здесь живем. Теперь мне и говорят, что вы без работы. Про ваших казаков даже не буду вспоминать. Готов предложить вам роль в кино. Назначьте себе зарплату. Ответ за мой счет. Привет семье. Многие сочли это забавным. Я – нет. Я извинился и ушел. Малыш Корнелиус часто спрашивает меня о доме Херста[497]. Его не закончили в 1924 году, и очень немногие видели, что там делалось. Херст постоянно вносил изменения в проект, добавляя новые флигели прежде, чем достраивали предшествующие. Позже меня пригласили в его «Волшебный замок» вместе со множеством скучных промышленников, инженеров и редакторов. Мэрион Дэвис[498] была очаровательна. Херст напоминал Цеппелина, говорил он негромким, птичьим голоском и почти не обращал внимания на окружающий мир – даже на тот, который он сам построил. У Херста никому не позволяли пить алкоголь, но многие киношники тайком нюхали кокаин. Конечно, к тому времени у меня появились превосходные поставщики. В определенных кругах о человеке судили по качеству порошка – точно так же, как о французском дворянине судили по качеству его винного погреба. Mir ist warm. Vifl iz der zeyger?[499] Куда более волнующей стала для меня встреча со старым южным джентльменом, тем великим гением, который напоминал солдата, а не шоумена, первым правителем призрачного города, Дэвидом У. Гриффитом. Оказалось, он находился на студии «Ласки», когда мы с Хевером привезли туда миссис Корнелиус, чтобы устроить кинопробы. Я едва мог говорить. Я встретился с величайшим деятелем культуры двадцатого века, с единственным человеком, который по-настоящему заслуживал имени Kinomeyster[500]. Я бормотал, как крестьянин, призванный с поля, чтобы поприветствовать могущественного правителя. Гриффит был добр и учтив, он приложил к уху ладонь, чтобы расслышать мои слова. Миссис Корнелиус спасла меня. – Он думат, шо у вас кошачьи усы, – сказала она моему герою. – Если п’зволите ему продолжать, то узнате, шо солнце светит прям на вашу… От ужаса я с трудом сумел выкрикнуть единственное слово: – Голову! Вот и все, что я сказал единственному человеку на Земле, труды которого действительно изменили всю мою жизнь. Наверное, он искал работу на студии. По его манерам и внешнему виду никак нельзя было догадаться, что Гриффит остался совсем без средств. Истинный гений, от природы наделенный глубоким пониманием человеческой натуры и способностью проникать в суть политических явлений, теперь униженно пожимал руки иммигрантам, которым сам же помог добиться успеха в этом идиллическом мире грез. Я вел себя слишком глупо. Я до сих пор себя в этом виню. Миссис Корнелиус очень нравилась киношникам. Они считали ее эксцентричной английской аристократкой. Все знали, что истинные английские аристократы могли вести себя как paskudnick’и – они очень грубо выражались. Вот и все, что услышал автор «Рождения нации»: «Голову!» И хотя миссис Корнелиус прекрасно провела пробы, результат которых позднее показали на огромном экране, я никак не мог совладать с унынием. Я постоянно возвращался к этой встрече, проигрывал ее в уме, думая, каким образом следовало произвести впечатление на Гриффита, как за считаные секунды объяснить, что перед ним стоял человек, до конца понявший весь скрытый смысл его экранного послания. Встреча с Валентино в его грандиозном особняке разочаровала меня. Думаю, он считал меня конкурентом. У него были манеры неаполитанской шлюхи и вкус миланского сутенера. Я до сих пор помню огромные автопортреты и ветхие собрания ржавеющих мечей и доспехов. Я старался вести себя как можно вежливее, даже посоветовал, как ему расширить свой диапазон с учетом врожденных ограничений. Я с радостью покинул его дом. Там все производило гнетущее впечатление. Валентино окружала аура самоубийства. Многие лорды и леди в столице кино ничем не напоминали испорченных, безумных, напуганных существ, о которых часто писали в прессе. Многие были наделены самообладанием, юмором и добротой. Несомненно, рассказы об элите Голливуда, описание оргий в бассейнах и извращений на лужайках особняков скорее отражали тайные желания простонародья, а не обычные обстоятельства жизни людей, которым завидовала публика. Эсме уже в пути! Телеграмма это подтверждала. Она ехала ко мне. Сожаление, которое я чувствовал после встречи с Гриффитом, быстро исчезло. Я готовился снова сжать в объятиях свою маленькую возлюбленную. Я водил машину по белой извилистой дороге посреди каньона, ведущего к любимому новому дому, я разгонял легкий «пежо» почти до предела, наслаждаясь скоростью. Я осматривал сады, фруктовые рощи в широких долинах, мирные замкнутые поселения вроде Пасадены, сонные сельскохозяйственные городки вроде Сан-Фернандо. Вокруг Голливуда располагались виноградники, которые когда-нибудь дадут вино, не уступающее европейскому. Первые черенки были доставлены из Бордо и Бургундии, они превосходно росли в этом дивном климате. Переселенцы, прибывавшие из Европы, с Востока и Среднего Запада, также здоровели и расцветали. Лучшие люди здесь были молоды и крепки, как вино. Они мечтали построить Утопию. Это была наша общая мечта. И я собирался ее осуществить. Только однажды я подумал о том, чтобы покинуть свой новый дом и сбежать обратно в Европу с Эсме. Это был просто нелепый случай. Однажды утром я принял предложение белокурой актрисы Астрид Нильсен и согласился поехать с ней на машине в Анахайм. Тогда говорили, что она соперница Свэнсон, способная исполнять современные, рискованные роли. Она слышала о хорошем ресторане неподалеку от нашего городка и настаивала, что туда стоит прокатиться. Я был счастлив провести день-другой с симпатичной девушкой (я больше не собирался связываться с такими, как Мейбл и Этель) и поэтому согласился. Мы выехали довольно рано и помчались по пыльным грунтовым дорогам вдоль бесконечных искусственно орошаемых полей; иногда нам попадались сельские дома или магазины, чистые современные деревни, с виду практически неотличимые друг от друга: с деревянной церковью, рядами деревьев, кафе. Уже смеркалось, когда Астрид указала направо. У нее были чудесные мягкие руки и плечи. Ее лицо с широкими скулами казалось почти славянским. Я увидел желтые и красные огни, вывеску придорожной закусочной, но, когда заглушил двигатель, меня поразило странное название заведения. – Что там написано? – спросил я. – И что это значит? – Суши-бар «Леди Корохото». Это японская еда. Поблизости много японцев. Думаю, это место должно понравиться чужестранным дьяволам. Ты когда-нибудь ел такие штуки? – Разве ты не знаешь, что русские – заклятые враги Японии? Я был удивлен и чувствовал, что она сознательно поставила меня в неловкое положение. Теперь мне, однако, не оставалось ничего иного, кроме как припарковать автомобиль и проводить Астрид по лестнице к веранде здания, которое до недавнего времени было большим длинным сельским домом. Теперь его покрасили в черный и красный цвета, поставили шелковые ширмы, чтобы прикрыть окна, и повесили какие-то рисунки, насколько я понял, для того, чтобы посетители почувствовали себя снова на родине, в старом Нагасаки. Нас приветствовала улыбчивая коротко стриженная девушка в обтягивающем платье. Мы вошли в совершенно обычный ресторан, с обычными столами и стульями и длинной стойкой, занимавшей всю левую стену. Нас окружали приглушенные цвета, раскрашенные ширмы, подсвеченные сзади, – но ничего особенно необычного я не заметил. – Смотри, – сказала Астрид, взяв меня за руку и придвинувшись поближе, – это ведь совсем не страшно, а? Я сказал, что совсем не боюсь. Просто мне здесь не очень нравилось. Если японцы пришли в сферу услуг, то их поведение противоречило недавним поправкам к калифорнийскому закону об иностранных землевладениях (японцам теперь запрещалось заниматься сельским хозяйством там, где они конкурировали с белыми) и закону об иммиграции, отрицающему права японцев и принятому, чтобы заставить их уехать. Несомненно, теперь они владели землей тайно, в нарушение закона! Я сказал об этом Астрид, когда мы сели за столик в пустом ресторане. – Господи Иисусе, Макс, им же надо как-то жить, – сказала она. – На них давят со всех сторон. Сельскохозяйственная ассоциация и все прочие, у кого есть интересы в штате. Вероятно, она, подобно некоторым другим женщинам, считала Восток эротичным и таинственным. Я же считал его опасным. Я знал правду. Монголы не раз нападали на славян; славяне снова и снова отбивали их атаки и вновь подвергались нападению, как только врагов становилось слишком много. Теперь эти люди расплодились в Калифорнии. Они были высокомерны и честолюбивы. Невероятно жадные, они работали намного дольше, чем англосаксы, пытаясь создать на этом берегу плацдарм для своего императора. Но я надеялся провести ночь с Астрид, поэтому не хотел с ней спорить. Наша гейша покачнулась, поклонилась и исчезла, но официантка так и не появилась. Через двадцать минут даже Астрид стала терять терпение. Я направился к дверям кухни и не увидел там никого, кто мог бы приготовить еду, хотя мяса и овощей было очень много. Казалось, из дома неким необъяснимым образом исчезли все обитатели, как с «Марии Селесты»[501]. Возможно, какой-то обычай? Может, дело в оскорблении, подумал я. Астрид сомневалась. – А если дело в их религии? – предположила она. И тут снаружи послышался шум. Я отодвинул жалюзи, чтобы узнать его источник, – и оцепенел от ужаса. Огромный крест горел во дворе. Вокруг него, держа в руках ружья, стояли по меньшей мере полсотни молчаливых клансменов! Я тяжело опустился на стул. – О боже! – Астрид побледнела от ужаса. – Превосходная идея, да? Во дворе послышались выстрелы. – Они хотят, чтобы мы вышли, – сказал я. – Это место вот-вот подожгут. Нам нужно рассказать им хорошую историю. Вперед! Мы направились к дверям и вышли на веранду. Руки мы подняли. – Что происходит? – спросил я, надеясь, что хорошо изображаю возмущение. Один из предводителей внезапно свистнул и почти с восхищением произнес: – Похоже, мы нашли ублюдков-коммунистов, которые их подстрекали, Сэм. – Он мне издевательски поклонился. – Добро пожаловать на вечеринку, товарищи. Экие прилипалы! Все они рассмеялись. Астрид поднесла руку к лицу, словно подавая сигнал. Я так никогда и не узнал, была ли актриса, которая называла себя датчанкой, на самом деле сотрудницей ЧК, нанятой Бродманном, чтобы выманить меня из Голливуда. Подозрение зародилось в тот момент, когда я услышал слова клансмена. Случившееся меня потрясло. Если я продемонстрирую слишком хорошую осведомленность о клане, они могут заинтересоваться моей персоной, и в результате меня скорее всего убьют. Мне следовало доказать, что я не коммунистический агитатор (в сельских районах их собиралось немало) и не сторонник япошек. Я двинулся к клансменам, чувствуя, что попал в кошмарный сон и не могу проснуться. Мне удалось быстро объяснить, что мы с женой ехали в Лос-Анджелес, чтобы сесть на свой лайнер, который должен отвезти нас домой в Австралию. Так я объяснил наш акцент, заодно отметив, что мы были невинными туристами. Мы остановились в придорожной закусочной просто потому, что проголодались. Я облегченно вздохнул, услышав, как они обсуждают между собой услышанное, – стало ясно, что здесь собрались только местные жители. Пока продолжались споры, другие мужчины подожгли ресторан. Теперь отсутствие клиентов объяснилось. Я увидел двух визжащих гейш, которых связали и потащили в стоявший рядом грузовик. Я сообщил нашему зловещему собеседнику, что мы, жители диких мест, тоже кое-что знаем о желтой угрозе. Мы решили проблему, не пустив цветных на наши берега. Это, казалось, убедило клансменов. И все-таки даже тогда, когда они опустили оружие и жестами приказали нам сесть в машину, я боялся, что это лишь часть хитроумного заговора. Я не мог представить, что сделал Каллахан (он легко мог предать меня) и что задумал Бродманн. Я не знал, на что еще способна миссис Моган. Возможно, она вышла из дела как раз вовремя и не попала в ловушку, в которой погибли Кларк и другие. Возможно, она, а вовсе не Бродманн, заплатила Астрид или шантажом заставила ее выманить меня. Конечно, миссис Моган была заинтересована в моей смерти. Я подошел к автомобилю. После нескольких тщетных попыток мне наконец удалось нажать на стартер, и двигатель заработал. Астрид села рядом. Ее лицо было белее огромной луны, которая теперь висела посреди чистого черного неба. Белый свет струился вокруг ее головы, создавая ореол, как на старых киевских иконах с изображениями святых. Девушка казалась по-настоящему напуганной, но это могло просто означать, что она боялась моей мести или кары своих заказчиков. Люди в капюшонах окружили нас. Огонь охватил здание. Сначала вспыхнули шелковые ширмы, и черные дыры появились в деревянных стенах. Языки пламени опадали, в небо валил дым, и лунный свет тускнел. Я решил, что вижу последние остатки клана. Я поклялся, что проведу в городах всю оставшуюся жизнь. В сельской местности мне приходилось несладко. Человек, которого называли Сэмом, носил пурпурное одеяние: это значило, что он – Великий дракон. – Мы не хулиганы и не трусы, – ровным голосом сказал он, – мы честные, простые люди, сражающиеся за то, что принадлежит нам. Федеральное правительство хочет лишить нас всех прав и отдать все чужакам. Езжайте домой, мои друзья, и скажите своим людям, что они делают нужное дело. Передайте им и всем прочим англосаксам эти слова: «Везде, где угрожают белым протестантам, рыцари ку-клукс-клана нанесут ответный удар – и он будет сильным». Сегодня вечером можете спать спокойно, где бы вы ни остановились. Знайте, что вы под защитой. Езжайте и возвращайтесь. До скорой встречи. Вспоминая эту последнюю фразу, я понимаю: его тон совершенно противоречил смыслу слов. Думаю, Сэм предупредил меня. В третий раз спасения ждать не стоило. Мы с Астрид почти не разговаривали, уезжая прочь, подальше от бушующего пламени. Она кипела от негодования и требовала обратиться в полицию. Потом она успокоилась. – Наверное, они все в этом замешаны. – Она заговорила о том, что следует связаться с кем-то в Лос-Анджелесе, возможно, с федералами. – Они схватили тех девочек. Что они с ними сделают? – Думаю, тебе лучше попытаться забыть обо всем этом. – Я говорил сдержанно: возможно, это была одна из лучших ее ролей. – Все, начиная с местных жителей и заканчивая президентом, уже ясно дали понять, что японцам в Америке не рады. Если ты начнешь об этом говорить, тебя могут вышвырнуть как обычного агитатора. После этого Астрид призадумалась и надолго замолчала. Я очень обрадовался, когда эта злосчастная поездка закончилась и на горизонте показались огни голливудских особняков. Я высадил Астрид возле дома на Третьей улице, где она снимала квартиру. Девушка спросила: – Ты не хочешь зайти ненадолго? – Нет, спасибо. Никогда не угадаешь, во что можно вляпаться. Я все еще злился. Я слишком много испытал. Мне следовало сохранять интеллектуальные и духовные силы, беречь их для моего газового автомобиля и для Эсме. Я едва не потерял ее еще до того, как она приехала в Нью-Йорк. Мне пришлось унижаться и выкручиваться, стоя рядом с женщиной, которая, возможно, наслаждалась моим падением и готовилась сообщить новости завистливому, мстительному еврею или глумливому католику, а то и самой миссис Моган. Возможно, они строили новые планы, чтобы уничтожить меня. Не удовлетворенная прошлым предательством, миссис Моган, возможно, теперь хотела истребить всех своих былых партнеров. Как я мог сказать тем клансменам, что их просто использовали, чтобы потешить мелкие амбиции жадных, испорченных мужчин и женщин? Ведь это уничтожило бы все их надежды. А если они и так все знали, то вывод звучал тревожно, даже угрожающе: у Америки больше не осталось никаких средств защиты от миллионов тайных врагов, уже замышлявших ее уничтожение. Неважно, как они назывались – ИРМ[502], рабочие союзы, анархисты, организации неких меньшинств или расовых групп. Неизвестно, были ли у них вообще названия. Все они – агенты Карфагена. Это, конечно, подтвердилось в 1941 году. Тогда Америка, окруженная японцами, едва избежала погибели изнутри. Zey vein kömen[503]. Конечно, они явятся снова. Я ехал по Сикамор, пока не добрался до бульвара Венеция. Часто моя машина оказывалась единственной на дороге. Бульвар тянулся вдоль лесов и парков. Виднелись огоньки небольших поселений, бизнес-центров и особняков, стоявших на большом расстоянии друг от друга, – дань современным представлениям о том, какой могла бы быть цивилизация двадцатого века, если бы она создавалась по тщательно продуманному плану. К тому времени, когда я въехал в Венецию, луна-парк и пирс уже закрылись на ночь. Дребезжащий желтый вагон увез усталых комедиантов в тихие пригороды. Я проехал несколько кварталов до Сан-Хуана. Здесь, невдалеке от привычной суеты и городского шума, располагался мой маленький уютный дом. Венеция выглядела странно, даже фантастически, но на самом деле этот пригород был вполне обычным, живым, космополитичным, как старая Одесса; мои тревоги исчезали в этой знакомой атмосфере. Тем не менее я с осторожностью открыл парадную дверь, готовясь к тому, что меня поджидают Каллахан, Бродманн или толпа людей в высоких капюшонах. Я лег спать, думая о встрече с Эсме и о предстоящем испытании автомобиля. Он получил название «Экспериментальный образец Палленберга I». Наступило воскресенье. Я проводил время в Лонг-Бич, следя за ходом работы, но согласился сделать перерыв, чтобы поехать с миссис Корнелиус на студию. Она все еще не получила результатов кинопроб. Хевер сказал, что иногда на это уходит неделя или две. Сейчас на студии было особенно много работы. Миссис Корнелиус, однако, считала, что «Ласки» не предложит ей контракт. Хевер уже договорился о пробах на «Эм Джи Эм». Там, по его уверениям, она точно всех поразит. Я подозреваю, что Хевер предложил сначала попытать удачи в студии «Ласки» потому, что не хотел, чтобы его друг Голдфиш подумал, будто миллионер просто пытался подыскать работу для какой-то «штучки». Хевер очень нервно реагировал на подобные предположения и выходил из себя, если таланты миссис Корнелиус подвергались сомнению. Он ведь не просто вкладывал в нее деньги. Мы смотрели «Орфея в бурю». Во время сеанса моя тоска по Эсме стала просто невыносимой. Двадцать пятого июля 1924 года мы выкатили ЭОП‑1 из ангара. С виду казалось, что машина пострадала в аварии, потому что краска на ней была содрана, а корпус помят. Под капотом, однако, скрывался мой мощный экспериментальный двигатель. Газовые баллоны заняли место прежнего топливного бака и багажника, появились и дополнительные датчики. На них не было обозначений, но мы знали, что они измеряли давление и подачу газа, а система переключателей координировала работу цилиндров и клапанов. Миссис Корнелиус привела с собой Хевера. Она казалась опечаленной – как будто ожидала, что мы все взорвемся. Я заверил ее, что ЭОП безопаснее обычного автомобиля и намного эффективнее. Она села на краешек заднего сиденья, осмотрелась по сторонам и просвистела несколько тактов любимой мелодии. Я надеялся, что миссис Корнелиус не забудет о моих предупреждениях и не станет курить. Хевер следовал за мной по пятам и кивал, когда я рассказывал о средствах управления и новых устройствах. Вилли Росс, молодой мастер, небрежно прислонился спиной к капоту, беседуя с другим механиком и наслаждаясь ранним утренним солнцем. Туман поднимался над спокойными водами в заливе Лонг-Бич. Гудели корабельные сирены. Чайки с важным видом прогуливались по бетонному молу, как проститутки на Пигаль, – они словно бы с восхищением смотрели на нас. То и дело мы слышали, как открываются двери, электродвигатели начинали шуметь, когда наши друзья, оптимисты, принимались за работу, воплощая в жизнь свои надежды: то были мотоциклы, гидропланы, корабли, бытовая техника. Казалось, что вся Америка, или, по крайней мере, ее западная часть, трудилась во имя спасения человечества. Хевер с любопытством следил за мной, глаза миссис Корнелиус светились от возбуждения. Я включил автоматическое зажигание. Я подождал, пока мигнет красная лампочка, а потом запустил двигатель. Как чудесно было слышать этот шум – машина содрогнулась, потом зарычала, как дикий зверь. Я отпустил тормоза и выжал сцепление. Вилли и наши механики начали аплодировать. Радостно взмахнув рукой, я набрал скорость – автомобиль повиновался всем моим командам; на миг я даже позабыл о других водителях. Я едва избежал столкновения с грузовиком и «паккардом», потом восстановил контроль над машиной и двинулся на север. Мы понеслись по шоссе Рузвельта, слева простирался бескрайний Тихий океан. Постоянно растущий Большой Лос-Анджелес находился справа. Белые башни возвышались среди густой растительности, красивые дома стояли в стороне от дороги посреди ровных лужаек, отели и многоквартирные дома блестели в мягком утреннем свете. Мне не хватало только Эсме, которая могла бы разделить мой триумф и мое счастье. Этот новый опыт почти мгновенно изменил меня. Тяжелые волны Тихого океана, синие и белые, разбивались о чудесные песчаные пляжи. В небе лениво кружился маленький биплан, двигавшийся вниз, к Бербанку, стая морских птиц поднялась над Палос Вердес. Все птицы взлетели и приземлились почти одновременно – зрелище было поистине великолепным. Утренний свет стал куда ярче, чем прежде. Огромный тихий город, убежденный в своем богатстве и культурном превосходстве, казался прекраснейшим из всех возможных миров. ЭОП выражал мою радость. Я наконец добился успеха. Я победил. Эти полчаса вознаградили меня за долгие годы страданий и неудач. Рядом со мной, вцепившись в кожаный ремень, веселился как мальчик Дружище Хевер. Ветер румянил его щеки. Его глаза теперь загорелись – он понял потенциал моего автомобиля. Хевер посмотрел на меня, и я осознал: моему спутнику ясно, что он удостоился одной из величайших почестей, известных человеку. Да, он служил гению. Мы миновали Венецию и Санта-Монику. Только когда мы помчались прочь от берега, от Пасифик Пэлисэйдс, направляясь в долину Сан-Фернандо, Хевер заметил, с немного меньшим беспокойством, чем можно было ожидать, что миссис Корнелиус откинулась назад и закатила глаза. Я управлял своим чудовищем и ничего не мог поделать, только ободряюще улыбался. Кожа миссис Корнелиус стала бледно-зеленой. Я пытался перекричать шум и сообщить, что было бы настоящим безумием сейчас, так далеко от базы, останавливать автомобиль. При первой же возможности, как только загорелась синяя лампочка, предупреждавшая о переключении на следующий баллон, я развернулся и в конце концов выехал на бульвар Сансет. Мы мчались среди поросших травой холмов и редких лесов, миниатюрных озер и огромных лужаек, миновав несколько роскошных дворцов, находившихся на различных стадиях строительства. Наконец я остановил свой автомобиль у отеля «Беверли-Хиллз». Миссис Корнелиус согнулась, и ее вырвало. – ’рости, Иван, – пробормотала она, когда Хевер помогал ей выйти из машины. – Не думала, шо это бу’ет так чертовски быстро. Не стоило мне есть этого клятого лосося, верно? – Мои поздравления, – рассеянно проговорил Хевер. Он пытался приподнять бесчувственное тело миссис Корнелиус – как будто паралитик нес китайский фарфор. – У вас там бак пробило, Палленберг. Я пришлю кого-нибудь, чтобы убрать автомобиль. А теперь извините меня. Они, пошатываясь, двинулись к дверям отеля – две усталые обезьяны, пытающиеся исполнить какой-то примитивный ритуальный танец на сверкающих плитах внутреннего дворика. Через несколько минут я вновь занялся автомобилем. Завести машину при почти пустом баллоне номер два оказалось непросто, но я ожидал подобных незначительных проблем. Я вскоре остался наедине со своей мечтой и помчался мимо вереницы зданий, выстроенных в разных исторических и национальных стилях. Мой ЭОП‑1 по-прежнему работал превосходно. Машина везла меня от староанглийских зданий к немецкой готике и скандинавской золотой отделке, мимо обычных домов, перестроенных в виде средневековых замков, мимо замков, изображавших французские домики. Здесь, в Голливуде и вокруг него, сочетались элементы всех известных мне городов. В одно мгновение я мог перенестись в свое киевское детство, а через секунду оказаться в Одессе или Санкт-Петербурге. Я мог посмотреть на соседний холм и увидеть кипарисы, пальмы и белые купола Константинополя или проехать чуть дальше по каньону, чтобы осмотреть миниатюрную копию Сан-Суси, перенесенную прямо с Монмартра. Вот Древний Рим, вот Флоренция и, разумеется, Венеция, вот современный Милан. Отранто, Анкара, Александровская – здесь было все. Я мог отыскать Пекин, Москву, Лондон и, несомненно, Барселону или Мадрид, Берлин и Ганновер и рейнские замки, Аравию, Индию или – сюрприз! – Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон и Мемфис. Все мое прошлое сошлось в этом единственном городе, а мое будущее таилось в его богатстве, спокойствии и великолепии, под солнцем, которое никогда не скрывалось за облаками. Ночью, под яркими звездами и огромной луной, можно было вдыхать сладостный запах – запах сосен и цветущих кустов, запах кедровых досок и заполненных специями кладовых. Все ароматы мира нес этот легкий ветерок: соль морей, мускус красавиц, великолепные запахи тропических цветов. И все же, лежа в кровати, созданной для некоего погибшего деспота, глядя в окно, из которого открывался вид на дивные холмы, мне еще иногда удавалось услышать волчий вой. Койоты прятались на задворках мексиканских кварталов, они обитали повсюду, где появлялись католические миссии во славу папы. Койоты пробирались по небольшим долинам и лесам, пили воду в японских садах и из голландских колодцев, пожирали недоеденных фазанов и икру, импортные сыры, редкие деликатесы, которые доставляли в Голливуд в электрических холодильниках на лайнерах из Гонконга, Гамбурга и Кейптауна. Голливуд ежедневно создавал и экспортировал новые чудеса. Взамен он получил все сокровища мира, все дивные вещи, все гениальные находки. Потоки энергии текли из этого склада, они были связаны с нашими сильнейшими желаниями – и они поистине неизмеримы. Я наслаждался сверхъестественным блеском Голливуда, я купался в его целительных, невероятных водах. Я снова искал бессмертия и надеялся его найти. Здесь, в Голливуде, среди богатства образов, среди бесконечных удовольствий и бесчисленных возможностей, я снова обрел цельность. Мне не хватало только Эсме. Вот последний недостающий фрагмент моего возрожденного «я». Она – моя душа, моя муза, mayn glantsik tsil. Эсме – это я, а я – это она. О моя роза! В разлуке мы страдаем. Вместе мы – ангел. Und nu du komst![504]Глава двадцать вторая
И вот ты уже в пути, Эсме! Скоро ты снова будешь рядом. Ровно шумят моторы, бурлит вода, великолепный город везет тебя под неспокойными небесами мрачной Атлантики. Далеко внизу остаются горные вершины, превосходящие высотой Гималаи, в темных долинах бродят темные древние титаны, огромные и вечно голодные. Эти твари скованы силой тяжести, они привязаны к земле на много тысячелетий (возможно, столько, сколько существует человечество). Это боги, которым Карфаген готов принести жертву: печальные символы бессмертного рабства. Но плавучие города свободны и безопасны, они проплывут высоко над теми мрачными землями: так высоко, что их не услышат и не учуют; они не потревожат спящих чудовищ Карфагена. Ужасные обитатели тусклого мира прожили бессчетные столетия, не испытывая ни любви, ни грез, ни страха; они лишены чувств, за исключением однообразной, бесконечной жадности. Они не смогут поймать тебя, Эсме, в твоем могучем городе, который непреклонно бросает вызов омерзительной первобытной силе, борется со стихиями и несет твою невинность, твою отвагу, твою красоту, твою нежность, – несет тебя домой, туда, где мои руки смогут тебя обнять. Скоро наши тела познают тот удивительный экстаз двух прекрасных душ, двух половинок единого целого, которые наконец сольются и будут вечно гореть ярким серебряным пламенем. В том пламени смешаются все оттенки спектра, невыразимое сияние алмазов и рубинов. Мы соединимся, Эсме. Мы познаем бесконечность граней бытия, достигнем вершин чувственности, откроем новые чудеса, построим новые города и исследуем все тайны природы. О Эсме, я потерял тебя. Они забрали меня в город спящих козлов, где зловещие огни синагог предупредили меня об опасности. Я пришел в город трусливых собак, где святые места измазаны экскрементами язычников, и там я нашел тебя, вновь обретшую чистоту. Мы отправились в город шепчущих священников, в город раскрашенных трупов, и там меня снова разлучили с тобой. Многие другие города, Эсме, звали меня, обольщали меня, сбивали меня с пути. Но теперь я обрел покой здесь, в городе золотой мечты, городе императора, который я считал погибшим. Ты приедешь ко мне в Нью-Йорк, и я увезу тебя в тихую гавань, где фантазии становятся реальными, где нашли способ навеки избавиться от кошмара. И тогда, Эсме, мы снова полетим. Этот город должен взлететь. Vifl iz der zeyger? Iber morgn? Eyernekhtn? Ikh farshtey nit. Ikh veys nit. Es tut mir leyd. Esmé! Es tut mir leyd! Es iz nakht. Morgn in der fri ikh vel kumen. Mayn Esmé. Ikh darf mayn bubeleh. Mayn muter[505]. Ресторан в Анахайме обратился в черный пепел, который разлетелся по бесконечным полям; бетон потек, как лава, по старым рощам, и из этого уничтоженного будущего возникла бесчувственная псевдофантазия сонного класса – kulak. Каждый год они натягивают на жирные ноги шорты-бермуды и выходят на Мэйн-стрит, США. Здесь дети и внуки клансменов зарабатывают свои доллары, упражняя тренированные рты и стройные конечности в ритуале, который скоро, как считает владелец, будут совершать настоящие роботы. Дважды в день проходят группы в одеяниях, пародирующих мундиры наполеоновской Европы, синих, красных, зеленых или желтых, они играют чудесные старые боевые мелодии, а розовощекие девочки, стараясь изо всех сил, демонстрируют ровные белые зубы и подбрасывают в воздух декоративные жезлы, потом ловко ловят их, вертят с поразительным совершенством, поднимают и опускают ноги в такт тевтонским ритмам – возможно, они просто напоминают о неудовлетворенной похоти. Они не могут потерпеть неудачу. Даже под угрозой поражения, упрощая жизнь, они избегают разногласий. И Микки-Маус, когда-то enfant terrible[506] с искривленной, почти злорадной усмешкой, теперь в слаксах прогуливается по земле фантазии. Он стал респектабельным и забыл о прошлом, как и все прочие эксплуататоры и рабовладельцы. Теперь появились вывески для японских туристов. И путеводители на японском. И даже изображения Микки с надписями на языке, который некогда был запрещен в этой стране. Они шагают в легких туфлях по бетону к писсуарам на Мэйн-стрит, где мочатся прямо на пепел погребенных предков. Надев одинаковые серые костюмы, они садятся в автобусы, из автобусов пересаживаются в самолеты, из самолетов в автобусы и, наконец, возвращаются домой к новейшей электронике, которая заполняет их жизни и приносит двадцать миллионов болтливых голосов в их сердца. И ради этого погибло целое поколение? Но какое мне дело? Они затопили весь мир звуками своих никчемных инструментов. Они – рассадники болезни, которая пострашнее радиоактивных осадков. Я иду по тротуарам этого грязного места, этой столицы свалок, и склоняю голову, страшась стереофонического свиста, боевого клича озверевшей орды. Туман окутывает меня. Боже, спаси мою душу, спаси мишлинга! Moyredik moyz, они окружили меня! Vu iz dos Alptraum? Vi heyst dos ort?[507] Вот и новый кошмар. В лос-анджелесском даунтауне мексиканские и китайские бедняки прячутся в тени увядших деревьев, валяются пьяными в залитых солнцем парках. Виллы в испанском стиле обветшали. Доны давно присягнули Карфагену. Теперь негры и униженные иммигранты ютятся в гасиендах, выжженные лужайки возле которых завалены ржавыми канистрами и обертками от конфет. Пальмы покрыты пылью и нуждаются в подкормке. Даже в раю разбили лагерь прислужники Карфагена, ожидающие сигнала, которого можно просто не заметить. Ich weiss[508]. Сидящие в крепостях на вершинах холмов благородные лорды и леди равнодушно смотрят на шпили, купола и высокие здания – в сине-сером полуденном тумане они видят только древнюю романтику. Верный им город, кажется, мирно дремлет. Его владыки не могут представить, какие угрозы подстерегают их. Великие князья не бывают в трущобах и гетто, они никогда не сталкиваются с завистливыми уродливыми существами, которые строят заговоры, намереваясь похитить сокровища из цитаделей, украсть золотые мечты. Никто не хочет говорить о таких вещах. Ich glaube es nicht. Люди встают на сторону сильных и не обращают внимания на угрозы и предупреждения. Ich will es nicht![509] Разве человек, вдохнувший чарующие ароматы Голливуда, сможет поверить в опасность, которая подобно вирусу распространяется на Олд-Плаза, там, где начинался Лос-Анджелес? Вспомните – мексиканцы повсюду, и в ночи царит ужас: стучат их ноги, раздаются крики, звучат кошмарные гитары. Nicht wahr? Кто нас упрекнет? Наши грезы всегда реальны. Испытание пройдено, когда мы стремимся обратить их в деньги, стараясь построить новые грезы, превосходящие прежние. Не слушайте завистливых и бездушных. Иллюзия Голливуда абсолютно материальна. Граждане этого города никогда не верили в существование невозможного. Правила создаются и нарушаются в зависимости от обстоятельств. Голливуд – хладнокровный город. Подчиненные ему долины и побережья станут заявлять, что он – просто дым, мираж, населенный жующими мак luftmaystem, ставший более привлекательной альтернативой мусульманам. У Голливуда, по их словам, нет ни характера, ни морали. Он – чистая фантазия. С этим не стоит спорить. Древние иллюзии Парижа и Рима, конечно, в свое время были столь же очаровательны. Они отражали заветные мечты, Wunschtraumen[510] своей эпохи, воплощали общие убеждения. Я не могу их понять. Что они говорят? Что Голливуд не существует? Или не должен существовать? Разве Афины Перикла не были реальны? Или Голливуд менее реален, чем Лондон Рена и Берлин Шпеера?[511] Неужели критики Traumhauptstadt[512] злятся потому, что великие дворцы строились на честно заработанные средства, а не на деньги, отобранные у пугливых крестьян? Они думают, что только древность делает дворцы Европы такими привлекательными? Что может быть вульгарнее и банальнее Версаля? Существовал ли собор более безвкусный, чем собор Святого Петра? Говорят, что Голливуд – фальшивый фасад, раскрашенный труп, ловушка. Разве о Флоренции и Венеции, о самом Риме не говорили того же? Голливуд притягивает будущих великих актеров. Флоренция притягивала будущих великих живописцев и скульпторов. Ответственна ли она за разочарования тех, кто не сумел добиться успеха? Каждый день таблоиды сообщают нам, как Голливуд погубил очередную несчастную бывшую официантку. Как будто он намеревался ее уничтожить, сначала соблазнил ложными обещаниями, затем развратил и, наконец, погубил. И зачем Голливуд совершил это бессмысленное деяние? Vi heyst dos? Что написали бы в «Сан» или «Ривели» о какой-нибудь шлюшке восемнадцатого века, которая мечтала быть королевской фавориткой, а на деле стала обычной распутницей из дешевой провинциальной таверны? Was heisst das?[513] Голливуд – первый истинный город двадцатого века. Подобно Риму и Византии, он считает себя неприкосновенным. Я видел все это по телевизору. Конечно, есть изменения, но ядро сохранилось. Was muss ich zehlen? В основании города были лишь теории (и это не первый подобный случай), но потом он попытался воплотить эти теории в реальность. Обычное дело. Wie lange muss ich werten?[514] Хотя Голливуду постоянно угрожают его соседи, он остается самой сильной крепостью современного мира. Ему нельзя останавливаться.Однажды Голливуд очистился. Чистка была болезненной, но увенчалась успехом. Голливуд очистился, как Джон Уэйн очищал свою кровь после укуса гремучей змеи – высасывал яд, а потом прижигал рану раскаленным добела ножом. Голливуд выплюнул яд в море, отправив Восток туда, откуда он явился. Голливуд изгнал сценаристов, нескольких продюсеров, режиссеров, актеров и позволил им окунуться в опасные воды реальности. Они утонули – почти все. Некоторые в конце концов избавились от Карфагена. Теперь самое время снова высосать яд из артерий. Молодые метисы в кожаных куртках катаются на мотоциклах среди рухнувших монументов. Дворняги гадят на плиты, украшенные именами благородных лордов и леди, на разрушающейся Аллее звезд. Толпы нелепых вандалов носятся по сломанным стенам некогда неприступных замков. Они крадут истлевшие костюмы и выцветшие декорации. Вот и все, что осталось теперь от «Репаблик» и РКО, от «Фокс» и «Ласки». Голливудские пророчества звучали во многих фильмах. Голливуд предупреждал мир об опасностях кровосмешения и свободной морали. Гриффит передавал эту весть домой даже в «Сломанных побегах», самом бессмысленном из своих фильмов (хотя Лилиан Гиш была хороша). Он умер в бедности, этот великий человек. От меня он услышал только слово «голова». Все его предсказания сбылись. Молитесь, все молитесь за великий город царя, новую Византию, цитадель нашей веры. Vergehen sie nicht. Die Kapelle spielt zu schnell[515]. Владыки рок-н-ролла, повелители всего варварского стали наследниками наших залитых солнцем печальных руин. Кто мог подумать, что «Певец джаза»[516] приведет к этому? И все же Бог не покинул свой имперский город, не покинул и теперь. Не крикливый слюнявый старый Бог, но новый Бог, греческий. Белые дворцы по-прежнему стоят на страже долины, только кажется, что они спят. Кто сможет осудить этот город так, как я? Но я не стану. Он остался в шести тысячах миль от меня, он не помнит моего имени, но я все же верен ему. Византия, ты blaybn lebn[517]. Голливуд всегда был христианским городом, хотя многие из его владык считались евреями. Wer Jude ist, bestimme Ich. Почему бы и нет? Auf gut Deutsch[518]. Венеция все еще празднует, здесь продолжается бесконечный карнавал. Набережные заполнены счастливцами. Сегодня море спокойно. Колесо обозрения медленно поворачивается, как бесполезная мельница. Я иду мимо резных галерей, мимо лепных украшений, на самом деле сделанных из дерева, мимо зданий из кирпича, который имитирует камень. Я любуюсь огромной гондолой на Гранд-канале, который на самом деле куда меньше оригинала. Гондольер поет какую-то псевдооперную песенку, увлекая пассажиров к конечной точке водного тупика. С железной дороги доносятся грохот и скрежет. Мимо едет желтый вагон. И девочки в открытых платьях, коротких юбках и высоких шапках с плюмажами машут облаченным в пиджаки джентльменам со Среднего Запада, которые неловко придерживают соломенные шляпы. Я скоро уеду из Венеции и перевезу все свои немногочисленные пожитки на бульвар в Голливудских холмах. У меня будет свой небольшой серо-белый дворец – все ради Эсме. Я знаю, что именно ей нравится. На пирсе я остановился, все еще размышляя об изысканных колоннадах Дворца дожей, и неожиданно столкнулся со своим неуклюжим партнером, своим взволнованным благодетелем. – Мистер Хевер! – Я окликнул его так громко, что сам удивился. Последовала пауза. Ветер мгновенно стих. – Sara sheyn veter![519] – Ven kumt on der shiff?[520] – Вы помните, что я улетаю завтра на самолете. – Конечно. Я искал вас, старина. – Он смутился. – Я не застал вас дома, так что… – Я думал, что передал Вилли все дела по ЭОП. – Конечно. Это превосходно. Я так счастлив. Из-за этого я стал немного болтлив, вот и все. Не возражаете? Я предложил прогуляться по набережной по направлению к Лонг-Бич. Променад тянулся на многие мили, очевидно, он сливался с пляжем и океаном где-то возле острова Каталины. Мы шли. Хевер очень долго ничего не говорил. Потом он предложил пообедать в ближайшем заведении, где подавали омаров. Я вновь подчинился. У меня было свободное время. Я радовался жизни. Еда оказалась превосходной, около часа мы говорили только о ней. Мы поели омаров и заварного крема, выпили кофе, а потом пошли дальше. Однако Хевер говорил только о береговой линии, о погоде, о гидроплане Кертисса, садившемся в гавани Лонг-Бич, – и больше ни о чем. Наконец он спросил, не стану ли я возражать, если мы сядем в «Ред кар» и продолжим живой разговор в мастерской. Я тотчас согласился, и мы пересекли улицу и дождались большого вагона междугородной линии. Стоял ясный жаркий день. Дети бежали к воде и из воды, за ними гонялись собаки и родители. Молодые люди загорали на песке. В каждом городе на побережье были свои галереи развлечений, свои небольшие выставочные павильоны, свои аттракционы. Я блаженно думал о том, как будет волноваться Эсме. Я хотел привезти ее из Нью-Йорка в поезде. Мы могли бы поехать на «Бродвей Лимитед»[521], а затем сесть в пульмановский вагон в Чикаго. Я предположил, что она отвыкла от роскоши и мое предложение, наверное, приятно удивит ее. В тени пальм, высокие силуэты которых выделялись на фоне синего неба и яркого закатного солнца, Хевер начал быстро рассказывать о своих надеждах, связанных с кино. Он хотел сам профинансировать драму, главную роль в которой сыграет миссис Корнелиус. – Она согласилась сменить имя на Дороти Корд. Имена, как все считают, очень важны, они должны быть запоминающимися и все такое. Миссис Корнелиус это не очень обрадовало. Ну, короче говоря, вот что мне от вас нужно… Этот сюжет «Белого рыцаря и красной королевы»… Конечно, вы получите за него приличную сумму. Почему бы вам не увеличить его до полного метра. Около часа. – Он смущенно улыбнулся. – Я не Гриффит. – Когда вам нужен сценарий? – Первый вариант примерно через месяц. Судя по поведению Хевера, я понял, что к основной теме он еще не перешел. Я неубедительно заметил: – Будет интересно работать над таким большим фильмом. Он предложил мне большую сигару. Вопреки обыкновению, я согласился. Мы стояли на краю причала в тени деревьев, курили и глядели на грязную воду. – Хорошо, – сказал он через некоторое время. И тогда, как обычно, путаясь и сбиваясь, заговорил о деле. Последние фразы в этом лепете звучали так: – Палленберг, я хочу, чтобы она вышла за меня замуж. Я намерен попросить ее руки завтра, когда вы будете в Нью-Йорке. Как думаете, у меня есть шансы? Его огромные глаза смотрели куда-то вниз, лицо его напоминало морду печальной коровы. Я не торопился с ответом. – Миссис Корнелиус очень независима. Она, очевидно, проявляет к вам интерес, какого не проявляла ни к кому другому. – Конечно, не нужно было упоминать о романах миссис Корнелиус с половиной большевистской верхушки, чтобы он не упал в обморок. – Но не стоит ее торопить. Может, вам следует подождать, пока я не вернусь из Нью-Йорка? Тогда можно будет услышать мнение другой стороны. Хевер был разочарован, но прислушался к моему мнению. – Ну ладно. Вдобавок я хотел спросить: можете ли вы на правах старого друга узнать, что она думает по этому поводу. Что скажете? – Не дав мне времени на ответ, он серьезно продолжил: – Поймите, я знаю, у нее есть нечто – не важно, что именно – то, что нужно великой актрисе. Я больше не хочу, чтобы она проходила кинопробы. Я собираюсь все упростить. Она сделает карьеру в кино, несмотря ни на что. – Он посмотрел туда, где привязанный гидроплан, какой-то претендент на приз Шнейдера[522], бился о деревянную обшивку пирса. – Поймите, – пробормотал Хевер, – мне кажется, что она – самая чудесная малышка на свете. – Сделаю все, что смогу, старина. Хевер был мне благодарен. Он нахмурился, пытаясь успокоиться. – Как думаете, следует ли нам привлекать внимание прессы к автомобилю? Можем ли мы сообщить газетчикам, что успешно провели первое испытание? Уже ходят слухи. Несколько журналистов побывали сегодня в моем офисе. Кажется, из «Лос-Анджелес таймс». Один из них ваш знакомый. Как же его звали? Какая-то ирландская фамилия? – Каллахан? – Кажется, так. – А другой случайно был не Бродманн? – Нет, не помню. Я решил, что он тоже ирландец. Я отвернулся от Хевера. Я стал чрезмерно подозрительным. Во мне шевелились смутные сомнения, но я постарался овладеть собой. – Что ж, пусть с этим разбирается ваша служба по связям с общественностью. Они специалисты. Я дам им инструкции, когда вернусь. Он пожал мне руку, затем, тяжело дыша, отправился на поиски такси. Я поехал обратно в Венецию. Хевер был милым, добродушным человеком. Он никогда не причинил бы вреда миссис Корнелиус. И все же я расстроился, когда он заявил о своих намерениях. Я чувствовал отвращение к самому себе – не следовало поддаваться ревности. Возможно, я боялся, что миссис Корнелиус покинет меня навсегда. Я решил, что не стану беспокоиться по этому поводу, – просто предложу им обоим свою помощь и, если миссис Корнелиус примет предложение Хевера, свое благословение. Когда я встретился с ней на следующее утро, то сделал все, как меня просил Хевер. Она шла со мной на аэродром, чтобы отвезти мой автомобиль в новый дом на бульвар Кахуэнга. Я пытался сохранить прекрасное настроение, предвкушая полет и последующую встречу с Эсме. Нельзя было отрицать: я все еще мечтал о миссис Корнелиус. Возможно, я надеялся, что она когда-нибудь исполнит мою мечту. Но желания никак не влияли на мое поведение. Вернувшись в свой маленький дом в Сан-Хуане, я позвонил в детективное агентство, которому поручил наблюдение за предполагаемыми врагами. Мне ответила женщина. Она попросила перезвонить утром. Я сделал глупость – слишком долго откладывал этот звонок. На следующий день времени уже не было. Я утешал себя. В конце концов, в мире очень много ирландцев по фамилии Каллахан, а интервью я давал почти постоянно. На следующее утро, забросив небольшой чемодан на заднее сиденье, я проехал по пустынным улицам. Телефонные столбы и провода чернели в бледном утреннем свете Лос-Анджелеса. Я поднялся по Санта-Монике, между массивными земляными валами, уже заросшими травой, и достиг отеля «Беверли-Хиллз». Я собирался встретиться с миссис Корнелиус, а потом с ней вместе поехать на Бербанк-флитплац. Она вышла из отеля, едва я остановил машину. Миссис Корнелиус была очаровательна как никогда – в розовом шелковом платье, украшенном двумя длинными нитями жемчуга, в светло-синей шляпке-клош и роскошных туфлях. Она была свежа, чиста и восхитительна. Теперь ей открыли кредит во всех модных магазинах. Я сказал, что она хорошо вложила деньги. Миссис Корнелиус засмеялась и чмокнула меня в щеку. – Они, черт ’обери, так м’ня здесь любят, Иван! Леди Хэв, а? – воскликнула она. – Леди Хам, точнее. Какая штука! Никада не была та’ой х’рошей клиенткой. Нишо пообного. Х’рошие деньки, эт верно! – Сев в машину, миссис Корнелиус радостно рассмеялась и шутливо ткнула меня под ребра. – Я сделала тьбе одолжение. В этот раз оставила черт’в завтрак на тарелке! Какая жертва! – Вы никогда не чувствовали… – Забудь, Иван. – Она стала серьезной и решительно вздернула подбородок. Моя верная подруга смотрела прямо вперед, как всегда, когда ею овладевало какое-то сильное чувство. – Этот лосось был моей глупой ошибкой. Кроме то’о, тьбе надо и за собой ’олучше следить, Ты и я, да? Малькие птички. – Потом она смягчилась и снова засмеялась. Она коснулась моих коленей и быстро, почти по-дружески, сжала интимные места. – Не дай сво’му мелкому жидовскому дружку втянуть тьбя в неприятности. Она знала о моей беде, о моем несчастном обрезании; подобные шутки она отпускала и прежде. Ее заботливость растрогала меня почти до слез. Я пообещал, что постараюсь. Мы мчались по тихим каньонам, тянувшимся по другую сторону холмов. По обе стороны от нас вздымались ровные склоны. На вершинах стояли новые здания, дома небогатых знаменитостей, окруженные молодыми кустарниками и деревьями. Эти люди шли по стопам звезд. Теперь некоторые из великих правителей отправились дальше. Появилась мода на пляжные домики в Санта-Монике и Пасифик Пэлисэйдз. Дороги постоянно улучшались благодаря иммигрантам из других государств, сотни которых ежедневно заполоняли Лос-Анджелес. Здесь была работа для таких пришельцев из Айовы, хотя, по-моему, многих привлекала прежде всего перспектива пожить в одном городе с Фэрбенксом, Чаплином и Свэнсон. Быстро спустившись в долину, мы окунулись в нереальный полумир. Фермы и сады исчезли, появились таблички с обозначениями домов и улиц, которые еще предстояло построить. Агенты по продаже недвижимости ждали клиентов. (Осенние стада мчатся на запад. Если приложить ухо к земле, можно услышать далекий стук копыт.) Сонные фруктовые плантации долины Сан-Фернандо исчезали. Ровные деревянные домики строились в тени усыпанных снегом гор Сьерры. Старинные названия были испанскими. Новые, английские, воплощали мечту об англо-саксонских деревушках, о крытых соломой уютных хижинах. По всей Америке люди наконец вспоминали о своих истинных корнях. Наконец мы увидели впереди жесткую траву летного поля. Здесь стоял один ангар, увешанный старыми плакатами с рекламами странствующих театров. Я увидел непрезентабельный ветроуказатель, забор, ворота с большой красной надписью: «Не входите, если не летите». На поле стоял один биплан «DН‑4»; высокий худощавый пилот, прислонившись к фюзеляжу, курил сигарету и чистил летные очки, протирая их о брюки. Рой Белгрэйд был ветераном Летного корпуса, но он и теперь казался слишком юным для авиатора. Он зевнул, увидев меня, и щелкнул каблуками, окинув заинтересованным взглядом миссис Корнелиус, потом открыл ворота. Почти все в Голливуде называли Роя Белгрэйда самым лучшим пилотом. Тогда все еще считали полеты слишком рискованными и предпочитали вместо одного дня в воздухе проводить по трое суток в поезде. Я рассчитывал приземлиться на поле возле Нью-Джерси и потом, отыскав автобус или такси, добраться до города. Рой Белгрэйд мельком заглянул в блокнот, который достал с заднего сиденья самолета. – Вы полковник Палленберг, сэр? Добро пожаловать на борт компании «От берега до берега». Это я. Он усмехнулся. Мы обменялись рукопожатием. Белгрэйд поклонился, когда я представил его миссис Корнелиус. Осмотрев пилота с близкого расстояния, я понял, что он выглядел как раз на свой возраст. Я прошел под большими тяжелыми крыльями «DН‑4» и заглянул через стекло в переднюю пассажирскую кабину. Владелец самолета попытался сделать ее удобной. Там были стойка с термосом, небольшая корзина с едой, несколько журналов. Все выглядело почти трогательно – как будто отделкой занимался ребенок. Вдобавок я заметил мягкие подлокотники и кожаную обивку. – Все, кроме мамочкиной стряпни, – иронично заметил Рой. – Вы раньше летали, сэр? Я кивнул. Миссис Корнелиус подошла, чтобы обнять меня. Она побаивалась самолетов. Она однажды летала, но чувствовала себя при этом очень плохо. – Надеюсь, ты знашь, шо делашь, Иван. Это замечание вызвало у меня улыбку. – Моя дорогая, ЭОП-один превосходно выдержал испытания. У меня роскошный дом в Голливуде. Моя репутация полностью восстановлена, мое честное имя подтверждено. Через два дня на «Икозиуме» прибудет моя невеста. Кстати, должен сообщить, что мистер Хевер собирается сделать вам предложение! Она нисколько не удивилась. – Шо ты про это думашь? – Он добрый и богатый. – Я не смог удержаться и подмигнул. – И почти слепой. Она захихикала и оттолкнула меня. – Наверно, я это сделаю, просто шоб оправдать твое доверие! Ты злой мелкий Shnorrer![523] Ты хуже мня. Будь осторожен, Иван. – Она осмотрела меня, как мать, в первый раз отпускающая сына в школу. – И не поддавайся на вранье, понял? – Мои инстинкты редко меня подводят, миссис Корнелиус. Пожалуйста, успокойтесь. Меня ждет прекрасное будущее. Как и вас. Скоро вы будете так же знамениты, как Лилиан Гиш. Ее это удивило еще сильнее. – Да, – сказала она, – в Уайтчепеле. Лады, Иван. Бон вояж, черт ’обери, ’риятель. Я забрался в переднюю кабину «DH‑4». Рой Белгрэйд сунул в рот пальцы и свистнул; из-за ангара выбежал мальчик в бриджах. Он был толстым и темнокожим. На один ужасный миг мне показалось, что он полетит с нами. Но мальчик просто положил мою сумку между мной и пилотом. Я натянул ремни безопасности и с удовольствием обосновался в мягком кресле. У меня в ногах располагался парашютный ящик с надписью: «Только в чрезвычайных ситуациях». Я из любопытства попытался открыть дверцу. Оказалось, что она заперта. Когда мне все же удалось ее слегка приподнять, я обнаружил, что все отделение забито бутылками с мексиканской выпивкой. Помимо почты Рой вез в Нью-Йорк небольшой частный груз. Меня это не обеспокоило. «DH‑4» можно было только сбить, самолет практически не мог потерпеть крушение. Der shvartseh vos kumen[524] запускает пропеллер, мускулы на его руках напрягаются, кожа покрывается бисеринками пота. Миссис Корнелиус энергично машет мне, ее левая рука движется от шляпки к юбке и обратно к шляпке – моя спутница пытается придержать свою одежду, которая развевается на ветру. Ведь пропеллер раскручивается. Его лопасти звенят и хрипят, кружась все быстрее и быстрее, пока весь самолет не начинает трястись. Темнокожий мальчик внезапно появляется с другой стороны от моей кабины. Он смеется. Ikh hob nisht moyre! Vemen set er? Ver is doz? Ikh vash zikh. Di kinder vos farkoyft shkheynim in Berlin…[525] Он исчезает. Неужели этот смеющийся демон все еще цепляется за фюзеляж? Темные существа служат Карфагену. Миссис Корнелиус исчезла. Но я на миг увидел Бродманна. Неужели это он выходит из ангара и приближается к моему автомобилю? Или это shvartseh? О чем они сговариваются? Неужели мне никогда не обрести свободы? Какие силы увлекли меня в Византию и Рим? Сам ли я решил отправиться в Нью-Йорк? Самолет начинает петь новую песню, и мы отрываемся от земли. Вот оно – великое спасение полета. Мы поднимаемся над уменьшающимся полем. Розовый шарф развевается над моим маленьким зеленым «пежо». Я вернусь с Эсме через неделю. Моя кровь поет. Я поправляю застежки на шлеме и очках, надеваю перчатки. Wir empfangen es schlecht. Es ist zu viel Störung. Я оборачиваюсь. Der Flugzeugführer sitz im Führersitz…[526] Он кивает, нажимая на руль и отправляя нас вверх, к скалистым утесам и далеким снегам Высокой Сьерры. Бродманна больше не видно, даже если он и был где-то там. Но маленькое темнокожее существо, мне кажется, еще цепляется за фюзеляж, угрожая сбросить нас вниз. Карфаген не позволит людям летать. Я вернусь в город золотой мечты. Я все еще чувствую запах Калифорнии с ее океаном, с великолепными полями, с драгоценными металлами и цветущими бульварами. Я чувствую запах грядущей Утопии, почти воплощенной в жизнь. Эсме подумает, что это сон. Wo sind wir jetzt? Es tut mir heir weh. Ich weiss nicht was los ist. Es tut sehr weh! Wir haben drei Jahre gewartet[527]. Мы вернемся в цитадель. Она меняется слишком часто, и ее нельзя ни захватить, ни разрушить. Варвары полагают, что завоевали ее, но они живут в мире иллюзий. Der flitshtot vet kumen[528]. Даже если мне будет угрожать смертельная опасность, город сумеет меня спасти. Я никогда не стану мусульманином. Их красная лава поглотила мою мать. Как можно доверять Бродманну? Он преследовал меня слишком долго. Никто не имеет права красть мое будущее! Маленькое черное существо разжимает хватку и уносится прочь, падает куда-то в предгорья, которые теперь сменяют равнины. Nit shuld! Nit shuld![529] Они утверждают, что все одинаково повинны в великих преступлениях. Но я заявляю: все мы – невиновны! Если прав один – прав и другой. Ikh blaybn lebn… Я выживу. Карфаген больше не посмеет угрожать мне своими кнутами, он не испачкает мое лицо своей грязью. Я слишком стар и слишком горд, чтобы позволить Карфагену смеяться, тыкать в меня пальцами и грубить. Ночные улицы пустынны, черный дождь блестит и шипит, смешиваясь с маслом из дюжины дешевых кафе, со всеми испражнениями собак и людей; и огни верхних этажей внезапно исчезают. Конечно, остаются сирены и далекие боевые кличи, отрывистые проклятия, осуждения, похвалы. Думаю, со мной что-то не так. Я ничего не ел, и все же живот у меня начинает болеть. Я гашу керосиновую лампу (забастовки на электростанциях случаются слишком часто) и выглядываю за занавеску. Опустив голову, вытянув руки, скривив спину, какой-то счастливый алкоголик пытается помочиться у дверей греческого ресторанчика. Он, кажется, почти такой же старый, как я. Он одет в грязный твидовый пиджак, мятые серые брюки и рубашку без воротника. Он яростно ругает себя, каясь в каком-то fartsaytik[530] преступлении. Как я могу осудить кого-то из них? По крайней мере, я знаю своего врага и понимаю, что меня губит. Они не смогли надолго удержать меня. Я для них всегда был слишком скользким. Завтра я закроюсь рано. Я оставлю эти gelekhter и эти glitshik fantazye[531] позади и пойду на юг, а не на север, в целительные парки того, другого Кенсингтона. Я был настоящим luftmayster, повелителем воздуха, в давние времена, когда это считалось истинным подвигом. Все, что им нужно теперь, – длинные волосы и гитары. Да, я потешаюсь над их нелепыми костюмами. Но мне приходится закрывать окно, когда они расходятся по домам, – на улице слишком сильно воняет их рвотой. Ikh bin Luftmayster, N’div auf der Flitstat. Firt mikh tsu ahin, ikh bet aykh. Firt mikh tsu ahin…[532] «DH‑4» набирает высоту, чтобы пролететь между самыми высокими горами. Я могу разглядеть, как вечные потоки снега стекают по склонам. Я бегу из рая. Говорят, в рай вернуться нельзя, но это неправда. Мы пересечем равнины и Скалистые горы, я и Эсме, мы преодолеем пустыни и холмы, а потом вернемся в нашу долину. Здесь нет для меня ни Schutzhaft[533], ни Бухенвальда, ни ГУЛАГа – только для японцев. Здесь можно быстро творить будущее, здесь есть люди, посвятившие все силы решению технических проблем, воплощению величественных фантазий. Здесь появятся мои города. Голливуд станет моим флагманом. Древние города Европы и Америки нужно чтить, они величественны, их необходимо сберечь. Города Малой Азии, Африки и Дальнего Востока тоже представляют интерес. Но если Константинополь не сможет стать городом императора, то придется построить Новую Византию, которая будет сопротивляться Карфагену. Я могу сделать ее реальной и не собираюсь даже balebos. Eybik eyberhar? Vos is dos?[534] Они огромны, эти корабли. Города, независимые во всех отношениях. Они со спокойным достоинством движутся в верхних слоях атмосферы. Как легко они преодолевают обманчивое притяжение Карфагена! Вот вдали показались огромные летающие дети «Мавритании» – таков логичный финал нашей западной истории. Они чисты, и они сверкают на солнце, как серебро. Они появляются на горизонте, они дрожат, от них исходит золотой блеск, потом массивные двигатели мчат корабли вперед и вверх – и они исчезают. Прикованные к земле жертвы, и завоеватели, и завоеванные, на мгновение поднимают головы вверх. Если бы им разрешили думать, они пришли бы к выводу, что увидели небеса. Es war nicht meine Schuld. Они двигаются вяло, как холодные рептилии, которым нужно солнце. Их конечности тонут в грязи. Они – opfal[535], говорят владыки Карфагена. Они присягнули прошлому, поэтому должны умереть. Wie viele? Ich klayb pakistanish shmate. Ikh veys nit[536]. Они возвращаются к своим неспешным битвам, эти рабы султана, эти musseimanisch, эти lagerflugen. Ikh varshtey nit. В чистом воздухе, на невероятной высоте, веют флаги величайших наций мира. Они невидимы, прекрасны и полны жизни. Эти города – совершенные порождения человеческой фантазии. Если на них нападут – из башен вылетят миллионы серебряных рыцарей, подобные воинственным ангелам. Пусть Карфаген делает со своими грязными завоеваниями все, что пожелает. Мы свободны. Я отвергаю прошлое. Оно уже бесполезно. Его руки заманивают меня в ловушку. Теперь я ухожу в будущее и там стану жить со своей нареченной, с моей Эсме, моей невестой, моей сестрой и моей розой. Я унесу ее с Востока в совершенный город Запада, и там мы будем жить в вечной гармонии рядом с равными нам, в благороднейшей из всех грез: der Heim. Золотой город надежды, очищенный и возрожденный: мой нерушимый Голливуд. Ven vet men umkern mayn kindhayt? Wie lange wir es dauern?[537]Майкл Муркок Иерусалим правит
Предисловие
Я хочу извиниться перед читателями, которые не предполагали, что им придется ждать третий том мемуаров полковника Пьята около восьми лет. И надеюсь, они простят меня, когда поймут, какие трудности были связаны с подготовкой документов для публикации, расшифровкой магнитофонных записей и восстановлением хронологической последовательности событий. Вдобавок мне приходилось заниматься еще и своими делами, и только в феврале 1986 года я нашел время для поездки в Марокко, а затем в Египет и повторил таким образом часть маршрута Пьята по морю и по суше (мне повезло — я тоже обнаружил оазис Зазара, который теперь пересох), в конце концов прибыв в Марракеш. Описание невероятного двора эль-Глауи, паши Марракеша, в тексте Пьята сильно отличается от набросков Гэвина Янга из «Лордов Атласа»[538]. И вновь, в Марракеше и в маленьких поселениях Сахары, мне удалось повстречать немало людей, готовых помочь в поисках. Некоторые из них помнили полковника под именем Макса Питерса[539]. Многие пожилые люди, как я выяснил, его уважали. Старики отзывались о нем как о величайшей из звезд Голливуда. Слухи о том, что он был евреем, возмущали их. И все же в Египте о нем не знал почти никто. Мне повезло — на Майорке я побеседовал с одним отставным английским полицейским. Во времена пребывания Пьята в Египте он служил в войсках при Рассел-паше[540] (мемуары которого также подтверждают большую часть истории полковника), и его воспоминания свидетельствовали об истинности многих фактов, особенно тех, что касались работорговли и торговли наркотиками. За вычетом различных точек зрения, основные детали и имена совпадали, что подтвердило и дальнейшее расследование; из «Иджипшн Таймс» и других тогдашних газет я узнал, что эль-Хабашия был известным персонажем — он управлял каирским кварталом красных фонарей и участвовал в разных преступных делах от Тимбукту до Багдада. Сэр Рэнальф Ститон и другие англичане, упомянутые Пьятом, менее известны, хотя Ститон, несомненно, имел какое-то отношение к кинопрокату; и, конечно, все мы слышали о брате Квелча [541]. Мой отставной полицейский смутно помнил Макса Питерса. Когда я упомянул о Джейкобе Миксе, он, однако, пришел в восторг. «Парень из посольства. ЦРУ?» Он хорошо знал мистера Микса, но они познакомились не в Египте, а в Касабланке в самом начале войны и с тех пор не теряли связи. Старый друг полковника теперь вышел на пенсию и жил в Мексике. Меня удивило и взволновало это открытие: отыскался кто-то, способный, если пожелает, изложить историю Максима Артуровича Пятницкого с совершенно иной точки зрения. Вернувшись в Англию, я немедленно обратился к мистеру Миксу; завязалась переписка. Эти письма были чрезвычайно полезны в работе над данной книгой, но только в мае 1991‑го я смог добраться до Мексики и съездить в деревню, где мистер Микс обитал «в небесном изгнании» — неподалеку от Чапалы[542], на берегу красивого, но грязного озера. Мистер Микс сохранил облик так называемого ашанти[543], описанный Пьятом, хотя его борода и волосы стали белоснежными, и я невольно вспомнил доброго дядюшку Римуса из диснеевской «Песни Юга»[544]. Пока он не заговорил, было трудно предположить, что передо мной американский шпион. Он вел себя учтиво, в изысканно-старомодной манере южан того поколения, и его спокойная ирония также показалась мне знакомой. Несмотря на более чем почтенный возраст, мистер Микс находился в добром здравии. Конечно, он с радостью расскажет о своих встречах с полковником Пятницким, о котором, по словам Микса, у него сохранились самые теплые воспоминания. Мистер Микс признал, что по сравнению с Пятницким даже Адольф Гитлер зачастую казался матерью Терезой; но, отметил американец, противоречивость натуры Пьята очаровывала. Впрочем, основной причиной, по которой он оставался с Полковником, выступала, по его словам, исключительно корысть. «Он был невероятно удачлив, — сказал Джейкоб Микс, смеясь. — Я цеплялся за него так, как иные люди цепляются за кроличью лапку». Микс подтвердил, что полковник действительно добился известности в качестве звезды вестернов категории Б и «промежуточных» сериалов[545] нескольких независимых производителей на Гауэр-Галч[546] (голливудское место расположения большинства таких контор); он показал мне полноцветный рекламный плакат, с яркими красным и желтым и с внушительным черным. Плакат предназначался для фильма под названием «Закон ковбоя»; на картинке был изображен сидящий на лошади и машущий рукой ковбой, нижнюю часть лица которого прикрывал платок. Главную роль в фильме играл «Ас» Питерс, снималась картина на студии под названием «Делюкс». Плакат, очевидно, относился к середине двадцатых. Сол Лессер[547] (я познакомился с ним в конце пятидесятых) упоминал о своем участии в сомнительных проектах — создании множества дешевых вестернов и приключенческих лент для кинотеатров, которым приходилось показывать разом две картины, сериалы, мультфильмы и кинохронику, чтобы оставаться на плаву. Мистер Микс также позволил мне взглянуть на сигаретную карточку, выпущенную в Англии «Уиллс и Ко», — ковбой в высокой белой стетсоновской шляпе, с темным платком на лице и с подписью: «Ас Питерс. Летающий Ковбой („Делюкс“)». По словам мистера Микса, у него были и другие сувениры, но большую часть он потерял вскоре после отставки: в его римской квартире случился пожар. Я никогда не думал, что смогу установить связь между полковником Пьятом и одним из героев моего детства. Многие мальчики, которые росли в послевоенной Великобритании, читали о приключениях «Ковбоя в маске» в еженедельных и ежемесячных «пенни дрэдфулс»[548]. Хотя этот персонаж появился в Америке, в Великобритании он продержался дольше. Как и Бак Джонс[549], Ковбой в маске был могучим народным героем. О Джонсе в Америке позабыли сразу после его смерти в знаменитом пожаре в «Коконат-Гроув» в 1944‑м[550], но в Великобритании он выжил: посвященный ему журнал выходил приблизительно до 1960‑го. Журнал «Ковбой в маске» закрылся в 1940‑м из-за нехватки газетной бумаги. У полковника Пьята сохранилось несколько изорванных выпусков двадцатых и тридцатых; эти журналы редко встречаются даже в специализированных каталогах. Моя же собственная коллекция досталась мне по наследству от дяди, великого энтузиаста вестернов. В разговоре с Джейкобом Миксом я упомянул, что полковник Пьят очень высоко его ценил — на свой лад, конечно. В ответ старый разведчик расхохотался от души. Он отметил, что запомнил похвалы Макса. Мистер Микс оказал мне всю возможную помощь, и его подробные замечания были очень важны для понимания некоторых фрагментов рукописи Пьята. К сожалению, мистер Микс умер вскоре после того, как мы насладились его обществом и гостеприимством; теперь он похоронен на протестантском кладбище близ Чапалы. Не имея никакого опыта по части формальных религиозных вопросов, я нередко находил воззрения полковника нелепыми и примитивными. Он утверждал, что всякая социальная стабильность основана на наших усилиях, цель которых — как можно лучше использовать Божьи дары. Мы должны поддерживать и укреплять эту стабильность. Аргументы Пьята, что энтропия — естественное состояние мироздания и что физическая вселенная, находящаяся в бесконечном движении, не является благоприятной средой для развития разумной жизни, представляются мне в каком-то смысле средневековыми, хотя и выражены в терминах современной науки. «Постоянное изменение — главное правило вселенной, — заявлял он. — Чтобы снизить уровень энтропии, мы должны приложить огромные усилия, используя опыт, разум и мораль для создания хоть какой-то справедливости и гармонии из материала Хаоса». Его летающие города должны были стать островами порядка в мире всеобщего безумия. Он ценил идеалы и учреждения демократии, по его словам, «воплощенные в довоенных Соединенных Штатах». Единственное движение, на которое он до самой смерти жертвовал деньги, — это «Гринпис». «Я разделял любовь к природе со всеми подлинными нацистскими лидерами, — говорил мне Пьят. — Мы были великими защитниками природных ресурсов задолго до того, как это стало модным». Он утверждал, что играл важную роль в немецком проекте переработки и вторичного использования материалов, но, когда я попытался выяснить детали, Пьят стал удивительно неразговорчив, а потом резко сменил тему, спросив, знаю ли я немецкое стихотворение из «Можжевелового дерева» братьев Гримм[551]. Это была его обычная стратегия: перевести разговор на экзотическую литературную или на спорную политическую тему, чтобы любой, кто подойдет слишком близко к некой правде, которую Пьят не хотел раскрывать, отвлекся на посторонние рассуждения или начал возражать на какие-то крайне реакционные высказывания собеседника. Возможно, конечно, и то, что я не всегда был внимателен к тем ассоциациям, которые направляли течение мыслей Пьята — к примеру, при переходе от использования мусора к сказкам братьев Гримм. В таких случаях у меня возникают сомнения: подходящий ли я редактор для подобных мемуаров, не следует ли подыскать кого-то получше. Порой мне хочется бросить все: документы, пленки, заметки, альбомы с вырезками — полуистлевшие, рассыпающиеся, перепутанные остатки необычайной жизни этого старика, большинство из которых относится к давним временам, когда Пьяту не исполнилось и сорока. После того как он обосновался в Англии, с ним практически не случалось никаких драматических происшествий. Я не стану утверждать, что бред Пьята кажется мне сколько-нибудь осмысленным, — было достаточно трудно понимать его во время бесед, когда я требовал от него деталей или пояснений, — но члены семьи заявляют, что он находился в здравом рассудке, а раз так, полагаю, справедливости ради стоит отметить, что мне не хватает их фантазии или их значительного опыта. Я и впрямь понятия не имею, что такого могут раскрыть мемуары Пьята, и не в силах даже предположить, почему семья потратила так много времени и денег на бесполезные судебные процессы. Мои притязания вполне законны. У меня есть собственноручные письма полковника, согласно которым его бумаги передаются в мое распоряжение, пока я не отредактирую то, что Пьят назвал «нашей книгой о миссис Корнелиус». Его история доведена до 1940 года, когда он прибыл в Англию; после завершения книги я должен передать бумаги в Библиотеку Бодли[552], Оксфорд, где они будут доступны любому добросовестному исследователю. Аудиозаписи, однако, останутся моей собственностью. Теперь это наконец определено после долгих судебных процедур, и я надеюсь, что мы все сможем спокойно вернуться к нормальной жизни. Меня больше всего беспокоит враждебное отношение семьи, интересам которой, как мне казалось, я служил так же искренне, как служил интересам полковника Пьята. Мне представляется, что скрывать «отрицательную» сторону биографии — это недостойно и покойного, и самой правды. Повторяю в последний раз — я никогда не хотел продемонстрировать неприязнь к членам семьи, в особенности к миссис Корнелиус, память которой я по-прежнему чту с восторгом и восхищением. Но ниггеров, как настаивал полковник Пьят, нужно называть ниггерами, и если «ноттинг-хилльское семейство» и не преувеличивает достоинств Фрэнка или Джерри, то, по крайней мере, не принижает их. Это исследование стало моим первым опытом документальной прозы, и я не отрицаю, что в качестве научной работы, вероятно, оно заслуживает успеха, но в качестве популярного издания оно могло сформировать что-то вроде ложного впечатления о семье. Я сделал все возможное, чтобы возместить причиненный ущерб во многих книгах, которые последовали за этой первой публикацией, имевшей совершенно неожиданный успех. Обаяние полковника Пьята (для такого человека, как я, выражающего почти противоположные мнения) отчасти основано на его абсолютно невероятных идеях и наклонностях. В его жизни все было изумительно, грандиозно, романтично — возможно, я в некоторой степени остаюсь лучшим посредником для человека, наделенного таким ярким и исключительным воображением. Я не могу, однако, объяснить его ошибки в использовании иностранных языков (он не говорил свободно ни на одном из них, и я точно воспроизвел соответствующие фрагменты его рукописей), и нет никаких очевидных причин для вкрапления иностранных фраз, кроме тех случаев, когда он описывает некоторые из своих сексуальных приключений (почти всегда на французском). Что касается его расизма, мои собственные взгляды и поступки, связанные с этой темой, документально подтверждены, но я был обязан сохранить некоторые — с моей точки зрения отвратительные — высказывания Пьята. К сожалению, в 1945‑м его голос не умолк, и, кажется, он отдается эхом и сегодня — гораздо громче, чем в другие послевоенные времена. За последние восемь лет моя жена не раз упоминала о том, насколько я стал похож на своего героя. Должен признать, эта мысль была мне неприятна, ведь у нас с Пьятом очень мало общего, но я видел в психиатрических лечебницах, как черты одного пациента передавались другому, пока имитация не становилась такой же убедительной, как реальность. Так что, возможно, частое общение с полковником Пьятом и изучение оставленных им материалов оказали на меня некое воздействие, хотя меня оскорбило утверждение одного критика, будто нельзя провести границу между мной и моим героем. Наконец, я должен упомянуть о том, что многим обязан жене, которая помогла в дополнительных исследованиях, Джону Блэквеллу, чей внимательный взгляд и здравый смысл поддерживали меня в худшие времена, и Лэнгдону Джонсу, который так успешно восстановил «Титус один» Мервина Пика[553], - его замечательные навыки оказались бесценными при создании этой книги. Я хотел бы поблагодарить людей, уже упомянутых в предыдущих томах, вместе с друзьями в Египте — в особенности «черно-белого Иосифа», Мустафу эль-Байюми, полковника «Джонни» Саида и семью эль-Фази, все члены которой помогали мне идти по следам Пьята, Рабию и ее сестер, мать, бабушку и братьев за их чудесное гостеприимство и помощь, когда я отправился за полковником в Марракеш; Жана-Мари Фроменталя, сумевшего проверить большую часть того, что Пьят поведал о Марракеше двадцатых. Спасибо также «Безумному Джеку» Паркеру, бывшему Королю Кроули, который смог предоставить мне несколько изображений «Аса» Питерса в роли «Ковбоя в маске». Я также благодарю за помощь сэра Алана и леди Тэйлор (за бесценные сведения о Египте), Манчестерских Савояров, Франческу В. («эль Энаньо»), Люс-Марию и Хесуса из Ахихика, старого дока Гибсона из Делавэра, капитана Роберта Хардинга, лорда Шапиро и пашу Уотербери. Последнего я навестил в его доме близ Ридинга, чтобы осмотреть замечательную коллекцию, большую часть которой, по словам хозяина, доставили из знаменитого жилища эль-Хабашии после того, как правительство Насера открыло здание для всеобщего обозрения в 1957 году. Этот опыт мне не хотелось бы повторять. Все, что я скажу здесь, — я готов поручиться перед читателями за содержание истории Пьята, но об интерпретации полковником событий предоставляю судить им самим.Майкл Муркок Декабрь 1991 года
Глава первая
Я — разум и совесть цивилизованной Европы. Я — все, что осталось от нее. Но для меня и для немногих, подобных мне, христианство и все, что оно олицетворяет, сегодня стало лишь запретным воспоминанием! Это, по крайней мере, хорошо понимает миссис Корнелиус. «Ты тшортово тшудо, Иван, — говорит она. — Клятый памятник тому кровавому веку». Но ее дети потеряны для нее. Наивный скептицизм не защитит их от наступающей ночи. Они осуждают мой «расизм». Они говорят, что я слишком обобщаю и что из каждого правила есть множество исключений. Я согласен! Я видел благородных верблюдов и необычайных лошадей, которых уважал и которыми восхищался; я считал, что во многом они превосходят меня. Но это не могло превратить верблюда в лошадь, а лошадь — в верблюда, и никого из них это не сделало людьми. Точно так же, заявляю я, глупо и ненаучно притворяться, будто между народами нет никаких различий. Эта логика убеждает их. Немногие могли противостоять моему интеллекту, даже когда я был ребенком. Я посвятил всю жизнь умственным тренировкам. Но вы поймете, что постоянное самопознание может стать не только благословением, но и проклятием. Уже в двадцать четыре года, двадцать четвертого августа 1924‑го, я кое-что знал о собственном призвании. Вновь завоевав славу и успех, добившись подтверждения своего инженерного гения, я мчался в Нью-Йорк, чтобы встретить суженую. Я начал чувствовать, что мог бы стать воплощением силы добра в измученном войной мире, где униженные враги и усталые победители наравне охотились за всякой человеческой падалью. (Я говорю, конечно, об этих аморальных и вездесущих уроженцах Восточной Африки, баловнях Карфагена, который в течение многих столетий мечтал завладеть нашими богатствами.) В те дни я редко думал о Боге. Я приписывал все успехи лишь себе самому. Только потом Бог даровал мне благотворный урок смирения и я обрел истинную радость Веры. В 1924‑м я почти во всех отношениях «взлетел высоко». Какое счастье я предвкушал, как ожидал того мига, когда мы с Эсме наконец воссоединимся!Глава вторая
Эти вагоны для скота всегда приводили меня в уныние. Они пахнут и выглядят почти одинаково в России, Америке, Северной Африке и Германии, и, независимо от обстоятельств, путешествовать в них унизительно. В поезде непременно окажется по меньшей мере один громила, который примется терроризировать пассажиров. Мы с Джейкобом Миксом были избавлены, по крайней мере в ту ночь, от звука ботинок на металлической подошве, который доносится с крыши и несет невидимую угрозу. Как им нравилось мочиться на нас! И мы были признательны, если они этим и ограничивались. Люди, оплакивающие окончание паровой эпохи, оплакивают романтический миф, а не ужасную реальность, с которой многим приходилось сталкиваться. Мистер Микс оказался человеком, наделенным кое-какими интеллектуальными амбициями. Он занимался самообразованием — пусть примитивным и нелепым — и потому был куда более приятным спутником, чем я ожидал поначалу. Добросердечный, способный к самосовершенствованию негр — одно из лучших существ в мире. Ему не хватает сложных интеллектуальных ресурсов, но этот недостаток восполняется иными достоинствами — верностью и цельностью. У него нет времени ни для темнокожих бездельников, ни для «белого мусора». Таким образом, поскольку я не мог спать и хотел отвлечься от тревожных мыслей об Эсме, то с превеликой радостью вовлек Джейкоба Микса в разговор. Оказалось, он родился в Алабаме, но приехал на север, в Филадельфию, чтобы работать на заводе во время войны. Война закончилась, и белые пожелали занять свои прежние должности. Он делал разную черную работу, чтобы хватало на хлеб, но как раз сегодня решил все бросить и попытаться найти место на корабле, отплывающем из Нью-Йорка. Меня это совпадение обрадовало. — Выходит, мы движемся в одном направлении! — Полагаю, так, — сказал мистер Микс и снова продемонстрировал свою неописуемую дикую усмешку. Я нашел друга и проводника в городских джунглях, зверя, превосходно приспособившегося к выживанию в современном мире. Было вполне логично сообщить ему, какому именно человеку он оказал поддержку. Я постарался по возможности кратко рассказать ему о своей жизни и планах. Не помню, как я заснул. Поезд сильно тряхнуло, и я проснулся от страшного холода. Еще спавший Джейкоб Микс откатился немного в сторону. Его лицо оказалось рядом с моим, тогда он открыл глаза и подмигнул. — Мы, должно быть, в Джерси-Сити. Он посмотрел сквозь щели в стене на серое предрассветное небо, потом поднялся на ноги, стряхнул солому с потертого одеяния и расправил рубашку. Когда мистер Микс приоткрыл дверь вагона, я увидел только облако и несколько чаек, но звуки, доносившиеся ранним утром из порта, нетрудно было узнать. Я слышал их в Одессе и в Константинополе. Сердце мое радостно забилось. Мы добрались до доков! Теперь все, что нам оставалось сделать, — это отыскать пирс, куда причалит «Икозиум». Я хотел выскочить за дверь и броситься к воде. Я чувствовал запах соли, моторного масла, бриза. Esme, meyn bubeleh. Es tut mir leyd. Esmé! Esmé![570] Я посмотрел на часы. Если все шло по плану, то судно уже стояло в доке, но пассажиры еще не высадились. Я забыл номер пирса, но кто-то из чиновников обязан был помочь мне. — Хорошо, полковник. — Мистер Микс внезапно распахнул дверь и подозвал меня к себе. — Беги вон к тому штабелю ящиков, прямо вперед. И побыстрее, парень! Я легко спрыгнул на бетонный перрон оживленной сортировочной станции, окруженной подъемными кранами, большими локомотивами и товарными вагонами разных типов; мне удалось быстро добраться до ящиков и втиснуться в маленький проем, оставленный небрежными грузчиками. Мистер Микс присоединился ко мне почти тотчас же. — Ты и бегаешь хорошо, — сказал он. — У тебя столько же опыта, сколько и у меня? (Я запомнил эти вопросы, потому что они казались мне совершенно загадочными. Я совсем не понимал их. Иногда я полагал, что мой спутник всего лишь бессмысленно повторял фразы, которые он где-то слышал или читал, не задумываясь о содержании.) Он приподнял мою левую ногу и осмотрел ее. Там появилось несколько мозолей, и носок превратился в изодранную массу из крови и хлопка. Мистер Микс, кажется, предложил сначала позаботиться о моей ноге, но я стремился к «Икозиуму». — Как ты собираешься туда попасть, не имея бабок? — спокойно спросил он. — Мне не нужны деньги, чтобы добраться до пирса, мой дорогой друг. — Но тебе нужны три цента, чтобы сесть на паром. — Микс указал на полосу грязной воды, в которой плавало великое множество мусора. — Это — Гудзон, парень. Я думаю, пристань кунардеров[571] там, на манхэттенской стороне. Я предполагал, что поезд отвезет меня прямо к причалам, как в Одессе! Как глупо было рассчитывать на самое очевидное! У меня не осталось денег. И все мои документы лежали в украденном бумажнике. Но, по крайней мере, у меня был спутник, который знал, где мы находимся. — Мне придется заложить часы, — сказал я. — Нам лучше всего выбраться отсюда и поискать подходящего еврея. — Это займет слишком много времени и будет слишком опасно. — Джейкоб Микс порылся в брюках и вытащил что-то, завернутое в подол рубашки. Это оказалась десятидолларовая банкнота, которой он взмахнул так, как будто обнаружил алмаз Кохинур [572]. — Я возьмучасы в залог. Я заметил, что в ломбарде получу гораздо больше. — Возможно, но ты не в ломбарде и у тебя нет времени искать ломбард, — ответил мистер Микс и добавил: — Кроме того, я пока останусь с тобой. Я верну свои десять долларов, я не сомневаюсь. — В ближайшее время, — пообещал я. — Ты мудро сделал, что доверился мне, Джейкоб Микс. С этими словами я согласился на обмен. — Сначала нужно сесть на паром. — Он повел меня зигзагами между штабелями грузов. — А потом найти аптеку. Нам надо привести тебя в порядок, парень, если ты хочешь произвести хорошее впечатление на свою девочку. Внезапно я понял, как выгляжу со стороны. Мне нужна новая обувь, — сказал я. — И какие-нибудь цветы. И, наверное, другой костюм и рубашка. — У тебя есть мои последние десять долларов, — отозвался Джейкоб Микс. — Как ты их потратишь, мистер, это твое дело. Но больше денег нет. — К тому времени мы уже ползли вдоль пристани, медлительная грязная река катила свои воды под нами. — Подними вон ту доску. За другой конец. Микс взялся за ближний край доски; мы подхватили ее и двинулись вперед по открытому пространству пристани к позеленевшей ограде, за которой качался на волнах маленький крепкий паром, его пассажиры друг за другом поднимались на борт. Когда мы приблизились к концу очереди, то положили доску и присоединились к рабочим, которые платили три цента у турникета, прежде чем сесть на паром. Я немного нервничал, доставая недавно добытую десятидолларовую банкноту, и мистер Микс, казалось, ожидал этого, потому что выступил вперед, когда очередь дошла до нас, и протянул кассиру шесть центов. — Смотрите, держитесь в задней части парома, — скомандовал продавец билетов, когда мы ступили на трап. Он думал, что мы бродяги, и не хотел, чтобы мы тревожили почтенных пассажиров. Спорить с ним было бесполезно, как заметил мне Джейкоб Микс. Пусть думает, что хочет. По крайней мере, в таком случае он не станет беспокоиться и злиться. Мне этот совет показался вполне осмысленным. В конце концов, подобные истины я усвоил во время большевистской войны. Липкая пелена поднималась над свинцовой водой, и далекий берег был смутно различим. Я бросил взгляд на несколько огромных силуэтов, возносившихся в клубах тумана подобно ледяным великанам из славянского эпоса. Звуки невидимых кораблей казались печальными голосами, полными сожаления о падении сверхъестественной силы. В ответ раздавался высокий тревожный вой паромной сирены. Потом постепенно здания начали приобретать знакомые очертания: изящные башни «Вулворта» и международного телеграфа, такие легендарные отели, как изысканный «Шерри-Нидерланд» или классический «Савой-плаза»! Живые памятники американской предприимчивости Хекшер и Флэтайрон, Штраус, Парамаунт и Юнион-траст![573] В этой роскошной смеси готического и неоегипетского стиля был весь Нью-Йорк! Величественная и почти нежная красота знаменитых «небоскребов» открылась мне снова, когда солнце сожгло последние остатки тумана, явив миллионы сверкающих окон города! Пылающий гранит и мрамор его башен возносились в небеса — прекрасная, вдохновляющая дань новейшим футуристическим архитектурным идеям. Таков был совершенный город в чудесные дни — до того как силы Карфагена выползли из своих подвалов и заполонили улицы, до того как он стал столицей полукровок, коверкающих все языки. Воистину плавильный котел![574] Я называю его котлом ведьм, в котором пузырится едкое варево, доколе не появится оттуда яд достаточно сильный, чтобы угрожать погибелью всему прекрасному, благородному и человечному. Но в то утро, сверкая серебряной чистотой, передо мной предстал Нью-Йорк, который, казалось, мог только сделаться еще изумительнее, еще красивее. Конечно, я был оптимистом. Маленький паром вез меня прямо к возлюбленной. Мои приключения могли только придать особую пикантность нашему воссоединению. Я в самом деле чувствовал, что заслужил предстоящее счастье. Утреннее солнце согревало мою кожу, пока я с восхищением смотрел на большие лайнеры, стоявшие у пирсов по правую сторону от парома, — так много замкнутых городов, построенных, чтобы преодолеть огромные силы природы, которые управляли Атлантикой, построенных, чтобы их пассажиры не заметили трудностей путешествия, не заметили, что остались позади уютные комнаты в Кенсингтоне или на Пятой авеню. Эти лайнеры теперь вздымались над нами, словно памятники цивилизации и инженерному искусству. Я сказал об этом Джейкобу Миксу, но негр был погружен в свои мысли. — Я всегда хотел побывать в Африке. — Он не обращал внимания на этих монстров, так же как они не обращали внимания на нас. — Просто чтобы посмотреть, на что она похожа, понимаешь? — Тебе сначала придется поехать в Европу, — я счел своим долгом описать ему положение дел, — а потом, возможно, в Марселе найти корабль до Танжера. — Марсель, похоже, лучший вариант, — согласился он. Мистер Микс прочитал очень много книг о путешествиях и мемуаров, и места, которые я посещал, были знакомы ему почти так же хорошо, как и мне. В его глубоко чуждом разуме таились стремления, столь же важные для него, сколь мои для меня. Я признал это, и взаимное признание связало нас особым образом. Думаю, что он стал считать меня кем-то вроде духовного гида, интеллектуального наставника, способного помочь ему достичь смутных целей, к которым он так отчаянно стремился. Подозреваю, мистеру Миксу было известно, что он не отличается высокими умственными способностями и подобающим социальным положением и потому не сумеет достичь этих целей самостоятельно; таким образом, присоединившись ко мне, он мог увидеть тот мир и общество, что до сих пор его отвергали. В свою очередь, я испытывал сильнейшее чувство, которое не могу назвать иначе, нежели отеческим. Хотя, вероятно, я был на пару лет моложе негра, но поддался желанию позаботиться о нем. Возможно, мистера Микса заставило присоединиться ко мне опять же признание — на сей раз нашей общей принадлежности к роду человеческому. Я никогда не узнаю этого наверняка. Пока паром стоял в доке возле скрытых в дыму строений и мерцающих машин Челси Пирс[575], я почти равнодушно посмотрел на средних размеров двухтрубный корабль, который бросил якорь в нескольких сотнях ярдов от нас и еще шипел и гудел после недавней остановки. И лишь тогда, когда паром повернул на пару градусов, чтобы подойти к причалу, я понял, что читаю название корабля, выведенное большими черными буквами на белом борту, — «Икозиум», Генуя. Это был корабль Эсме! Мне требовалось только спуститься по трапу и пройти по пирсу туда, где ожидало судно. И тут меня потрясла ирония происходящего. Я не мог предстать перед возлюбленной в таком виде. За причалом парома я заметил ряды зданий; из-за ограды мне удалось разглядеть несколько неряшливых витрин. Там я наверняка смогу отыскать ботинки и если не цветы, то по крайней мере какие-то сладости. Мне снова повезло. Когда мы с Джейкобом Миксом вышли на оживленную улицу, то увидели яркое пятно — цветочный киоск. Цветочница, конечно, воспользовалась ситуацией в своих интересах. К удивлению мистера Микса, я потратил пять долларов на большой смешанный букет, который вручил ему, попросив подержать; на другой стороне улицы я увидел вывеску магазина «Качественная одежда», где черные костюмы висели рядами, словно тела казненных преступников. Я стал сильнее хромать с тех пор, когда прекратилось действие кокаина, но принимать новую порцию у всех на виду мне показалось нецелесообразным. Мистер Микс следовал за мной, держа в руках цветы; он заявил, что начинает подозревать, будто внезапные перемены вскружили мне голову. Это предположение могло оскорбить меня, если бы я не понял, что так мистер Микс выражает заботу. Мой пиджак и брюки были ужасно изорваны, но рубашка и жилет еще могли послужить до тех пор, пока я не доберусь до телеграфа и не получу деньги. Я был уверен, что Эсме так обрадуется, увидев меня, что вряд ли обратит внимание на состояние моего костюма. Однако я не хотел встречать ее так — пропитанный зловонием вагона для перевозки скота, покрытый грязью железной дороги. Я вошел в магазин одежды, а мистер Микс остался ждать меня снаружи, изучая ботинки и туфли на стойках; чрезмерно подозрительный старый еврей, который управлял магазином, постарался, чтобы там не было парных вещей. Еврей на своем резком и грубом наречии спросил, что он может для меня сделать. Я отказался говорить на этом упадочном диалекте и на английском потребовал показать один из лучших костюмов моего размера. — Все по девять девяносто девять, все, какие вам только понравятся, — ответил он, осмотрев меня сверху донизу и сняв мерку. Потом он подхватил длинную палку с крючком и побрел по этой огромной пещере, увешанной костюмами, чтобы найти подходящий. — Вероятно, — сказал я, — вас устроит частичный обмен. — Все эти костюмы совершенно новые, друг мой. — Он поскреб кожу под ермолкой, окидывая взглядом ряды брюк и пиджаков. — Если хотите купить подержанный, пройдите дальше по улице. Здесь все только за наличные. А что вы можете предложить взамен? — И он рывком подцепил один из костюмов. — Это ваш размер, мистер. Желаете примерить? — Мой пиджак и брюки лучшего качества, — сказал я. — Любой специалист подтвердит. — Когда-то, — согласился он, — у вас был хороший костюм. Кто бы его ни пошил, у этого человека есть вкус. Но теперь — взгляните! Его нужно чинить. Да и тогда дело не поправить… — Возьмите его и пять долларов, — предложил я. После этого настроение мужчины резко изменилось, и он отошел в сторону, закричав, чтобы я убирался из магазина и не тратил впустую его время. Разъяренный, я удалился с достоинством, призвав мистера Микса последовать за мной. Я приблизился к вывеске с надписью «Заклады». Я подумал, что именно там могу получить все необходимое. Но прежде чем я вошел внутрь, мистер Микс схватил меня за руку. — Надень это, — негромко сказал он. — Это, по крайней мере, поможет тебе ходить ровно. Он стянул со стойки грубый башмак, который по цвету практически не отличался от моего и, как ни странно, прекрасно подошел. Думаю, выглядит почти хорошо, — сказал Микс. Он поддержал меня, пока я завязывал шнурки, стоя на обочине. — Вряд ли кто догадается, что они не парные. Удачно! Я пробормотал, что это скорее указывает на его воровские способности, чем на заступничество ангела-хранителя; он в ответ захихикал. Немного успокоившись, я вошел в новую пещеру, которая была еще темнее прежней. Здесь сильно пахло подгнившей кожей и сырой бумагой, плесенью и старой пылью. Одежда висела на стойках в одном конце помещения, в то время как другой был завален предметами домашнего обихода, велосипедами и корытами, механическими кухонными приспособлениями и всяческими устройствами, которые покупают для успокоения жен, с возрастающей яростью поджидающих глав семейств, пока те блуждают по мерзким трущобам. Такие магазины строили, чтобы разорять несчастных вроде меня и, как я предположил, моряков, которым зачем-то требовалось пробраться в обычный мир. Мне сказали, что пяти долларов хватит на пиджак, но «штаны стоят еще два пятьдесят». Времени уже не оставалось. Я не мог тратить на торг драгоценные минуты. Поэтому я согласился на пиджак, который, хотя и был мне немного маловат, неплохо сочетался с брюками и, по крайней мере, пусть от него и разило камфорой, оказался довольно чистым. Я сунул деньги в руку еврея и выбежал из его лавки. Пройдет всего полчаса — и я вновь встречусь со своей возлюбленной! Большой лайнер во всем сиянии ослепительной меди и хрома, в белом, черном и красном убранстве еще не остановился окончательно; на его фоне казались маленькими даже трехэтажные посадочные эллинги, к которым по трапам собирались спускаться первые пассажиры. Повсюду слышался скрежет и грохот, стук и лязг. Моряки и докеры перекрикивались, перебрасывали, завязывая в искусные петли, канаты и цепи; натягивались страховочные тросы, зловоние нефти и дыма смешивалось с острым морским запахом озона, и я понял, что не слишком опоздал. Путешественники еще только покидали судно. Таможенники и флотские офицеры прохаживались по главному трапу, небрежно подавая сигналы матросам. Первые пассажиры, наскоро освежившись, всматривались вниз, отыскивая встречающих друзей. Немного опередив Джейкоба Микса, я подбежал к калитке в заборе, отделявшем причал от улицы, и барабанил по ней несколько минут, пока калитка не отворилась. За ней стоял охранник, одетый в форму; он выплевывал злобные вопросы, словно богохульные клятвы. — Какого черта этот ублюдок, сукин сын, отребье шлюхи устраивает тут адский шум? Я сказал ему, что опаздываю и что мне необходимо пройти прямо на корабль. Он рассмеялся мне в лицо. — Даже особо важные персоны не могут этого сделать без моего разрешения. Казалось, он уже выплеснул весь свой гнев. Я с подобающим достоинством сообщил, что перед ним не простой человек, а мой внешний вид объясняется несчастным стечением обстоятельств. Он снова рассмеялся и спросил, кто же в таком случае Джейкоб Микс. Я опустил руку на плечо негра, как бы защищая его, и сказал высокомерному чиновнику, что мистер Микс — мой камердинер. В этот момент, без сомнения, устыдившись того, что не разобрался в ситуации, дурак захлопнул дверь, не став приносить извинения. Я сделал глоток из бутылки, которую вручил мне негр. — Я не твой камердинер, Макс, — заметил мистер Микс, когда я промчался вдоль забора и свернул за угол, к главному выходу с пирса, где стоял большой знак, указывавший на место прибытия пассажиров. Но этот вход также сторожил тучный человек в униформе компании, под пунцовым носом которого висели усы, напоминавшие охотничий трофей. Охранник шагнул вперед, когда мы попытались войти. — И чего джентльмены вроде вас хотят от пассажиров первого класса? — Одна из этих пассажирок, мой добрый друг, — сказал я жирному мику[576], - моя будущая невеста. Именно я оплатил ее билет. Пусть вас не обманывает мой внешний вид. — Меня волнует не столько ваш вид, сколько ваш запах. — С этими словами кретин театрально взмахнул рукой у себя перед носом. — Идите своей дорогой, ребята. Милостыни вы тут не получите. И здесь есть постоянные носильщики, которые могут заняться багажом пассажиров. — Моя невеста на судне, — внушительно произнес я. — И его невеста тоже? — Охранник указал на Джейкоба Микса. — Корабль приплыл из Италии, а не из Кейптауна. Идите отсюда, ребята, и не усложняйте мне жизнь, иначе мне придется обойтись с вами строго. — Вы говорите ерунду. — Я попытался сдержать истерику. Так мало сна и еды, так много боли и неудач — все это не могло не подействовать на мой разум. — Я еще раз предупреждаю вас — вы потеряете работу, если не пропустите меня. — Скорее наоборот — потеряю, если пропущу. — Он отодвинул нас в сторону. — В общем, я рискну. Я видел женщин в блестящих шелках и мехах, мужчин в роскошно скроенных континентальных костюмах; смеясь и беседуя, они спускались туда, где таможенники почтительно изучали некоторые случайно отобранные чемоданы. Я искал взглядом Эсме, но она, несомненно, застенчиво держалась позади, надеясь увидеть меня с палубы. В моем воображении возникла напуганная, удивленная маленькая девочка, которая отчаянно нуждалась в утешении возлюбленного. Я распахнул ворота и рванулся к барьеру, где другие люди ждали своих прибывавших друзей. Внезапно меня схватили за волосы и пиджак и оттащили назад; в это время Джейкоб Микс умолял мужчину отпустить меня. — Вы сами видите, бедняге пришлось нелегко. Но в сердце этого злобного чиновного язычника не было жалости. К тому времени первые пассажиры уже вышли наружу и садились в ожидавшие их частные лимузины. Другие останавливали такси. Моя Эсме тоже непременно должна была выйти на улицу. В конечном счете, несомненно, мы окажемся вместе, но я мог представить, какое беспокойство и неуверенность моя девочка чувствовала тогда. Я никогда не перестану проклинать этого жирного мерзавца и его ужасное высокомерие. Если бы я знал, как его действия изменят всю мою жизнь, я полагаю, что сумел бы рискнуть и убить его. Ferbissener? Могу ли я винить себя? Конечно, нет. Я не был никаким schnorrer. Я был простым pisher[577]. Пойдем же со мной, Эсме, еще есть время. Я попытался снова. — Пожалуйста, сэр, послушайте! Я — серьезный человек. Пусть вас не обманывает мой внешний облик. Я могу объяснить, как все получилось. История начинается в Голливуде, Калифорния… — Лучше скажи — в Иерусалиме! — ухмыльнулся самодовольный kocheleffel[578]. И вытащил откуда-то чудовищных размеров дубинку. И тут я увидел ее! О, Эсме, meyn naches[579]. Я пришел! Образ, рожденный в моем сердце, внезапно стал реальностью. Она источала невероятное свечение, как посланница из Страны грез. Ее волосы, уложенные по последней моде, сияли словно черный огонь. И она двигалась, как всегда, с невероятным изяществом. Я не обманулся. Она была такой же, какой я ее воображал, такой же, какой я ее запомнил. — Эсме! — Она проходила через барьер, туда, где стояли автомобили. — Эсме. Моя любимая. Сюда! — Она свернула не в ту сторону. Джейкоб Микс высказал какое-то нелепое предположение — возможно, это не богиня, о которой я говорил! Я проигнорировал его слова. — Эсме! Я здесь! Она наконец обернулась, и я был уверен, что она узнала меня. Потом ее внимание отвлекла толпа, и я закричал еще раз: — Я здесь, любимая! Меня и мою будущую жену разделила тень (широкое пальто из верблюжьей шерсти, большая шляпа, сигара и трость) — и Эсме ушла, умчалась в огромном черно-желтом «роллс-ройсе». — Эсме! — Похоже, она нашла себе нового красавчика. — Мистер Микс дернул меня за одежду. Я холодно сообщил ему, что белые девочки не проявляют подобной неразборчивости. Внезапно его настроение переменилось, и он оставил меня. Я заметил, как он умиротворяющим тоном заговорил с охранником. Меня не интересовало, о чем он рассуждал. Когда «роллс-ройс» повернул на главную улицу, я бросился за автомобилем в погоню. Но тут усталость одолела меня. Я споткнулся, упал лицом вниз и оказался в масляной луже; теперь я видел, как автомобиль уносил мою возлюбленную вверх по склону. Она, должно быть, решила, что ее покинули! Она обратилась к незнакомцу за помощью. К какому незнакомцу? К сутенеру? К гангстеру? К некоему бесчестному левантинцу, «театральному агенту»? Возможны были самые разные варианты… Желудок у меня сжался, и желчь прилила к горлу, когда я встал на ноги и обнаружил, что мистер Микс, во всяком случае, не покинул меня. Я извинился за свои замечания. Белым людям не следует проявлять невоспитанность, используя собственное социальное превосходство, чтобы оскорблять негров. Я всегда придерживался этого правила. И все-таки девчонка Корнелиус по-прежнему смеется надо мной и называет меня ханжой. Как мне переубедить ее? Начистить до блеска ботинки и спеть «Mammy»[580]? Мистер Микс сказал, что мое поведение понятно в сложившейся ситуации. У него когда-то тоже была возлюбленная, и в последний раз он видел ее на заднем сиденье в «дюзи»[581] Пола-Сутенера, где она устроилась, широко раздвинув ноги. Я с легким недоумением ответил, что моя невеста совсем не похожа на девушек, с которыми происходят подобные вещи. Эсме решила, что осталась одна, и обратилась за помощью к кому-то другому. Мужчина владел автомобилем. Очевидно, он был богат. Так или иначе я узнаю, кто он, и разыщу его. Все разъяснится, я воссоединюсь с Эсме, и жизнь вернется к нормальному течению. — Его имя Грэм Мейлемкаумпф Третий, и этот автомобиль увез его на Центральный вокзал. — На станцию? — Я был ошеломлен. — Именно так. Парень обитает в Чикаго. Он занимается рогатым скотом. — Ковбой! Мой ангел — с ковбоем? Какие еще ужасы ожидали меня? Даже когда Джейкоб Микс объяснил, что, по словам охранника, у Мейлемкаумпфа свой «роллс-ройс» и он — один из самых богатых людей на Среднем Западе, я не мог отделаться от этой чудовищной картины. Не прошло и минуты, как моя возлюбленная ступила на американский берег, — и ее уже похитил ковбой! Вот чего больше всего боится европеец, когда видит, как его родственницы садятся на корабль и отправляются в Соединенные Штаты. Как подобное могло случиться со мной, с человеком, так много сделавшим для своей новой страны, так страстно сражавшимся за ее величественные идеалы? (Бог испытывал меня, но тогда, в высокомерии юности, я не понимал этого.) Me he perdido[582]. Поскольку я не мог преследовать автомобиль, то решил выяснить адрес его владельца. Но прежде всего мне требовались наличные средства. Я попросил мистера Микса пойти со мной в офис «Вестерн Юнион» на Пенсильванском вокзале. — Чем ты собираешься заплатить, полковник? — поинтересовался он. — Красным золотом?[583] Стараясь беречь дыхание, чтобы как можно быстрее промчаться по Седьмой авеню, я не стал отвечать, но про себя уже решил, что телеграфирую «Дружищу» Хеверу, чтобы он выслал мне несколько сотен долларов. Оживленное движение в центре Нью-Йорка казалось мне родным, я вдыхал этот воздух, как другой человек мог вдыхать воздух соснового леса, но тем утром, ошеломленный всеми пережитыми бедствиями, я стал беспомощным и окунулся в кошмар. Я не помню, как мы добрались до офиса «Вестерн Юнион» и преодолели автоматические стеклянные двери, чтобы присоединиться к ожидающим очереди. Без сомнения, мне снова следовало поблагодарить мистера Микса. Какой человек заслуживал столь возвышенной верности? Когда подошла моя очередь, я извлек визитную карточку — она не слишком запачкалась — и вручил ее первобытного вида клерку, который посмотрел на нас с глубочайшим отвращением и попросил подождать в стороне. Ах, как легко нам пасть, если не хватает всего лишь обычного ладно скроенного костюма! Когда он вернулся, первый вопрос (это было почти неизбежно) звучал так: — Откуда мне знать, что это вы? Я терпеливо объяснил, что на меня и на моего слугу напали на задворках железнодорожной станции в Уилмингтоне, штат Делавэр, и отобрали все. Мы, воспользовавшись стечением обстоятельств, достигли места назначения только для того, чтобы нас остановил чиновный неуч, которому удалось разлучить меня с суженой. — И теперь она исчезла, ее умчал автомобиль какого-то преступника! Я был изобретателем, нанятым фирмой Хевера из Лос-Анджелеса. Карточка подтверждала лишь это. Я порылся в карманах жилета и брюк в поисках удостоверения личности, но нашел только половину билета, выданного «Западным авиационным сервисом». — Запросите полицию в Уилмингтоне. Они меня знают. Они арестовали пилота этого самолета. Я с ним летел. Там возникла проблема с контрабандой спиртного. — Мистер Питерсон не имел с ней ничего общего, — послышался сзади голос Джейкоба Микса. — Я, конечно, был невиновен. — Говоря это, я понял: если бы мистер Микс летел со мной, то ему, должно быть, пришлось бы путешествовать на крыле. Я попытался справиться с ненужными недоразумениями. — Если бы мой камердинер не прибыл вовремя, я бы сейчас лежал мертвый на грузовой станции. Просто свяжитесь с мистером Хевером и задайте ему вопрос. Мы с ним знакомы. — А кто заплатит за телеграмму? — пожелал узнать этот человекообразный. Тем временем другие люди, стоявшие позади нас и занятые срочными делами, начали вопить, чтобы мы двигались поскорее. После этого я вышел из себя, что было вполне оправданно. Признаюсь, я даже повысил голос. Я начал проклинать клерка, и компанию, и всех ее клиентов. Я всегда говорю в таких случаях на смеси русского и идиша, возможно, потому что я научился сквернословить в Одессе, среди молодых преступников в распивочных Слободки, где я проводил дни юности. Тогда я не знал о хитрости и вероломстве евреев столько, сколько знаю теперь. В те дни я замечал лишь их светлые стороны. Я всегда говорил, что родился без предубеждений. То, что люди предпочитают называть предубеждениями, — на самом деле нечто совершенно иное. Это — просто схожий опыт. Я не хочу обидеть ни одного представителя ни одного народа. Я — человек, наделенный бесконечной терпимостью и вниманием к чувствам других. Как могло быть иначе? Я же побывал в их положении. Я знаю, что такое — иметь ум и сердце и все-таки считаться животным. Мне повезло — у меня были и мозги, и талант, и приятная внешность. Все это, по крайней мере, спасло меня от отчаяния и бедности. Не каждому так повезло, и теперь наша обязанность — заботиться о подобных страдальцах. Но это не означает, что нужно возносить их на пьедестал и отдавать им предпочтение в сравнении с более опытными и квалифицированными личностями! Общество — это договор, заключенный между миллионами людей. Где-то все же следует провести черту. В Южной Африке это хорошо понимают. В какой-то момент нашего спора с самодовольными чиновниками Джейкоб Микс исчез. Я не мог винить его за подобное бегство. Если эти люди были готовы оскорбить белого так грубо, как они оскорбляли меня, то даже нельзя представить, чем могло кончиться дело для Микса — возможно, что и виселицей. Ужасное происшествие в конторе «Вестерн Юнион» поколебало мою веру во врожденную вежливость людей. В итоге я оказался за дверьми офиса в обществе двух полицейских, которые предупредили: если возникнут еще какие-то неприятности, то меня бросят в тюрьму за бродяжничество. Я отправился обратно в доки, смутно представляя, как отыскать следы Эсме в корабельной конторе. Несколько минут спустя ко мне присоединился Джейкоб Микс, который усмехнулся и небрежно, как будто мы случайно встретились на улице, спросил, куда я иду. Услышав мой ответ, он покачал головой. — Зачем попусту тратить время? Ее поезд как раз отправляется в Чикаго. Он позвонил по нью-йоркскому номеру Мейлемкаумпфа и узнал, что миллионер уже сел на «Двадцатый век лимитед»[584]. Пульмановский спальный вагон должен был отправиться в ближайшие минуты. Я помню, как мчался сломя голову по авеню Америк. Мистер Микс, задыхаясь, следовал за мной. Копы, по его словам, все еще висели у нас на хвосте. Наконец я выбежал на залитый солнцем перрон, где на меня обратили внимание двое полицейских; бросившись к посадочной площадке «Двадцатого века», я уперся в ворота из кованого железа и оказался между этим барьером и полицейскими как раз тогда, когда могучий серебристый локомотив громко загудел и двинулся на запад, унося Эсме. He perdido mi rosa! Hе perdido mi hija[585]. — Эсме! — Я был уверен, что она услышит меня сквозь гомон голосов уезжавших путешественников, сквозь визг тормозов и скрежет металла. — Эсме! На другом конце перрона начались шум и волнение, внезапно раздался крик владельца киоска — и полицейские заколебались. Я увидел, что мистер Микс подает мне знаки, стоя у дальнего выхода, и немедля помчался к нему. Как иронично, размышлял я: полковник Максим Артурович Пятницкий, потомок донских казаков, возможно, последний отпрыск старинной и аристократической российской фамилии — нашел в Нью-Йорке лишь одного друга, скромного негра. В тот миг я почувствовал приступ смирения. Бог обращается к нам подчас странными способами и посылает нам помощь в еще более странных обличьях. За долгие годы я усвоил по крайней мере эту истину. — Как нам добраться до Чикаго, мистер Микс? — Я знаю только один способ, — иронично ответил мой смуглый товарищ. Итак, в обществе Джейкоба Микса я снова вернулся в эту захудалую дикую местность, в этот неведомый край отчаяния и безнадежности — в приют железнодорожных бродяг. Три ночи спустя, когда мы приближались к Чикаго, я зарос бородой и дрожал от озноба, из носа у меня беспрестанно текло и я не мог отыскать кокаин, чтобы избавиться от худших проявлений болезни. Теперь во мне бы никто не признал замечательного юного гения, представившего свою итоговую диссертацию в Петербурге и поразившего весь институт, где приветствовали мое невероятно развитое и сложное видение Земного Рая, которое при помощи здравого смысла и доброй воли могло стать реальностью. И что же вместо этого? Я опять превратился в gendzl. Gey vays… Es dir oys s’harts. Es dir oys s’harts, Esme. Эти meshuggeneh hint![586] Я снова в вагоне для скота!Глава третья
Как хорошо вознаграждаются повиновение и посредственность! Теперь я с этим смирился, но в молодости подтверждения данного правила меня всегда удивляли. Униженный и павший, я вынужден был снова положиться на свою сообразительность. Я не стыжусь этого. Мне нечего скрывать. Это не значит, что я никогда не ценил тайну частной жизни. Женские сплетни нередко основаны на отдельных сенсационных предположениях — а к каким результатам они приводят! Разве можно подбрасывать сплетникам новые материалы? Только однажды, после того как мы добрались до Чикаго и узнали из газет (о, какая ирония!), что Мейлемкаумпф и, несомненно, моя возлюбленная уже уехали в Лос-Анджелес, — Джейкоб Микс задал вопрос о моей невесте, который мне показался неподобающим. Мне пришлось немедленно заставить его замолчать. Я не сомневался, что Эсме убедила мистера Мейлемкаумпфа проводить ее в Калифорнию, чтобы отыскать меня по адресу, который я сообщил прежде, до ее посадки на корабль. Впрочем, ирония случившегося никак не отменяла серьезности ситуации. Мне нужно было добраться до Эсме как можно скорее. Что ей могут сообщить? Только то, что в последний раз обо мне слышали, когда меня арестовали за бутлегерство, и что мои вещи обнаружили среди пожитков каких-то бродяг? Эсме могла подумать, что я умер, что меня переехал грузовой поезд, когда я направлялся в Нью-Йорк. Что она сделает после такого ужасного потрясения? Мне было страшно даже думать об этом. Я вспомнил, как поступила другая моя Эсме. Потерянная, уверенная, что ее предали, она стала шлюхой анархистов, слишком развратных, чтобы носить благородное звание казаков. Она говорила, что трахалась столько раз, что у нее появились мозоли во влагалище. Она стала игрушкой моих худших врагов. Я не мог не представлять, как мою милую девочку совращают злобными словами некие новоявленные клансмены, которые уже поклялись отомстить мне. И есть ли месть слаще, чем надругаться над самым дорогим для человека существом? Я уже много знал о человеческой злобе. Я видел почти все ее проявления, особенно во время войны с большевиками. Я думал, что мой разум не выдержит еще одного подобного потрясения. Частью этих соображений я доверительно поделился с мистером Миксом, который предположил, что настолько точное повторение ситуации маловероятно. — Если кирпич однажды упал тебе на голову, это не означает, что ты — человек, которому на голову всегда падают кирпичи. Должен признаться, такая простая мудрость показалась успокоительной; возможно, моя симпатия к негру объяснялась удивительной способностью этого человека: он помогал мне вновь обрести разум, когда я, подобно множеству чувствительных творческих людей, временно утрачивал самоконтроль. Следующие попытки позвонить дружище Хеверу или как-то иначе раздобыть деньги на проезд до Лос-Анджелеса закончились неудачей — нас арестовали. Несколько дней, проведенных в тюрьме, стали совсем не худшими в моей жизни. По крайней мере, там была подходящая еда и нас не били. Но я, конечно, с трудом сдерживал беспокойство. Я провел день в лазарете, но доктора не проявили ко мне сочувствия. Они решили, что у меня просто ломка от недостатка наркотиков. Услышав эту наглую ложь, я еще больше испортил дело, громкими криками выразив протест и попытавшись ударить санитара, который сообщил смехотворный диагноз этих шарлатанов. Они не понимали, что мое освобождение — вопрос жизни и смерти. Калифорния была местом, где Эсме больше всего нуждалась в защите. Как и всякий город, обретший мифический статус, Голливуд наводняли хищники, готовые сожрать любую мелочь, шла ли речь о деньгах или о людях. Тысячи юных девушек каждый день становились жертвами на алтаре Славы. С помощью мистера Микса я начал разрабатывать новый план. Утром после нашего освобождения мы отправились прямо к шоссе. В конечном счете, в компании туш трех ягнят и несколько замкнутой овцы, мы добрались до Вальпараисо, Индиана, и до железной дороги. После заката мы сели в двигавшийся на запад товарный вагон; захлопнув двери, мы почувствовали, что вернулись домой. Началось наше долгое путешествие, и в нем мало чем можно было заняться, кроме разговоров. Джейкоба Микса увлекало все, что я ему рассказывал, и он нередко восклицал, что получает лучшее образование, но влияние шло в обе стороны. Мистер Микс оказался опытным исполнителем современных танцев — фокстрот, чарльстон, даже танго были ему хорошо знакомы; он перенял движения либо у прежнего наставника, разорившегося артиста из мюзик-холла, который выступал с Коэном[587], либо из книг и фильмов. Мистер Микс двенадцать раз видел «Четырех всадников Апокалипсиса» [588]. Мы провели много ночей, аккуратно ступая в такт качавшемуся грузовому вагону, пока мистер Микс обучал меня вальсу, польке и кекуоку[589]. Потом, где-то в Канзасе, мы однажды вечером отыскали пустой зерновоз. Там хорошо пахло и оказалось еще достаточно зерна, чтобы мы смогли устроиться поудобнее; грузовик в итоге доставил нас в Ганнибал, Миссури, где мы едва не погибли во сне, когда внутрь начали засыпать свежее зерно. Нас тотчас же заключили в тюрьму, на сей раз в отдельные «камеры»; мы без всякого толку провели там время, а затем вышли на свободу. Потом мы неудачно попросили еды возле черного хода «Дома Гека Финна»; нам пришлось бежать, и в итоге мы потеряли друг друга. Я хорошо изучил реку Миссисипи в Мемфисе, Теннесси, где на протяжении месяца был чернорабочим вместе с каторжниками, восстанавливавшими дамбу после наводнения. К тому времени я позабыл о своих стремлениях, да и собственное имя едва помнил; оставалось только благодарить судьбу, что никто из моих старых знакомых не узнал меня, проходя мимо. Я покинул Мемфис как будто на облаке, в дирижабле майора Синклера, а теперь очень радовался, что при аресте назвал полицейским фамилию «Пакстон». Я предполагал, что «Босс» Крамп, подлинный хозяин Мемфиса, немедленно прикажет убить человека, которого считал своим заклятым врагом. Я каждый день молился, чтобы он никогда не узнал, что я как раз работаю на дамбе в полумиле от Мад-Айленда. Впрочем, месяц завершился без происшествий, а выйдя на свободу, я окончательно потерял связь с мистером Миксом. Один бродяга сообщил мне, что Микс направился в Новый Орлеан, но моей целью по-прежнему оставался Лос-Анджелес. Иногда мне удавалось заработать достаточно денег, чтобы сходить в кино. Кроме фильмов, ничто не связывало меня с прежней жизнью. Я смотрел уже на другую Гиш, Дороти, в «Прекрасном городе», замечательной истории о расовых противоречиях и их разрешении, с Уильямом Пауэллом и Ричардом Бартелмессом[590] в роли итальянца; этот фильм напомнил мне о моих идеалах, о моей вере в человечество. Я почти никогда не мог позволить себе билет в премьерные кинотеатры с хорошими залами; чаще всего я посещал заведения, где самыми большими звездами были Кен Мэйнард или Хут Гибсон, а приключения полковника Тима Холта[591] считались «первоклассными». Там я увидел Тома Микса[592] и оценил то, как он представлял самые благородные черты англосаксонской расы. Он действительно был Рыцарем Прерий! Теперь наконец я понял значимость и влияние современного синематографа. Моим идеалом оставался Гриффит — я с искренним сопереживанием в течение двух часов смотрел, как Лиллиан и Дороти Гиш разыгрывали печальную историю «Сироток бури»; я плакал горькими слезами на «Сломанных побегах»[593], в старом зале миссии Канзас-Сити, где стояли неудобные церковные скамьи. Я посмотрел фильм три раза, и мои собственные трудности показались ничтожными по сравнению с трагедией «Китайца и девочки», так удивительно разыгранной Ричардом Бартелмессом и Лиллиан Гиш. На днях я увидел ее в фильме ужасов того толстого актера, Лоутона[594]. Она была единственным светлым пятном во всей этой картине. Всем нам иногда приходится идти на компромиссы. Я не обвинял ее. Я и сам нередко шел на компромиссы летом 1924 года. Я добрался до Сильверадо[595]. К тому времени сентябрьские ночи стали холодными, а моя тоска по Эсме обратилась в непрестанную боль. Она была уже привычной, как голод, жажда и бессонница, — я больше не чувствовал ее. Я приспособился к трудностям. Я пережил их великое множество. Это помогло мне погрузиться в своеобразную интеллектуальную спячку. Мой мозг дремал, выполняя лишь те функции, которые были абсолютно необходимы для повседневного существования. Всякий, кто повстречал бы меня в те дни, мог решить, что перед ним — всего лишь молодой бродяга. Я ничем не отличался от всех прочих жалких и ничтожных изгоев 1920‑х, которые толпами скитались по североамериканскому континенту. Но и тогда я не стал музельманом. Непризнанный, я хранил в глубине души маленькую искру. Мой дух оставался прежним. Какой смысл устраивать тарарам из всего этого? О некоторых вещах лучше забыть или, если забыть нельзя, не говорить. Некоторые вещи только возвращают людям проблемы. Человек должен брать от жизни все лучшее. Никто не станет проклинать его за это. Конечно, у всех есть обязанности по отношению к другим, но как можно помочь другим, если ты не помог себе? Понимаете, в данном случае не хотят давать никаких послаблений. И именно социалисты заставляют меня молчать об этом. Red tsu der vant[596]. Я не стыжусь. К чему нам полагаться на слова каких-то никчемных хасидов? Каких-то болтунов? Не существовало никаких доказательств того, что якобы произошло в Соноре[597]. Это был красивый городок. Я возражал против самой идеи, но другие взялись за дело. Забор построили из черного чугуна, а кусты оказались кедровником. Именно это я помнил. Именно это я говорил им. Опрятные небольшие лужайки простирались там, где некогда пьяные золотоискатели валялись в лужах собственной блевотины. Северная Калифорния никогда не была для меня удачным местом. Даже мое соглашение с агентами Уильяма Рэндольфа Херста по делу Томаса Инса[598] состоялось в южной части штата, хотя я поклялся хранить молчание обо всем, что связано с семьей Херста, и поэтому не стану ничего добавлять. Я только скажу, что уже не надеялся вернуть свою прежнюю жизнь и потому стал всего лишь инструментом, действовавшим вне морали. Это случилось 20 ноября 1924 года. Я получил полное прощение и гарантию работы (если мне когда-либо потребуется «честная работа») на студии «Космополитен». Я не думаю, что стоит описывать унизительные обстоятельства моего путешествия по американскому континенту. Иногда приходится позабыть о совести. Иногда приходится продавать то, что поистине ценно. Я не стыжусь этого. Я храню свою казацкую душу. Я выживу, чтобы мои собратья, эти славянские герои, которые ждут пробуждения всех наших мужчин, также запомнили, как выжить. И недалек тот день, когда начнется наша последняя битва. Это — великая битва. Это — самая достойная смерть. Любовь — взаимная любовь — что еще у нас есть, чтобы противостоять холодному ужасу Энтропии? Только человеческая любовь усиливается, обретает форму, воплощается; она — наше единственное противоядие от Энтропии. Мы недостаточно ценим свою способность любить. Ибо одна лишь любовь спасет нас в конце концов: не идеология, даже не религия — но любовь, достойная, честная, истинная любовь одного человека к другому, все за одного и один за всех! Pah sah?[599] Если нельзя изменить общество, то можно, по крайней мере, надеяться время от времени напоминать ему о добродетелях. Мусульмане не делают этого. И при Царе, и при Христе мусульмане оценили достоинства религиозного обращения. Не так, конечно, как при безбожных большевиках, которые не предлагали никакой альтернативы. Таким образом, мусульманин остается варваром, отсталым и невежественным. Для него возможно лишь одно будущее — гражданская война, когда слуги Магомета решают: настало время поддержать единоверцев! Бог говорил со мной, и я говорил с Ним, но я сказал Ему, что могу творить Его дело без Его поддержки. Когда я стану старым и слабым, Господи, сказал я, тогда я попрошу Твоей поддержки. Теперь я стар. Теперь я слаб. А Бог ушел, пуская слюни, оставив нам в помощь только Своего сына и Своих пророков и святых. Они недостаточно сильны. Иногда, в сумрачные часы отчаяния, я задумываюсь: быть может, дьявол — наш истинный господин, а меня обманом заманили в синагогу, в обитель утрат. Безнадежность, беспомощность и смерть ждут там. Вы не знаете, на чьей я стороне. Вероятно, на вашей. Willst du ruhig sein, du Judenschwein? Ci ken myn arof gain in himl araan, ju freign bas got, ci sy darf azoi zaan?[600] Но разве не так Секстон Блейк[601] обращался к евреям? Сидя в лошадином стойле рядом с нервным жеребцом, в начале зимы 1924 года я изобрел реактивный двигатель. Реактивные машины и газотурбинные установки были теоретически возможны. Я вспомнил статью, что читал в детстве в одном из своих английских журналов, — в ней говорилось о паровой машине Герона Александрийского, которую он назвал «Аэрофил», созданной приблизительно за двести пятьдесят лет до Рождества Христова[602]; многие думают, что это была первая машина, которая преобразовывала паровое давление в реактивную силу. Мой разум обратился к третьему закону Ньютона, к паровому экипажу, так и не построенному ученым. Соотношение сила/вес было, конечно, главной проблемой для самолетов в те дни, так как более крупный самолет всегда требовал более мощного и поэтому крупного двигателя. Реактивная турбина могла обеспечить значительно большую мощность при меньшем размере, и крупные машины удавалось бы перемещать быстрее. Мне пришло в голову, что можно применить своеобразный высокоскоростной вентилятор, чтобы направлять поток воздуха, который следовало сжать, а потом использовать его для запуска турбины. Несколько минут я мечтал о своихинструментах и чертежах, оставшихся вместе с моим паровым автомобилем в Лонг-Бич, Калифорния. Годы спустя, услышав о работе Уиттла[603] в Англии, я понял, что пришел к тому же решению примерно на десять лет раньше. Но, конечно, в этом нет ничего необычного для меня. При другом стечении обстоятельств я, вероятно, сегодня стал бы самым богатым человеком в мире. Если бы идея реактивного двигателя посетила меня тогда, когда я сидел в шикарном кабинете, заполненном солидными медными инструментами, подобно сэру Фрэнсису[604], - действительно, при таком стечении обстоятельств сегодня я мог бы важно шествовать по коридорам Букингемского дворца с подвязкой на колене и рыцарским титулом в кармане, я бы обрел последнее пристанище в Вестминстерском аббатстве, лежал бы там много веков и слушал дивные звуки мессы. И это — человек, который даровал миру пистолет-пулемет! Поистине благословенный шум! Они надвигаются со всех сторон, эти молодые варвары, эти служители языческих идолов, облаченные в костюмы цыган из комических опер. Но у цыган есть древнее знание, знание о Боге, которое сделало их обособленным народом. Я всегда сочувствовал им. Они также были обречены странствовать, их оскорбляли и унижали, их лишали покоя и заслуженных наград. Но речь не о тех цыганах, которые являются на Портобелло[605], чтобы продавать свои цветные свечи и бусы там, где раньше можно было дешево купить приличную капусту, — сегодня нищие больше требуют себе на чай. Эти пришельцы устроили торговые ряды, полные индийских шелков, ароматных масел и специй, тем самым явно подтвердив, что вся их нация завоевана Востоком. Сыновья и дочери суррейских биржевых маклеров бросаются на вас так же, как продавцы ковров на каком-то базаре в Марракеше. Они глумятся надо мной. Я знаю многие имена. Я говорю на всех языках. Но я стану молчать только потому, что они смеются надо мной. Мы на грани того, что китайцы называют луань[606]. Я видел самые известные руины мира. Я видел конец Эры Разума. Я заслужил право говорить. Они используют слова, значения которых не ведают. Истинные fascisti, дисциплинированные герои современной Италии, не развязывали войну. Они противились войне. Разве Христос становится злодеем потому, что некий самозваный христианин убивает ребенка? Мои чувства — благородны. Мои эмоции — сильны. В моем сердце — только любовь, и все же они искажают мои поступки, извращают их и называют меня существом, которое воплощает все, чего они боятся и что презирают в самих себе! Они сажают меня в тюрьму. Они пытаются пристрелить меня. Они содрогаются лишь от мысли, что делят землю с таким существом, как я. Одного взгляда достаточно, чтобы доказать, что я — преступник. Но каковы эти преступления? В Японии, в Индии, даже в некоторых частях Америки это — самые обычные поступки. И всем им прекрасно это известно. Они ненавидят хитрость и зло в своих собственных душах. Я — лишь невинное зеркало, — и это, конечно, типично. Но так неприятно быть Билли Баддом[607]. Я боролся с предубеждением всю свою жизнь. Девица Корнелиус говорит, что у меня чрезмерно развитое чувство греха. Она говорит, что я слишком часто себя обвиняю. Хотя я и ценю ее внимание, но смеюсь над подобными утверждениями. Я совсем не обвиняю себя, отвечаю я! И я очень сомневаюсь, что и Бог обвиняет меня! В конце концов, даже в дряхлости Он знает, сколько я страдал и ради чего. Я творил Его дело даже тогда, когда не понимал этого. Даже в Египте. Не стоит рассказывать здесь об обстоятельствах, которые 21 ноября 1924 года привели меня — в костюме-тройке хорошего качества, сшитом по последней «джазовой» моде, в шляпе Дерби и коротких гетрах, с гаванской сигарой почти футовой длины — снова в Голливуд, мой «родной город». Только для того, конечно, чтобы в очередной раз не случился мой триумф. Я не собирался принимать предложение мисс Дэвис и работать на нее; я был уверен, что скоро стану семейным человеком, женюсь на Эсме и обрету свое призвание, погрузившись в мир гармонии. Я тогда не сомневался, что Наука — моя истинная повелительница. Из довольно необычной комнаты в «Голливуд-отеле», которым все еще управляла миссис Хершинг, сочетавшая в себе черты «мадам» первоклассного публичного дома и пуританской матери-настоятельницы, я позвонил своему бывшему покровителю только для того, чтобы услышать: дружище Хевер уехал из города. Я запросил информационное бюро, но не смог узнать, где находятся Мейлемкаумпф и Эсме Болеску. Даже миссис Корнелиус в адресной книге не было. Наконец, посетив свой банк, я обнаружил, что предварительные выплаты не поступали в течение многих месяцев и на счету у меня осталось едва ли больше четырехсот долларов. Но, по крайней мере, мне в самое ближайшее время удалось узнать, что приключилось с миссис Корнелиус. В тот вечер я покинул гостиничный ресторан и отправился в «Китайский театр Граумана»[608], чтобы отвлечься от навязчивых мыслей и провести пару часов за сравнением ног, рук и копыт знаменитостей. Однако, пройдя несколько кварталов, я заметил огромный, освещенный прожектором рекламный щит в ярком, почти восточном стиле. Я сразу узнал своего ангела-хранителя, свою лучшую подругу, свою совесть и свою наперсницу. Это была миссис Корнелиус. Конечно, ее имени на афише не оказалось. Но теперь она наконец попала туда, куда всегда мечтала попасть (хотя она уже больше не была Шарлин Чаплин). Она стала Глорией Корниш, потеряла около стоуна[609] в весе, но ее нежная красота сохранилась. Мне начало казаться, что всякий раз, когда я сбивался с пути, всякий раз, когда я погружался в отчаяние и не знал, куда податься, — меня посещало видение старинной amie-du-chemin[610], как говорят во Франции. Я отметил, что кинокомпания называлась «Сансет пикчерз». Я решился написать туда. Сам фильм был одной из историй о «джазовых детках»; такие картины якобы ставили своей целью пробуждение общественного сознания. Я ненавижу подобное лицемерие. Фильм назывался «А был ли грех?» — и я пошел в кино просто для того, чтобы сказать о нем что-нибудь при встрече с миссис Корнелиус. Как выяснилось, картина обладала определенными достоинствами — трагическая история женщины, которая нарушает супружеский долг, и в конечном счете ее принуждают к проституции, наркотикам и прочим ужасным вещам те циничные молодые оппортунисты, что покупают и продают женщин, как мясо на рынке. Миссис Корнелиус играла падшую женщину, смешивая пафос и «идеал»; настолько чудесной актерской игры я на экране прежде не видел. И все же в то же самое время — heimisheh[611]. Но это была миссис Корнелиус в натуральном виде. Она всегда оставалась такой. Превратности жизни не портили ее. Она воплощала чистоту, и ради подтверждения этого я готов был драться на дуэли. Леди до конца — и великая артистка в любом смысле слова. Она одна поддерживала меня во всех победах и поражениях. Только она одна по-настоящему знает меня. В Киеве, когда я так высоко взлетел над Бабьим Яром, меня любили мать и Эсме. С тех пор лишь миссис Корнелиус признавала мои достижения и понимала мою душу. Если я выхожу теперь на улицу, какой-нибудь ухмыляющийся будущий гангстер всегда стоит на углу у магазина кроватей на Колвилл-террас[612], напротив Центрального банка. «Привет, профессор», — говорит он. Я не обращаю внимания на его насмешки и иду прямо к «Стауту», в бакалейную лавку. Там, по крайней мере, сохранилась некая старосветская любезность. Все служащие носят белые костюмы и надевают перчатки, подавая булочки, даже женщины. Эту традицию обслуживания давно позабыли, насмешливый мужлан на углу о ней и понятия не имеет. Когда я возвращаюсь по Портобелло-роуд, миссис Корнелиус машет мне из лавки торговца скобяными изделиями. Она живет в подвале дома номер восемь, и ей, как и мне, досаждают отвратительные юнцы. Но она продолжает сопротивляться, бросая вызов любому, кто стремится унизить ее из-за возраста, пола, общественного положения или внешности. Она никогда не унывает, она всегда отважна. Она не переменилась. Она грубым жестом мгновенно отгоняет юнцов. «Зайди на м’нутку и выпей тшашку тшая, философ». Когда она в настроении, то всегда величает меня этим титулом. Я вхожу в ее теплое сырое обиталище ниже уровня улицы, и там миссис Корнелиус утешает меня беседой, почти бессловесной, гармоничной и напевной. Она — все, что у меня есть, и все, что мне теперь нужно; моя добрая старая подруга. Когда-то весь мир принадлежал нам. Мы свободно наслаждались им, мы обитали на Олимпе. Я не могу жалеть о тех днях. Они всегда останутся со мной. Лучше сохранить такие воспоминания без будущего, чем обрести будущее без воспоминаний. Эти дети отвергают историю. Для них прошлое — просто passe[613]. Как они могут научиться не повторять былые ошибки, если уж они не в состоянии принять природу времени? Теперь даже настаивают, что природа времени изменилась. Если и так, то, разумеется, мы должны развивать этику, чтобы не пасть, не превратиться снова в диких скотов, верно? Миссис Корнелиус говорит, что я слишком много думаю о таких вещах. Она напоминает, что я ничего не могу сделать. Но человек должен попытаться, отвечаю я, если его совесть требует этого. В Инглвуде[614] я вручил записку консьержу студии, сидевшему в небольшой будке у главных ворот. «Сансет мувинг пикчер кампани» казалась процветающим концерном, а не одной из ненадежных кинофирм, которые так часто появлялись в давние времена; нередко под звучными названиями скрывались подлинные имена всем известных дельцов. Мое опасение, что миссис Корнелиус впуталась в дела каких-то темных барыг, рассеялось, и я на «Желтом вагоне» номер пять[615] вернулся из Манчестера в деловой центр Лос-Анджелеса, а уже оттуда направился в Голливуд. Путешествие в пригород заняло большую часть дня, но поездка прошла достаточно приятно, а потраченное время было хорошо вознаграждено, поскольку, когда я возвратился в «Голливуд-отель», миссис Корнелиус уже позвонила туда, сообщив, что ее автомобиль прибудет в семь и отвезет меня на ужин. Наконец я почувствовал, как тяжкое бремя спадает с плеч. Я вновь обрел уверенность в себе. Если Бог испытывал меня, очевидно, я сделал уже достаточно, чтобы заслужить Его милосердие; и в тот вечер я обедал в Беверли-Хиллз тет-а-тет с моей старой подругой, в комнате, откуда открывался вид на бассейн и пальмы — этот пейзаж казался воплощением романтического Востока. Если бы я не знал миссис Корнелиус так хорошо, то наверняка предположил бы, что она собирается меня соблазнить. Теперь она стала великолепной блондинкой, с огромными ресницами и восхитительным взглядом купидона; розовая, пышущая жизнью, во плоти она казалась еще красивее, чем на экране. Она носила платье из бледно-синего шелка и жемчуг. От нее пахло «Мицуко»[616]. Я был снова полностью опьянен, загипнотизирован ее изящной красотой, ее волшебным очарованием. Она слушала меня, почти не прерывая; она ела, пока я рассказывал свою историю, и иногда просила что-то дополнить или продолжить. Все случившееся ее испугало. — Я просто подумала, тшто ты и твоя девтшонка решили, будто Америка не довольно хороша для вас, и вернулись обратно — туда, куда пожелали. Ах ты бедный маленький педик! Я могу дать тебе несколько долларов, если хотшешь. Я сказал, что сейчас не нуждаюсь в деньгах, хотя попросил назвать надежного поставщика кокаина. Я чувствовал, что пора заправить горючим мозг. Миссис Корнелиус посоветовала мне связаться с известным актером, который в трудные времена добывал дополнительные средства, работая агентом у крупного дилера; между тем она поведала мне свою историю, объяснившую большую часть таинственных случаев. В тот день, когда мы расстались на аэродроме, она повстречала красивого молодого человека, который, подобно Хеверу, был партнером в кинокомпании. — С той только разницей, Иван, что этот тип еще тшертовски хорошо выглядел, смазливый такой. Как старина Троцкий до того, как он натшал слишком серьезно к самому себе относиться, мать его. Я, кстати, слыхала, что он теперь во Франции. Эти парни все время ссорятся между собой. Тшорт, к концу делается всегда так скутшно! Затем она улыбнулась, вспомнив об одном комическом происшествии из ужасных лет гражданской войны; в те времена она не раз помогала мне выпутаться из передряг. Она не знала, что произошло с Хевером и моим паровым автомобилем. — Все продлилось только две недели — а тогда я повстретшала моего шведа, Вольфганга. Он с виду настоящая немтшура, но на деле совсем не такой. Ну, Хевер рассердился, прямо тебе скажу. Отшень даже! Разозлился на меня и, по ходу, на тебя. Написал это дурацкое письмо, про нарушенные обещания и протшую хрень. Еще написал, тшто не отшень удивился, когда мы сбежали; будто бы мы пара шантажистов и негодяев, и ему теперь наплевать на их долбаный Ку-клукс-клан; он смылся в Европу, а потом собирался на охоту в Африку. Не удивлюсь, если много треклятых зверей укокошат только из-за того, тшто один тип не смог добиться своего! — Он ничего не писал о моей машине? — Не особо много, Иван. Но, я полагаю, тебе лутше про это забыть. — Машина принесла бы ему миллионы, — сказал я. — И мне, конечно, тоже. Я решил, что отправлюсь назавтра в Лонг-Бич, получу доступ к своему изобретению и, возможно, перегоню его. Технически, согласно контракту, автомобиль был нашей общей собственностью, но Хевер отправился за границу, и мне следовало как можно быстрее найти нового финансиста. Я объяснил это миссис Корнелиус, которая сказала, что я могу поступать как угодно. По ее словам, она упомянула обо мне, подающем надежды сценаристе и актере, в разговоре со своим другом Вольфгангом Сьостромом, известным шведским «секс-режиссером», который прибыл в Голливуд именно тогда, когда пришел к власти Хейс[617], и с тех пор с унынием взирал на то, что он именовал «буржуазным синема». Он пожелал нанять меня. Я поблагодарил миссис Корнелиус за ее доброту, но объяснил, что моя судьба связана с завоеванием и использованием сил природы ради блага человечества. Только нужда заставила меня стать актером. Кажется, ее это немного разочаровало, она выслушала меня с изрядным сомнением, но сказала: шансы всегда есть там, где я хочу ими воспользоваться. У Сьострома был контракт со студией Голдвина на две картины в год, но он также оставался партнером в «Делюкс». Он мог предложить мне множество небольших ролей. Так я сумею заработать немного денег, пока занимаюсь своими изобретениями. Я обещал миссис Корнелиус, что рассмотрю это предложение. Через пару часов после того, как мы закончили трапезу и темнокожие слуги убрали со стола, вошел «Вольфи» Сьостром. Меня удивили его габариты. Я представлял кого-то более худого и более романтичного. И все же, очевидно, миссис Корнелиус видела в этом огромном скандинаве настоящего героя! Должен сказать, что лично мне он не слишком понравился. На лице Сьострома постоянно выражалось нервическое беспокойство; даже когда он улыбался, создавалось впечатление, что этот человек страдает от расстройства желудка. Он, казалось, старался мне всячески угодить и даже несколько унижался; я заподозрил, что миссис Корнелиус преувеличила мои творческие достижения; это стало очевидно, как только Сьостром начал рассуждать о моих книгах и с благоговением заявил, что однажды американское общество будет готово принять истинный Философский Роман. Конечно, природная искренность побуждала меня сообщить Сьострому, что я вовсе не писатель, а инженер-практик, которому просто требуется небольшая финансовая поддержка, чтобы поразить весь мир. Но, дабы не ставить в неловкое положение миссис Корнелиус, я сохранял молчание, и вскоре Сьостром удалился в другую комнату с моей подругой. Она вернулась одна примерно через десять минут и сунула мне в руку несколько бумажных пакетиков. Так миссис Корнелиус снабдила меня кокаином. Теперь я все понял и поблагодарил ее. Шофер должен был меня отвезти в отель «Голливуд». Миссис Корнелиус собиралась позвонить мне через день-другой, чтобы проверить, как я устроился; но она, очевидно, не понимала, как сильно я переживал за Эсме. Моя подруга без всякого энтузиазма пообещала узнать, где, по крайней мере, можно отыскать Мейлемкаумпфа. Я в прекрасном настроении возвратился в свой отель, проехав мимо дремавших рощ и садов; всю ночь я разрабатывал новые планы. Утром я собирался посетить своего прежнего домовладельца, чтобы заполучить имущество, которое, по словам миссис Корнелиус, он удержал в счет арендной платы. Потом мне следовало сесть на «красный вагон»[618] до Лонг-Бич и там получить доступ к своему паровому автомобилю. По справедливости «Летун Палленберга» принадлежал мне. Пусть Хевер призывает каких угодно демонов — я верну машину себе, и будь что будет! Следующим утром я прибыл в доки Лонг-Бич, где располагались наши автомобильные ангары. Вдоль бетонных причалов и гаваней почти в бесконечность тянулись насосы, подъемные краны и нефтяные вышки, похожие на скелеты динозавров; соленый воздух был полон визга и рычания работавших машин, он стал почти непроницаемым от резко пахнувшего сизого дыма, который смешивался с прохладой декабрьской гавани, поднимаясь над водой, такой же синей и ровной, как новая сталь в лучах зимнего калифорнийского солнца. Наши ангары практически не изменились, разве что на щитах теперь появилась новая реклама вместо «Голден стейт инжиниринг». В главном ангаре несколько механиков ремонтировали небольшой гидроплан, поплавки которого, очевидно, ударились о воду под неверным углом. Один из молодых людей в комбинезоне, покрытом множеством пятен, показался мне знакомым. Я вежливо приветствовал его, как только появился в дверях. Именно Вилли Росс, ясноглазый мастер, так много сделал для запуска ЭОП‑I. Он посмотрел в мою сторону, прищурившись от солнечного света, потом узнал меня и улыбнулся. Вилли шагнул вперед, вытер пальцы тряпкой и протянул мне почти чистую руку. — Мы все думали, что вы умерли или вернулись в Европу, мистер Палленберг. Рад вас видеть. Как дела? Я кратко рассказал ему, что со мной случилось; он слушал с некоторым сочувствием. — Но я приехал сюда, чтобы забрать автомобиль. ЭОП-один. Где он теперь, Вилли? Он неуклюже потер пальцами заднюю часть шеи. — От него не слишком много осталось, мистер П. Не знаю, что вы там для него делали и что он там думал, но он приехал сюда, наверное, через день после вашего отправления в Нью-Йорк и приказал нам выкатить этот паровик. Прямо туда, на причал. Мы так и сделали. Мы выкатили машину. Тогда он полез в свой автомобиль и достал из багажника сорокафунтовую кувалду, а потом начал колотить по машине. Ну, вы же знаете, он — босс… Джон Хевер разозлился, словно какой-нибудь полубезумный венский еврей. Казалось, единственная причина, по которой он финансировал проект, заключалась в том, чтобы снискать расположение миссис Корнелиус. Какое презрение я внезапно испытал к этому человеку! Было совершенно ясно, что он не отличался дальновидностью, — но теперь я понял, что ему не хватило мозгов, чтобы оценить мою прозорливость! Я позволил Вилли проводить меня на свалку металлолома, которой пользовались все механические цеха, и там, среди прохудившихся котлов и обломков двигателей, среди разбитых частей всех транспортных средств, когда-либо перемещавшихся по воздуху, морю или суше, — там я нашел жалкие остатки моей великой мечты; я увидел восхитительный автомобиль ЭОП‑1: корпус «бьюика» был покорежен и изувечен, все стекла разбиты. Открыв капот, я обнаружил никчемную груду труб, проводов и котлов. Мой паровой автомобиль нельзя было спасти! В этот миг ужас уступил место гневу. Что за нелепое безумие! Gevalt! Каким дураком я был, раз доверился эдакой chozzer! Mah nishtana! Me duele aqui. Они вложили кусок металла в мою душу. ¡Estoy el corazon! Так sie raz osiel dasaù![619] Я не мог больше терпеть. Я отошел в сильном расстройстве, дрожа от гнева и разочарования. — Он отправился в Европу, — сказал мне Вилли. — Нас уволили. Но здесь нетрудно найти работу. Мне нравился ваш автомобиль, мистер П. Все мы полагали, что он покажет хорошие результаты. — Вилли задумался. — Я говорил Бобу, что мы приблизились к чему-то важному. Какое преуменьшение! Вообразите мое отчаяние! Уже не в первый раз, даже в таком юном возрасте, я сталкивался с горьким разочарованием, с крушением надежд. Неужели такова судьба всех людей, наделенных пророческим даром? Наверное, да. У каждого бывают хорошие годы и дурные годы. 1924‑й, возможно, нельзя назвать одним из лучших в моей жизни. Наняв такси до Венеции, я выяснил, где обитает хозяин моего прежнего дома в Сан-Хуане; когда он стребовал с меня ужасные пятьдесят долларов, я получил обратно вещи и отвез их в отель. К счастью, грузинские пистолеты — все, что осталось у меня в память о родине, — сохранились, вместе с моими чертежами, одеждой, небольшим количеством денег и примерно четырьмя унциями кокаина, уложенными в воздухонепроницаемую табакерку. Кокаин остался в идеальном состоянии — как новенький! Он был намного лучше, чем порошок, знакомый людям низших классов, к которому я уже успел привыкнуть. В общем, я набросал короткое письмо дружищу Хеверу, чтобы его возвращение домой стало не слишком приятным, — и больше ничем в тот вечер не занимался, только приводил в порядок вещи и наслаждался новообретенным экстазом. Я обрадовался, получив назад свой гардероб, и решил больше не задумываться об ужасном вероломстве Хевера; я окунулся в мир изысканности и элегантности. Я покинул отель и на такси доехал до пляжа Венеции, где представители модной богемы смешивались с актерами и магнатами. Я решил заказать роскошный обед в своем любимом ресторане, «Дворце дожей», а затем, насладившись сигарой и небольшой порцией бренди, обдумать, как лучше всего подобраться к новому покровителю, способному поддержать мои изобретения. Паровой автомобиль был не единственным тузом у меня в рукаве. Потом я собирался посетить знаменитый «дом» мадам Франс. Скоро я планировал составить новый список телефонных номеров «юных звездочек», с которыми всегда можно было провести время и которые ничего не требовали взамен, кроме обещания помочь им с карьерой, если когда-нибудь представится такая возможность. Дивное великолепие «Дворца дожей» ничуть не потускнело; он стоял в окружении высоких пальм, его переднюю площадку освещали искусно скрытые желтые и оранжевые фонари, и я собирался войти, когда передо мной предстал некто в ливрее наемника пятнадцатого столетия; его черное лицо исказилось в усмешке, словно он внезапно одержал победу в каком-то значительном соревновании; этот субъект проворчал, собираясь сесть в массивный «дюзенберг» местного магната: — Боже мой! Да это настоящий Летучий голландец!. Раздраженный такой дерзостью, я почти уже решился высказать свои жалобы колебавшемуся швейцару — и тут с превеликой радостью узнал парковщика. Это оказался мой старый приятель, спутник в приключениях на железной дороге, мой секретарь, разделивший со мной столько превратностей судьбы; человек, с которым мы провели много времени, беседуя о книгах, философии и политике. Хотелось бы думать, что я способствовал его образованию, поощряя его рвение к учебе и саморазвитию. — Джейкоб Микс! — воскликнул я в восторге. — Ты в Калифорнии? Как? Почему? — Ищу тебя. — Он насмешливо улыбнулся, а потом стал серьезным. — Я полагал, что ты, конечно, рано или поздно вернешься сюда. С твоим везением это был всего лишь вопрос времени. Оставалось только дождаться. — Он говорил без всякой иронии, с абсолютной уверенностью. Эта встреча казалась ему неизбежной. Радостно рассмеявшись, я потрепал его по плечу и заверил швейцара: — Мы с этим джентльменом — старые друзья! Я сказал мистеру Миксу, что встречусь с ним, как только пообедаю. Он бросал на меня восторженные взгляды. — Ну да, дела теперь пошли намного лучше! — пробормотал он себе под нос. Когда лакей распахнул передо мной дверь ресторана, мистер Микс добавил: — Кажется, я видел твою невесту где-то в городе. Но, может, ты уже ее догнал. Или просто поумнел. Все мысли о еде вылетели у меня из головы, я развернулся в противоположную сторону. Но Джейкоб Микс уже завел «дюзенберг» и покатил к задним дверям ресторана. Я услышал удивленный возглас швейцара, когда помчался за новоявленной темнокожей Кассандрой, чувствуя запах свежего следа. Эсме. Meyn shwester[620]. Meyn верная подруга.Глава четвертая
Думаете, что вы без греха? Ну, как говаривали у нас в Киеве, в трамвае всегда найдется место еще для одного святого. Мы справедливо судили о людях, и о евреях, и о язычниках, в былые времена, до того как трое красных, скрывавшихся под псевдонимами, затопили всю Россию кровью и назвали это «прогрессом». Однако не стоит сейчас раскапывать старые могилы. Я и сам некогда верил в будущее. Вы можете сказать, что мои убеждения — это и моя слабость, и моя сила. А еще я слишком доверял другим и в этом отношении сам всегда оставался собственным худшим врагом. Допускаю. Я продолжаю, как могу, поднимать факел христианской цивилизации, борясь против наступающей Темной Твари. Поистине, лучший факел! И все же я познал бремя вины и моральной двойственности, самое мучительное, самое невыносимое — я предал родственную человеческую душу! Поставив машину на первое место и не приехав в Нью-Йорк заранее, чтобы сделать все подобающие приготовления по части транспорта и отелей, я предал доверие, которое мне оказала Эсме. Со временем я понял, что это исключительно моя ошибка и нет ничего удивительного, что Эсме, охваченная горем и ужасом при мысли о предполагаемом предательстве, вычеркнула из памяти меня, своего спасителя, своего возлюбленного, своего любящего мужа. Скоро я узнал, в каком расположении духа находилась Эсме, — я позвонил ей по номеру, который дала Кармелита Герати, знаменитая «юная звездочка». В отеле признали, что она зарегистрировалась, но каждый раз, когда я звонил, отвечали, что связаться с ней нельзя. Это был небольшой, но очень уютный частный отель на бульваре Сансет в Западном Голливуде, окруженный пальмами и расположенный на огороженном участке. Когда я представился, консьерж вежливо принял мои сообщения, но остался чрезвычайно сдержанным и довольно надменным. Я понял, что такова его манера поведения. Я объяснил, что некоторые трагические события привели к недоразумению между нами, но никак не мог добиться от консьержа, когда Эсме должна вернуться. Мои терзания теперь превратились в постоянную тупую боль, и я мог заниматься обычными делами, не прилагая особых усилий воли, а Кармелита Герати, Хэзел Кинер, Люсиль Риксон и Бланш Макхаффи помогали мне забыть о пережитом. Мои попытки связаться с Эсме превратились в часть рутины. Каждый день я оставлял сообщения. Я был великим оптимистом тогда. Будущее казалось бесконечным, и оно могло нести только счастье. Теперь все иначе. Нет никаких правил, никаких границ Времени. Я изведал зрелость и старость в мире, который стремился дать новую форму, даже новый смысл самой вселенной. Что мне оставалось делать? Как древний моряк, дрейфующий по течению в открытой лодке, я предпринимал максимальные усилия, чтобы определить наиболее безопасный курс в чужих морях под чужими небесами. Черномазые развязно прохаживаются по моему магазину. Они говорят, что теперь здесь их территория. Уверен, это именно так, отвечаю я. Вот чем все кончилось. Они заблуждаются, полагая, что у меня есть время для их «зута» и «джайва»[621], что я завидую их кислотному обществу, которое существует за счет наркотиков. Я родился в мире труда и страданий, где удовольствие заслуживали и оплачивали, где Природа была не чарующей и не идеальной, а подчиненной, где за преступлением следовало наказание. Кусок металла у меня в животе. Они вложили раскаленное добела железо в мою душу, и мои муки заполнили всю галактику, разрушив звезды, но я пережил даже это. Я стал сильнее. Я умер и воскрес. Я пережил холокост. Я пережил унижения и отчаяние. И даже теперь, ведя никчемную жизнь торговца, покупая и продавая ненужные костюмы и униформы двадцатого столетия, я, по крайней мере, сохранил свой голос, свою память, нашу историю; и я выжил, чтобы поведать всю правду. Для этих детей влиятельные лица, создавшие их мир, стали мифическими людоедами и полубогами. Я видел, как самая сущность нашей планеты подвергается великим и мучительным трансформациям, как совершаются судьбоносные изменения в Эпоху Человека. Я видел людей, умиравших в презренном ужасе и духовных терзаниях; они гибли один за другим, подтверждая принцип «смерть за смерть», — сначала миллион, потом два миллиона, потом десять миллионов; миллион за миллионом умирали они, один за другим, в канавах и в лесах, в поездах и в лагерях, в церквях и сараях, в квартирах и хижинах, под снегом и дождем или при свете солнца. Расстрелянные, погребенные заживо или утопленные, замученные, униженные, изувеченные, лишенные чувства собственного достоинства — они умирали один за другим, дети и старики; люди всех возрастов. Миллион за миллионом… Они смотрели, как убивают их любимых. Они умирали во имя прогресса, они умирали за будущее, которое обращалось в пепел в тот миг, когда они погибали. И это испепеленное будущее еще цепляется за жизнь тут и там, в тех частях мира, которые восприимчивы к воздействию раковых клеток времени. И когда такие раковые образования появляются, их почти невозможно уничтожить, даже при помощи самых тонких, самых радикальных операций. Но едва ли кто-то будет прислушиваться к людям, способным к исполнению такой операции. Вряд ли эту эпоху можно назвать временем смелых и бескорыстных решений. Жадность — теперь почтенное достоинство, а зависть — прекрасная поддержка «амбиций» или жажды власти. Ложь стала банальностью. Былые добродетели осмеяны и унижены. Люди хохотом встречают самые благородные чувства и стремления. Вот почему я перестал ходить в Национальный дом кино[622] и искать, не мелькнем ли мы с миссис Корнелиус в каком-нибудь фильме. «Дорога во вчерашний день»[623] и другие великие моралистические истории нашего времени порождали искреннюю радость, которую нельзя сдержать. Иногда по телевизору я вижу фильмы двадцатых, не окончательно убитые нелепыми саундтреками. В те дни в кино стоило ходить. Кино чувствовало моральную ответственность; оно признавало свое влияние на общество — оно предлагало новую этику, а иногда — чтобы поднять зрителей выше уровня жадного стада — даже открывало новые идеалы. «Дорога во вчерашний день» с Хопалонгом Кэссиди и Верой Рейнольдс (которую я повстречал несколько лет спустя во плоти; тогда я смог выразить свой восторг) показала нам мир прошлого и осветила мир настоящего. В тот же день я увидел последнее лирическое приношение старому Западу Уильяма С. Харта, которого вытеснил очаровательный сорвиголова Том Микс во «Всадниках Пурпурного ранчо» Зейна Грея с Чарли Ченом. Я восторгался Рикардо Кортесом и Бетти Карни в «Пони-экспрессе». Я был поражен «Затерянным миром», который прочитал еще в виде романа с продолжением в «Стрэнде»; фильм с Уоллесом Бири и Бесси Лав владел моим воображением в том году, пока я не увидел «Мы, современные»[624], величайшую моралистическую историю наших дней с сильнейшей кульминацией, когда «джазовые детки» в неведении танцуют на палубе большого дирижабля, не подозревая, что в корпус вот-вот врежется самолет! Конечно, фильм был основан на книге Зангвилла. Я никогда не говорил, что все евреи безнравственны! Я также видел ленту «Она» с Бетти Блайт, «Лорда Джима» и «Волшебника страны Оз»[625], но «Мы, современные»… Этот фильм произвел самое сильное впечатление, и я бы и дальше смотрел его, если бы не начал понимать, что денег уже не хватает. К тому времени я наслаждался обществом кое-кого из «джазовых деток», которых видел на экране. Джоан Кроуфорд, Клара Боу и Альберта Вон[626] — все эти леди сочли меня достаточно привлекательным для того, чтобы проводить с ними время; с их помощью, конечно, мне удавалось получать кокаин хорошего качества. А превосходный кокаин помог мне серьезно оценить сложившуюся ситуацию. Денег, оставшихся на моем банковском счете, вместе со средствами, которые были на руках, хватило бы на месяц с небольшим (если регулярно посещать мадам Франс), а я совсем не хотел занимать деньги у миссис Корнелиус. Она, конечно, широким жестом распахнула мне свой кошелек. В течение некоторого времени я не желал связываться с Херстом. Я вспоминал о встрече с бывшим партнером дружища Хевера, Голдфишем[627]. Он попросил меня прислать синопсис «Белого рыцаря и красной королевы». Как всегда, вместо того чтобы сожалеть об упущенных возможностях, я сосредоточился на оценке своих непосредственных ресурсов. Я не планировал постоянно заниматься сочинением сценариев, но нужно было поскорее заработать немного денег, а этот способ казался единственно возможным. Я, конечно, хотел отыскать для своих изобретений покровителя, наделенного большим воображением, нежели Хевер, «ангела», интерес которого к моей работе был бы основан на более существенных вещах, нежели «дутая сознательность». Вдобавок мне не хотелось пользоваться предложением миссис Корнелиус. Она могла сделать так, чтобы ее друг нанял меня, но я уже извлек урок из подобной ситуации и повторения пока не желал. Таким образом, среди множества симпатичных, талантливых и сексуально искушенных девушек, что в те дни заполонили рынок, я отыскал опытную машинистку и предложил ей отпечатать сюжет пьесы, которую мы с миссис Корнелиус играли в разных штатах. Основную работу взял на себя я; я излагал ей сцену за сценой, в то время как девушка делала заметки. Она немного помогла мне с английским: тогда я владел языком не идеально, и скоро мы подготовили примерно дюжину страниц, которые можно было отправить знаменитому независимому продюсеру, герою и жертве двух великих кинокомпаний — к тому времени он поменял фамилию на «Голдвин» и снова занялся производством качественных фильмов. «Мусор, — не раз говорил он, — не хранится долго. При надлежащем качестве вы получаете инвестиции, приносящие высокую прибыль, которая будет поступать в течение многих лет». Именно эта вера в качество как основу коммерческого здравомыслия привлекла мое внимание, и эта же вера обеспечила нам обоим совершенно особое место в истории кино. Я сожалею только о том, что моя роль и роль миссис Корнелиус были вырезаны из «Алчности» фон Штрогейма[628]. Пират Майер[629] перехватил фильм и сделал из сорока двух катушек пленки десять! Это только пародия на картину, которую все зрители первоначальной версии считали величайшей из когда-либо снятых. Она стала шедевром эпического реализма. Я бы даже сказал, что она затмила «Рождение нации», но фон Штрогейм никогда не был таким профессионалом, как Гриффит. Мэдж Паддефет, моя секретарша, симпатичная девочка из Миссури, очень удивилась, узнав о моих близких отношениях со многими экранными знаменитостями. Сама она была большой поклонницей миссис Корнелиус, и я, с обычным добродушием, обещал ей автограф моей подруги. (Мэдж позже прославилась под именем Вивьен Прентисс[630], особый успех ее ждал во Франции. Выпивка сгубила ее, но в те годы она была умненькой «джазовой деткой», которую поразило, что я хотя бы слышал о городе Ганнибал, уже не говоря о том, что побывал там. Я не собирался уточнять обстоятельства этого визита.) Она приезжала ко мне в отель два раза в день, и, конечно, прошло совсем немного времени, прежде чем естественное влечение почти незаметно увлекло нас в постель. Тогда Голливуд еще не поддался буржуазным идеалам, представлениям о «норме», и Мэдж подарила мне утешение, в котором я так нуждался. Ее, как и многих других девочек, всему научил отец. Бедный мученик Арбакль[631] (я очень хорошо его знал) и Хейс — они вместе отправили американское кино по той дороге, которая в конечном счете привела к появлению широких брюк, какие носили люди среднего класса, на Микки Маусе и к замене Перл Уайт и Теды Бары на «Блонди» и «Поцелуй меня, Харди» [632]. Когда это произошло, сказали, что Америка «выросла». Но у нас был свой кодекс и своя мудрость и мы могли бы позаботиться о себе, если бы Большой Бизнес и Международный Сионизм не замыслили тайное покушение на любовь к воле и терпимости, которая сотворила особый мир кино в те ранние, невинные годы, когда к сексуальному освобождению относились с меньшим благоговением и большей радостью, нежели, как представляется, в наше время. Последняя победа над Искусством была одержана, когда мы наконец смогли заговорить, давая собственные интерпретации ролям, — после чего все художники, наделенные цельностью и индивидуальностью, исчезли, их сменили Хорошие Американские Парни и Типичные Американские Девочки. Клара Боу, с которой я переписывался до 1953 года, знала о заговоре все, как и миссис Корнелиус, и Норма Толмедж. Луиза Брукс писала об этом. Джона Гилберта заговор погубил, как и Джона Бэрримора[633]. Клара вышла замуж. Она пыталась стать хорошей девочкой. Но это сводило ее с ума. Ее характер был таким же свободным, как и мой. Свобода — угроза для легкой прибыли. Это — первая вещь, которую уничтожают корпорации. Они предлагают варианты выбора и называют это свободой. Но мы-то знаем, какой была настоящая свобода в 1924‑м. Мэдж сама доставила мою рукопись в офис Голдфиша, но смогла вручить ее только привратнику; мы оба очень удивились, когда на следующий день раздался телефонный звонок: Голдфиш ожидал меня в четыре часа. В те дни он уже разорвал отношения с «Метрополитен» и Майером (который, по иронии судьбы, сделал состояние на актерах-любителях). Он снова стал доступным эксцентричным аристократом, а не одним из голливудских королей. «Сэмюэл Голдвин продакшнз» уже выпустила несколько успешных и хорошо принятых критиками фильмов, таких как «Тусклость», «В Голливуде с Поташем и Перламутром»[634] и многие другие. Голдвин был типичным колоритным варшавским евреем. Из вежливости я обратился к нему на идише, но он настоял на том, чтобы говорить по-английски; потом он смягчился и перешел на идиш, которым владел гораздо лучше. Мой текст его впечатлил. Он как раз искал что-то подобное. — Нам нужно, — серьезно произнес он, — показать людям, как там обстоят дела. — Ему понравился основной сюжет, и он считал, что нашел человека, способного поставить такой фильм. — Он на самом деле швед, но кого это волнует? — Голдфиш захихикал и подмигнул мне. — Да и кому это известно? Мне Голдфиш показался радушным и обаятельным человеком, мало отличавшимся от завсегдатаев заведения лохматого Эзо, моих старых одесских друзей из Слободки. Мы оба ностальгически вспоминали довоенную Россию. Голдфиш сказал, что моя история отличается убедительностью, которая свидетельствует о богатом личном опыте. Он немного расспросил меня об участии в гражданской войне. Я рассказал ему, как сражался вместе с белоказаками, как меня захватили анархисты, как я сбежал в Стамбул. Он выразил сочувствие, но услышанное не произвело на него особого впечатления. — С таким враньем вы могли бы быть Романом Новаччо[635], - заметил он. Несомненно, Голдфиш уже наслушался сказок от недавно обнаруженных родственников и соотечественников, желавших получить работу. Я не собирался извлекать выгоду из своей военной карьеры, хотя, естественно, постарался, продемонстрировать Уолдфитпу полное отсутствие антисемитизма. Это он счел само собой разумеющимся, как будто иных взглядов не существовало в цивилизованном мире. Его не удивили мои упоминания о Боре Бухгалтере и прочих одесских приятелях-евреях. Никаких затруднений не возникло, и вскоре мы полностью сосредоточились на реализации моего сюжета: он, хотя и менялся в деталях, поскольку Голдфиш предлагал способы, которыми его можно было наилучшим образом представить на экране, в основном оставался верен моей оригинальной концепции. Не раз Голдфиш отмечал, что история тронула его за живое. Он спросил, как я представляю сцену, в которой комиссар женского батальона смерти, Татаня (до революции — графиня), приговаривает к расстрелу князя Димитрия, предводителя белых. Я объяснил, что по образованию я инженер-строитель и поэтому мне гораздо проще нарисовать всю сцену. Голдфиш достал лист бумаги, и я быстро изобразил схему — обвинение, приговор, осуждение. Голдфиш одобрительно кивнул. — Мало кто умеет так рисовать. Внезапно наша беседа прервалась. Секретарь, которая представилась Сейди, проводила меня до парадных ворот. Голдфиш сообщит мне, как студия сможет использовать сюжет. Сейди протянула мне конверт, в получении которого следовало расписаться. Я прошел пару кварталов, пока не убедился, что меня не сможет увидеть никто из офиса; тогда я открыл конверт. Там лежал чек на двести пятьдесят долларов и письмо от Голдфиша, в котором говорилось, что я официально нанят «Сэмюэл Голдвин продакшнз» для написания сценария, основанного на моем сюжете. Голдфиш свяжется со мной, как только вернется из Берлина. Чтобы отпраздновать этот успех, я пригласил Мэдж на рождественский обед в кафе «Альфонс», а оттуда мы перебрались в ночной клуб. Я не мог провести ее в отель «Голливуд», не привлекая ненужного внимания, поэтому мы просто сняли комнату на ночь у мадам Франс и провели незабываемое Рождество. Однако повсюду скоро появились следы запустения. Даже в те дни центр Лос-Анджелеса свидетельствовал о социальном упадке, и почти все отели стали, можно сказать, «коммерческими». Конечно, теперь все они таковы. Вероятно, ощутив прилив вдохновения в новом окружении, Мэдж продемонстрировала, что наделена воображением и открытой душой. Я обнаружил, что до тех пор попробовал только soupçon[636] ее замечательного сексуального меню. Нельзя было поверить, что некоторые из ее желаний и наклонностей могли возникнуть взахолустных районах Миссури. Я, поразмыслив, пришел к выводу, что она не раз регистрировалась в дешевых отелях под вымышленными именами, а возможно, и работала в учреждениях, подобных заведению мадам Франс; и все же я по-прежнему испытывал к ней сильное влечение и даже решил нанять ее на постоянную работу, как только у меня появится такая возможность. После ночных развлечений у меня все еще оставалось в кармане около ста пятидесяти долларов; я мог рассчитывать на большие поступления, если Голдфиш не нарушит слова. Имевшихся денег мне бы хватило на месяц; за это время следовало найти работу, более подходящую для моих талантов. Я уже собирался обратиться к Уильяму Рэндольфу Херсту — он ведь был руководителем большого инженерного концерна, а не только студийным боссом — и набросал письма нескольким другим заметным магнатам, включая Хьюза[637] и Дюпона, предложив им возможность воплотить кое-какие изобретения, которые я начал реализовывать в России, Турции и Франции, прежде чем волею обстоятельств я оказался в Америке. Мэдж согласилась напечатать эти письма, как только у нее появится свободная минута. Оставшееся время мы провели с миссис Корнелиус, ее «красавчиком» и их друзьями, в основном известными личностями из мира кино. Миссис Корнелиус ревновала к Мэдж значительно меньше, чем к Эсме. Она доверительно сообщила, что считает Мэдж «приличной» и советует мне остаться с ней. Я заметил, что обручен с другой девушкой. Я не мог пообещать Мэдж ничего, кроме временных отношений. Вдобавок были и другие доступные молодые особы. Я выразил надежду, что как джентльмен не обману доверия юной девушки из Миссури. Хотя, заметил я, она даже не была девственницей, когда мы встретились. — И она не одна такая! — решительно заявила миссис К. Я так и не понял, о ком она говорила, о себе или о ком-то еще. Пока мы находились в гостиной одни, я воспользовался случаем и спросил, удалось ли ей что-нибудь разузнать об Эсме. Все, что ей было известно, — Мейлемкаумпф, всячески старавшийся избегать внимания публики, в настоящее время с необычайным усердием охранял свою частную жизнь. — Если это как-то связано с его женой, я не удивлюсь, Иван. Я учел ее замечание. Пресса могла самым непристойным образом истолковать заботу Мейлемкаумпфа о моей возлюбленной. Теперь, узнав больше об этом человеке, я уже не подозревал, будто он собирался утолить низменные желания, уединившись с Эсме на каком-то удаленном ранчо. Я понял: Эсме, решив, что ее бросили, инстинктивно обратилась за помощью к местному, американскому джентльмену. Я сказал миссис Корнелиус, что жду, когда мне представится возможность все объяснить. Она выразила мнение, что нам обоим, вероятно, следует кое-что объяснить, но прежде, чем миссис Корнелиус успела развить мысль, к нам присоединился Бак Бухмейстер со своими шумными приятелями-инженерами, которые обсуждали декорации, только что возведенные для «Граустарка» Дж. М. Шенка[638]. Бухмейстер, как мне кажется, приложил руку и к режиссуре фильма, но под псевдонимом. В те времена люди довольно часто «подрабатывали» в конкурирующих студиях за дополнительную плату, чтобы помочь друзьям или добиться какой-то выгоды. Вполне резонно предположить, что в Голливуде только один человек из трех сохранял свое настоящее имя. Эту моду завели евреи, у которых, конечно, имелось множество поводов для того, чтобы следовать подобному обычаю, — многие таким образом ассимилировались в Америке. Не то чтобы эти евреи были неграмотны или необразованны. Я не могу ничего дурного сказать о лучших евреях. Они очень сильно помогают нашему обществу и зачастую приносят много добра. У меня есть только одна оговорка — нет ничего здорового или нормального в том, что раса, находящаяся в меньшинстве, сохраняющая традиции, многие из которых противоречат нашим устоям, управляет нашей культурой. Не удивительно, что в те годы в кино проникали некие чуждые идеи. Достаточно вспомнить «Врага», «Назови человека», «Тот, кто получает пощечины», «Дело Лены Смит» или «Мужчину, женщину и грех»[639]; по большей части действие этих картин происходило за границей, а их содержание едва ли сочеталось с идеалами американского народа. Не то чтобы я выступал против Джинн Иглс — я восхищался ею во всех фильмах, — но я совсем не удивился, когда узнал о ее трагической смерти. В каждой роли, которую ей приходилось играть, скажем, в «Ревности» и «Письме», было что-то ненормальное[640]. И неизбежно случилось так, что в сороковые годы огромное сердце Голливуда поразил коммунизм, и пришлось прижечь рану — это средство некоторые считали грубым и жестоким, даже чрезмерным, но многие из нас знали, что оно еще недостаточно радикально. Вот вам доказательство: коммунисты перебрались в другие страны, продолжив свою деятельность, а некоторые, вроде небезызвестного Кубрика[641], просто изменили имена, ни на миг не смутившись! И мы теперь видим результаты, день за днем, на Би-би-си и Ай-ти-ви[642], которые превратились просто в перечисление всех язв, когда-либо существовавших на Земле. Я человек терпимый и спокойный, но порой я думаю, что был неправ. «Живи и дай жить другим» — это кредо оказалось ошибочным, особенно в дни моей голливудской славы. Несмотря на то что мои мысли постоянно возвращались к Эсме и предположениям о том, как она проводила свои первые каникулы в Америке, Рождество у Бухмейстера прошло довольно весело. Я поговорил с несколькими декораторами и предложил решения их проблем. Казалось, они посчитали, что у меня врожденный талант к их профессии, и один из них, Ван Нест Полдарк (корнуоллский пират, как он себя называл, — в числе его предков были писатели, контрабандисты и морские разбойники), сказал, что мне следует работать в техническом отделе главной студии. Я рассмеялся и ответил, что я инженер по профессии и призванию. Он возразил, что есть и более доходные места, и мне следует попробовать свои силы в создании декораций. «Тут нужны знания Исаака Ньютона и художественное чутье Микеланджело», — сказал он. Я думал, что Полдарк, подобно многим другим представителям кинематографического братства, склонен к преувеличениям, но он дал мне свою карточку и предложил встретиться на студии «Парамаунт» — он совсем недавно устроился туда. Я не стал выбрасывать карточку. Позже я объяснил Мэдж: если я не смогу увидеть, как мои изобретения воплощаются в реальном мире, по крайней мере, я получу удовольствие, наблюдая их на киноэкране. Так я сумел бы передать общественности те образы, которые возникали в моем сознании. Я никогда не презирал и, надеюсь, не отвергал массовые искусства. Загоревшись мыслью о том, что мне удастся популяризировать некоторые особенно важные идеи, я стал всерьез обдумывать предложение Полдарка. Мой энтузиазм по этому поводу быстро сменился, однако, совершенно иным настроением. Мы с Мэдж, пользуясь праздничной суматохой, смогли ускользнуть ко мне в номер, где я, желая доставить ей побольше удовольствия, познакомил девушку с тем оклеветанным препаратом, который первооткрыватели назвали «эль Невада»[643] и который сослужил такую необычную службу человеку двадцатого столетия. На следующий день мы оба вымотались до предела, испробовав почти все сексуальные вариации, возможные для двух атлетически сложенных молодых людей, ограниченных пространством небольшого гостиничного номера с постелью четыре на шесть футов. Мне нравился тяжелый мускусный запах сливочной темной кожи, который намекал, что у Мэдж была примесь негритянской крови. Опыт подсказывает мне, что окторонки[644] или мулатки становятся самыми страстными любовницами, особенно если в их жилах есть толика еврейской крови. Стоит поразмыслить о том, почему мавританских женщин до сих пор чрезвычайно ценят в гаремах Северной Африки и Ближнего Востока, но об этом я скажу позднее. (Именно Мэдж, само собой разумеется, первой заговорила о том, чтобы пригласить кого-то третьего.) Я сказал Мэдж, что она может поработать на следующий день. Мне стоило отдохнуть и подготовить новые заметки к предполагавшемуся сценарию. Она ответила, что приедет утром, а не днем, поскольку у нее назначена встреча в четыре часа; наконец-то она пройдет прослушивание. Я пожелал ей удачи, но попросил не слишком увлекаться этой идеей. Из сотни девочек в Голливуде, может, всего одна или две могли рассчитывать на законную работу в кино. Сообщив, что голова у нее сидит на плечах крепче, чем у всех прочих, энергичная маленькая развратница поцеловала меня в нос и уехала. Полчаса спустя зазвонил телефон. Консьерж сообщил, что прибыла некая молодая особа, желавшая встретиться со мной. Помня о гипертрофированных нравственных принципах этого заведения, я сказал, что спущусь в холл. Несомненно, Мэдж забыла что-то уточнить, а поскольку она не могла позвонить по телефону, то просто развернулась и вновь пришла в отель. Я быстро оделся, зная, что выгляжу в этот час не лучшим образом, но примерно так же выглядит и Мэдж, и спустился по укрытой толстым красным ковром лестнице в холл. И здесь, вся в белом, как ангел, с волосами коротко подстриженными по последней моде, так что любой мог бы принять ее за Рут Тейлор[645], - здесь стояла моя возлюбленная! Она наконец пришла ко мне! Вне себя от радости я бросился к ней, а затем, осознав, насколько сильно устал, приостановился. — Эсме? Если мне требовалось подтверждение, то им послужила чудесная трель смеха, эхо которого заполнило большой холл. — Максим! Теперь я Эмили Дейн. Как и ты, я стала американкой. Она раскрыла объятия, чтобы прижаться ко мне. Хотя я жаждал этого, но снова заколебался. Я сам чувствовал зловоние, пропитавшее мое тело за минувшие шестнадцать часов. У меня на усах остался запах духов Мэдж. — Я грязен, — ответил я. — Всю ночь работал. Сядь здесь и подожди; я приведу себя в порядок. Через пятнадцать минут я вернусь. — Но, Максим, у меня есть всего пятнадцать минут! Автомобиль ждет. — Она нетерпеливо взмахнула рукой. — Автомобиль? — Я был ошеломлен, увидев свою суженую во плоти. Наконец-то передо мной предстала та девочка, которую я спас из самых порочных трущоб Стамбула. Моя прежняя возлюбленная трахалась так, что у нее во влагалище появились мозоли, но эта перевоплощенная Эсме, очищенная Эсме, мой милый маленький ангел, моя младшая сестра, моя возродившаяся суженая! Неужели она сказала, что уезжает? — Куда ты собираешься? — Я должна встретить Вилли. Это так ужасно. Он, знаешь ли, капризный. Я так хотела увидеть тебя. И вот самая первая возможность, которая мне представилась, мой дорогой! — Она терзалась от неутоленной страсти. Я потянулся к ней, но тут же остановился. — Ты прощаешь меня? — Слезы выступили у меня на глазах. Я с трудом сдерживался. — За что? — спросила она. — Коля объяснил, что ты должен был сделать то, что сделал. И когда ты не появился в порту, я просто подумала, что ты все еще в бегах и свяжешься со мной в Лос-Анджелесе. Вилли был так добр. У него собственный поезд, который идет на побережье из Чикаго; он предложил меня подвезти. Теперь он помогает мне. Ну, ты знаешь, как это происходит, любимый. Мне нужно быть дипломатичной. Но теперь мы наконец-то вместе, и ничего плохого не случилось. Есть большая вероятность, что я скоро получу роль в кино! Разве ты не будешь мной гордиться? — Я уже горжусь тобой, мой ангел. Мне нужно так много тебе сказать, так много объяснить. Я, наверное, сам буду работать в кино. — О, любимый! Ты уже кинозвезда! — Не совсем. Я буду, вероятно, снимать фильм, сценарий которого сейчас пишу. Что до актерской игры… конечно, у меня есть опыт. Посмотрим. — Я прочитала все твои письма, и твои маленькие записки, и все остальное, Максим. Она была далеким цветком, мечтой о небесах в белом шелке и мехах, с небольшим личиком в форме сердечка, обрамленным изящным шлемом из недавно осветленных волос, с голубыми глазами, источавшими темный блеск. Я никогда не видел ее такой красивой, даже в тот первый раз, когда я внезапно заметил ее, мою возродившуюся музу, в «Ротонде». Ma soeur! Meyn shvester! Moja rozy! Dans la Grande Rue, lallah… Hiya maride. Ma anish råyih… Qui bi'l'haqq, ma tikdibsh! Awhashtena! Awhashtena! Samotny, Esmé. Samotny![646] Мне так одиноко, Эсме. Так одиноко. О, я мечтал о тебе долгие пустые годы. Они забрали тебя, мою музу, мой идеал, мой смысл жизни, и они сделали тебя шлюхой. И теперь я думаю: разве это не знак вечной благости Бога — то, что ты должна возвращаться ко мне, раз за разом, как будто в подтверждение мысли, что подлинная красота, подлинная любовь, подлинный альтруизм не увядают, независимо от того, в какие бездны падает мир? Что эти неувядающие ценности никогда не исчезнут и не забудутся? И вот ты предстала передо мной, ты поспешно рассказала о доброте Мейлемкаумпфа и о положении, в котором ты теперь очутилась и которое можно было назвать компрометирующим, потому что ты не изложила Мейлемкаумпфу всех деталей своей истории. — Он думает, что меня должен был встретить брат, но он, вероятно, погиб во время гангстерских разборок. Как я мог упрекнуть за ложь во спасение? Я и сам в точно таких же обстоятельствах решался на подобную, и, хотя от нее никогда не бывало вреда, порой она могла смутить или вызвать нежелательные осложнения — вот почему я давно уже перестал лгать. — Когда ты сможешь уйти, чтобы увидеться со мной? — спросил я. — Очень скоро. Мы собираемся на север на несколько дней, чтобы навестить Херста на его ранчо. Мы должны вернуться к концу недели. Возможно, ты договоришься с кем-нибудь о роли для меня? Эта последняя просьба прозвучала с той обезоруживающей, сладостной нежностью, которую я никогда не мог позабыть. — Конечно. Но мы должны поговорить как можно скорее. Хотя ее невинное упоминание о Херсте вызвало у меня непреодолимую дрожь, я гораздо сильнее испугался того, что Эсме придется оставить меня снова и мы опять разлучимся на целую вечность! Я упивался ее красотой. Эсме почти не переменилась. Она, конечно же, стала более утонченной, чем тогда, когда мы с ней встречались в последний раз: в Париже она освоила манеры и правила, необходимые благородной леди, и, несомненно, Коля и его жена помогли ей. Ее изумительная осанка напомнила мне Теду Бару. Я упомянул о том, что миссис Корнелиус теперь добилась больших успехов в кино, и Эсме пробормотала на турецком фразу, которой я не расслышал. Повторять ее времени не было. Эсме понизила голос и спросила по-французски, есть ли у меня для нее «neige»[647]. Ее запасы кончились, а Вилли Мейлемкаумпф неодобрительно относился и к наркотикам, и к алкоголю, поэтому не собирался ей помогать. — Вот что у них с Херстом общего, помимо их миллионов. Я был рад оказать услугу своей суженой. Наркотики уже стали нашей связью, способом поддерживать контакт до тех пор, пока ей не удастся возвратиться ко мне, не расстроив Мейлемкаумпфа. Я слышал, что в Неваде можно пожениться, не предъявляя большого количества документов, и попытался сказать обо всем этом Эсме, когда возвратился с небольшим бумажным пакетом и вложил его в теплую полудетскую ручку. Как же она была красива! Луиза Брукс[648], наверное, подражала моей Эсме; именно так она сделала состояние в Германии. Но, как мне слишком хорошо известно, есть цена, которую нужно платить всякому, кто опережает время. Мало того что о твоих заслугах не упоминают, так еще и деньги достаются не тебе, а подражателям… Потом я хотел поцеловать Эсме, но не успел. Взметнулись серебряные волосы, она кинулась к ожидавшему «мерседесу», бросилась в похожий на пещеру салон и махнула рукой темнокожему шоферу так, словно приказывала извозчику поскорее погонять лошадей. Только тогда, когда она исчезла, мне пришло в голову, что ее водитель тоже показался знакомым. Это был не кто иной, как сам Джейкоб Микс. Возможно, именно его мне следовало благодарить за перемену в настроении Эсме? Me duele. Tengo hambre. Me duele. Me duele[649].Глава пятая
Яне слишком горжусь тем, как зарабатывал на жизнь в 1925 году. Гордиться особенно нечем. И все же не думаю, что со времен детства когда-либо еще чувствовал себя таким беззаботным и столь многого достигшим. Проведя большую часть года в состоянии почти совершенной эйфории, я практически забыл, что родился для борьбы за дело науки и человечества, что мое предназначение — строить огромные летающие города, а не создавать причудливые дворцы и готические поселения, средневековые замки и футуристические танцевальные залы на потребу Фантазии. И все же в тот год в Голливуде, казалось, можно было воплотить все мечты, которые я лелеял, — и сделать это очень легко. Я мог обрести там счастье, мог прожить там всю жизнь, с моей женой Эсме и с нашими детьми; мог стать почитаемым иллюзионистом, столь же известным, как Уолт Дисней или фон Штрогейм, и, вероятно, куда более богатым. На свои деньги Дядя Диззи создал страну, населенную мелкобуржуазными мечтами о прозаическом будущем. А я мог бы создать страну Пятницкого! Во всех частях моего мира демонстрировались бы мои изобретения — турбинный воздушный крейсер с цельнолитым корпусом, атлантические платформы для дозаправки самолетов, радиопечь, космическая ракета, радиоуправляемый спутник, пустынный лайнер, телевизор, двигатель на динамите и сверхбыстрый океанский клипер; здесь воплотились бы мои великие пророчества. У Дяди Диззи и Дяди Джо[650] была общая мечта: они хотели, чтобы мир населяли запрограммированные роботы, чтобы предельная предсказуемость стала спасением от смерти. А я, напротив, мечтал об абсолютной свободе. Мои огромные небесные города наконец освободили бы человечество от цепей, вырвали бы людей из изначальной грязи. Я мог бы почти в одиночку создать великолепное будущее, преобразовав планету тысячей разных способов, использовав все обильные ресурсы американского континента. Не было бы никакой Второй мировой войны, никакого триумфа большевизма. Да, большевизм рухнул бы под тяжестью собственных заблуждений. Россия и Америка образовали бы благородное содружество, единую христианскую державу. А я бы довольствовался ролью архитектора, признанного создателя нового мира. Я никогда не мечтал о власти, меня не интересовала политика. Но обстоятельства радикально изменили мою жизнь. И было построено другое будущее, и его величайшими достижениями стали утка размером с человека и чудовищная механическая обезьяна. Этот бог — Сет, который также и Секхет[651], богиня. Секхет называют «Оком Ра», и она — орудие уничтожения человечества. Иногда я захожу в «Польский клуб» на Эксибишн-роуд, недалеко от Музея науки[652]. Там еще можно получить хорошую дешевую еду и повстречать нескольких единомышленников. Им известно, что я на самом деле не поляк, но они готовы закрыть на это глаза. Они распознают страдание. Всем славянам там рады. В клубных комнатах высокие потолки, там постоянно прохладно, даже летом, и там есть сад. Я однажды взял с собой миссис Корнелиус в качестве своей гостьи. Никто ей не грубил. В сегодняшнем Лондоне почти не осталось подобных мест. Но, мне кажется, миссис Корнелиус сочла тамошнюю атмосферу немного гнетущей. Она по-прежнему живет настоящим. Она гордится своим прошлым и наслаждается воспоминаниями, но не сосредотачивается на них. В клубе я стал слишком мрачным, решила миссис Корнелиус. Я объяснял разницу между духовным постижением истории и простой жалостью к себе, но она меня почти не слушала. Она тоже познала в жизни великую боль. Возможно, она, подобно мне, не хочет задумываться о некоторых событиях прошлого. Но она наслаждается нашими воспоминаниями. Иногда мы сидим вместе в ее квартире на Колвилл-террас и беседуем. Если шум репетирующих рок-групп и крики проституток, ссорящихся с сутенерами, не заглушают наши голоса, мы зачастую засиживаемся до глубокой ночи. Миссис Корнелиус вспоминает о своих успехах, о временах, когда она была великой звездой на сцене и на экране; но у нее сохранилось совсем немного личных вещей, связанных с прошлым. Она напоминает и о моей собственной известности. Действительно, в своих альбомах для вырезок я уделил ей больше места, чем себе. Она любит листать эти тяжелые страницы, покрытые коркой клея, смеясь при виде прежней косметики, платьев, возмутительных сценических псевдонимов. Я полагаю, что эта реакция вполне естественна, но все равно она вызывает некоторое чувство неловкости. Моя подруга придает слишком мало значения своим талантам. Она так поступала всегда. Именно поэтому я хочу поведать миру, кем она была. Мое будущее у меня украли, но она, небрежная богиня, просто отбросила свое так же легко, как выбрасывала сигареты за борт корабля. И она никогда не говорила, что сожалела о случившемся. Ее сожаления иного порядка, обычно она сожалеет о каком-то джентльмене, которого не смогла завлечь на ложе удовольствий. Ее любили некоторые из величайших деятелей современной истории, она наслаждалась благосклонностью влиятельных финансистов и политиков, и, если бы не врожденная скромность, миссис Корнелиус могла ежедневно заполнять страницы таблоидов своими воспоминаниями. И все же она, кажется, испытывает мало уважения или сочувствия к этим мужчинам. — Парни в те времена были как моротшеное или выпивка. Если их оказывалось слишком много, то становилось плохо. — Она одинаково подробно рассказывает и о персидском плейбое, что увез ее из Уайтчепела и бросил в Одессе, и о Троцком, любовницей которого стала в России. — Они теперя назвают это И-ран; отшень хорошее название. Тшто б они устроили, если б смогли? Но он был тшертов ублюдок, ублюдок. Он, правда, никогда не выл, как Лео, тот просто не мог, мать его, остановиться. Особенно после того, как попал во Францию. Помнишь Кассис[653], Иван? Е partito il treno? С’é tempo per scendere? Attraversiamo la frontiera? Она не была yachna[654]. И я живу благодаря ей. Я говорю, что она — настоящая хранительница моей жизни. Она смеется, когда я пытаюсь это объяснить. Она хлопает меня по плечу и называет своим сентиментальным маленьким русским. Она всегда была моей верной подругой. Мы ехали в Фастов по липовой аллее, и красный флаг развевался над нашим «мерседесом». Она пахла летом и розами, хотя и была укутана в чудеснейшие меха. Потом мы почувствовали мерзкое зловоние, исходившее от трупов лошадей, сброшенных в придорожные канавы; иногда там же гнили и трупы людей, бедных невежественных сторонников Петлюры. Он провозгласил, что даст им землю, но он был другом богатых. Он дал им только снег. Его обещания оказались иллюзорными и растаяли под весенним солнцем. Если бы он послушался меня, если бы он по-настоящему любил нашу Украину, как любил ее я, — тогда мне удалось бы его спасти! Он отверг мой фиолетовый луч. Они хотели только нашего зерна и нашей стали, эти московские евреи. Они и теперь не успокоились. Но она говорит, что я нездоров, и позволяет мне вспоминать только о хороших временах, лучшие из которых мы провели в Голливуде, когда я стал принцем, звездой, влиятельным и солидным человеком и соперничал со всеми прочими великими аристократами, восхищавшими меня, особенно с Гриффитом. Как только я стал равным ему, я пригласил выдающегося режиссера в свой дом, но он уже к тому времени превратился в полного подозрений затворника. Мне следовало поучиться у него. Ты король в Голливуде только тогда, когда твои работы популярны, когда ты подчиняешься власти студии. Сделай хоть что-нибудь во имя искусства, идеализма или даже всеобщей совести и заработай на этом деньги — и тебя по-прежнему будут ценить. Но, последовав велению совести, не сумей сделать деньги — и ты почти мгновенно погибнешь. Ты станешь злодеем. Эту горькую правду узнал Гриффит. Но я тогда был счастлив, возможно, потому, что будущее потускнело, а прошлое стало менее болезненным, превратившись в бесконечный перечень моих триумфов. У великих создателей голливудских мифов я научился тому, как представить свою краткую биографию в лучшем и самом драматическом свете. Том Микс родился в Пеории, а Грета Гарбо в Детройте[655], но все вокруг слышали иное, не потому, что эти люди были лжецами, но потому, что они знали — таков единственный способ сохранить влияние на публику и, в конечном счете, на студии. Но студии, разумеется, могли породить другие, менее выгодные мифы, если бы это потребовалось; таким образом, людей всегда окружало множество мифов. У меня был кредит в магазинах. У меня был автомобиль. У меня был небольшой дом в Венеции. У меня были поклонники. Мое социальное положение упрочилось настолько, что меня приглашали на званые обеды. Я часто посещал подобные мероприятия вместе с миссис Корнелиус, такой же звездой; иногда я видел свою Эсме! Собственным успехом я в значительной степени был обязан удаче, природной общительности и определенному актерскому таланту, который развивался в трудные времена, в дни войн и плена и который в основном сводился к пантомиме — именно так приходилось общаться с захватчиками, не говорившими на моем языке. В начале 1925 года, когда я ассистировал Полдарку, меня пригласили на съемки «Бен-Гура» в роли раба на галере и христианина. В итоге я некоторое время работал дублером. В «Темном ангеле», «Красавчике Жесте», «Главном певце» и «Трюках»[656] есть сцены, наделенные особым значением: моя спина и профиль появляются вместо профиля звездного актера, пьяного, одурманенного или похмельного и неспособного сыграть то, что от него требовали. В апреле 1925‑го я уже начал исполнять небольшие роли, и тут вернулся Голдфиш и поручил написать черновик сценария «Белого короля, красной королевы» с намерением принять меня в штат. Я посетил Голдфиша в новом офисе, который он делил с Сесилом Б. Демиллем, — большой беломраморный «колониальный» особняк стоял на бульваре Вашингтона недалеко от «Метро-Голдвин-Майер», и в нем, по случайному совпадению, прежде базировалась студия Томаса Инса, проданная за долги покойного режиссера. Голдфиш был настроен по-отечески. — Удовольствие — это удовольствие, а бизнес — это бизнес. — Он говорил на варшавском диалекте идиша. — Нужно разделять профессионалов и любителей. Я усвоил правило — любителей выжимать, а профессионалов — нанимать. Сам я предпочитал выжимать профессионалов, пока другие тратили впустую время с любителями. Две птицы в одной клетке. Я убежден, вы не окажетесь любителем, Макс. Я заверил его, что был настоящим профессионалом старой школы. — В любом случае, я думал, что время лучше всего использовать именно так, а время — это деньги. Теперь я научился умеренности. Я женился на любительнице, и сейчас мне не приходится выжимать профессионалов! Откровения Голдфиша показались мне и удивительными, и неотразимыми. — Как светский человек, Макс, вы же понимаете, что я имею в виду? Я заверил его, что все превосходно понимаю. Его чувства, по моему убеждению, были точным, почти дословным повторением моих собственных. Только он выразил все гораздо лучше. Я восхитился необычайно литературными оборотами речи. Голдфиш с должной скромностью заметил, что, в общем-то, он человек, который сделал себя сам. — Чтение — вот ответ. Путешествуйте, как я, и вы сможете много читать. И смотреть фильмы, конечно. Постепенно вы понимаете, насколько невежественны. Постепенно вы начинаете исправлять это. И вот он я, Макс, — исправившийся. Хотя они украли все идеи, все вещи, всех звезд и все дни тяжелого труда, которые я потратил на них, искусство ради искусства исправило меня. Качество — вот что нам теперь необходимо. Мелкие вещи, но потрясающие… Так можно получать больше прибыли при меньшей работе, поверьте мне. Я сказал, что не только верил ему, но и от души приветствовал его. Мы расстались очень сердечно. Миссис К., теперь ставшая Глорией Корниш, конечно, до некоторой степени способствовала моему успеху (или веселью, если вам так больше нравится). На Голдфиша произвел впечатление мой литературный дар, он поручил мне написать черновик сценария, намереваясь затем «принять меня в штат», но Лон Чейни[657], великий характерный актер, однажды вечером увидел мои рисунки и немедленно предложил, чтобы я занимался всеми раскадровками. До тех пор я работал ассистентом у Полдарка — на условиях неполной занятости. Чейни представил меня очаровательному шотландцу по фамилии Мензис, ученику великого Грота[658], который больше всего прославился тонким изображением детей. Мензис тогда пытался работать с женой Валентино[659], утверждавшей, что она — русская аристократка, художница, оформитель и кутюрье; но ее идеи отличались такой экстравагантностью, что даже в тех случаях, когда декорации удавалось построить, их было почти невозможно снимать. Очень важным казался цвет, потому что декорации обычно отображались на экране определенным образом. В разработках для «Месье Бокэра» эта дама не принимала в расчет ни цены, ни технические возможности; результатом стала первая неудача Валентино. Утонченная комедия — вряд ли подходящий материал для этого дамского угодника, который выглядел точь-в-точь как итальянский жиголо (кем он и был в действительности) и вкусы и манеры которого свидетельствовали о неблагородном происхождении. Позже Боб Хоуп просто затмил его в этой роли. Некоторые из нас, обитателей Голливуда, смогли подняться после первых скромных шагов. Валентино рухнул под тяжестью беспочвенного самодовольства. Mayn schvitz der spic gonif trenken! [660]Природный талант рисовальщика, основы которого я развил, конечно, в Санкт-Петербургском политехническом институте, произвел на Мензиса впечатление. Он сказал, что у меня воображение, лучше всего подходящее для работы в кино. По его словам, я мыслил широко, но что еще важнее, я создавал проекты, которые можно реализовать и использовать. Он был сторонником движущихся камер и, хотя и восхищался своим учителем, Гротом, чувствовал, что талант Грота сводился к созданию красивых, но статичных декораций. Именно от Мензиса я больше всего узнал о работе художника в кино. Когда я услышал, что он был на студии Корды во время войны, я попытался связаться с ним. Он находился не очень далеко от моего тогдашнего обиталища в Хаммерсмите; я долго объяснял, что звоню из будки и каждая секунда разговора стоит огромных денег, но его так и не пригласили к телефону. Мензис был моим настоящим собратом по духу. В конце тридцатых он стал вдохновителем фильма, который оказался ближе всех прочих к «Рождению нации» Гриффита [661]. Название было мне не по вкусу, и шедевр немного подпортило появление безжизненного жиденка «Говарда» с его подкрашенными светлыми волосами[662], но, когда я впервые увидел «Унесенных ветром» в 1940‑м в Килберне[663], вскоре после прибытия в Англию, картина поразила меня. В прежнем, немом, фильме Глория Корниш играла роль Нелли, а теперь другая англичанка, Вивьен Ли, напомнила о моей Эсме, хотя она отличалась и решительностью, свойственной миссис Корнелиус. Конечно, Кларк Гейбл был великолепен. Настоящий летчик[664] — как и я сам. Подобно Фэрбенксу (и мне), он воплощал американские добродетели — великую отвагу и благодушную честность. Теперь, если не говорить о Джоне Уэйне[665], эти добродетели почти исчезли с экрана. Я помню Геринга, также летчика, который в своей шутливой, но в то же время очень серьезной манере говорил: «Что же нам делать с Америкой?» Не стоит даже упоминать, что он сказал это тогда, когда Гитлер еще не ввязался в войну, цели которой были далеки от его идеалов. Wohin gehen wir jetzt?[666] Так я мог бы спросить его. Сначала Мензис предложил мне разработать несколько отдельных сцен для комедии Шенка «Ее сестра из Парижа» с Констанс Толмедж и Рональдом Колманом[667]. Это не потребовало больших творческих усилий, особенно те сцены, которые Мензис поручил непосредственно мне, но в итоге я принял участие в работе над «Орлом»[668], следующим фильмом Валентино, где мы смогли воплотить самые изысканные фантазии. Мы спроектировали и построили поистине великолепные декорации. Они были романтичны, экстравагантны (хотя не особенно дороги) и воплощали самый дух того, что казалось необходимым в искусстве «движущихся картинок». К сожалению, хотя наши декорации были изготовлены и использованы, сценарий оказался примитивным, и фильм не имел особого успеха. Меня, кстати, можно увидеть в некоторых сценах — я был дублером Валентино. Валентино хотел обвинить меня в своем провале, так как студия не позволила его нелепой жене работать над следующей картиной. Не желая ссориться с влиятельным Мензисом, эта жещина обрушилась на меня. Мензис, однако, оказался верным другом, и к тому времени все студии в Голливуде узнали, что Валентино — поддельный аристократ. В итоге я не работал с Мензисом над последней картиной Валентино, но он поручил мне заняться некоторыми сценами для «Граустарка» и «Чего стоит красота?»[669], где у миссис Корнелиус была значительная роль; единственную же сцену с моим участием из фильма вырезали. Постепенно я полюбил свое новое окружение. Я познакомился со всеми творческими и деловыми сторонами кино. Я строил дворцы, монументы, целые города, я даже обитал в них — иногда в роли героя, иногда в роли злодея, — и, по крайней мере на некоторое время, мой гений был удовлетворен. Лон Чейни стал моим покровителем — возможно, потому что я не относился к нему снисходительно, как определенные вульгарные звездочки-парвеню. Он был профессионалом большую часть своей нелегкой жизни и, подобно мне, начал карьеру в качестве гастролирующего актера. Возможно, он увидел во мне отражение собственной молодости. Но, как бы то ни было, он взял меня под опеку и некоторое время указывал мне путь в опасном лабиринте Голливуда. Хотя сам он страдал от любви к безногой замужней женщине[670] и часто испытывал приступы отчаяния, он все же находил время для советов по вопросам этикета, рассказывал о борделях и их обитательницах, о напитках и их различных свойствах. Он не приохотил меня к удовольствиям опиума и гашиша, которые вошли в моду, когда интерес ко всему восточному стимулировало открытие сокровищ Тутанхамона, зато давал превосходные советы насчет свойств наркотиков и характеров тех, кто имел с ними дело. Вместе мы совершили прогулку по китайскому кварталу. Мензис наслаждался тамошними наркотиками. С их помощью он сотворил две самые запоминающиеся фантазии на темы «Тысячи и одной ночи», которые видела испытывавшая трепет публика. Одну он создал для Фэрбенкса, другую для Корды. Название было одно и то же — «Багдадский вор»[671]. (Некоторое время этим прозвищем пользовался Сэмюэл Голдфиш, хотя он не имел ничего общего с евреями Месопотамии. Голдвин, как и Голдфиш — это не иракские фамилии!) Несмотря на то что Чейни советовал мне избегать таких людей и подписать контракт с одной из меньших студий (он даже договорился о кинопробе на «Делюкс»), времени на размышления не оставалось. Я получал новые заказы на разработку декораций и новые роли быстрее, чем успевал говорить «да». Было бы глупо отвечать «нет», поскольку не имелось никаких гарантий, что все это внезапно не закончится. Как внештатный работник я часто получал плату наличными. Но контракт со студией в качестве актера и режиссера обеспечил бы мое будущее, в конце концов, именно об этом мечтала Эсме. Контракт подразумевал определенные гарантии и еженедельные финансовые поступления. Я готов был принять подобное предложение. Тем временем я откладывал доллары. Они лежали в «Банке Южной Калифорнии» на одиннадцатипроцентном вкладе. Я впервые в жизни стал человеком состоятельным и ответственным. Я все чаще встречался с Эсме, когда ей удавалось ускользнуть от Г. У. Мейлемкаумпфа, который стал ее официальным спонсором в США и мог лишить ее поддержки, обнаружив, что она уже обручена. Я понимал всю сложность ее положения, но ситуация оставалась напряженной, несмотря на то что находчивый Джейкоб Микс оказался надежным посредником. В худшие моменты я не забывал, что Эсме — фактически мое создание. Если бы она не была единокровной сестрой Эсме Лукьяновой, то до сих пор оставалась бы в Галате, страдая от множества болезней и получая мелкие монеты от моряков из разных стран. Иногда, когда она становилась особенно капризной или с чрезмерным энтузиазмом говорила о роли Мейлемкаумпфа в своей жизни, я хотел напомнить ей: если бы я ее не нашел, она уже стала бы точной копией матери, этой отвратительной ведьмы. Но поступить так было бы нечестно. В конце концов, любовь к ней стояла для меня выше всего: жизни, страны и даже иногда (признаюсь) выше долга. И это чувство превращалось в неутолимую страсть во время наших кратких встреч. Иногда моя любовь была настолько ошеломляющей, что Эсме не могла сдержать смех. Моя способность любить произвела впечатление на обычно циничную миссис Корнелиус. Она сомневалась, что когда-нибудь прежде видела мужчину, который бы настолько потерял голову из-за женщины, — особенно если этот мужчина добился такого успеха. Я объяснял, что причинять моей маленькой девочке страдания не в моем характере. Я не собирался напоминать Эсме о ее происхождении. Если бы мы затронули такие вопросы, то поставили бы под угрозу самую тонкую и драгоценную иллюзию: моя Эсме (которая удовлетворяла казаков-анархистов) родилась заново (опять девственницей) в трущобах Константинополя. Я не идиот. ¿Cuanto se tarda? Я могу отличить истину от вымысла. Я увижу тебя в прекрасные летние дни среди света и теней. Я посмотрю на солнце, но увижу тебя. ¿Es viu? No, és mort. ¡Era blanca com la neu! Si hi ha errores els corregiré. Elmelikeh betahti! Elmelikeh betahti![672] О, как я любил их. Я жил, чтобы сделать их бессмертными. Я не стал музельманом. Та проволока, те ямы — они не для меня. Ошибки, однако, редко удается исправить в таких условиях. Немцы поклонялись бюрократии, как будто она была абсолютной реальностью. Неужели Ницше ничему не научил их? Я сохранил свою личность. Я ничего не стыжусь. Пусть называют меня големом. По крайней мере, я — голем, который сделал себя сам. Ayn ferbissener goylem[673]. И какая разница, в конце концов? Неужели каждый немецкий город, носящий имя Бухенвальд, должен страдать от бремени, связанного лишь с одним подобным местом? Я внештатно работал на Мензиса, иногда подменяя его или проектируя некоторые декорации, — и походил на какого-то подмастерья Рафаэля, за исключением того, что, подозреваю, получал вознаграждение куда щедрее за свои непризнанные труды. Мензис был неукоснительно честен. Я располагал куда большей свободой, чем штатные голливудские работники. Так называемая студийная система еще не овладела всей индустрией, и художники-декораторы, по крайней мере, еще могли наниматься к различным продюсерам, хотя многие предпочитали сотрудничать только с одной компанией. Мне понравилось работать над «Шоу» Браунинга[674]; этот заказ я получил не от Мензиса, а с помощью Чейни, который был другом Браунинга. Даже Голдфиш не знал, что я там работал. Ведь фильм снимали на недавно созданной студии «Метро-Голдвин-Майер», ставшей самым ненавистным конкурентом Голдфиша. По удивительному совпадению, это был также один из немногих фильмов с участием миссис Корнелиус, над которым я работал, — она играла под другим именем вместе с Джоном Гилбертом и Лайонелом Бэрримором. Рене Адоре [675] и по сей день остается таинственной и недооцененной актрисой. Миссис Корнелиус под именем Глории Корниш сыграла вторую главную роль на «Парамаунте» в фильме «Популярный грех» с Клайвом Бруком и Гретой Ниссен[676], а затем шведский режиссер пригласил ее обратно на «Юниверсал». За очень короткий промежуток времени они выпустили несколько сложных злободневных драм. Хотя Глория Корниш не всегда упоминалась в начальных титрах, она считалась представительницей элегантной, исключительно тонкой школы актерского мастерства, которую на лондонской сцене тогда воплощали Ноэл Кауард и Гертруда Лоуренс[677]. Она была отрицательной героиней в ленте «Дитя-звезда» с Джоан Кроуфорд. После ролей в фильмах «Модели с Пятой авеню», «Павлиньи перья», «Женщина в бегах», «Следи за своей женой», «Женщина, которая смогла», «Белокурая святая», «Кармен Вальдес», «Падшая» и «В ее царстве»[678] она получила признание у критиков. Одновременно и я наконец-то добился некоторых успехов на актерском поприще, сначала как Макс Питерс — эту перемену имени предложил Чейни. Он же настоял, чтобы я появился в «Призраке Оперы», где я также работал над декорациями, трудясь бок о бок с великим Беном Карре и добродушным человеком по имени Дэнни Холл, который позднее прославился в «Огнях большого города» и «Всеамериканской студентке»[679]. Чейни сдружился с ним на съемках «Горбуна из Нотр-Дама», и мы втроем на какое-то время стали близкими приятелями: вместе посещали рестораны и ночные клубы, наслаждаясь удовольствиями города и отдыхая от тяжелых трудов. По ночам я успевал работать над своими проектами, а днем снимался в кино. Я все время тратил много энергии, и чудесное снадобье, влиянию которого из-за врожденной слабости характеров поддались Фрейд и Троцкий, всегда оставалось для меня полезным средством. Поэтому я мог удовлетворять свою любимую всякий раз, когда предоставлялась возможность, и не забывал о прочих обязанностях. К сожалению, мне пришлось расстаться с Мэдж. Она стала необоснованно ревнивой, употребляла все больше наркотиков и страдала от вспышек бессмысленного гнева, возможно, потому, что ее беспокоила моя связь с «Делюкс», а возможно, потому, что мое положение постоянно улучшалось и мне, очевидно, предстояло занять почетное место в Голливуде. Какое-то время я еще пытался встречаться со своей бывшей секретаршей, поддерживая ее интерес ко все более outre[680] сексуальным экспериментам, и даже хотел предложить ей снова работать у меня, ноона требовала слишком многого. К сожалению, однажды, после того как я целый день скакал на особенно неприятной лошади, играя на «Фокс» роль Дирка Коллингема во «Всаднике одинокой звезды» Бака Джонса[681], я сказал Мэдж, что больше не хочу пользоваться ее услугами. На «Делюкс» мне предложили контракт на девяносто пять долларов в неделю; я должен был играть главную роль в новом, только что задуманном сериале, но мне не хотелось сыпать соль на бесчисленные раны девушки. Друг Лона Чейни Сол Лессер сказал, что увиденное ему понравилось и он «готов работать». Лессер был не старше меня — один из тех честолюбивых молодых продюсеров, которые разом брались за десятки проектов. Он сотрудничал не только с «Делюкс». Мы снова сблизились в пятидесятых, когда он работал здесь на РКО и занимался фильмами о Тарзане[682]. Он всегда отличался исключительной щедростью. Мэдж, возможно, и не ушла бы, если бы Чейни и Холл не предложили мне посетить особенно занятное кабаре. Она бросила сотню долларов, которую я дал ей, на аксминстерский ковер[683] и выскочила через парадную дверь с такой скоростью, будто случайно наступила в собачье дерьмо. Это немного развеселило моих друзей, которые начали выяснять, почему Мэдж так сильно разозлилась. Я благосклонно отнесся к этим шуткам, но очень сожалел, что наши отношения закончились на такой неприятной ноте. Мэдж оставалась для меня большим утешением, она развлекала меня, когда Эсме была нездорова. Я сказал, что ее гнев — это просто ревность, но потом, как ни странно, Мэдж добилась в кино больших успехов, чем Эсме. Моей любимой нужен был режиссер или оператор, способный уловить тончайшую, изменчивую красоту. Миссис Корнелиус, в реальности совсем не воздушная, оказалась одной из тех счастливых женщин, которые на экране всех подавляли, но выглядели при этом абсолютно непринужденно и беззаботно; она идеально подходила для тех ролей, что предлагал ей «Симэн» (так теперь называл себя Сьостром). Отсутствие энтузиазма со стороны режиссеров постоянно разочаровывало Эсме, а я все еще не добился такого влияния, чтобы заставить какого-нибудь студийного босса признать ее талант. По правде говоря, я не думал, что актерское ремесло — подходящее занятие для моей милой, которая была слишком чувствительна для такой жизни. Любя Эсме, я считал ее стремление к огням прожекторов всего лишь пустяком; я понимал, что она никак не сможет справиться с популярностью, добившись успеха, а ее подлинное призвание — это роль домашней маленькой девочки, которая хочет только заботиться о своем обожаемом муже, о своем «папике», как она иногда называла меня, и гладить его рубашки. Некоторое время она даже пыталась вызвать у меня ревность, намекая, что ею заинтересовался еврей Чаплин, прославившийся исключительно за счет педофильских наклонностей. Но все девочки, которым благоволил Чаплин, появлялись в его фильмах, а Эсме так и не предложили контракт. Арбакль умер как опозоренный мученик, а его честолюбивые конкуренты достигали все больших успехов. Лично я вообще не сочувствовал маленькому коммунисту. Он никогда не вызывал у меня смеха. Я сказал ему это прямо в лицо однажды на вечеринке у Нормы Толмедж. Он ответил, что как-нибудь переживет. — Вы мне, по правде сказать, тоже не кажетесь забавным, — таков был его бессмысленный ответ. Я, в конце концов, не комик! Какой mensch! Какое mishegass![684] Что можно сделать с такими людьми? Когда был подписан и утвержден контракт с «Делюкс», я зажил великолепной, разнообразной жизнью; меня окружала красота, я наслаждался всевозможными удовольствиями. В «Метро-Голдвин-Майер» и «Парамаунт» города строились за считанные дни; целые страны были сотворены моей фантазией и моими руками, словно я сам обрел дар великого Вора — казалось, мне достаточно просто потереть медную бутылку, и я освобожу безграничную власть, получу тысячу рабов и миллион воинов, подчиняющихся моим приказам! Самые красивые женщины мира, носившие экзотические изящные одежды и костюмы разных эпох, украшали сотворенную мною вселенную, и многие из этих женщин считали меня привлекательным. В первых своих ролях на «Фоксе» я постоянно угрожал женщинам и никогда не достигал цели, но за кадром все обстояло совершенно иначе. Те голливудские девочки были весьма извращенными. По крайней мере, одну-две ночи они находили мой экранный образ очень привлекательным и хотели, чтобы я был бессердечным существом, которое Бак Джонс или Хут Гибсон пристреливали в последней части, — а раз они этого хотели, я иногда старался им угодить. Это «безумие Валентино» стало, с готовностью признаюсь, желанным облегчением; я смог отдохнуть от отеческой роли в отношениях с моей прелестной невестой. Теперь я вижу, что моя жизнь напоминала жизнь Фауста после того, как Мефистофель стал его слугой. Многие мои вечеринки походили на оргии Вальпургиевой ночи. Использовалось столько стимуляторов и наркотиков, что я сохранил лишь самые туманные воспоминания о мягкой плоти, о спутанных волосах, о потной коже, о драгоценностях и разорванных шелках. Я получал все, чего желал, и даже больше. Мне исполнилось только двадцать пять лет. Откуда мне было знать, что я вот-вот попаду во власть дьявола? Сатана уже тогда обретал могущество, и в тридцатых годах Голливуд стал просто средством пропаганды для евреев-социалистов. Ах, Гете, почему мы не услышали твои слова вовремя? 5 мая 1925 года я приступил к съемкам на «Делюкс»; я впервые играл главную роль — в сериале «Белые асы». Звездой там считался Бадди Браун[685] в роли смелого молодого английского аса, но именно Макс Питерс, игравший его друга, отважного русского летчика графа Топольского, так блеснул в первой части, что в пятой, «Шпионы с небес», «Ас» Питерс был упомянут в титрах наравне с Брауном. В те дни серии-короткометражки неоднократно использовали, чтобы заполнить паузу в десять или пятнадцать минут, пока настраивали другой проектор для главной картины; так что публика знала звезд сериалов так же хорошо, как Валентино или Свенсон[686]. Очень скоро моя зарплата достигла ста десяти долларов в неделю, и я снова стал летчиком — в десяти сериях «Рыцарей воздуха», где возглавлял отряд джентльменов-добровольцев в битве с немецкими ордами; затем последовали «Рыцари воздуха спешат на помощь», пятнадцать частей столь же отважных битв против новых врагов Америки, иностранных деловых кругов и их преступных марионеток. Дальше были трехчастные картины «Ас из асов», «Асы в небе», «Асы и короли»; везде я играл опытного летчика, демонстрируя все свои познания. Я был слишком ценным актером для студии, поэтому полетами занимались другие люди (большей частью использовали архивные кадры, чтобы сэкономить деньги), хотя в кабине я, конечно, появлялся, а на экран за моей спиной в это время проецировались битвы и все прочие события и создавалась замечательная иллюзия реальности. А потом была моя первая главная роль в вестерне. Я сел в седло, став героем «Ковбоя в маске» — чрезвычайно успешного «промежуточного» проекта из десяти частей; публика потребовала новых приключений ковбоя, а мое полускрытое лицо сделалось известнее лиц Ла Рока или Купера[687]! Лессер, кажется, столкнулся с затруднениями; коллеги из «Метро-Голдвин-Майер» подозревали его в «сокрытии доходов», поэтому, по его словам, следовало выжимать как можно больше денег. Мы начали снимать по две или три части в день — и завершали сериал меньше чем за неделю! То были бурные времена! Вдобавок Голдфиш прислал мне письмо, в котором говорилось: ему нравится мой сценарий, но он чувствует, что кто-то чуть более сведущий в английском должен отшлифовать текст. Он предложил мне еще тысячу долларов, которую я решил принять, — вот так мои «Красная королева и белый рыцарь» в конце концов оказались фильмом «Пародия» с Рикардо Кортесом, Барбарой Бедфорд[688] и, по моему предложению, Лоном Чейни в главных ролях. У меня все еще хранится статья об этом; я нашел ее несколько лет назад, когда занимался подержанными вещами. В журнале «Пикчегоуэр» мой фильм назвали важной для нашего времени историей; автор рецензии полагал, что Чейни сыграл одну из своих самых трогательных ролей — Сергей Заячья Губа, крестьянин, наделенный умом и моральной силой, любит героиню издалека и в конечном счете умирает, защищая ее честь от красноармейцев. В «Фотоплей» написали, что напряжение «выдержано удивительно». Я всегда чувствовал, что меня немного предали: автором сценария был назван «Уолтер Симэн». Но к тому времени, я полагаю, он уже научился у Голдфиша приписывать себе чужие работы! Я никогда не видел фильма, хотя много раз отправлял запросы на Би-би-си и в Национальный дом кино. Мне даже осмелились заявить, что картины никогда не существовало, хотя я посылал им копии журнальных вырезок. Они ответили, что немые фильмы интересны только ограниченной аудитории. По крайней мере, этому я могу поверить. Вкусы публики окончательно испортились — Левант обрел в Голливуде второй дом. Я благодарен за то, что смог почувствовать атмосферу золотого века прежде, чем Мефистофель захватил город, как турки захватили Константинополь в 1493‑м. И тогда евреи из Испании хлынули туда потоком, высланные великим христианским королем и церковью, решившими прижечь раны своей страны и избавить ее навеки от тлетворного влияния евреев и мусульман[689]. Я видел новую Византию. Я видел, как она поднималась над морем — там, где сходятся все народы земли. Я видел, как разрывали на куски ее мертвое тело, как ее зловоние разносил грязный ветер с Востока, как падала во прах ее слава, как забывались ее победы, как искажался ее смысл. Она должна была стать столицей христианского мира, вместилищем мудрости. Ее труды принесли бы свет всей планете. Власть Голливуда могла преобразить земной шар. Я должен был стать одним из самых влиятельных архитекторов будущего. Но не думаю, что судьба предназначила мне много счастья. Вскоре в мою жизнь снова вторглись нежелательные осложнения. Какие отвратительные мелкие умы, какие ничтожные стремления, какие низменные цели у большинства людей! Как они ненавидят тех, кто готов рисковать, готов встретить опасность и добиться награды! Какое разочарование я испытал, обнаружив, что даже те люди, которых я ценил и которым доверял, не только не могли разделить мои мечты и человеколюбивые взгляды, но и просто боялись их! К октябрю 1925‑го я стал в Голливуде солидной, уважаемой персоной. У меня было все, чем восхищались в этом месте. Внешность, успех, мозги, воображение и роли в больших фильмах. После моего успешного выступления в «Ковбое в маске» появились еще четыре сериала: «Возвращение ковбоя в маске», «Закон ковбоя», «Справедливость ковбоя» и «Ковбой в маске в дьявольской гонке». Прокатчики так накинулись на них, что на «Делюкс» мне предложили роль капитана Джека Кэссиди — аса из асов — в их пятнадцатисерийном фильме «Ас среди асов» (с Глорией Корниш!), потом в «Небесных ястребах» и в «Небесных наездниках». К тому времени на рекламных листовках появилось имя, под которым я прославился. В Голливуде и во всем мире меня знали как «Аса» Питерса, Небесного Ястреба. На студии очень много внимания уделяли моей карьере военного летчика и моим новаторским полетам, но считали неразумным упоминать о том, что почти все эти события происходили у меня на родине, в России. Я обрел популярность в роли летчика-аса, но Таинственный Линчеватель, ставший шерифом молодой ковбой по имени Текс Риардон, — вот кого требовала публика. За несколько недель я появился в «Ковбое одинокой звезды», в «Сражающемся ковбое» и в «Друге ковбоя». Я не опечалился даже тогда, когда однажды в понедельник утром, появившись на Гауэр-Галч, чтобы начать работу над «Песней ковбоя», обнаружил, что большая часть студии демонтирована, офисная мебель вывезена, а никаких признаков руководства нет. Оказалось, мы только на несколько минут опередили заместителя шерифа. При помощи режиссера я смог собрать и спрятать множество коробок с пленками — в большинстве этих фильмов я играл главные роли. Пленки тайком перетащили ко мне в автомобиль, а потом — и домой. Тогда я не особенно расстроился. Я уже собирался покинуть «Делюкс» и подыскать студию получше. Став юным Тексом Риардоном, поклявшимся утвердить правосудие на Западе, я добился огромного морального и художественного успеха, несмотря на то что большую часть времени половину моего лица прикрывал цветной платок. Колоссальная популярность ковбоя в маске (его история была основана на приключенческих текстах Эрла Г. Стэффорда в «Олл стар уикли» и «Манси мэгезин»[690]) сделала меня героем, которого нередко приглашали на открытия родео; я чаще всего отклонял приглашения, потому что на студии мой акцент считали недостаточно западным. Теперь я работал сразу в трех направлениях: на «Метро-Голдвин-Майер» я был художником по декорациям, у Голдфиша — сценаристом, а публика меня знала как актера! И все же голливудские магнаты проявляли так мало интереса даже друг к другу, не говоря обо всех прочих, что ни один из них не смог разгадать правду! Многие женщины считали мою внешность романтичной; они утверждали, что я более изысканный Валентино. Некоторые готовы были бороться за мою благосклонность. Как обычно, женщины привели меня к падению, но теперь, вероятно, мне следует поблагодарить их, даже Вивьен Прентисс, которая была, возможно, причиной всех недоразумений. Оглядываясь назад, я понимаю, что не пережил бы наступления звуковой эры — а ведь эту идею, по иронии судьбы, я сам чуть раньше в том же году предложил равнодушному Голдфишу. Этим деревенщинам любой иностранец казался евреем, и меня уже называли «Ков-жид в маске» и «Летающий жидяра» (были и куда более непристойные выражения). Так что никому не следует объяснять, как бы восприняли мой природный голос; возможно, в том числе по этой причине Голдфиш — лучше всего говоривший на идише — и проникся ко мне симпатией. Но я не мог изменить будущее. К концу 1925 года произошло несколько событий, решивших мою судьбу. Находка мумии Тутанхамона породила волну исторических фильмов, действие которых разворачивалось в Древнем Египте, но большинство подобных лент были просто средствами для показа сексуальных объектов и достоверность их вызывала сомнения. Я помню, как смотрел «Царицу Савскую» с Фрицем Лейбером и Бетти Блайт[691], которая, как предполагалось, станет новой Тедой Барой, и думал, как все это нелепо и плохо. Соломон Лейбера был чисто выбрит, а костюмы изобретены некомпетентным художником. На колоннах виднелись знаки, не имевшие никакого отношения к Египту, а скорее позаимствованные из норвежских и ирландских мифов! И все же эта вещь имела большой успех. Потом появилось множество так называемых фильмов о шейхах — после популярной оды Валентино, прославлявшей смешение рас (должно быть, причинившей невообразимый вред)[692]. Мы получили такие картины, как «К востоку от Суэца», «Пыль пустыни», «Ее любимый верблюд», «Королева пирамид», «Когда зовет пустыня», «Фейсал», «Шелк и песок», «Карстэйрс из Верблюжьего отряда», «Горящее золото», «Оазис страсти» [693] и еще пару сотен. Это были не только голливудские картины — «фильмы о шейхах» снимали повсюду. И все же не появилось хорошей ленты о временах фараонов, если не считать произведений Демилля на библейские темы. Я однажды упомянул об этом при Симэне, и он пришел в необычайный восторг. Казалось, ему наскучили бесконечные запутанные комедии; он хотел сделать что-то более существенное, эпическое. В те дни успешная эпопея становилась тем, на чем в итоге основывалась репутация режиссера. Хотя Симэн был далеко не Гриффитом, он уже посетил некоторые выставки реликвий, привезенных из Египта Картером и Карнарвоном[694], и оценил их красоту. Его также не миновало мрачное очарование проклятия, которое забрало жизни нескольких членов экспедиции и их спутников. Карнарвона оно поразило почти сразу же, как только вскрыли гробницу, и его собака, которая также была там, неожиданно издохла. Бетель, его секретарь, умер при странных обстоятельствах. Вестбери покончил с собой. Партнер Картера, Мейс, умер, когда собирался направить на мумию рентгеновские лучи. Потом умерли жена и два брата Карнарвона, а Артур Вейгалл скончался от лихорадки[695]. В ту же ночь мы придумали общий сюжет грандиозной истории, которая частично разворачивалась в Древнем Египте, а частично в настоящем; речь шла о любви царицы и верховного жреца, о страсти столь сильной, что она продлилась две тысячи лет. Мы намеревались работать над темой проклятой могилы и пробуждения мертвых и решили назвать картину «Царица Тутанхамона». Я уже представлял великолепные декорации, которые смогу построить, роскошные костюмы и прекрасные интерьеры, которые мы сможем создать. Я не помню теперь, кто из нас, Симэн или я, первым предложил снимать нашу историю на фоне подлинных пейзажей Луксора, Долины Царей и пирамид. Я не мог найти ни единого возражения. С художественной точки зрения идея имела смысл. Свет в Египте, во всяком случае, был лучше, чем в Калифорнии, а поскольку там все находилось под контролем британцев, сложностей в работе не ожидалось. Симэн преисполнился энтузиазмом и решил показать сюжет Голдфишу, который занимался только эпическими полотнами. Я больше не раздумывал — оставалось лишь надеяться, что проклятие Тутанхамона сможет поразить самого «Уолта». Я негодовал по поводу его потребительского отношения к «его собственной» звезде, моей подруге, которая всегда считала свою карьеру в кино «малость забавной». Миссис Корнелиус, по ее словам, принимала удачу как есть. Она не видела смысла в том, чтобы цепляться за счастливый случай. Нужно просто использовать его, когда это возможно. Такая несложная философия помогла ей сохранить душевное равновесие — и помогла ей выжить. Эсме по-прежнему просила, чтобы я подыскал для нее роль в одной из своих картин, и я пообещал попробовать, не имея сил сказать ей, что меня уже отвергли «Колони», «Монограм» и «Юниверсал». Для актеров настали трудные времена. Эсме сказала, что Мейлемкаумпф сделался «капризным» и подозрительным, а Микс доверительно сообщил, что колбасный король посулил ему немалую премию, если он станет шпионить за Эсме и подробно докладывать о ее перемещениях. Я приложил все усилия, чтобы найти для Эсме работу, поскольку оставался востребованным художником-декоратором и сценаристом, но в ответ мне сообщили, что симпатичные иностранки в Голливуде сейчас идут по десять центов за дюжину. Чтобы получить работу, они должны обладать какими-то исключительными талантами. Я знал, что это не совсем правда, даже если кинопробы Эсме и не раскрывали природного актерского дарования моей девочки. И однажды наступила развязка. Эсме, одетая в особое платье, сидела на корточках на ковре, а я как раз снял брюки — и тут нас прервал Джейкоб Микс. Он постучал в двери спальни и прошептал, что нас обнаружили. Затем его шепот заглушил ровный вульгарный голос промышленника со Среднего Запада: — Ты уволен, Микс. И эта шлюха может обратно не возвращаться. Я расторг с ней контракт. Я так никогда и не встретился с Мейлемкаумпфом. К тому времени, когда я натянул брюки и выскочил в гостиную, магнат уже удалился; он вел одну машину, а нанятый им детектив ехал в следующей. Микс, все еще в аккуратной шоферской форме, стоял посреди комнаты. Он усмехнулся, повернувшись ко мне. — Ну вот, босс, — сказал он, — похоже, у тебя еще парочка иждивенцев появилась. — Моя одежда! — Эсме пришла в отчаяние. — Как я получу свою одежду? — Мисси, — сказал мистер Микс, на широком честном лице которого выразилось насмешливое сочувствие, — у вас есть одежда. Вы сейчас в ней. Моя возлюбленная, глубоко вздохнув от огорчения, вернулась в постель и не поднималась в течение почти двух дней. Эмоциональное потрясение оказалось слишком сильным. Назавтра утром я прочел в «Лос-Анджелес Таймс», что дружище Хевер вернулся из Европы, где он женился на австрийской аристократке и купил дом поблизости от Версаля. К середине следующей недели в «Метро-Голдвин-Майер», где я работал над декорациями к картине «Беверли из Граустарка», задуманной как реклама для Мэрион Дэвис[696], раздался звонок, и я услышал знакомый дрожащий голос Хевера, теперь уже не дружелюбный. Хевер попросил, чтобы я пришел к нему в офис следующим утром. Я объяснил, что буду занят до обеда (предстояла кинопроба на «Фёрст нэшнл»[697]). Он сказал, что три часа — подходящее время. Я решил, что он понял свою прежнюю глупость, обдумал случившееся и пожелал возродить проект нашего парового автомобиля. Поэтому, хотя на «Фёрст» мне сказали, что никому не нужен «русский ковбой», я пребывал в хорошем настроении, когда явился к Хеверу. Он похудел, но по-прежнему носил те же костюмы. Из-за этого Хевер напоминал слона, изнуренного болезнью. Его печальные глаза следили за мной поверх знакомого стола, и на его лице, как мне показалось, отразилось проницательное дружелюбие. Он сообщил, что побывал в Париже и повстречал там некоторых моих знакомых. Усмехнувшись, он открыл папку и показал мне несколько газетных статей о неудачном предприятии с дирижаблем. Во французской прессе меня злобно и лживо именовали жуликом, мошенником и мерзавцем. Я отмахнулся. — Моя подруга Эсме Лукьянова скажет вам, что все это — ложь. И граф Николай Петров тоже может поручиться за меня. — Петров? Он такой же мерзавец, как вы. А теперь оказалось запятнанным даже имя моего друга! — Все заявления были частью заговора. Это сущая ерунда. — Такая же ерунда, как моя связь с Ку-клукс-кланом? — Он пытался шантажировать меня! Но чего он хотел? — Вы и ваша любовница недурно раскрутили меня, Макс, скажу честно. Но я не позволю вам так поступить с кем-то еще в городе. Меня удивила мелочность этого человека — я так ему и сказал. В конце концов, не я же нашел себе шведа. — Я даю вам месяц, — произнес Хевер. — И если вы и ваша чертова сообщница не уберетесь из Лос-Анджелеса ко Дню благодарения, то мой материал вместе с уймой других будет послан Каллахану в министерство юстиции. Помните Каллахана, мистер Палленберг? — Он злорадствовал, словно пародируя фон Штрогейма; он чуть не пускал слюни, предвкушая свой триумф. — Кто подсунул вам весь этот мусор? — Я вышел из себя. Едва способный думать, я ощущал в этом повороте событий руку Бродманна. Несомненно, моему успеху препятствовал он. Чекист преследовал меня от самой Украины. Я все еще чувствовал его внимательный взгляд; он был единственным свидетелем моего унижения. Мои ягодицы пылали от боли. — Вы там завели больше врагов, чем друзей, Макс. — Он пожал плечами. — Какое теперь это имеет значение? — Бродманн здесь! Уверяю, вас обманули большевики. Они дали вам ложную информацию. Они действуют именно так. Они пойдут на все. Посмотрите на письмо Зиновьева[698], если хотите увидеть, как делаются подобные вещи! Он уставился на меня, как будто хотел ответить, затем покачал головой и пожал плечами. — Убирайтесь из моего офиса, Макс. Я потребовал, чтобы он вернул все бумаги, особенно мои проекты. Он заявил, что сжег их. — Груда пепла — вот и все, что осталось от всего проклятого глупого жульничества. — Он понизил голос до шепота, в котором выражалось лишь отвращение. Я был беспомощен. Я был разъярен. И все же я попытался урезонить его, не ради спасения собственной шкуры, а ради моей подруги. — Черт возьми, Хевер, приберегите свою злобу для меня, если хотите, — но оставьте в покое благородную леди. Попытайтесь подняться над этой мелкой ревностью. Разве она виновата, что сочла другого парня более привлекательным? Кроме того, — добавил я, — мы оба светские люди, оба — джентльмены. Мы не можем допустить скандала. — Я надеялся, что он поймет меня правильно. Но он просто рассмеялся мне в лицо и взмахнул папкой. — Я даю вам время, Макс. У меня сейчас на вас кое-что есть. Когда я покажу это газетчикам, кто, черт побери, поверит хотя бы одному вашему слову? Конечно, я не хочу скандала. Во всяком случае, большого скандала. Именно поэтому я даю вам время убраться. Но если дойдет до газет и если Хейс все узнает — а он неизбежно узнает, — поверьте мне, вы никогда больше не найдете работы в этом городе. А если вы хотите понять, что я имею в виду, свяжитесь с ПЗФ[699] и «Юниверсал», проверьте, заключат ли они с вами контракт. — Его голос превратился в хриплое блеяние. Настал мой черед улыбнуться. Я признал, что у него были boules d’amour[700], как говорят во Франции. — Может, Голливуд, Хевер и Хейс и обратились против меня, мой неуклюжий друг, но История запомнит вас только как глупого великана, всего лишь ничтожную помеху на пути Гения! (Мне следовало потребовать свои проекты. Конечно, он не сжег их! Он и его компании с тех пор жили за счет моих изобретений. Но я все еще чувствовал замешательство, когда выходил из его офиса с гордо поднятой головой; мое будущее рухнуло.) Первым делом я решил позвонить в «Космополитен» и договориться о встрече по поводу обещанной работы; потом я обратился к мисс Дэвис, но, невзирая на наши тесные профессиональные контакты, она заявила, что никогда не слышала обо мне. Мистер Херст тоже никогда обо мне не слышал. Его секретарь добавил, что мистер Херст привык к невероятным попыткам шантажа (тем более что сердечный приступ мистера Инса породил очень много необоснованных слухов) и что шантажистами занимаются соответствующие органы. Даже я, человек неискушенный, прекрасно понял угрозу. Таким образом, меня предали и покинули всего за один день!Глава шестая
Я согласен, есть куда более унизительные судьбы, нежели изгнание в Египет, даже при участии feigling[701] вроде Хевера; но я ни за что не выбрал бы эту страдавшую от турецкого ига страну, если б мог определять свое будущее. Я с удовольствием признаю богатейшую историю Египта, его древнюю славу, его изобретения и другие, не столь практические достижения. Я сомневаюсь, однако, что Рамзес II, попав в современный Луксор, нашел бы много такого, что могло ему понравиться. Я должен был уехать. Меня больше не ждали на Гауэр-Галч, а Симэн сумел заинтересовать Голдфиша проектом египетского фильма, «снятого прямо на месте событий, у могил Тутанхамона и его предков!». Мы могли привлечь огромное внимание, особенно если бы заявили, например, что некоторые члены нашей съемочной группы умерли при таинственных обстоятельствах. Вдобавок, судя по поведению Голдфиша, я был уверен, что он ничего не знает о назревавшем скандале. Он только недавно женился. Еще одно преимущество заключалось в том, что потенциал проекта увидел Рональд Уилсон, знаменитый начальник рекламного отдела Голдфиша. Миссис Корнелиус заверила меня, что и она готова вступить в бой с Хевером; и в то же время египетский фильм станет ее самой важной работой — как исполнительницы роли царицы Тий, вдовы юного царя (картину следовало начать со сцены его смерти) и возлюбленной верховного жреца. Голдфиш перекупил ее контракт у ПЗФ и называл ее второй Мэдж Норман. По слухам, это вызвало недовольство у Фрэнсис Фармер[702] (миссис Голдфиш), которая знала о страсти мужа к погубленной наркотиками звезде, что не могло не беспокоить продюсера. Я со своей стороны сделал наброски большей части сцен, почти покадровые, и уже мог представить, как Глория Корниш, поражая аудиторию, с грацией львицы приближается к огромному окну, украшенному варварской драпировкой, и протягивает прекрасную руку к восходящему солнцу, как будто считая светило своей диадемой. Фильм увлек всех нас, даже Эсме и мистера Микса. Наверное, они увидели для себя подходящие роли. Теперь я содержал их обоих. Джейкоб Микс отличался независимостью суждений, зачастую довольно неуместной, но я объяснял это затаенными обидами и конфликтностью, свойственной даже лучшим представителям его породы. Вообще говоря, он оставался добрым, и его проницательные наблюдения могли бы сорваться с губ самого образованного белого. Я во многих отношениях считал его равным себе. В свободные минуты мы продолжали заниматься танцами. Эсме отнеслась к египетскому фильму с особым интересом. — Пусть я буду красивой рабыней, Макс! Представь меня в этих чудных костюмах! Я честно признался, что меня подобное зрелище по-настоящему возбуждает, но мне не хотелось бы разделять такое возбуждение с несколькими миллионами мужчин. Она гримасничала, обнимала меня и говорила, что для нее я навсегда останусь единственным настоящим зрителем — и неважно, в каком виде она появится на экране. Меня зачастую привлекала подобная верность женщин (иногда и мужчин), но это — великое бремя. Я чувствовал огромную ответственность за свою странную маленькую семью и, разумеется, честно старался исполнить долг. Именно об этом я думал, покидая офис Хевера. Конечно, я не обеднел и для всего мира кино по-прежнему оставался человеком, наделенным творческой энергией и талантом, человеком, способным соперничать с великими артистами, живописцами Возрождения, человеком, обладавшим средствами, добрым именем и значением… Но я, без сомнения, мог почти мгновенно утратить всякое влияние и репутацию, если бы Хевер начал печатать свои разоблачения в газетах Лос-Анджелеса. Быстрое падение толстяка Арбакля меня многому научило. Комика полностью реабилитировал суд присяжных, который однозначно заявил в своем вердикте, что Арбакль невиновен в смерти девушки и что он стал жертвой гнусного сговора шантажистов. Сговор этот соперничал с худшими в стране, где искусство шантажа и краж достигло невероятного совершенства, благодаря опыту неких сицилийцев, которых терпимые американцы допустили в Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго. Там, в трущобах, негодяи добились процветания. Откройте католику или еврею привилегии протестантского сообщества и можете быть уверены: он примется вредить, а затем угрожать тем самым учреждениям, которые созданы, чтобы приносить пользу страдающим и угнетенным. С исламом все точно так же. Я не имел бы ни единого шанса в этом новом Голливуде, который прикидывался истинным воплощением респектабельности среднего класса. Арбакль был мировой звездой с огромным доходом и значительными связями. Его уничтожили за несколько часов. Если бы Хевер осуществил свои угрозы, у меня осталось бы совсем мало надежды. У нас с миссис Корнелиус потом будет много времени, чтобы оправдаться по поводу любых обвинений, особенно если за границей мы сможем получить визы и новые паспорта. Смирившись с временным, «стратегическим» изгнанием, я запер дом и закрыл мебель пылезащитными чехлами, объяснив в банке, что я некоторое время проведу в Европе и на Ближнем Востоке. Все причитающиеся мне выплаты будут поступать прямо на счет. Я, конечно, не хотел брать на себя какие-то новые обязательства в связи с этими переменами, но был благодарен за время, которое выиграю. Когда мы с Хевером встретимся в следующий раз, я стану майором Максимом Артуровичем Пятницким, донским казаком, — и смогу сражаться с ним на равных. В моей победоносной руке будут документы, доказывающие мою невиновность и справедливость моих слов. Хевер нахмурится, прикусит губу и съежится, побежденный, а я выйду из его офиса, открыв дверь навстречу солнечному свету, где будут ждать моя Эсме и моя миссис Корнелиус, готовые обнять меня, их героя и спасителя. Меня полностью оправдают! Реабилитируют! Теперь я мог так легко превращать свои фантазии в реальность, что был совершенно уверен в окончательном исходе ситуации. Оказавшись за пределами страны, я свяжусь со множеством друзей и попрошу их представить подробные сведения о моей личности. Я найду Колю Петрова. Мы сможем поручиться друг за друга. У меня были мои дипломы, мои грузинские пистолеты, мои проекты. У меня были средства и семья в Англии. Англия управляла Египтом. Возможно, я смогу наконец посетить страну, которой восхищался более всех прочих (исключая мою родину). Я начал обнаруживать в своем положении множество преимуществ. Судьба не собиралась наносить мне предательский удар. Она решила пробудить меня от бессмысленной эйфории так, чтобы я смог вернуться к исполнению великой миссии. Я вознес благодарности тем богам, имена которых тогда употреблял вместо имени Самого Бога. Я теперь все понимаю гораздо лучше, но нельзя изменить ошибки и безумства, совершенные в молодости. Ir tut mir vey! Ma yelzim an te’mal da Uskut! Uskut! Ighsilu ayadikum…[703] Однако все можно вынести. Это было не трусливое бегство прочь от моей Земли Обетованной, der Heim[704], но экспедиция на новую территорию, экспедиция, цель которой состояла в том, чтобы расширить и упрочить мою мудрость. Когда мы возвратимся с триумфом и великой славой, мы обретем всемирную известность. Нас будут превозносить как создателей первого египетского фильма, действительно снятого в Египте. Масштабность такого предприятия, учитывая количество оборудования и людей, которых требовалось перевезти, была несомненна. Но у Голдфиша оказалось готовое решение проблемы. У него имелся собственный пароход. Этот корабль был частью безнадежного долга, как я понял, взысканного Голдфишем на раннем этапе независимой деятельности. Корабль играл роль залога за большое количество фильмов, увезенных в Южную Америку неким уже свергнутым президентом, который собирался разбогатеть, став основным прокатчиком лент Голдфиша в Латинской Америке. Голдфиш владел кораблем в течение некоторого времени, и я слышал, что его недавно появившуюся супругу (не еврейку) сильно смущало множество скандалов, связанных с этим транспортным средством. Даже я знал о «Надежде Демпси»[705] и легендарных «ромовых круизах». Увековеченный в стихах и рассказах корабль всегда на пару корпусов опережал таможенников, перевозя груз контрабандного виски, бакарди и джина из Панамы, с Кубы и Бермуд. Я слышал, как знаменитые кинозвезды извинялись за пустоту в барах и винных погребах, потому что «„Надежда Демпси“ на денек запоздал». По общему мнению, Голдфиша не раз навещали федеральные агенты, и его жена, зная, как важен для финансового процветания образ законопослушного протестанта-англосакса, помогла ему наконец постичь истинный смысл их бизнеса — самой прибыльной в мире отрасли. Пока старая гвардия ссорилась из-за репараций и расположения боевых кораблей, новые иммигранты, обученные тонким приемам Востока, завладели подлинными рычагами власти. Я никак не мог отказать им в хитрости и прозорливости. Они знали, как и Голдфиш, когда следует выйти из дела. Мое мнение подтвердил шкипер судна, капитан Квелч, который командовал броненосцами в Первой мировой войне, принимал участие в Ютландской битве[706], происходил из очень известной английской семьи и все еще сохранял привычки джентльмена. Я впервые встретился с ним у Вольфа Симэна; печальный швед пригласил Квелча, чтобы обсудить профессиональные вопросы. Симэн желал убедиться в том, что наш капитан хорошо знает Восток. И, как он говорил, очень важно, чтобы у нас был капитан, сочувствующий особым художественным потребностям. Опоздав из-за Эсме, которая расхворалась и не смогла поехать, но не пожелала об этом сообщить до самой последней минуты, я прибыл как раз вовремя, чтобы услышать, как бывалый моряк с некоторой ностальгией вспоминает о Танжере и Порт-Саиде. Он водил корабли в Средиземноморье и Персидском заливе, прежде чем попытать счастья в Рио-де-Жанейро, где у него были кузены. В Рио он оказался в команде «Надежды Демпси», якобы принадлежавшей компании «Панамиан», но фактически перешедшей в собственность президента Берторелли, краткое правление которого (вроде бы в Парагвае) принесло ему достаточно средств, чтобы удалиться на юг Франции и купить там виллу рядом с виллами многих его друзей и сторонников. «Он совершил ошибку, связавшись с кинобизнесом, — говорил Квелч. — Это не самый типичный вариант поведения южноамериканского диктатора, но он был настолько очарован экраном, он считал кино, мне кажется, чем-то вроде нового ultium ratio regum[707]. Но мы оказались для него единственной статьей убытка. Некомпетентность, знаете ли». Он легкомысленно пожал плечами. Квелч был высоким англосаксом, очень худым, с выступающей нижней челюстью и тяжелыми бровями, которые подчеркивали его происхождение; длинный нос моряка испещряли синие жилки, а щеки покрылись вечным румянцем от ветров и вод Семи Морей. Он одевался весьма небрежно, при этом демонстрируя идеальный вкус, и говорил на том ленивом, почти вялом английском, который я считал совершенным. Я вновь услышал чистую литературную речь из «Пирсонса», «Лондона» и «Стрэнда»[708]! Как же мне это нравилось! Даже латинские слова в его устах звучали экзотично и внушительно. Когда он предложил мне попробовать кларет из бутылки, которую принес с собой, — вино, конечно, оказалось первоклассным, — я заметил, что не пил такого хорошего вина с самого отъезда из Парижа. Я начал вспоминать, каким должен быть образованный, космополитичный европеец; я словно ожил, испытав возрождение забытых чувств. — Париж? — отмахнулся Квелч. — Разве он теперь не совершенно vieux jeu[709]? Со всеми этими американцами! Мы сидели при свечах в полутьме, которую Симэн очень ценил, считая ключом к успеху своих картин; только при слабом освещении некоторые сцены соответствовали стандартам благопристойности. Миссис Корнелиус слушала радио, наушники лишь подчеркивали изысканную прическу: она уложила волосы в восточном стиле. Свободное ее шелковое платье идеально сочеталось с обстановкой. Мы курили сигары и наслаждались коньяком из другой бутылки, которую тоже принес Квелч. Я сказал доброму старому морскому волку, что узнаю истинный благородный вкус английского джентльмена, и он скромно улыбнулся. — Увы, только вкус, но не карман, дружище. Любовь к шампанскому и фуа-гра в конце концов и погубила меня. Женщины тут ни при чем. Вольфи спросил о его семье, и Квелч ответил, что у него есть брат-близнец в Англии. — Но мы не идентичные близнецы. А всего нас трое. Мать подарила нам младшего брата ровно год спустя после нашего рождения. Горацио — ныне очень успешный ученый. Он — мой близнец. Наш семейный девиз, знаете ли: «Aut non tentaris aut perfice!»[710] Вот Малкольм вас бы заинтересовал, сэр. — Египтолог? — От коньяка голос Симэна стал невнятным. Он не был вполне уверен, что правильно произнес слово, и повторил его еще менее успешно, но Квелч все понял. — Да, именно он. Самый мозговитый парень в семье. Avito vivet honore![711] По некоторым причинам он предпочитает Восток. Таков уж его темперамент, да и мой тоже. Как только узнаю наши планы, я напишу ему в Александрию и сообщу, когда мы прибудем. Он решительный, наш Малкольм, и как раз тот парень, который может предоставить вам всю информацию о Египте. Primus inter pares[712] — так вам скажут в Британском музее. К западу и к востоку от Суэца вы не сыщете другого человека с такими связями. Все это лишь усилило энтузиазм Вольфа Симэна. Очевидно, его успокоили опыт и образованность Квелча, и он на свой лад начал расслабляться. Это означало, что он похлопал нас с Квелчем по плечам. Когда миссис Корнелиус сняла наушники и недовольно проворчала, что слушала словно не оркестр, а сборище фрицев, страдающих вздутием живота после тяжелой ночи с пивом и колбасками, капитан Квелч предположил: «Тогда они, наверное, играли Моцперда», — и все мы чуть не померли со смеху. И миссис Корнелиус велела мне принести кокаин, раз уж мы все стали друзьями. Попробовав порошок, опытный старый моряк сказал, что мой «снежок» уровня его «sangue de vie»[713], и поздравил меня, в свой черед, с отменным вкусом. Мы с Квелчем очень быстро достигли взаимопонимания, хотя я еще инстинктивно опасался Симэна. Поскольку Квелч уже назвал своих братьев, я спросил, как же зовут его. После некоторых колебаний он признался, что его имя Морис, и миссис Корнелиус захихикала. В перерывах между приступами смеха она проговорила: — Ты Морис, твой близнец Горатсио — Хорас, а третий брат Малкольм! Ну, твои мамаша и папаша могли б назвать его хоть Борис, по крайней мере! Капитан Квелч склонился над своим стаканом с мрачным и серьезным видом. Он был немногим трезвее Вольфа Симэна и меня. — Я уверен, что они пали духом, — печально ответил ей морской волк. — Видите ли, мисс Корниш, я скорее думаю, что они хотели Дорис… Больше мы ничего об этом не узнали — миссис Корнелиус начала задыхаться и поспешно удалилась в ванную комнату. И так, в атмосфере веселого ожидания, с нетерпением предвкушая хорошее общество и создание изумительного художественного шедевра среди песков пустыни, я подготовился ненадолго покинуть Соединенные Штаты. Капитан Квелч плохо относился к египтянам и еще хуже — к другим народам и религиям в той части света. Он говорил, что египетской расы как таковой уже не существует. Вместо нее теперь — смесь выродков разных рас, наглядный пример катастрофы, которая происходит, когда белые, коричневые, желтые, черные и оливковые вступают в браки, особенно в тех местах, где преобладают негритянские и семитские элементы. «Омар Шариф Брэдли», я думаю, — это не реклама для будущего! Мое уважение к Джули Кристи[714], конечно, очень сильно уменьшилось после того, как я увидел ее в объятиях сначала американского еврея, притворявшегося русским, а потом и египетского копта, который — ну и ну! — выдавал себя за славянина! Я могу сказать, что ни капли славянской крови не было во всем этом киномусоре. Фильм снял Лин, коммунист, который сделал себе имя на романах Чарльза Диккенса и Грэма Грина, прежде чем получил миллионы на создание постыдной, искаженной версии истории Лоуренса[715]. Я не раз встречал Лоуренса. Он был скромным человеком — таким же провидцем, как я, предупреждения которого также остались неуслышанными. Он говорил мне, что, если бы не происки британского Верховного командования, он не стал бы работатьпростым шахтером и добывать себе хлеб порнографией. Конечно, он приобрел подобные привычки в Порт-Саиде, в этой сточной канаве. Несмотря на все такого рода соображения, признаюсь, некоторые романтичные ожидания, которые переполняли других, затронули и меня. Я уступил соблазну Востока, по крайней мере в воображении. В воображении, конечно, никакого вреда в соблазне Востока нет. Но грубая реальность — дело другое. Hadol el-’arab haramiye[716]. Я проводил в обществе Симэна куда больше времени, чем мне хотелось бы, в основном потому, что я надеялся убедить его: Эсме станет идеальной актрисой второго плана, а мистер Микс, мой слуга и помощник, исключительно необходим везде, куда бы я ни направился. Конечно, никто не понимал отчаянной сложности нашего положения, так что, с одной стороны, я упирал на случайность, а с другой — на профессиональную гордость. Несколько раз мне угрожала опасность распрощаться с Симэном или, гораздо важнее, с Голдфишем и с «Метро-Голдвин-Майер»; я только что доработал для студии гигантский поворотный механизм, который отметили все после выпуска «Шоу». Мое устройство создало репутацию Браунинга задолго до того, как он предложил жадной до острых ощущений публике своих непристойных «Уродцев»[717]. Под именем Тома Питерса я исполнил в фильме небольшую роль: в знаменитой сцене «Танец Саломеи» я был клоуном, который изображал Ирода. В то время я сыграл и другие значительные роли: Распутина в «Последних днях Романовых», кардинала Ришелье в «Королеве греха» Симэна и Джона Оукхерста в «Изгнанниках Покер-Флэта» Ингрэма (именно оттуда Форд позаимствовал сюжет «Дилижанса»)[718]. Я так никогда и не смог посмотреть большинство своих голливудских фильмов в том городе, где их снимали. Нет, я смотрел их в самых отвратительных условиях, в худших копиях, в разных захудалых киношках, где показывали немые ленты, пока их окончательно не уничтожили звуковые. Многие прекрасные фильмы теперь утрачены навсегда, включая и мои собственные; выцветающая хрупкая пленка трескается и крошится в металлических коробках. Как будто некие значительные книги в истории литературы сгорели на костре — и больше их уже никто не прочтет. Я иногда думаю, существует ли рай, где эти фильмы по-прежнему реальны, где звезды и съемочные группы по-прежнему переживают былые испытания и триумфы. Сталин, который воевал со словами, не добился такого успеха, какого добилось Время, стеревшее старые кинопленки в порошок. Я читал только рецензии — к примеру, на «Шоу», — потому что копий фильмов не сохранилось. Ко мне приехал какой-то человек из Национального дома кино после того, как я написал о своем голливудском прошлом в «Кенсингтон таймс». Как обычно, эти люди вытянули из меня информацию и ничего не дали взамен; меня едва упомянули в программе. Как я мог довериться человеку по фамилии Браунширт[719]? Но я все же посмотрел отдельные картины, над которыми работал вместе с миссис Корнелиус. Мы с ней ходили на «Бен-Гура». Как и наши египетские картины, он был частично снят на натуре, хотя по политическим причинам заканчивали работу в Америке. Некоторые эскизы, приписанные Мастрочинкве[720], - на самом деле мои. А миссис Корнелиус в окончательном варианте фильма появилась всего на несколько секунд в роли жрицы. Я всегда удивляюсь предположениям этих молодых экспертов, которые объясняют, как снимались такие-то и такие-то сцены, как использовалось то-то и то-то, как создавались разные декорации! Каждый раз, когда я говорю им, кто есть кто и что есть что, они утверждают, будто я неправ! То же самое касается и нравственных принципов. Кажется, опыт ни на что не годен! Они считают меня старым «boltun», который притворяется значительным человеком; а ведь все, что я описываю, я видел собственными глазами. То же относится к Египту и Насеру[721]. Те же самые дети, которые поддержали его в 1956‑м, теперь называют меня нацистом! И все же Насер был не просто добрым другом Гитлера, он считал фюрера образцом для подражания, человеком, которым следовало восхищаться! То же касается и Садата, который поддерживал национал-социалистов (это документально подтвержденный факт) и вел переговоры о мире с Израилем, хотя следовал совсем другой линии в сороковых и пятидесятых! Но теперь дела обстоят именно так. Я ничего не должен говорить в пользу Третьего рейха, но должен считать братьями пронацистски настроенных представителей третьего мира. Я напоминаю, что «социализм» — не синоним «гуманизма». Нельзя доверять какому-то смуглому властолюбцу просто потому, что он именует себя социалистом: с тем же успехом диктатор может объявить, что его руку направляет Бог, а Хью Хефнер[722] — провозгласить себя феминистом. Я упоминаю об этом, если речь заходит о Вьетнаме, но мне всегда затыкают рот. Я никогда не мог до конца понять, почему «левая» диктатура с нравственной точки зрения лучше любой другой. Но простота — вот чего требуют эти дети; и они хотят сделать мир простым, даже если факты не согласуются с их теориями. Почему молодые люди так часто отвергают прелесть сложности и разнообразия? Только самый безумный из юных Корнелиусов, кажется, похож в этом отношении на мать; я склонен предположить, что он теперь постоянно находится под действием наркотиков. Сегодняшние дети даже не знают, как следует использовать наркотики. Я за это их не очень виню. Качество сильно ухудшилось. Все как с путешествиями по воздуху — едва что-то становится доступным для масс, тут же начинается снижение качества. Кокаин, который я иногда покупаю сегодня, настолько разбавлен, что я с тем же успехом мог бы засовывать в нос «Вим» и «Лемсип»[723]! Ничего подобного нельзя сказать о египтских снадобьях, по крайней мере в 1926‑м. Интерес Голдфиша к нашему фильму подогревало еще и желание увидеть, как «Надежда Демпси» и ее капитан стремительно покидают американские воды, а миссис Голдфиш, со своей стороны, надеялась увидеть спину Глории Корниш. Судно, груз, команда и пассажиры — все было хорошо застраховано. Если бы мы пошли ко дну, оставшиеся на берегу получили бы неплохую прибыль. Несмотря на опыт «Бен-Гура», Голдфиш чувствовал, что наш фильм станет успешным. Интерес к Тутанхамону оживился, когда появились новые истории о проклятии и сокровищах. Голдфиш оценил внимание публики и поэтому дал нам благословение, но пока еще при условии, что фильм будет сделан так, чтобы Валентино мог заменить меня, если сочтет отснятый материал достаточно хорошим. Когда я начал возражать, Голдфиш отвел меня в сторону и тихо сказал на идише: — Послушайте, Макс. Это может стать вашим лучшим шансом добиться всего, чего вы хотите. Вы понимаете меня? Возможно, ответил я, но нет никаких причин, чтобы Валентино меня заменял. — Макс. Вы — профессионал. Нужно ли что-то добавлять? Я признался, что не оценил всех предстоящих трудностей, и мы пожали друг другу руки. Голдфиш всегда умел успокаивать меня. В конце встречи он объявил, что выделил нам на всю картину достаточно значительный, но не избыточный бюджет. Его можно будет увеличить, если нам после возвращения понадобятся новые декорации. Мне предстояло сыграть несколько важных сцен с миссис Корнелиус, и, даже если этот итальянский красавчик потом заменит меня, мы все равно чудесно проведем время. Зашел разговор и о том, что Валентино приедет в Египет, если у нас будет достаточно отснятого материала, а он закончит съемки в «Сыне шейха»[724]. Само собой разумеется, такая перспектива больше взволновала не меня, а миссис Корнелиус. Мы встретились с этим бесцеремонным маленьким олухом; он за короткое время выкурил очень много ароматизированных сигарет, при этом постоянно говоря о себе в третьем лице. Он уже тогда казался больным, но по-прежнему хвастался, его переполняли амбиции и ложные надежды. У нас с ним не было ничего общего, и мы с первого взгляда возненавидели друг друга! Мне не польстило заявление Голдфиша, что я был хорошим дублером для Валентино, который смотрелся вдвое старше меня. Он уже разрушил свое здоровье всяческими излишествами. Но всплеск энтузиазма продюсера позволил мне получить документ, в котором говорилось, что Эсме и Джейкоб Микс мне необходимы. Я рассчитывал на большее, но Голдфиш смог предложить только это. Официально Эсме оставалась костюмершей миссис Корнелиус, пока мы не достигнем Александрии; потом, если Симэн согласится, она могла бы сыграть роль в фильме. Мистер Микс, который считался моим камердинером, в документах был записан вторым киномехаником; он кое-что знал об этой работе. Я поручил ему те пленки, которые удалось спасти с погибшей студии «Делюкс». Он мог показывать фильмы на борту. Мне еще не предоставилась возможность посмотреть эти ленты, и я планировал насладиться ими, коротая дни во время морского путешествия. Я возвратился в наш маленький дом, упиваясь собственным успехом, но ответы друзей меня разочаровали. Эсме и мистер Микс ничуть не обрадовались своим назначениям, хотя я ожидал обратного; в конце концов негр признался, что он тоже хотел профессионально заняться актерским ремеслом. Я счел это забавным и похлопал его по широкому плечу. — Хорошо, старина, я уверен, что у нас найдется пара ролей нубийцев, когда начнутся съемки! Оставшаяся часть нашей команды — оператор, технические работники и пожилой гример, которого звали Грэйс, — была не слишком велика. В те дни профсоюзы еще не ввели свои смехотворные ограничения, и мы могли, если понадобится, нанимать местных жителей. Симэн предпочитал работать с небольшой группой. Главный оператор, маленький мрачный серб с огромным носом, именовался «О. К.» Радонич: в течение долгих лет по-английски он мог выговорить только одно слово. Он работал над многими престижными картинами и считался в Югославии пионером документального фильма. Радонич и Симэн уже сделали вместе «Признание княгини» и «Осаду»[725], но остались недовольны своими голливудскими работами. — Камера, — сказал мне Радонич, — инструмент чувствительный и тонкий. А эти собаки превращают ее в игрушку для шоуменов. Они несправедливы к своим же людям. — Потом он добавил по-английски: — ОК? Я не мог полностью с ним согласиться, но испытывал симпатию к этому человеку: он тоже искал возможности раскрыть свои творческие таланты. Я знал, что такое усталость от легкого успеха. «Королева Нила» (так теперь назывался фильм) станет для меня шансом сравниться с великим Гриффитом. Сюжет оставался моим, и за выбор фона кадра в значительной степени отвечал я. И я чувствовал: если мне никогда не случится сделать еще один фильм, именно этот должен стать моим шедевром! Я буду художником и сценаристом и совершу настоящий прорыв — как в собственной карьере, так и в истории кино. Реализовав это стремление, я мог бы обратиться к режиссуре, а потом вернуться к своему призванию, посвятив все время техническим достижениям, необходимым для наступления новой эры. Разве удивительно, что я чувствовал прилив оптимизма, словно в моем теле зажегся чудесный огонь? Я серьезно относился к угрозам Хевера, но по-прежнему знал: в конце концов я буду оправдан. Мне не придется надолго покидать свой новый дом. Мои дела в порядке. Все утихнет к моему возвращению… Я никогда не чувствовал себя в такой безопасности. Но История всегда была мне враждебна. В следующие месяцы все, чего я добился, исчезло. Только теперь, достигнув спокойствия и мудрости, которые приходят с годами, я понял: у Бога были особые планы на мой счет. Die Fledermausen in der Turm? Der Dampf in der Darm? Das Haupt is Hauen! Sie brechen ihr Wort[726]. Разве это моя вина? ¡Tengo fiebre! ¡Estoy mareado! ¡De’jeme tranquila![727]Глава седьмая
История редко повторяется и обычно предлагает нам всего лишь случайные метафоры; но когда-нибудь события сойдутся в одной точке — и тогда я услышу их отзвук. Такое эхо помогает нам достичь глубокого понимания мира. Иногда смысл проявляется постепенно. Я видел Козла. Я видел Его в Одессе. Потом я видел Его в Орегоне, где мертвые жили в пещерах, скрытых среди скал. Я видел Его в Долине Смерти, где преследовал бандитов. Я видел Козла, и Он искушал меня. Он вложил кусок металла мне в живот. Он показал мне свою сестру Эсме. Он сказал мне, что она моя дочь. Он сказал, что сделает ее моей женой. Он обещал мне власть над всеми. Он уверил меня, что приветствовал и поддерживал успехи Науки. Зачем Ему бояться Науки? Зачем ему беспокоиться, сомневаемся ли мы в Его существовании? Потакая таким спорам, сказал Он, мы всегда придавали Ему новую силу. Там, где Его не признавали, Он становился сильнее всего. Он говорил сухим, усталым голосом, и каждый вздох был для него мучением. Однажды я видел весь Триумвират: Козла, Корову и Барана. Я видел их в тенях того ужасного храма. Рози! Рози! У меня в животе — металл. Он протянул холодный коготь и вонзил его мне в сердце. Я повстречал в Одессе брата. Он был хорошим евреем; теперь он, вероятно, мертв. Мальчишки валяются в переулках; маленькие птицы поют лживые песни. Синагоги пылают. А в округе Ориндж[728] пепел казненных японцев топчут ногами туристы, и он вздымается на ветру, который дует из Нагасаки, где стальные корпуса больших линкоров стали иконами наших побед; они поднимаются и опускаются, а вода вокруг превращается в пар, и члены команд умирают при странных обстоятельствах. И воздух становится перламутровым, а кожа — алой, она натягивается, потом разрывается, и кровь смешивается с солнцем, и вы умираете, страдая от сильнейших конвульсий, вместе с вашим городом. Но это не вина Америки. Это вина тех, кто, не понимая ее государственности, использует в своих интересах наше просвещение, наш древний закон и овладевает внешними атрибутами власти, тем богатством, которое мы получаем благодаря ей. Козел шептал им в Одессе. Он говорил с ними в Мемфисе, и Карфагене, и в Лос-Анджелесе. Они терзали меня. Они пили мою кровь. Я не хожу ни под какими знаменами. Я сам за себя. Я ждал, что он прикоснется ко мне, но он ни разу не тронул меня. Он пошел со мной к остановке трамвая. Я больше никогда не видел его. Фанатик отрицает вселенную и изображает жестокость, которая вовсе не жестокость, а возвышенное стремление к равновесию. Города дышат; они сами по себе. Личность и город сольются. Они полетят. Они полетят, мои города. Я — дитя своего столетия, я ровесник своего столетия. Я — один из величайших изобретателей своей эпохи. Я — голос и совесть цивилизованной Европы. Мои достижения — дело истории. Отчет. Тот, принявший обличье птицы, был нашим проводником в том Доме Смерти; а Нехбет[729], носившая корону стервятника, стала нашей защитницей. Ночью мы ждали в песках у оазиса, и некоторые утверждали, будто пальмы плакали, а вода нашептывала неведомые имена; и все же я видел лишь лицо Бога, милостивого, но хмурившегося, — оно смотрело на меня со звезд. Те звезды напоминали маленькие искры истины, как будто меня окружало великое множество точек, которые я мог взять в руки и собрать вместе, породив ослепительное, сияющее единство, истину как таковую, истину в простоте. Мою истину. Мое примирение. И мою смерть. Я никогда не боялся ее. Только они не позволят мне умереть с достоинством. Ястреб, который парит в воздухе и, заметив случайные проявления природы, бросается в таинственную бездну, — этот ястреб не тревожится о том, что сокрушает его тело, когда его дух свободен. И меня нужно называть Ястребом. Меня любили и называли Ястребом. А ту, которая дала мне это имя, нарекли Al War’d [730]. Kull al-medina, al-medina kulliha. Fi ‘l-medina di buyut ketire: Al-lela di hiya tawila tawila. Safirt min America ila hena we-ma’i sahibi we-sayisna. Bashayrt?[731] Возможно. Внезапно я постиг свободу и спасение морского путешествия. Я оставил все неприятности позади, и я опять сделался прежним, живым и энергичным! — Разве мы — не половинки разделенного мира, вновь соединенные странной прихотью случая? — спросил меня капитан Квелч, когда мы сидели в его удобной каюте, празднуя, по его предложению, тот факт, что Панама позади, а Гаити прямо по курсу — корабль наконец покинул американские воды. Капитан говорил очень странно и причудливо, когда расслаблялся, и признавал, что склонность к поэтическим цитатам свойственна всем членам его семьи. Другие предпочитали греческие, латинские или старофранцузские фразы. А он был единственным, кто обращался к современной поэзии. Он признался: я ему понравился, потому что предпочитал настоящее прошлому и, подобно самому Квелчу, чувствовал расположение к современным или почти современным художникам. Я быстро возразил, что никогда не был футуристом или еще каким-нибудь чудаком. Мне нравилась хорошая, строгая поэзия и рассказы, печатавшиеся в лучших английских журналах. Квелч с энтузиазмом согласился и как-то загадочно добавил, что Браунинг — для него предел в этом направлении[732]. — Хотя, по правде говоря, Питерс, есть строчки весьма удачные и уместные. Мне и впрямь кажется, что между нами существует некая связь. Как будто мы были дружны в прошлой жизни или вроде того. Я по-настоящему верю в реинкарнацию. Меня это не удивило. Я часто обнаруживал, что самые практичные люди — солдаты, моряки, инженеры — демонстрировали склонность к духовным предметам, которая казалась уместной для священнослужителей и которой порой недостает церковным иерархам. Капитан Квелч получил безупречное образование — Хэйлибери, Кембридж и (пара семестров — пока он не предпочел флот) Донкастер[733], где, по словам капитана, он больше занимался скачками. Квелч прекрасно изучил классиков. Но его жажда знаний не угасла в Кембридже. Его библиотека свидетельствовала о весьма обширных интересах, демонстрировала, что он не страдал от ханжества, характерного для большинства англичан. Бодлер и Лафарг на его полках стояли рядом с Уайлдом, Суинберном и Доусоном, а Мередит и Харди встречались с Бальзаком и Золя. Я особенно обрадовался, обнаружив небольшой том «Посмертных стихотворений» Уэлдрейка[734], принадлежавшего, по словам капитана, к числу его любимых авторов. Он чувствовал, что оба, Уайлд и Уэлдрейк, страшно пострадали за свои сексуальные склонности, но лишь Уайлда общество восстановило в правах. Я не мог не согласиться с капитаном Квелчем. Я заверил его, что гомофобия не принадлежит к числу моих недостатков. Как логово знаменитого контрабандиста, каюта капитана могла разочаровать человека, ожидавшего увидеть здесь сцену из «Железного пирата» или какого-то другого увлекательного рассказа о морских бродягах, сочиненного Пембертоном или Майн Ридом[735]. Нет, капитанские апартаменты казались немного претенциозными и скучными; здесь мог бы жить преподаватель колледжа. Все было очень аккуратно прибрано. На иллюминаторах висели занавески с узором «Либерти»[736]; у стола стояло удобное кресло, обитое темной парчой; все деревянные и медные детали были идеально отполированы, лампы выполнены в современном итальянском стиле; полки и шкафы из красного дерева и меди хранили сувениры с шести континентов, расставленные так точно, что сдвинуть их с места могло только сильное волнение моря. На меня особенное впечатление произвела со вкусом подобранная коллекция персонажей мейсенской арлекинады и статуэток эпохи Тан[737]; все они были наилучшего качества и притом в прекрасном состоянии. — Я раздобыл эти китайские штучки у одного старого торговца. Он приволок их с собой в Шанхай, когда его область разграбил какой-то местный «спаситель». — Квелч длинными пальцами погладил по гриве небесного коня. — Это случилось в мае, почти три года назад, прямо перед тем, как я решил попытать счастья в Америке. Поскольку он был готов оплатить путешествие, я согласился с превеликим энтузиазмом. Но у нас вышла неприятная стычка с какими-то тайваньскими пиратами, и у бедного старого дьявола случился сердечный приступ. Поскольку официально его даже не было на борту, мы скинули тело в море, я сказал несколько слов на прощание, поблагодарил его за помощь и направил корабль к Филиппинам. Скажу вам, друг мой, что эти бандиты сожрали Китай заживо. Если они и япошки еще несколько лет там потрудятся, от государства не останется ничего. Жизнь сейчас почти везде стоит достаточно дешево, но в Китае она дешевле всего. Целая страна доступна всем желающим — и, если ее не заберут янки, это, несомненно, сделают японцы. Тот год в Южной Америке — прямо-таки настоящий отдых в санатории. Подобно многим хорошо осведомленным людям, Квелч предвидел войну между Америкой и Японией из-за их имперских амбиций на Дальнем Востоке, но не мог оценить гигантских масштабов конфликта. Да и почти никто не мог. События в Европе уже изменяли основные направления мировой политики, но в те дни мы все еще оставались оптимистами, несмотря на нестабильную обстановку на Балканах и жестокость Франции к измученным и страдающим немцам (конечно, подобное отношение должно было привести к войне, хотя почти все думали, что ее можно избежать). Европа отвергла великие усилия Америки по поддержанию мира, и, придя в уныние, Дядя Сэм отдался поискам удовольствий с решимостью, достойной упадочного византийского двора. Море было спокойным, погода — теплой, а значит, мы проводили много времени на палубе. Ноябрь выдался необычайно приятный, и мы наслаждались чудесными днями даже тогда, когда, к превеликому облегчению мистера Микса, Порт-о-Пренс остался позади и мы вышли в просторные воды Атлантики. Капитан Квелч собирался отправиться к Тенерифе или в Касабланку, в зависимости от наличия времени и сохранности припасов. Он называл Средиземноморье своим «старым излюбленным логовом» и, по его словам, с нетерпением ожидал возвращения туда. Капитан чувствовал ностальгию. По крайней мере, теперь у него был хороший корабль — лучше, чем предыдущий. — Нам пришлось затопить «Нэнси Ди» поблизости от побережья Албании и высадиться с тем, что мы могли спасти, — сказал он. — Но мы потеряли оружие. Не то чтобы оно много стоило. Даже арабы теперь не станут покупать «Мартини». Все хотят «ли-энфилды» и винчестеры[738]. — Он расслабился и глубоко затянулся. — Еще и замечательного гардероба лишились. Я с радостью просматривал томик Уэлдрейка, а старый морской волк размышлял, без сомнений, о природе настоящего времени, когда опасная многозарядная винтовка стала доступна даже самым варварским народам. Он сказал мне, что после перемирия[739] можно было купить хорошее немецкое ружье с сотней патронов всего лишь за сто египетских пиастров. — Их привозят из Западной пустыни[740] и продают в основном в Палестине. Но феллахам[741] тоже достается немало. Британское оружие стоит намного больше. «Ли-энфилд» обойдется в целую пятерку. И они все еще лежат там, не тронутые ржавчиной, на полях сражений в Киренаике[742] и Ливии. Наверное, нам следует радоваться, что большую часть оружия они используют для совершения кровной мести, убивая своих. Помоги нам Боже, если они займутся политикой, как те нелепые ребята в Каире. — Он вспомнил о газетных статьях, посвященных требованиям египетских «националистов» из «Вафд»[743]. — Оружие — это выгодный груз, вообще-то, но я никогда не продал бы оружие тому, кто может убить белого человека. Эсме плохо переносила морское путешествие. Теперь я вспомнил, как она мучилась во время нашего плавания на судне из Константинополя. Хотя «Надежда Демпси» значительно превосходила то дырявое корыто, на котором мы отправились в Италию, Эсме призналась, что нехорошо себя чувствовала даже на «Икозиуме». Она рассказала, что встретила мистера Мейлемкаумпфа как раз в первый день путешествия, когда ею овладела слабость. Бедная девочка редко выходила к столу и глотала те маленькие кусочки, которые могла удержать внутри, у себя в каюте — ради соблюдения приличий мы заняли отдельные, хотя между ними и была дверь. Однако почти ничего неподобающего не случалось — удивляться не приходилось, учитывая состояние моей малютки! Я предпочитал коротать вечера в обществе Квелча; Эсме с удовольствием принимала лауданум, которым наш капитан снабжал ее из собственной аптечки, поэтому много времени проводила в спокойной полудреме. Das Mädchen sieht schön aus. Er hat ihr den zucker gern gegeben. Mir ist kalt. Was heisst das? Ich bin nicht ein feygeleh![744] Миссис Корнелиус, напротив, вечерами появлялась в салоне, который был обставлен куда лучше, чем салон на добром старом «Рио-Крузе» — на этом судне мы с ней вместе плыли из Одессы примерно пять лет назад. Миссис Корнелиус наслаждалась обществом бесхитростных мужчин и с командой корабля нашла общий язык так же быстро, как и со съемочной группой; большую часть свободного времени они проводили, исполняя песни или играя в карты — это были любимые занятия моей жизнерадостной подруги. Вольф Симэн после пары вечеров, когда он неловко пытался стать «одним из мальчиков», начал вести себя как капитан Ахав — бродил по палубе в одиночестве или в обществе мистера Микса. Негра принимали в салоне, но он как-то раз сказал, что не уверен, хочется ли ему быть шутом для других пассажиров. Эти затаенные обиды и предубеждения мешали ему расти над собой, но я давно уже не пытался вступать с ним в дискуссии. Поскольку на борту были женщины, всегда оставалась опасность расовых конфликтов. Тем временем у моей возлюбленной появился поклонник. Грэйс, наш гример, преисполнился сочувствия к Эсме. Когда я отправлялся побеседовать с капитаном Квелчем, он всякий раз приходил, чтобы узнать, в чем она нуждается и чем можно ей услужить. Грэйс без устали заботился о «маленьком сокровище». Эти женоподобные гомосексуалисты компенсируют свою ограниченность, становясь изумительными сиделками для больных. В них сочетаются лучшие и худшие черты им подобных. Зачастую мне казалось несправедливым, что благородная греческая любовь, любовь мужчины к мужчине, опозорена этими явными символами вырождения. Я, однако, никогда не рассуждал на эту тему подробно и не затрагивал ее в беседах с ближайшими друзьями, такими как Коля или Морис Квелч. I’tarim Nafsak, как говорят марокканцы. Это важнее всего. Maalesh. Mush Mush’kil’ah1 [745]. В мире арабов все учатся терпению и самопознанию, если не находят ничего иного. Но терпение всегда было одним из моих достоинств. Именно это качество позволяло мне наслаждаться путешествием, даже когда море становилось очень бурным, и извлекать максимальную пользу из бесед с человеком, которым я все больше восхищался и которого по-настоящему полюбил. Его знания о музыке, литературе, истории и науке намного превосходили мои. Он продемонстрировал мне преимущества лучшего в мире образования. И, можно сказать, мне, российскому беженцу, чье собственное обучение прервало безумие октября 1917‑го, выпала честь изучить английскую систему государственных школ, Кембридж и Королевский флот изнутри. Скоро и миссис Корнелиус воспользовалась средствами из домашней аптечки капитана Квелча. Один за другим пассажиры сдавались, не в силах выдержать ужасы и опасности бушующей Атлантики. Один за другим прибегали к запасам щедрого старого моряка. Для них нашлось множество разных успокоительных препаратов. Вольф Симэн высоко оценил морфий, а мистер Микс (он, подобно мне и Квелчу, не слишком страдал) решил воспользоваться средством, которое в те времена называли «тунисским табаком». На самом деле зелье было мексиканским. Мистер Микс испытывал к нему такую же склонность, как и Гарольд Крэмп, бородатый главный механик, метис, сын голландского инженера и яванки. Микс и Крэмп часами беседовали, передавая друг другу медную трубку. Справедливости ради следует отметить, что, кроме меня, капитана Квелча и склонного к воздержанию О. К. Радонича, почти все пассажиры и члены команды, пересекая неистовую Атлантику, находились в состоянии абсолютной непрекращающейся эйфории. Мы с капитаном Квелчем хотели сохранить ясность рассудка; к счастью, при остановке для дозаправки на Гаити мы смогли раздобыть хорошего качества колумбийский «снежок». Я должен быть благодарен этому богоданному чудесному средству за то, что мы сблизились и совместили в путешествии (по крайней мере, если говорить обо мне) образование с удовольствием. Такая мужская дружба может считаться наивысшей, как полагает великий оксфордский философ Льюис[746], хотя он сам, конечно, в основном интересовался незрелыми в половом отношении особями, во всяком случае в литературе и фотографии. Мы не станем здесь обсуждать тех нелепых существ — карикатуру на европейцев, — что наводняют запущенные бары и bals exotiques в Танжере и Триполи или ищут несчастных уродов, которыми славится Бейрут; нет, мы вспомним о лучшем типе Homme de bien[747], физически и мысленно здоровом, о том типе, чьими воплощениями были бедные, погубленные молодые люди Рёма[748]. Еще одно преступление, ответственность за которое возложили на немецкого лидера, еще одно обвинение, заставившее его в последние годы сделать роковые шаги к поражению. А ведь этого, возможно, не случилось бы, если бы его поддержали, а не изводили нападками в самые решительные моменты. Я не защищаю крайностей Гитлера или Рёма, но большинство согласится со мной: равновесие оказалось утрачено. Я первым признаю, что это не были лагеря отдыха. Но никто подобного и не утверждал. Требовалось принести жертвы, а иначе, как сказал мне Геринг в мгновение близости, «wir werden keine die Zukunfte haben»[749]. Что мог сделать Гитлер, когда он столкнулся с таким совершившимся фактом? Предать своих людей? Это была ужасная дилемма. No puedo esperar[750]. Кто из нас смог бы найти лучшее решение? Это сюжет для высокой трагедии, для Вагнера и Мая[751]. Alle Knaben. Alle seine Blumen. Ayn solcher mann! Und alle guten Knaben. Viele guten Knaben. Vor longer Zeit. Sie hat sich verändert[752]. Капитан Квелч понял бы это лучше всех прочих. К сожалению, к 1933‑му он стал жертвой французской колониальной политики и, как я подозреваю, испанского вероломства. Во всяком случае, храбрости у него было предостаточно. Он слишком доверял своим собратьям. Вот почему этот пожилой человек так быстро стал моим наставником, истинным Хароном, доброжелательным и полным мудрости, способным перевезти меня через особенно бурный Стикс, при виде которого я начал испытывать небольшое отвращение — после недели штормов, преодоленных нашим небольшим пароходом с замечательной легкостью и надежностью. Все, что мне требовалось для восстановления сил, — стаканчик-другой особого лауданума капитана Квелча, после которого я с восторгом присоединялся к Эсме в мире грез, странная красота которых едва ли могла соперничать с явью величия Природы, ночью и днем небрежно крутившей наш корабль, словно муху в водовороте. Но даже этим силам не удавалось сбить «Надежду Демпси» с курса больше, чем на несколько миль. Вдобавок ко всем прочим достоинствам капитан Квелч был еще прирожденным навигатором, который часто сам брался за штурвал. Потому-то, полагаю, ласкары так подчинялись ему. Вместе с Шефом Крэмпом (наши индусские моряки сардонически именовали механика «Шри» Гарольд, подразумевая его визионерские склонности) они проплыли с капитаном по Южно-Китайскому морю, через Малаккский пролив, Индийский океан, Тихий, Атлантику, а теперь странствовали по Средиземному морю. У Христофора Колумба или Фрэнсиса Дрейка никогда не было такой замечательной и надежной команды, какой руководил незаметный герой множества безрассудных предприятий, поистине переродившийся мореход елизаветинской эпохи, в жилах которого текла кровь английских джентльменов, победивших могучие испанские галеоны и творивших подвиги, достойные римлян. Эта толпа китайских язычников, малайцев, дакойтов[753], мусульман и индусов из сточных канав Дальнего Востока не пошла бы больше ни за кем, разве что за самим Сатаной. Эти люди и «Шри» Гарольд поплыли бы с капитаном Морисом Квелчем по огненным океанам Гадеса, если бы он взялся доставить туда груз. Держа стакан бренди в одной руке и томик стихов в другой, он ровным шагом выходил на мостик и там отдавал приказания. Только второй помощник, болезненный мужчина с одутловатым лицом, Сэмюэл Болсовер, казалось, относился к капитану критически. Но Болсовер был типичным британским мелким буржуа; такие люди так часто и мучительно размышляют о долге и добродетели и проводят так много времени, сидя в сортире и тужась изо всей мочи, что забывают о неизбежной реальности жизни. Любое внешнее впечатление представлялось Болсоверу значимым духовным опытом. Кроме того, как я указал ему однажды утром, когда мы вдвоем сидели за завтраком, если он придавал такое значение принципам, вычитанным из «Бойс оун пейпер»[754], ему следовало бы остаться в Торговом флоте. Это замечание звучало, возможно, немного несправедливо, так как я знал: Болсовер был морфинистом, которого разыскивали за убийство шлюхи в Маракайбо. (Тем более, думал я, ему стоило бы держать эту лицемерную мораль при себе.) Обстоятельный ответ Болсовера сводился к тому, что мое мнение ничего для него не стоило, поскольку я был иностранцем. Когда капитан Квелч выделял «время для себя», я просил Микса настроить проектор и показать мои авантюры в самолете и в седле — истории о похождениях отважного сына степей. Я заметил Эсме, что она должна присоединиться ко мне и посмотреть «Закон ковбоя», мою лучшую картину. Эсме могла бы гордиться мной. Вместо этого она начала волноваться. Между приступами болезни и сном после приема лауданума Эсме редко разговаривала со мной, и я никак не мог узнать, что тревожит ее сильнее всего. Мою возлюбленную приводило в отчаяние почти все. Глаза ее окружала паутинка, образованная потеками туши, и Эсме рыдала о своей несчастной судьбе, убежденная, что никогда не вернется в Голливуд, никогда не станет кинозвездой и умрет в каком-то безымянном море. Ее маленькие кулачки колотили по стенам каюты — так же вела себя Лиллиан Гиш в «Сломанных побегах». Я заверил Эсме, что у Атлантического океана есть название и что корабль абсолютно надежен. Мы вернемся домой с триумфом. Критики прославят ее роль в «Невесте Тутанхамона» (именно такое название в конце концов предложил Голдфиш — мы получили от него телеграмму, когда корабль находился в Мексиканском заливе). — Прославят что? — спросила она, подняв изящное личико, бледное и опухшее, над подушкой. — Мои успехи в качестве горничной леди? Я могла бы получить такую работу, Максим, не уезжая из чертовой Перы. — Все будет хорошо. Когда мы приедем в Египет, у тебя появится шанс. Я уже сейчас изменяю сценарий, чтобы дать тебе большую роль. Ты сыграешь Клеопатру. После этого она немного оживилась. — Царицу Египта? — Возможно, — ответил я, — в конце концов. На самом деле речь шла о роли греческой рабыни, которая становится соперницей Тий. Сюжет вращался вокруг этого треугольника. Идея принадлежала не мне, а человеку по фамилии Тальберг[755]. Друг Симэна и миссис Корнелиус, он набрался кое-какого опыта по сценарной части. Тальберг был истинным немцем, позже он снял «Унесенных ветром» вместе с моим наставником Мензисом. Я думаю, миссис К. познакомила с ним одна из ее подруг-актрис. Я не был уверен, что Эсме сможет оценить иронию судьбы своей героини (хотя действительно появлялась возможность для сиквела). Я успокоил любимую, показав ей несколько тщательно продуманных эскизов: она стояла на вершине одной из небольших пирамид, на фоне огромного восходящего солнца, в окружении пальм. На рисунке она была облачена в золото, нефрит и ляпис-лазурь, в одной руке она держала розу жизни, а в другой — розу смерти. — Ты будешь видением! Но она не успокоилась: — Мне скучно быть видением, Максим. Я хочу стать актрисой. Покажи мне мой текст. На этом этапе я больше ничем не мог ее утешить. Гораздо позже в ту же ночь, когда море относительно успокоилось, я столкнулся в салоне с Джейкобом Миксом. Он курил одну из своих гаитянских сигар, удобно устроившись в единственном приличном кресле. Ноги он вытянул, благородное лицо его, выражавшее блаженное довольство, могло бы украсить бенинские рельефы[756]. В общем, я почувствовал, что явился не ко времени и испортил исторический момент. Вся безмятежная, прекрасная варварская гордость Африки запечатлелась в очертаниях его тела, и я снова задумался о глупости и неразборчивости работорговцев, которые похищали представителей самых разных племен. Благороднейшие существа, достойные воины ашанти, зулусы или масаи, ценились ничуть не дороже выродившихся дикарей. Даже голландцы видят разницу между королем Чакой и каким-то невежественным слугой из племени банту[757]. Зулусы и масаи могут подтвердить это. Африка, в конце концов, большой континент. Цивилизация зародилась там, и кое-кто верит, что именно там ее ждет конец. Но это было древнее африканское благородство, благородство, которое существовало с незапамятных времен, задолго до того, как арабы или белые обнаружили богатство, самими неграми презираемое. И не следует винить ни белых, ни черных. Это силы истории увлекли Ливингстона и Родса[758] в сердце Черного континента; они были одержимы, они охотились за знаниями. И не их вина, что они еще нашли золото, алмазы, древесину и миллионы акров земли, где можно выращивать полезные растения. Темнокожие люди не хотели все это использовать. А белым нужно было прокормить свое племя. Достаточно просто взглянуть, что негры делают с собственными богатствами, когда получают их в полное распоряжение, — в Бурунди, например, или в большей части прежнего Конго, не говоря уже о непристойностях, творящихся в Уганде[759], - и мы увидим, как мало они ценят дары природы, которые белым кажутся дорогими и редкостными. Банту или жители Биафры[760] не умеют смиряться и сдерживаться, как мы. Они просто проводят время в племенных ссорах и наблюдают, как женщины выполняют всю работу, необходимую для выживания. Мужской шовинизм — проклятие третьего мира, так же как и наших старых городских кварталов. Смешение негритянской и арабской крови породило целую философию и религию, основанную исключительно на таком отношении к жизни. Ее называют исламом. По-моему, речь идет о ложном благородстве ленивого араба-полукровки, об оправдании образа действий, суть которого сформулировал один ямайский моряк в питейном заведении в Сохо — как-то вечером в 1953 году, когда я танцевал с миссис Корнелиус. — Ты слишком много работаешь, парень. — Сам он почти не шевелился и только иногда щелкал пальцами. — Видишь? Пусть женщина потрудится вместо тебя. Джейкобу Миксу повезло — он отличался необычайным умом и вдобавок усвоил христианские ценности. Он не был ни особенно ленивым, ни безнравственным. Он лежал в своем кресле — довольный человек, расслабляющийся после трудного дня. Он предложил миссис Корнелиус помочь с ее репликами и исполнял роли Тутанхамона и верховного жреца. Немногие актрисы отличались такой добросовестностью, как моя подруга. Почти все просто разучивали роль по мере съемок. Никакого суфлера в немом кино услышать было нельзя. Кроме того, гораздо больше зависело от пантомимы. Но миссис Корнелиус прошла суровую школу, и мистер Микс это понял. Он тоже испытал и подлинные трудности, и истинное отчаяние. Симэн тем временем стал несколько мрачен по причинам, которые меня ни капли не интересовали; он сидел у себя в каюте и не предлагал никакого утешения своей «протеже» даже тогда, когда чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы посетить ее. Поскольку я проводил большую часть времени, ухаживая за Эсме, то вышло очень удачно, что миссис Корнелиус помогал мистер Микс. Какой чудесный друг! Естественно, я не требовал никаких особых услуг от мистера Микса в качестве «камердинера». Мне нужен был только киномеханик, когда море успокаивалось и мы могли смотреть следующие серии «Ковбоя в маске». В других делах я в его помощи не нуждался. Я обрадовался, столкнувшись с ним в салоне. За исключением капитана Квелча, мистер Микс оставался единственным человеком на борту, с которым у нас сохранялось подлинное взаимопонимание. Дав ему еще пару минут сладостного уединения, я наконец открыл дверь. Я излучал веселье. — Ну что, мистер Микс? Каково? Собираешься прикупить собственную плантацию? Он, кажется, сначала нахмурился, а затем, поняв, что пришел я, усмехнулся. Он знал, что я не хотел его обидеть. — Ты угадал, Макс. — Он чуть заметно переменил позу и достал из кармана еще одну сигару. — Не хочешь присоединиться ко мне? Я взял у него «гавану» и опустился в ближайшее плетеное кресло. — Думаешь, шторм закончился? — спросил он. Я, конечно, не был моряком, но признал, что погода, кажется, установилась. — Не стоит торопиться. Если повезет, мы завтра сможем посмотреть окончание «Сражающегося ковбоя». — Капитан еще не говорил тебе, где он собирается бросить якорь? У Тенерифе? — Мистер Микс, казалось, почти задремал. — Вероятно, в Касабланке. Мистер Микс улыбнулся. Потерев пальцами углы рта, он смахнул табак с массивных губ. — Неплохо будет посетить этот континент. Я от души согласился с ним. Я сказал, что Эсме становится все более подавленной. — По правде говоря, мистер Микс, у нее нет таланта по части фильмов. Возможно, она добилась бы результатов, если бы хоть немного набралась опыта на сцене. — Вероятно, ей пока больше не нужно опыта, — предположил мистер Микс. — Она — только дитя, Макс. Я знал это лучше всех прочих и чувствовал, что должен защищать Эсме. Я по крайней мере однажды потерпел неудачу и не справился со своими обязанностями, но решил, что больше ничего подобного не допущу. Но разве, спросил я мистера Микса, помогать ей в том деле, к которому она не имеет ни малейшего призвания, — тоже мой долг? Все, что мог ответить массивный негр, — мне следовало делать то, что я считал наилучшим. — Полагаю,ты подсадил ее на это модное дерьмо, Макс, и наобещал ей много всякой ерунды, и теперь тебе нужно справиться с последствиями как можно скорее. Я не хотел, чтобы она увлеклась Голливудом. Я хотел, чтобы у меня была всего лишь верная подруга. Спутница. Жена. И я хотел этого до сих пор. — Тогда тебе нужно поискать кого-то из ровесниц. — Мистер Микс говорил очень мягко, так, чтобы я понял: он меня не критикует. Но, когда он взмахнул сигарой, все стало ясно. Он больше ничего не мог добавить к сказанному. Потом мистер Микс поднялся и подошел к иллюминатору. Море было черным и бурным. — А на каком языке говорят в Касабланке, Макс? На французском, на испанском? — Я полагаю, что в основном на французском и арабском. Но, думаю, многие пользуются и английским, испанским и немецким. Не волнуйся, мистер Микс. С моей помощью мы справимся. У меня что-то вроде дара к языкам. — Я немного выучил испанский за то время, пока был в Мексике, — сказал негр. — Я думаю, они поймут меня. Я напомнил ему, что мы пробудем в Касабланке всего несколько дней; здесь мы заправимся топливом и закупим припасы, а потом двинемся дальше, в Александрию. Я не считал, что Касабланка сильно отличается от всех прочих международных портов, но, очевидно, мистер Микс полагал иначе. — Это же Африка, — благоговейно произнес он. Что-то в его движениях навело меня на мысль, что мистер Микс думал о женщинах. Он надеялся, возможно, найти жену в племени нубийцев или отыскать публичный дом, где цвет его кожи не вызовет никаких вопросов. Я сочувствовал ему и уже хотел об этом расспросить поподробнее, но тут капитан Квелч, возвращавшийся после вахты на мостике, прошел мимо, а потом вернулся через дверь, ведущую к шлюпочной палубе. — Думал, я один еще не сплю, — сказал капитан. Он подошел к небольшому бару. Квелч всегда носил с собой ключ от шкафчика со спиртным и теперь достал его из кармана. — Gaudeamus igitur![761] Не хотят ли два джентльмена присоединиться ко мне и выпить по стаканчику на ночь? Мистер Микс дипломатично отказался и оставил нас наедине, объявив, что должен немного вздремнуть. — Мы набрали скорость. — Кивнув негру, капитан Квелч устроился в освободившемся кресле, чтобы отдохнуть. — К утру мы, возможно, даже увидим Канарские острова. Conjunctis vivibus[762] наше испытание закончено! Это разогнало вашу тоску, мистер Питерс? Я удивился. Я не верил, что он может так легко читать мои мысли. Он поднял стакан и выпалил несколько строк из «Иерусалима»[763] — капитан всегда их напевал, будучи в хорошем настроении. Он отсалютовал мне. — De profundis, accentibus laetis, cantate![764] Вот мой девиз, Макс, дружище. Это — гимн моряка! — Вы рады, что снова оказались близко к дому, а, капитан? Рады снова посетить свои старые убежища? — Я старался отвечать ему в тон. — О, полагаю, что так, Макс. Но вы знаете, как говорят: «Plus ne suis се que j’ai été, et ne le saurois jamais être»[765]. После того как капитан удалился к себе в каюту, я долго стоял и размышлял о прискорбной справедливости этого последнего замечания.Глава восьмая
— О, цветы дикой розы на зеленом лугу[766], - неразборчиво напевал капитан Квелч, когда следил за ласкарами, которые носились взад-вперед по скользким камням. Он собирался остановиться в стороне от порта и послать людей на берег на лихтере[767], но французские власти приказали нам причалить. Ворча, наш капитан бросил якорь в дальнем конце длинного каменного мола. Он тянулся от старой гавани, изогнутый, как хоккейная клюшка, и поросший желтой травой. Новая гавань осталась по правому борту; она еще только строилась. За нашими маневрами наблюдали французские инженеры и арабы-чернорабочие. Касабланка припала к земле, потрепанная, ничем не примечательная медина[768], окруженная полуразрушенными кирпичными стенами и поселками, обычными спутниками всех городов, возникших в результате экономического подъема, — от Клондайка до Сибири. Я увидел несколько невзрачных мечетей, лачуги с навесами, традиционные арабские плиточные дома, возведенные рядом с тщательно спланированными готическими особняками, деревянные детали которых деформировались так быстро, что сооружения приобрели странный, почти органический вид. Мне они напомнили мои самые причудливые декорации, а фон Штернберг что-то подобное потом имитировал в «Распутной императрице»[769]. Арабский двухэтажный дом с плоской крышей стоял напротив фантастического здания, украшенного лепниной, от которой уже отслаивалась краска — ничего иного и нельзя было ожидать при всем известном ветреном климате Касабланки. Тут и там стояли внушительных размеров ангары и официальные здания, выстроенные в обычном неприметном французском стиле XIX столетия — этот стиль в Париже кажется удивительно гармоничным, а во всех остальных местах — неприглядным и буржуазным. Кое-где встречались попытки подражать «мавританскому» стилю, но эти миниатюрные дворцы окутывала аура безумия, более свойственная каким-то южноамериканским задворкам. И еще попадались коммерческие сооружения, словно перенесенные сюда с натурной площадки на Гауэр-Галч. Действительно, некоторые из них были настолько ненадежны, что любого плотника, построившего такие для «Метро-Голдвин-Майер», уволили бы за небрежность. И на эти жалкие псевдоевропейские и псевдоберберские постройки падали капли серого дождя, который отличался удивительным постоянством, возможным только рядом с Атлантикой: массивные влажные облака, иногда чуть темнее или чуть легче прежних, следовали друг за другом просто безжалостно, и сразу верилось, что такой дождь шел всегда и будет идти вечно. — Снято! — воскликнул мистер Микс, присоединившись к нам на палубе. — Не ожидал, что в Африке окажется так чертовски сыро. И все-таки свет не угасал в его глазах, когда он осматривал город, скрытый дымом и туманом, и толпы мокрых несчастных людей, создававших грязный хаос на узких улицах; от них исходил такой шум и запах, что Константинополь казался в сравнении с Касабланкой милым и уютным, как Кенсингтон. Помимо угольного дыма, масляного дыма, древесного дыма, мусорного дыма и навозного дыма, которые поднимаются над многими подобными портами, были еще и густое зловоние фосфатов от частных грузовиков, перевозивших минеральные удобрения, пары от древесного угля и от тысяч котлов с манной кашей, запахи свежей краски, мяты и кофе, промокшей от дождя грязной одежды и задыхавшихся ослов, верблюдов, лошадей и мулов, запахи угарного газа от автобусов и военных машин, запахи полусгнившей рыбы и убитых животных, запахи водорослей, выброшенных на скалы по левому борту, где полуголые мальчишки носились туда-сюда, убегая от седых бурунов и выпрашивая у нас мелочь (впрочем, они умолкли, когда заметили наших ласкаров). И все казалось таким мокрым от дождя, таким унылым от холода и облаков, что капитан Квелч мог только усмехнуться и ответить поэтически: — Разве это немного не напоминает вам, Питерс, «Паддингтон вечно слезный»[770]? — Или Саммерстаун[771], - сказал я, не желая разуверять мистера Микса, что я очень хорошо знаю Англию. Вдобавок прочитанного в книгах и услышанного от миссис Корнелиус было достаточно, чтобы я изучил Лондон настолько, что мне могли бы позавидовать многие уроженцы города. — Ну, конечно, это не Вавилон. — Теперь мистер Микс выглядел почти смешным — он напоминал человека, знающего, что его как-то обманули в игре в кости, но не способного доказать обман. Негр наивно поинтересовался: — И повсюду так, капитан, сэр? — Африка как-то умеет придавать побережью наименее привлекательный вид, — наставительно заметил капитан Квелч. — Вот почему они продержались так долго. Никто не подозревал, какое богатство и какая красота скрыты внутри. Он вел себя с мистером Миксом очень вежливо, но мне казалось, что бывалый моряк, подобно мне самому, чувствовал какое-то волнение. Мы с ним расстались с французскими властями не лучшим образом; теперь я полагался на свой американский паспорт, новое имя и новую карьеру, которые обеспечивали довольно надежное прикрытие, а на стороне капитана Квелча было только время. По его словам, он не появлялся в этом порту с 1913 года, когда командовал зарегистрированным в Триполи грузовым судном, направлявшимся в Марсель с опиумом для европейского рынка. Французы попытались захватить корабль. — Я еще чувствую запах сушеной рыбы, в которой мы везли товар, — рассказывал капитан. Он тогда опередил катера французских таможенников, но ему пришлось затопить груз в международных водах. — Чертов марокканский еврей дал против меня показания, и объявления разослали по всем портам. Вряд ли они теперь смогут что-то раскопать, но всегда остается шанс, что какой-то бюрократ вспомнит мое имя, и они здесь используют треклятый Кодекс Наполеона! И можно, черт возьми, тут остаться навсегда! Однако l’univers est à l’envers[772], как любят говорить теперь. Большая война — огромная тень, в которой скрываются мелкие грехи, дружище. Этим многие из нас успешно воспользовались. — Оптимизм почти никогда не покидал его. Оказалось, французские офицеры узнали, что мы американцы и входим в состав съемочной группы, и в результате решили, что все мы уроженцы США; они едва заглянули в паспорта и хотели только разузнать побольше о Чарли Чаплине и Констанс Толмедж. Когда французы выяснили, что наши женщины-звезды еще страдают от штормов зимней Атлантики, они любезно предложили любую возможную медицинскую помощь и свое гостеприимство. От второго предложения мы отказались, но услуги доктора с благодарностью приняли. Однако не было никакой возможности отказаться от приглашения на обед к майору Фроменталю, временному командующему гарнизоном. В семь часов в экипажах, которыми управляли одетые в форму местные жители, мы добрались до официальной резиденции. Она возвышалась над городом чуть в стороне от него — полумавританское-полуфранцузское сооружение, окруженное пальмами, привезенными из Австралии. Массивный, смуглый, волосатый великан, настоящий бретонец, Фроменталь говорил на превосходном английском, хотя мы обрадовались возможности побеседовать по-французски. Фроменталь рассказал нам, что внутри страны возникли проблемы с повстанцами, которых возглавлял печально известный Абд эль-Крим[773]. В итоге в гарнизоне теперь недоставало личного состава. Я сказал, что высоко ценю маршала Лиоте[774], стремление которого модернизировать Марокко, сохранив ключевые особенности страны, восхищало многих, даже тех, кто плохо относился к французской колониальной политике. Лиоте, добавил я, скоро наведет порядок у рифов. Фроменталь, в глазах которого сверкнули суровые искры, пробормотал в ответ, что на набережной Орсэ, в припадке мудрости, недавно отозвали Лиоте и заменили его Петеном, героем Вердена[775]. — Они утверждают, что эль-Крим теперь использует европейскую тактику и риторику и с ним должен бороться кто-то, обладающий европейским опытом. Тьфу! Это разобьет сердце Лиоте. Он любит Марокко больше, чем жену или Бога. К тому же он уже обратил рифов в бегство. Эль-Крим взлетел слишком высоко. С ним покончено. Петен получит славу Лиоте, а Лиоте умрет от тоски! Вся жизнь старого африканского солдата связана с Магрибом. Представительный и внушительный молодой офицер, Фроменталь, подобно многим, в окопах Фландрии заработал повышение, но он по-настоящему восхищался своим бывшим командиром и, вдохновленный тем, что Лиоте пытался сделать для этих людей, добровольно вызвался служить в колониях. — Он оставался реалистом. Когда он приехал сюда, каждый маленький шейх и сеид утверждал, что он главный, и все брали взятки, все были бедны. Теперь у нас есть только несколько крупных предводителей. Они, конечно, берут взятки, но мы знаем, с кем мы имеем дело, и люди стали богаче. Это — еще один шаг на долгом пути к конституционной демократии. Через несколько поколений они, без сомнения, примут законы о минимальной оплате труда и максимальной продолжительности рабочего дня. Конечно, итальянцы, немцы или кто-то еще очень часто подсовывали местным пашам несколько ящиков с винтовками или орудиями Гатлинга[776]. После этого паши заявляли, что они «борцы с империализмом» или «националисты», или, другими словами, пытались привычным способом захватить власть! Но Лиоте всегда следил, чтобы важные шишки оставались на своих местах, поэтому они неизменно поддерживали французов. Султан — ничтожество. Настоящая власть над марокканцами, конечно, в руках эль-Глауи. Это делает его нашим лучшим другом. Тем вечером за ужином разговор вернулся к паше Марракеша эль-Глауи (чей фамильный титул был чем-то вроде «Мактавиша»[777] в Шотландии). — И впрямь, — сказал капитан Квелч, — вся система кажется мне совершенно шотландской. Когда-нибудь здесь появится великое множество мюзик-холльных комиков и инженеров! Мы сидели под роскошными люстрами, ели за большим столом из красного дерева, уставленным чрезмерно тяжелыми серебряными приборами, которые необходимы французам, чтобы подчеркнуть изысканность пищи. Должен признать, что еда в данном случае была не вполне достойна ножей и вилок, хотя я и надеялся на настоящие деликатесы. Но подавали блюда очень искусно — это делали слуги из местных жителей в ливреях белого, темно-красного и королевского синего цвета. Эсме, миссис Корнелиус, Вольф Симэн, капитан Квелч и я были гостями, а мистер Микс с О. К. Радоничем, Гарольдом Крэмпом и частью съемочной группы сошли на берег, чтобы насладиться удовольствиями медины. Болсовер остался дежурным офицером. — Я слышал, что эль-Глауи — это прообраз героя Валентино в «Шейхе», — произнес Симэн. — Рассказывают, будто паша проводит больше времени у Уэд-Сены, чем у Уэд-Дра[778]. — Он одарил нас самой открытой из своих улыбок. — Он — очарователен. — Мадам Фроменталь была одной из простых французских женщин, черты лица которых в минуты оживления обретают некую холодную красоту. Она поднесла очаровательные пальцы к массивному подбородку. — Но вряд ли похож на Валентино. Вероятно, немного потемнее? Все рассмеялись. Мне показалось, что мадам Фроменталь говорила о паше совсем не равнодушно; я хорошо помнил, что эль-Глауи заслужил репутацию дамского угодника. Мою Эсме офицеры и их жены сочли восхитительной; они наслаждались ее странным французским акцентом, усвоенным от матери-румынки. Миссис Корнелиус также пользовалась немалым успехом. Она не пыталась избавиться от выговора кокни, а частые взрывы смеха и «о-ля-ля», как обычно, приводили окружающих, по крайней мере младших офицеров, в восторг. Детское обаяние Эсме больше притягивало пожилых людей, которые значительно поглаживали бакенбарды (примерно так женщина неосознанно перебирает волосы, когда встречается с привлекающим ее мужчиной), и все-таки жены тех относились к ней терпимо и с удовольствием беседовали с моей малышкой, хотя бы для того, чтобы немного позлить очарованных мужчин. — Elle est un bijou[779], - доверительно сообщила мне одна из матрон как раз тогда, когда миссис Корнелиус вернулась из дамской комнаты. — Тшертовски хороша, как и должна быть! — Моя подруга немного перебрала местного кларета. — Она, мать ее, отшень даже! Прежде чем я успел предостеречь миссис Корнелиус, она вернулась к своим собеседникам, но Эсме уловила обрывки разговора и посмотрела в нашу сторону. Если бы моя малышка действительно была костюмершей миссис К., этот взгляд мог бы не на шутку испугать актрису. После многочисленных тостов и столь же многочисленных обещаний сотрудничества, если нам когда-нибудь захочется снимать кино в Марокко, мы вернулись на «Надежду Демпси». Поговорив о голливудской славе, мы едва не воспарили к небесам — все остались очень довольны вечером. С этого момента мы были уверены в безупречном поведении местных арабов, а военные и полицейские относились к нам как к странствующим королевским особам. Конечно, капитан Квелч счел все это чрезвычайно забавным. «Кажется, стоило бы сообщить им, Макс, что мы — банда разыскиваемых преступников!» В один из моментов близости я решился рассказать ему об обстоятельствах своего внезапного отъезда из США и о проблемах во Франции. Откровенность только скрепила наш союз. — Volvitur vota[780], - заметил он на следующий день, стоя на мостике и наблюдая, как наш корабль направляется в наиболее респектабельную часть порта. Его радовала ирония нашего положения. — Колесо поворачивается, а, дружище? — Все происходящее доставляло ему немалое удовольствие. Капитан сказал, что ему теперь осталось только пойти в меллу[781] и заключить сделку с каким-нибудь местным евреем. — Разве было у нас когда-нибудь такое чудесное прикрытие? Мы можем за одну ночь нажить состояние! Особенно учитывая то, что рифы творят на испанских территориях. — Оружие, капитан? Я напомнил капитану о его принципе — никогда не продавать оружие, которое могут использовать для убийства белых людей. — Боже правый, старина, — сказал он с некоторым недоумением, — вы же не считаете этих даго[782] белыми, верно? Меня сильно огорчило это проявление расизма в человеке, которого я уважал за великие познания и опыт. Я вынужден был признать, что жадная рука папы римского выдавливала богатство гордой Испании из каждой поры ее тела, но тем не менее эта страна оставалась благородной, она очистилась от проклятия евреев и мусульман. И все же потом мне пришлось узнать, что существует два вида испанцев: одни не заражены кровью Карфагена, а другие, формально сохранившие верность идеалам, вскоре попытаются сделать то, что несколько лет спустя удалось бастарду Кастро[783], - создать первое латино-большевистское государство. К сожалению, на свете много таких, как Кастро, и мало таких, как генерал Ривера[784]. Со временем я понял, что имел в виду капитан Квелч. Начиная с финикийцев и заканчивая берберскими пиратами выходцы из Восточной Африки оставляли значительные следы своего присутствия, пока храбрые иберы не загнали их обратно, в далекие пустыни. Да, эта часть Европы все еще хранит их древнее колдовство, их варварские обычаи. Я напомнил предприимчивому старому морскому волку, что не следует расстраивать мистера Голдфиша, который по-прежнему оставался номинальным владельцем судна, даже несмотря на то что мы, как предполагалось, были представителями независимой «Симэн пикчерз» и что откроется много совершенно законных возможностей, как только мы прибудем в Александрию. — До тех пор пока они не слишком пристально рассматривают мой паспорт, — сказал он. Бумаги обошлись ему в две гинеи в Белизе; паспорт он добыл взамен того, который забрала кейптаунская полиция. Капитан пообещал, что не возьмет незаконного груза на борт «Надежды Демпси». Однако чуть позже в тот день он исчез в мелле и вернулся несколько часов спустя с каким-то скользким субъектом неизвестного происхождения; выглядел капитан Квелч как человек, который поймал удачу за хвост или по крайней мере поверил в это. Все, что мне оставалось делать, — внимательно следить за своим другом, и я бы поразмыслил об этом больше, если бы не миссис Корнелиус, которая явилась в мою каюту и обеспокоенно поинтересовалась, не говорил ли мне мистер Микс, что он хочет «смыться». Я ответил отрицательно. — С чего бы? Тут она разволновалась еще сильнее. — Либо он сбег, либо этот мерзавец капитан его продал, — объявила она. Естественно, я вступился за капитана Квелча. То, что она привязалась к нашему «Санчо Пансе», было вполне понятно, но это не могло служить оправданием подобного поведения — нельзя походя поливать человека грязью! — Если его продали, — сказал я миссис Корнелиус, — все, что нам следует сделать, — это сообщить французской полиции. Мы получим его обратно в мгновение ока. Во французском Марокко рабство вне закона. В самом деле, если вы беспокоитесь, почему бы не попросить майора Фроменталя разобраться? Я тогда не сомневался: мистер Микс наслаждался жизнью среди себе подобных, и я думал, что беспокоить его не следовало. Миссис Корнелиус паниковала и выдвигала глупые обвинения — такого за ней раньше не наблюдалось. — Он должон был вернуться втшера, — сказала она. — Он поклялся, тшто будет на борту до полунотши. Она, очевидно, привыкла к помощи мистера Микса, хотя больше и не нуждалась в этом. Теперь моя подруга казалась особенно огорченной. — Я предполагаю, что он на время поддался женским чарам, — деликатно заметил я. — Лутше бы он, тшорт побери, этого не делал, — с жаром провозгласила она. Я поспешил заверить миссис Корнелиус, что леди, которых мог посетить мистер Микс, наверняка принадлежат к достойному обществу. Мы должны были отправиться вечером, во время отлива. Я сказал, что совершенно уверен: мистер Микс вернется гораздо раньше. Миссис Корнелиус это не убедило — она вылетела из моей каюты, по-прежнему встревоженная. Позднее я обнаружил ее на палубе; она смотрела в сторону медины и то и дело поглядывала на наручные часы. Я почти никогда не видел, чтобы она так сильно беспокоилась. Хотя дождь ослабел, в воздухе повис неприятный холодок, и грязный дым, поднимавшийся от фабрик и кораблей, лип к неприглядным зданиям и неряшливым улицам, как будто отказываясь слиться с безграничной серостью неба. Телеги, запряженные ослами, и верблюды, тащившие огромный груз, с грохотом двигались по зловонной грязи, сопровождаемые криками и проклятиями хозяев. Микса нигде не наблюдалось. Я подумал, не перебрался ли он на другое судно. Порт был полупустым, но здесь бросили якорь корабли под разными флагами — пароходы из Халла, Гамбурга и Гавра, из Генуи, Сурабайи, Марселя, Касабланки, из Афин и из Амстердама. Некоторые из них перевозили фосфаты, а зафрахтованы были почти все, за исключением нескольких белых военных кораблей французского флота, находившихся на определенном расстоянии от прочих, словно они испытывали отвращение от того общества, в котором им пришлось очутиться. Да, можно было сказать, что Касабланка — не самый любимый порт французов. Капитан Квелч, находившийся в прекрасном расположении духа, несмотря на погоду, взобрался по трапу слева от нас и остановился у вентиляционной трубы, чтобы посмотреть на берег. — Потеряли кого-то? Миссис Корнелиус глянула на него с глубоким подозрением. — Только мистера Микса, — сказала она. — Он ведь отправился на берег с этим парнем, Радоничем, и с Шефом, верно? Я видел Радонича незадолго до того. — А все остальные вернулись на борт, капитан? — Насколько я знаю. Ваш мистер Симэн следит за своими людьми, и мои — все на местах, включая слегка похмельного Шефа Крэмпа, который заметил, как мистер Микс вызывал такси возле «Пенгуин верт» на Рю де Лондр. Я отправил Крэмпа чистить машины. Не могу допустить, чтобы у моих парней было много свободного времени. У вашего мистера Микса там не возникнет больших проблем, если он не осквернит мечеть или что-то в этом роде. Хотя тут не слишком любят черных… Однако они могут предположить, что он — зуав-резервист[785], и оставят его в покое. А если они примут его за сенегальца, то, конечно, тоже не будут тревожить. По сравнению с сенегальцами наши гурки[786] — это просто старые девы. — Он втянул холодный воздух. — Надо сказать, что здесь лучше не стало со времен моего последнего визита. Самая настоящая выгребная яма. Ползает всяческая шушера. Я очень обрадуюсь, когда мы снимемся с якоря. Боюсь, прогресс должен выглядеть по-другому. Прошлое мчится вперед, будущее движется назад, пока неутомимый Теллус сплетает настоящего ткань[787]. Мне нравилось слышать, как звучат цитаты из Уэлдрейка, произнесенные густым, роскошным голосом. Я не думал о том, что, прибыв в Александрию, лишусь великого удовольствия — общения с капитаном, читающим вслух свои любимые книги, пока мы наслаждаемся выпивкой и небольшими дозами хорошего кокаина в чудесной обстановке его каюты. Комнаты капитана Квелча были интеллектуальным, художественным и чувственным оазисом в пустыне вульгарности и претенциозности. Последнее в особенности относилось к нашему самодовольному шведу, который стал еще более неприветливым после прибытия в Касабланку. Они с миссис Корнелиус явно отдалились друг от друга, возможно, из-за ее готовности хорошо проводить время в любой доступной компании. С таким уж она уродилась характером. Тем, кого притягивал этот Erdgeist[788], оставалось только принимать ее, как принимал я, ибо она воплощала свободу духа. Пытаться управлять моей подругой было так же бесполезно, как пытаться управлять юго-восточным ветром. Миссис Корнелиус нахмурилась, когда морской волк удалился. — Держу пари, тшто он знает больше, тшем говорит, этот тшертов старый алкаш. Меня очень огорчало то, что миссис Корнелиус придерживалась столь низкого мнения о нашем гостеприимном хозяине. Я все еще предполагал, что ревность, проявившаяся в ее обращении с Эсме, по крайней мере, отчасти объясняла происходящее, хотя я никогда не мог заставить подругу признать это, даже в наши тихие вечера, пока мы сидели, рассматривали альбомы с вырезками и вновь переживали счастливые времена. Она утверждает, что всегда заботилась о моих интересах. — Ты был такой простак, Иван, всю твою тшортову жизнь. Ты такой простак, тшто даже сам себя надувал временами! Это верно. Теперь я тоже понимаю, что очень часто, проявляя нелепую доброту или великодушие, я сам становился собственным худшим врагом. И все же по иронии судьбы я вижу, что и сегодня дети миссис Корнелиус и их друзья обвиняют меня в самых возмутительных и грандиозных преступлениях! А некоторые из них даже восхищаются мной за это. Я для них — своего рода капитан Макхит[789]. Они считают, что я буду цитировать омерзительные частушки Брехта и Вайля, словно эта парочка вообще что-нибудь знала о преступном мире — да и об обычном мире, коли на то пошло! С этими коммунистами всегда так. Они видели либо слишком мало настоящей жизни, либо слишком много. Средний европеец в основном счастлив, если удовлетворяет свои потребности, получает чуть-чуть излишеств и возможность голосовать за представителя, который будет заботиться о его интересах в обществе. Это честный, добросердечный человек, готовый помочь любому соседу, будь то немец, голландец, француз или славянин, — но, возможно, средний европеец немного ленив. И тут он обнаруживает, что его эксплуатируют. Еврей, которого он по доброте душевной приютил в своем городе после того, как услышал об ужасном отношении к евреям в других местах, — этот еврей становится ростовщиком, торговцем, фабрикантом, лавочником, землевладельцем… И взгляните-ка! Все богатство внезапно оказывается во владении у этого бедного бесприютного еврея, он теперь строит синагогу в центре города и выгоняет честного бюргера из дома, освобождая место для своих единоверцев, которые могут заплатить больше! Карл Маркс считал, что проблемы нашего мира можно решить с помощью уничтожения капитала, но проблемы мира немедленно решатся, как только мы увидим уничтожение Карла Маркса и всего, что он породил. Böyle bir yemek ismarlamadik![790] Так говорят турки. Die Menge hält alles für tief, dessen Grund sie nicht sehen kann[791]. Но я думаю, что все мы становимся время от времени жертвами таких самообманов. Карл Маркс открыл нам упрощенное будущее. Мартин Лютер открыл лишь простоту Бога. И все же оба в свое время нанесли нам ущерб. Бог и коммунизм состарились вместе, и мы можем только смотреть на их потомство. Господи помилуй! Господи помилуй! Маленькие девочки в соборе поют так нежно… Синие и белые мозаики отражают свет, который проникает в этот утешительный полумрак, словно глас Самого Христа. Ессе stolec![792] Се задница! Нам даровали видение возрожденной Святой Руси. Великолепной России, в которой я родился и в которой много лет надеялся умереть. Но она исчезла, и я обречен погибнуть в английской трущобе. И все же, как писал Уэлдрейк, которого любил цитировать капитан Квелч, «один сладостный миг стоит вековых страданий». Мне не о чем жалеть. Скоро я буду мертв, и я умру, зная, что сделал все возможное, чтобы передать дальше мудрость, обретенную за долгие годы, показать миру, что пошло не так с 1900‑го. И если они не хотят слушать — как я могу чувствовать себя виноватым? В холокосте, если вам угодно так его называть, я виноват, в конце концов, не больше, чем Адольф Гитлер! Я думаю, мы скорее добились бы успеха, если бы спросили себя: «Кто кого предавал в те дни?» Тогда, возможно, мы смогли бы понять, кто продолжает предавать нас и все то, о чем мы мечтаем. Мы — люди Нового Завета, а не люди Книги. El-kitab huwa sa’ab ‘ala Twalad essaghir. Das ist meyn hertz. Rosi! Ayn chalutz, ich bin. Ayn gonif, never! Teqdir tefham el-Kitab da? El-’udr aqbah min ed-denb[793]. — Оправдание куда позорнее, чем преступление, — часто заявлял капитан Квелч. Это, по его словам, было одной из причин, почему он никогда не оправдывался. — Если я преступаю закон — что ж, я делаю это ради собственной прибыли. Я готов пойти на риск. Но, по чести, друг мой, не могу сказать, что считаю свои поступки ошибочными или дурными. И многие люди со мной соглашаются, особенно мои клиенты. По настоянию миссис Корнелиус мы втроем пришли в холл отеля «Френч-лайн», единственное цивилизованное место в городе, чтобы встретиться с начальником полиции при майоре Фроментале, маленьким человечком с мягкими чертами лица, который носил противоестественно элегантную белую форму и кепи, практически скрывавшее толстые черные брови. Полицейский назвался капитаном Гурелем; у него был гладкий, почти показной парижский выговор. Капитан заверил нас: работорговля полностью уничтожена французами. Он признал, что местный самогон мог свести мистера Микса с ума. Возможно, тот даже ввязался в драку и был ранен. «Но об этом мы скоро узнаем, джентльмены». С видом человека, которого ждут более важные дела, он сопроводил нас от отеля к своему «даймлеру». Местный шофер отгонял любопытных юнцов старомодным верблюжьим хлыстом, который, очевидно, использовали только для этой цели. В большом закрытом лимузине мы пробрались сквозь хаотичное скопление грузовиков и вьючных животных в старый город. Нас окружали навесы магазинов и лавочек, ослы, женщины и мальчики, сидевшие на корточках пожилые люди, непрочные ручные тележки, невероятные повозки, пыльные прилавки — на Бэб-Марракеш-сквер[794] продавали барахло, которое выбрасывали обитатели трех континентов. Консервные банки, сломанные игрушки, пожелтевшие журналы — тощие мальчуганы откидывали потертые куски клеенки или обрывки линолеума, с помощью которых защищали свои жалкие товары от воздействия стихий, и расхваливали это добро пронзительными голосами. Совсем рядом многочисленные неряшливые актеришки исполняли зачастую странные, а иногда гротескные фокусы — прямо как малышня на школьном дворе. Все новости в Касабланке можно узнать здесь, сказал капитан Гурель. Он отрядил на розыски своего сержанта-бербера. Нам не оставалось ничего другого, кроме как занять столик возле кафе и понаблюдать за заклинателями змей и акробатами, повторявшими давно знакомый привычный репертуар. В это время капитан Квелч тихо благодарил Бога за изобретение печатной книги и кино. Сами исполнители пребывали в безнадежно мрачном настроении, и это не могло не подействовать на аудиторию. Капитан Гурель отогнал нескольких мальчиков, которые приблизились к нам, указывая на свои зады и приоткрывая рты. — Они голодны, и у них дизентерия. — Квелч любезно помахал рукой уходившим «артистам», которые в ответ только хмурились и плевали на землю. На противоположной стороне площади, под промокшим навесом, сидели мужчины в тяжелых шерстяных джеллабах[795] — вонь от мокрой овчины доносилась даже до нашего столика. Мужчины потягивали мятный чай и обсуждали местные сплетни или какие-то международные новости, которые могли изменить судьбу этого злосчастного монумента необузданной жадности. — Именно здесь сточные воды Африки, Европы и Ближнего Востока наконец останавливаются; они не могут течь дальше и сливаются в одну большую лужу. Население увеличивается с каждой неделей, трудно представить, что здесь была всего лишь деревня, жители которой уничтожали французов на этой самой площади меньше двадцати лет назад. Тогда, конечно, Парижу пришлось взять проклятую страну под контроль. И они теперь говорят нам спасибо. — Все, кроме немногих неблагодарных. — По-видимому, капитан Квелч подразумевал Абд эль-Крима. Сержант возвратился с новостями, что высокого негра видели с группой медников-кочевников, покупавших провизию на базаре совсем неподалеку от западной части Бэб-Марракеш. Он зашел в лавочку, но хозяин смог сообщить очень мало. Сержант думал, что медники разбили лагерь около нового аэродрома. — Что ж, пойдемте на чертов аэродром! — потребовал Квелч, как будто решив испытать все возможные неудобства и преодолеть все препятствия в этих, на его взгляд, бессмысленных поисках. — Fiat justitia, ruat caelum![796] И прочее, и прочее. Таким образом, у нас просто не осталось другого выхода, кроме как поехать под дождем по недавно проложенной широкой черной дороге, мимо современных бетонных и сталелитейных заводов, к необъятной блестящей полосе на горизонте, которая казалась такой же плоской, как Канзас. Там стояло очень маленькое белое здание контрольно-таможенной станции, а в дальнем конце поля шумел новый одномоторный почтовый самолет, биплан «Вилье» последней модели, с гербами Франции и ее Почтовой службы. У каких-то разрушенных фермерских построек, грязные стены которых были кое-как очищены во время модернизации, мы отыскали брошенный лагерь медников. Они оставили обычное скопление мусора и дерьма, но не было никаких признаков мистера Микса или следов его недавнего присутствия. — Нам нужно взять берберскую ищейку, — заявил капитан Гурель. — Если эти люди захватят вашего друга или навредят ему, не волнуйтесь — мы вскоре все узнаем. Но мне, по крайней мере, было ясно, что капитан считал экспедицию пустой тратой времени. Он с подозрением осмотрел и пнул черно-красный бумажный мешок из-под сахара, напоминавший деталь костюма французского провинциального пьеро, — из мешка вывалился полусгоревший труп младенца. — Девочка. — Он покачал головой. — Но мы еще доберемся до них… Он вздохнул и заговорил с сержантом по-арабски. Тот отсалютовал и, подхватив винтовку, занял пост. Мы вернулись в Касабланку в напряженном молчании. — Мы перерабатываем, — внезапно сказал капитан Гурель. — С тех пор, как Лиоте ушел. Капитан Гурель заверил нас: он пошлет телеграмму на «Надежду Демпси» сразу же, как только узнает, что случилось с мистером Миксом. Нам пришлось удовлетвориться этим. Мы возвратились на корабль, сообщив миссис Корнелиус, что весь гарнизон Касабланки был брошен на поиски нашего друга и медников, которые, возможно, захватили его. Мы также сообщили о случившемся американскому консулу. В глубине души я задумался о том, не поддался ли Джейкоб Микс какому-то странному искушению: может, он отправился в сердце Африки в поисках того, что мог бы назвать своей родиной. Я, конечно, понимал эту тоску по месту, именуемому домом. Не проходит и часа, чтобы я не вспомнил Киев и те счастливые годы до войны и революции, отнявших у меня прошлое, мать и сестру. Миссис Корнелиус впала в такую ярость после этого неожиданного, но едва ли трагического происшествия — я тоже испытывал немалую привязанность к мистеру Миксу, но не мог бояться за человека, отличавшегося подобной исключительной находчивостью, — что покраснела как рак и едва не обвинила нас обоих в том, что мы продали негра за арабское серебро. — Он нитшего не говорил, быдто собирается уходить, — сказала она. — Я бы потшуяла. Я всегда тшуяла такие штуки. — Что ж, мадам… — Резкость капитана Квелча была вполне понятна: ведь он потратил столько бесценного времени, пытаясь разыскать нашего Микса, сбившегося с пути. — Похоже, вашего негра похитили цыгане. Или он сбежал с ними, чтобы присоединиться к бродячему цирку. А может, он стал каннибалом. Или они убили его, продали или принялись поклоняться ему как дьяволу. Мы все скоро узнаем. Pastor est teu Dominos[797]. А пока извините меня — я должен вновь заняться кораблем. Мы только что обнаружили серьезную недостачу — несомненно, кражу совершили тогда, когда поднялся такой оглушительный шум из-за мистера Джейкоба Микса. Я был бы очень признателен, полковник Питерс, если б вы присоединились ко мне нынче вечером после ужина. Коротко отдав честь, он вернулся на мостик. Миссис Корнелиус осталась недовольна. Она обвиняла меня в том, что я приложил недостаточно усилий, чтобы найти человека. Она напомнила: мистер Микс спас мне жизнь. И как, вопрошала она, я отплатил другу? Я рассказал, что сделал все возможное. Я был уверен, что мистер Микс найдет способ присоединиться к нам в Александрии или, вероятно, даже в Танжере, если он не вернется и не передаст никаких сообщений до нашего отплытия. Лично я все еще чувствовал, что он вернется, возможно, пристыженный, возможно, слегка хмельной, возможно, с тщательно продуманными оправданиями, — до того как мы отчалим. Но я оказался неправ. Когда на «Надежде Демпси» подняли якорь и нос корабля рассек мрачные волны, мистера Микса в нашей компании не было. Только поздно ночью, когда я присоединился к капитану Квелчу в его каюте, он сообщил просто сокрушительные новости. Один из наших кинопроекторов был украден — несомненно, во время переполоха из-за мистера Микса, пока мы преследовали его по базару; и что еще хуже — исчезли почти все коробки с фильмами — все приключения «Аса» Питерса. Только они фактически и доказывали мой актерский успех в кино! Воры украли единственные вещи, которые им показались ценными. — Бог знает, что они с ними сделают. Капитан сообщил полицейским о краже. Они заверили его, что определят местонахождение преступников и сохранят наши фильмы и оборудование. Полицейские дадут телеграмму, как только у них будут какие-то новости. — Не волнуйтесь, старина. Они всплывут на Бэб-Марракеш завтра, и полисмены наверняка их отыщут. Его искренняя уверенность меня убедила. Успокоив стенающую Эсме, принеся ей ночник и лауданум и расставшись с миссис Корнелиус, которая так и не смирилась с исчезновением мистера Микса, я просто изнемог. Я тоже сожалел, что лишился такого верного спутника, но, возможно, подобные утраты мне были знакомы лучше, чем всем прочим. И я научился переживать их в тишине, отвергая само существование утраченного и изгоняя все воспоминания о нем. Я переносил потерю своих фильмов со стоическим спокойствием, которому мог бы позавидовать даже Квелч. Нам обоим нужно было о многом подумать. Мы решили не рассуждать о судьбе мистера Микса или о судьбе моих фильмов, пока у нас не появится каких-то новых сведений. Вместо этого я слушал рассказы капитана Квелча о его приключениях на Золотом Берегу[798] перед Первой мировой, в результате которых он стал хозяином белой девочки не больше тринадцати лет от роду. — Эту немку покупали и продавали несколько раз после похищения — а похитили ее где-то в Конго, когда ей исполнилось семь. Ее отец руководил бельгийской горнодобывающей компанией. К счастью, я немного говорил по-немецки, и она, казалось, очень обрадовалась и растрогалась, услышав знакомые слова. Она была прекрасной малышкой и с богатым опытом, как вы можете догадаться. Я вскоре призадумался, оставить ли ее себе, или сообщить родственникам и потребовать причитающуюся награду. Но эта затея, увы, не удалась. Все ее близкие умерли, так что пришлось ей остаться со мной. Я наслаждался ее обществом почти целый год. — Он плеснул в стаканы еще немного коньяка, а я развернул бумажный пакет с нашим кокаином. — Как нажито — так и прожито, да, Макс? Я, к несчастью, решил перебраться на Яву. Она подхватила что-то диковинное и неизлечимое внутри страны, когда я работал на реке неподалеку от Пурвакарты. Мне пришлось оставить ее с какими-то монахинями в Бандунге[799]. Я часто думаю, что с нею сталось. Мы сошлись на том, что les femmes — прекрасная слабость, которой, явно или нет, мы оба будем всегда потворствовать. Мне пришлось признать, что Эсме, при всем моем восторге и восхищении, иногда своими капризами доставляла больше неудобств, чем радости. И все же что я мог поделать? Я неизменно был рабом женщин. Капитан Квелч увидел это свойство моей натуры и поделился со мной собственными романтическими воспоминаниями. Он обладал спартанским благородством, греческим стремлением к безупречности, спокойствию и равновесию во всем, терпимостью к любым путям, на которые ступали люди в поисках духовного и чувственного совершенства; капитан всегда отличался любопытством и поистине исследовательскими склонностями, он всегда находил нехоженые дороги — таким же мне казался и Коля, особенно в наши петербургские дни. Возможно, мой новый друг, как и Коля, воплощал византийский, а не римский идеал. — Dux femina facti![800] — С этим философским замечанием старый морской волк склонился к своей порции «снежка». — Мать предупреждала, что женщины доведут меня до погибели. Но я навсегда останусь неизлечимым романтиком, друг мой. И я снова отметил, в сколь многих отношениях капитан Квелч стал моей настоящей родственной душой.Глава девятая
Грамотность — наш самый ценный дар, источник памяти и мифа; источник всего, что мы теперь называем цивилизацией, и средство, которое помогает нам сохранить здравый смысл. Это способ связи Прошлого и Настоящего; через него мы постигаем мир и всювселенную. Здесь, в Средиземноморье (где я несколькими годами ранее родился заново), 18 декабря 1925 года, всего за месяц до своего вступления во вторую четверть века, я постиг истинное значение грамотности, попытавшись вообразить эмоции первого человека, осознавшего возможности письменного слова! Поднявшись рано, я чувствую некое беспокойство, потому что устал от стонов Эсме, доносившихся с другой стороны двери, которую она требует закрывать («На случай, если ты увидишь, как меня тошнит. Я этого просто не вынесу»), но ощущаю некое приятное волнение, когда хватаюсь за сверкающие медные поручни и поднимаюсь по трапу. Все собрались на шлюпочной палубе. Море тревожного синего цвета, облака становятся белее и белее и превращаются в нити тающего тумана, а из-под черного корпуса «Надежды Демпси» взлетают желтые брызги. Мы еще не прибыли в рай, но наконец входим в его врата, между Гибралтаром по левому борту и Марокко по правому, и огромное золотое солнце возносится перед нами, словно счастливое предзнаменование, готовое, кажется, освободить армии золотых существ, настолько ярких, что их не сможет вынести незащищенный человеческий глаз; они уничтожат атлантический холод и поднимут наше настроение, так что даже стоны ласкаров, идущих работать, покажутся воплощениями восторга. Капитан Квелч выходит из своей каюты выбритый и под скрип распахнутой двери поет древнюю монашескую заунывную песнь.Глава десятая
Нам говорят, что колдовство изгнано в Африку. Нас уверяют, что оно мертво и позабыто в Суррее и всех цивилизованных округах Англии. Нам рассказывают это по радио, та самая Би-би-си, которая ночью и днем распространяет ересь и богохульства, пока продавцы трав и гомеопаты расхваливают свой мусор миллионам слушателей! Что же это, как не колдовство? Джимми Янг и «Женский час» — кто они, как не посредники, с помощью которых сатанинские заветы алхимии и черной магии передаются нетерпеливым новообращенным? Да, люди с телевидения предлагают нам «Звезды по воскресеньям» или «Финальную программу»[832], мы по нескольку минут в день слушаем на «Домашней службе» священника (или — гораздо чаще — раввина). Но какое это имеет значение, когда двадцать три из каждых двадцати четырех часов вещания посвящены распространению коммунизма, оккультизма, иудаизма и неприкрытого мужеложства, а тружеников отделов драм и непостановочных программ воодушевляет «языческий дух»? Можно добавить, что ситуацию нисколько не улучшает замена безбожного пресвитерианина крипто-католиком. «Но это же Англия, — скажете мне вы со своей обычной самодовольной снисходительностью. — Здесь не произошло никаких изменений. Мы всегда были языческой страной. Таков секрет нашего успеха. Ради чего, по-вашему, затеяли Реформацию? Не говоря о Кромвеле…[833] Мы создали Бога из наших собственных приукрашенных недостатков и решили доказать всему миру, что наш бог превыше других». Да! Вы удивлены, что мне известны эти аргументы? Молодые люди — дураки. Они думают, что мы всегда были старыми и бессильными. Почему они не могут смотреть и учиться? Да, я видел колдовство и феодализм во плоти, прямо у себя под носом, и если это не поможет вам оценить нашу рационалистическую и просвещенную вселенную, то вам уже ничто не поможет. Говорят, у тех, кто возвращается из колоний, сохраняются воззрения столетней давности. Это потому, что они являются из мира, все еще отстающего на сто лет или, в некоторых случаях, на тысячу или миллион. Нам не следует презирать мнения людей менее цивилизованных, чем мы сами. Мы должны помочь им ступить на путь прогресса, научить их писать и читать на их собственном языке, но мы должны и выслушать то, чему они могут научить нас. Иногда этот метод дает превосходные результаты, как в случае Гавайев, но в Египте, например, дела обстоят самым печальным образом. Уже не в первый раз эта страна отвергла руку помощи, протянутую благородной силой, и взамен соскользнула в глубокую яму коррупции и варварства, став легкой добычей для турок и бедуинов, тех шакалов, которые готовы пировать на остатках любой цивилизации, но лишь тогда, когда она прогниет до костей, когда зловоние от ее трупа разнесется по планете. И британцы еще удивляются, почему сегодня полукровки всего мира внезапно собрались на их маленьком острове! Сахар сладок, но гниль куда слаще, как мы говаривали в Одессе. Там тоже было колдовство, но мы не обманывались насчет него. Миссис Корнелиус считает, что я — паникер. — Ну и тшто такого, если несколько старых дураков кладут к себе в тшай окопник[834], Иван? — Дело не в окопнике, моя дорогая. Дело в значении окопника. Это ведь символ того, что все пошло неправильно. — Я полагаю, тшто дело в обытшном несварении. Иногда миссис Корнелиус бывает чрезмерно практичной. Возможно, именно поэтому нас так влечет друг к другу: я наделен чувствительным, романтическим воображением, а она, вечная женщина, не столь интеллектуальна, она стоит обеими ногами наземле и подчиняется инстинктам — а именно эти качества мужчины ценят в женщинах превыше всего. Пресловутые феминистки, желающие превратить Титанию в Оберона[835], не имеют ни малейшего представления об истинном, подлинном смысле равенства, союза противоположностей, который может стать самым прекрасным и возвышенным опытом из всех существующих. С этим миссис Корнелиус должна согласиться; она, в конце концов, настоящая женщина, даже теперь, когда время уничтожило ее красоту и похитило здоровье, но тем не менее сохранило в ее большом сердце прежнюю силу. Она остается слишком щедрой, моя верная подруга; она не способна распознать грех и не умеет слишком строго судить своих собратьев. Она, к примеру, выпила с Бишопом сразу после его освобождения (хотя расхищение могил, даже в Лондоне, некоторые все еще считают достойным осуждения). Несколько лет она подрабатывала няней. По ее словам, совершенно неважно, мики это были или негритята; они всегда гадили в штаны как раз перед тем, как появлялись их мамаши. — Это все ересь, всякий бред про тшорную магию, — говорит она мне. — Дети этим забавлялись пару годков назад. Куклы вуду, и пента-как-их-там, и ведьмы, и всякое такое. Это — фильмы ужасов, Иван. У них по телику. «Ребенок Розмари» да «Франкенштейн встретшает тшеловека-волка»[836]. — Есть кое-какая разница. — Я уже устал от этого бесконечного спора. — Когда мы с вами были в Голливуде — мы знали, кто плохой, а кто хороший. В этом вся разница. Наши фильмы содержали твердую мораль, а не подстраивались под общепринятое мнение. А теперь все словно подвешено в воздухе. Ничего удивительного, что дети сбиты с толку. Какой смысл включать этот телевизор? Младшие Корнелиусы говорят мне, что я должен купить цветной. Зачем беспокоиться, отвечаю я, когда все прекрасно видно и в черно-белом. Радио становится хуже и хуже, там полно нелепой грязи и самодовольных викторин, в которых участвуют те же самые люди, что несут ответственность за всю грязь. Если Тони Хэнкок — комик, то и Гарольд Уилсон — тоже комик[837]. Оба, кажется, обвиняют остальной мир в своих неудачах. Им придется посмотреть правде в глаза. Общество не хочет того, что они предлагают. То же самое и с пьесами и книгами, которые создают молодые люди. Разве это — искусство? Если жалость к себе стала искусством, скажу я вам, тогда нет ничего удивительного, что все евреи — теперь художники. Если самореклама — искусство, то любой британец — художник! Я пытаюсь воскресить красоту мира. Раньше, когда ноги у меня еще хорошо гнулись, я отправлялся на прогулки в Кенсингтонские сады, а затем, после того как весь Гайд-парк постепенно стал детской площадкой для отвратительных космополитов низших классов — в Холланд-парк, где в изобилии произрастают чужестранные деревья и кустарники, но гибриды встречаются очень редко. Как я люблю Лондон в весеннюю пору, когда он окутан запахом ранней сирени и нарциссов, желтофиолей, тюльпанов и незабудок, люблю эти лужайки лимонного и красного цвета, большие каштаны, которые только покрываются листвой, распустившиеся вишни. Я поднимался в верхнюю часть Лэдброк-Гроув[838], где располагались все лучшие сады, а затем медленно прогуливался вниз, к Холланд-парк-авеню, вдыхая запах кустарников и цветов, запах жимолости и сладких платанов, вспоминая детство, проведенное в Киеве. Так же я прогуливался по Крещатику в один из дней, столь хорошо знакомых нам в России: когда внезапно, в мгновение ока, уходит зима и наступает весна. Теплые желтые кирпичные стены Киева начинали впитывать солнечный свет, и парки, и улицы, и пустыри, и все маленькие пригороды вроде нашей Куренёвки сияли разными цветами, с ярких витрин исчезали зимние ставни и открывались новые сокровища; даже трамваи становились блестящими экипажами, легко плывущими в солнечных лучах и уносящими нас по холмам и долинам рая. Город, построенный на холмах, отличается от всех прочих. Лондон возведен у мелкой реки, которую можно перейти вброд, но у него есть все укрепления, необходимые для поселения, расположенного в долине. Холм — естественная защита, и живущие на холмах, конечно, чувствуют себя в большей безопасности. Лондонцы всегда громко рассуждают о своем превосходстве, как будто они знают, насколько уязвимы на самом деле. То же касается и Берлина. И все же нет ничего подобного лондонской весне, свежей от дождя и серебристого света, со множеством оттенков зелени — словно нефритовый лес, изобилующий тюльпанами, фиалками и нарциссами. Британцы, неспособные выражать привязанность друг к другу, расточают любовь на цветы и животных. Они выставляют картинки с изображениями роз там, где иные вешают распятия. Даже сорняки и овощи для них — национальные символы. Нет на Земле города, где было бы столько счастливых собак, кошек и зеленых лужаек. Если это и не Рай Блейка, то, по крайней мере, Иерусалим для джек-рассел-терьера, восточной короткошерстной кошки, попугая жако, британской королевской или курицы род-айленд. Здесь даже хорьки стали домашними! Все это могло бы показаться прискорбным, но стремление дарить любовь животным или цветам становится понятнее, когда посмотришь на среднего представителя английского простонародья. Он так самоуверен, так воинственно глуп, так невоспитан, он плох снаружи и изнутри — другого подобного существа в целом мире не найти. Можно восхищаться теми, кто еще пытается спасти это существо, чья единственная польза и единственная цель (для того племя и создавало его) — служба в какой-нибудь ужасной заграничной армии. А теперь колоний не осталось — и Британии некуда отправить это существо. Позерство таких людей становится нелепой шарадой, лишенной всякого содержания и смысла. Надо ли удивляться, что их ежегодное развлечение, единственное представление, которое они посещают в театре, — рождественская арлекинада, где ничтожные комики награждают свежую поросль мужланов всей тяжестью унаследованных ими предрассудков и грязи? Эти скоты научились хвастаться собственной вульгарностью. Вот он, идеальный люмпен-пролетариат, — люди, которые считают добродетелями именно то, что мешает им достичь лучшего положения. Их Библия — «Сан». Библия гордости, лишенной достоинства или духа. Если эта армия горлопанов станет солью земли — тогда я не смогу наслаждаться едой, созданной на такой земле. Ведь она, армия, состоит из тех же мужланов, которые обеспечили дурную славу нацистской партии и заправляли Думой в 1917 году. Миссис Корнелиус может простить этим людям все. Она говорит, что гордится принадлежностью к рабочему классу. Я могу только оплакивать уничтожение хорошего вкуса и общественной морали. Я не раз предлагал свои материалы Би-би-си, но, конечно, я не принадлежу к Банде педерастов, как их называет Бишоп, и не хочу продаваться. Единственный раз посетив «Всемирную службу», я тщательно следил, чтобы брюки оставались застегнуты, — все попытки облапать меня были встречены вежливым, но решительным неодобрением. Я сказал, что слишком стар для таких вещей. — Ты отшень гордый, Иван. Это — твоя трагедия, — говорит она. Миссис Корнелиус всегда полагала, что моя честность стала самым большим препятствием на пути к успеху — неважно, какой путь я избирал. Подобно фон Штрогейму[839], я не изменил своему таланту, не продался тем, кто предлагал самую высокую цену, только ради того, чтобы получить прибыль или добиться одобрения какого-то политического деятеля. Очень многие эмигранты решились на это, и не могу сказать, что осуждаю большинство из них; но и себя я осуждать не намерен. Не моя вина, что я стал жертвой немодного ныне чувства собственного достоинства. Мы сотворены людьми. Нам следует ценить это. В наши дни все стремятся к единому стандарту — думать одинаково, действовать одинаково, мечтать об одних и тех же вещах, все ради «психического здоровья». Это мне не по вкусу. Мы становимся рабами каких-то унылых программистов. Я первым готов осудить и большевиков, и фашистов за ошибочные, механистичные решения. И Фрейду, и Марксу, конечно, следовало бы за это ответить. Они поднялись на пьедесталы, а Ницше, незамеченный и униженный, сражавшийся, как Макс Штирнер[840], за человека, за будущее сверхсущество, сокрытое во всех нас, давший философский стимул моим летающим городам, моему видению духовного ордена самураев, который протягивает руку помощи всем расам и классам, согласно их уровню зрелости, — Ницше был предан забвению. Конечно, Ницше связали с нацистами, но в этом он виноват не более, чем святая Иоанна виновата в том, что ее считали сторонницей Тюдоров, потому что она была с политической точки зрения полезна Генриху Восьмому[841]. Мы же не станем говорить о том, как Генрих вообще относился к женщинам! Я всегда готов довериться тем, кто этого заслуживает, и возложить вину на истинных ответчиков, независимо от партии или веры. Но теперь, как заметил Гёте, суждения, основанные на опыте, незаконны. Сегодня нужно послушно следовать за компьютерными технологиями, и горе глупцу, который попытается противопоставить опыт всей жизни фантазиям каких-нибудь молодых людей! В этом отношении, по крайней мере, другой брат, Фрэнк, не настолько плох, но не стоит даже пытаться поговорить с Джерри или Кэтрин. Неважно, соглашалась миссис Корнелиус со своими детьми или нет, но она всегда защищала их. Она была настоящей тигрицей, если речь шла о детях. Только ей дозволялось критиковать их. Я позвонил Джерри в тот день, и он отправился повидать ее. Он был с ней, когда она умерла. Я заглядывал к ней постоянно, но мне приходилось оберегать магазин — здесь очень много вандалов. Он приехал сразу же, и поэтому, поверьте, я предоставляю ему свободу действий. Но он ревнив. И теперь, кажется, он избегает меня. Она говорила мне такие вещи, которыми никогда не делилась с детьми. Но свой точный возраст она ни разу не назвала даже мне. Таково было одно из ее правил. В обществе мне дозволялось упоминать лишь о наших последних приключениях, пережитых в Англии. О прежних годах она говорила, только если мы оставались наедине. Я иногда подозревал, что миссис Корнелиус разгадала тайну вечной жизни! Лишь в последнее десятилетие она перестала скрывать свои годы. Но и тогда она использовала возраст, как прежде использовала красоту, — как точно нацеленное оружие, с помощью которого можно получить все, что необходимо. Я всегда восхищался этим умением определять наиболее важные цели. А вот без свидетелей прошлое возвращалось с удвоенной силой! Она прятала под кроватью множество альбомов для вырезок и разных коробок, подчас засаленных и покрытых пылью. Там лежали сигаретные карточки, страницы из журналов, письма, меню, свидетельства о рождении, официальные документы и ничего не стоящие банкноты — история всей ее жизни. Там были вырезки из «Пикчегоуэр» и «Муви мэгезин» с кадрами фильмов, в которых она снималась с Джоном Гилбертом, Рамоном Новарро, Лоном Чейни и со мной — из единственного фильма ужасов, где мы появились вместе, «Ласка наносит ответный удар» (там я играл загадочного главного героя). Я спросил об этом вскоре после похорон, но ее мальчик спрятал все материнские бумаги и не позволяет мне изучить их. Он обещает, что отыщет для меня фото. Я не очень-то ему верю. Он меня надует. А второй брат теперь стал настоящим безумцем. Моя единственная надежда — Кэтрин, но она далеко. Vos hot ir gezogt?[842] Ну что ж, вот моя история. Она — одна, другой у меня нет. Миссис Корнелиус принадлежала к лучшему типу матерей. Она считала, что не следует вмешиваться в жизнь детей. Хотя они все равно никогда не слушали меня, даже когда были совсем молоды. Она полагала, что они пошли в ее отца, особенно тот, который теперь стал актером. Она говорила, что он поддавался «мимолетным страстишкам». — Его дедуля реально с катушек съехал. Все хотел кафешку в Кенте. Он с масонами связался и вообтше все тшортовы религии, какие в голову придут, проповедовал. Вот так-то я и полутшила свое иметшко — Гонория Кэтрин; папашка перешел в римскую веру однажды в сентябре. Это был у него такой заскок. Ну, по тшести говоря, все такое делали в Ноттинг-Хилле в том году, потому как покрывала и выпивка в ирландской церкви полутше. Да, там всем ирландцы заправляли. Это ведь истшо до того, как мы в Вайтшепел перебрались. Там он уже на тшом-то совсем диком съехал. Анархизм или тшего-то вроде. Мы толком его и не видали. Ну, мамашка его выпихнула, жил он где-то рядышком, но меня-то он завсегда любил побольше протших, хотя и сомневался, тшто я евойная. Ну, тогда в Вайтшепеле все были анархисты. Можно сказать, тшто он плыл по тетшению, но я его не виню, я и сама такая же. Ты да я, Иван. Мы прошли тшерез это, и мы не спятили. И вот что главное, верно? Я никогда не мог в полной мере согласиться с такими ее словами. Я помню, как однажды мы ловили чудовищную черную муху, которая влетела в ее подвальную квартиру. Стояла ранняя весна, и я не мог поверить, что это существо так сильно растолстело и выросло за пару дней. Муха, казалось, обладала сверхъестественным чутьем и предугадывала каждое движение, которое мы делали, размахивая хлопушками и свернутыми журналами. Это насекомое было большой дичью в мире мух. Она оказалась хитрой и находчивой, почти лишенной разума и поэтому свободной от морали, от представлений о добре и зле. У мухи не было иной цели, кроме продолжения существования. Все инстинкты и все силы подчинялись решению одной-единственной задачи — выжить; просто — выжить. Муха не была частью естественного цикла, она не играла никакой роли в высшем порядке вещей. Она не делала ничего хорошего, она только вредила. Она была ничтожна. И все же она, разумеется, отложила яйца — и, если бы ее убили, на смену ей явились бы другие, и это продолжалось бы почти бесконечно; появлялись бы все новые легионы толстых черных мух, которые думают только о своем существовании и выживании. Я не мог принять это как трюизм. Я сказал, что подобные мысли мне кажутся чисто французскими. Символ не очень удачный. У меня такие же инстинкты, как у той мухи, но я не похож на нее. Мои действия продиктованы не только желанием выжить. Я хотел принести пользу всему человечеству. И теперь все, что я могу предложить человечеству, — это мой опыт. У меня было призвание. Я выжил, чтобы исполнить его. Но не нужно больше говорить об этом tragish kharpe[843]. Я покидаю ее подвал и прохожу мимо новых многоквартирных домов, ради строительства которых выселили монахинь клариссинского монастыря. Некогда по ту сторону стены была безмолвная тайна. Теперь тайны стали куда более прозаическими. Полицейские — постоянные посетители этих мест. Я дохожу до угла Кенсингтон-Парк-роуд и миную «Бленем армз», где все еще пьют Бишоп и мисс Бруннер из школы. Когда-то в этом районе все друг друга знали, но скоро (потому что это было дешево и недалеко от Паддингтона) сюда пробрались выходцы с Ямайки, потом вместе с Колином Уилсоном и его «Черными монахами»[844], его поп-группами начала прибывать богема. Вскоре пабы и кафе заполонили никчемные сочинители, стремящиеся возродить какую-то мечту о реальности, общаясь с дегенератами, которых они упорно именуют «местными жителями» и которые остаются такими же чужаками, как и сами интеллектуалы! Я не знаю, кто здесь кого привлекает! То ли писатели следуют за толпой, то ли толпа ищет авторов, зная, что такие неудачники из среднего класса — единственные люди на земле, готовые уделить ей время? Когда-то этот район был немного мрачноват, конечно, но все знали, кто друзья, а кто — враги. Теперь сказать невозможно. Кто пишет эти статьи в американской прессе? Думаю, мне не следует жаловаться. Те немногие из нас, кого не выгнали хиппи, извращенцы и ротарианцы, по крайней мере, могут зарабатывать на жизнь. Вы сумеете продать американцу почти все, если изложите ему подходящую историю. Старое пальто становится «старым пальто Мика Джаггера». Они заставляют вас говорить подобные вещи, иначе они испытывают разочарование. Вся торговля антиквариатом, похоже, свелась теперь к изобретению смехотворных историй для самых неожиданных и бесполезных товаров. У меня есть автомобильная куртка Роя Вуда, парадная форма лорда Керзона и кепка Уинстона Черчилля. Вчера какой-то обожравшийся свининой пехотинец говорил мне, что заплатил тридцать пять фунтов за ночной горшок Дизраэли[845]. — А что, если бы там еще осталось дерьмо Дизраэли? — спросил я. — Вы заплатили бы триста пятьдесят? — Только если оно точно будет подлинным, — сказал он. Парень говорил совершенно серьезно. История для этих людей — дело коммерческой оценки и фантазий, а не научного опыта. Или же она — дело баллов и отметок? Возможно, это гораздо лучше, чем познания английских детей: они теперь погружены в тайны большевистской политики и могут рассказать вам любую мелочь о председателе Мао, но никогда не слышали о Примо де Ривере! И еще говорят, будто на систему никто не оказывает влияния! Многие сопротивлялись порабощению страны коммунистами, многие патриоты попали в тюрьму. Я встретил их на острове Мэн[846]. С Мосли я говорил редко. Его обычно избегали из-за неприятного запаха изо рта. И по сей день, я уверен, его последователи не могут обсуждать деликатную тему. Даже его жена молчит. Возможно, она привыкла к этому. Мосли однажды вошел в мой магазин со своим лейтенантом, Хэммом[847], и сказал, что хотел освободить Польшу. Он поддерживал парламент. Это был 1958 или 1959 год. Я не раз прогуливался до Портленд-роуд и там ел булочки или пышки у миссис Лиз[848]. Она относилась к Мосли свысока. Она говорила, что он потерпел неудачу, не сумев решить еврейский вопрос. В те дни она еще издавала журналы мужа, «Блэк энд уайт» и «Готик рипплс», хотя великий старый борец давно покинул наш мир. Она поддерживала Мосли, потому что он был лучше, чем ничего. Мы подкладывали номера ее журналов под все двери в Ноттинг-Хилле, советуя людям голосовать за Юнионистское движение — все, что осталось от Британского союза фашистов. В итоге Мосли набрал сто пятьдесят девять голосов и возвратился во Францию, получив однозначное напутствие от власть имущих. Сам я отдал предпочтение консерваторам. Теперь, конечно, незаконно выражать вслух свои взгляды на проблему расы — за исключением самых традиционных убеждений. Мосли стал жертвой этой цензуры еще до того, как позорный Закон о расовых отношениях[849] заткнул рот миссис Лиз и всем ее союзникам, которые продолжали сражаться, как могли, под знаменем Феникса. Когда миссис Лиз умерла, я перестал бывать на Портленд-роуд. У меня все еще есть несколько их записей. Конечно, было бы безумием воспроизводить их теперь, особенно известные нюрнбергские речи. Люди, которые одержали победу, смеялись надо мной. Я сказал им, что был там с самого начала. Я знал протеже миссис Лиз, я знал их очень хорошо, этих молодых людей, умевших красиво говорить и исполненных благородных побуждений. Они создали Национальный фронт на руинах старых союзов, но потом в ближнем бою разрушили все, что высоко ценили. Что, если так же упустил бы свой шанс Гитлер? Когда мистер Джордан[850], как обычно, выступал на углу, я однажды задал ему вопрос: «Что тогда случилось бы с Германией? У нас на стенах теперь висели бы портреты Дяди Джо!» Джордан согласился со мной. Он пытался возродить партию. Проблема, по его словам, заключалась в том, что люди слишком довольны. В конечном счете, когда социализм разорит страну, тогда, возможно, мы увидим некий прогресс. Что ж, страна близка к катастрофе, но я не наблюдаю сильного руководителя, который мог бы спасти нас, руководителя, который жизненно необходим государству. Эдвард Хит[851] — раздражительный старый педик. «Избиратели», «представители общественности» шляются возле моего магазина, нося на груди символы анархии; они заливают пиво, купленное за государственный счет, в свои широкие глотки, и напиток течет по «синим красоткам» и «бомберам», а они смотрят на меня остекленевшими глазами — истинные наследники обезумевших толп Махно, которые уступили нашу Украину Ульянову, Бронштейну и Джугашвили, этому первому триумвирату, разрушившему старую благородную Россию так же, как предшественники большевиков разрушили благородный Рим. Над Одессой поднимается черный дым, и козлы спят на улицах, одержимые силой, которой они почти не понимают и за которую не несут ответственности, а под бушующим адским небом ярится великий Черный Козел, изо рта у него идет пена, а его крик становится торжествующим ревом, и он стучит копытами по Преображенскому собору, разбивая бело-золотой купол, как яйцо. Я сел на трамвай, идущий с греческого базара, и на некоторое время оказался в Аркадии. Моя жизнь была спасена, но они вложили в меня кусок металла, когда я попался в ловушку в их штетле. Металл все еще там. Большую часть времени я не чувствую его, затем начинается слабая резь, потом более острая, более значительная боль, затем своего рода конвульсия. Этот металл отравил мою кровь. Доктора не вылечат меня и не станут меня оперировать. Только кокаин может справиться с ядом, а он теперь так дорог, что я не всегда могу купить себе нужную дозу. Эти глупые маленькие мальчики… Они думают: как странно, что старик любит наркотик, который якобы изобрели они! Они даже не знают, что такое чистый кокаин. Кокаин всегда был королем наркотиков. Даже их прародитель Фрейд принимал его. Все остальное — мусор. Я контролирую боль, но есть еще и тревога, и некое омертвение. Я объяснил это доктору Даймонду — он говорит, что со временем все заживет. Я не раз предлагал испробовать рентгеновские лучи или хирургическое вмешательство. Доктор отвечает, что это обойдется слишком дорого и они все равно ничего не смогут найти. Он — просто идиот, Дональд Дак. Дайте мне магнит, говорю я ему, и все сразу найдется. У куска металла острые углы. Иногда я думаю, что он в форме звезды. Из-за него меня тошнит — очень часто ночью, когда я внезапно просыпаюсь. Добрый еврей в Аркадии, увы, немного опоздал. Он работал журналистом. Писал для одесской газеты. У него была жена, но она уже уехала во Францию. Полагаю, он знал, что они сделали, и ощущал себя виноватым. Но он не был виновен. Я любил его. Следует ли мне настолько доверять своим чувствам? Он обращался со мной так нежно. Иногда я думаю: не он ли сотворил со мной все это, пока я спал? Неужели меня обольстил Люцифер? Но я не стану судить человека только за то, что он — еврей. Это не в моих правилах. Я люблю всех людей. Я не должен подозревать журналиста. Тогда пропадет слишком много. Как ни странно, эти мысли часто возвращались ко мне после отъезда Шуры. Я чувствовал себя подавленным и потерянным, и даже гладкие открытые воды солнечного Средиземноморья не могли улучшить мое настроение. — Александрия не похожа ни на какой другой левантинский порт, — сказал нам капитан Квелч, когда мы вчетверо снизили скорость. Мы стояли в легких рубашках на главной палубе, наслаждаясь вечерним теплом. Мы только утром сможем увидеть город Юлия Цезаря, Наполеона и лорда Кромера[852], и не будет, как в древние времена, никакого Колосса, указывающего на расположение порта. Весь день мы ползли вдоль египетского побережья, иногда встречая таможенные катера и лодки, чтобы назавтра двинуться на всех парах ни свет ни заря, и тогда, по словам капитана Квелча, нам не придется стоять весь вечер на якоре, ожидая лоцмана, который прибудет на борт утром; вдобавок мы сможем выбрать лучшее место для швартовки. — И в то же время она похожа на все эти порты, объединенные в один. — Капитан рассмеялся над получившимся противоречием. Вольф Симэн и миссис Корнелиус стояли с нами на корме, потягивая какой-то новый коктейль, который придумал Шура. — С первого взгляда может показаться, что вы прибыли в Ярмут[853]. Да, это фасад преуспевающего английского курорта, маскирующий самую отвратительную версию неаполитанских трущоб. Мы, британцы, — великие мастера по части маскировки нищеты не пышностью и красотой, как французы или русские, а респектабельностью. Именно серость построек предполагает, что внутри нет ничего ценного, что стоило бы прятать. Посмотрите на Лондон. Самое внушительное здание в Сент-Панкрас[854] — готическая железнодорожная станция. Это помнят все приезжающие. Так как остальные никогда не бывали в Александрии и только миссис Корнелиус хорошо знала Лондон, мы не могли судить о точности описаний Квелча, хотя я был склонен доверять ему. Капитан не испытывал ненависти к Ближнему Востоку, но и не идеализировал его. Тем вечером я изрядно опечалился — было так тяжело расставаться с новым другом, а ведь совсем недавно мне пришлось проститься со старым. После Триполи я особенно радовался обществу миссис Корнелиус, но это неизбежно вызывало ревность у Эсме. Она опять принимала пищу в каюте, хотя морская болезнь больше не составляла проблемы. Благодаря Эсме, однако, Вольф Симэн вновь пришел в прежнее расположение духа. Он нервничал, я полагаю, из-за того, что опасался, как бы его босс Голдфиш не узнал о нашем неофициальном пассажире и не решил бы отозвать экспедицию. Когда Шура благополучно достиг Триполи, он стал просто неприветливым, но ссоры устраивать не спешил. Вдобавок, несмотря на заявления миссис Корнелиус, что от моей Эсме пользы не больше, чем от жареной ветчины на пиру в синагоге, моя маленькая девочка преодолела природную застенчивость и начала уделять все больше времени утешению Симэна. Я напомнил миссис Корнелиус, что Эсме стала очень полезной утешительницей. Миссис Корнелиус ответила довольно резко, заметив, что я, похоже, хотел сказать «pirsumchick»[855]; я решил придержать язык. В такие времена женщины могут причинять немало затруднений, и, я думаю, нужно еще радоваться, что они не устроили настоящую войну на борту «Надежды Демпси». Я не видел ничего дурного в желании Эсме добиться одобрения человека, который мог быть ей полезным, но никак не понимал, почему миссис Корнелиус, действовавшая примерно так же, столь сурово относилась к девочке, которая никогда не станет ее соперницей в искусстве «вамп». Я всегда сочувствую ближним. Я слишком много повидал, чтобы судить мужчин или женщин, пытающихся заработать на жизнь. И женщинам, согласитесь, сейчас труднее. Ни религия, ни совесть теперь не требуют, чтобы мужчины защищали их. Они могут потерять гораздо больше, а рисковать приходится очень многим. Отвага — вот что меня восхищало в миссис Корнелиус. Почему она презирает те же самые качества в другой женщине? Неужели борьба настолько жестока? Неужели потери настолько велики? Ikh farshtey nit[856]. Если я не могу спокойно смотреть за столкновениями двух женщин, которых искренне люблю, неужели это признак моей бесчувственности? В таких случаях я тоже научился держать рот на замке. Если Кэтрин Корнелиус спросит, поверьте, я феминист. Кроме того, я никогда не возражал против сексуальных предпочтений других людей. Любовь, настаивал я, единственная по-настоящему важная вещь. Любовь даже теперь могла спасти нас от бездны, от страдающего Бога, нисходящего на землю, чтобы показать нам, на что похож Ад. Именно любовь в конце концов спасла меня от лагеря. «Мы должны научиться понимать друг друга. Это наш единственный шанс. Если научимся — значит, все остальное чего-то стоит». Сам Герман Геринг со слезами на глазах говорил мне эти слова. Он не мог обидеть и мухи. Он стал вегетарианцем. Полагаю, мне еще повезло: когда я попытался рассказать все об этом человеке, меня просто обвинили в фашизме. Геринга преследовали и в конце концов погубили. Я оплакивал его, когда услышал новости, но мне не разрешили заговорить. Я молчал, как Петр, и теперь мне стыдно. Ведь именно Герман Геринг спас мне жизнь. И все же мир не позволяет мне почтить память этого человека. Общество стало, на мой взгляд, слишком примитивным. Парадокс и противоречие теперь во владении телевизионных футуристов и попсовых сюрреалистов. Вот что им отдали в собственность. Вот что сделали коммерческой монополией. Таким образом, даже качества, отличающие людей от животных, отчуждены от человека и превращены в шоу, в которое спекулянты могут вкладывать капитал и за просмотр которого могут платить зрители. Фантазия и изобретение, видение и размышления — все оказалось в гетто во время великого упрощения. Человеческий род сражался с тем, что сделало его уникальным. Он сражался на протяжении всего двадцатого века. Он пожрал и уничтожил собственное время. Он боролся со сложностью. Он боролся с разнообразием. Он боролся с индивидуальностью. И постепенно добился победы — когда пришел Сталин. Человечество сначала задушило эти элементы, поместив их в особые загоны, а затем полностью устранило их из сознания, превратив во что-то чуждое и извращенное. Все качества, отличающие млекопитающих от рептилий, теперь в нас уничтожены. Не зря сатана предстал в облике змеи. И неважно, как они называют себя — тори или троцкистами! Они предлагают одно и то же. Власти требуют соответствия стандартам, потому что соответствие стандартам и осведомленность сделались синонимами безопасности. Однообразие стало величайшей ценностью. Разнообразие же поставили вне закона, пообещав уничтожить все противоречия на земле. Нужны ли нам такие герои? Александр Великий объединял мир, прославляя его многообразие. Он совершил то, чего никогда не совершал ни один социалист. Он изгнал Карфаген из семитских земель в экваториальную Африку. Он дал семитам шанс вновь обрести цельность, продолжить дело Бога и его дело. Импульс, возникший благодаря Александру, пытались сохранить Птолемей[857] и кое-кто из его преемников. Они преуспели до некоторой степени, но тогда Карфаген ловко возродился — в обличье женщины. Клеопатра развязала гражданскую войну, что лишила Рим самых благородных мужчин и привела к разрушению столицы Египта, крупнейшего города Древнего Мира, цитадели наук и искусств, «сладкой, полной снов Александрии, города солнца, таящегося в тени пальм, тигеля разума», как писал Уэлдрейк. Капитан Квелч первым отметил, что поэт оказал огромное влияние на Элиота[858]. Той ночью, когда стало до отвращения жарко, я отыскал капитана Квелча, решив в последний раз погрузиться в успокоительную атмосферу его замечательной каюты. Он также пребывал в сентиментальном настроении; он облачился в алый китайский халат и украшенную жемчугом шапочку, которую выиграл в фан-тан[859] в Шанхае. Капитан настоял, чтобы я надел синий халат, устроился поудобнее и насладился сладостным прикосновением шелка, потягивая прекрасный коньяк и ощущая невероятное усиление ума и чувств, равное которому мог обеспечить только лучший кокаин. Капитан немного рассказал о прошлом, о школьных годах в Кенте, о доме священника, где они с братьями выросли. Он почти небрежно добавил, что в Англии у него есть жена. — И два здоровых парня, и еще симпатичная малышка-девочка. Они теперь в Корнуолле. Мы поддерживаем отношения, знаете ли, и я надеюсь со временем бросить там якорь. Не заблуждайтесь, мой друг, они всегда рядом со мной, даже когда я далеко. Я думаю, что щенки немного гордятся своим папочкой-моряком. — Они собираются поступить во флот, я полагаю? — Меня отчего-то смутили нотки сожаления в его голосе. — Боже правый, дружище, я надеюсь, что нет! В море никогда не бывало никаких денег. Я по-прежнему надеюсь, что они станут адвокатами. Нам в семье такие могли бы пригодиться. И у вас в семье тоже, наверное, есть несколько, а, Макс? Не говоря о докторах, скрипачах и так далее. Все эти занятия не привычны ни для казаков, ни для русских аристократов, ответил я, и мы весело посмеялись. Он сказал, что мы с его братом превосходно поладим. — Еще, — добавил он. — Hibernico[860]. И он с благоговейным восторгом опустил первую пластинку «Лоэнгрина»[861] на свой проигрыватель.Глава одиннадцатая
Среди людей, которых вы называете язычниками, невеждами или просто чужаками, столько же героев и гениев, столько же обладателей совершеннейших достоинств, сколько можно отыскать в любом христианском сообществе; вы сумеете обнаружить среди них столько же негодяев или злодеев (таких, которые иногда добиваются власти), сколько видите и в вашем мире. Итак, почему же тогда вы подчеркиваете и преувеличиваете незначительные различия между вами, так что можно без всякого стеснения глумиться над этими людьми и нападать на них? Разве это не истинный грех гордыни? Что хорошего в ужасающих спорах и ссорах? Вы похожи на толпу заключенных в лабиринте, которые борются друг с другом, вместо того чтобы объединить силы, найти прямой путь, выработать общий план. Все мы напуганы, всем нам необходима опора. Никто из нас не может узнать подлинную причину того, почему мы должны страдать и потом умирать, возможно, даже причину того, почему некоторые добиваются успеха, в то время как другие, столь же одаренные (или бездарные), влачат дни в бесконечной нищете. Мы отказываемся принять случайности Божьего мира, но, пока мы не примем их, мы будем вечно биться в лабиринте нашего собственного создания. Политические убеждения — лабиринт. Религия может быть лабиринтом. Даже простая вера может создать лабиринт — поскольку мы применяем простые модели к тому, что совсем не просто, — как американцы, посещающие Лондон, пытаются приложить привычные законы планировки к запутанному переплетению улиц. Логика не просто подводит их в этом случае — они начинают бояться. Собственная неспособность разобраться в лабиринте улиц заставляет их проклинать дураков, которые не сумели упростить планировку и построить город по правилам. Примитивные динозавры вымерли; они не смогли выдержать перемен. Только приняв мир таким, каков он есть, и наполнив смыслом наше существование в непредсказуемой вселенной, мы сможем познать универсальную гармонию, к которой стремится большинство. Вопреки убеждениям этих хиппи, гармонии можно достичь политическими и философскими средствами, если такие средства не навязаны, а представлены в форме доказательств в природной «плюралистической» демократии, где почитают гуманный Разум и незапятнанный Закон. Не стоит обольщаться пустыми надеждами. Средство есть. Лишь одно логически приемлемое средство удовлетворения духовных, физических и психологических потребностей человека в форме единственной идеи, которая связана с принятием множественности как фундаментальной основы бытия. Я говорю об истинной церкви, церкви Константина, первого христианского императора. Ах, Царь Небесный, remebre vus![862] Маленькие девочки поют в соборе. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Призрак восстает, и эти храмы так холодны, что можно подумать, будто там, внутри, все хранится в глубокой заморозке и мертвые Египта, благодаря нашей теплой крови, восстанут и снова пойдут по земле. Die Geschichte ist niemals gleich; doch es kommt vor, das Ereignisse sich wiederholen[863]. Поэтому Ганнибал приказывал своим легионам: «Восстаньте из праха и снова сражайтесь!» Итак, Карфаген спит; прекрасный Карфаген шевелится; золотой языческий Карфаген стонет и приоткрывает горячий и жадный глаз, чтобы увидеть долину Нила, плодородное диво нашего мира, зеленую колыбель всего, что мы ценим, и источник всего, что мы когда-либо знали. Матерь Египет, наша общая матерь Египет! Как великолепно было твое облачение, как сверкали твои богатства, о мать! И все яркие цвета Африки и все прелести английской весны сочетались в тебе. Ты всегда красива, матерь. Красивы даже твоя нищета, твое унижение, твой грех. Ты, однако же, была полудикой, когда началось создание твоей нации. Самые твои болезни экзотичны и красивы. Матерь Египет! Матерь Египет! Я не ожидал, что ты будешь так красива. L’histoire est un perpetuel recommencement[864]. Греки поняли это. Даже боги должны подчиняться судьбе. Карфаген открывает другой глаз — и перед ним предстает Европа, восхитительная и пышная. Сладкая Европа, от пажитей Украины до яблонь Кента, сосновые леса Лапландии, оливковые рощи Греции и Испании, богатые города римлян. И Карфаген подмигивает и усмехается, и золотой, могущественный, пробуждающийся Карфаген обнажает острые зубы и облизывает алые губы, и его жаркое дыхание смердит розами. Карфаген готовится пировать. Скоро всех нас заставят замолчать. Нас запугают и подкупят, мы станем бесконечно пассивными, мы превратимся в домашнюю скотину Карфагена. Тогда Карфагену больше не понадобится оружие. Ему не понадобится охотиться. Великий Карфаген сделается банкиром и станет кормить коров и цыплят по выходным, он превратится в крупного землевладельца и будет зваться Коллинзом, или Картером, или Грином, или каким-нибудь другим почтенным английским именем. Этот хитрый варварский Карфаген поработит нас так, что мы ничего не заметим. Того, кто обнаруживает какие-то отблески истины, кто пытается поведать о нашем неминуемом завоевании и унижении, — его в лучшем случае избегают, считая сумасшедшим, а в худшем — убивают как истинного мученика, чтобы преподать остальным урок: никогда не произносить вслух, что наши души уже заложены сатане. Я записал это meo periculo[865] — на свой страх и риск, но я хорошо знаю, что публика, вероятно, ничего из моих записей не увидит. Карфаген завоевал не только наши тела, но и наши умы. Он добился преимущества, воспользовавшись изоляцией англичан. Теперь никто не позволит мне открыть правду, потому что все вокруг наслаждаются моим унижением. Они видят великого человека, которого оскорбили и уничтожили. Так сказал Бишоп миссис Корнелиус. Подобно Авдию[866] из рассказа, я научился всему, что знаю, в страданиях и путешествиях, в интеллектуальной изоляции. В отличие от его создателя Штифтера, я не вижу особенного благородства в страданиях Авдия, в его одиночестве или даже в его путешествиях. Я никогда не искал ничего подобного. Но в то же время меня не могли сбить с курса ничьи угрозы. Когда-то я думал, что обречен блуждать до Судного дня, обречен говорить правду, оставаясь неуслышанным. Мы должны жить в гармонии с природой. Я готов предоставить все необходимые средства для этого. Боги научились сосуществовать с хаотичной Природой. Это знал Тик[867], знали все великие немецкие сочинители. Нам нужно использовать все возможные средства, чтобы жить в соответствии с природой, не пытаясь перебороть ее! Мои летающие города позволят природе существовать без нашего вмешательства и все же оставаться на прежнем месте, чтобы мы могли наслаждаться ею всякий раз, когда только пожелаем. Вопреки всем превратностям судьбы моя мечта не изменилась. У меня есть дар для всего мира. Почему мир принял так много дряни от разных мошенников — от Маркса и Эйнштейна? Почему Фауст — злодей, а Фрейд — спаситель? Есть один очевидный ответ, но, конечно, нам уже не позволяют произнести его вслух. Нас окончательно подчинили. Нам уже отказывают в праве открыто называть своих хозяев. Мы полностью порабощены. Над нами даже властвуют Саксен-Кобург-Готы[868], которые, как всем известно, купили титулы в Варшаве! У меня есть листовка, там все это подробно доказано. Ее написал один из старых священников из польского клуба. Поляки как никто знают о вероломстве Карфагена. Они превыше всего ценят христианское благородство. Неудивительно, что женщины недовольны. Благородство и воспитание остались в прошлом. Когда-то мужчина должен был ухаживать за женщиной, доказывая свое остроумие, талант и отвагу. Сегодня сохранилось только безбожное, безрадостное проявление силы — мальчик хвастается, девочка хочет почувствовать вкус любви (такова их общая мечта, неважно, девственницы они или шлюхи). Ибо настоящая любовь для них всё и единственная мечта, которая у них осталась. Женщины уверены, что могут достичь этой химеры, демонстрируя мужчинам почтение и преданность, используя подходящие выражения и одежду, — и в результате женщины становятся хитрыми и злобными. Мальчики узнают, что трахаться и блевать — два истинных показателя высокого положения в обществе. Их футбольные кричалки свидетельствуют о многом. «Мы здесь, потому что мы здесь». Отчаянный призыв нигилистов на протяжении столетий. «Мы хотим, Ра-Ра-Ра. Мы хотим, Ра-Ра-Ра». «Мы никогда не будем одиноки!» «Я сделал это по-своему». Тупая уверенность стада. Женщин я мог спасти. Мужчины безнадежны. Их нужно послать на Золотой Берег, в Конго или в Анды. Когда-нибудь я напишу о месяцах, проведенных в Южной Америке после крушения «Джона Уэсли». С тех пор я стал бояться змей и аллигаторов, и этот страх, подозреваю, останется со мной навсегда. В Лиссабоне мы ходили на «Вечного жида»[869] в «Маджестик». Фильм был почти так же хорош, как пьеса, Мэтисон Ланг воссоздал свою знаменитую роль. Меня глубоко взволновал финальный монолог, когда, отвергая требования инквизиции и не соглашаясь отречься от своей веры, Матеуш говорит: «Теперь я, еврей, стою перед вами, и дух вашего Христа ближе к моему сердцу, чем к сердцам тех, которые часто повторяют Его имя». Замечательная речь. Я плакал. Был аншлаг. Неужели это и есть антисемитизм? Смысл фильма очевиден — мы до сих пор далеки от идеалов нашей религии, и нужен благородный, достойный зависти еврей, способный показать нам: то, что у нас есть, обладает неизмеримой ценностью. Я не раз объяснял это жулику Барнуму, который держит «Праздничные новшества» на Элгин-кресчент, хотя половина его товара — простые игрушки. Я говорю, что его череп так же пуст, как гигантская голова, выставленная в его витрине. Он говорит, что я — просто старый Judenhetze[870]. Я отвечаю, что это смешно. Неужто меня можно так назвать? Правда, он говорит, что услышать такое безумие — настоящее чудо. Возможно, Чарли Чаплин и был Адольфом Гитлером, в конце концов. «Возможно, раздвоение личности». — Это ты безумен, мой друг, — говорю я в ответ. — Мой бог, из-за какой ерунды мне приходится страдать. Один из моих самых старых друзей был евреем. Из Одессы. Я обязан ему жизнью. Разве я похож на антисемита? Он не может ответить. Они никогда неотвечают, эти «мудрые» парни. Рабби Дэвидсон, живущий вверх по улице, по другую сторону моста, претендует на то, что лучше разбирается в религии и в мире, чем я. Он никогда не знал искушений и ужасов диких стран, роскошных удовольствий и запретных пыток Востока. А я знаю Восток. Я лично изведал все тайны мира, породившего наш общий Завет. Если я и не понимаю ничего другого, то религию я понимаю хорошо. Дэвидсон знает, что я уважаю его положение и его веру, но я всегда побеждаю его, подыскивая примеры из Талмуда или из апокрифов. Он говорит мне: «Полагаю, вы живете на свете с самого начала времен, полковник Пятницкий». — Нет, — отвечаю ему я. — Я родился тогда, когда родился Христос. Он распознает символы и словесные игры, но только на довольно примитивном уровне тех англичан, которые дали миру Браунинга и затем отказались понять его. Он известен сегодня благодаря своим мимолетным причудам, огнестрельному оружию, что носит его имя, и некоторым стихам, написанным для детей и старых друзей[871]. И, конечно, благодаря его давней вражде с Джоном Гилгудом, звездой кинематографа, — об этом недавно передавали по телевидению. Когда я спросил миссис Корнелиус, почему она плачет, она ответила, что ей жаль собаку. Я только что вышел из туалета и не понял ее. «Флаш, — сказала она. — Флаш!»[872] И вправду, я стал по этой части немного рассеянным. Недавние впечатления иногда затуманиваются, но я могу вспомнить запах огромных полей мяты, окружавших стены Феса, как осадная армия, могу вспомнить Александрию, где мяту добавляли в напитки и казалось, что душистый воздух льется в легкие, возвращая старикам молодость. Кто теперь знает, на что похожа настоящая мята? Ароматизированные конверты, уборка туалетов, зубная паста и кремы для секса — вот во что ее превращают! Мы в свое время обходились вазелином, а единственный аромат был ароматом нефти! Лоцман доставил нас в переполненную Александрию, и даже в море я чувствовал дуновение опьяняющего бриза подлинной Африки, долетавшего со стороны Нила. Тем прохладным средиземноморским утром, когда со срывавшимся с губ паром от дыхания мы поднялись на палубу и обнаружили, что туман еще не совсем растаял, я воображал, что буду наслаждаться зрелищем греческого и римского великолепия, возносящегося над турецкими и арабскими постройками. Капитан Квелч, несмотря на свою настойчивость, не смог убедить меня, что в Александрии царит беспросветная серость. Вместо ожидаемой роскоши я увидел муниципальные здания провинциальной Англии — ряды их тянулись во все стороны, окруженные цветниками, которые можно отыскать в швейцарских городах (хотя тут растения казались более вялыми). Местами ввысь устремлялись минареты, напоминая о географической реальности. И действительно, здесь обнаружились внушительные готические гранитные здания, а также кирпичные постройки, наводившие на мысль об эпохе королевы Анны; я словно оказался в экзотическом Брэдфорде[873]. И все-таки городу было свойственно какое-то удивительное величие, а размах огромной гавани восхищал. Суда Британского торгового флота окружали нас со всех сторон, рядом с ними стояли столь же нарядные корабли из других цивилизованных стран. Чтобы не попасть в «смешанный» док, заполненный сомнительными местными буксирами, дау и ржавыми трампами[874] со всех концов земли, капитан Квелч, подняв звездно-полосатое знамя, представился лоцману «другом Сэмюэла Голдвина» — лоцман спокойно передал эти сведения на берег и получил обычный почетный эскорт из наших изголодавшихся по культуре моряков, которые знали о своих киногероях гораздо больше, чем о собственных матерях. Сегодня только Голливуд обеспечивает вселенскую славу, некогда бывшую привилегией одного лишь Александра Великого. Эти англичане находились настолько далеко от центров цивилизации, что с готовностью поверили, будто мы — звезды десятков пока еще не увиденных ими киноэпопей. Некоторые из них даже не знали о скандале с Арбаклем! Если бы мы пожелали, то могли бы обмануть их и лишить самого ценного — так странствующие продавцы древностей и торговцы благословениями бродили в Средние века среди невежественных сельских жителей, вдали от Рима или Парижа. Власть казалась поистине безграничной. Эти люди, подобно своим предкам, жаждали историй, жаждали волшебства. И мы, конечно, могли дать им все, чего они хотели, — даже больше, чем Норма Толмедж или Джон Гилберт, поскольку мы видели все стороны Голливуда, от самых низких недостатков до самых высоких устремлений, — и общение с нами могло подарить им куда больше волшебства, чем самый замечательный фильм. Лоцман извинился перед нами. Таможенные досмотры и правила въезда для американских граждан, провозящих в страну специальное оборудование, особенно фотографическое, были сложны и суровы, и нам предстояли малоприятные испытания. Но почти сразу после того, как мы пришвартовались, румяный лейтенант доставил приветствие от губернатора вместе с извинениями, что тот не смог встретить нас лично, — оказалось, вся наша группа приглашена на особый прием следующим вечером. А пока нам предоставили наилучшие условия. Тем утром капитан Квелч получил несколько телеграмм, о содержании которых он попросил оператора ничего не рассказывать. Стремясь узнать новости о моих пропавших фильмах, я ходил в радиорубку вместе с капитаном — он заглянул туда по пути на мостик. Одна телеграмма была от Голдфиша, и ее капитан мне показал, но другую он сложил и спрятал в карман белого хлопчатобумажного пиджака. В то утро Квелч оделся в штатское, лишь фуражка выдавала его положение, и я сказал, что выглядел он так, словно ухаживает за кем-то. Он рассмеялся. Он заметил, что я недалек от истины, тра-ла-ла. Представляло ли интерес сообщение от Голдфиша?Нужно изменить название попробуй старое тчк жди прибытия новой звезды по воздуху алекс обязательно тчк не делай пока не начал тчк у нас принц индии тчк снимаем одну катушку на местности тчк игнорировать все прошлые сообщения тчк подтвердить след египетской колесницы тчк с. г.
Телеграмма хранится у меня в альбоме для вырезок. Вот и все, что осталось от моей былой известности. Миссис Корнелиус говорит, в ее коробках куда больше вещей, но в последнее время, по ее словам, крысы добрались до бумаг, точно так же как моль сожрала всю одежду в ее подвале, — так что, полагаю, мои вырезки превратились в труху, а личинки пожирают застывшие мгновения прошлого, гниющие кадры давно испорченной пленки. Телеграмма осталась у меня, потому что я по рассеянности забыл показать ее другим. Полагаю, меня выбила из колеи мысль о конкуренте-актере, готовом разрушить наш кружок как раз тогда, когда дело пошло на лад. Была ли звездой Констанс Беннетт[875]? Или Бэрримор? Голдфиш прославился своими внезапными решениями: усилить «качество» — или увеличить бюджет — проекта. Я выбросил эту неприятную мысль из сознания и, сделав так, позабыл о телеграмме до тех пор, пока она снова не попалась мне на глаза — гораздо позже. К полудню, воодушевленные радушным приемом британцев, мы встретили еще одного гостя, который, судя по внешнему виду, не мог быть никем иным, кроме брата капитана, профессора Квелча. Он поднялся на борт так резво, что, оказавшись на палубе, вынужден был надолго остановиться и перевести дыхание; говорить он поначалу почти не мог, и его извинения звучали невнятно: «Ужасно жаль — старый поезд — всегда опаздывает — надо бы выехать пораньше — моя вина — как дела. Малкольм Квелч». И я пожал костлявую обветренную руку, которую протянул вновь прибывший — худобой он даже превосходил брата. — Надеюсь, вы, парни, получили мою телеграмму. Я ответил, как только… Капитан Квелч жестом заставил его прерваться, и гость пожал мне руку в молчаливом изумлении, как будто ожидая, что брат его спасет. — Откуда ты узнал, что мы прибудем, Малкольм? Наверняка из газет! Что-то из Касабланки? Говорю же, разве не удивительно, какие теперь средства связи? Очевидно, капитан Квелч спланировал все так, чтобы наше прибытие совпало с прибытием его брата и мы сразу получили хорошего британского гида. Я не видел в этом ничего дурного. Капитан Квелч прежде всего беспокоился о нашей безопасности. Он знал, что мог доверять брату, который позаботится обо всем так же добросовестно и разумно, как заботился сам капитан. Я, со своей стороны, был ему признателен. — Держимся за семейство, джентельмены? — Миссис Корнелиус улыбалась всем и каждому. — Не против выпить, проф? Болезненная кожа рослого ученого напоминала древний папирус, щеки глубоко запали, нос еще больше походил на хищный клюв, чем нос его брата, а серо-голубые глаза светились каким-то могильным светом; едва оправившись, он чуть заметно подмигнул моей подруге: — Отнюдь, госпожа. Я — строгий трезвенник. В моей семье все воздерживаются от алкоголя. — Воздерживаются, пока не выпьют, так? — Миссис Корнелиус рассмеялась и похлопала его по спине. Профессор носил помятый европейский костюм, который, как и его кожа, пожелтел от египетского солнца. Панаму он снял, когда поднялся на борт. Черные седеющие волосы прилипли к черепу и пропитались потом, который профессор попытался стереть носовым платком — платок был на удивление тщательно выстиран, и это никак не сочеталось со всем обликом мужчины, немало испытавшего в жизни. Профессор неуверенно улыбнулся. Я никогда не пойму, почему миссис Корнелиус приняла одного человека с такой же готовностью, с какой отвергла другого. Со своей стороны, я очень обрадовался, что запасся, по разумному предложению капитана Квелча, большой партией коки. Его брат казался человеком ограниченным; вероятно, он был бы потрясен, если б я попросил его о помощи в прибретении запрещенного препарата. В Египте торговля наркотиками шла вовсю. Британские таможенники всегда оставались настороже — и в морях, и в пустынях, где верблюжьи караваны доставляли гашиш, опиум и героин по старым азиатским торговым маршрутам. Но я не хотел недооценивать Малкольма Квелча. Возможно, в Египте подобные люди были нужны, чтобы напоминать нам: всегда следует поддерживать наши европейские стандарты. Такого, как он, греки назвали бы kalokagathos, идеальный джентльмен. И вдобавок эрудит, как я довольно скоро обнаружил. Он спросил, наслаждались ли мы «смехом морских неисчислимых волн» — kymaton anerithmon gelasma, как говорится у Эсхила[876]. — Жаль, тшто я в первый раз не обратила внимания, — сказала миссис Корнелиус, обхватив его костлявые плечи; профессор разинул от удивления рот, когда моя подруга добродушно проревела ему в лицо: — А вы-то все заметшаете, проф. Хо! Хо! Заработавший дурную репутацию Вольф Симэн выбрался на палубу в костюме для бега, который обтягивал тело так, что виднелись мельчайшие волоски; Симэн знатно растолстел. Он со страдальческим выражением на лице остановился рядом с нами и сквозь пот и слезы посмотрел на вновь прибывшего. — Добрый день? Сэр… — Это перфессор К. - образованный братан дона К. — Рука миссис Корнелиус крепко обвила талию Квелча, и моя подруга продемонстрировала гостя, словно трофей, своему потенциальному Свенгали[877] и неприветливому любовнику. — Перфессор, это велитшайший шведский худошник после Ханса Андерсена. Он делал разные шикарные картины. Я сама в некоторых снималась. Археолог смутился, услышав все это. Он приподнял шляпу перед Симэном и всеми присутствующими с таким видом, как будто случайно вмешался в пьесу, а остальные ждали, что он сыграет свою роль. — Ну, — сказал он, — viva, valeque[878], вот что. — Думаю, нам стоит отправиться в обеденный салон и устроить совещание, — капитан Квелч явно настаивал на этом, по каким-то причинам желая увести брата с палубы. И все мы спустились вниз, где сам капитан, исполнив обязанности официанта, подал напитки. Профессор взял содовую, и брат последовал его примеру — без сомнения, из уважения к их покойным родителям. И мы провозгласили первый тост — за короля Англии, короля Египта, президента Соединенных Штатов и Сэмюэла Голдфиша. Лед тронулся. Мы собрались вокруг профессора Квелча — он несколько расслабился и, кажется, не возражал против того, что оказался в кольце людей с коктейлями, которые слушали граммофон и пытались вовлечь его в свой хор. — Vive la bagatelle![879] — воскликнул он, внезапно оказавшись не настолько скромным, как я предполагал поначалу. Но я все равно думал, что он не станет мне таким другом, каким стал капитан Квелч. Празднество продолжилось, когда наши счастливые ласкары, без сомнения, с нетерпением ожидавшие увольнения на берег, подали обед. Профессор Квелч был экспертом по части всего египетского. Действительно, древний мир казался ему ближе, чем современность, и не составляло труда заметить, что он относился к проблемам перевода иероглифов с большим энтузиазмом, чем к эфемерным похождениям героев и героинь из мира кино. А романтика, как я подозревал, в его представлении сводилась к загадке анкха[880] странного цвета, который держало одно из второстепенных египетских божеств. Изъяснялся профессор довольно путано. Тем не менее Малкольм Квелч казался тем самым человеком, который мог провести нас сквозь тени далекого прошлого и мимо подворотен и соблазнов нашего непосредственного настоящего. Разумеется, поскольку берег манил всех нас, в съемочной группе начались разговоры о разных искушениях. Малкольм Квелч добился одобрения нашей команды и продемонстрировал способность к решению практических вопросов, порекомендовав salon des poules[881], который, по его уверениям, был безопасен и предоставлял все возможные услуги. Только Эсме не проявила к новому знакомому никакого интереса; она почти сразу спустилась в каюту, чтобы, по ее словам, собрать вещи. Симэн тоже рано удалился из-за стола: он заявил, что должен побыть в одиночестве и как следует обдумать новые идеи. Его отсутствие никого не огорчило. Когда он удалился, атмосфера за столом стала значительно непринужденнее. Подстрекаемый миссис Корнелиус, доброжелательный профессор потчевал нас каирскими сплетнями, касавшимися людей, о которых мы никогда не слышали; речь в основном шла о мужеложстве и супружеских изменах, иногда для разнообразия с элементами кровосмешения. Я заскучал. Извинившись, я сказал, что должен вернуться в каюту и проверить багаж, тщательно упакованный после таможенного досмотра. Таможенник заинтересовался моими грузинскими пистолетами, но я удовлетворил его любопытство, объяснив, что они предназначены для съемок фильма. Постучав в смежную дверь, я громко позвал Эсме, чтобы она не напугалась. Потом я услышал, как что-то упало. Я попытался открыть дверь, но она была заперта. Я спросил, не ушиблась ли Эсме, и через мгновение она ответила, что ее чемодан свалился на кровать. Она начала что-то бормотать, как будто сильно смутилась. Я предложил помощь, но она громко сказала, что справится сама. Эсме была сообразительной малышкой — и неважно, что думала по этому поводу миссис Корнелиус. Успокоившись, я прогулялся по палубе и увидел капитана Квелча — он курил трубку, беседуя со старшим сотрудником иммиграционной службы, рыжеволосым мужчиной по имени Престань, который вернул мне паспорт, отметив, что счастлив познакомиться с таким одаренным человеком. (В паспорте было указано, что моя профессия — инженер, но в анкете, конечно, перечислялись мои теперешние обязанности.) Печати и виза придали паспорту солидный и законный вид, которого ему ранее недоставало. Я получил официальное одобрение правительства его величества. В те дни, конечно, такое одобрение означало и полную безопасность. Британская империя взяла на себя ответственность за свои доминионы и протектораты, поддерживая закон и порядок повсюду и для всех. Вот почему империя вызывала восхищение целого мира. Я всегда свысока относился к людям, которые вытаскивают на свет божий несколько сомнительных случаев и начинают обвинять британцев и доказывать, что они не лучше французов, скажем, или голландцев управляли империей. Я не согласен с ними. Пока англичане управляли по образцу Рима, они знали только успех и повсюду царила справедливость. Им приходилось проявлять строгость и в Египте, и в Индии, и в отдельных районах Африки, поскольку местные жители признавали только сильную руку. Туземцы совсем не понимали смысла структур, которые были предназначены для их защиты. Я часто удивлялся подобным представлениям о национализме и о свободе. Кажется, все, к чему стремились аборигены, — это свобода убивать друг друга во время ужасных межрелигиозных конфликтов. Их научили порядку. Они утверждали, что мечтали о таком порядке, но хотели установить его сами. Но у них не было ни истории, ни опыта, ни интеллекта, чтобы постичь смысл общественных институтов. Возможно, несколько индусов и погибли в Амритсаре[882]. Но сколько их погибло в 1948‑м, когда британцы ушли? Они жаждали «свободы» примерно так же, как наши предки жаждали золотого века. И когда золотой век не пришел, они взбунтовались от разочарования. И все-таки феллахи, прямые потомки людей, которые построили пирамиды и завоевали большую часть Африки и Малой Азии, без сомнения могут считаться солью земли; они — послушные работники и добрые слуги, если не теряют человеческого облика от бильгарции[883], теперь поразившей весь Нил благодаря британской дамбе, или от гашиша, который они курят, чтобы позабыть о проблемах. — В Китае так же обстоят дела с кули[884], - сообщил мне профессор Квелч. Он не раз бывал в археологических экспедициях на Дальнем Востоке. — Я был тогда совсем молод. Но я могу сказать вам, мистер Питерс, что ни Александрия, ни Каир не в силах соперничать с публичными домами Макао или Шанхая. Такие милые маленькие создания… Можно подумать, что они с другой планеты! Боюсь, у меня слишком старомодные вкусы. Современные девицы оставляют меня равнодушным. — Ну, зависит от того, тшто ты хошь, верняк, — сказала миссис Корнелиус. Она облачилась в шляпку в стиле Гейнсборо[885] с синими кружевами и была готова встретиться с удовольствиями и испытаниями Александрии. Она подмигнула своему новому «кавалеру». Я едва не начал ревновать, хотя и понимал, что узы, которые связывают миссис Корнелиус со мной, куда сильнее мимолетных прихотей. Чуть поодаль от нее, одетая в матросское платье, шла Эсме в сопровождении повеселевшего Вольфа Симэна, который, без сомнения, обрадовался возможности снова покомандовать. Он надел бледно-голубой костюм, казавшийся слишком тесным. Симэн прибавил в весе не меньше стоуна с тех пор, как мы покинули Лос-Анджелес. Я подумал: если он часто страдал от морской болезни, как же ему удалось удержать в желудке такое количество еды? Эсме, улыбнувшись Симэну, которого она, очевидно, обхаживала в расчете на главную роль в фильме, приняла руку, протянутую мной. Я повел возлюбленную следом за миссис Корнелиус. На раскачивавшемся трапе она шаталась, как бумажная кукла. Испуская клубы зловонного черного дыма, катер доставил нас на пассажирский причал, а оттуда мы направились во временное жилище на присланном из отеля автомобиле. Когда я увидел круглое лицо нубийца, сидевшего за рулем, то на миг решил, что мистер Микс вернулся, чтобы раскрыть свой тщательно продуманный трюк. Но я быстро понял, что этот негр, пусть и красивый и вполне жизнерадостный, не имел ничего общего с моим другом, который был куда более утонченным. — Боюсь, местные жители покажутся вам чем-то вроде rudis indigestaque moles[886], - заметил профессор Квелч на берегу реки, отталкивая зазывал ротанговой тростью. — И сам город практически не представляет археологического интереса. Его буквально растащили разные захватчики, как вам известно. — Он прикрыл рот длинными пальцами и захихикал, как будто сказал что-то непристойное. Его брат пошел вместе со мной к причалу. Я обменялся с ним рукопожатием, тщетно пытаясь сдержать слезы. — Удачи, — пожелал я. — И вам того же, дружище. Малкольму стало лучше, как вам кажется, когда я подлечил его содовой с капелькой «Гордонс»? — Он подмигнул и добродушно потрепал меня по руке. — Удачи и вам, старый кореш. Если я услышу о ваших пленках и о вашем негре, то найду способ передать весточку. Истинная привязанность выражалась в этих скупых словах и жестах. Воодушевленный, я отсалютовал капитану и забрался в автомобиль, сев напротив надменного герра Симэна и нетерпеливой Эсме, которая, как всегда, радовалась посещению нового города с новыми магазинами. Миссис Корнелиус устроилась рядом со мной. — Надеюсь, холодное пиво у них тутотшки есть. Это все не слишком по-английски. Когда я заметил, что было около шестидесяти пяти градусов[887] — в Лос-Анджелесе такая погода казалась нам прохладной, — она ответила, что всегда ненавидела теплое пиво, даже зимой. Прежде чем автомобиль тронулся с места, капитан Квелч наклонился к открытому окну и вполголоса сообщил мне: — О, между прочим, друг мой, похоже, закон все же дотянулся до бедняги Болсовера. Я слышал, что его сегодня должны арестовать. Наркотики, очевидно, — вот бедолага. — Он подмигнул и послал мне воздушный поцелуй, а потом шагнул в сторону. — Помните, дорогой мой мальчик, — сказал он вслед тронувшемуся автомобилю, — доверяйте только Богу и Анархии. Теперь мы выехали на набережную, вдоль которой тянулись ряды пальм, белоснежных отелей и летних резиденций — окна зданий выходили прямо к морю. Балконы из кованого железа, аура спокойствия и аристократизма — все это сильно напоминало мне весеннюю Ялту. Но я не смог бы спасти тех девочек, даже если бы попытался. Они наслаждались острыми ощущениями, эта ситуация радовала их… Я не захотел присоединяться к ним и оставил их в покое. Слабый ветер покачивал ветки на набережной и поднимал волны на море, а по улицам двигались в основном повозки, запряженные лошадьми, частные автомобили и редкие трамваи, все было нарядно и выглядело просто образцово — насколько это возможно в такой пыльной стране. Даже в Александрии, между океаном и озером, все быстро привыкали к густой пыли цвета хаки, которая покрывала газеты, книги, одежду и отполированные прилавки на базарах. Все стало желтым или коричневым. Теперь, когда охряный туман рассеялся, над высокими крышами открылось нежно-голубое небо. Бледно-золотой свет постепенно разливался над синей водой, белой набережной и строгими гранитными зданиями, и пальмы меняли цвет — от лимонно-желтого до серовато-зеленого. Их оранжевые, коричневые и красные стволы, разнообразие трав, которые росли у оснований деревьев, помогали смягчить суровость кирпича власти и песчаника дипломатии, придавая национальным флагам и эмблемам не столько солидный, сколько веселый вид. Оштукатуренные фасады местных зданий блестели, как свежий хлопок. В такие мгновения город казался силуэтом со старой фрески; яркие цвета как будто пробивались сквозь густые слои времени, прежде чем добраться до нас. Это зрелище вызывало восторг, и я едва не забылся сладким сном. Я очень мало спал той ночью и действительно слегка задремал, когда автомобиль остановился возле здания, напоминавшего нечто среднее между замком крестоносца и мексиканским публичным домом. Я соскочил с подножки автомобиля и посмотрел на пять великолепных этажей отеля. Профессора Квелча позабавило мое удивление. — Именно это мы бы увидели, если бы мавры завоевали Трун[888], - прошептал он. Смысл его замечания стал мне ясен только двадцать лет спустя, когда я посетил Шотландию. У британцев сохранилась привычка использовать местный стиль и превращать его во что-то веселое и легкое. В прохладных коридорах отеля пахло воском и жасмином, стволы пальм были отполированы до неестественного блеска, в тон с темным деревом и турецкими мозаиками в холле. Нас приветствовал управляющий, грек с французским именем. В наше распоряжение был предоставлен целый этаж отеля. Рождественские каникулы уже начались, и многие постояльцы путешествовали по стране или посещали родственников в Англии. Богатые египтяне и британцы проводили в Александрии лето, но в прохладные месяцы перебирались в Каир. У меня в голове не задержалось название заведения, но, кажется, его дали в честь какого-то английского лорда; возможно, это был отель «Черчилль». Из окон просторных комнат открывался вид на отвесные скалы и гавань, а там (на случай, если вы немного побаивались этой страны или ее уроженцев) глаз радовало успокоительное зрелище: на мачтах полудюжины современных военных кораблей развевались британские флаги, а мимо время от времени проезжали хорошо обученные и дисциплинированные представители египетской конной полиции, в солидной синей или алой форме, в красных фесках или кепи. Они скакали на чудесных сирийских «арабах» по широким улицам, и их суровая мужественность резко контрастировала с обличьем тех неуловимых белых призраков, блуждавших в тенях и иногда останавливавшихся, чтобы пошептаться друг с другом или обратиться к какому-нибудь смущенному туристу, у которого уже возникли затруднения с «Бедекером» или «Гид блю»[889]. Многие из них носили строгие фески, кремовые джеллабы и красные туфли официальных гидов, большие бронзовые диски на шеях свидетельствовали о законности их притязаний. Самозваные драгоманы[890] ежедневно рассчитывали на то, что смогут втереться в компанию богатых американцев, жаждущих неведомой романтики. Небольшие группы детей, часто одетых в тряпье и страдавших от болезней, носились по пляжам и садам, избегая встреч с полицейскими, и преследовали все экипажи, в которых ехали европейцы или состоятельные египтянине. Местные полицейские решительными жестами регулировали движение, при этом не забывая добродушно улыбаться. Здесь царила обычная суматоха современного космополитического портового города. Я возвратился к цивилизации! Обставленные в вездесущем индийском колониальном стиле, мои комнаты не соединялись с комнатами Эсме. Уладить вопрос с распределением ключей у стойки администратора, не вызвав подозрений, было нельзя. Эсме разделила номер в южной части отеля с миссис Корнелиус, и я очень обрадовался тому, что нам предстояло остаться в Александрии только на одну ночь, прежде чем мы займем заказанные места на каирском экспрессе. Я также обрадовался тому, что мне не придется жить в одном номере с Вольфом Симэном и моим соседом по комнате на следующие тридцать часов станет Малкольм Квелч. Я с нетерпением ждал продолжения общения. Капитан Квелч, кажется, не ошибался, когда с энтузиазмом рассказывал об учености Малкольма и его осведомленности о местных особенностях. Тем вечером, после позднего обеда, мы с Эсме отправились по магазинам. К ней вернулось обычное веселое настроение, и она была полна интереса к окружающему миру, ухоженным садам и изящным деревьям, красивым ровным улицам, толпам феллахов, заполнявшим переулки, скрытым под вуалями женщинам, безвкусно одетым евреям и трезвым коптам, а также представителям других бесчисленных вероисповеданий, обитавших в этом городе, который всех принимал и практически никого не отвергал. Повсюду виднелись почти незаметные свидетельства того, что основателя Александрии до сих пор почитают. То и дело встречались надписи на греческом языке. Здесь были греческие кафе, базары и разнообразные лавки. Был греческий кинозал и греческий театр, греческие газеты, греческие церкви. Здесь два великих защитника нашей веры объединили усилия, чтобы даровать порядок и обновление этому древнему, пришедшему в упадок государству; точно так же Птолемей, следуя по пути богоподобного Александра, принес спасительную открытую новую династию в страну, погруженную в пучину разврата, — в тот час, когда были особенно нужны благородные вожди. С тех пор Египет всегда улавливал момент, когда возникала потребность в новых лидерах, со времен Клеопатры, которая так мечтала, чтобы Марк Антоний правил ее сердцем и ее судьбой. К сожалению, мы увидели очень мало примеров древнегреческого величия. Мы заключили сделку с кучером экипажа — он стал нашим гидом и отвез гостей в те части города, которые считал подходящими для европейцев, стараясь избегать арабских кварталов. «Очень грязно, — говорил он. — Очень плохо. Не nedif[891]». Это был мужчина примерно моего возраста, с большими честными карими глазами и маленькой, аккуратно подстриженной бородкой; он носил феску и европейский льняной пиджак с местными брюками, которые, по словам капитана Квелча, обычно именовались дерьмохватками. Нам не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться новоявленному восточному Чингачгуку, и он в итоге остановил экипаж на большой, внушительного вида площади. — Площадь Мохаммеда Али[892], - объяснил он нам. — Хорошие европейские магазины. Я подожду вас здесь. Он не потребовал денег и помог нам высадиться, а потом зажег тонкую сигарету и встал, насвистывая какую-то песенку, в нескольких шагах от экипажа. Я сделал все возможное, чтобы убедиться, что смогу найти его снова. Напротив над роскошными цветниками возвышалась большая конная статуя (по-видимому, самого героя, в честь которого назвали площадь). Обширное пространство окружали многочисленные официальные здания, построенные в обычном европейском стиле; здесь была готическая церковь и сооружение (я принял его за банк), очертаниями тоже напоминавшее церковь. В другой части площади блестели витрины кафе, элегантная обстановка которых могла соперничать с лучшими парижскими заведениями; бледные европейские леди и джентльмены пили чай и с интересом обсуждали других европейцев, которые грациозно шагали мимо, направляясь куда-то по своим делам. На меня производила все большее впечатление аура покоя и хорошего вкуса, а когда мы вышли на Рю Шариф Паша, то с удивлением обнаружили, что улицу заполняют магазины, подобные которым можно было найти только в крупнейших европейских столицах. Я как будто перенесся в Петербург, в те дивные свободные месяцы первых лет войны. Одесса, исполненная роскоши и самоуверенности, тоже была богатой и счастливой. Когда я заговорил об этом с Эсме, то испытал небольшое разочарование: она уделяла мне куда меньше внимания, чем содержимому витрин. К тому времени, когда вечерние крыши залил свет кроваво-красного солнца, мы посетили три магазина платьев, шляпную и обувную лавку, и Эсме пресытилась шелками, бусами и страусовыми перьями — по крайней мере, до прибытия в Каир. Я не мог отказать возлюбленной в этих мелочах. Она наверняка не забыла о моем предательстве. Однако она была настолько добра, что ни разу не вспомнила о том моменте, когда, оказавшись в чужой стране, смотрела в лица встречающих и не могла отыскать меня. Когда мы вернулись к нашему преданному вознице, солнце уже почти зашло. Якоб помог уложить покупки Эсме в экипаж и потом, болтая на смеси арабского, французского и английского, быстро повез нас обратно в отель. Эсме излучала довольство, как человек, все желания которого исполнились, и нежная улыбка появлялась на лице моего ангела, когда она вспоминала какое-то особенно привлекательное платье или драгоценности, которые она еще надеялась получить. Я завидовал ей и ее простым удовольствиям. В тот день, как много раз случалось в прошлом, я воображал себя отцом, живущим ради ребенка. Просто изумительно — всего несколько соверенов могли подарить такое необыкновенное счастье девочке, которую я любил. Самый воздух, что мы вдыхали, пах медом, то был вечерний аромат гиацинтов, и левкоев, и роз, высаженных англичанами во многих древних столицах. Мы смотрели, как небо темнело, становясь фиалковым, цвета глаз райской девы, а море в лучах садившегося солнца делалось алым, как ее губы, и, когда наша коляска притормозила, чтобы пропустить группу одетых в килты горцев, возвращавшихся с какого-то музыкального представления, Эсме обняла меня маленькими мягкими ручками и поцеловала меня нежными губами, дрожа как дитя. Она сказала, что я единственный человек, которого она любила по-настоящему. — Мы родились друг для друга, — добавила она. — Мы принадлежим друг другу, ты и я, мой любимый Макс, mon cher ami, mein cher papa[893]. — И она повернулась к темневшему морю и рассмеялась, как будто внезапно испугавшись глубины собственных эмоций. Она дрожала. Становилось прохладно. — Давай вернемся, — прошептала Эсме. Я навсегда запомню Александрию такой: вечером жара отступает, и ветер начинает покачивать пальмы и кедры на склонах гор, и появляются огоньки, один за другим, круг за кругом, словно драгоценности, украшающие какую-то богатую вдову, и запахи моря и пустыни смешиваются, и повозки, мчащиеся по улицам, замирают на миг, словно ожидая перехода от дня к ночи, как будто этого перехода может не быть… И я помню мгновение высшего счастья, когда возлюбленная назвала меня своим другом. За всю свою жизнь я испытал лишь несколько подобных моментов. Я научился ценить их и не жалеть о том, что они миновали. Я навеки сохраню благодарные воспоминания о былой любви. Птицы умирают во мне, одна за другой. Vögel füllen meyn Brust. Vögel sterben in mir. Einer nach dem anderen[894]. И что с этим поделать?
Глава двенадцатая
Земля руин, мечтаний и смерти; земля пыли и призраков. Здесь родились все великие цивилизации планеты, и сюда они приходят, чтобы умереть. Здесь погибла Британская империя, без чести, без благородства, без друзей, как погибли прежде греки, римляне, турки и французы. Ибо британцы тоже вдохнули ядовитые семена Карфагена, почувствовали их сладость и отнесли их домой, в Англию, где семена получили более привычные названия и скоро прижились — точно так же иван-чай когда-то именовали в Помпеях «огненной травой». Преходящие империи так и не выучили два урока. Первый: нападать на Москву — это настоящее самоуничтожение. Второй: никогда не захватывайте Египет. Наполеон, единственный равный Александру полководец и философ, мог бы спастись, если бы совершил лишь одну из этих ошибок. Я не стану даже обсуждать «проклятие могилы мумии», миф, который и привел нас в Египет, но вера в такие чары отражает более глубокую истину. Проклятие навлечет на себя любая другая страна, если попытается вмешаться в дела Египта. Египет — суровая старая мать, которая жестоко карает нарушителей покоя ее старости; и особое наказание припасено для тех, кто пожелает «возродить» ее. Эта страна слишком устала для возрождения. Она хочет только того, чтобы ее оставили в покое, хочет жить в своих воспоминаниях и обломках своей славы. По ее собственным меркам, она может прожить как минимум еще тысячу лет. Большую часть этого профессор Квелч объяснил мне следующим утром, когда мы шли к особой платформе великолепной железнодорожной станции Роберта Стефенсона[895] (то были единственные британские монументы, которые могли соперничать с храмами и могилами фараонов). Я немного подустал. Я осушил некоторое количество бокалов портвейна с прекрасными благородными англичанами, служившими правительству его величества; ведь было Рождество. Им, конечно, предоставили отпуск на этот странный английский праздник, День подарков[896], когда все крепкие мужчины выходят на деревенские лужайки и участвуют в жестоких кулачных боях. И теперь, в недоумении пробираясь сквозь толпу нищих, портье, гидов и торговцев всеми мыслимыми подделками, я уже не чувствовал особенного огорчения от того, что не родился англичанином. Я жалел своих вчерашних товарищей, ведь им предстояло тяжкое спортивное испытание. Но, возможно, они были созданы из более прочного материала и уже готовились к бою с энтузиазмом, который у представителей другой расы непременно стал бы сексуальным? Конечно, сдержанность в ту ночь несколько ослабла, и их речь, как и их анекдоты, становилась все более и более колоритной, и в итоге Грэйс-гример и Вольф Симэн извинились и ушли. Я признался, что тоскую по бурной жизни, которую вел в своем прежнем отряде. Упомянул, что служил в одном из последних казацких полков, противостоявших красным. Описал злодеяния красных в Киеве и Одессе. Рассказал, какой дешевой стала жизнь, как лучшие девочки из хороших домов были готовы отдаться за щепотку соли или горсть картофеля. Мои собеседники ответили, что им Одесса казалась получше, чем Порт-Саид. В Порт-Саиде, как говорили, царило чудовищное беззаконие, даже хуже, чем в Александрии. Он был процветающим центром белой работорговли в Африке и на Ближнем Востоке, с которым ничего не могли поделать, потому что никто не обладал достаточной властью, чтобы справиться с сутенерами или с их товаром. Мои собеседники бормотали, что люди смирились с такими вещами, и благодарили Бога, что в Англии ничего подобного нет. Увы, они слишком поторопились! Это было еще до того, как болезнь пришла в наш дом. Сегодня половину Лондона не отличишь от грязнейших притонов Леванта, а юные девочки и мальчики совершенно открыто предлагают самые извращенные удовольствия. Мои знакомые в египетской полиции были бы напуганы, если б увидели то, что я вижу каждый день на Портобелло-роуд. И подобное стало настолько привычным, что больше никто не возражает. Когда же они устанут от своего «прогресса» и увидят, что же скрывается за этим словом? Зверь растет год от года; год от года все труднее отыскать обычную справедливость, обычную доброту и человечность. Когда же это закончится? Профессор Квелч, который не присутствовал на ужине, сказал, что, по его мнению, большая часть английской полиции теперь так же коррумпирована, как и вся полиция египетская. — В некоторых отделах очень распространено взяточничество. У меня самые верные сведения. Когда я упомянул о белом рабстве, он пожал плечами. Оно по-прежнему процветало, потому что главных дельцов защищали высокопоставленные чиновники, получавшие долю в прибыли и даровых мальчиков и девочек. — Конечно, многие британские чиновники не знают об этом, — ответил профессор. — Они полагают, что все в порядке. Кроме того, им известно, как трудно контролировать европейских женщин и их сутенеров. Полицейские, к примеру, могут войти в бордель только в сопровождении представителя той страны, гражданкой которой является мадам. И лишь полицейские отыщут в консульстве нужного чиновника — национальность мадам сразу меняется. Несколько лет назад попытались устроить облаву на сутенеров. В Каире у них есть собственный паша, уродливый субъект по имени Ибрагим эль-Гар’би, толстый, огромный черномазый, который одевается как гурия из арабских ночей. Я достаточно хорошо его знаю. Он — мужчина довольно остроумный и образованный. Если, мой дорогой мальчик, у вас есть какие-то «особые пожелания», то эль-Гар’би — это нужный вам человек. Я сказал, что мне подобные услуги не требуются, но на меня произвела впечатление глубина познаний Малкольма Квелча — он очень хорошо изучил Египет и его нравы, древние и новые. Я теперь окончательно понял, почему капитан Квелч настаивал, чтобы его брат присматривал за нами. Когда мы шли вдоль большого зеленого с золотом поезда к вагонам первого класса, Квелч во второй раз заговорил об оплате. — Пока не было никакого соглашения. Я задавался вопросом, к кому обратиться. Кто, в самом деле, наш квартирмейстер? Я полагал, что капитан Квелч уже уговорился о гонорарах с Симэном. Я был уверен, что профессору можно платить столько, сколько он запросит. — Как правило, — улыбаясь, он указал тростью на наш экипаж, — я оговариваю предварительную оплату — ежедневно в течение определенного промежутка времени. Если по каким-то причинам вы пожелаете расторгнуть соглашение, то я должен получить плату в полном объеме, за весь срок. Так как вас порекомендовал мой брат, то, полагаю, следует назначить три гинеи в день. На всем готовом, конечно. Это требование показалось мне разумным. Квелч мог работать техническим и историческим консультантом, когда мы приступим к съемкам. Профессору, очевидно, приятно было услышать, что его упомянут в титрах. — И мне понадобится нечто вроде письма, подтверждающего всем заинтересованным лицам, что я — член вашей съемочной группы. — Он возбужденно взмахнул рукой. — Понимаете, все должно быть прозрачно. Я не слышал о незаконной торговле археологической и исторической информацией, но заверил Квелча, что Симэн примет на себя все необходимые обязательства. Даже этот лишенный воображения швед мог заметить, что Квелч представляет для нас огромную ценность, особенно теперь, когда дело дошло до переговоров с египетскими чиновниками, которые, по словам Квелча и других англичан, становились все строптивее. «С тех пор, как мы дали им волю, тут началась настоящая анархия». Профессор имел в виду националистов из так называемой «Вафд», которые после серьезных беспорядков на улицах добились уступок от мягкосердечных протекторов и остановились только тогда, когда британцы вынуждены были подстрелить несколько человек из многотысячной толпы протестующих[897]. Квелч хотел еще что-то добавить, но тут зеленый с золотом локомотив, словно пробуждающийся гигант, издал глубокий, могучий вздох, грузчики, охранники и проводники, внезапно заторопившись, бросились по своим местам, а опаздывающие пассажиры (некоторые из них яростно спорили с гидами и носильщиками) начали забираться в вагоны. Плетеные корзинки с багажом бросали в двери и окна. Матери и няньки плакали или звали пропавших детей; пропавшие дети платили им той же монетой, а мужья и жены выкрикивали последние наставления отъезжавшим супругам. Я обрадовался, что для нас заказан специальный вагон и нам не придется терпеть вонь и неудобства от видавших виды английских матрон, злобных египетских торговцев и солдат, белых и туземцев, которые изо всех сил сражались за лучшие места, пока поезд отправлялся в путь. Все прочие члены нашей группы уже сели в вагон; они приехали на автобусе из отеля. Мы же с Квелчем, по его настоянию, посетили Помпееву колонну, весьма невзрачный обломок полированного гранита, установленный в память о древнем и не очень везучем колонизаторе, после чего профессор впервые завел речь о своемвознаграждении. Я понял, что он воспользовался возможностью перейти к делу максимально вежливо и деликатно, и заверил Квелча, что поговорю с Симэном. Из всех нас только миссис Корнелиус искренне обрадовалась, когда мы снова двинулись в путь. Симэн сидел в одиночестве в дальнем конце роскошного вагона, а между ним и нами расположились похмельные члены съемочной группы, вздрагивавшие при звяканье люстр. Он смотрел в окно, как будто уже планируя первые кадры. Я спросил миссис Корнелиус, что произошло, но она заявила, что Симэн просто капризничает. — С ним тшасто такое слутшается, когда он натшинает картину. На съемках «Любовницы ее муша» он и двух слов мне не сказал, даже тогда, когда мне надо было стоять перед тшортовой камерой. Или когда я оказывалась на тшетвереньках, а мистер Вилли[898] пристраивался сзади. Это, впротшем, даже успокаивает. Несмотря на ее слова, я прошел вперед и сел напротив Симэна, который обратил на меня взгляд, исполненный невероятной ненависти. — Боже мой, — проговорил я, — что же я такого сделал? Застрелил вашу любимую собаку? Он извинился и сказал, что уже представлял меня в роли верховного жреца, который обольщает миссис Корнелиус, отвлекая ее от исполнения долга, и становится причиной множества событий, что тысячи лет спустя приводят к трагической смерти двух современных влюбленных. Я написал эту роль сам. Я напомнил ему, что считал верховного жреца не только злодеем, но и жертвой. В основе моего сценария лежала мысль, что у Судьбы нет героев или героинь, у нее нет фаворитов. Однако у нас было вполне достаточно времени, чтобы обсудить интерпретацию роли. Я прервал Симэна и перешел к самому важному делу, к вопросу об оплате услуг Квелча. Симэн нахмурился. — Вы уверены, что он нам нужен? Он, кажется, мошенник. Не лучше, чем его брат. Я отказался даже отвечать на эти нелепые обвинения, заметив только, что у меня есть все основания полагать: Квелч для нас просто идеален. Нам вряд ли удастся найти другого человека, столь же опытного и полезного, меньше чем за тридцать гиней в неделю. Симэн пожал плечами, неопределенно пообещав составить необходимое письмо. Тем временем Квелч мог получить оплату за первые два дня, как только Симэн свяжется в Каире с «Куком»[899]; об этом заранее договорился Голдфиш. Я возвратился к нашей группе. Миссис Корнелиус присоединилась к профессору Квелчу, а Эсме, облаченная в наши недавние приобретения, сидела, задумчиво потягивая лимонад, поднесенный стюардом в феске. Он сообщил, что его зовут Иосиф и он в нашем полном распоряжении. Это был копт с гладкой светло-коричневой кожей и миндалевидными глазами, как мне показалось, не больше пятнадцати лет от роду. Он отличался веселым нравом и достойными манерами египетских христиан, что контрастировало со сбродом, с которым мы сталкивались в Александрии повсюду. Такой маникюр, к примеру, как у него на руках, могли бы сделать в одном из дорогих салонов на Рю Шариф Паша. От него пахло душистым мылом и розовой водой. Стюард сказал, что обед подадут в половину первого, и продемонстрировал нам раскладные столы, которые можно было поднять между сиденьями. Если честно, я начал размышлять об иронии своего положения. Совсем недавно я прятался под такими вагонами или ехал в товарных составах, думая только о том, чтобы меня не обнаружили железнодорожные копы! На протяжении всей жизни я испытывал взлеты и падения. Не знаю, стоит ли сожалеть об этих крайностях. Ведь они, во всяком случае, научили меня смирению и помогли лучше понимать проигравших. Эсме немного бесцеремонно поинтересовалась у профессора Квелча, сколько времени он прожил в Египте. — С начала войны, милая мадемуазель. Именно война и привела меня сюда. Я был связан с британской разведкой. Я занимался в основном турецким подпольем в Каире. — Он понизил голос до хриплого шепота, придавая своим словам тайный смысл, который, впрочем, нас не слишком занимал. — Разве вам здесь не нравится? — Эсме мечтательно смотрела на светлые, укрытые листвой улицы проносившегося мимо пригорода. Профессор Квелч снисходительно улыбнулся. — Египет может показаться страной, которую всякий готов полюбить, мадемуазель, но, когда человек сталкивается с реальностью, это обожание быстро уступает место чему-то другому, может, даже отвращению. Да, в Египте очень много такого, что вызывает отвращение — что там, настоящее омерзение! Вы приехали сюда зимой, когда погода просто идеальна. Весна, лето и осень — это одно бесконечное испытание! Они отвратительны. На протяжении всего года отвратительны насекомые, а в жаркую погоду они смертельно опасны. Еще более отвратительны пыльные бури, которые, вдобавок к прочему, бушуют в Каире весной. Пройдет год, и вам покажется невыносимым то, что сейчас вы считаете привлекательным. — Вы — циник, мсье! — рассмеялась моя малышка. — Отнюдь нет, мадемуазель. Если человек не боится капризов погоды и дикой природы — что же, есть еще и каирцы. Я говорю не о выходцах из глубинки и не о египтянах высших классов — и среди первых, и среди вторых многие остаются вполне приличными людьми, наделенными разнообразными достоинствами; но разве иностранцы с ними часто общаются? Нет, я говорю о каирских жителях низшего сословия. О них, мадемуазель, лучше бы и не говорить вовсе. Это шумные, грубые, надоедливые мерзавцы. Космополитизм здешней жизни вместе с естественной терпимостью и справедливостью режима, которым они так долго наслаждались, их не изменили. Можно с уверенностью сказать, что обычные европейцы (за исключением англичан, тем для дела нужно любить туземцев) ненавидят этих людей. И местные в большинстве случаев отвечают им тем же. Я уверяю вас, каирцы наиболее навязчивы в европейских кварталах города. На востоке и на юге Каира (в их обиталищах) эти создания, надо отдать им должное, ведут себя тише, вежливее и вообще могут оказаться полезны. Но окружение иностранцев, кажется, просто выбивает их из колеи. Египет — это неподходящая страна для белых людей; условия для белых здесь ненормальные и искусственные. — Но эти виды! — воскликнула миссис Корнелиус, пытаясь смягчить приговор. — Вы должны оценить здешние достоприметшательности, проф! Квелч согласился. — Возможно. По моему мнению, пейзаж и детали, если можно так сказать, облика страны также искусственны. Дельта — большой огород, который пересекают каналы. Верхний Египет — огород по обе стороны Нила. Остальное — скалы и пески пустыни. А внутреннюю часть страны я лично считаю непривлекательной. После того как вы увидите деревню, деревенскую мечеть, пальмовую рощу, холмы среди пустыни, процессию на верблюдах и несколько подобных вещей — считайте, вы увидели все, что следовало; дальше будут только повторения. Вывод; кажется, Египет, за исключением его истории и искусства, решительно неинтересная и даже отвратительная страна. — Тогда почему в Египет приезжает столько людей? — Вопрос Эсме звучал почти невинно. У профессора Квелча и на это был готовый ответ: — Белые приезжают в Египет по работе. Они, естественно, стараются увидеть лучшее там, где работают. Они не хотят говорить, что в Египте для них ничего нет, — и в итоге говорят, что пейзаж изумителен. И другие им верят. Но, поверьте, мадемуазель, мне, Египет — совершенно искусственная земля. Европа может быть изысканной. Англия кажется священной тем, кто ее хорошо знает. По сравнению с Европой в Египте ничего нет, кроме красоты, которую можно отыскать, если внимательно рассматривать холмы, воду и поля. Какие грезы могут вас посетить на египетском холме, или на египетском хлопковом поле, или на берегу египетского канала? Вы можете здесь обрести абсолютное уединение, но оно скорее объективно, а не субъективно. Вы можете восхищаться этим миром, но не можете стать его частью, если не хотите без всяких оговорок подчиниться ему. — Это меня вполне устраивает, — с сомнением произнесла миссис Корнелиус. — Закат прошлой нотшью был тшертовски хорош. Профессор Квелч кивнул, как будто соглашаясь, затем наклонился вперед и заговорил, внушительно понизив голос: — Красота Египта, мисс Корниш, зависит от иллюзии. Театральной иллюзии подходящего момента, удачного совпадения места и времени. Вы, разумеется, лучше прочих понимаете, как можно увидеть красоту в чем-то, созданном исключительно усилиями человека. Вы должны понять, какая красота вам откроется в Египте, и вы будете за это признательны. Мой отец, преподобный Квелч из Севеноукса, хотя он никогда не посещал Египет, написал превосходную книгу об исламской архитектуре, в которой указал на недостатки и просчеты в таких сооружениях; он объяснил, что слабость мавританской арки, например, отражает моральную ущербность самого ислама. Необычные рассуждения Квелча явно утомили Эсме и миссис Корнелиус. Мы пока не видели ничего, что могло бы подтвердить его мнение, но, несомненно, чтобы понять профессора, следовало прожить в Египте многие годы. Квелч, как он сам сказал, был писателем. Он писал о Египте и публиковался в Англии. Я спросил, как назывались его книги. Профессор поскромничал. Он ответил, что использовал псевдоним. Его также печатали в нескольких каирских издательствах. Квелч полагал, что немало сделал для решения эстетических вопросов. Миссис Корнелиус, которая восприняла сдержанность профессора как вызов, настаивала на том, чтобы тот раскрыл псевдоним. В конце концов он густо покраснел, скривился и признался, что его самый известный литературный псевдоним — «Рене Франс». Он предполагал, что под таким именем мог делать некоторые заявления, каких не мог бы сделать Квелч. Мы одобрили его выбор и сказали, что непременно отыщем его книги, как только прибудем в Каир. Профессор ответил, что с радостью поможет нам получить эти сочинения. Он заверил всех в том, что сумеет приобрести любое заказанное издание с немалой торговой скидкой. Эсме по-французски заметила, что профессор — явно не романтик. Он только пожал плечами в ответ. — Уверяю вас, мадемуазель, что вы сочтете красоту Египта brille par son absence[900]. Она — это в первую очередь изобретение нашумевших живописцев прошлого столетия, которые эксплуатировали наше европейское пристрастие ко всему экзотическому. Это мнение показалось неприемлемым почти всем женщинам и большинству мужчин. Мы приехали в Египет, чтобы снять экзотику и сделать из нее искусство. Мы не хотели слушать циничных рассуждений профессора Квелча о стране, которую он, по общему признанию, знал очень хорошо. Я прилагал все усилия, чтобы сменить тему. Уже в те годы я понимал сложность человеческой натуры, понимал, сколько противоречивых свойств и мнений может сочетаться в одной личности. Поэтому поспешные суждения о людях обычно несправедливы. Мне очень не нравится, когда теперешние юнцы с такой готовностью осуждают или хвалят людей, которых ни разу не встречали, как будто это их соседи или члены семьи. Я не таков. Я научился ждать. Я сужу человека не по его мнениям и не по тому, как он преподносит себя, — я сужу по его действиям. И, в конце концов, единственная истина — в тех поступках, которые люди совершают, ясно понимая последствия. Я сужу по тому, как они могут осознавать и контролировать свои поступки, я смотрю, насколько они осторожны и как стараются не причинять вреда другим. Если все, чему они научились в жизни, — это оправдывать свои действия, то неважно, насколько убедительны оправдания; я очень быстро устаю от общества подобных людей. Мир теперь стал достаточно скучным и унылым и без бредней старых мошенников, выдумывающих причины, по которым они должны были украсть цыплят у каких-то других старых мошенников. Circulus in probando, как сказал бы один из Квелчей. Iz doz mikh? Ikh farshtey. Ikh red nit keyn ‘philosophiespielen’[901]. — Какие ровные улицы в Александрии. — Я кивнул в сторону пригорода. — Такие же искусственные, как и весь Египет, — продолжал настаивать Квелч. Он презрительно взмахнул рукой, увидев яркие открытки с рисунками Дэвида Робертса[902], которые Эсме купила в отеле, а теперь показывала в качестве опровержения слов профессора. — Как раз то, о чем я говорил. Эти краски никогда не были настолько яркими, эти руины никогда так хорошо не реставрировали. Робертс провел здесь год. Еще до приезда он обнаружил, что можно построить карьеру, выбрав хорошую, оригинальную тему. И он прожил остаток жизни за счет эскизов, которые сделал в юности. Даже в то время его наброски казались гротескными и фантастическими. Если вы хотите получить именно такой Египет, милая мамзель, то, без сомнения, розовые очки вам помогут. Но не разочаровывайтесь, если великолепие фантазии Робертса не вполне соответствует нищете действительности. — Но это только Каир, — возразил я. — Дальше, вверх по реке, все, возможно, не так испорчено? — Не так испорчено? Старая проститутка ведь не станет не такой испорченной от того, что обслужит чуть меньше солдат? Египет, герр Питерс, испортили толпы завоевателей; дикие бедуины, греки, римляне и евреи, христиане, язычники-арабы, мусульмане, турки, итальянцы, французы. А теперь англичане, с их ностальгией по всему увядшему и бесполезному, делают старой карге романтические предложения! На протяжении всей истории человечества каждый проходивший здесь пехотинец мочился на какой-нибудь гордый египетский памятник, каждый вырезал на нем свои инициалы. Построенные иностранцами дамбы отравили Нил и заразили феллахов, которые больше не могут работать и только курят гашиш, чтобы позабыть о своих бедах. Как и в Китае, британцам удалось за несколько десятилетий уничтожить последний значительный ресурс Египта: выносливых и довольных рабочих. Теперь Египет может выжить только потому, что через него проходит самая короткая дорога в Индию для хранителя мира нашей империи, доброго старого Томми Аткинса[903]. Миссис Корнелиус захихикала. — Вы потшти всегда говорите как треклятый большевик, профессор! — Мои взгляды и впрямь несколько радикальны, — согласился он. — Но я предпочитаю именовать их абсолютно независимыми. Я не приветствую подражание, мадам. — О, да с вами все хорошо! — воскликнула она и протянула свой стакан Иосифу, чтобы тот смешал еще коктейль. — Должна сказать, тшто дьявольски рада слезть с этой лодки. Знаете какие-нибудь песни, проф? Кроме «Красного знамени»[904]? Обычно этот прием мог растопить любой лед — мы бы сменили тему и смягчились; но профессор Квелч устоял против искушений моей старой подруги. Он отодвинулся назад и скривил большие тонкие губы так, что в профиль теперь напоминал одну из тех чужестранных птиц, которые обитали в тростниках у реки. Миссис Корнелиус не стала развивать тему. По каким-то причинам ей нравился Квелч и она хотела видеть в нем только лучшие качества. Она наклонилась вперед и погладила его по колену. — Это ж не знатшит, тшто вам надо повесить нос, проф. Стойте на своем и натшот империалистов, и вообще. Он ответил слабой улыбкой, от которой кожа на его щеках сгладилась и обвисла. — Я не нападаю на империализм, мадам. Просто описываю факты. Империю нельзя сохранить только добрыми словами и отеческим попечением, как полагают в «Бойс оун пейпер». Нужна сила. Иногда — террор. Обычно лишь намек на террор. В этом отношении империя напоминает многие браки. И в его последнем замечании прозвучала такая сильная горечь, что миссис Корнелиус сразу заинтересовалась. Даже Эсме отвлеклась от своих игрушек. Но миссис Корнелиус хорошо понимала, что ей не стоит доискиваться разгадки сейчас. Я с удовольствием смотрел, как она очаровывала и успокаивала собеседника. Используя смесь лести, шуток и умолчаний, она вызвала на сухой коже профессора что-то вроде слабого румянца — впервые за многие годы на щеках его появилось некое напоминание о цветущей молодости. Через полчаса он пытался вспомнить слова «It Reely Woz a Wery Pretty Garden»[905]. Я восхищался невероятным дарованием своей подруги — она умела пробуждать в людях лучшие качества. Скоро Квелч начал с лиризмом вспоминать о детстве в Кенте, о зависти к братьям, которые не пускали его в свой мир, об одиночестве дома, о радостях школы. Его отправили в какое-то известное учреждение на побережье, неподалеку от родины, а оттуда Квелч поехал в Кембридж, где, по семейной традиции, предпочел классические языки. — Я археолог по призванию, — сказал он нам с заметной гордостью, — но, к сожалению, не по образованию. Богословие, сообщил профессор, никогда его не привлекало. Миссис Корнелиус спросила Квелча, хорошо ли он знает Лондон, но заметила, что собеседник замялся, и тут же отступила. Какое-то мрачное воспоминание, тягостная тень прошлого… Моя подруга быстро вернула Квелча в мир солнечного света, спросив, что он думает о Китае и Индии, где он побывал вскоре после отъезда из Англии. Профессор отвечал с приметным облегчением, его замечания были краткими и остроумными. Квелч сказал, что наслаждался работой в банке в Макао. С португальцами получалось очень легко ладить. Ему повезло, и он снял квартиру вместе с хорошо воспитанным уроженцем Лиссабона, которому пришлось какое-то время заниматься семейным бизнесом, прежде чем вернуться в португальскую столицу и сесть за письменный стол. — Мануэль теперь известный поэт. Но, подобно многим другим современникам, он вмешался в политику. Это опасная игра в нашем мире. Раньше политика была подходящим занятием для джентльменов, а теперь даже в Англии все захватили профессиональные политиканы. Это — смерть демократии, конец свободного представительства. А единственная альтернатива — правление толпы. Уже скоро Лондон станет похож на Александрию. И поделом… Снова этот всплеск мучительной ярости, соединенной со спасительным цинизмом. — Вы уверены, тшто не хотшете выпить, дорогой? — спросила миссис Корнелиус. — Может, лимонад? Словно старый брошенный кот, постепенно вспоминающий о радостях домашнего очага, постоянного питания и прикосновения любящих рук к шерсти, он позволил уговорить себя. Даже я, наблюдая за этим представлением, чувствовал, что окунаюсь в ту же самую теплоту, растворяюсь в огромных волнах внимания и заботы, исходящих от миссис Корнелиус. Она стала земной богиней. Она стала Изидой[906]. — Я в начале жизни был кем-то вроде грекофила. — Держа стакан с лимонадом в тонких пальцах, Квелч, передвинув один сустав за другим, свернулся в кресле, как фантастическое насекомое. — Но Афины стали невозможными с началом войны. — Тшистая правда. — Миссис Корнелиус убедила всех нас, что Афины ей знакомы с незапамятных времен. Уверен, она однажды посещала город, когда путешествовала со своим персидским плейбоем. — И вдобавок это ужасное дело, связанное с Лоуренсом. Скандал и все такое прочее. Да, все было надежно спрятано под сукно, но рты людям заткнуть не удалось. Я попытался заинтересовать издателя. Здесь есть несколько типографий, в которых выпускали мои небольшие брошюры, и я написал Сикеру[907] в Лондон, но, очевидно, теперь он интересуется только изящной словесностью. Полагаю, за нее неплохо платят. Восторженные сочинения последователей Гете и Фрейда. Вам наверняка известны такие вещи. — Ужасно, — согласилась она. Эсме смотрела на миссис Корнелиус каким-то новым взглядом, почти как теннисистка, следящая за подачей противницы. Меня не покидало разочарование: эти две замечательные женщины не могли стать подругами. Ведь дело не в том, что они соперничали, борясь за одного мужчину! У Эсме был я. У миссис Корнелиус был Вольф Симэн, который теперь то и дело бросал мрачные взгляды на покрытые солнечными зайчиками роскошные стены вагона. Наш поезд покидал Александрию, начиная путешествие мимо полей, болот и каналов полуострова, где дикие птицы взлетали, заслышав высокомерный рев локомотива, а старики отрывались от древних деревянных плугов, демонстрируя нам тощие руки и беззубые рты. Я сочувствовал беднягам, обреченным на такое существование, когда даже появление Каирского экспресса казалось интереснее, чем все прочие события. И однако же именно такие люди по всему миру обеспечивали успех нашего кино. Наконец-то неграмотная масса получила в свое распоряжение великое искусство! Неудивительно, что самая мощная киноиндустрия в мире сформировалась в Египте, Гонконге и Индии. И она стала средством управления людьми. Теперь крестьянину вовсе не требуется читать. Его даже титры отвлекают. Именно поэтому магнаты и их марионетки демонстрируют на экране насилие, ставшее естественным выразительным инструментом в кино. Хотя насилие ничуть не более «естественно» для кино, чем для романа. Мы создали эстетическую теорию на основе коммерческой выгоды и политического жульничества. Теперь новоявленные голливудские режиссеры могут по-ученому объяснить, почему мужа убили, жену изнасиловали, а злодея выследили и уничтожили во время автомобильной погони. Я спросил девчонку Корнелиус, считать ли противоположностью «свободы слова» «запертое слово», а может — «запирающее слово». Такое слово нужно, чтобы оправдывать и поддерживать мнения, которые больше не приносят пользы и не представляют моральной ценности. С помощью слов мы гораздо чаще запираем себя в тюрьму, чем освобождаем из нее. Vi heyst dos? Ikh red nit keyn ‘popsprecht’. Tsidiz doz der rikhtiker pshat?[908] Я смотрю эти телепрограммы. Каждую ночь мне приходится слушать англичан, объясняющих, почему они лучше всех остальных людей в мире. Турецкое телевидение, полагаю, теперь немногим отличается от английского. Я попросил, чтобы Эсме показала мне открытки и маленькие сокровища, которые она купила за несколько пиастров у разных продавцов антиквариата, произведенного в фараоновом Бирмингеме и на фабриках Одиннадцатой династии в верхнем течении Рура. Теперь у Эсме был небольшой медный козерог, бюст какой-то безымянной царицы, черная кошка из лакированного камня. Она обращалась с ними с нежностью и восторгом настоящего египтолога, который наконец добрался до сокровищ Рамзеса II, и для нее эти вещицы представляли столь же высокую ценность. Простая радость Эсме и энтузиазм миссис Корнелиус приносили мне счастье, которого я не испытывал уже в течение какого-то времени. Я начал чувствовать, что Америка сковала меня, что я позабыл об удовольствиях и преимуществах Европы, а теперь и Ближнего Востока. Россия превратилась в камеру пыток и кладбище. Мясники Коминтерна дрались за право перенять эстафету у Ленина и проливали все больше крови. Но, по крайней мере, в Европе остались такие страны, как, например, Италия, — те, что возрождались, обретая новые идеалы и надежды, новые силы для продолжения работы, которую многие тогда считали нашим долгом и нашим призванием. Я не стану утверждать, что поддерживал все действия Муссолини, но он подавал пример остальной части Европы, надеясь, что другие решат последовать за ним. Жители прочих стран погружались в бездны модного отчаяния, читая книги самовлюбленных романистов и посещая спектакли самовлюбленных режиссеров, сочиняя музыку, которую никто не хотел слушать, стихи, которых никто не мог понять, рисуя картины, что отражали только отвратительный хаос, царивший в слабых душах. На мой взгляд, в Америке не было такой усталости. Но если в Америке не было одного, это не означало, что она автоматически получала нечто иное. Я увидел там энергию, оптимизм и политическую отвагу, я нашел там деньги и хороших друзей, но я позабыл, что значит жить на земле, где каждое дерево и каждый холм свидетельствовали о готовности людей изменить собственный характер и окружающий мир. Тогда Америку заслуженно называли Новым светом, и это была новая монета, которую отчеканила Надежда. Какой ценной могла бы стать такая валюта! Но, разумеется, ничего подобного не произошло. Монеты американского идеализма теперь не стоят ни гроша. С Америкой случилось то, чего я больше всего боялся. Вашингтон — уже не столица Соединенных Штатов. Нью-Йорк управляет всем континентом. Мишоб Адер[909] больше не должен бояться бессмертия. Теперь в его распоряжении самая могущественная страна на Земле. Там Христос побежден, но в других местах Христос просто спит. Порабощенные большевиками миллионы поклоняются ему и помнят о нем. Христос просто ждет момента своего возвращения. Говорят, что Второе пришествие запоздало на тысячу лет, но мы увидим его в 2000 году. Тогда мне исполнится сто лет или, пожалуй, я уже буду мертв. Как это возможно: одна сила на словах служит Богу и вместе с тем все больше подчиняется власти сатаны, в то время как другая сила утверждает, что отменила Бога, и все же не в состоянии уничтожить любовь людей к Христу и стремление к Нему? Которая из двух, спрашиваю я вас, остается могущественной Церковью, истинной Церковью? Может, такова самая первая и самая древняя церковь — византийская, ближайшая к Божественному источнику, к началу нашей истории? Пусть баптисты и пресвитериане объясняют, как их церковь превратилась в орудие Карфагена, в то время как греческая церковь осталась последней великой преградой на пути сект сатаны. В 1926‑м, конечно, я не вернулся в лоно церкви и сохранил широту взглядов — в этом вопросе, как и во многих других. Единственное, в чем я был твердо убежден, — в своем призвании; я стремился помочь человечеству избавиться от страданий, используя любые доступные мне средства, шла ли речь о чудесах механики или о моих артистических талантах. Миссис Корнелиус, разумеется, разгадала это мое призвание, так же как она разгадала Малкольма Квелча, увидев измученного человека, любовь которого к миру была связана, возможно, с любовью к некой женщине. К какой-то лондонской красавице, которая отвергла его или погубила? Женщины часто могут увидеть в мужчине то, что недоступно и непонятно другим мужчинам. Я очень рад, что существует женская интуиция. Да, женщины то усложняли мне жизнь, то облегчали, но неизменно украшали ее. Мне не всегда удается понять требования феминисток. Как и они, я люблю женщин. Я восхищаюсь женщинами. Я полагаю, что у женщин есть много достоинств, которых лишены мужчины, много качеств, которых у мужчин никогда не будет. Несчетное число раз женщины дарили мне утешение и вдохновение. Иногда, конечно, женщина может стать бременем или угрозой, может стать причиной небольшого напряжения — если требует слишком много внимания, больше, чем уделяет ей мужчина. И что, из-за этого меня можно назвать поработителем женщин? Чудовищем? Надеюсь, что нет. Я с детства приучен уважать и почитать женщин. И что, я из-за этого становлюсь хуже какого-нибудь похожего на статиста из «Мужа индианки»[910] журналиста-хиппи, прижимающего к себе «чиксу», которая сама похожа на настоящую индианку? И это, по-вашему, прогресс? Я видел такой прогресс в Каире. Настало время завтрака, и столы были подняты. Мы проезжали по плоской серой земле — пейзаж, безусловно, подтверждал мнение профессора Квелча об однообразии Египта. На полях мы видели нескольких волов, иногда мелькали ослы и их седоки; немногочисленные смуглые дети и женщины склонялись над своими посевами, то и дело появлялись соломенные хижины или грязные деревни. Гораздо реже нам на глаза попадались признаки современной централизованной власти — британцы проводили политику, которую сегодня полицейские называют «сдержанной». Они уже пообещали местным полную автономию и самоуправление в пределах Содружества. Возможно, им пришлось так поступить. Война исчерпала их трудовые ресурсы. Содержание империи обходилось все дороже. — Мы проделали путь от дипломатии канонерок к дипломатии револьверов за пару поколений. — Малкольм Квелч показал, как заполнить местную лепешку фулом[911] и проглотить. — Скоро все, что у нас останется, — это дипломатия шоколадных коробок! И все мы знаем, как далеко это тебя заведет, дорогуша! Миссис Корнелиус поднесла пропитанную маслом питу к прекрасному рту. Она не сводила глаз с собеседника. — В моем слутшае хорошая коробка конфет всегда срабатывала, — сказала она. Ее губы сомкнулись, несколько капель начинки стекли по розовому подбородку. Миссис Корнелиус изящным движением пальца смахнула их. — Но я полагаю, тшто вы думаете, будто я малость старомодна. — Она облизала палец. У другого человека ответный жест получился бы учтивым, но профессор Малкольм Квелч не привык к такой непосредственности; он вздрогнул от удивления и выплеснул стакан лимонада себе на колени. Когда его белые брюки залила желтая жидкость, он медленно поднял тонкие руки к Небесам. — Тьфу ты! — О, надо же! — У миссис Корнелиус была наготове салфетка. — Бедняжка! Не волнуйтесь. Это не трагедия. Малкольм Квелч не ответил ей. Не опуская рук, по-прежнему поднятых как будто в знак капитуляции, он безнадежно смотрел вниз, на свою мокрую промежность, где поблескивали и мерцали кусочки льда. Потом, с видом человека, который получил некий недвусмысленный сигнал от недоброжелательного бога, Квелч откинулся назад с покорным вздохом, а миссис Корнелиус изящным жестом коснулась его колена.Глава тринадцатая
Величайший город Африки, Каир пахнет кофе, мятой, сточными водами, верблюжьим навозом и свежим шафраном; жасмином, пачулями и мускусом; сиренью и розами; керосином и моторным маслом. И еще он пахнет далекой пустыней и глубоким Нилом. Он пахнет древними костями. В переулках и на бульварах, переполненных памятниками пяти тысячелетий и десятка завоеваний, множество людей, европейцев, уроженцев Востока, африканцев и местных обитателей — и от всех этих людей пахнет одинаково: пот, розовая вода, накрахмаленная ткань, карболовое мыло, табак, ладан, макассаровое масло, чеснок. Запахи пропитывают парижские платья, костюмы с Сэвил-роу[912], свободные джеллабы или черные чадры. Поток трамваев, грузовиков и лимузинов, ослов, верблюдов, мулов и лошадей движется во всех направлениях по мостам, переброшенным через Нил в узких местах, между Старым Каиром и Гизой[913]. Этот постоянно движущийся поток людей и транспорта вливается в бесконечно запутанный лабиринт улиц, пока город не заполняется до отказа. Возле всех мечетей, церквей, синагог и алтарей толпятся мужчины, юноши и малые дети. Мешая друг другу, они пытаются продать туристам какие-то безвкусные фальшивки, чтобы путешественники могли навеки сохранить память о городе, который великий арабский поэт назвал Городом Книги, потому что здесь в течение многих столетий в относительной гармонии жили евреи, христиане и мусульмане, разделившие общий Завет. — Каир — ключ ко всему этому миру, — объявил Малкольм Квелч. — Он не похож на остальной Египет, и тем не менее здесь проявляются все свойства страны. Профессор сделал паузу и выглянул в окно, за которым виднелся оживленный бульвар; если бы не пальмы и фески, можно было подумать, что мы в Париже или Берлине. Каир оказался самым приличным, цивилизованным городом, который мне удалось увидеть после отъезда из Парижа. Когда мы попали в эту столицу, в самое сердце фанатичного интеллектуального ислама, все опасения и страхи рассеялись. Ваххабиты или «Вафд», неважно — эти фанатики не осмелятся явиться в Каир при свете дня. По совету профессора Квелча мы не стали останавливаться в известном отеле «Шепардз», где располагался офис «Кука» и куда стремились все наивные туристы. Подобные отели найдутся в каждом городе; люди, создавшие им репутацию, быстро покидают эти заведения. Мы оказались в окружении деревьев и цветов на площади Эзбекия в «Континентале», куда более спокойном месте, ведь в «Шепардз», по словам профессора Квелча, было всегда, днем и ночью, полно людей, которые считали необходимым посетить пирамиды, а потом пить послеобеденный чай в ресторане или потягивать коктейли в длинном помещении бара. И с этими невоспитанными любителями достопримечательностей, которые не могли сдержать жажду исследования, приходилось постоянно сталкиваться в коридорах. «И еще нелепая псевдобогема, — педантично добавил Квелч. — И те и другие вполне типичны. Если бы они не подчеркивали свою индивидуальность, было бы проще извинить их нелепые причуды». «Континенталь», как он говорил, напоминал лучший в своем роде отель «Бродстерс», где Квелч проводил каникулы в детстве. На мгновение его лицо приобрело задумчивое выражение, словно под его мысленным взором Сахара превратилась в кентские пески и он снова сжимал в руках красное жестяное ведерко и лопатку. Мы стали довольно близкими друзьями и жили в одной комнате в отеле, но той особой связи, которая существовала между мной и его братом, просто не возникло. Малкольму Квелчу недоставало очарования и оптимизма Мориса, его джентльменской способности почти мгновенно устанавливать непринужденные отношения практически со всеми. Мне все еще не хватало сдержанного легкого остроумия капитана, его энтузиазма по поводу литературы и искусств, его умения наслаждаться любым опытом. Возможно, я слишком быстро создавал себе кумиров в те времена. Я никогда не знал отца. Миссис Корнелиус всегда ассоциировалась в моем сознании с матерью, но капитан Квелч в результате загадочного, непостижимого процесса стал кем-то вроде отца. История (марксистский эвфемизм для описания ужасного триумфа зла в этом столетии) отняла у меня всю семью, так же как и возлюбленную. Я мужал в жутких, жесточайших условиях, и у меня осталась только жизнь, дарования и пара грузинских пистолетов — и с этим я должен был начать сотворение нового будущего. Мне очень жаль, что я не смог обосноваться, как первоначально планировал, в Париже или в Лондоне, в те полные надежд годы перед Депрессией и войной. Я мог бы создать настоящий инженерный бизнес. Мы переходили бы от мелких изобретений к крупным, а общественность все больше верила бы в мои способности. За десять лет я стал бы величайшим изобретателем-инженером со времен Брюнеля[914] или Эдисона, владельцем собственной компании с отделениями во всех западных странах, обширной империи технических ресурсов. Я неизбежно удостоился бы рыцарского титула. Великобритания смогла бы крепче держать свою империю, исполнила бы христианский долг и получила бы первый из моих великих летающих городов! Вместо этого я остался униженным изгоем в мире науки и разума; я увидел, как все мои мечты украли, обесценили, извратили. К концу войны я уже продумал своеобразную печь, которая могла использовать радиоволны, чтобы нагревать еду, готовя ее с невероятной скоростью. Я назвал это устройство «радиопечью» и с энтузиазмом рассказывал о нем в «Портобелло Стар»[915] находившимся в увольнении авиаторам, людям технически грамотным, интеллектуальным, приятным в общении. Как выяснилось, даже более чем технически грамотным — они использовали мои идеи, выдали их за собственные и создали выгодный новый бизнес! Прекрасный пример злоупотребления гениальной мыслью! Я хотел принести пользу усталым домохозяйкам. В моем идеальном будущем «радиопечь» Пятницкого украсила бы каждый дом, став величайшим примером рационализации со времен появления пылесоса. Я уже перестал надеяться на то, что найду в мире справедливость. Отец, наверное, помог бы мне избежать многих опасностей и ловушек. Да, конечно, у меня был Коля, который немного помогал, и еще капитан Квелч и, разумеется, миссис Корнелиус, но отсутствовало постоянное наставничество, никто не держался за штурвал, когда моя потрясенная душа была брошена в водоворот враждебных течений устрашающего столетия. Говорят, мне нужно гордиться, что я все-таки выжил. Я спасся от сталинской резни, от истерии нацистов, когда они начали без разбора арестовывать всех предполагаемых евреев. И именно за эти две вещи я благодарю Бога больше всего. Один только Бог даровал мне храбрость, мозги и умения, которые спасли меня от предельного унижения, от падения или, по крайней мере, от смерти. Профессор Квелч часто отмечал: «Это одна из шуток Бога. Он щедро наделяет нас разумом и чувствами, а потом не может дать нам средства, позволяющие извлечь максимальную пользу из этих даров. Не здесь ли главная проблема человеческого существования?» Его, как и меня, обманом лишили наследства. Всю его семью погубил бесчестный адвокат, игравший на бирже. А семейство, между прочим, по женской линии состояло в родстве с Маулеверерами[916]. — Целую тысячу лет люди считали нас необычными. Поскольку для таких археологов, как он, получивших классические степени, в университетах мест недоставало, Квелч решил, что никогда не погрязнет где-нибудь в глуши, как его брат в Англии. — Управлять толпой тринадцатилетних нерях-мальчишек совсем рядом с тем местом, где мы родились… Что за черт! Я не могу поверить, что он счастлив. Какая судьба, а? Я ответил согласием; казалось, профессор ожидал именно этого, но мне почудилось, что в его голосе звучали нотки зависти. Он отчаянно мечтал сделаться авантюристом, как и брат-моряк, но по характеру был куда ближе к более консервативному близнецу. Я решил, что здесь кроется основное противоречие его натуры. Я мог представить, как он сопровождал чинно шагавших парами египетских школьников, облаченных в серую форму английского покроя, как он по субботам читал им у пирамид лекции о величии их общего прошлого. Лекции, в которых истории Британской империи и Египта странно переплетались, как, возможно, и случалось во времена Птолемея, или Августа, или даже (только предположение!) Сулеймана, когда Аравийская империя достигла вершин могущества, богатства и либерализма, когда она несла свет науки, литературы и естественной истории всему Средиземноморью и подарила Европе математику, научные инструменты, алхимические и медицинские знания. И все это вопреки исламу! Но потом, когда стали очевидны траты на содержание империи, мавры и их единоверцы снова принялись ссориться друг с другом и, неспособные преодолеть эту стадию общественного развития, начали медленно погружаться в пучину варварства. Люди, которым некогда все завидовали из-за их декоративных искусств, музыки, науки, поэзии и терпимости властей, прославились как самый жестокий народ в мире, как отребье Варварийского берега[917], лишенное чести, чистоты и представлений о грехе. И это стало их позором — ведь они были лучше, они знали лучшие времена. Здесь, в Каире, на некогда энергичных людей опустилась мертвая рука турка, и они терпели тяжелую хватку слишком долго. По правде сказать, египтяне вернули большую часть прежнего достоинства. Британцы уже предоставили им независимость с единственной оговоркой: должны остаться миротворческие и административные силы, которые защитят коммерческие интересы Британии в Суэцком канале. В те дни почти все англичане были, так сказать, старой закалки. Они хорошо знали свои христианские обязанности перед «варварских племен сынами»[918]. Сегодня уже немодно брать на себя ответственность за менее удачливых братьев. А тогда это была наша обязанность — предложить руку помощи, передать мудрость опыта, продемонстрировать, без всякого принуждения, выгоды и прелести христианской веры. Я не думаю, что это постыдная идея. Хорошие, храбрые мужчины умирали за нее, как и хорошие, храбрые женщины. Такова природа щедрого христианина — стремиться к тому, чтобы распространять Слово по всему земному шару, особенно в темных, жестоких и злых местах, где Свет Христа — единственное средство отогнать дьявола и его слуг. Если это — «империализм», тогда я — империалист. Если это — «расизм», тогда я — расист. И пусть рассудит потомство! Если, конечно, останется еще кто-то, способный читать или думать, когда подойдет к концу Темное Средневековье! Это — время Зверя, когда совесть и этика бессильны и люди, которые еще осмеливаются говорить, утверждают, что истина Христа осмеяна. В тот первый вечер в Каире, помнится, меня ошеломили жара и путаница огромного перенаселенного города, плотная смесь экзотического и знакомого, тонких, бледных сказочных башен и куполов, темно-зеленых конических тополей и гигантских кедров, пальм, массивных церквей, так странно напоминавших храмы моей родной земли, ярко одетых коптских женщин, красота которых была невероятна, почти невыносима. Я помню синеву залитого лунным светом звездного неба, ощущение присутствия бескрайних таинственных песков, окружавших нас. На улицах царило бесконечное волнение, даже когда они казались пустынными, внезапное эхо отдавалось в переулках с высокими стенами, в лабиринтах, которые никогда не удастся нанести на карту, ибо Каир — город миров внутри миров, лабиринтов внутри лабиринтов и водоемов внутри водоемов; склепы здесь приводят в другие склепы, а пещеры тянутся все дальше и дальше в прошлое, которое оставило на этой земле следы прежде, чем фараоны явились править Египтом, и через пять тысячелетий, как думают некоторые, большая часть этих следов еще не найдена. Немецкие и российские ученые теперь получили доказательства, что здешние обитатели прибыли на Землю в летающих городах с другой планеты. Это единственный способ, который позволяет им объяснить внезапный расцвет цивилизации на зеленых берегах большой африканской реки. Как еще мы можем воспринять технические чудеса египтян, долговечность их империи? Я никогда не был вполне уверен, как относиться к этим теориям. Я согласен, что трудно предположить, будто столь совершенные люди появились из пыли и грязи дельты Нила. Я прочитал текст Ивлин Во[919], посвященный этой теме, и написал ей, но ответа не получил. Я встретил ее потом, гораздо позже, в Королевском литературном обществе. К тому времени она уже давно одевалась как мужчина и стала полной и неприятной, хотя по-прежнему сохранила пресловутый монокль. Как сказал Дж. Б. Пристли[920], в честь которого устроили тот вечер, она могла притворяться мужчиной, но она никогда никого не убедит, что она джентльмен. Я так весело смеялся над этой шуткой, что Бард Брэдфорда — с радостным возгласом: «Педик, маленький сноб!» — предложил мне глоток виски из своей бутылки (все прочие пили только херес); как мне сказали, этот сорт пользовался заслуженной популярностью. Я пошел на вечер с Обтуловичем[921], авиатором-поэтом, последнюю подругу которого только чтоинтернировали. Если «мистер» Во прочла мое письмо, то она этого не признала. Она была излишне груба, когда я вернулся к обсуждению темы и поделился мнением, что единственное стоящее изобретение в Египте — это сигареты и стиль киношной архитектуры. Возможно, она хотела, чтобы я пригласил ее в кино. Она размахивала пустым мундштуком. Может, она просто надеялась, что я предложу ей экзотическую сигарету. Это мне снова напомнило о первом вечере в Каире, в ночном клубе, куда меня пригласил Квелч; клуб был очень похож на «Привал комедиантов»[922] в Петербурге — там царил безумный разврат, клиенты демонстрировали самые странные вкусы, как в одежде, так и в сексе. Квелч сказал, что мое смущение его удивляет. Со слов брата он понял, что я привык бывать в свете. В свете, ответил я, — совершенно правильно. В полусвете — не так уверен. Квелч после этого стал немного раздражительным. С его точки зрения клуб был лучшим местом для коктейлей и сплетен, но если я чувствовал себя неловко, то он с радостью отвезет меня куда-нибудь, где поменьше народу. — Хотя вы, возможно, сочтете это чуть менее simpatica[923]! Эта немного таинственная фраза так и не получила объяснения. Мы возвратились в бар отеля «Савой», где оказались почти единственными посетителями, не носившими формы, и где, как стало очевидно, людей гораздо лучше обслуживали, если их имена были известны персоналу. Поняв, что оказал Квелчу дурную услугу, я собирался уже предложить ему вернуться в «Кривую дорожку», но тут неожиданно узнал одного из мужчин, вошедших в бар. Загоревший, как всегда худощавый, с сединой в волосах, майор Най носил гражданский вечерний костюм. Как только я помахал ему рукой (мы с Квелчем неловко сидели на плетеных стульях у дальнего края бара), майор с видимым удовольствием приблизился. — Мой дорогой друг. Как же вам удалось попасть в Каир? Я слышал, что вы были в Соединенных Штатах. Между прочим, — добавил он, понизив голос, — никаких воспоминаний, ага? Я здесь как бы по секрету. Что? Естественно, я уважал его инкогнито и просто представил его Малкольму Квелчу как старого знакомого, еще с армейской службы на Дону. Извинившись и сказав, что приглашен на ужин, Най справился о миссис Корнелиус и был явно взволнован, узнав, что она тоже в Каире. Я говорил мало и осторожно. Майор настоял, что закажет нам еще по паре коктейлей (стюард после его появления стал гораздо благосклоннее), и добавил, что пришлет сообщение в мой отель. Мы встретимся снова, как только он разберется со своим поручением. Майор едва успел вернуться из Индии, как его отправили сюда, и он все еще оставался кем-то вроде новичка. Естественно, я понял, что он работает на правительство, и не расспрашивал о подробностях. Я заметил, что миссис Корнелиус будет рада узнать, что он в Каире. Майор, однако, словно бы не разделял моей уверенности. Когда майор Най отправился по своим делам, Малкольм Квелч предложил еще раз посетить «Кривую дорожку». Я согласился вернуться с ним в клуб, но, поскольку все еще чувствовал себя неловко, подумал, что с радостью оставил бы его там, а сам отправился бы в экипаже в отель. Когда коляска со складным верхом под слабый, невнятный шум везла нас по прохладным полночным улицам Каира, Квелч бормотал, что его брат рассказывал о «некоторой склонности к la neige». Я с небольшим удивлением признал: у ценителя может выработаться вкус к определенным препаратам. Я никак не ожидал, что этот довольно-таки чопорный человек использует жаргонное название наркотика. Профессор сказал мне, что он не одобряет кокаин и сам ни разу его не употреблял, зато стал неравнодушен к морфию, когда лежал после ранения в военной больнице Аддис-Абебы. Он сражался с самим Эль-оуренсом[924]. И офицерский чин получил по тем же причинам, что и Лоуренс, — из-за прекрасного знания обычаев и языка бедуинов. Лоуренс был великим человеком, который романтизировал свою жизнь до того, что поверил в легенду. — Мне кажется, это довольно распространенное заблуждение. Он романтизирует и свою смерть, если выпадет случай. Вы, конечно, читали его книги. Это сомнительное удовольствие мне еще только предстояло. Я полностью за секс. Но сексуальные излишества вместе с чрезмерным филосемитизмом, боюсь, не соответствуют моему старомодному вкусу[925]. А теперь, конечно, это — единая валюта телевидения! Не имея желания вспоминать о тех жарких, жестоких днях, я не пошел смотреть «биографический фильм»[926]. Некоторые более поздние произведения «Пустынного налетчика» посвящены Англии, но именно пустыня вдохновляла его по-настоящему. В глубине души он остался туберкулезным мальчиком-гомосексуалистом из центральных графств и умер, конечно, раньше, чем я прибыл в Англию. Или, по крайней мере, ходили разговоры о дорожном происшествии. В Мексике, я думаю. Возможно, он действительно хотел сохранить анонимность. Конечно, Малкольм Квелч утверждал, что у него был хорошо известный тип влечения — стараясь избегать эмоциональных связей, он занимался сексом только с безымянными партнерами. — Но, в любом случае, чувства у него были довольно сильные. Публикация ранних произведений Лоуренса о шахтерской жизни это доказала. Я не ханжа и всегда готов воздать должное даже самому непривычному искусству. Но все согласятся, что есть явные различия между указующим перстом истины и вульгаризацией простой порнографии! «Кривая дорожка», теперь более знакомая, казалась уже не столь непривлекательной, особенно после того, как один из друзей Квелча предложил мне мундштук слоновой кости с goza — трубкой с охлажденным водой гашишем. Как правило, я с подозрением относился к наркотикам, но посчитал, что могу расслабиться в этой компании: несмотря на декадентские склонности, она была значительно более терпимой, радушной и культурной, чем общество, которым я недавно наслаждался в «Савое». Я купил немного первоклассного neige у симпатичной молодой женщины в синем шелковом платье «чарльстон»; ее модная стрижка под мальчика напоминала традиционные прически египетских мертвецов. Бледно-зеленая косметика усиливала впечатление, что служанка какого-то покойного царя взяла выходной, чтобы продавать кокаин в европейском ночном клубе. Кроме нескольких длинноволосых мальчиков в чрезмерно свободных пиджачных костюмах (некоторые носили серьги и красились), местных здесь нашлось немного. Даже официанты были греками из Александрии, или, по крайней мере, так все они утверждали. Кровь настолько перемешалась в городах, что невозможно отличить одну расу от другой — остается лишь верить на слово. И люди еще думают, что южноафриканское правительство безумно! Возраставшая привлекательность «Кривой дорожки» напомнила мне, как легко и с каким ущербом для себя я превратился в богемного петербуржца, и потому, призвав на помощь свою обычную внутреннюю дисциплину, я оставил Квелча в обществе трансвестита, очевидно, старого друга, и поехал в коляске в наш отель. На полпути у меня попросили бакшиш[927] за определенные услуги — несколько маленьких мальчиков, группа молодых людей, две шлюхи и мой возница сопровождали свои предложения выразительными жестами. Я отверг всех остальных, но позволил мальчикам сесть в экипаж и немного подвез их по безвкусным улицам района Васа’а, который даже в тот час был ярко освещен масляными лампами из цветного стекла, электрическими фонарями, керосинками и свечами. Каждая лачуга обещала радости рая и искушения ада. Женщины из всех европейских стран красочно расхваливали свои прелести и таланты, в то время как негры-сутенеры, греческие «защитники» и итальянские capos[928] шепотом рассказывали о невыразимых наслаждениях; я пьянел от запаха духов, я терял рассудок от волнения, и все же было ясно, что обещанные наслаждения могут принести только неутолимый голод. Я познал этот голод в Одессе; потом в Киеве и в Константинополе. Но здесь он стал сильнее, чем прежде. Я ощущал мягкость уступчивой плоти; плоти, которая никогда не противилась, никогда не возражала; плоти, у которой не было морали — только цена; плоти, которая могла спокойно принять такие требования, какие не осмеливаются предъявлять даже самым верным и надежным возлюбленным. И мне казалось, что где-то слышался дикий, порочный свист кнута; кнута, который держал в руках я сам; кнута, который терзал меня. Моя плоть стала безымянной, и всю мою вселенную заполнила боль, похоть, еще большая боль и томительное, ужасное удовлетворение. — Они слишком уж тшасто пользуют свои тшортовы кнуты, — сказала миссис Корнелиус следующим утром, когда мы встретились в столовой за завтраком. За большими окнами с сетчатыми занавесками виднелись дивные зеленые сады и извозчичьи кареты. Площадь Эзбекия располагалась в самом центре европейского квартала. — Из-за этого хотшется гулять повсюду, так, Иван? Они с Симэном в тот вечер ходили в ресторан с местным представителем Голдфиша. Египетский рынок очень быстро развивался. Сэр Рэнальф Ститон, кузен паши Сторрса, настоящего хозяина Египта, стал теперь основным агентом ведущих британских, французских и американских студий. Он также работал как независимый продюсер, главным образом, сообщил он миссис Корнелиус, для туристического рынка в Каире и Порт-Саиде. — Он стшитает себя обытшным грубым йоркширцем, которому не по нраву ходить вокруг да около, — сказала она, приканчивая яичницу-глазунью, — но говорит он как шикарный богатей, которому нужно найти работу, а не дворецкого, голосующего за лейбористов и желающего, штоб ему зарплату за десять лет выплатили. В обтшем, он нам сказанул, тшто Каир — место выгодное и знатное. Все щас тащутся от Тутанхамона. Тут можно сделать много бабок. Но тут много и такого, тшто он называет нежелательным. Жулики и все протшее. Так тшто придерживай свой тшортов бумажник, Иван. Ты первым можешь попасться на удочку, и потом позора не оберешься. Мне представилась возможность рассказать о встрече с майором Наем. Стоило мне упомянуть его имя, как миссис Корнелиус просияла: — Милый добрый старикан. Я к нему неровно дышу. Он-то меня понимал. Даже когда я хотела вернуться на тшортову сцену. — Он, похоже, думал, что вы ему не обрадуетесь. — Обрадуюсь? Да я в восторге! Мне, тшорт побери, и правда пришлось взять взаймы несколько фунтов, тшоб поправить дела, и я никак не могла с им расплатиться, но тшо было, то было, да, Иван? Английский майор, очевидно, любил ее и боялся, что она вновь отвергнет его. Деньги он считал только барьером, который невольно возвел между ними. — И уж всяко, — добавила она, — это было тшертовски хорошее влошение денег. Я скажу Вольфи, тштоб он выписал ему тшек в стшот моей зарплаты. А он не говорил, тшто тут делает? Я был уверен, что Най выполнял секретное государственное задание, вероятно, связанное с проблемой бандитизма. Действуя, как обычно, под лозунгами национализма, негодяи убили пару чиновников и (совершенная нелепость!) взорвали несколько административных и военных зданий. Ни один нормальный египтянин им не сочувствовал. Сам король осудил эти действия. Лично он одобрял полное включение своей страны в состав Британской империи, при котором условия для обыкновенных людей неизбежно улучшались вместе с ростом безопасности самого короля. Ислам, как мы снова и снова обнаруживаем, обычно выбирает новых лидеров путем убийств и иных предательств, а не западными методами, менее драматическими и более продолжительными. Фанатики вроде Рошди из «Вафд»[929] угрожали не только жизни монарха, но и жизням всей его семьи. Король так же хорошо, как и все прочие, знал, что владычество закона — это синоним британского правления; в тот момент, когда слуги его величества уедут, страна вернется к кровной вражде, которая характерна для всех государств, знавших только рабскую зависимость от Турции, Багдада или, в наши дни, великих держав. С каким восторгом должен был думать король о сделанном выборе, какое чувствовал счастье, положившись на британцев! Араб хорошо понимает, кто для него лучший хозяин. Он привык только к хозяевам. Только о них он и может мечтать. — Он был в какой-то особой политсии, когда я про него в последний раз слыхала, — сказала она. — Полисмен в высоком чине. Занимался наркотиками или тшем-то подобным. Тебе лутше быть поосторожнее, юный Иван. Я ответил, что белые люди ничем не могут мне угрожать. — Каир теперь стал мировой столицей наркотиков, — продолжала она. — Опиум и киф из Ливана и Сирии. Кокаин в основном из Болгарии. Морфий, героин и все протшее. Сэр Рэнни стшитает, тшто все мешдународные бандиты имеют тут интересы. Полиция думает, тшто держит все под контролем. Они думают, тшто стоит оштрафовать или посадить нескольких дилеров — и все будет тип-топ. — Она рассмеялась. — Я скажу тебе, Иван, тшто в окружении всех эфтих жуликов я только рада, тшто сама в законе. В треклятом Уайтшепеле или Ноттинг-Дейле тоже дела идут паршиво, когда большие бандиты начинают свои разборки. Теперь я точно понял, почему Ставицкий и майор Най заинтересовались происходящим в этой части света. Такой значительный поток туристов обеспечивал возможность перевозки наркотиков — путешественники, вероятно, даже не подозревая об этом, доставляли товар на большой европейский рынок, где можно было получить огромные деньги. Египтяне высших сословий становились настоящими ценителями наркотиков, а бедные феллахи оказались основными потребителями гашиша и ужасного разведенного героина. Я уже слышал в «Кривой дорожке» рассказ о старухе, обитавшей у кладбищ Халифы и обнаружившей, что древние человеческие черепа можно превратить в приличный порошок, которым легко «разбавить» героин, употребляемый рабочими на карьерах и извозчиками. Существо, рассказавшее мне эту историю, считало забавным, что люди нюхали останки собственных предков и те проникали в головы живых. Меня от этого анекдота едва не стошнило. — Готова поспорить, майор здесь из-за наркотиков. — Миссис Корнелиус решительно подошла к стойке за следующей порцией. — Все дело в этом. В глубине души я поддерживал стремление властей уничтожить торговлю так называемыми черными наркотиками — опиумом и гашишем, которые отнимали у феллахов последние силы. Но казалось, что нелепо приписывать те же самые вредоносные свойства кокаину, ведь он всегда приносил пользу, был источником энергии, стимулировал воображение. А что касается морфия — если сделать его недоступным для таких ветеранов боев, как Квелч, которым требовалось заглушить боль старых ран, это будет просто жестоко. В отношении контроля за наркотиками следовало действовать избирательно и постепенно, как происходило с алкоголем, например. Я посчитал весь этот разговор довольно неприятным и попытался сменить тему, спросив о нашем великом режиссере. — Вольфи рано встал и пошел осмотреть пирамиды снаружи. Он хотшет поскорее приняться за работу. И тутотшки я с им согласна. Мне уже надоело ходить в штанах, Иван. Как же будет здорово, когда я снова смогу пудрить нос! И она от души рассмеялась и не сумела остановиться даже тогда, когда в ресторан почти тайком пробрался болезненно выглядевший Квелч. Он неохотно встретился со мной взглядом и затем еще более неохотно приблизился к нашему столику. Я отодвинул для него стул. Медленно и осторожно переменив положение, профессор уселся, присоединившись к нам. Квелч, видимо, боялся, что я могу поставить его в неловкую ситуацию. Его не было в постели, когда я утром встал; профессор появился только тогда, когда я уже уходил. Квелч пробормотал, что ему хватило времени лишь на то, чтобы быстро принять душ и сменить белье. Он мог в полной мере положиться на мое благоразумие — и когда это стало очевидно, профессор даже позволил себе улыбнуться в ответ на замечание миссис Корнелиус, что колбасы немного «странные на вкус» и могут оказаться «прямо-таки мусульманскими», то есть сделанными из верблюжьего мяса. Моя подруга снова продемонстрировала удивительную способность поднимать настроение людям, которые ей нравились. Ее напор, однако, был не столь явен, как накануне в поезде. Я подозревал, что теперь миссис Корнелиус распределяла энергию равномернее. Она назвала Квелча «беспутным песиком». Она рассмеялась и сказала, что, по моим словам, он не возвращался домой до девяти. — Вы опять шатались по ихним музеям и библиотекам, верно, профессор? Он с радостью изобразил согласие и даже захихикал, будто миссис Корнелиус как-то разгадала его самую ужасную тайну. Я с каждым часом все лучше понимал его характер! В подходящее время, возможно, когда мы будем плыть на корабле обратно в Лос-Анджелес, я действительно расскажу миссис Корнелиус, что в тот вечер в последний раз видел ее «невинного», когда он накачался наркотиками и имбирным элем и расслаблялся в объятиях экстравагантно одетого албанского трансвестита, не переставая с чувством цитировать самые вызывающие пассажи Ювенала[930]! Потрепав Квелча по щеке с видом любящей матери, которая была бы еще счастливее, если бы ее мальчик стал немного более мужественным, миссис Корнелиус поставила чайную чашку и поднялась из-за стола. — Я покину вас, шалуны, тштобы вы наедине побеседовали о красной тшерте. В шутку упомянув район до «красной черты», где находились лицензированные британцами бордели, миссис Корнелиус даже не догадывалась, что там мы с Квелчем и побывали на самом деле. А в тот момент встреча в отеле «Савой» стала достаточным объяснением нашего отсутствия прошлой ночью. — Наши репутации, дорогой мальчик, не пострадали, — прошипел Малкольм Квелч, подмигнув мне. Выражение его лица в тот момент немного напомнило мне наплевательскую беззаботность его брата, но оно исчезло почти тотчас же, как будто профессор понял, что слишком много мне сообщил. Все его лицо напряглось, а глаза сузились. — Это не должно ранить чувства леди. Я решил ничего не говорить. Как мало он мог сделать, чтобы потревожить чувства этой конкретной леди! Моя подруга была светской женщиной. Как и я, она жила своим умом на протяжении всей большевистской войны. В тех обстоятельствах люди очень быстро учились приспосабливаться. У мальчика Корнелиуса есть присказка, которую он, наверное, позаимствовал из какой-нибудь популярной песенки. Он говорит, что все мы должны «седлать волну и плыть по течению». Но у меня нет времени, чтобы разбирать его дурацкие сравнения с водными процедурами. Действительно, в определенных ужасных обстоятельствах человек приспосабливается, чтобы выжить. Но разве мы не должны гарантировать, что эти ужасные обстоятельства не возникнут? Если мы не научимся смирять аппетиты, мы обречены вечно подчиняться неуправляемым силам Природы. Новое романтическое движение на место «духа времени» выдвигает «онтологию» и «экологию», но все это — просто другое название иррационализма Жан-Жака Руссо[931], принесшего немалую пользу, поскольку мыслитель дал посмертное благословение террору — точнее, целому множеству терроров; некоторые из них продолжаются и теперь! Не слишком ли много развенчанных идеалов повидало это столетие? Был уже почти полдень, когда мы с Квелчем встали из-за стола и вернулись к себе в комнату, где профессор рассказал мне о наиболее важных египетских символах, которые я мог использовать в своих декорациях. В этом, как и во всем, чем я занимался, меня отличала добросовестность на грани одержимости. У меня уже скопилась большая пачка набросков, и для костюмов, и для декораций, и мой сценарий был завершен. Хотя мне отводилась и не главная роль, я чувствовал: эта работа с легкостью опровергнет предположение, что я стал лишь героем «промежуточных» проектов, — я предстану в лучшем свете, как истинно драматический актер. Я все еще не хотел сочинять роль для Эсме, но Симэн настоял на этом. Мне оставалось только согласиться с ним: смерть Эсме в последней части фильма, вероятно, вызовет у зрителей слезы, а до этого она появится лишь в двух сценах рядом с миссис Корнелиус. Таким образом, я объединил талант со стратегией, дипломатию с гуманизмом, чтобы помочь создать фильм, который должен был подтвердить все уроки Д. У. Гриффита, — романтичное, динамичное зрелище с сильным моральным подтекстом. Этого требовала аудитория — и я мог исполнить ее пожелания. Сегодняшнее кино утратило способность объединять два основных элемента — сюжет и мораль. Что же удивительного, если из-за этого оно теряет и зрителей? Даже в самые мрачные дни Веймара[932] нас воодушевляли эффектные истории. Конечно, нет ничего аморального в «Духе земли»[933]. В нашем фильме я достигну своих целей сразу на двух уровнях. Меня все больше увлекало воплощение величественной истории, в которой древность и современность были (как в гениальной «Нетерпимости» Гриффита или «Десяти заповедях» Демилля[934]) зеркалами, поставленными друг напротив друга. Я уже ощущал, что фильм почти готов. Ничего удивительного, что именно в этот момент мы с профессором Квелчем, поднимаясь из холла, вышли из электрического лифта, ступили на мягкий ковер и столкнулись с Вольфом Симэном, который, похоже, перегрелся на солнце и страдал от сенной лихорадки. Он покраснел как рак. В его глазах стояли слезы. Я предложил ему прилечь. Я сказал, что пришлю к нему кого-нибудь на помощь. Возможно, ему требовался доктор. Он говорил на бессвязном гортанном шведском. Я не мог понять ни единого слова. В руке он держал смятый листок желтоватого цвета — очевидно, телеграмму. После того как мы отвели режиссера в его номер и заказали ему большой джин с тоником, он смог объяснить, что зашел в офис сэра Рэнальфа Ститона по пути от пирамид. Сэр Рэнальф хотел увидеться с ним. Он от имени режиссера получил телеграмму от Голдфиша. В конце концов швед показал мне текст. Я помню все дословно:где вы тчк если не на месте немедленно сообщите где тчк прекратить производство тчк где ваша звезда после шербура тчк ждите дальнейших указаний тчк пс уехал ли он в Танжер тчк с. г.
Симэн был расстроен. Я, конечно, понял замешательство и даже, наверное, гнев Голдфиша. Задумавшись о своих собственных проблемах, я позабыл передать предшествующее сообщение, в котором нас просили оставаться в Александрии, пока не прибудет наша новая звезда. Теперь, похоже, звезда прибыла; обнаружив, что нас уже нет, а корабль Голдфиша готовится отбыть в Танжер, где капитана Квелча ждали еще дела, актер решил сесть на «Надежду Демпси». Я посоветовал Симэну расслабиться. Это было всего лишь одно из противоречивших друг другу посланий Голдфиша. Он их отправлял, когда начинал скучать. На следующий день мы получим еще одну телеграмму, отменяющую все предыдущие. Нам нужно действовать в обычном режиме и завтра приступать к съемкам. — Это было бы замечательно, — сказал Симэн тем тяжеловесным тоном, который он считал ироничным, — если бы сэр Рэнальф Ститон заверил все наши банковские чеки. У нас нет денег, джентльмены. Мы не можем заплатить обслуге, актерам и отелю без кредита от Ститона. Все наши средства — это то, что у нас на руках. А хозяин Ститона — Голдфиш. Ему нужно выполнять приказы Голдфиша. И я уважаю его за это. — Но завтра или послезавтра Голдфиш спросит, почему у нас нет отснятого материала, — сказал я. — Мы впустую потратим время, если будем уделять слишком много внимания этой телеграмме. — Он никогда не был столь настойчивым. — Вы просто никогда не понимали его, — холодно заметил я. Таким образом, постепенно я смог успокоить шведа достаточно, чтобы он согласился ничего не сообщать остальным. Это вызвало бы ненужное волнение. Тем временем мы начнем снимать, как запланировано, на следующий день, с самого утра, когда солнце, восходящее над пирамидами, станет фоном для нашей первой любовной сцены с миссис Корнелиус. Наша история должна стать реальностью! Мы с миссис Корнелиус появимся во вводной части как современные влюбленные, которых жестокость общества обрекает на разлуку. Мы встречаемся якобы в последний раз и обнимаемся под строгим разбитым ликом Большого сфинкса: я, Бобби Салливан, плейбой, очевидно, беззаботный и свободный от обязательств; она, Коллин Гэй, дебютантка, обрученная с честным сановником, чьему сердцу и репутации не хочет вредить. Потом зрители перенесутся примерно на три тысячи лет назад, в эпоху Царя-Мальчика. Теперь «Коллин Гэй», к несчастью, обручена с болезненным ребенком, которого она любит как брата и которому она предана. Я как новый молодой верховный жрец тоже верен Царю-Мальчику. Однако есть и другая, а именно Клеопатра-Эсме, которая также любит меня и готова погубить всю династию ради своих мелких целей. Когда Тутанхамона отравят — обвинят в этом, конечно, нас. Причина очевидна: наша почти не скрываемая любовь. Вольфу Симэну история показалась волнующей; он верил, что сюжет понравится аудитории, уставшей от его сексуальных комедий. Сам Голдфиш знал, что эта картина может сделаться фильмом десятилетия, который упрочит его репутацию даже больше, чем «Муж индианки». Голдфиш лучше многих других понимал ценность твердой морали, когда эпическое самопожертвование, предпочтительно и главного героя, и главной героини, становится поворотной точкой в истории, в конце которой добродетель получает заслуженную награду. Симэн все еще колебался. Профессор Квелч, который, несомненно, беспокоился о собственном гонораре, присоединил свой голос к моему, заметив, что только ему известны особые тайные места в пустыне, древние храмы и гробницы, которые лучше всего подойдут для съемок нашей истории. Сочетание подлинных мест действия, грамотного исторического подхода, сильного сценария и замечательных актеров с вдохновенным руководством Симэна должно привлечь обширную мировую аудиторию. Симэн нуждался в аудитории. Его прежняя пессимистическая ирония больше не интересовала зрителей, которые вернулись к довоенному оптимизму. «Пламя пустыни» могло приобрести массовую популярность; это и требовалось режиссеру. Такой успех был его единственным желанием. Подлинное художественное откровение погубило карьеру Гриффита, но Симэн всегда думал о рынке. В следующие десять лет он мог бы сделать состояние на Лаше Ла Рю, Тиме Холте и Сансете Карсоне[935], на приключениях, которых хотела жадная публика. И Симэн очень хорошо понимал, к чему стремился! Мы с Квелчем потратили весь остаток дня, убеждая Симэна и напоминая, что вся команда ждет только его сигнала, чтобы начать съемку. После еще нескольких порций джина он взял себя в руки и к шести часам потребовал общего внимания в небольшом конференц-зале, который мы наняли, чтобы обсудить предстоящую назавтра работу. Пришла даже Эсме, сидевшая в первом ряду в одном из своих самых очаровательных туалетов с кремовыми кружевами. Увидев ее, Симэн как будто оживился. Когда он обратился ко всем, объясняя наши обязанности и занятия, в его голосе звучала уверенность. Должен признать, что иногда втайне почти терял сознание от тревоги, опасаясь краха всех своих устремлений. Действительно, к тому времени, когда ужин закончился, мне едва удавалось скрыть беспокойство. В обычных обстоятельствах кокаин — замечательное средство для восстановления равновесия, но тогда он не оказывал никакого эффекта. Я редко сталкивался с подобными ощущениями. Тревоги посетили меня гораздо позже, чем многих других. Мои детство и юность были почти свободны от такого рода волнений, и только после того, как я стал понимать свою ответственность за других, начались подлинные страдания. И потом я нашел только одно средство избавиться от них — достичь сексуального удовлетворения. То же самое испытывала и Клара Боу[936]. До недавнего времени неукротимая похоть помогала мне отделаться от всех страхов. Но после 1940 года я в основном пользовался услугами местных проституток с Колвилл-террас и Поуис-сквер. Они ничего не ждали от меня. Я ничего не ждал от них. Боль и только боль приносит привязанность к женщинам, которых мужчина использует для освобождения Зверя, как я это называю. В 1926‑м я еще не пришел к такому выводу, и, как только ужин закончился, я обратился со своим делом к Эсме. Тогда я мог совершенно свободно посетить ее комнату. Миссис Корнелиус вместе с Вольфом Симэном собиралась провести остаток вечера у сэра Рэнальфа Ститона. Эсме чувствовала себя нехорошо. Я сказал ей, что принесу кое-что, способное вылечить больную. Через некоторое время, как будто устав спорить, она согласилась принять меня. К тому времени, когда я явился в комнату Эсме, я был готов отплатить своей возлюбленной за долгие месяцы неудовлетворенных желаний. Той ночью я не собирался щадить ее. И я обнаружил, что в ту ночь она и не ждала пощады.
Глава четырнадцатая
JE LA PRIS SAUVAGEMENT! Elle pleurait, grognait, criait. Je la griffai jusqu’au sang. Je la mordis. Je la pénétrai et le sang coula encore. Maiscela ne suffit pas à me rassasier…[937] Все прочее превратилось не в воспоминания — только во впечатления, которые со временем ускользнули от меня. Я снова сделал Эсме своей. На ней осталась моя печать. Теперь я видел в ее взгляде уважение. Ses yeux paraissaient de cuivre incandescent, sa chevelure luifaisait comme un halo de flammes, son corps etait couvert d’égratignures, d’empreintes laissées par mes dents et de marques voluptueuses…[938] И мои неприятности исчезли вместе с ее проблемами. Мы достигли взаимного освобождения. Я не сожалею ни о чем. Произошел акт конфирмации. Необходимо самому это испытать, чтобы понять. Очень жаль, что моей маленькой девочке после такого огромного напряжения утром снова нужно было работать. Когда мы садились в наемный экипаж, чтобы отправиться в отель «Мена Палас», где все собирались перед началом съемок, Вольф Симэн и О. К. Радонич посмотрели на нас с отстраненным любопытством, а миссис Корнелиус даже выразила явное неодобрение. Но все это меня не огорчало. Я — тот, кто следует за Повелителем. Я летаю подобно Ястребу. Я гогочу подобно Гусю. О владыка всех богов, избавь нас от бога, правящего проклятыми. Я обрел свою прежнюю силу и снова стал настоящим человеком. Я доказал, что управляю собственной жизнью, и намеревался и в дальнейшем сохранить над ней контроль. Меня не сбить с пути. Я не откажусь от своих амбиций. Я уже доверил часть этих мыслей Квелчу, пока мы утром готовились к съемкам, и он решительно поддержал мое новое настроение. — Все мы — рабы Судьбы, дорогой мальчик. Но наше дело — прилагать все усилия и притворяться, что это не так; наше дело — взять под уздцы собственных безудержных коней — или умереть в борьбе! Abusus non tollit usum[939]. Вот мой ответ тем, кто станет нас судить. — Он дружески опустил мне руку на плечо, когда я брился. — Девиз прекрасно подходит для этой ужасной страны, которая, я боюсь, может пробуждать все скрытые, даже самые невероятные страсти у существ обоих полов. Местные всегда знали об опасности. Именно поэтому так важно соблюдать приличия. Non nobis sed omnibus[940]. И это правило мы с вами должны принять. Мы, в конце концов, omnibus. — В голосе пожилого мужчины звучали утешительные нотки. Малкольм Квелч начинал демонстрировать глубину своей натуры, не схожей с натурой его брата, но столь же таинственной и влекущей. Он относился к Зверю с удивительной терпимостью, подобно священнослужителю, сознающему силу своей веры и убежденному в победе Святого Духа над сатаной и его армиями, но помнящему и те времена, когда он сам был во власти Зверя. Да, Зверь живет внутри каждого из нас. И от Бога мы получили дар — приручать Зверя любым способом, который мы выберем. Распутин понял это. Квелч делился своими мыслями о Боге, когда мы вместе ехали на запад, где располагались великие руины — знаменитые, но далекие, подобно всем великим творениям. Реальность оказалась поистине потрясающей. Когда мы пересаживались из автомобиля в небольшую открытую вагонетку, в которой должны были преодолеть по песку последнюю часть маршрута, я внезапно постиг колоссальный размер пирамид! Я понял, почему нельзя сделать снимок пирамиды, не уменьшив ее величины, — нужно отойти на значительное расстояние, чтобы передать форму объекта; из-за этого масштаб неминуемо утрачивается. Мы были блохами на ошметках Величия, личинками, ползающими у ног богов. Я никогда прежде не испытывал подобного страха — в тот момент мне открылось огромное могущество человека, который мог отдать все силы и все богатства своей страны строительству собственного памятника! С тех пор это великое могущество познал разве что Сталин. — Надо сказать, — к нам, держа над головой легкий зонтик, подходит миссис Корнелиус, — эти штуки не разотшаровывают. — Она смотрит на великую пирамиду Хеопса с тем же удовлетворением, с каким домохозяйка смотрит на идеально приготовленный пирог. Позади нас съемочная группа выгружает оборудование под взглядами множества местных мелких торгашей и нищих, которых отгоняют наши наемные охранники. Эти крупные мужчины подбирают юбки своих белых джеллаб, аккуратно орудуя длинными бамбуковыми тростями, без особой жестокости управляя неунимающейся толпой, из которой доносятся проклятия, мольбы, неразборчивые крики, грязные оскорбления и предложения продать нам все, чего могут пожелать наши сердца или наши тела. Слегка вздрагивая, Эсме придвигается поближе ко мне. Какое-то время она сидела рядом с Симэном. Она настояла на том, что должна поехать. Я в конечном счете согласился, что ей следует продолжить работу над картиной и сделать карьеру. В конце концов, наше будущее никак нельзя назвать полностью обеспеченным. Симэн просит всех показать себя с лучшей стороны, потому что чуть позже посмотреть на нас приедет сэр Рэнальф Ститон. Он не уточняет, что обращение Ститона к Голдфишу поможет вернуть финансирование. Хотя я не очень доволен актерскими амбициями Эсме, заставлять другого делать то, что ему не нравится, — просто не в моем характере. Как нередко говорил Малкольм Квелч: то, что человек делает в собственной спальне, — это вопрос личного вкуса; а то, что он делает в гостиной, всегда должно быть вопросом социальной честности. Я совершенно не сомневался в любви и уважении Эсме и полностью доверял ей, несмотря на нетипично ревнивое поведение миссис Корнелиус, которая рано утром поинтересовалась у меня, не собираюсь ли я поработать в Каире сутенером. Я спокойно и даже холодно ответил ей, что есть довольно значительные различия между сутенером и, к примеру, агентом. Я не видел ничего дурного в том, что мужчина готов поддержать свою невесту, которая стремится сделать карьеру. Большинство мужчин, со значением добавил я, стали бы ревновать, услышав о том, что их возлюбленные мечтают об успехе. И все же, как показали события, возможно, миссис Корнелиус испытала, пусть и ненадолго, искреннее беспокойство о сопернице, почувствовала некий намек на опасности, которые всем нам угрожали в будущем. Tel de l’acier en fusion, mon sperme emplit son anus. Je vous aime toutes les deux. Il n’y a aucun mal à être en vie. Wir steckten in einer Maschine, die weissglühend and weich war, die jedoch hartesten Stahl zerquetscht hätte. Das Mahlwerk serrieb uns. Blut spritze. Blut spritze. Sie wollten Vergeltung, den Tod. Sie baten um Gott, um den gnädigen, strafenden Jesus, der in dieser Stunde der Offenbarung über sie gekommen war. Plötzlich war ich missgelaunt…[941] Le sang jaillissait[942]. Больше я ничего не помню. Сладкая. Я любил. Сладкая, сладкая. Я любил. Сладкая. Нет больше сладкой, сладкой. Да, я любил. Коршун, посланный на разведку своими приятелями-падальщиками, раскинул крылья высоко вверху, на полпути к пику пирамиды, и подзорные трубы наблюдателей-орнитологов повернулись, чтобы не выпускать птицу из виду. Мы прибыли в одно время с экскурсией Британского орнитологического общества, организованной «Куком»: «Посмотрите на египетскую экзотику и повстречайте старых знакомых на зимовке!» Тур, как сказала мне одна взволнованная матрона, также включал посещение основных древностей. Дама вручила мне аккуратно свернутую сине-белую брошюру, написанную прозой, вполне достойной Уиды[943]. Прежде чем один из охранников вежливо выпроводил даму со съемочной площадки, я вернул ей листок и переключил внимание на камеру и нашего режиссера, который, подобно большинству из нас, облачился в удобную дорожную одежду. Подручный оператора даже надел шорты хаки, а сам О. К. Радонич щеголял в ярко-желтом костюме для гольфа, купленном накануне у «Дэвиса, Брайана и Ко» на Вест-стрит. Эти портные славились в Сербии утонченностью типично английского покроя. Конечно, на британском чиновнике, играющем в гольф, этот наряд мог выглядеть почти изящно. Но на Радониче он смотрелся так, словно серб позаимствовал курортный костюм Пьеро, причем на несколько размеров больше нужного. Однако оператор казался вполне довольным покупкой и носил костюм с таким видом, как будто наконец отыскал идеально модную вещь. Для Грэйса и его ящиков поставили палатку. Он помогал актерам и одеваться. По совету Симэна он нашел ассистентку — невысокую круглолицую еврейку. У нее был небольшой опыт работы в европейском салоне красоты в «Шепардз». Она оказалась умелой, хотя и неприветливой. Говорила она только на иврите, арабском и немного на французском, так что с большинством из нас почти не общалась. К счастью, Грэйс, как выяснилось, знал и французский, и иврит, и даже, казалось, несколько слов на арабском. Мои опасения, уже заслоненные событиями прошлой ночи, были позабыты почти полностью: я видел, что мы создали эффективную команду, способную работать в духе товарищества, который обеспечивает наибольшую результативность и наилучшие художественные достижения. Я, Эсме и Малкольм Квелч были не нужны на площадке, по крайней мере в ближайшие полчаса, пока Симэн читал сценарий и устанавливал свет и камеры; мы решили прогуляться у основания пирамиды. Квелч, привыкший к детям и старикам, которые непрерывно попрошайничали, размахивал в разные стороны своей ротанговой тростью; на его лице застыла тонкая насмешливая улыбка, точно он дразнил опасных собак. Каир был невидим, и единственными зданиями в поле зрения остались немногочисленные хижины, а единственным движением — медленная поступь верблюдов, катавших туристов. Вдалеке поднимались внушительные стены отеля «Мена-палас», массивного здания, которое Квелч назвал произведением «швейцарско-египетского» стиля. Проводники теперь именовали его охотничьим домиком предков короля Фуада[944]. — Мой дорогой друг, эти люди платят за романтику, а не за истину. Полагаю, нужно давать клиенту то, чего он хочет. Я пытаюсь приобщить их к подлинной истории Египта, но они просто отказываются слушать. Некоторые по-настоящему выходят из себя. На меня в любое время могут наброситься из-за упоминания какой-нибудь совершенно обычной детали. Хотите подняться наверх? Эти парни вам подсобят. — Он взмахнул тростью, указывая в сторону нескольких местных. Мужчины усмехнулись и ткнули пальцами вверх; по наклонным стенам удивительного здания можно было подняться до самой вершины, потому что неровные камни прилегали друг к другу неплотно. Я увидел, как нескольких туристов тянули или подталкивали мускулистые феллахи. Я оказался не совсем готов к такому смешению скучной обыденности и монументального великолепия, впечатление от которого не могли ослабить даже толпы туристов и феллахов, скопления повозок, ослов и рикш. Пока сотня «брауни»[945] щелкала и запечатлевала сотню одинаковых воспоминаний, Малкольм Квелч сделал паузу, чтобы понаблюдать за немецкой группой; туристы как раз забирались на верблюдов, намереваясь объехать вокруг сфинкса. — Как вы думаете, границы их мира расширятся? Или только станут шире задниц, которые и так слишком велики? — размышлял он вслух. — И они отправятся домой, убежденные в справедливости своего конформизма и ксенофобии? Нам угрожает опасность: мир становится все более открытым и более доступным во всем значительном разнообразии — и нужно бояться узости и замкнутости, бояться упрощенных представлений, которые мы, словно иммигранты-евреи, словно американские пилигримы, рискуем поставить как преграду на пути неконтролируемого притока новых сведений. Изумленные люди, наученные управлять Вселенной, должны сначала пробудить страх перед «внешним миром» в своих семьях, а потом очертить границы Вселенной, продемонстрировав, что они могут ее подчинить, создать систему ценностей только для того, чтобы утвердить свою власть над единственными существами, которыми они действительно способны править, — женами и детьми. Это, конечно, основа понимания ислама. Вот почему араб никогда не пойдет по пути прогресса по собственной инициативе. Он создал целую религию на основе оригинальных принципов, которые делают его идеальным слугой более могущественных государств и народов. Он всегда чей-то раб. Для того он и был воспитан. И предлагать ему иное — самое настоящее преступление. Ради чего устроены так называемые свободные египетские выборы? Эти египтяне требуют прав, которые британцы заслужили после многовековых испытаний. Если бы британцы сюда не явились, арабы вообще могли никогда не узнать такого понятия, как «свобода»! Они глумятся над нами, называют нас коррумпированными, говорят нам, что мы — жестокие завоеватели. А ведь именно мы принесли им европейское просвещение! Но способно ли оно породить просвещение арабское? Сомневаюсь. Их религия основана на невежестве и служит тьме. Никакого просвещения в исламе появиться не может. Это тупик. Здешние парни должны в итоге сделать выбор между бесконечной бедностью и неграмотностью, гордой, возвышенной бесчувственностью и если и не христианством, то по крайней мере некой формой светского гуманизма. То или иное — возможно, и то и другое — освободит их. Solve vincia reis, profer lumen caecis[946]. — Он сделал паузу, как будто стараясь скрыть что-то, чего сам не одобрял. — Я, к сожалению, унаследовал от дедушки легкий мессианизм. Мой отец, с другой стороны, в целом более мягкий человек, действительно не готовил нас к реальности. Пламень и сера дедушки Квелча имеют больше отношения к подлинным превратностям жизни, вы так не думаете? Он отвел нас с Эсме в сторону, за гигантский угол пирамиды; мы скрылись от съемочной группы, от потных бюргеров и домохозяек, успешных торговцев из Бронкса и скотоводов из Бразоса, вдов и докторов из Дижона и Делфта,скучавших детей и восторженных дев, заносивших синие строки в блокнотики размером с ладонь. Когда мы рассматривали бесплодные просторы Западной пустыни, мне пришло в голову, что мы могли оказаться на опустошенном Марсе и дивиться величественным монументам расы гигантов. Быть может, эти красивые, необычные фараоны и их царицы явились на космических кораблях с умирающей планеты? Такие идеи теперь стали основой дешевых фантастических романов и бессмысленных попыток доказать не только то, что нами когда-то управлял добродетельный народ со звезд, но и то, что Земля на самом деле плоская. Я бывал на таких встречах в Черч-холле. Миссис Корнелиус очень интересовали их телепатические представления, да и я, должен признать, всегда относился к теме непредвзято. У нее в запасе было несколько историй о, как она их называла, «экстрасенсорных фенах-оменах». Так же как и мне, ей не удалось пробудить в ком-то интерес к своим идеям. Она говорила, что пыталась «всутшить это тупым ублюдкам с Би-би-си, но они тшертовски заняты, делая свою мешанину из траха и выпивки, и им некогда подумать о правде жизни». Я ей объяснял: они верили, будто четко определили и приняли действительность, поэтому все выходящее за пределы этих определений оказывалось там нереальным. У меня возникли те же затруднения с журналом «Тит-битс»[947]. Человек оттуда взял у меня интервью о моих теориях, а затем ушел и напечатал материал, в котором самые серьезные вещи подверглись унизительному осмеянию. Все они превращают в фарс то, чего не понимают, — лишь бы не видеть реальности. Даже мой портрет изменили. Заголовок меня тоже не порадовал: «Тайны сфинкса раскрывает безумный ученый Макс». Такие люди не уважают ни себя, ни других. Я сказал бы им: «Ihtarim Nafsak!»[948] Да, бедуины еще знают это. Истинных мужчин ценят не за богатство, а за уважение, которое они вызывают у равных, и за восхищенный страх, что они внушают врагам. Никто не может уважать или бояться этих крыс из сточной канавы Флит-стрит[949]. Я говорил миссис Корнелиус, что она не должна унижаться до их уровня. Потянув меня за руку, Эсме отошла в сторону, и мы очутились позади профессора Квелча. Она прижалась ко мне бедром. Она казалась мягкой и послушной — такой я ее запомнил в Константинополе. Я считал это настроение и волнующим, и тревожным. Она внезапно вновь предложила мне нести ответственность за ее судьбу, ее жизнь и душу. Такая ситуация мне льстила, но не вполне меня устраивала. Я едва вышел из юношеского возраста и не был готов к роли вечного защитника женщины. Нет, я хотел заботиться о своей маленькой девочке, холить и лелеять ее, но не хотел становиться, по сути, первопричиной всего в ее жизни. Роль чьего-то идеала требует значительного напряжения сил. Я любил Эсме как дочь, сестру, жену, meyn angel, meyn alts![950] Она была всем, о чем я мечтал. И все же, все же я не мог доверять Судьбе, которая уже четырежды похищала ее у меня в разных воплощениях. Я жаждал согласиться. Я знал, что должен так поступить, если надеюсь убедить ее в своей преданности, — но все-таки я словно хотел снова провести между нами черту. Я всегда знал, как господствовать над нею, — но я боялся господствовать. Даже маркиз де Сад понял, что раб — не единственный заключенный; иногда господин в большей мере принадлежит рабу, хотя окружающие и не могут этого предположить. Я пережил унижения. Я понимаю, каково это. Но я не стал музельманом. J’entendis l’horrible fouet de Grishenko siffler dans Fair lugubre et gris. Nous criâmes au meme moment[951]. Малкольм Квелч махнул рукой, приветствуя свою знакомую — укрытую вуалью женщину средних лет, которая шла по песчаным плитам в сопровождении школьниц в соломенных шляпах, несомненно, дочерей дипломатов и солдат. Дети двигались знакомым неохотным шагом (подобное я наблюдал в музеях Киева и Парижа), темно-синие плиссированные юбки девочек покачивались в унисон, и я вспомнил отряд шотландцев, которых видел в последние дни Гражданской войны, когда белые и их союзники отступали к Одессе. Моя маленькая девочка казалась немногим старше этих детей. Я подумал, не следует ли обратиться за помощью к майору Наю, чтобы подыскать приличную английскую школу-интернат, где Эсме могла усвоить уроки нормального поведения и нравственной открытости, став впоследствии прекрасной женой для делового человека. Однако Эсме вслух высказалась об этих детях самым неподобающим образом, и мне оставалось только радоваться, что Квелч не слишком хорошо знал разговорный турецкий язык. — А вам понравился Каир, прелестная мадемуазель? — наш профессор вежливо включился в беседу. — Он очень милый, — сказала Эсме. — Особенно мечети. — Она смахнула муху со своего сине-белого зонтика. — И прекрасные деревья, и все прочее. — Каир, моя дорогая юная девушка, это город иллюзий. — Он сделал паузу, чтобы посмотреть на школьниц, которые мчались за тележкой итальянского мороженщика. Тележки почти не отличались от тех, что я видел на пляже в Аркадии. Я вышел на берег в Аркадии, когда «Эртц»[952] рухнул в море, но тележки, и оркестры, и симпатичные девочки — все исчезло. Только еврей встретил меня и отвел к себе домой. Он сказал, что работал в одесской газете. Он сказал, что родился в Одессе. Это не удивило меня. — И мы можем найти в этом городе всю красоту иллюзии. Но Каир — еще и город на границе, моя милая мадемуазель, со всеми особенностями такого города. — На границе чего? — с искренним любопытством спросила моя малышка. — Прошлого, я полагаю. Север опустошен, но Юг ждет нас. А вы интересуетесь прошлым, мадемуазель? — Я слишком молода для прошлого, — заметила она. — Меня в основном интересует то, что происходит здесь и сейчас. — Вот оно, поколение своенравных современных девушек, — сказал мне по-английски Малкольм Квелч. И он подмигнул, продемонстрировав, что просто пошутил. Я на том же языке заверил его, что Эсме — само воплощение добродетели и ее не следует судить по одной только модной одежде или кажущейся поверхностности. И Эсме, которой не хотелось оставаться в стороне от разговора (по-английски она знала совсем мало), спросила на французском, не пора ли обедать. Профессор Квелч ответил, что сейчас только девять тридцать, а еду из отеля, насколько ему известно, доставят в двенадцать. — Готовят превосходно. Исключительно повара, обученные британцами. Хорошо поняв профессора, Эсме бросила на меня взгляд, полный притворного отчаяния. Квелч, оперевшись на один из камней пониже, спросил, здорова ли она. Она просто начала прыгать по песку и в конце концов сняла одну из своих маленьких туфелек на высоких каблуках. — Мои башмачки, — сказала она. — В них полно этой ужасной штуки. Мы уже почти целый круг сделали? — Боюсь, что пока нет, очаровательная леди. Остались еще две части золотого сечения, чтобы закончить разговор, прежде чем мы заметим наших друзей. — О Максим! — Все еще прыгая, моя любимая указала на двух мужчин, которые несли на плечах потертое кресло. Мне следовало договориться с этими бездельниками о цене, чтобы они донесли мою малышку, пока мы с Квелчем пойдем дальше пешком. Я объяснил профессору, как будто поделившись секретом, что Эсме провела беспокойную ночь и все еще не оправилась от усталости. Квелч понял меня. Связь между нами крепла. Она отличалась от полноценного товарищества, которое соединило меня с его братом, но все же я не противился этому. Мое уважение к опыту и познаниям Квелча было значительно, и я гордился тем, что профессор готов поделиться со мной своими богатствами. — Копты, а не арабы — истинные сыновья этой земли. — Он указал на полустертую надпись, сделанную в давнюю эпоху. — Какой же парадокс… Сам Пророк не считал христианство враждебным исламу. По сути, мусульмане — настоящие чужаки, а копты — настоящие аборигены. И сегодня сограждане-мусульмане не любят коптов-христиан, несмотря на прекрасные слова красноречивых молодых людей о братстве всех египтян, объединившихся против Злого Чужестранца! — Он почти издевательски подмигнул мне, когда мы миновали третий угол пирамиды. — Вас интересуют парадоксы, мистер Питерс? Я сказал, что, будучи инженером, очень интересуюсь решением парадоксальных задач. — Тогда вы — человек своего времени! — Он засмеялся — как будто подняли тяжелый засов, не использовавшийся много лет. — Боюсь, я принял иррациональное. Теперь оно почти норма. Но вы еще достаточно молоды, чтобы думать, будто можете переделать мир к лучшему. — Он внезапно оживился. — Бог Христа — ipso facto[953] бог случая. Он обнял меня за плечи, похлопал по шее, как старший брат, будто обещая поддержку и одобрение. Возможно, он, младший из Квелчей, всегда мечтал установить отношения, в которых был бы лидером. Я думаю, со мной он их и искал. Этот человек отчаянно нуждался в протеже, а я все еще мечтал о наставнике. Возможно, я слишком уж много позволял Квелчу — и об этом мне позднее пришлось пожалеть. Мы миновали четвертый угол и оказались позади наших коллег. Окруженные толпой местных мелких торгашей, они собрались вокруг большого туристического автомобиля. Все потягивали лимонад, который разливал безупречно одетый слуга в феске. На заднем сиденье огромного «мерседеса» расположился маленький смуглый человек в белом атласном костюме и блестящей панаме, которую он снял, когда ветхий паланкин Эсме опустился и взметнулись клубы пыли. — Познакомьтесь с боссом, — сказала миссис К., представляя нас сэру Рэнальфу Ститону, в руках которого теперь находилась наша судьба. Мы приветствовали его с энтузиазмом пассажиров, потерпевших кораблекрушение и узнавших о спасении. Он, пожимая руку Эсме, откликнулся с энтузиазмом, вдвое превосходившим наш. — Какое восхитительное зрелище! Наверное, это наша вторая прекрасная звезда! Садитесь в автомобиль, леди. Мне нужно все о вас узнать. Я удалился от миссис Корнелиус и моей Эсме, пока они жеманничали вокруг сэра Рэнальфа. Он был в руках профессионалок. Я мог положиться на них; они ловко делали свое дело, и всем остальным оставалось только ожидать позитивных результатов. Вольф Симэн расстегнул рубашку, стал пунцовым и притворился, будто поправляет какую-то деталь в своей кинокамере. Когда я заметил, что девочки теперь — наш самый крупный актив, он пробормотал что-то язвительное о собственном таланте, который всегда был лучшим нашим достоянием. Он как раз собирался развить эту тему, когда загудел клаксон и мы, улыбаясь и стоически оставаясь любезными, обернулись к сэру Рэнальфу, который заканчивал раздавать аккуратно упакованные обеды и ужасные бутылки «Басса»[954]. Как я сожалею, что не смогу вас пригласить на второй завтрак в «Мена-палас», — сказал маленький человек, склонившись, чтобы поцеловать изящную розовую руку миссис Корнелиус изящными розовыми губами. — Но мы скоро что-нибудь устроим. — Вы должны еще получить известия от наших хозяев в Голливуде, как я полагаю? — спросил Симэн. Боюсь, что так, мой юный друг. Сейчас праздники, понимаете? Во Флориде, и в Вермонте, и в прочих местах — куда ни обратись, все уехали на Рождество и Новый год. Валентино, очевидно, отбыл из Гавра шестнадцатого января. Я отправил запрос в Александрию, и, судя по всему, мистер Бэрримор вышел из отеля, а потом в течение нескольких дней его не видели. Есть предположение, что он пересел с «Надежды Демпси» на яхту лорда Уитни, которая отправлялась на Корфу в новогоднюю ночь. — Бэрримор? — спросила миссис Корнелиус, балансируя на подножке автомобиля. — Какой? — Отсутствующий исполнитель главной роли, милая леди. Я ужасно сожалею, но вы, как предполагалось, должны были с ним встретиться, понимаете ли, в Алексе. Все очень опасались, что он потеряется, если вы не соберетесь там вместе. Очевидно, телеграмма не дошла… — Их было так много, — сказала она. — А это Джон или Лайонел? — осторожно спросила Эсме. — Я только знаю, что не Этель[955]. Но Джон не один раз посылал кого-то вместо себя, а сам отправлялся по делам. Он, как мне кажется, вроде бы розыгрыши любит. В его слабом, но ясном голосе слышалась какая-то особая мелодия, напоминавшая сдержанное пение канарейки. Голос стал звучать иначе, мягче, когда сэр Рэнальф обратился к женщинам, словно он стремился загипнотизировать собеседниц. Я никогда прежде не слышал такого голоса, и он мне показался не особенно приятным. Мне померещилось, что миссис Корнелиус почувствовала отвращение при его звуках, но изо всех сил постаралась скрыть неприязнь и продолжала вежливую беседу. Она явно испытала облегчение, когда смогла отойти. И тогда настоящей звездой стала Эсме, которая сумела показать, что с крайней неохотой расстается с человеком, наделенным непреодолимым обаянием. Он, в свою очередь, пожимал ей руки, гладил по щеке, нашептывал комплименты в ее крошечное розовое ушко, а потом позволил ей медленно удалиться, прежде чем переместил свое массивное тело с заднего сиденья на переднее и, нетерпеливо взмахнув рукой, приказал шоферу возвращаться в Каир. Как только автомобиль скрылся из вида, Эсме сжала мою руку. — У нас правда сегодня не будет нормального обеда? — Она брезгливо осмотрела свертки, еще остававшиеся в корзине. Симэн со вздохом остановился, чтобы забрать свою порцию. — Похоже, мы сейчас на испытательном сроке. По крайней мере до тех пор, пока не получим известий из Голливуда. Сэр Рэнальф по секрету сказал мне перед отъездом, что я не должен ни о чем волноваться. Он, кажется, и впрямь на нашей стороне. Миссис Корнелиус посмотрела на него с удивлением и сочувствием. — Этот мелкий жирдяй — просто жадный ублюдок, попомни мои слова. Он только о себе думает, и он уже потшти сделал тшо хотел. Но ему истшо тшего-то надо. Давайте снимать, пока не стало тшертовски жарко и пока у меня тушь опять не потекла! Я наблюдал, как обе женщины направились к своим костюмам, призывая Грэйса и еврейку. Малкольм Квелч обзавелся складным стулом и садовым зонтиком. Он сидел чуть поодаль, разложив обед на коленях, и наблюдал за маленькими местными обитателями, которые носились вокруг нас, вопя от возбуждения, высовывая языки, а иногда показывая на свои задницы — было невозможно понять, в чем смысл жестов, в приглашении или оскорблении. Квелч относился к этому вполне спокойно и добродушно, но, если какой-нибудь мальчик подбегал слишком близко, профессор не упускал случая и бил его тростью. Тем временем Симэн вел себя как одержимый; подобное поведение было вполне уместно на студийных вечеринках, а здесь казалось странным и нелепым; режиссер размахивал руками и вопил так же громко, как маленькие дикари. Радонич, словно надутый яркий лимон, устроился за камерой, изо всех сил сжимая ее рукоятки, и я, уже в гриме, занялся пробной сценой, самой первой, в которой мы с миссис Корнелиус обнимаемся на фоне пирамид, а прогуливающаяся Эсме праздно смотрит на меня — это событие, конечно, в дальнейшем развитии сюжета приобретет огромное значение. Сейчас было неважно, как поведет себя собравшаяся толпа наблюдателей: если дубль окажется удачным, мы сможем использовать его при монтаже. В противном случае мы тем не менее получим необходимую для продолжения работы информацию. Я испытал подлинный восторг, когда появились дамы в своих особых платьях, Эсме — в темно-синем, миссис Корнелиус — в бледно-розовом, в ореоле пышных перьев, кружев и шелка. Она наконец остановилась передо мной, потом посмотрела в сторону камеры и крикливого, нахмуренного скандинава, который, возбужденно сжав плечи оператора, шептал ему на ухо сложные инструкции на своем родном языке, непонятном Радоничу. Миссис Корнелиус резко обернулась — и невероятное сочетание пудры, туши и помады поразило меня так сильно, что все мое тело пронзила восхитительная острая дрожь. Я, словно во сне, шагнул в ее объятия, веки так отяжелели от теней, что я с трудом поднял взгляд и посмотрел в изумительные голубые глаза, автоматически повторяя реплики, которые сливались с криком Симэна: «Мотор!» Бобби: Я знаю, что любил тебя с самого начала мира. Айрин: И мы будем любить друг друга до конца мира. Это стало моим крещением. Казалось, наступил принципиальнейший миг моей жизни, миг, когда сошлись все возможности прошлого, настоящего и будущего. Позади остались войны, грозы и ужасная жестокость, грязь и окровавленные трупы после мировых битв; впереди простиралось серебряное и золотое видение — эфирный блеск моих независимых летающих республик, здоровых, красивых людей в более чистом, более рациональном мире, в котором сентиментальность исчезла, а чувство собственного достоинства стало нормой. Казалось, все мои надежды исполнятся, а за все разочарования и предательства мне воздастся сторицей! Казалось, мне был дан знак с небес, которые подтверждали и благословляли мои благороднейшие идеалы. Я находился так близко, что с трудом мог сдержать дрожь. Аромат ее духов был сладок, словно запах утренних роз, ее плоть была чудесно мягкой, почти нематериальной, ее тело излучало такую чувственность, что кровь в моих жилах бурлила. Эсме оказалась моментально позабыта. Миссис Корнелиус стала моей богиней, моей музой, великим мерилом моей жизни, моим ангелом-хранителем, единственным другом, который всегда заботился обо мне (в радости или в горе, удачно или неудачно), разделял большую часть моих видений и уважал серьезные идеалы, скрытые в этих видениях, мою ненависть — не к другим народам, а к беспорядкам и полукровкам. Любовь к своей культуре и своему народу — вот основа моей жизни. Миссис Корнелиус разделяла со мной отвращение ко лжи и лицемерию, восхищение благородством, самопожертвованием и храбростью во всех ее формах, готовность протянуть руку помощи любому, кто хотел добиться лучшего: черному, белому, смуглому или желтому — неважно, пока все берут на себя равную ответственность за мировой порядок. Думаю, простые моральные ценности, обретенные мной в России, в годы детства, не противоречили тем хаотическим временам! Вдобавок эти ценности распространялись не только на славян. Их разделяют и нордические народы, они существуют всюду, где оставили следы христиане, в Италии, Испании и даже кое-где в Греции, центре нашей мудрости и гордости. Эти ценности — идеалы Просвещения, века науки, и, даже если я один все еще рассчитываю передать миру сокрытую в них великую весть и указать путь к спасению, это, я надеюсь, не делает меня безумцем. Я по-прежнему говорю от имени своего народа, своего прошлого, своей чести и патриотизма. Любовь к родине и уважение к собственной культуре, конечно, помогают нам понять чувства других людей к вещам, которые они считают своими. Племена Европы могли бы мирно сосуществовать в течение многих столетий, если бы не племена Восточной Африки и их чужаки-союзники, которые видели наше богатство и силу и хотели заполучить все это. Пусть Палестина забирает своих евреев, а Марокко — своих мавров. Я с ними не ссорился и не стану ссориться, пока они остаются на своей стороне Средиземного моря. Мои изобретения и идеи принесли бы пользу всем. Я очень хотел поделиться с миром плодами своего гения. Какие перемены могли бы произойти! Да, мы с миссис Корнелиус понимали это. Я и она — единственные из живущих, которые знают, как прекрасно было наше потерянное будущее. Я все еще оплакиваю его. — Ты сделал все, тшто мог, тштобы оно сработало, Иван. — Она сидит в своем древнем кресле, по-прежнему красивая, и все ее воспоминания разложены вокруг. — Это не твоя вина, тшто треклятый мир не оправдал твоих ожиданий. С детьми то же самое. Прими все как есть, тшорт побери. И живи одним днем. Она была фантастической легендой — такой уступчивой в моих руках. Я задыхался. Радость почти приносила муку. Эсме прошла мимо, и наши взгляды встретились. Она улыбнулась. Я снова пристально посмотрел на миссис Корнелиус, сжимая ее изо всех сил, пока не услышал: «Снято!» Я был потрясен, а она обмахивалась своими перьями, кривила прекрасные губы, дуя себе на лицо, и решительно требовала пива. — Уф! Это затшем же надо было такие обнимашки устраивать, а, Иван? Едва способный дышать, не в силах произнести ни слова, я взглядом показал, что согласен с ней, но втайне я наслаждался происходящим. Если сумасбродство Голдфиша помешает нам снять новые дубли, я, по крайней мере, добился того, что мечты воплотились в реальность и запечатлелись на пленке! Наконец-то я сжимал в объятиях ту, что олицетворяла идеал женственности (трезвую!), ту, что была моей женой, — в один неизмеримо волнующий миг! Я думаю, Эсме, повторяя свою роль, сопереживала, как умеют только женщины, моему физическому и интеллектуальному удовольствию — тому, чего она сама никогда не могла во мне пробудить. Да, она удовлетворяла мои возвышенные устремления и воплощала мой идеал женского совершенства, она понимала мою душу и мои самые примитивные желания, но только миссис Корнелиус по-настоящему поняла мое сердце. — ОК, снято! ОК, снято! — Облаченный в яркий хлопок Радонич поднял вверх большой палец; то была его высочайшая похвала. Печальный Вольф Симэн вытирал пот со лба; на его лице выразилось слабое удивление. Все мы знали, что запечатлели на экране волшебный миг. Позже я стоял в песке у основания великой пирамиды. Меня рвало. Я понял, что получил солнечный удар.Глава пятнадцатая
Наша история наконец начала обретать форму. Я медленно оправлялся от легкого солнечного удара и чувствовал прилив эйфории и уверенности в себе, ожидая съемок великолепной развязки нашего фильма, в которой отразится вводная часть и ключевой фрагмент в погребальном зале (я как раз дорабатывал окончательную раскадровку, уже имея ясное представление об эпизоде). Мой сценарий был несколько схематичным, но я обладал классическими навыками, нужными для романтического повествования: требовалась некоторая отстраненность, чтобы история не погрузилась в ложный пафос. Съемки шли гладко, сэр Рэнальф Ститон оплачивал наши расходы из своего кармана, и мы были благодарны ему за такую поддержку. В мой день рождения, четырнадцатого января 1926 года, в полном египетском костюме, я еще раз обнимал миссис Корнелиус, но она смущалась из-за недостатка одежды, и мы решили, что снимем сцену позже. Даже нашему покровителю, сэру Рэнальфу, стало очевидно, что нужно выбрать новую натуру для съемок. В Мемфисе оказалось недостаточно руин и атмосферы, а Сахара просто не производила впечатления, и мы ухватились за предложение Ститона при первой же возможности сесть на пароход и поплыть по Нилу к Луксору и знаменитым памятникам Карнака[956], центра великой Фиванской империи; в это время в Карнаке было меньше туристов и, как заметил мне Малкольм Квелч, гораздо меньше помех. — Земля Ястреба, мой дорогой мальчик… Там люди могут проследить свою родословную до начала времен. Конечно, нужно обладать немалым воображением, чтобы постичь дух этого места. С виду оно напоминает ветхое арабское селение, возведенное на руинах исчезнувшей великой цивилизации — словно гриб на стволе умирающего дуба… Возможно, дело было в том, что профессор теперь рассчитывал на постоянный оклад; он потреблял все больше морфия и становился все необузданнее. Он мог получать препараты и для себя, и для меня в значительных количествах. Вскоре мне стало ясно: он тайком снабжал наркотиками половину группы. Если он получал с этого небольшую прибыль, я не винил его, учитывая, что Квелчу в случае поимки грозил год тюремного заключения и крупный штраф. Я сказал, что беспокоюсь только о нем. Профессор уверил меня, что британская полиция практически не может заподозрить англичанина среднего класса в каких-то связях с наркоторговцами, а у египетских полицейских достаточно ума или жадности, чтобы оставить его в покое. — Забирают только даго и местных, мой дорогой мальчик, и почти все влиятельные или богатые люди скоро покупают себе свободу или договариваются об обмене. Что до доброго Рассел-паши, то он считает: торговля наркотиками — непременный атрибут здешней жизни. Бертран Рассел был тогда начальником полиции в Каире[957]. Я немного волновался из-за того, что провел еще один вечер в обществе майора Ная. Я никогда не рассказывал об этом Квелчу, боясь потревожить его. Майор попросил, чтобы я стал его посредником, и я не слишком охотно доставил письма ему и миссис Корнелиус. Оказалось, что майор боролся не с торговлей наркотиками; инструкции, которые он получил в британской разведке, были связаны с торговлей оружием. В те времена продажа оружия арабам еще не считалась законной и подобные действия называли контрабандой. Я пришел к выводу, что майор работал на правительство Индии. — Из-за некоторых лазеек в прежних соглашениях мы не можем остановить импорт огнестрела через Маскат. Поэтому Маскат стал таким же превосходным рынком для оптовых торговцев оружием, как Багдад — для продавцов сладостей и сувениров! Там можно купить сколько угодно винтовок и боеприпасов. Единственная проблема — как их потом доставить к месту назначения. Как только товар перевозится через Оманский залив и достигает Персии, его по закону уже не могут конфисковать. Индийское правительство организовало морские патрули около Джаска на персидском побережье. Большая часть этого оружия попадает в Афганистан. Естественно, мы хотим остановить контрабанду. Однако подробностей майор не сообщал, хотя в другой раз рассказал о рейде канонерки в залив, чтобы захватить местное дау. Он взял из бараков Джаска полдюжины сипаев под командой субадара и метиса-белуджа[958] в качестве переводчика. По нелепому стечению обстоятельств они остановили не контрабандистов оружия, а работорговцев. — Тела в трюме лежали в куче, словно личинки. Мы вывели их наверх, но зловоние было ужасное. По большей части черные и несколько азиатских женщин бог знает откуда. Мы уже которую неделю не получали известий от Голдфиша, и это немного меня удивляло, потому что прежде он посылал примерно по две телеграммы в день. В итоге мы обратились за помощью к руководителю нашего египетского офиса. Сэр Рэнальф отвечал в примирительном тоне. Он сообщил, что отправил Голдфишу несколько запросов, но тот, похоже, еще не вернулся. Вдобавок исчезнувшего актера, которого в последний раз видели в Шербуре тринадцатого января, на Кипре не оказалось; говорили, что он упал за борт. Эти новости угрожали моему душевному равновесию, но я почти восстановил его, когда однажды утром явился носильщик, чтобы доставить мой багаж на пристань, к колесному пароходу «Нил Атари», который стоял наготове, тихонько вздыхая и пыхтя: машину уже запустили. Старое красное дерево и отполированная временем медь подрагивали, когда мы пробивались через обычную толпу просителей к трапу, который охраняли молодые нубийцы в темно-синих и красных форменных одеяниях. Сэр Рэнальф Ститон ждал нас на палубе. Он сказал, что хотел сообщить новости лично. Как только мы разместимся в каютах, нужно будет собраться в баре, где он произнесет небольшую речь, обратившись ко всей команде. Хотя наши каюты оказались невелики, они были отделаны лучшим деревом, медные, хромовые и перламутровые детали успокоительно поблескивали, а вещи превосходно размещались под койками, в зеркальных шкафах и над ними. В каюте можно было устроить великое множество тайников. Матрацы из конского волоса мне показались первоклассными, и все вокруг окутывал знакомый сосновый запах дезинфицирующего средства. Помещение никогда не покажется англичанину чистым, если там не пахнет его родной елью. Я замечал это в самых неопрятных домах королевства: чем грязнее пол, тем сильнее бьет в нос шотландской пустошью. Очарование этого аромата смолы настолько глубоко проникло в души британцев, что меня, к примеру, подобные запахи до сих пор успокаивают, особенно если я дурно себя чувствую. Миссис Корнелиус, когда стала считать годы, уделяла все меньше внимания тому, что она называла «дурацким домохозяйством». Запах сырости и плесени (связанный с постоянными проблемами с канализацией и коллектором, который так и не восстановили после того, как в соседний дом попал самолет-снаряд[959]) все усиливался и под конец стал просто невыносимым. Но добрый старый аромат сосны много лет позволял мне спокойно пить чай. Верхняя палуба лодки была затянута тентом, благодаря чему получился танцзал на открытом воздухе с фортепьяно и баром на носу, тент упирался в рулевую рубку, за которой торчали огромные лопасти гребных колес. Именно здесь сэр Рэнальф обратился к нам. Заламывая маленькие ручки, он ждал, пока к остальным присоединятся О. К. Радонич и Грэйс (неохотно поселившиеся в одной каюте). Некоторые из нас прислонились к стойке или фортепьяно. Другие заняли кресла для отдыха или просто предпочли отойти к поручням, пока корабль слабо покачивался на волнах, поднятых скоростным полицейским катером, а с далекого берега доносился шум Старого Каира. — Прекрасные дамы, благородные кавалеры, друзья! Сэр Рэнальф начал монолог с таких обращений, которые, как я понял, в Англии называли «старосветскими». Их в основном использовали последователи Шелли. В моих «Пирсонсах» и «Стрэндах» никогда не уделяли большого внимания прерафаэлитам и не писали языком «Йеллоу бук»[960], и это означало, что в течение многих лет я не подозревал об отсылках, которые большинство англичан и американцев находят возбуждающими или отвратительными, в зависимости от своих вкусов и склонностей. — Мои дорогие коллеги, — продолжал сэр Рэнальф. — Новости из Соединенных Штатов, как новости из Персифилума[961] в стихотворении Уэлдрейка, можно назвать неутешительными, но не трагическими. Должен сразу поведать вам, милые смертные, что наш общий хозяин, мистер Сэмюэл «Голд-винн», отказался поддерживать «Память Нила». Он умыл руки. Теперь он утверждает, что ему ничего неизвестно о «Надежде Демпси». — Завидев наше беспокойство, сэр Рэнальф взмахнул руками и захихикал. — Однако я не стану играть с вами в кошки-мышки, благородные кавалеры и прекрасные дамы, но сообщу, что ничего не потеряно! Решительно ничего! Теперь настал мой черед задуматься о здравости рассудка сэра Рэнальфа и задаться вопросом, не был ли он одним из многочисленных английских чудаков, нездоровье которых остается незамеченным в Египте или в Индии, где хаос всегда трудно сдержать и самые странные проявления плотских желаний раскрываются в полной мере. — Я часто беседовал с нашим «царем», как его называют, и он тверд в своем решении. Без известных актеров одного эпоса будет недостаточно. По его словам, «Бен-Гур» это доказал. Теперь все снимают эпопеи, вы же сами знаете. Он говорит, что «уменьшит потери». Полагаю, он собирается заключить договор с «Юнайтед артистс»[962]. Так что мы никогда не узнаем, действительно ли наша «звезда» передумала — или даже и не собираясь уезжать из Голливуда, а просто оставалась дома и отдыхала. — И ни слова о Бэрриморе? — спросил встревоженный швед. — Ничего. Я думаю, что теперь это, вероятно, несущественно. Мы можем, конечно, скрестить пальцы и надеяться, что голливудский выпивоха узнает о нашем местонахождении и направится к нам, но пока… Как вам известно, в кинематографе время — это деньги. В общем, я полагаю, что вы должны продолжить работу — только отныне, мои изысканные сквайры и прелестные мадемуазели, я превращусь в вашего ангела-хранителя — вашего продюсера. Теперь вы работаете на «Кино Англо-космополитен». Вы станете еженедельно получать зарплату — высочайшую в Египте, и мы будем производить только самые талантливые картины! Он продолжал объяснять, что Египет сейчас на острие международного кинобизнеса. Фильмы отсюда рассылали по всему миру, даже в Америку. До сих пор сэр Рэнальф не мог собрать команду, чтобы сделать качественную картину, которая ему требовалась, но теперь, к нашей взаимной выгоде, представился прекрасный случай! Я, со своей стороны, почувствовал особенный прилив энтузиазма. Казалось, меня вновь коснулась рука доброго бога. Мало того что наши гонорары теперь обеспечены — вся наша команда сохранится. Я обернулся, чтобы разделить свою радость с Квелчем. Однако на него слова Ститона не произвели впечатления, как и на миссис Корнелиус. Но остальные вроде бы были готовы проверить, сработает ли этот план. — Как вам, может быть, известно, я уже переговорил с мистером Симэном, который объяснит все детали нашего контракта, но, я думаю, при сложившихся обстоятельствах вы сочтете их вполне приличными, милые друзья и прелестные леди. — И он наклонился, чтобы игриво потрепать по подбородку мою Эсме. — Желаю вам счастливого путешествия в Луксор. Вам не следует опасаться недостатка внимания. Как только корабль бросит там якорь, я сяду в поезд и присоединюсь к вам. А пока здесь — ваш отель! Все удобства и прислуга в вашем распоряжении. Это в основном нубийцы с верховьев реки, и потому они хорошие, послушные, веселые рабочие. Вам не следует опасаться воровства или каких-то иных проявлений бандитизма. Вы можете не запирать свои каюты и оставлять все ценности где угодно. Уже не раз говорилось — и я готов это повторить: в исламских странах разбираются с преступниками гораздо проще, чем у нас на Западе. Возможно, мы могли бы поучиться у них дисциплине. И если произойдет что-то неприятное — простите мне такую неделикатность, но вам останется только подозревать друг друга. — С этими словами наш миниатюрный Генрих V покинул бар. Спустившись к главной палубе по лестнице, покрытой коврами, сэр Рэнальф с достоинством прошагал по трапу, потом по бетонным ступеням на пристань, где его ожидал роскошный «мерседес». — Я всегда с подозрением относился к английским парням, которые катаются на машинках бошей, — нахмурился Малкольм Квелч, посмотрев вслед продюсеру. Миссис Корнелиус коснулась его плеча. — Я стшитаю, тшто вы глядите в нужную сторону, проф. Он хитрый педик. Вы его где-то видали? Квелч, словно польщенный застенчивый школьник, медленно последовал за ней в дальний конец палубы, чтобы посмотреть, как мускулистые «феллахи» поднимают якорь. Город все еще скрывался в рассветном синем тумане, который сменялся розово-золотистой глазурью там, где земля встречалась с небом; высокие деревья и башни, бледные купола и блестящие зубчатые стены казались частью невероятной сказки, которую туристы так старательно разыскивали и которую их гиды так плохо понимали. Было приятно наслаждаться роскошью пейзажа без возвращающих с небес на землю замечаний Малкольма Квелча. Шум гребных колес и моторов, которые неторопливо набирали обороты, медленно приковывал внимание, и я стал наблюдать за босыми смуглыми мальчиками и мужчинами, что носились взад-вперед в утреннем тумане, выкрикивая приказы, натягивая канаты, отталкивая корабль от берега, запуская двигатели… Когда я опять посмотрел на Старый Каир, мне вновь открылся тот же самый пыльный современный европейский город, который я впервые увидел на железнодорожной станции; суровые неоклассические здания говорили об усилиях нынешних наследников Александра и Птолемея, пытавшихся установить стабильность в этом хаосе рас и религий. В те дни многие из нас еще взывали к Британской империи, веря, что она сможет сохранить повсюду мир и порядок. Немцы всегда восхищались британцами. Гитлер удивился сильнее всех, когда британцы примкнули к большевикам и, уничтожив его, сами пришли к неизбежному поражению! Кто мог предсказать, что в них проснется жажда саморазрушения? С пришвартованной фелуки, нильской птицы под белыми парусами, послышался стук барабана и завывание местной скрипки и кларнета; на борт поднималась какая-то церемониальная процессия — мужчины в темных европейских костюмах несли гирлянды розовых цветов, женщины были одеты в золотое, синее и светло-вишневое; по сравнению с этой толпой даже одесская свадьба показалась бы убогой. Эсме вернулась ко мне. Немного бледная, она потягивала «Виши» из стакана, поднесенного ей мальчиком-нубийцем. На ней было светло-зеленое шелковое платье. — Что они делают, Максим? — Ее отношение ко мне теперь решительно переменилось, мы опять наслаждались жизнью, став мужем и женой. На мгновение нами овладела смесь ужаса и похоти, которая вызывает всплеск адреналина и лучше всего растворяется с помощью сексуальной активности, а Эсме стала как-то странно льнуть ко мне — я счел этот знак лестным и, возможно, немного тревожным. Я опустил руку на ее маленькие плечи и сказал ей, что они, похоже, празднуют свадьбу, хотя непонятно, сколько дней уже длится церемония. Пока мы стояли рядом, наблюдая за лодкой, над которой по-прежнему разносились визгливые звуки Африки, я понял, что боюсь не перспективы брака, а угрозы предательства. Я был уверен, Эсме не предаст меня, но боялся, что Судьба может снова похитить мою возлюбленную. В те дни меня преследовал неприятный неясный страх, который не могло рассеять даже утешительное снадобье Квелча. Мои чувства к Эсме были глубокими и неизменными. Думаю, наше взаимное сексуальное удовлетворение достигло максимума в те дни прекрасного равенства. Я мог только наслаждаться такими пугающими удовольствиями, если они были востребованы обеими сторонами — когда инь и ян достигали их окончательного воплощения, когда мужественность и женственность обретали гармонию. Эта сила несет удовлетворение, только если одинаково воздействует на двух влюбленных. Я полагаю, что нельзя просто использовать женщин для выплеска (хотя, должен признать, существуют определенные женщины, которые прямо-таки требуют этого). В конце концов, говорю я миссис Корнелиус, женщины — единственные, кроме мужчин, разумные существа на Земле! Миссис Корнелиус не испытывала сочувствия к суфражизму на том основании, что не хотела «голосовать за ту же банду дротшил, которые и так уже сидят где им надо». Я говорю, что женщины — половина населения Земли. Обязанность мужчины — защищать женщину от того зверя, который таится во всех мужчинах и которым они управляют, но обязанность женщины — не злить этого зверя. Половина ответственности — моя, говорю я, а другая половина — ваша. Она не соглашается. Она не феминистка. — Все, тшто я могу сказать, Иван, — держи своего маленького Джонни Вилли в тшортовых штанах или рискни, извини за мой французский, потерять сто процентов яиц! Мне ее взгляды казались чрезмерно консервативными. Я все-таки радикал. Но совершенно бессмысленно спорить с женщинами, когда речь заходит о рациональном поведении. Они — существа импульсивные, и я полагаю, что было бы чистейшим безумием требовать от них чего-то иного. Эсме указала на небо, где парил ворон с коричневой шеей, осматривая прибрежные развалины в поисках лакомого кусочка. — А это и правда орел, Максим? Удивленный, я сказал ей, что только она могла разглядеть такую красоту в отвратительной птице. Эсме настояла, что птица все-таки красивая. Я молча дивился способности женщин обнаруживать в обычных, даже непритязательных вещах нечто благородное и возвышенное. Валентино — яркий пример. Ворон расправил крылья, чтобы на миг взгромоздиться на нашу украшенную кисточками крышу, как раз возле рулевой рубки, где пухлый египетский капитан, с важным видом носивший грязную белую форму, и его смеявшийся помощник, нубиец с голым торсом, направляли наше судно к середине реки. Гребные колеса вспенили воду, и белые брызги, взметнувшись, заслонили город. Через полчаса мы оставили Каир позади, и нам, словно бесконечные ряды крестиков и ноликов, открылись бескрайние поля, пересеченные десятками узких каналов. Сельский пейзаж практически не изменился с тех пор, как фараоны возвели свои первые великие пирамиды. За пределами пальмовых рощ все вокруг покрывали яркие желто-зеленые лоскуты кукурузы и хлопка, а у колодцев и плотин бесконечно ходили кругами старые верблюды, перетаскивая воду, в которой рождены все наши судьбы. Какое-то время египетская свадебная лодка плыла за нами, ее пассажиры махали руками, улыбались и обращались к нам с загадочными приветствиями, но потом порыв ветра наполнил высокий парус, и фелука понеслась почти под прямым углом, едва не задев наше левое колесо, которое продолжало неустанное кружение, шипя и стеная, словно речной верблюд, сварливый и крепкий. Фелука унеслась прочь, а ее команда только смеялась, видя такую близость ужасной смерти! Миссис Корнелиус вернулась; в одной руке она держала коктейль, а другой вела усмехавшегося профессора Квелча. Она открыла восхитительный рот и радостно выкрикнула: — Вы ведь можете быть гадким маленьким мальтшиком, когда хотите, а, Морри? Он добился одобрения от пьяной миссис Корнелиус и приблизился к тому, чтобы услышать благословение и от трезвой. Она с нежностью относилась к людям, «пострадавшим», как она выражалась, от мира. Мы миновали окруженные пальмами дамбы, возведенные на случай наводнения, ряды финиковых деревьев, фиг и олив, которые возвратили в Египет предприимчивые французы и англичане, а когда я повернулся, чтобы посмотреть на далекий берег слева, то с удивлением увидел местного уроженца в превосходно скроенном европейском костюме и темно-красной феске. Мужчина поднялся по лестнице на открытую палубу, поклонился леди и поприветствовал их, а потом протянул ладонь нам. Я видел, что Квелч удивился так же, как и я, но нам оставалось только обменяться с гостем рукопожатием. Квелч вел себя очень официально и отнесся к посетителю без восторга. Нас представили Али-паше Хамсе, которого я тотчас признал: в нескольких номерах египетской «Таймс» он упоминался под другим именем как высокопоставленный член «Вафд», с недавнего времени «независимого» парламента Египта![963] Я понял, что он принадлежал к лучшей породе бледных, круглолицых египтян, не испорченных семитской или негритянской кровью. Как бы я ни относился к его политике, я испытывал к нему лично уважение и сожалел о первоначальном поспешном суждении. Потом я научился ценить людей по их делам, а не по цвету кожи или по религиозным предпочтениям. Есть, например, обитающие на берегах Нила феллахи, в жилах которых течет кровь людей, создавших первый литературный язык, первые храмы и гробницы. Не их вина, что пришли иностранные захватчики, решившие отнять у них наследие и любимуюхристианскую веру. И если эти люди стали хуже, то только из-за усилий еврейских и арабских торговцев наркотиками, искавших выгоду в том, чтобы лишить этих выносливых феллахов энергии, а ведь их и без того ослабила вода, которую отравили несовершенные сооружения британских инженеров. Британцы первыми признали: дамба оказывает отрицательные побочные эффекты. Они утверждали, что приложили все усилия для решения проблемы, но никак не хотели замечать, что сами помогли ее создать. Британцы часто вели себя так — и за границей, и дома. Их филосемитизм стал настоящим проклятием. Я все еще полагаю, что они держали в руках ключ к будущему. Даже Герберт «Социалист» Уэллс, понимавший обязанности британцев, стал забывать о них в те ужасные, полные сомнений годы после Первой мировой. Призрак большевизма испугал британцев. Он только в Англии оказался неожиданностью! Герой Уэллса в «Облике грядущего»[964] гордо предсказывает будущее, в котором Человек победит Хаос во всей Вселенной — и только тогда он начнет учиться! Как близко это было к моему собственному уничтоженному видению. Теперь я узнал, что Хаос — творение Бога и наш долг — навести порядок в отведенном нам уголке Вселенной. Возможно, все мы не слишком спешили брать на себя ответственность. Я не могу осудить ни Британскую империю, ни американцев, ни Гитлера, ни Муссолини, не принимая части вины и на себя. Али-паша Хамса получил образование в Англии в школе, название которой я не запомнил, но профессор Квелч, услышав его, сделал паузу. У меня сложилось впечатление, что познания Квелча, хотя и отличавшиеся глубиной, были куда менее существенны, чем интеллектуальные богатства мистера Хамсы. Египтянин вдобавок получил степень в Кембридже. Поэтому мы не вполне понимали, как действовать дальше, но, само собой разумеется, именно миссис Корнелиус сломала лед, взяв за руки мистера Хамсу и профессора Квелча. Она засмеялась: — Ну разве мне теперь не свезло, меня развлекают два таких умных и обаятельных жентельмена. — Она увела их, послушных, как овечки, и мы с Эсме снова остались наедине. В присутствии египтянина она чувствовала себя неловко. — Он напоминает мне о тех турецких офицерах. Эти ублюдки так гадко обходились со всеми девочками. Я немного резко посоветовал ей забыть о константинопольской жизни. Она скоро станет моей женой и кинозвездой. Она родилась в Отранто, и роды принял доктор Кастагальи. До этого, напомнил я, были только фантомы, призрачное предсуществование. Услышав мои увещевания, она опустила голову. — Мне очень жаль, Максим. Конечно, я тотчас простил ее. Крепкая парусная лодка тянула за собой несколько барж, которые глубоко уходили в воду под тяжестью груза, напоминая стаю примитивных речных монстров, готовых пожрать далекий город. Симэн вышел из бара, где он беседовал с Радоничем. — Кажется, в конце концов «Бен-Гур» нас не спасет. Хотя он принес значительную прибыль, для нашего бывшего хозяина это не имело значения. Полагаю, он разочаровался в исторических темах, по крайней мере временно, и нашел предлог, чтобы перестать нас поддерживать. Благодарение Богу за сэра Рэнальфа! Местный джентльмен, между прочим, в некотором роде деловой партнер Ститона. Он с нами только до эль-Васты, а там сядет на поезд до Мединет-эль-Файюма[965], где, как я понял, состоится некая встреча с общественностью. Думаю, он решил поплыть на корабле, чтобы отдохнуть от своих обязанностей. Он, знаете ли, важная шишка в египетском правительстве. Это благодаря ему мы получили разрешение снимать практически где угодно. Даже британцы не могут дергать за такие ниточки. Только тогда мне пришло в голову, на какие компромиссы решился Вольф Симэн, чтобы удовлетворить свои амбиции. Конечно, я верил в идеалы, о которых рассуждал наш новый продюсер, но теперь мне казалось, что Симэн немного странно объяснил присутствие на борту нового пассажира. Неужели он хотел оправдать свое тайное соглашение с сэром Рэнальфом? Меня, впрочем, не касалось, что там Симэн говорил или обещал, пока наш фильм создавался по высочайшим стандартам, а мы получали зарплату. Когда все кончится, мы с Эсме вернемся в США и я брошу вызов Хеверу! — Ты такой умный, Вольфи. — Моя любимая изображала восторженную школьницу. — Без тебя все это было бы невозможно. — Ститон — неплохой парень. — Симэн, улыбаясь, пригладил вьющиеся волосы. — И я хочу сделать наш фильм, маленькая волшебница, не бойся. Он со вздохом подошел к поручню и встал рядом со мной. Мы вместе рассматривали какие-то далекие руины. — Этот фильм раскроет истинную историю человечества, — продолжал он. — То, как мы изо всех сил боремся, стараясь избежать смерти. Разные пути, которые нас уводят от неотвратимости невыносимой потери. В отличие от нас, египтяне не пожелали скрывать этот непреложный факт. Они построили вокруг него всю свою цивилизацию. В результате она продержалась дольше прочих. Империи, подобные британской и особенно американской, строят культуру на совершенно противоположных основаниях. Там люди стараются удалиться от смерти и не замечать ее. Что ж, «Смерть в пирамидах» заставит весь мир убедиться в своем безумии и склонить голову в знак стыда. — Фильм всем понравится! — Эсме отвернулась от группы маленьких мальчиков, купавшихся на отмели. — Он соберет огромную аудиторию, дорогой Вольфи. И снова обернувшись, чтобы видеть ее мог только я, она подмигнула так иронично, что я понял: всю глубину души любимой мне еще предстоит постичь и оценить. Отделившись от миссис Корнелиус и О. К. Радонича (недавно получившего прозвище Желтый Парень), профессор Квелч и Али-паша Хамса, пыхтя, как пожарные машины, приблизились к нам. — Actum ne agas[966], - сказал египтянин. — Но как мы можем избежать этого, уважаемый господин? — Профессор Квелч деликатно отодвинулся, чтобы не чувствовать запаха сигары Али-паши Хамсы. — Именно это мы и пытаемся выяснить. Сегодня в Европе модно ублажать и поддерживать евреев, но есть прозорливые люди, осознающие опасности подобной политики. Вы слышали об Адольфе Гитлере? Он немец, который теперь приобрел большую известность. Последователь Муссолини, как я понимаю, способный в позитивном ключе решать настоящие проблемы своей страны. Подлинный интеллектуальный деятель. Вы читаете по-немецки, профессор Квелч? — Очень плохо. — Я видел много материалов об этих социалистах в «Берлинер цайтунг»[967], - вмешался Симэн. Он всегда оказывал предпочтение немецким газетам. — Довольно тревожно. — О, они совсем не социалисты в привычном смысле слова. Эти новые социалисты стремятся к уничтожению сионистского большевизма. Очень многие люди в Египте поддерживают этого парня. Он мог бы всех нас кое-чему научить. Именно тогда я впервые услышал о Гитлере — в ранние годы его успеха, когда он еще контролировал свою партию. Больно было видеть, как такого прекрасного человека губило собственное высокомерие. Однажды, если у нас останется будущее, некий драматург использует историю Гитлера и покажет фюрера Германии — благородного, слабого, трагического героя, каким он и был. Я оплакиваю свои утраченные возможности, но как, наверное, скорбел он в те минуты, когда Берлин пал под залпы большевистских орудий! Такая трагедия достойна Вагнера. — Вы мусульманин, Али-паша? — нерешительно спросил Симэн. — О небеса, мой дорогой сэр, я не так старомоден! Я по убеждениям — светский гуманист. Но в демократическом Египте лучше держать свои религиозные предпочтения при себе. Наша страна в некоторых отношениях еще очень отсталая. Многое предстоит сделать. Индустриализация, конечно, важнее всего. — А вы поддерживаете земельные реформы? Скрытый смысл вопроса Квелча я не вполне уловил. Али-паша Хамса удивился. — Я не против богатых, профессор Квелч, если вы хотели узнать именно это. Мне очень жаль, что не все наши люди богаты. Я, подобно каждому, уважаю право человека на труд и на достаток, заработанный этим трудом. Есть способы улучшить наше сельское хозяйство, и тогда все смогут стать преуспевающими фермерами. Я полагаю, что этого можно достичь с помощью техники, а не путем социальных реформ. — Вы мне по-настоящему нравитесь. — Малкольм Квелч приветственно взмахнул рукой. — Мистер Питерс, вам следует рассказать Али-паше о своих изобретениях и своих идеях, как «сделать пустыню зеленой». Этот молодой человек, сэр, гений техники. Он уже построил несколько аэропланов и динамитный автомобиль. Позвольте ему рассказать об удивительном чуде — о своей воздушной турбине! — В Египте очень нужны инженеры. — Политик задумчиво посмотрел на меня. — Особенно американские инженеры. Я объяснил ему, что был американцем только по паспорту, а на самом деле я русский, изгнанный с родины красными. Египтянин выразил мне сочувствие и поддержку. — Тем лучше. Если когда-нибудь здесь начнется революция, мистер Питерс, поверьте, это будет не красная революция! И снова я понял, что не следует судить человека по внешности. Али-паша Хамса пожелал выслушать меня. Я вскоре подробно рассказал о задуманных проектах транспортных средств, особенно тех, которые могли пересекать обширные пространства пустыни, и тех, которые могли автоматически копать каналы на многие сотни миль, орошая землю, не ведавшую изобилия с начала времен. Однако я почти сразу же сказал ему, что не разделяю его отвращения к еврейской расе. Среди них встречались люди поистине добродетельные. Я сам обязан жизнью еврею. Но переубедить Али-пашу не удалось. Он сказал, что мне недоставало повседневного опыта общения с этим народом. Его люди сталкивались с еврейской хитростью на протяжении многих столетий. — Ислам был особенно терпим к евреям. Но это ничего не изменило. Сионисты захватили британский парламент и теперь требуют Палестину для себя. Они больше не довольствуются тем, что выманивают у нас деньги, они теперь требуют свободной земли! Земли, которая никогда не принадлежала им. Мы боимся, что вскоре британцы отдадут им весь Египет! Я буду говорить об этом в Мединет эль-Файюме. Я решительно принялся убеждать его, что британцы не смогут предать доверие Египта. 1948 год доказал, как я заблуждался в те дни в своем невинном идеализме.Глава шестнадцатая
Я видел Козла. Впервые я увидел Его в Одессе. Также я видел его в Орегоне, где мы жили в пещерах, скрытых среди гор. Я видел Козла. Он искушал меня. Он вложил кусок металла мне живот. Die iron strudel[968]. Это была Его шутка. Он показал мне мою сестру, Эсме, и сказал, что она — моя дочь. Он сказал, что сделает ее моей женой. Он обещал власть над всеми. Власть Всемогущего Зверя. Именно там, где Его не признавали, Он добивался самых больших успехов. Дьявол устал. Он долго трудился ради этого дня. Я встретил Козла в Асуане, на руинах побежденного христианства. Корова и Баран явились, чтобы насладиться моим унижением и моим горем. Какой суд отдал меня на их милость? Если бы я не верил, что Бог направляет мир, я мог бы только молить о том, чтобы Христос по-прежнему вел нас. Сатана побеждает нас, используя мельчайшие прорехи в нашей защите, наш идеализм, нашу веру в будущее. Именно так Он завоевал Россию и победоносно коснулся копытами руин Берлина, павших бастионов нашей веры. Гитлер повернулся спиной к Христу, так же как и Наполеон до него. И тогда Сатана, утомленный и пресыщенный, воссел на опустевших тронах Европы и с мрачным равнодушием стал смотреть на погибель того, о чем Он когда-то мечтал. Эти новые Парсифали, поднявшие меч против большевизма, ныне уже мертвы. Никто из них не погиб в честном бою. Всех предали. Предали и меня. Кусок металла остался у меня в животе. Иногда он напоминает железную звезду Давида. Неужели он был в хлебе, которым меня накормил еврей? Чем я ему заплатил? Еврей никогда не даст ничего задаром. Чего он хотел от меня? Он спас мне жизнь в Одессе, в Аркадии. Чем я заплатил за его услугу? Его руки были нежны. Я любил его. Stadt der schlafenden Ziegen; Stadt des Verbrechens; Stadt der meckernden Krähen; die gerissenen Kunden liegen in den Gassen auf der Lauer die kleinen Võgel seinen trügerische Lieder. Die Synagogen brennen. O, Rosie, mi siostra! Zu är meyn zeitmädchen, meyn vor… Im der Vatican[969] Он, развалясь, сидит в окружении скучающих друзей, в то время как Его подданные выстраиваются в очередь, чтобы облобызать затянутую в перчатку лапу. Это больше не радует Его. Неужели ему нужно все испортить и разрушить, чтобы скрыться от безжалостной истины, от страдания, порожденного отлучением от благодати? Он испытывает величайшие муки, ибо Он уже познал единение с Богом. А теперь Он лишен этого — и страдание его превосходит страдания других. Мы можем только предполагать, насколько чудовищна эта утрата. Что удивительного, если павший бессмертный хочет забыть о невообразимых терзаниях, придумывая новые испытания и кары для человечества? Что мог бы сделать на его месте любой из нас? Я думал, что расстался с Ним в Одессе, на окровавленных улицах Слободки, где жирные псы, сопя, возятся среди трупов убитых евреев. За что Он преследовал меня? Это казалось несправедливым… Я не знал тогда, что Бог избрал меня, дабы я принес особое евангелие в этот век науки. Я был невинен. Я боялся. Я путешествую к тому месту, где взвешивают души, когда благосклонный Анубис оценивает наши грехи. Али-паша Хамса пожал мне руку, а потом ступил на качающуюся доску, переброшенную с нашего корабля на грязный берег, где местные слуги были готовы поддерживать господина, если он поскользнется. «Nigra sum sed formosa, filiae Jerusalem»[970], - сказал он, уходя. Полагаю, что это было сдержанное и вежливое предостережение, вызванное моим первоначальным отношением к Али-паше. Я воспринял его слова добродушно и сказал, что совершенно не сомневаюсь: мы еще встретимся. Когда я вижу знакомое лицо по телевизору, я до сих пор не могу поверить, что передо мной тогда стоял тот самый Садат, который предал свою страну Израилю. Этот холодный коготь вонзился мне в живот и сжал сердце. У меня был брат в Одессе. Он был хорошим евреем. Такие могут существовать. Я теперь слишком сильно страдаю от боли. Но я не всегда буду страдать. Есть белая дорога, по которой я еду вниз, и дорога кончается у моря, у зеленого утеса, и, когда я добираюсь до конца белой дороги, моя лошадь легко поднимается в воздух, и мы летим к Византии, чтобы воссоединиться с моим императором и моим Богом. Мой самолет зовется «Стрекоза». Это моя собственная машина. Она легка и изысканна. Я сделал полет эфирным, красивым — таким, о котором с самого начала мечтал Человек. Я не унизил идею, не создал те громыхающие металлические трубы, несущие людей, как тюки с зерном, из города в город. Мой самолет звался «Ангел». Серебряный и золотой, он напевал восхитительные мелодии двигаясь по небу. Он парил в воздухе, покачивая изумительными мерцающими крыльями. Мой самолет звался «Сова». Он нес миру мудрость и покой. Он пикировал, надвигался и замирал, и ночью вы могли услышать только мягкое скольжение его тела в темноте. Все они были в моем каталоге. Я мог сделать их по специальному заказу. Каждую модель дорабатывали бы для человека, который пожелал бы управлять ею. Они отражали бы индивидуальность воздухоплавателя. Они были бы идеальными и совершенными. В бледных лучах нильского рассвета, когда клочья тумана еще окутывали пароход, я в одиночестве бродил по палубе, не имея возможности уснуть из-за пронзительных криков Квелча, выражавших какое-то неописуемое желание. Мне показалось, что я увидел пеликана, нырявшего в глубину и появлявшегося вновь с тяжелой рыбой, зажатой в массивном серебряном клюве. Самопожертвование этой благородной птицы было настолько велико, что она кормила детенышей плотью, вырванной из собственной груди[971]. Она издавна служила символом христианского милосердия, запечатленным на щитах и доспехах христианских рыцарей, которые направлялись в Иерусалим. Наконец-то я постиг смысл этого символа. Я наблюдал, как птица улетала на запад, а за ней следовали длинные тени от лучей восходящего солнца, которые придавали пальмам, руинам, деревням, полям необычный вид — нам как будто на мгновение открывалась другая реальность, другая земля, находящаяся далеко от нас, а возможно, просто сотворенная неведомым художником. Я никогда в жизни не видел такой необычайной красоты, таких ярких и насыщенных оттенков, лежащих за пределами привычного спектра, такой силы света, никогда не ощущал настолько тонкого запаха плодородия — я мог поверить, что оказался в истинной колыбели мироздания. Долина Нила — все, что осталось от богатейшей Сахары. Разве не здесь располагался Рай? Я вспомнил рассказ цыганки, которую мы с Эсме видели еще до войны в таборе, в долине неподалеку от Киева. Цыганка верила, что, когда Адама и Еву изгнали из Сада, он увял, потому что не стало счастливых людей, — и так появилась великая Сахара. Рай, как говорила цыганка, может существовать только в том случае, если люди действительно этого хотят. Я вспоминаю ее слова теперь, на каждом шагу сталкиваясь с осторожностью и нехваткой воображения. Как же люди не могут понять, что нужно всего лишь немного храбрости и самоуважения — и они получат ключи от Рая? Я не единственный, кто пытался передать им этот ключ в десятилетия нашего падения, когда мы стали свидетелями быстрого разрушения великих христианских европейских империй. Дорога к Раю, как сказал нам Распутин, ведет через Долину греха. Такие идеи получили широкое распространение в Петербурге во времена моего студенчества. Я тоже ими проникся. Все мы — существа общественные; нас не может не радовать одобрение наших собратьев. Только тогда, когда мы обретаем истинное самоуважение, одобрение или неодобрение окружающих перестает нас интересовать. Вот какую истину мы постигаем в христианстве; это я понял (еще не умея облечь мысли в слова), когда наблюдал за пеликаном, поднимавшимся в сине-серое небо; я видел истинное воплощение женской чистоты. Мой самолет звался «Пеликан», а Пеликан — враг Козла. — Почему, — спросил профессор Квелч, отыскав меня позднее на верхней палубе, когда я сидел в шезлонге и набрасывал чертеж нового скоростного военного транспорта, способного за считаные дни переместить множество солдат через Суэцкий канал в ключевые точки империи, — на этой реке по утрам всегда пахнет жареным мясом, хотя мягкосердечные гуманисты сообщают нам, будто феллахи едят одну лишь кукурузу? Я сказал ему, что ощущаю только запах, сильно напоминающий зловоние сточных вод, и профессор вежливо признал, что его чувства сейчас слегка притуплены. — Но обычно я благодарю Бога за это. Потом он согласился, что мог уловить запахи, распространявшиеся по нашему маленькому кораблю. Он, казалось, хотел избежать малейших намеков на разногласия, и я удивился, с чего бы это — обычно он с удовольствием ввязывался в споры. — Я вообще-то рад, что наш друг Хамса удалился, а вы? Я сказал, что наслаждался беседами с ним. Я всегда был рад услышать другую точку зрения. — Даже когда большая часть услышанного — наглая ложь? — Профессор Квелч уже не пытался сдержать свою природную агрессивность. — «Хамса»[972] означает, что он — член внутренней пятерки «Братьев-мусульман»[973]. Тут я сложил чертежи и громко рассмеялся. — Надо же, старина! Он убежденный агностик. Вы же слышали, он сам так сказал. — Конечно, я слышал, что он тут врал. Поверьте мне, Питерс: этот человек поклялся на Коране и револьвере поддерживать честь ислама в борьбе со всеми, кто попирает ее. Это — самое влиятельное тайное общество на Востоке, вообще изобилующем такими обществами. Как говорят, именно они несут ответственность за большинство значительных политических убийств. Я заметил, что это всего лишь необоснованное предположение. У меня после разговора с Али-пашой сложилось впечатление, что я побеседовал с джентльменом. — Вот это и есть самое опасное его свойство, Питерс, старина. Появился Вольф Симэн, который взобрался по лестнице в спортивном костюме и, покачиваясь, сделал еще круг по нашей палубе, прежде чем прислониться к барной стойке. Послышался какой-то высокий невнятный шум. — Доброе утро, — произнес Симэн после небольшой паузы. Мы приблизились к нему. — Доброе утро, старина. — Квелч внимательно осмотрел Симэна. Venienti occurrite morbo[974], а? — Не такой я знаток латыни, профессор. Но да, это верно. Я полагаю, человек, находящийся в по-настоящему хорошей физической форме, никогда не болеет. Вы оба сегодня очень рано встали — это необычно. Он сделал паузу, постаравшись поглубже вдохнуть, но в его словах была какая-то обида, какое-то собственническое чувство, точно он заключил арендный договор, отдававший палубу в его полное распоряжение, особенно в этот час. Хотя подобное отношение свойственно шведам, гораздо чаще я замечал его у немцев, которые теперь много путешествуют и вечно жалуются на толпу. Не в этой ли привычке разгадка всего их поведения? Возможно, здесь двойственность, возможно, парадокс? Я не уверен. Солнце стояло над горизонтом, и эффектные тени уменьшились, так что перспектива окружающей земли и неспешной реки обрела более знакомые очертания. Наш режиссер отважно вздохнул и как будто надулся. — Мы обсуждали недавно удалившегося пассажира, — зевнул Квелч. — Я выразил мнение, которое, похоже, потрясло юного Питерса. Я не хотел возвращаться к этой теме. — Скорее удивило, — поправил я. — Только у вас, в конце концов, нет никаких доказательств. — Чего? — спросил Симэн, резко выдохнув. — Того, что он связан с политикой. — Точнее, с делами «Братьев-мусульман», — добавил Квелч. Я больше не пытался перевести беседу на более приятные и менее волнующие темы. — Хочу напомнить, — Симэн, значительно глядя на нас, растирал мышцы ноги, — что этот джентльмен — очень близкий друг нашего нового «ангела», сэра Рэнальфа Ститона. — Тогда, — сказал Квелч, — надо предупредить сэра Рэнальфа. Уверяю вас, я хорошо изучил этого субъекта. Нескольких дней было достаточно, чтобы понять, кто он такой. — Не дурите, — отмахнулся Симэн. — Сэр Рэнальф в порядке. Они его признают. Они ему доверяют. Вот почему мы можем рассчитывать на их сотрудничество. Мышцы Симэна сводило судорогой; теперь он говорил гораздо резче, чем раньше. Квелч рассмеялся, не разжимая губ, и засопел — послышался неприятный грубый звук. — Сэр Рэнальф не предатель, мистер Симэн. — Конечно нет! — Симэн опустил ногу на палубу и со вздохом выпрямился. — Он — бизнесмен. Национальная безопасность здесь ни при чем. — Он говорил тем успокоительным тоном, который обычно использовал в беседах с темпераментными звездами. — За все годы нашего сотрудничества он никогда не намекал… — Квелч озадаченно покачал головой. — Он точно не один из них, профессор Квелч. Но ему известны некоторые их секреты. Я подозреваю, что сэр Рэнальф Ститон — очень храбрый человек. Наверное, больше ничего говорить не нужно? Умный швед нашел прекрасное средство, чтобы заставить англичанина замолчать, — он воззвал к его исконной сдержанности. Англичанин гордится собой, когда молчит о вещах, о которых ровным счетом ничего не знает. Так он поддерживает иллюзию своих привилегий, статуса, власти. И это касается не только мужчин. Во время войны британские женщины тоже преуспели в подобном молчании. Часто у них за душой не было больше ничего, но этого им хватало. Я помню их эффектные, уверенные голоса. Все, что следовало сделать, чтобы закончить любовную интригу, — просто пробормотать: «Совершенно секретно». Они родились с этой способностью. Неудивительно, что у типичных британцев губы тонкие и почти неподвижные. Мужчины, к своему превеликому удовольствию, обнаружили: чем меньше они говорят, тем привлекательнее выглядят. Действительно, миссис Корнелиус не раз замечала, что нормально относится к парням, пока они держат свою ерунду при себе. Но в конце концов, по ее словам, она оставила надежду. «Если нет ерунды — тогда полная тишина». Она присоединилась к нам внизу, в небольшом зале-ресторане. Я раздвинул кружевные занавески на окне, посмотрел на уток, которые возились в зарослях тростника, а теперь следил за профессором Квелчем — он давал инструкции одному из наших мальчиков-нубийцев. Профессор оговаривал, сколько точно ему нужно ветчины, яиц, бекона, колбас, помидоров, грибов, жареного картофеля, жаркого из риса и рыбы, лосося и тостов; когда мальчик тщательно разложил заказанную еду на две тарелки, профессор доверительно сообщил мне, что все эти кушания качеством ниже среднего, особенно если человек попробовал в Англии настоящую еду. — Кухня здесь претерпевает то, что я называю речной переменой. Еда нередко выглядит или даже пахнет правильно, но по части вкуса — разница есть. Я подозреваю, что дело в дешевом масле; в окрестностях Лондона масло совсем другого качества. Я, со своей стороны, довольствовался маленькой порцией сухих крошащихся тостов с почти жидким мармеладом. Я рассказал миссис Корнелиус о том, как встал рано утром, подумав, что мы перенеслись в другое измерение, возможно, в потусторонний мир. Она терпеливо покачала головой, а профессор Квелч сардонически провозгласил: — Мир сделал человека безумным, сделал доброго человека безумным, как написал Уэлдрейк в «Мартине Азуретте, алхимике из Лидса». Вот прекрасная пьеса, по которой вы могли бы снять фильм, мистер Симэн. Симэн в этот момент как раз поглощал мясной рулет и был в состоянии только неразборчиво мычать. — Вы сыграете главную роль, Питерс. Вы идеально подходите… А Эсме… мисс Гэй… может стать прекрасной дочерью мэра, жертвой легкомысленного соперничества мужчин. Это удивительно духоподъемная история. Нам нужно спросить сэра Рэнальфа: не заняться ли нашей новой компании постановкой фильма по этой пьесе? Симэн не очень обрадовался тому, что Квелч полагал себя постоянным участником «нашей компании», но заговорить швед все еще не мог. Лицо его начало краснеть. Я уже хотел постучать его по спине, но тут вошла Эсме в роскошном сине-белом одеянии, и он внезапно сглотнул ком в горле. Джентльмены встали. Эсме сделала реверанс и улыбнулась. В ее взгляде, обращенном на меня, был намек на нашу общую тайну. Сев спиной к окну, она протянула изящные пальцы к корзине для хлеба. — Там так чудесно. Я видела каких-то прекрасных птиц. Я спросил, заметила ли она пеликана, но она покачала головой: — Только несколько маленьких птиц. И эти чудесные пальмы! Разве там не тепло? Кто бы мог подумать, что сейчас март? — Именно! — обрадовалась миссис Корнелиус. — Скоро ж день роштения Вольфи. Мы отпразднуем Пасху! Устроим ветшеринку! Это поможет тебе, бедный наш ублюдок. — Она громко расхохоталась. Квелч спросил, какое сегодня число. Оказалось, что по британскому календарю было четырнадцатое марта. До Луксора нам предстояло плыть еще три дня. — Вот и прекрасно, — сказал он. — А у нас будет маскарад? — спросила Эсме. — В костюмах? Симэн пожал плечами. Он смутился и покраснел. — Я не уверен, что Грэйс позволит использовать наш реквизит… — Отшень легко нарядиться арабами. — Энтузиазм миссис Корнелиус только усилился. — У нас же у всех на кроватях есть простыни, надеюсь. А больше нитшего и не понадобится. Меня тоже захватила эта идея, хотя, подозреваю, она в какой-то степени была связана с той скукой, которая так часто пронизывает корабельную жизнь, порождая нелепые шутки и неуместные связи. Прошло немало времени с тех пор, как я подобающим образом праздновал Пасху, так что я уже с нетерпением ждал вечеринки. И ожидание действительно помогло немного ослабить болезненный страх, который копился в дальних углах моего разума. Было невозможно объяснить происхождение этого страха, хотя сами образы, возникавшие в сознании, напоминали о Гадесе. В те дни я не примирился с реальностью смерти. Я стремился произвести наибольшее впечатление на этот мир. Беспокоиться о загробной жизни я предоставлял священникам. Старость приносит мудрость или крушение надежд — я не уверен, что именно. Мы с Эсме теперь проводили много времени вместе, так как миссис Корнелиус превратила профессора Квелча и даже Вольфа Симэна в завзятых карточных игроков; они сидели за столом с Радоничем и Шефом «Шри» Гарольдом. К тому времени мы все уже вели ночную жизнь, а рассвет воспринимали как подготовку ко сну, продолжавшемуся до ланча; потом мы все постепенно собирались в ресторане, как будто не видели ни единой души после вчерашнего ужина. Что-то в сухом египетском воздухе смешалось с нашим кокаином и даровало нам с Эсме невероятные ощущения и наслаждения. Мы погружались в них с одержимостью. Только когда интенсивность их начала слабеть, я обратился к менее энергичным удовольствиям, не стараясь, подобно большинству новичков, так или иначе усилить ощущения с помощью грязных игр и порнографических открыток. Мне кажется, тот, кто постоянно посещает секс-шопы, откровенно признает свое поражение. Я наслаждаюсь женщинами на их собственных условиях, и я охотно изучил эти условия, насколько возможно. Именно поэтому женщины доверяли мне. Сегодня нет никакого способа узнать, можно ли доверять мужчине. Эти «Мэйдеи» и «Пентаксы»[975] обещают слишком много и не дают ничего; они пробуждают голод, мечту о несуществующей еде, которая, если бы она в действительности и существовала, так или иначе осталась бы грубой и низменной альтернативой уже доступной пище. Если мы терпеливы, открыты, готовы познавать, готовы в некоторых случаях к покорности, а в других к господству, — тогда мы попробуем пищу богов, пищу истинно человеческой любви. Этому я учил Эсме в наши бурные ночи — и ночи снова стали спокойными. Есть особая изысканная гармония в наслаждении прошлым и утверждении будущего. Признаюсь, я усвоил это во многом благодаря своей баронессе и иным милым сердцу подругам, которых не стоит упоминать в нынешней обстановке. К середине тридцатых мы научились осторожности и утратили невинность. К сороковым открыли утонченные удовольствия сдержанности и жертвенности, удовольствия преходящего. К пятидесятым эти вещи вошли в привычку и все забыли о причине их создания, а в шестидесятых их отвергли как не представляющие ценности, и все внезапно свелось к патентам и лицензиям. Их газеты — работа безумных эксплуататоров, психопатов и сексуальных маньяков, безответственных хулиганов, униженных детей среднего класса, чьи отцы, дядья и старшие братья — постоянные клиенты проституток с Колвилл-террас и Тэлбот-роуд. Иногда они сталкиваются друг с другом: хиппи с Портобелло, который наслаждается порцией опасного североафриканского наркотика и прилюдно щупает свою растерянную любовницу прерафаэлитского вида, и его отец, вылетевший из «Камеры желаний мадам Кнут». Меня уверяют, что между ними есть какое-то различие. Я не могу его разглядеть. Один за другим они подчиняются власти Зверя. Неужто они видят какую-то добродетель в том, что заражают общество своими грязными картинками, своими постыдными желаниями и дурными болезнями? В этих газетах всевозможные пытки и унижения выставляются как расширение пределов человеческой сексуальности. И вы еще говорите, что Козел не вытянул свое волосатое тело на гниющих досках Портобелло? Говорите, Он не смотрит сверху на тот возбужденный людской поток, который, возможно, вылился из какой-то исламской трущобы? Утверждаете, что Он не смеется, корчась от боли? Не верите, что Он может даже получать от этого удовольствие? Разве не таков финал всех великих цивилизаций? Люди, которые создали «Пакс Британника» на половине земного шара, завоевали право установить флаг христианского мира прямо в сердце Аравии, принести его в саму Мекку и уничтожить корни наших нынешних болезней. Увы, вместо этого Великобритания полюбила Аравию, так же как и евреев. Она возлюбила всех семитов. И потому разрывалась между двумя соперниками. Кого из них нужно было выбрать? Она сделала то, что делали все роковые женщины со времен Евы: она пошла на компромисс, она заколебалась. Она должна была повернуться спиной к ним обоим и вспомнить о великом чувстве собственного достоинства. Все думали, что так и будет. Особенно немцы, которые иначе точно не решились бы воевать. Но когда социалисты в британском парламенте четко дали понять, каковы их новые приоритеты, — какой у нее оставался выбор, кроме соглашения с большевиками? День их позора — двадцать третье мая 1939 года[976], когда они создали независимое государство в Палестине. То, что некоторые евреи, как и арабы, обрушились с критикой на это заявление, — верный признак, что нормальные люди есть даже среди наших противников. Великобритания стала шлюхой евреев, прислужницей арабских торговцев. Гитлер считал своим долгом спасти Британскую империю. Но он не учел ее нового Дядю — Сэма, который теперь контролировал финансовые ресурсы не одной страны. Откуда Гитлеру было знать, что очень многие христианские земли уже пали жертвами напыщенных стервятников, которые вырвались из клеток после войны и революции? Откуда ему было знать, что предателями окажутся все, на кого он рассчитывал, даже Муссолини? Я не защищаю Гитлера. Я не извиняю его крайностей и не одобряю некоторых его методов; но при этом я не склонен винить его одного в том, что мир погрузился в пучину слабо замаскированного варварства. С ним ужасно обошлись. Он очень часто доверялся неподходящим людям. Черчилль разделял мое мнение. Он признался в этом миссис Корнелиус однажды ночью в 1944‑м, и она до сих пор вспоминает: «Я и малыш Вини немнотшко подзабавились вместе». Примерно тогда же нас начали бомбить «Фау‑1»[977]. И в ту же неделю я видел, как Бродманн вышел с Даунинг-стрит и, остановившись у мешков с песком, нарушил закон и зажег спичку, чтобы закурить. Он был в форме смотрителя ПВН[978], с белой лентой и лампой. Наступили сумерки, деревья казались черными, как трещины на сером стекле. Когда я помчался по Уайтхолл, рассчитывая задержать его, зазвучала сирена, и мы тотчас бросились в зловонные убежища. Думаю, что, если бы мне пришлось убить кого-то, это был бы Бродманн. Как он искушает меня своим знанием! Он — единственный живой свидетель моего позора. И с позором я могу смириться. Я понял, что не должен винить себя. Но мне всегда очень не хотелось вспоминать о том, что Бродманн, еврей-изменник, худший представитель своей расы, видел в казацком лагере то, что он видел, перед тем как я получил пистолеты Ермилова. Признаю, это не хуже того, что потом видел Квелч, — того немногого, что он видел… Но Квелч мертв. «Пальмах»[979] не держал бесполезных заложников. Вся кровь теперь в сточной канаве, как мы раньше говаривали в Слободке. Однако я не могу рассказывать обо всем этом без дрожи. Все тело, кажется, призывает меня остановиться. Это подлинное самоистязание. Мои руки не хотят держать ручку. Моя голова не хочет говорить. Мой самолет звался «Ястреб». Он пронесся над миром. Он вошел в историю. Он преодолел время. В газетах пишут, что мы находимся в начале нового ледникового периода. Интересно, он очистит мир или просто сохранит его? Не был ли нашим Рагнарёком тот злосчастный конфликт, который закончился в 1945‑м? Мой корабль зовется «Роза». Лучи рассвета окрашивают серебристо-зеленые плавники в мягкий красноватый цвет, и «Роза» поднимается в золотое небо, в котором кое-где виднеются синие и серые тона. «Роза» могла стать первой в моем флоте — матерью моих летающих городов, моей новой Византии. Прервав распространение эллинизма в семитском мире, евреи проложили путь более жестокому и примитивному исламу. Евреи не убивали Христа; они просто остановили его движение. И, прямо скажу, заплатили за это немалую цену. Ну, все мы наконец набрались мудрости. Теперь пришло время признать различия и пойти собственными путями. Во что бы то ни стало позвольте евреям обрести свою страну в Африке — но не за счет неевреев! Что мы получаем за поддержку Израиля? И зачем нам поддерживать его? Есть единственный очевидный ответ на этот вопрос, единственный ответ, который сами арабы зачастую громко и недвусмысленно сообщают миру: «Ныне евреи заправляют всем». Даже миссис Корнелиус не хочет соглашаться со мной. Конечно, я редко говорю с ней о политике. Теперь она показывает мне газеты, в которых нам каждый год сообщают имена самых богатых людей в мире, и говорит, что все они — англосаксы, греки или швейцарцы. Самая богатая — королева. — И что же, королева — еврейка? — спрашивает миссис Корнелиус. — Возможно, — отвечаю я. Я ничего не исключаю.Глава семнадцатая
Все, о чем мечтали люди, могло стать реальностью — достаточно было только усилия воли. Такова моя вера. Таково последнее послание Бога миру. Это послание доставил Его сын, и он подтвердил сказанное своей святой клятвой. Это учение, на котором будет основана моя возрожденная Византийская церковь. Нет, моя церковь не станет ограждать и запрещать. Она явит собой поистине греческую церковь, открытую и всеобъемлющую. Ибо слово сделается явью. Я говорю это вам, братья и сестры, и тем, кто считает себя моими врагами: «Мы пришли на эту землю, чтобы служить Богу, и чтить Его, и искупить Дух Его Сына, Господа Нашего Иисуса Христа, и сделать Его Слово явью». Иисус принес миру простую весть: «Любите друг друга». Опустите оружие; уладьте разногласия в честном споре, без лжи и пушек. Никто из нас не достигнет идеала, пока мы не воссоединимся с Богом в Раю, услышав благую весть и последовав примеру Иисуса Христа, Его Сына. Наука — благословенный дар Бога, который поможет нам лучше понять Его Слова и исполнить Его веления. Теперь я это знаю. Эта мысль помогла мне смириться с бессчетными разочарованиями, в том числе и со способом, которым мне ныне приходится зарабатывать на жизнь. Я очень долго чинил велосипеды. Еще — разные небольшие двигатели в галерее за Лэдброк-роуд. А теперь — шубы. Я начал посещать храм Святого Константина в Бэйсуотере[980]. Слишком долго я избегал утешений религии. Если быть абсолютно честным — думаю, я просто боялся религии. Сегодня я верю в Бога и в принципы христианства. Безбожная страна не может достичь процветания. Но я не склонен к тому, что старший из братьев Корнелиус называет «фундаментализмом». Если, конечно, не считать «фундаментализмом» то, что я верю в Бога и Его Слово! Klyatvoy tyazhkoyu, klyatvoy strashnoyu…[981] Раньше я встречал эмигранта по фамилии Джерхарди[982], который писал романы. Он говорил, что добился успеха перед войной. Мы часто посещали один книжный магазин на Холланд-стрит. У нас были общие интересы с владельцем, ученым, как я понял, приехавшим из Афин. «Нужно следить за страницей, как следишь за женщиной». Это была любимая поговорка Джерхарди. Мы однажды вместе прогуливались по Холланд-парку — в чудесный летний день. Этот парк — истинная находка для любителей красоты, которые не могут постоянно жить в атмосфере роскоши, среди редкостей и чудес. «Нужно притворяться, что даешь ей полную свободу, но всегда незаметно управлять самому. И тогда рождается изысканное наслаждение: ты наделен подлинной силой, которую используешь ради нее самой». Он писал историю о псе, обладавшем разумом Эйнштейна. Но пес все еще спаривается с суками, нюхает дерьмо и мочится на фонарные столбы. Когда его в этом обвиняют, он говорит: «У меня, возможно, человеческий ум, но мне нужно сохранить собачью честь и достоинство». Книги Джерхарди, по его же словам, немного напоминали романы П. Г. Вудхауса[983], но на русский манер. Я взял несколько в библиотеке. Модные штуки, с незначительными, почти невнятными сюжетами и наблюдениями, которые едва ли могли показаться новыми передовой аудитории двадцатых; они были на том же уровне, что сочинения Джона Купера Поуиса[984]. На следующий день я вернул книги. У «мистера» Во, по крайней мере, хватало вкуса на то, чтобы оставлять собственные галантерейные предложения относительно короткими. Я смог сказать своему знакомому, что его книги виделись «более содержательными», чем произведения Во, и он согласился. По его мнению, дело заключалось в том, что он имел склонности настоящего мужчины. Он чувствовал, что его проза была более здоровой, более континентальной, и вдобавок он не стремился к ограниченной морали. Он писал новую книгу под названием «Лемминги и крапивники»[985], о существах, чей нрав не соответствует физической силе. «Я задавался вопросом, не стоит ли добавить туда и горилл, но, конечно, с такими дополнительными перспективами есть трудности». Потом мы перестали встречаться на Холланд-стрит. Думаю, у магазина возникли какие-то проблемы с полицией. То место теперь держит другой грек, говорят, что он горбун, но я его никогда не видел. Мой знакомый литератор стал настоящим затворником. Я надеялся найти его в церкви, к услугам которой обратился. Хор там подходящий. Одно время я посещал англиканскую церковь Святой Марии в конце Черч-стрит[986], но потом возникли трудности, уже не помню, по какой причине, и с тех пор я не чувствовал желания возвращаться к тамошней бесцветной пастве. Я помню, как еще один выдающийся литературный деятель сороковых и пятидесятых, Хэнк Дженсон[987], сказал мне в клубе «Мандрагора», что он иногда воображал себя какой-то пчелиной королевой, которая выводит потомство, руководствуясь исключительно инстинктами. Теперь он почти неразумен, он настолько приспособился к условиям своей работы, что может писать романы без единой сознательной мысли. «Как вы думаете, это и впрямь опасно?» — спросил он меня. В конце концов ему пришлось уехать в Испанию из-за смешных британских законов о непристойности, которые позволяют в публичных местах связывать и пытать женщину, но запрещают ласкать член ее возлюбленного. «Мои обложки — самые мерзкие детали в этих книжках. Они и еще бичевание. Теперь уже нельзя сказать слово „панталоны“ — какая-нибудь педантичная леди сразу выхватит нож и потащит тебя на живодерню». Я дал ему адреса своих друзей. Это происходило в те дни, когда «Фаланга»[988] сохраняла строгую дисциплину и Испания была самой дешевой,самой безопасной страной в Европе. Мне говорят, что теперь все уже не так. С того мига, когда рука Франко соскользнула со штурвала, государственный корабль был обречен, он стал добычей пиратов — и мавров, и христиан. Печать атеизма можно заметить уже повсюду, особенно в архитектуре Коста-дель-Соль и Пальма Новы[989]. Эта дешевая, небрежная брутальность, о которой отзываются с непристойной гордостью, — просто высокоученый вздор и не имеет никакого отношения к тому, чего люди хотят от зданий. Они хотят человеческих масштабов. Архитектура — величайшее из искусств, высшее подтверждение замысла Божьего. Когда-то эстетические свойства наших зданий определяла церковь. Тогда честные, богобоязненные торговцы, строя дома, подражали храмам, возможно, руководствуясь практическими мотивами. Короли возводили себе монументы, а принцы — фамильные дворцы. Все они таким образом приносили благодарность Богу и демонстрировали ближним свое процветание. Тех, кто не строил ничего похожего, очень скоро стали называть скупыми атеистами — и в этом были едины дворянство, церковь и государство; подобные отщепенцы лишались друзей и всякой поддержки в сообществе. Я не думаю, что тоска по золотому веку — это какой-то атавизм. Огромные здания Малой Азии сохраняют свое поразительное величие даже в руинах, потому что они были возведены во славу истинной веры. Те желтовато-коричневые, красноватые развалины в лучах вечно палящего солнца… Мы могли почувствовать запах их древности, когда наша лодка скользила мимо, в жемчужную раковину могущественной египетской империи, к тому городу, который Гомер назвал «стовратными Фивами». — Fons et origo, — подчеркивает Квелч, — fons lacrimarum![990] А когда мы замечаем неброские гробницы или храмы, пятна камня среди ярко-красных холмов и желто-зеленых пальм, профессор с прежней насмешливостью добавляет: «Типично и невероятно живописно». Но я уже не верю в искренность этих насмешек. Я хотел бы понять причину его поведения. Думаю, дело в каком-то особом чувстве собственного достоинства, в квазирелигиозном понимании свободной воли — из-за них он не может признаться мне, почему так порочит этот мир, скрывая свои истинные чувства. Хотя, конечно, есть и что-то еще… Квелч всячески показывал, что ему скучно, но мне Египет представлялся уникальным — это была почти иная планета. Она вечно удивляла меня своими горечавково-синими водоемами и отчетливыми охряными ранами ярко-желтых скал, изумрудных и нефритовых пальм и полей; бледными древними камнями, которые разрушаются под вечными ветрами, дующими из невообразимо далекого прошлого; высокими белыми треугольными парусами фелук; небольшими серо-коричневыми ослами и желтоватыми верблюдами на берегах; здоровыми детьми с кожей оттенка кофе с молоком, бежавшими вдоль реки, взывая к нам; женщинами в цветных вуалях, которые махали нам руками; улыбающимися мужчинами в фесках или тюрбанах. Квелчу все это казалось убогим, скучным или раздражающим; большую часть времени он проводил на палубе, перечитывая карманное издание «Симплициссимуса»[991] в запрещенном переводе Уэлдрейка, которое он отыскал в Каире. Он говорил, что испытывал склонность к грубой школе немецкого романа, с мужчинами, наряжавшимися женщинами, частым битьем слуг, невозможными совпадениями и необычайно многочисленными описаниями испражнений. Такая устаревшая форма юмора до сих пор находила благодарную аудиторию; время от времени это подтверждалось странными, еле сдерживаемыми шумами, которые издавал мой спутник, даже по ночам, в темноте, когда он вспоминал какой-то особенно веселый эпизод — один из тех, где речь шла о крестьянской девочке, пистолете, обыкновенном домашнем животном (обычно о свинье) и иногда о еврее. Квелч заявлял, что, в отличие от большинства людей, восхищается немецкой культурой, не ограничиваясь только Бетховеном и Гете. Теперь у нас в карманах лежали чеки, выписанные на счет «Англоинтернациональной кинокомпании» сэра Рэнальфа, и нас не тревожили подозрения, что наш новый продюсер — не джентльмен. — Сэр Рэнальф, — решительно заявил Симэн однажды днем, когда мы сидели под тентом, потягивая горькую настойку с содовой, — это ваш великий староанглийский сквайр. У нас в Швеции тоже есть такие. Вроде породистого йомена, который, потревожив куропатку в поле, позволяет ей в итоге увести его от яиц. Заверив ее, что поддался на обман, он снимет шляпу и скажет: «Я сожалею, что причинил вам беспокойство, мадам», — а потом пойдет дальше. Я сделал об этом фильм — еще до приезда в Америку; но мне сказали, что фильм слишком длинный. Они разрезали его на кусочки. — Большой шаг на пути от примитивного символизма к разумному обществу. — Профессор Квелч отодвинулся от ветерка, создаваемого опахалами. — Не так уж мои фильмы и отличаются, знаете ли. Я рассказываю те же самые истории и даю те же самые нравственные уроки, разве что контекст немного другой. — Побольше сексу. — Миссис Корнелиус величественно склоняется над Симэном, чтобы сделать глоток из его стакана. На ней шляпка в стиле Гейнсборо, ее свободно окутывает светло-зеленый шелк с цветочной каймой и аромат английского сада. — Больше любовных увлечений, как они энто зовут. — Она поцеловала его в маленькую, но заметную лысину. — Вот за энто они и плотют, а, Вольфи-малыш? Кусотшек тут, намек там… — Зрители получают сильную, ободряющую мораль. Постепенно Симэн возвращается к прежней холодности, которая проявляется всегда, стоит только задеть его самолюбие. Симэн ненавидит, когда сомневаются в его артистических дарованиях. Миссис Корнелиус может лишь немного подразнить его. Она по секрету признается мне: она делает это, в основном чтобы избавиться от необходимости выслушивать его скучные монологи в спальне; если бы она не чувствовала себя парализованной, то могла бы просто выброситься из окна, лишь бы не присутствовать при очередном сеансе самовосхваления. Его гений, его миссия, его ранний успех, его награды и прекрасные рецензии остались в памяти миссис Корнелиус не столько словами, как она замечает, сколько ощущением ужасного, точно скрип соседского катка для белья, шума. Я ей сочувствовал. У нас в России много таких краснобаев. Я всю жизнь старался их избегать. — Окромя того, — говорит она, — он такая легкая мишень, верно? Я немного жалею Симэна и поспешно добавляю, что, по моему мнению, наша история обеспечит самую мощную моральную концепцию, какая только возможна в современном кино, и все же она должна обращаться к сердцам зрителей. Мы дадим им романтику, зрелище, трагедию, смех, слезы, историю, которая не сможет не увлечь их, «послание, прославляющее современную любовь, что превосходит понимание и разум»! Это совершенно успокаивает режиссера, и он даже чуть заметно улыбается, когда миссис Корнелиус поглаживает его по руке. Эсме возвращается с носовой палубы, где она сидела под зонтиком. Она прелестна как никогда — истинное воплощение возлюбленной моего детства. — Мы говорили, каким замечательным будет наш фильм. Я нежно целую Эсме в лоб. Симэн поворачивается, чтобы уйти. Эсме останавливает его: — О, да, Вольфи, дорогой, это сделает нас всех удивительно богатыми, и мы станем миллионерами. Я как раз думала, на что потратить деньги, когда мы вернемся в Голливуд. Сначала большой дом, да? — Наш собственный Пикфэр[992], - обещаю я. И нас окружает столько необычного, что в моем сознании тут же рождаются образы — я чувствую даже запах роз, которые будут расти у нашего дома в Беверли-Хиллз. Мой корабль зовется «Der Heim». Это город с населением в сто тысяч человек — ремесленники, художники, профессионалы, интеллектуалы, ученые. Тонкие башни сияют ярко, как золото, ярко, как серебро, ярко, как закаленная сталь. Meyn shif ist meyn sheyvet, meyn shtetl[993]. Мой корабль — мой памятник Богу, мое воплощение Его воли, мое понимание нашей главной цели на Земле. И эта цель — вознестись, во всех смыслах, над Землей. Пусть их иссохшие руки поднимаются и опускаются в грязи и крови разрушенной планеты, где они жадно хватают ртами воздух и просят о быстрой смерти, потому что они убивают все живое и с такой великой охотой исполняют наказ своего повелителя, Сатаны. Наша боль отвлекает Сатану от его собственной. Не Христос, а Сатана заставляет нас страдать. А они этого никогда не поймут. Миссис Корнелиус говорит, что мне не надо так много думать об этих вещах. Она настаивает, чтобы я отвел ее в «Бленем армз», где она встречает друзей, школьную учительницу и священника. И, пока я пью дешевую водку, она доказывает, что мне следует позабыть о былых обидах на веселой вечеринке. Но я не хочу думать о вечеринке. Это просто не мое веселье. Зной заметно усиливается, пока мы продвигаемся вверх по реке. Сухой жар пустыни не причиняет особого беспокойства мужчинам, но дамы считают его утомительным. Им не позволяют выходить на палубу в купальниках или летних платьях из-за волнения, которое обнаженные тела европейских женщин могут вызвать у матросов (не говоря уже о проплывающих мимо местных или случайных наблюдателях на берегу). Как заверяет профессор Квелч, мы привлекли бы к себе внимание — в худшем смысле, и последствия могли бы оказаться самыми неприятными — от грязных окриков до нападок имамов на дочерей Иезавели[994]. Имамы уже вызвали немало проблем в сельских поселениях, поддержав экстремистов «Вафд», которые убийствами и запугиванием многого добились в удаленных районах. Погода особенно раздражает миссис Корнелиус. — Я потею как тшортова свинья, Иван. Мне надо найти местетшко похолоднее — вроде барной стойки в «Устричной комнате» на площади Пиккадилли. Англитшане не предназнатшены для такой поджарки. Я высказываю предположение, что она перестанет обращать внимание на жару, как только мы снова возьмемся за работу. Наши отрывочные репетиции, обычно в пустом зале-ресторане, были скорее способом скоротать время; мы не думали о совершенствовании того, что и так казалось совершенным. Изучая наброски, таившие в себе великую силу, я думал, что вот-вот создам фильм, который сочтет выдающимся сам Д. У. Гриффит. Вернувшись домой, в Голливуд, я смогу с гордостью предъявить его — и больше никакой болтовни о «жуликах» и «ворах» не будет! Другие режиссеры станут сражаться изо всех сил, чтобы заполучить нас. Мы обретем такое же могущество, как «Юнайтед артистс». Анита Лус[995] почти мгновенно сделала Дугласа Фэрбенкса звездой. Почему бы и мне не сделать звездами миссис Корнелиус и «Айрин Гэй»? Возможности режиссера в подобных случаях всегда переоценивают. Эти хозяева студий убедили легковерных наблюдателей, что только они отвечают за все лучшее на экране, а в худшем виновны продюсеры и все прочие! Я считаю иначе. Ведь у продюсеров обычно гораздо больше здравого смысла, а сценаристы и художники по декорациям очень не любят попусту тратить время и деньги. Но миссис Корнелиус пребывает в дурном настроении; на сей раз она никак не может успокоиться. Вдобавок, объявляет она, ей все меньше и меньше нравится еда. Если ей придется съесть еще одну рыбу, которая выглядит так, будто сама готова кого-то сожрать, — миссис Корнелиус станет вегетарианкой. На мой украинский вкус, еда превосходна. В Константинополе я привык к турецкой кухне, а здесь обнаружил, что египтяне многому научились у своих хозяев! Даже если Левант больше ничем не обязан туркам, он всегда должен благодарить их за брик и пастиллу[996]. Мое пристрастие к зерновым и бобовым тоже раздражает миссис Корнелиус; не чувствует она и любви к рису, особенно к рису с рыбой. Рыба без картошки — не настоящая рыба, настаивает она, так же как пирог без соуса. Молодые угри гораздо хуже, чем в Уайтчепеле, а такие шницели и бифштексы, уверяет она, в Олдгейте и Ноттинг-Дейле посетители просто об стену бы швырнули. Услышав это, профессор Квелч приоткрывает глаза и поднимается со стула, чтобы заявить: очень часто на шиллинг в Степни можно было поесть гораздо лучше, чем на пятерку в Вест-Энде. Конечно, если судить о еде по стандартам Мейфэра, наша покажется более чем приличной. С ностальгией вспомнив о любимых пирожковых и пивных, миссис Корнелиус спрашивает профессора, знает ли он «Сэмми» в Уайтчепеле. Она утверждает, что это местечко хорошо известно в Ист-Энде. Профессор Квелч смутно вспоминает о восхитительных отбивных и колбасах и выражает предположение, что ел в этом заведении неповторимых угрей. — Сэмми никогда не делал угрей. — Она хмурится. — У его были только пироги с картошкой, отбивные с картошкой, колбасы с картошкой. Лавка с угрями — это у Тэфлера, рядом. Мне у его никогда не ндравилось. А вы тшто делали в Ист-Энде, проф? Механикой занимались? — Мой дядя интересовался мальчиками-сиротами. Эсме, пожевывая соломку, непонимающе смотрит на берег, полускрытый пальмами. Мысленно она до сих пор пребывает в каком-то городском раю. Миссис Корнелиус справляется о знакомых, работавших в доках, но профессор качает высоко поднятой головой: — Я не возвращался в Англию с довоенных времен, сага madonna[997]. Я даже не думаю, что есть из-за чего туда возвращаться. А вы как полагаете? Социалисты предают империю! Ирландия — это первый шаг. — Ну, везде есть взлеты и падения, проф. — Миссис Корнелиус уже позабыла о своем недовольстве. Хотя еще рано, она потягивает джин. — Одна дверь закрывается, другая открывается. Тшто-то теряешь, тшто-то приобретаешь. Такова жизнь. — Она разводит руками. — Я полагаю, что до войны существовали определенные стандарты и стоит их придерживаться, — почти злобно отвечает Квелч — словно Лютер, призывающий доброго Immaneus[998] на блудницу вавилонскую. Но миссис Корнелиус с ним соглашается. — Мир, однако ж, меняется, перфессор, и лутше меняться вместе с им. Все протшие варианты — просто безумие, не думаете? Я не против опять взглянуть, как там все. — Она ностальгически вспоминает о Лондоне, потому что нашла старые номера «Татлера» и «Плей пикториал»[999] в небольшой нише, служившей нам библиотекой и рабочим кабинетом. Миссис Корнелиус похожа на перелетную птицу, которая в определенное время чувствует инстинктивное стремление вернуться на родную территорию. — И тут встретша со старым майором Наем, со всеми его новостями. Я, знаете, потшти прослезилась. Она в первый раз упомянула о вечере, который провела с майором накануне отъезда из Каира. Очевидно, он попросил ее ничего не говорить, и я уважал ее молчание. — Най прибывает в Луксор? — Профессор Квелч настораживается. Моя дорогая леди? Это же парень из полиции? — Не боитесь, проф. Он не явится, тштоб забрать вас домой. Социалисты не притшинят вам вреда. Он тут не из-за дури. — Она гладит Квелча по желтой щеке. — Костюмтшик-то пока не выбрали? Назавтра был день рождения Симэна. Уступив общему требованию, швед разрешил нам использовать часть реквизита. Основные костюмы, предназначенные для ведущих актеров, остались неприкосновенными, но было много нарядов невольников и солдат — в них мы хотели облачить местных жителей, как только примемся за работу в Карнаке. В первой сцене нашего фильма древний город должен был ожить. Али-паша Хамса порекомендовал семейство опытных гипсолитейщиков, которые могли в точности воссоздать памятники Египта времен Рамессидов. Эта усталая земля руин снова расцветет. Так мы воздадим должное древнейшим архитекторам. Как удивятся местные жители, столкнувшись с собственным прошлым, которое возродится вновь! Но что они почувствуют — гордость или стыд? Эсме пришла в восторг, увидев немногочисленные кадры, в которых она появлялась. Она призналась, что просто влюбилась в себя. Мы посмеялись над этим. — Теперь у нас есть еще кое-что общее, — сказал я. Сэр Рэнальф Ститон оборудовал корабль темной комнатой и смотровым залом; проектор уже установили, в запасе имелось даже несколько фильмов. Я кое-что посмотрел. Это были ленты третьего сорта, явно британские или местные, в которых герои часто лишались одежды. Мне никогда не нравился Чаплин, не говоря уже об этих ужасно снятых имитациях, но другие мужчины, казалось, наслаждались ими. Я не удивился. Почти все они были обычными крестьянами — или детьми крестьян — из неразвитых европейских стран. Для них воплощением утонченного юмора стало бы дерьмо на цилиндре. Сегодня они превратились бы в прекрасных зрителей для комедийных вестернов Энди Вархуна[1000] — вроде того, который мне пришлось посмотреть в «Эссольдо» на минувшей неделе. «Тарк» в Уайтхолле[1001] — такое же ярмарочное развлечение. Миссис Корнелиус все это нравилось. Я указал на остальных зрителей и прошептал, что вижу соломинки в их волосах. Мы как будто стояли на деревенском рынке, глядя, как один бродяга-крестьянин лупит другого надутым свиным пузырем. Британцы умеют делать все банальное и вульгарное солидным и представительным. Вот в чем секрет британского телевидения, вот почему Бенни Хилла[1002] смотрят во всем мире. Величайший триумф британского мещанства случился, когда на Би-би-си наконец отыскали наименьший общий знаменатель и назвали его искусством. Пи Джей Проби[1003] решил лишь часть уравнения, выставив задницу на потеху подросткам. Никто бы не огорчился, если б он носил собачий ошейник и пенсне. Через несколько лет он стал бы рыцарем, как Аттенборо[1004]. Я видел разных карьеристов. В большевистской России, в Париже, в литературных и научных обществах, в фашистской Италии и социалистической Великобритании, в Берлине и в Голливуде — везде они добивались успеха примерно одинаково. Я хорошо изучил их приемы. Однако гордость не позволяет мне использовать подобные методы. Полагаю, что я остался идеалистом. Женщины признают это. Вот почему некоторые из них считают меня опасным. Даже Эсме не раз говорила подобное, и миссис Корнелиус подтвердила мнение моей девочки. «Если б ты не был так глуп, ты был бы опасен». Она имела в виду, что причиной моих неудач зачастую становилась моя доброта. Миссис Корнелиус высоко ценила мои интеллектуальные способности. Завоевательский пыл ослаб, и я провел некоторое время, читая моей маленькой девочке книги, обнаруженные нами на борту. Больше всего мне понравился английский перевод «Саламбо». Как прав был Кингсли Эмис[1005], когда отмечал, что этот роман, а не «Мадам Бовари», стал шедевром Флобера. «Саламбо» гораздо эффектнее. Флобер прочитал сотни книг для работы над каждой главой. Подготовка же к созданию первого, куда более гнетущего романа была минимальной. Именно благодаря «Саламбо» мы с Эсме оценили всю глубину и сложность жизни Карфагена, хотя в те дни я был достаточно наивен, чтобы верить, что эта книга — только замечательная выдумка. О пророческих дарованиях Флобера доселе сказано слишком мало. Мы едва одолели сто страниц до дня рождения Симэна. Эсме все чаще забирала книгу у меня из рук и целовала меня, предлагая провести время по-другому. Всегда оставаясь джентльменом, я не мог отказать ей, хотя наши разнообразные фантазии увлекали меня все меньше, а история француза интересовала все больше. Предчувствия не покидали меня. Ночью я курил киф Квелча, чтобы успокоить смятенное сердце. Я с осторожностью относился ко всем наркотикам, за исключением конкретных стимуляторов, но в течение некоторого времени находил особое удовольствие в том, что читал «Саламбо» на палубе корабля, который плыл вглубь Африки. Великолепные описания из книги повторялись в реальности. И гашиш усиливал эффект, реальностью созданный. Но всего этого еще не хватало, чтобы разогнать мои смутные страхи, уничтожить бесплотных призраков. Мое состояние напоминало мне худшие эпизоды из книги де Куинси[1006]. Я вдыхал драгоценный воздух в окружении экзотических ароматных чудес и необычайных эротических ощущений, но в тени я то и дело замечал морду Козла; он моргал гранатовыми глазами и скалил пожелтевшие зубы; то был древний Козел, которого окружала аура зла. Я отчего-то вспомнил о Ермилове, о казачьем лагере и о той ночи, когда Бродманн видел меня и Гришенко. Эсме! Эсме! Маленькие зубки выгрызают мозг из моих костей. Они клеймят мою плоть; они ставят на меня двойную печать, печать смерти и печать позора. Все эти лагеря провоняли страхом. Я отказался становиться музельманом. Они сотворили худшее в Киеве, Орегоне и Ганнибале, в Асуане и Заксенхаузене[1007]. Почти все они теперь мертвы, а я еще жив. Если бы я родился во времена эллинизма, то можно было бы сделать операцию, уничтожив последствия нелепого гигиенического решения моего отца, и тогда я оставил бы позади бессвязное и переполненное событиями прошлое, распутать все вымыслы и извращения которого заняло бы еще одну жизнь. Мое видение было ясным, откровенным видением будущего. Прошлое стало мне врагом. Я мог спасти всех нас, Эсме. Я мог показать тебе Рай. Неправда, что я — filius nullius[1008]. Я в родстве с лучшими семействами России. Эти разрозненные великие семейства воплощают сердце и душу нашей страны. Я несу их тайны с собой. Я никогда не выдавал их. Ikh veys nit. Ikh bin dorshtik. Ikh bin hungerik. Ikh bin an Amerikaner. Vos iz dos? Ikh farshtey nit[1009]. Я видел фильм о героях Киева. Он был создан в «Совколоре» на «совскоп», его снимал «соврежиссер» с «совактерами», и все же он передавал величие древних легенд, он рассказывал историю о нашей борьбе с грубыми ордами из Малой Азии. Я испытывал большое удовольствие от фильмов, пока не стало модно все время унижать зрителей. И они еще удивляются, куда подевалась аудитория! Почему их кинозалы превратились в залы для игры в лото! Они обвиняют публику, которая их избегает. В этом, по крайней мере, они правы. Кто в здравом уме, проведя долгий день на фабрике или офисе, сможет расслабиться в темном зале, видя слабый и полный неточностей рассказ о жизни в офисе или на фабрике? Не поймите меня неправильно: мюзикл, вестерн или романтический фильм — это фантазия, но разные новейшие мелодрамы — просто нереальные истории. В «Интернэшнл синема» на Вестбурн-Гроув я смотрел «Угловую комнату»[1010]; действие разворачивалось в Ноттинг-Хилле. Зал потрясали раскаты хохота, когда люди замечали явные ошибки в деталях и декорациях. Подобно большинству зрителей, я ушел в середине фильма. Мы хотели, чтобы наши жизни стали легендой, а не просто ничтожной сентиментальной историей. Разве таков посыл «Большого побега»[1011]? Эсме заставила меня закрыть глаза, а потом продемонстрировала свой костюм. Она выбрала одеяние гурии. К ярким алым брюкам, металлическому лифу и тонким украшениям она добавила очаровательную вуаль, которая только подчеркивала ее красоту. Я сказал Эсме, что она выглядит замечательно, но предупредил, что не стоит носить такое открытое одеяние в течение дня. Ночью, во время вечеринки, когда все наденут маскарадные костюмы, проблем не возникнет. Эсме надулась. Она думала, что меня охватит возбуждение, если я получу собственную рабыню, но ничего подобного не произошло — я мягко заметил, что не принадлежу к числу людей, которым необходимо публичное подтверждение одержанных побед. Потом, поняв, как задел ее самолюбие, я быстро добавил, что она и так самая красивая девушка в Египте и я боюсь, что какой-нибудь влиятельный паша бросит на нее похотливый взгляд и пожелает заполучить ее к себе в гарем. Это польстило Эсме и утешило ее, но я по-прежнему настаивал, что неблагоразумно носить подобный наряд в обычное время. Я, в свою очередь, оделся в костюм воина-ваххабита, черно-белый, очень просто скроенный; я дополнил образ темными очками, которые люди пустыни носили, пытаясь подчеркнуть свою цивилизованность и благородство. Капитан Квелч остановил выбор на костюме Рамзеса II, а миссис Корнелиус стала нашей Клеопатрой, скорее супругой одного из Птолемеев, чем самой знаменитой египетской царицей. Чтобы пополнить ряды женщин, Грэйс выбрал наряд Нефертити. Только сам Симэн, наш именинник, отказался от этих ребяческих игр, как будто чувствовал, что он обязан соблюдать подобающую режиссеру серьезность. В свой день рождения Симэн вышел к ланчу, когда наша небольшая группа уже собралась в баре — пропеть подходящую английскую песенку и настоять на том, чтобы режиссер выпил особый коктейль, который заказала миссис Корнелиус. Он сразу же обрадовался нашему обществу, а мы, для разнообразия, радовались ему. Я мало что запомнил, за исключением того, что в какой-то момент поддался эмоциям и расплакался. Профессор Квелч и миссис Корнелиус помогли мне вернуться в каюту, и я спал до тех пор, пока Квелч, намазавший открытые части тела смесью марса черного[1012] и сливочного масла, не разбудил меня, сообщив, что уже больше семи часов, а вечеринка должна начаться в восемь. Немного кокаина — и я вернулся к жизни, а после прохладного душа я был готов облачиться в простую джеллабу и бурнус, а также приклеить фальшивые бакенбарды гуммиарабиком. Когда я вышел в коридор, один из наших нубийцев заметил меня и заговорил на своем языке. Я попросил его перевести фразу, он рассмеялся и извинился. Нубиец сказал, что принял меня за одного из варваров-ваххабитов. «Я думал, нас захватили, эфенди». Я был еще немного не в себе после коктейлей, но это небольшое происшествие помогло мне восстановить силы — на палубу я вышел в наилучшем расположении духа. Словно молчаливые заговорщики, мы собрались у маленького стола, на котором стоял огромный пирог с глазурью, сверкавший свечами. Не знаю, как им удалось заставить повара испечь и так разукрасить кулинарное произведение искусства! И хотя сам пирог был чрезмерно сладким, а в глазурном буйстве смешались и местные орнаменты, и египетские и английские слова с буквами, Симэна по-настоящему взволновало такое проявление заботы, и он расплакался, поднимая нож. Эсме казалась ожившей грезой в своих шароварах и легких шелках; при каждом ее движении раздавался восхитительный нежный звук, и не вызывало сомнений, что наши нубийцы охвачены не похотью, а истинным обожанием. Она была маленькой богиней рядом с великолепной царицей — миссис Корнелиус. Обе они надели экстравагантные головные уборы из павлиньих перьев, по крайней мере на фут выше, чем у Полы Негри[1013]. Перья покачивались, изгибаясь под странными углами, когда женщины танцевали под музыку, доносившуюся из портативного проигрывателя О. К. Радонича. Дам было слишком мало, и мы согласились, что каждый мужчина должен потанцевать с ними по очереди. Если кому-то не терпится, заявили все, то он может пригласить Грэйса и тоже сделать пару пируэтов на палубе. Со временем многие заскучали, и Грэйс редко оставался без партнеров, хотя он уже изрядно выпил. Профессор Квелч, героически воздерживавшийся от спиртного, увлекся своей ролью и не отходил от Эсме, обещая ей «самую прекрасную гробницу в Египте», если она подарит ему хоть один поцелуй. Эсме сочла его забавным. Она с удовольствием подарит ему поцелуй у гробницы. Думаю, именно Эсме первой увидела огни Луксора — россыпь электрических и масляных ламп, рассеивавших тьму впереди. Профессор Квелч отвел взгляд от ее крошечной груди и облизал губы, тяжело вздохнув. — Несомненно. Это — Луксор. — Он выпрямился, чтобы взять у одного из наших мальчиков стакан «Виши» и кусок пирога. — Вы и отсюда можете ощутить запах сточных вод. Потом профессор встал, приподнял бумажный парик, прощаясь с Эсме, и скрылся вместе с мальчиком в тени. Я мог почувствовать только аромат жасмина. Стоя под тентом, у фортепьяно, Вольф Симэн начал наигрывать какую-то занудную скандинавскую польку, скорбно напевая слова на своем родном языке Шри Гарольду Крэмпу. Время от времени он бросал мрачные взгляды на миссис Корнелиус, которая сначала последовала за Малкольмом Квелчем и мальчиком на нижнюю палубу, а потом вернулась, усмехаясь себе под нос. Грэйс, измученный волнением и алкоголем, склонился над поручнем — его рвало; О. К. Радонич вальсировал с нашим капитаном, Юссефом эль-Шаркией, пьяным толстяком, который держал в одной руке сигару, а в другой — стакан виски. Наш Харон надел выцветшую синюю джеллабу, грязный белый тюрбан и сандалии из шинной резины, а на губах египтянина виднелись вечные пятна: он ел слишком много орехов. За несколько дней до того капитан, будучи в превосходном настроении, обратился ко мне с неким таинственным предложением. Когда стало ясно, что я его не понимаю, разъяренный моряк удалился; после этого он говорил со мной только в самых официальных выражениях, а беседуя с другими членами группы, сально улыбался. Я полагаю, что он как-то потерял лицо, обратившись ко мне, и очень смутился. Однако я не имел ни малейшего представления, в чем тут дело. Усевшись ненадолго на стул у фальшборта, я увидел, что капитан Юссеф бросает на миссис Корнелиус исключительно пылкие взгляды; будь я немного потрезвее — непременно предостерег бы его. Я уже знал, что подобные мужчины часто хотели заполучить прекрасных европейских женщин, но члены нашей команды в своих фантазиях были осторожны. Обычная сдержанность капитана исчезла, когда Юссеф попробовал раньше неведомый ему алкоголь, — и теперь он не мог скрыть свою отвратительную похоть. Скоро и сама миссис Корнелиус заметила его взгляды и с упреком погрозила капитану пальцем. Она не хотела, чтобы какой-нибудь мужчина попал из-за нее в беду. Вернувшись из уборной, Эсме предложила потанцевать. Я собрал оставшиеся силы и еще раз вышел на площадку, не зная, в каком ритме двигаться — то ли под расстроенные, неровные звуки «Am I Blue?» из проигрывателя Радонича, то ли под неверные аккорды скандинавского фольклора Симэна. Тем временем я уловил раздававшиеся где-то в глубине парохода глухие ритмы и гнусавые напевы нубийцев: наши слуги устроили концерт, чтобы отпраздновать день рождения режиссера и почтить жертву нашего Спасителя. Внезапно все это заглушил рев парового свистка: капитан вернулся в рулевую рубку и теперь предупреждал Луксор о нашем прибытии. Тогда комичные бедуины, странные сановники фараона, карикатурные воины Каира и Фив помчались во все стороны — участники вечеринки, услышав этот сигнал, решили, что корабль начал тонуть. Прошло некоторое время, прежде чем все успокоились. Эсме продолжала настаивать на своем — она в пьяном нетерпении тащила меня на нижнюю палубу, в каюту. Мы добрались до цели. Эсме уже опускалась на колени передо мной. Но, к моему превеликому удивлению, дверь заклинило. Мне и в голову не пришло, что каюта не пуста, поэтому я уперся плечом в дверь и надавил что было силы, попытавшись вышибить замок, — и тогда моему ангелу открылось кошмарное зрелище: профессор Малкольм Квелч оторвал красные, искривленные ужасом губы от возбужденного члена юнги-нубийца.Глава восемнадцатая
Над Луксором возвышаются два великих монумента. Дремлющие руины Карнака и внушительное здание отеля «Зимний дворец» затмевают все местные лачуги, официальные строения и частные дома. Отель — величественная гордость всех англичан и предмет зависти представителей других народов; он несомненно достоин древнего города. Это огромное белое здание, его широкие двойные винтовые лестницы выводят на длинную внешнюю террасу, возносящуюся над набережной, — оттуда открывается вид на далекие горы. С укрытых цветами балконов можно разглядеть древние святилища, тусклые зубчатые стены Мединет-Абу и все, что осталось от утраченного храма Аменхотепа, — колоссов-близнецов. Дальше тянутся пыльные террасы Дейр-эль-Бахри[1014]. Между ними, на склонах утеса, видны углубления — это могилы знати. За высоким холмом скрыта Долина Царей, а позади нее — огромная недружелюбная пустыня и враждебные приграничные области, где до сих пор бродят дикие бедуины. Большой сад отеля выходит на восток. Здесь можно почти позабыть о Египте, принимая пищу в обществе других благородных европейцев. «Зимний дворец», словно по воле волшебника, отделен от окружающего мира густыми зарослями кустарников и высокими стенами. Видны лишь далекие восточные холмы Луксора, в утреннем свете синеватые и прозрачные, словно они сделаны из халцедона. В садах растут все знакомые английские цветы — розы, гвоздики, анютины глазки, ирисы, герани окружены гладкими зелеными лужайками и источают аромат, напоминающий тот, что исходит от разделительных полос на поле для крикета, за которыми постоянно ухаживают садовники, одетые в безупречную форму. — Луксор — душа Египта, — настаивает Малкольм Квелч. Мы потягиваем чай. (Я почти тотчас захлопнул сломанную дверь накануне ночью, но был убежден, что Квелч видел нас обоих. Он притворялся, будто ничего не помнит, — возможно, для того чтобы избавить всех от неловкости. За исключением одного-единственного мимолетного упоминания о двух годах обучения медицине в армии и о готовности использовать эти навыки, чтобы помочь любому местному жителю избежать проблем со здоровьем, Квелч никак не пытался объяснить происшествие. Я постарался намеками дать ему понять, что остаюсь толерантным светским человеком, а Эсме вообще мало что знает об окружающем мире.) — Карнак идеально подходит для великого города, вам так не кажется? К востоку от нас тянется прекрасная равнина, и зелень простирается до самого подножия холмов! На западе открывается замечательный вид на другую равнину. А между востоком и западом — наш извилистый Нил! Мы с Эсме уже арендовали коляску, чтобы осмотреть окрестности. Мы прокатились вдоль роскошных полей, мимо пальмовых рощ, через холмы, которые медленно поднимались на юге, внезапно возносясь ввысь. Они устремляли острые вершины к Красной Горе — огромному фантастическому склону, рассеченному белой тропой, которая тянулась с гребня, словно старая зарубцевавшаяся рана. — Эта гора — призрак величия Фив, — объявил Квелч, приблизившись к нам, — память о земных богах, грозовая туча, нежданно возникающая посреди ясного открытого неба! Она может нависнуть близко, мрачная, коричнево-красная, горячая, сухая, непроницаемая, неподвижная, — или оказаться далеко, поблескивающая розовая громада в синей тени раннего утра, — неважно! Она всегда огромна, мои дорогие друзья, она укрывает своей тенью весь мир и всех людей! С тех пор как мы высадились на берег, размышления профессора стали подчеркнуто лиричными. Он не избегает меня и Эсме — напротив, то и дело разыскивает нас, как будто хочет стереть все неприятные воспоминания и изменить наше мнение. Профессор ведет себя учтиво и даже заботливо. — Ни один Птолемей, ни один римлянин, ни один француз никогда не построил такого великолепного и практичного здания, как этот отель, — продолжает Квелч, а я начинаю подумывать о том, как бы от него сбежать. — Месье Пьер Лоти в злом и декадентском воплощении англофобии, которое он назвал «Смерть Филе»[1015], отрицательно отзывается об этом отеле. Но разве вы не замечаете, как он прекрасен? Он решительно затмевает все современное поселение. Как полагаете, это уже достаточно ценное свойство? Я сказал то же самое в своей книге. И был польщен тем, что Томас Кук лично написал мне письмо и до войны мне предоставили кредит в баре и ресторане. Война принесла упадок нравов. Какая сила привела нас к такому ужасному самоуничтожению? Я признаюсь, что этот вопрос задаю очень часто. Я говорю, что надеюсь ответить на него в одном из сценариев, который собираюсь написать для нашей новой компании. Действие «Безумия» развернется во французском саду, куда вторглись солдаты всех стран. Квелч думает, что сэр Рэнальф Ститон уцепится за идею, «особенно если добавить туда предмет любви героя; например, молодую леди, которую насилуют боши». Я считал, что мой фильм будет выше примитивного национализма, и чувствовал, что сэр Рэнальф оценит универсализм моей идеи. Он, в конце концов, занимался созданием международных картин. Сэр Рэнальф подтвердил это, когда приехал поездом из Каира, в сопровождении трех слуг и большого количества багажа. Он занял почти половину этажа в «Зимнем дворце». Некоторые комнаты предназначались для нашего кинопроизводства, но у меня сложилось впечатление, что слугам пришлось сильно потесниться. На самом деле большинство из нас в отеле не жили: мы оставались в своих каютах на пришвартованном корабле, а в «Зимнем дворце» только обедали. На имя компании был открыт скромный банковский счет, а наличные на карманные расходы мы получали в конвертах, но вряд ли кому-то требовались деньги на строчные траты — разве что на сувениры. Почти все гонорары поступали на счета, открытые сэром Рэнальфом на наши имена в Объединенном египетском банке. — Когда зеленую поляну укроют майские цветы и белый май придет с теплом, я буду вспоминать, что здесь бродила ты, и стебельки травы напомнят мне о том, — процитировал Квелч нашего любимого Уэлдрейка, «Любовь в долине». Сделав романтичный, хотя и несколько шаблонный жест, он встал, чтобы поприветствовать миссис Корнелиус, которая шагала к нам через сад в сопровождении четырех маленьких мальчиков, несших на головах большие свертки — очевидно, ее покупки. — О боже, миссис Корнелиус! У вас что, особые доходы? Откуда же вы взяли наличные? Или все в кредит? — Не-а, кредит не для меня, перфессор! — Она беззлобно рассмеялась. — Это не шибко отлитшается от Петтикоут-лейн[1016]. А вы слыхали про бартер? Я получила тшортову уйму всего за шелковую юбку, которая на размер меньше, тшем надо, и за шляпу, которая мне велика. Какая-нибудь местная дамотшка наверняка уже хвалится на весь гарем! — И, подмигнув нам, она доброжелательно дала мальчикам инструкции на примитивном арабском. Квелч, по крайней мере, притворился, что ее рассказ его позабавил. Я понял, что он казался наиболее спокойным именно тогда, когда по-настоящему волновался. — Fas est etab hoste doceri[1017], как говорит Овидий. Надо посмотреть, есть ли у меня в платяном шкафу ненужные вещи. Возможно, одного из местных шейхов заинтересует пара превосходных галош? Я в те дни не понимал слова «галоши», и мой вопрос вызвал у профессора прилив раздражения. Настроение Квелча внезапно переменилось. — По правде говоря, — продолжил он, — я думаю, что это немного низко для белых — заключать подобные сделки с местными. Я сказал, что не вижу в этом вреда. — Ну, возможно, только для британцев. Для иностранцев, в конце концов… Русские. — Его улыбка, казалось, вот-вот втянется в череп. — Как бы нейтральные… Не в обиду будет сказано. Единственные англичане, которые так поступают в Каире, — это алкоголики, старые шлюхи и дезертиры. И, конечно, — он понизил голос, — туристы-нувориши. До сих пор меня не беспокоил недостаток наличных, но, поскольку «Кук» не мог обеспечить нас чековыми книжками для счетов в Порт-Саиде, теперь я нашел способ заполучить немного сувениров. Квелч щедро принимал у нас долговые расписки, зная, что ему возместят все расходы, как только мы возвратимся в Каир. Несмотря на его предупреждения о «сохранении лица», я тем не менее решил отыскать относительно честного антиквара и, возможно, обменять некоторые из моих нефритовых и янтарных мундштуков на какие-нибудь безделушки. Я подозревал, что всегдашняя готовность Квелча открыть кредит была связана с тем, что он искал нашего расположения и хотел занять постоянное место в нашей компании. Таким образом, он больше всего старался понравиться мне. По-моему, он боялся, что его тайна станет известна всем, поэтому неизменно выражал желание помочь. Я думал о египетском ожерелье для своей малышки и изящной статуэтке Анубиса в обличье шакала. Квелч одобрил мой вкус, но скептически отнесся к возможности заполучить подлинную древность. Тем не менее новые гробницы искали постоянно — этим занимались те, кто негодовал по поводу империалистической монополии Египетского общества на предметы старины. — Египет существует, потому что другие чтят его мертвецов, — вслух размышлял профессор. — И впрямь, египтяне чтут только смерть. Больше ничего святого у них нет. Все, что они могут продать, — это содержимое могил и его точные копии, которые они закапывают и держат под землей не менее года, чтобы вещи напоминали подлинные реликвии. Какое странное наследие, мистер Питерс! Неужели все древние империи придут к этому? И Россия с Великобританией тоже когда-нибудь не смогут предложить на продажу ничего, кроме своих кладбищ, статуй и музеев? Тогда его замечания показались мне глупыми. Теперь слова Квелча подтверждает по крайней мере то, что большевики всячески поддерживают отдых по путевкам и автобусные экскурсии. А всякий раз, когда я выглядываю из окна и вижу, как легко центр Британской империи заполоняют крикливые безнадзорные арабы, распродающие поддельные образы своей уничтоженной славы, правота профессора становится очевидна. Пятьдесят лет назад я ничем не отличался от прочих туристов. Я желал получить качественный сувенир на память о своем визите. Правда, в конечном счете лучшим сувениром стал бы, разумеется, сам фильм, но я хотел немного поторговаться. Я вспомнил, что в чемоданах у меня скопилось большое количество шелковых галстуков и носовых платков новейшего «джазового» стиля. Я возвратился на причал к западу от отеля, где был пришвартован «Нил Атари», чтобы найти в багаже подходящие для обмена галантерейные и курительные принадлежности. Потом я вернулся к горному карнизу и медленно углубился в базарные ряды у самых оснований древних колонн Карнака, где почти естественно вырастала из руин мечеть и камни этих руин использовались при ее строительстве. Смесь архитектуры и ландшафта, разноликая толпа, состоявшая из людей всех возможных профессий, на фоне почти четырех тысяч лет истории человечества — все это могло показаться символическим воплощением судьбы любой из империй, как намекал Квелч. Я испытывал странную радость, разглядывая храмы, где люди поклонялись живому Осирису, Амону, Сету и Изиде, преисполняясь слепой, абсолютной веры. Все прочие местные божества, герои, звери и великий Ра никогда не умирали под вечным солнцем Египта, истинным источником его славы. Я смотрел на коптские церкви, сотворенные из руин храмов,первоначально посвященных Гору и Сехмет. Первые христиане полагали, что они ставят святую печать Бога на труды сатаны. Воинственные последователи Мохаммеда, которые потом заслонили эти здания покровами своей мрачной морали, стесывали знакомые знаки пола и изобилия до тех пор, пока они не стали по-настоящему непристойными. Я вдыхал запах пустыни, воды, пальм, специй, тканей и ароматной древесины; вдыхал и не столь приятные запахи человеческих тел и сточных вод. Я внезапно смотрел в зеленые или голубые глаза на лицах, которые могли бы принадлежать лоточникам, писцам или батракам одиннадцатой династии. Я впитывал в себя ощущения, вкусы и ароматы, мои глаза и уши вбирали многовековые сокровища столицы, бывшей центром самой могущественной империи древнего мира. Я делал это как желанный незнакомец, которому все вокруг улыбались, предлагая диковинные товары. Я погрузился в густую толпу, как мог бы погрузиться в легендарный бассейн времени. Это было, по крайней мере для меня, самым сладостным из искушений Луксора. Проталкиваясь по узким рядам — среди киосков и болтливых продавцов, насмешливые темные глаза которых следили за мной с тщательным расчетом или с таким же откровенным любопытством, какое ощущалось под вуалями женщин, нависавших над балконами, что взгромождались на навесы под безумными углами и смыкались в арки над грязными улочками со старыми ящиками из-под кофе на неровных камнях, торчавших из грязи, словно зубы ведьмы, готовой вцепиться в копыто верблюда или ногу бегущего ребенка, — я тотчас растворился в этом мире. Я утратил чувство времени. Меня все больше зачаровывало — но не разнообразие товаров (за исключением местного съестного, сыпавшегося как будто из того же незаметного рога изобилия, что порождал бесконечные «предметы старины» и дурно отпечатанную порнографию), а спокойствие, с которым эти люди вели дела. Говорят, что арабу нечего тратить, кроме времени. Но яркая фраза едва ли могла описать, какую ценность эти люди придавали формальностям и удовольствиям беседы и торга. В одесской Слободке покупка, продажа и договор тоже становились важными ритуалами — это часто заменяло все прочие развлечения. Торг для жителей Луксора был, очевидно, гораздо значимее прибыли; несомненно, так же относились к делам и основатели города. Здесь высоко ценились некоторые театральные дарования — их поощряли и вознаграждали. Чем лучше торговец изображал бедность, отчаяние и недоумение при виде глупости покупателя — тем больше ему покровительствовали. Культура, которая строится на отказе от многих рядовых радостей, превратила в удовольствие — и даже в настоящее искусство — обычные явления повседневной жизни. Эстетику спора здесь демонстрируют в небольших кафе, где мужчины пьют чай или кофе или курят общий кальян (его предоставляют посетителям во всех заведениях). Они обсуждают повседневные происшествия — возможно, наблюдают за группой пьяных английских солдат, которые с криками пробиваются сквозь толпу, или обмениваются недоуменными замечаниями при виде туристических парочек, решивших окунуться в «обычную жизнь» и сделать несколько покупок в лавках и ларьках, владельцы которых заранее сговорились с проводниками путешественников. Встречаются здесь и более утонченные люди. Они носят светлые европейские костюмы и фески и читают «Иджипшн газетт» или «Ла ви паризьенн»[1018], сидя на небольших стульях у входа в лавочки, заполненные превосходными вещами, — товары в них созданы умельцами, в чьих жилах течет кровь древних художников, и неотличимы от тех, которые изготавливали тысячи лет назад. На базаре выставляли на продажу и людей — попадались существа всех возрастов, привычные к любым оскорблениям. Рабство становится по-настоящему ужасным тогда, когда оно запрещено, когда изгнано из общества и сделалось позорным, преступным и тайным. Я много раз слышал, как мусульмане высказывали подобные мнения, но никак не мог с ними согласиться. В темных проулках базара люди шепотом обращаются ко мне, они понимают мои самые тайные желания. Они предлагают мне все, что запретно. Но я отмахиваюсь от них. Я говорю, что они предлагают мне болезнь и смерть. Они предлагают мне позор. Shuft, effendi. Shuft, shuft, effendi. Murhuuba, aiwa?[1019] Они прикасались ко мне; они усмехались и причмокивали. Они негромко вздыхали, они подмигивали и заигрывали. Но я сказал, что пришел не за этим. La, la! U’al! Imshi! Imshi![1020] Но они не отставали. Они думали, что одинокий европеец мог явиться сюда только в поисках сексуальных извращений. Их слова не особенно оскорбляли меня, но назойливость очень беспокоила. Пытаясь скрыться от накрашенного юноши, я оказался в небольшом тупике, который образовали стены трех высоких зданий, окруженные прилавками с рыбой. Навесы этих прилавков покрывала колыхавшаяся масса черных мух. Я повернулся, чтобы пробраться к выходу, расталкивая юношей и мальчиков, которые цеплялись за меня руками, впиваясь ногтями в мою плоть. Позади себя я разглядел высокого европейца в богатой джеллабе и кефте[1021]; он как будто наблюдал за мной. На загорелом лице человека сияла улыбка — его явно забавляло мое затруднительное положение. Его белые зубы были такими же блестящими, как и глаза, и такими же знакомыми, как руки, которые он поднял, прикрывая лицо тканью, прежде чем развернуться. Я никак не мог оправиться от потрясения. Я видел, что мужчина устремился в самую гущу толпы. Не веря происходящему, словно больной, я стал орудовать локтями, не обращая внимания на визжащих мальчишек, которые все еще цеплялись за мою одежду. — Коля! — закричал я, бросившись вперед. — Коля! Это был не кто иной, как мой самый старый и самый близкий друг, мой учитель, мой идеал! Шура сказал, что он в Египте по делам своего нового работодателя. Почему он последовал за мной? Конечно, он понял, что это я. Значит, была какая-то серьезная причина, по которой ему не хотелось, чтобы я его признал. Он мог работать не на Ставицкого, а на какое-то иностранное правительство. Я расталкивал в разные стороны мальчиков и девочек, пытаясь догнать друга. В тот момент я не задумывался, что у него могут быть серьезные основания избегать встречи. Разлука с Колей вызывала у меня настоящие мучения, и теперь появилась возможность избавиться от этих страданий. Друг и наставник, рядом с которым я провел лучшие дни юности, в определенном смысле он создал меня таким, каким я стал теперь. Я уже не надеялся снова ощутить окутывавшую его томную аристократическую атмосферу, насладиться его прекрасной осанкой и дикцией, разделить его отношение к миру и всему происходящему вокруг! Я хотел узнать, почему он расстался с женой, той малокровной француженкой, которая, подозреваю, была повинна в моем уничтожении. Сколько времени он провел в Египте? Где и когда мы сможем встретиться? Конечно, он не так сильно хотел увидеть меня, но я никогда не сомневался в его привязанности, возможно, даже любви. Мне показалось, что на краткий миг его глаза озарились светом радости. Я еще мог разглядеть впереди яркую джеллабу — но потом, словно фокусник, уничтожающий иллюзии, мой друг окунулся в возбужденную толпу и растворился в ней. Я оценил правоту профессора Квелча. Египет действительно являл собой мир иллюзий и галлюцинаций, и от них зависело его выживание. И все-таки эта встреча не была миражом или фантазией. Несмотря на густой загар, я сразу узнал прекрасное лицо. Я изучил все его черты, я запомнил каждый жест, каждый мускул, каждое движение его тела. Пробиваясь вперед, не обращая внимания на негодующие возгласы, я отчаянно разыскивал синюю с золотом джеллабу и темно-синий головной убор, но они исчезли. Надеяться найти друга в этих лабиринтах было все равно что преследовать джинна посреди пустыни. Мне пришло в голову, что следует заглянуть в кафе, которые располагались в окрестных проулках. Их часто посещали европейцы, но я нигде не нашел ни высокого «араба», ни графа Николая Петрова в его привычной одежде. Потом я подумал, что стоит обойти отели, начав с «Зимнего дворца» как наиболее вероятного места. Я подозвал мальчишку и предложил ему монетку, чтобы он вывел меня из лабиринта. Только после этого я понял, что моя небольшая сумка с галстуками и мундштуками исчезла. Мальчик оказался честным проводником, и вскоре я вошел в холл «Зимнего дворца». Я заглянул во все уголки, прежде чем направиться в сад. Уже подавали чай. Я не нашел Колю, но зато увидел миссис Корнелиус и Эсме, которые сидели в тени большой пальмы за блестящим столиком; перед ними стоял чайник с «эрл греем». Мне было очень приятно увидеть, что они наконец-то сдружились. Я хотел сообщить миссис Корнелиус потрясающую новость, но заколебался, не желая вмешиваться в разговор двух женщин в самом начале их сближения. Подавив вполне естественное рвение, я осторожно обошел их столик и невольно подслушал обрывок беседы. — Он из кожи вон лезет, когда ты тшто-то говоришь, — заявила миссис Корнелиус. — И все-таки эти типы немного странные. Попомни мои слова. Все дело в школах. Признаюсь, у меня от него дрожь в коленках. Меня истшо мама про таких предупреждала. Холодные задницы, как она их звала. Тшто бы они для тебя ни делали, как она думала, их задницы никогда не нагревались. — Сэр Рэнальф — английский джентльмен, я полагаю. — Эсме не вполне уловила направление мыслей миссис Корнелиус. — Он богатый человек. Конечно, я не считаю его привлекательным, но Максим сказал, что нужно ему угождать. — Да, это верно, моя малышка. — Я нагнулся, чтобы поцеловать мою удивленную девочку. — Миссис Корнелиус, стоит ли противоречить человеку, от которого теперь зависят все наши дела? Нам, конечно, следует проявлять определенную тактичность. — По-моему, есть разница между вежливостью и полным повиновением. — Она пожала плечами и не стала продолжать. Меня в тот момент не слишком интересовали мелкие детали общественных отношений. — У меня есть удивительные новости, миссис Корнелиус! Я видел своего старого друга — нашего старого друга, Эсме, — графа Николая Петрова! — Коля! — Глаза Эсме сначала расширились от восхищения, а затем, как мне показалось, в них отразилась тревога. Она нахмурилась. — Почему он здесь? С сэром Рэнальфом? — Он не имеет никакого отношения к сэру Рэнальфу. Шура упоминал, что у него дела в Каире. Я говорил тебе. — А он разве был не в Триполи? — Нет, в Александрии. А теперь в Луксоре. Я спрошу у портье, не остановился ли он здесь. Не чудесно ли будет, если остановился?! Эсме казалась смущенной; она не успела ответить и внезапно улыбнулась кому-то, стоявшему у меня за спиной. — Сэр Рэнальф! Как мило! — Моя дорогая! Мои дорогие! Мои добрые друзья! Как чудесно увидеть вас всех вместе! Мои три звезды! Я приехал, чтобы попросить об одолжении. — Полный баронет сделал паузу, вытерев пот, стекавший из-под головного убора. Миссис Корнелиус встала в облаках ароматного розового шелка, ее шляпка-колокол отбрасывала на лицо тень, похожую на вуаль, — только прищуренные глаза были слабо различимы. Как будто не заметив ее неприязни, сэр Рэнальф снова поднял панаму, убрал носовой платок, поцеловал пальцы дам и хлопнул меня по плечу. Я, со своей стороны, очень торопился разыскать Колю. — Я только что насладился обществом нашего дорогого режиссера. — Сэр Рэнальф взмахнул пухлой рукой, чтобы показать, как он общался с немного высокомерным гением. — И мы должны начать съемки завтра в Долине Царей. Это означает, что нам всем придется подняться в пять утра и, боюсь, выехать в шесть. — И все из-за света, полагаю, — сказала Эсме, тяжело вздохнув. — Мой нежный бутон, из-за жары! В десять будет просто невыносимо. Только местные работают после обеда. Свет? Свет всегда прекрасен. Благодаря нашим влиятельным друзьям мы получили особое разрешение на съемки в Долине и окрестностях. Это означает, что нас не будут беспокоить случайные туристы. Некоторые из моих деловых партнеров в городе оказали нам немалую помощь. До сих пор нам открыто не сообщали о партнерах сэра Рэнальфа, но мы не особенно удивились, услышав о них. Он прекрасно разбирался в политике и нравах этой страны и, без сомнения, из дипломатических соображений пригласил в правление своей компании некоторых местных членов Египетского общества, таким образом гарантировав нам карт-бланш на съемках. Наши дела находились в руках смекалистого и практичного человека, у которого, при всем его щегольстве и аффектации, был очень острый ум. Я считал его одним из тех, кто любил создавать ложное представление о себе. Миссис Корнелиус, в конце концов, ничем не объяснила свое предубеждение против сэра Рэнальфа, и я еще не понял, что следовало во всем полагаться на ее суждения. Сегодня я несомненно подчинился бы ей. В тот же момент мне стало просто неловко, когда она фыркнула при заявлении сэра Рэнальфа о том, что он оказался в трудном положении перед сегодняшним вечером. По его словам, в качестве эскорта ему была необходима девушка, которая сможет произвести впечатление на его партнеров остроумием, красотой и талантом. Он улыбнулся моей маленькой девочке, как добродушный патриарх. — Нам придется завтра встать рано, так что вечер не продлится слишком долго. — Он радостно обернулся ко мне и просительным тоном сказал: — Я верну ее до полуночи, добрый сэр Макс, я обещаю. Она будет так необходима! Она может удвоить наш бюджет. Я думал о Коле — и поэтому с радостью избавился от общества возлюбленной. В конце концов, я мог потратить весь вечер, чтобы отыскать Колю. — Если бы мне удалось представить своих друзей нашей звезде, это произвело бы на них превосходное впечатление. — Он поклонился. Миссис Корнелиус тут же вскочила на ноги, с отвращением фыркнув, прямо как верблюдица. — Пожалуй, я вернусь в свою каюту и избавлюсь от этих тряпок, — произнесла она. — Все натшинает слегка пованивать, не думаешь, Иван? Я сожалел о том, что не оказал ей более значительной поддержки, но я шел за ней по пятам, двигаясь к стойке администратора; миссис Корнелиус решительно и мрачно направилась к электрическому лифту. Я понимал ее ярость. Она, а не Эсме была настоящей звездой фильма. Теперь она осознала, что лишилась последней возможности появиться на экране в романтическом дуэте с Бэрримором, Гилбертом или Валентино. Несомненно, после туманных сообщений Голдфиша сэр Рэнальф никак не мог прямо назвать имя актера. Айрин Гэй отводилась куда меньшая роль, чем Глории Корниш. И хотя я испытывал сильнейшее сочувствие к миссис Корнелиус, все мои усилия были посвящены поискам исчезнувшего друга и я не хотел сбиваться с курса. К тому времени, когда портье проверил книгу посетителей и с неискренним сожалением сообщил мне, что князь Петров не прибывал в «Зимний дворец», миссис Корнелиус уже ушла. Я вернулся к стойке и спросил, где еще мог остановиться джентльмен; после некоторых размышлений мне предложили обратиться в «Карнак», а если там ничего не выйдет, то в «Гранд». Луксор был не очень большим городом, основную часть его занимали руины и туристические учреждения. Почти все лучшие отели располагались у горного карниза, и мне потребовалось не более получаса, чтобы разузнать, не останавливался ли там Коля. Вскоре стало очевидно: даже если мой старый товарищ находился в Луксоре, он не регистрировался под своим настоящим именем. Тогда мне пришло в голову, что он мог поселиться на квартире у одного из британских чиновников, и я направился в консульство. Оно располагалось в самом обыкновенном доме, окруженном высокой стеной. Когда я спросил у ворот, можно ли встретиться с консулом, мне сказали, что он будет принимать только завтра. Когда я спросил, нет ли каких-то новостей о графе Николае Петрове, консьерж почесал затылок и разинул рот, продемонстрировав полнейший идиотизм, — местные таким образом прерывали все нежелательные расспросы. Я сказал ему, что не смогу прийти завтра утром, что я буду работать, но это не произвело ни малейшего впечатления. В итоге я вернулся в центр города и стал справляться о друге в маленьких пансионах, пока английский полицейский сержант, который болтал с греком, хозяином небольших меблированных комнат за телеграфной конторой, не стал шутить о поисках русского шпиона; тут я понял, что могу выдать друга. Тогда я решил обратиться за помощью к сэру Рэнальфу Ститону и счел, что не стоит посещать пароходы, пришвартованные к причалам у подножия горы. К тому времени уже стемнело и почти все лавки закрылись. Британцы устроили нечто вроде комендантского часа, хотя кафе и самые солидные заведения оставались открытыми, фонари и масляные лампы горели, заливая теплым светом небольшие переулки и мощеные площади. На город опустилось сонное спокойствие, к десяти часам исчезли туристы, и единственными белыми на улице оказались солдаты, получившие увольнительную. В кафе сидели местные мужчины, и я выбрал одно из самых чистых заведений, откуда открывался прекрасный вид на улицу, склон горы и зеленые воды реки. Я заказал густой и сладкий кофе по-турецки и заставил себя расслабиться и спокойно осмотреться. Увы, Коли нигде не было видно. Я не хотел вступать в беседы, но ко мне вскоре присоединились два говоривших по-английски суетливых египтянина в хорошо скроенных костюмах и аккуратных фесках. Они приехали из Александрии, вели дела в Асуане и собирались воспроизвести руины Луксора в особом парке в Каире — «для тех туристов, у которых нет времени на осмотр Нила». Подобные планы уже зародились в Италии и Греции, но египетское правительство не проявляло особой инициативы и не очень-то поддерживало местных предпринимателей. Чиновники предпочитали пустые разговоры и рассуждения о том, что во всех бедах Египта повинны британцы, — точно так же раньше они обвиняли турок. Суэц оказался последней попыткой британского правительства действовать согласно требованиям идеализма, а не целесообразности, но египтяне хотели взвалить вину на глобальный заговор «империалистов». Полагаю, их флирт с большевиками был неизбежен. Но эти люди создают и разрушают союзы быстрее, чем принц Борджиа, — даже быстрее, чем Адольф Гитлер, примеру которого все они однажды собирались последовать. Я никогда не восхищался этим свойством Гитлера. Эти воспитанные местные жители уверили меня: их больше интересует общественная польза, а не личная власть, и все же, чтобы присоединиться к «Вафд», следовало добиться власти. — Они преуспели, бросив вызов британцам, потом они бросят вызов королю и его министрам и в итоге построят собственную династию. Они понимают только язык силы. Нам нужно больше политиков английского типа, которые в основном интересуются социальными вопросами: гигиеной, уличным освещением и похоронами для бедных. Возможно, это скучные люди, но очень деятельные, верно? — так рассуждал мистер Ахмед Мустафа. Он вместе с компаньоном, мистером Махаребом Тодрусом, провел два года в Англии, чтобы научиться «языку и правилам бизнеса». По их словам, к ним относились вполне прилично; гости с удовлетворением обнаружили, что многие англичане, принадлежавшие к высшим классам, могли отличить египтян от черномазых. Им повезло, у них хорошие связи. Их дядя Юссеф был постоянным посетителем Букингемского дворца и Даунинг-стрит, десять[1022], и, конечно, это позволило им проникнуть в лучшее общество. — Торговля подрывает классовую систему, вам так не кажется? Они спросили, что привело в Луксор меня. Я ответил, что у меня здесь сразу два дела. Мне предстояла встреча с другом, высоким джентльменом, славянином, возможно, носившим арабскую одежду. Я был сценаристом и актером в кинокомпании, которая завтра начнет здесь съемки. Мои новые знакомые оказались впечатлены. «А это триллер? Вы знаете Секстона Блейка?» Они уже слышали о Ститоне и были польщены, что встретили такого человека, как я, который мог дать консультации касательно их незначительных проектов. Они предположили, что их аттракцион также в определенной степени связан с театром. Я ответил, что как-нибудь в другой раз буду счастлив помочь им. Однако тем вечером мне в первую очередь требовалось разыскать друга. Эти добросердечные люди решили мне помочь. Понимая, какое преимущество мне дадут спутники, свободно говорящие на английском, арабском и некоторых местных диалектах, я принял их предложение, хотя уже чувствовал угрызения совести: у Коли могли быть причины для того, чтобы избегать встречи со мной. Когда мы покинули первый из нескольких баров, я сказал своим знакомым, что, вероятно, лучше заняться поисками в другое время, но они стали настойчивы. С той отвагой, которую проявляют мусульмане, дорвавшись до алкоголя, они осушили несколько стаканов местного бренди. Мне тогда пришло в голову, что ислам, как никакая другая религия, ясно отражает предубеждения невротичного и фанатичного варвара. «Подчинения» можно, по-видимому, добиться только при помощи «подавления». Или все они втайне стремятся к подчинению, создавая проблемы и устраивая конфликты, как в садомазохистском браке? Ислам — религия людей, которых влечет поражение. И все мы знаем, насколько опасна такая религия, когда власть, действующая из лучших побуждений, не угрожает, а стремится к компромиссу. Я писал об этом в Министерство иностранных дел. Мир был бы сейчас совершенно иным, если бы Франция и Великобритания придерживались первоначальных планов в Суэцком вопросе. Феллахи замечают только мундиры, а не лица тех, кто носит эти мундиры. Чем больше пили мои спутники, тем более темные и мрачные бары они выбирали. Думаю, они пытались разыскать какой-то особый бордель, но я не вполне понимал, чего именно они хотели. Они, однако, уверили меня, что граф Петров непременно окажется в подобном месте. Европейцам особенно нравились эти учреждения. Люди, по их словам, будут не так осторожны, если именно я спрошу, где находится такое заведение. Их самих могут просто принять за офицеров полиции. Но нужный бар разыскать никак не удавалось. Уже почти рассвело, когда я внезапно очнулся. Я проявил не только глупость, но и эгоизм, выкрикивая Колино имя по всему Луксору. Мои спутники уже почти не могли разговаривать связно; я понимал, что мы находимся где-то в предместьях города и отсюда не так уж трудно вернуться к горе и «Зимнему дворцу». В случае необходимости я мог остановить ближайшую коляску. Эти «конные такси», как я слышал, до сих пор занимают ключевое место в жизни египетских городов. Улицы освещало только слабое жемчужное сияние приближавшегося рассвета, а населяли их в основном собаки и кошки, которые появлялись каждую ночь и на свой скотский лад подражали дневным повадкам людей. Я мог представить, как они препираются и меняются какими-то гнилыми отбросами, засиженными мухами объедками, подражая ритуалам, которые проделывали их хозяева, когда перепродавали разное барахло или каких-нибудь несчастных ослов, покрытых слоем грязи, чтобы спрятать болезнь. И все же эти ночные обитатели улиц были лучше воспитаны: никто из них не пытался преградить мне путь. Скоро я завидел впереди знакомый шпиль мечети. Судя по всему, я находился неподалеку от Луксорского храма; отсюда я мог легко добраться до отеля. Возможно, Коля скрывался в мусульманском облачении. Неужели мой друг так хорошо замаскировался, что смог по своей воле проникнуть в запретные убежища верующих? Меня клонило в сон, и зрение затуманивалось. Спиртное, выпитое в компании новых египетских друзей, все-таки подействовало. Ноги мои слабели и двигались, не подчиняясь приказам мозга, но разум все еще оставался ясным, и я решительно направился к мечети; я даже перебрался через высокую стену, чтобы не обходить ее, рискуя потерять из виду единственный ориентир. Я легко перемахнул через преграду и оказался в залитом лунным светом мире, который мог изобразить какой-нибудь кубист. Когда рассвет стал бледно-голубым, я увидел, что эти безумные угловатые конструкции составлены из каменных блоков, которые сваливали здесь на протяжении долгого времени, разрушая здание в поисках строительных материалов, сокровищ или бессмертной славы. Спотыкаясь об огромные камни, я наконец заметил высокие колонны самого храма и ступил, как мне показалось, на твердую поверхность, но тотчас повалился вперед и с громким криком приземлился на обломок колонны, лежавший там, где его оставило время либо какие-то давние или недавние вандалы. Мой крик эхом разнесся по всему храму, превратившись в странную, почти сладостную мелодию, в которой сочетались невинность и скорбь — как будто ребенок оплакивал свою неизбежную смерть. Звук собственного голоса заставил меня содрогнуться от ужаса. Мое сердце забилось быстрее, паника усиливалась, и я поднялся на ноги и помчался вдоль длинного ряда темных сфинксов к воротам, через которые я перепрыгнул, пока сонный сторож кричал на меня на арабском. Над рекой зарозовел рассвет, и пальмы из черных стали темно-зелеными; отовсюду послышалось птичье пение. Вода делалась все светлее и ярче, птицы уже носились над ней в легком тумане, а белые паруса колыхались под слабым прохладным бризом. Лестница «Зимнего дворца» напоминала древние чудеса. Я услышал призыв муэдзина к первой молитве. Я знал слова наизусть. Allah akhbar, Allah akhbar. Ash’had an la ilah ilia ‘llah we‑Muhammad rasul Allah. Ash’had an la ilah ilia ‘llah we‑Muhammad rasul Allah. Hay’y ila s’salat hay’y ila l-felah. Hay’y ila s’salat hay’y ila l’felah. Es-salat kher min en-num. Es-salat kher min en-num. Allah akhbar. Allah akhbar. La ‘llah ilia ‘llah[1023]. Молитва лучше, чем сон. Нет бога, кроме Бога. Возможно, первая из этих мыслей вызывала у меня протест, когда я вошел в отель — как раз вовремя, чтобы увидеть, как все мои коллеги, даже Эсме, собираются позавтракать. Вспомнив о своих профессиональных обязанностях, я успел вернуться на корабль, вымыться, переодеться, запастись наилучшим кокаином профессора Квелча, быстро возвратиться в отель и даже проглотить до отъезда чашку кофе и кусочек тоста — потом я со всеми поднялся на паром, который ждал нас у частного причала отеля. Когда мы заняли места на верхней палубе, на полированных дубовых скамьях под тентом, Эсме уселась рядом, прильнув ко мне всем телом. Она в то утро вела себя особенно мило и старалась рассеять мое мрачное настроение — сделать это было трудно, поскольку я понял, что придется работать под жарким солнцем, не имея возможности отдохнуть. — Надеюсь, ты не скучал по мне, любимый, — прошептала она. Я чувствовал муки совести. Я заверил, что, разумеется, думал только о ней, но иногда долг важнее личных потребностей. Она на мгновение нахмурилась, потом пожала плечами и запела легкую песенку, которую выучила в Париже. Миссис Корнелиус, услышав это, отчего-то приподняла брови; она приветственно кивнула нам, когда направлялась в хвостовую часть судна, где, по ее словам, можно немного полежать и насладиться утренним солнцем, пока оно не стало по-настоящему жарким. Солнце в те дни считалось серьезной угрозой цвету лица. Лишь в последние годы, когда в ублюдочном Лос-Анджелесе появилось столько любительниц пляжного отдыха, загар стал признаком здоровья, богатства и сексуального опыта. Непонятно, зачем американцы избавились от мексиканцев: теперь они проводят досуг, пытаясь стать в точности такими же! Вот что я имею в виду, говоря, что стандарты понижаются во всех сферах человеческой жизни. Я помню те времена, когда Уоттс[1024] был небольшой деревушкой, полной опрятных лужаек и цветов. Теперь это муравейник многоквартирных домов, где все свободное место заполнено не деревьями, а нелепыми скульптурами и повсюду скачут негры, балдея от героина и рок-н-ролла и исполняя первобытные ритуалы половой зрелости и мужественности, магии, охоты и мести. Трудно поверить, что это место могло так перемениться за двадцать пять лет! Я говорил с американцем, которого встретил на Портобелло-роуд. По его мнению, рабов не просто не следовало освобождать — они и не хотели свободы. Рабочие пчелы, как он сказал, умирают, если не могут работать. А негры сходят с ума… Тот человек, как мне кажется, в своей стране был знаменитым писателем и редактором. Он сказал, что приехал на съезд. Стоял 1965 год. Я не знаю, о каком съезде шла речь. Возможно, о Съезде нормальных людей! Это была бы оригинальная идея. Но мы знаем, что они до сих пор никак не повлияли на мир. Казалось, Эсме тоже плохо провела ночь — наверное, она тосковала без меня. Я ее пожалел. Пока я легкомысленно занимался личными делами, она работала, чтобы помочь нашей компании. Неужели миссис Корнелиус не понимала, насколько наше благосостояние зависело от моей маленькой девочки? Я помню, что во время путешествия на пароме царило приподнятое настроение; наша группа хотела поскорее закончить работу и вернуться в Голливуд. Все говорили, что по горло сыты местным колоритом. У многих были приступы дизентерии. Профессор Квелч сухо шутил о «плавании через реку смерти», а Симэн, который лучше всех остальных изучил египтологию, осмотрелся и спросил, где «перевозчик, чье лицо обращено назад»[1025]. Я полагаю, он имел в виду сэра Рэнальфа. Мы радостно высадились на берег и оседлали ослов, которые должны были отвезти нас в долину гробниц. Мы устроились на животных при помощи обходительных мальчиков и с удивлением обнаружили, что седла относительно удобны. Мы двинулись по длинной грунтовой дороге к низким холмам, к могильникам фараонов и их фаворитов. Становилось все теплее. Я обрадовался, что не забыл широкополую соломенную шляпу и темные очки. Не прошло и получаса, как над дорогой поднялись клубы пыли; они, словно туман, скрыли от нас далекие ряды туристов; мне захотелось снять пиджак — обернувшись, я увидел, что почти все сделали то же самое. Позади нас Нил превратился в серебряную ленту на фоне красно-коричневой глины, темно-желтых скал и мутно-зеленых деревьев, а Луксор стал призраком на далеком берегу — расстояние, как обычно, стерло разрушительные приметы времени. Моя девочка болтала с профессором Квелчем и, похоже, чувствовала себя совершенно непринужденно в дамском седле на животном, которое было чуть больше моего; миссис Корнелиус ехала рядом со мной, она казалась пушистым облаком в своем белом, отделанном кружевами одеянии, на плече у нее лежал зонтик, а ладонь в перчатке покоилась на луке седла. Она не могла скрыть свое дурное настроение, но каждый раз, когда животное подскакивало на неровных камнях, вскрикивала от удовольствия. — В Маргейте[1026] за такую поездотшку заплатишь бешеные бабки! Впрочем, она призналась, что будет очень рада, когда мы доберемся до, по ее словам, «Тутти хамона». Вольф Симэн, скребя длинными ногами по земле, угрюмо ехал следом за миссис Корнелиус, он то и дело поглядывал на часы и на солнце. Остальные члены съемочной группы поотстали: они обсуждали окрестности и отмахивались от стаек детей, которые появлялись словно из ниоткуда и предлагали нам тростниковые веера, соломенных скорпионов, огромных живых ящериц или обычные фигурки Баст и Осириса. Я подумал, что где-то здесь скрыт город первобытных людей, которые прячутся в пещерах, изготавливая все эти товары. Неужели бесплодный пейзаж был обманчив, а в подземных туннелях кипела жизнь? Ведь Египет жил за счет своих мертвецов! Но я знал, что это всего лишь фантазия. Позади остались деревни, именно оттуда и приходили тощие дети. Все прочее здесь было посвящено смерти и иному миру. Как люди тут стремились к вечной жизни! И как уязвима эта вечная жизнь оказалась! Когда придет час и души мертвых пожелают вернуться в свои тела, не останется ничего, кроме временных убежищ — огромных немецких домохозяек в плотных прогулочных костюмах или стройных французских гомосексуалистов в новейших парижских нарядах. Можно представить, как смутятся бездомные духи… Долина Царей выглядит непрезентабельно. Конечно, место выбрали из-за удаленного расположения, а не из-за красоты. Это широкие мелкие вади[1027], в стенах которых много столетий выбивали гробницы и помещали туда мумии царей; кое-какие из них сохранились до двадцатого века, когда мы, используя разные сложные методы, нарушили покой, вероятно, последних непотревоженных мертвецов. «Кук» и «Египетское общество» установили ведущие к некоторым гробницам железные и деревянные лестницы, чтобы тысячи туристов, приезжающих сюда каждый год, могли без особого интереса осмотреть то, что не забрали грабители (в основном сохранились настенные росписи), и, посмеиваясь или зевая, оценить странность этого места, ради посещения которого вряд ли стоило терпеть неудобства. Прежде нас сюда добрались немногие путешественники, большей частью из «Немецкой туристической ассоциации»; ночью они установили палатки, надеясь, вероятно, что духи Тутанхамона или Хоремхеба[1028] пожелают вернуться на землю, привлеченные ароматами консервированных сосисок и квашеной капусты. Похоже, немцы никаких призраков не увидели; когда мы приблизились, они как раз заканчивали готовить завтрак. О. К. Радонич, который лучше всех в нашей группе говорил по-немецки, выступил вперед, чтобы объяснить, чем мы здесь будем заниматься, и просто попросил их не лезть в кадр. Я заметил, что многие из туристов выглядели довольно мрачно; слова Радонича вызвали у них куда больше интереса, чем звонкие разглагольствования мисс Ученой Наставницы, которая на правильном английском рассказывала о происхождении египетских богов-царей, словно находилась в классной комнате. Даже в Германии, этом бастионе культуры, есть люди, которых современное кинопроизводство интересует больше, чем мудрость и тайны древних камней или творения безымянных художников, открывшиеся лишь их далеким потомкам. Симэн сказал, что мы сможем осмотреть гробницы позже. Сначала он хотел поснимать снаружи. Через некоторое время сэр Рэнальф пришлет нам группу феллахов. Они оденутся рабами, чтобы отнести мумию в гробницу. Мы еще не решили, какую усыпальницу будем использовать. Радонич заметил, что мы, похоже, проделали долгий путь, чтобы снять те дубли, которые лучше бы получились в Долине Смерти. Симэн, чья репутация в значительной мере зависела от этого фильма, высокомерно попросил оператора воздержаться от мещанских замечаний и просто поворачивать камеру, когда ему скажут. Радонич, который явно терял терпение, ответил, что может направить камеру только в одно место. Тут Симэн принялся горестно визжать — как баклан, обнаруживший разрушенное гнездо. — Он рановато натшал, — спокойно, с улыбкой заметила миссис Корнелиус. — Надеюсь, это ознатшает, тшто мы законтшим тоже пораньше. Скоро станет тшертовски жарко, Иван. Потом, словно в ответ на вопли режиссера, у входа в долину раздался пронзительный стон — огромное облако пыли взметнулось вверх, затмевая солнце. Дети отскочили в сторону, точно завидев ифрита[1029]. Стон сменился ревом, а затем хрипом, словно поблизости оказался лев; потом из песчаного вихря возник чудовищный «роллс-ройс» — такой я в последний раз видел на одесской дороге, когда мы отступали к морю. На этой машине не было маскировки, напротив — ало-желтый кузов ярко блестел, большой ибис парил над девизом «Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo»[1030], начертанным изящным готическим шрифтом, а над головой ибиса размещались тонкие буквы: «Египетская универсальная кинокомпания». За рулем сидел сэр Рэнальф Ститон, за спиной которого двое слуг крепко держали обвязанный веревками саркофаг, неровно лежавший на заднем сиденье. Машина затормозила, из-под огромных колес взлетела туча песка, едва не похоронив немецкий лагерь. — Нет причин для волнения, благородные юноши и девицы, — заверил нас сэр Рэнальф, отряхнув костюм от бежевой пыли. — Я видел их здесь прежде. — Он на миг обернулся на туристов, сгрудившихся у разрушенных палаток. — Это всего лишь немчура. Ну, как полагаете? Разве она не красавица? Самая настоящая! Хотя я не уверен, что царица. Подойдет? Рабы прибудут отдельно. Постучав тростью по саркофагу, маленький человек — почти поросенок из пантомимы в легком белом костюме — прошел по песку, чтобы помочь Эсме избавиться от осла, расцеловать ее в обе щеки и погладить по голове, а в это время миссис Корнелиус (спешившаяся с легкостью и изяществом Бака Джонса, готового вступить в бой со злобными противниками) заметила, ни к кому не обращаясь: — Все в порядке, эта тшортова звезда свое истшо полутшит. Если миссис Корнелиус хотела подтолкнуть меня к каким-нибудь действиям, то она потерпела неудачу. Я был потрясен и расстроен этим непристойным проявлением мелкой ревности и злости в женщине, суждения которой я обычно уважал превыше всех прочих. Когда она шагнула к профессору Квелчу, он почти в панике посмотрел на нее, а потом на сэра Рэнальфа. Миссис Корнелиус остановилась рядом с ним, очевидно, рассчитывая на моральную поддержку, но он уставился куда-то поверх ее плеча и виновато улыбнулся ожидавшему Ститону, которого подобное отношение явно удовлетворило. Я задумался, что заставило Квелча изменить мнение. Когда миссис Корнелиус, всячески демонстрируя отвращение, зашагала по песку в мою сторону, я также умиротворяюще улыбнулся нашему новому боссу. И в тот миг, предав миссис Корнелиус, я предал и самого себя.Глава девятнадцатая
То, что вызывает у меня печаль, у нее вызывает ярость; но боль — одна и та же. Нам больно видеть, как люди уничтожают себя, лишают своих детей всякой надежды. «Ты не могешь спасти всех, Иван», — так говорит миссис Корнелиус. И все же я думал, что отыскал путь. «Они должны сами совершить свои ошибки», — замечает она. Иногда она страдает от той равнодушной терпимости, которая стала проклятием ее касты и которую средний класс идеализирует как величайшую ценность. Миф о британском чувстве честной игры — самое надежное средство сохранить статус-кво, поддержать элиту. Они говорят: если что-то сделано не так, люди будут жаловаться. Но все знают, что британцы жалуются только на погоду, которую никак не могут изменить, даже объединив усилия. И все же иногда погода их удивляет. У них остались мифы о снежной зиме и жарком лете, вычитанные из детских ежегодников. Они привыкли к тщеславию стоика, к тому, что страдание с нравственной точки зрения превыше удовольствия, — и теперь заперли самих себя в надежную тюрьму. Я это ясно вижу. Да любой может увидеть! Если я подмечаю правду — это не значит, что я коммунист! Легко определить болезнь, но намного труднее найти лекарство. Вот чего никогда не поймет ни одна из враждующих сторон. Я не дурак. Я знаю, что означает независимое положение в жизни. Люди не понимают боли и одиночества, присущих этому положению, не замечают презрения и оскорбительных угроз, которые приходится сносить. Не думаю, что это «вне морали», как говорят женщины. И не аморально тоже. Я — человек глубоко и тонко чувствующий. Только идиот не согласится с тем, что не всегда можно выбрать наилучший план действий. Почему политики постоянно конфликтуют? Нельзя решить все моральные дилеммы разом. Неужели я — единственный человек на земле, которому от природы свойственны терпимость и отсутствие предубеждений? Человек, который любит взвешивать все «за» и «против»? Почему я должен чувствовать себя виноватым из-за того, что отказываюсь пройти по улицам Парижа рядом с каким-то малограмотным студентом? Неужто я стал чудовищем только потому, что на самом деле увидел, как красный флаг вздымается над захваченными дворцами и парламентами, и понял смысл происходящего? Почему агенты ужаса стали для молодежи такими романтическими фигурами? Бонни и Клайд? Я видел фильм. Спросите любого: в дни их расцвета по этой дорожке идти было совсем не весело. Хотя проблемы с освещением не позволили нам снимать прямо в гробнице, работа над фильмом в те первые две недели шла довольно легко, и основные сцены уже были на пленке. Сэр Рэнальф заверил нас, что в конечном счете генератор доставят, а если этого не случится, он получит разрешение на съемки в руинах Карнака. Всю прочую обстановку, по его словам, можно было воссоздать в студии. Мне еще предстояло сыграть в гробнице ключевую любовную сцену с миссис Корнелиус. Мы умрем в объятиях друг друга, чтобы возродиться столетия спустя, став юными влюбленными в начальных эпизодах фильма. Потом мне следовало разыграть так называемую сцену соблазнения с Эсме; на несколько дней я должен был поддаться ее чарам, едва не предав любовь к миссис Корнелиус. Даже Вольф Симэн соглашался, что это мое величайшее актерское достижение. Если я никогда больше ничего не сыграю, весь мир запомнит этот фильм, запомнит страсть и чувственность, которые я смог воплотить на экране! Лента станет настоящим памятником, доказательством моей любви и моего вдохновения, даже если я умру в тот день, когда она будет завершена. Нашу картину увидят во всех кинотеатрах мира. Корниш и Питерс сделаются так же знамениты, как Гарбо и Гилберт. Мы играли свои роли под палящим солнцем, в окружении неряшливых немецких туристов, местных детей и гидов в фесках. Они с восторгом приветствовали все наши жесты и объятия. От недостатка сна и чрезмерной жары мы все чаще спасались, принимая кокаин, которым нас постоянно обеспечивал наш «технический продюсер» Малкольм Квелч. Сэр Рэнальф Ститон выражал восхищение при виде наших достижений. «Страсти пустыни» побьют все кассовые рекорды в Европе и Америке. Сэр Рэнальф настаивал, чтобы в течение дня Эсме сопровождала его везде, куда бы он ни направился. Она была его «милой маленькой деточкой», его «благородной девой». Мне эти восторженные разглагольствования пожилого человека об очаровании юного тела казались чрезмерными и неестественными. Но Эсме объяснила, что очень важно сохранить расположение сэра Рэнальфа. Она слышала, как он расхваливал достоинства фильма своим партнерам-египтянам. Она думала, что они ожидали чего-то более сенсационного. Я к тому времени уже просмотрел кое-какие невнятные местные мелодрамы. Я сказал Эсме, что наш фильм настолько выше этих поделок, что даже нет смысла их сравнивать. Египетские «триллеры» вряд ли демонстрировались за пределами страны, а об американском прокате и говорить нечего. Но я понимал, как важно способствовать тому, чтобы продюсер не понижал художественные стандарты ради сиюминутной коммерческой выгоды. Поэтому я разрешал своей девушке проводить время с англичанином; она не раз участвовала в деловых встречах и помогала убедить его партнеров в благородстве и предстоящем финансовом успехе нашего предприятия. Если сэра Рэнальфа и связывали с моей возлюбленной какие-либо иныеотношения, то я не замечал проявлений этого, хотя, должен признаться, время от времени мне с трудом удавалось сдержать подозрения. Я часто вспоминал о Коле и изо всех старался добиться того, чтобы наши сцены с миссис Корнелиус были по возможности безукоризненны. Увы, я уделял своей юной возлюбленной гораздо меньше времени, чем она заслуживала. Пренебречь прекрасным цветком — это безумие, как говорили у нас в Киеве. Если такой цветок не оценить, он исчезнет или его сорвет кто-то другой. Я виноват ничуть не меньше прочих. Сэр Рэнальф Ститон сорвал мой цветок, но я не думаю, что во всем остальном тоже должен винить себя. Полагаю, мне не следует винить и Эсме — ведь она наверняка чувствовала уколы ревности, видя страстные сцены, которые мы разыгрывали с моей давней подругой, хотя за пределами съемочной площадки нас связывали исключительно товарищеские отношения. Симэн довольно ровно держался со мной, но с большим подозрением поглядывал на профессора Квелча. Пожалуй, только миссис Корнелиус умела развеселить старика. Рядом с ней профессор начинал по-детски дурачиться и говорил, что она была самой забавной собеседницей, какую ему случалось повстречать. Очень сильно сбивала с толку и атмосфера, царившая в съемочной группе. Грэйс почти всегда ходил, изображая оскорбленное достоинство; однажды ночью он исчез, очевидно, с греческим солдатом, отпущенным в увольнение. О. К. Радонич явно не испытывал ни уважения к режиссеру, ни симпатии к сценарию фильма. Он проводил большую часть времени в поиске хороших сигар, садился за камеру только тогда, когда его вынуждали это сделать, и все сильнее страдал от жары; в конечном счете утомление от перегревания его одолело. Оператора отвезли к венгерскому доктору в Луксор, и оказалось, что он не может продолжать работу. Симэн решил проблему, усевшись за камеру сам, но нас покинули двое осветителей, связавшись с богатыми шведками, которых они встретили у гробницы Тутанхамона. Мы теперь больше напоминали не киногруппу, а маленькую театральную труппу, но сэр Рэнальф по-прежнему сиял от восторга! Он заверил нас, что вскоре из Каира прибудет новый персонал. Он знал лучших египетских киноработников, настоящих профессионалов, а в случае необходимости мог вызвать квалифицированных технических сотрудников из Италии. В конце концов к нам присоединился александрийский грек, на которого произвело впечатление наше, по его словам, «современное» оборудование; он проявил себя как достаточно компетентный оператор и выполнял все указания Симэна. Вслед за ним прибыли еще два грека и несколько коптов, и скоро съемочная группа собралась в полном составе, хотя Симэн постоянно жаловался на некомпетентность и лень новых сотрудников. Копты, обнаружив, что Эсме бегло говорит на турецком, проводили большую часть времени, болтая с ней. У нее с ними скоро сложились превосходные отношения, но у сэра Рэнальфа это вызвало возражения. Ее дружелюбие подрывало дисциплину. Нужно было уметь держать дистанцию. Лишившись большинства опытных помощников, Симэн все сильнее отдалялся от съемочной группы. Очень немногие из вновь прибывших говорили на английском языке, кто-то понимал по-немецки, и Симэну приходилось полагаться на то, что мы, знающие французский, будем переводить его простейшие указания. В конечном счете, когда я не смог починить захудалый генератор, который нам доставили, чтобы подключить прожектора, Симэн заявил, что больше не может работать в таких условиях. Мы установили камеру в гробнице Тутанхамона — слишком холодном и тесном пространстве для царя, с крошечными помещениями и невыразительными картинками, похожими на плохие комиксы. Здесь не было ни красоты, ни вдохновения, которые я наблюдал в других гробницах и храмах, где мне удалось познакомиться с вершинами древнеегипетского искусства. Двумерные изображения после этого казались мне совершенно естественными, и я очень легко мог отличить возвышенное от низменного. Да, у египтян были замечательные барельефы и росписи, чудесное храмовое искусство и монументальные скульптуры, но за тысячи лет появилось и великое множество ущербных копий выдающихся оригиналов, никчемные безжизненные подражания — в точности так же, как и теперь, в нашем мире. Плохое искусство с годами не становится лучше. В одном месте и в одно время никогда не бывает много великих художников, и слава Тутанхамона, кажется, основана на его золоте и физической красоте, а не на великолепном мастерстве строителей гробницы и рисовальщиков, которые ее расписывали. Ученые полагали, что могила на самом деле предназначалась для министра, но юный правитель внезапно умер, и потребовалось бы слишком много времени, чтобы построить новую гробницу из камней Вади-эль-Мулак. Звезды на темной крыше были безжизненными; синие, зеленые и красные фигуры на стенах казались какими-то неправильными. Все это место произвело на меня гнетущее впечатление. Впрочем, такова, я полагаю, природа гробниц. Я не разделяю всеобщего восхищения подобными достопримечательностями. Пока остальные проводили свободное время, исследуя различные места сомнительного вечного успокоения мертвецов, я довольствовался рисованием эскизов для нового проекта, которым я надеялся заинтересовать сэра Рэнальфа. Я задумал его несколько месяцев назад и назвал «Лайнером пустынь». Настало время отказаться от «кораблей пустыни», терпеливых верблюдов, ради гигантского мотора! Мой транспорт сможет перевезти пассажиров через вселяющую ужас пустыню Сахара с удобствами и даже роскошью, достойной лучшего океанского лайнера. Я показал планы сэру Рэнальфу однажды днем, когда он сидел в автомобиле, наблюдая, как Эсме играет в крикет с греком, миссис Корнелиус и профессором Квелчем. — Каково! — то и дело выкрикивал сэр Рэнальф. — Хорошая подача! — На моем «Лайнере пустынь», — заверял я, — будет обеденный салон, комната отдыха, смотровая площадка, отдельные каюты и другие удобства. Очень легко можно построить целый флот таких кораблей. Опытный образец будет в сто тридцать футов длиной, сорок два фута в высоту от нижней точки колес до крайней точки верхней палубы и двадцать шесть футов в ширину. В общем, этот корабль будет напоминать пассажирский пароход, за исключением того, что он станет перемещаться на колоссальных размеров колесах! — Роскошно! — воскликнул сэр Рэнальф. — Удивительно! Продолжайте, отважный волшебник! Скорее поведайте мне остаток истории! — Колеса будут тридцати девяти футов в диаметре, — объяснил я. — Как вы можете увидеть здесь, благодаря тщательно продуманному (простите мою гордость) компенсаторному механизму они окажутся близко к песку и почве в любой возможной позиции. Это означает, что корпус судна всегда останется на нужном уровне. Независимо от расположения колес, корпус сохранит устойчивость! Сэр Рэнальф кивал большой головой; его, очевидно, потрясли мои технические замыслы. — Но что приведет в действие такого монстра, мой мальчик? Двигатель потребуется просто огромный! Такой вес! Такой вес! Вопрос не застал меня врасплох. — Корабль будет оснащен двумя дизельными двигателями на четыреста пятьдесят лошадиных сил; один из них останется запасным. Две динамо-машины обеспечат движущую электрическую силу. Регулировку можно осуществлять с помощью вот такого гидравлического аппарата. — Я развернул свой чертеж. — Вам нужно это запатентовать, о великолепный юноша! Потом внимание моего покровителя привлекли какие-то действия на поле для крикета, и он издал странный звук, будто поперхнулся. — Машина может подниматься под углом в тридцать градусов. Крутые холмы, как вам известно, в Сахаре довольно многочисленны. Большая скорость не была моей целью, потому что трение песка о колеса создаст очень высокую температуру, хотя часть этого тепла, по общему признанию, можно преобразовать для множества целей. Судно будет двигаться со скоростью примерно девятнадцать миль в час. — Так медленно! — Быстрее верблюда, сэр Рэнальф! Корабль может перевозить сто пятьдесят человек, включая пассажиров и членов команды, двести тонн товаров и запас топлива, достаточный для того, чтобы проехать десять-двенадцать тысяч миль. Это транспортное средство сможет пересечь самую большую пустыню в мире! Я объяснил, что там будет четыре палубы. На верхней — рубка управления, комната беспроводной связи, каюты командира и трех офицеров, двухместные пассажирские каюты и четыре люкса. На этой палубе, как я указал на своих планах, будут туалеты, офис, багажное отделение и длинная прогулочная зона, защищенная крышей от палящих лучей солнца. На двух промежуточных палубах — каюты, обеденный салон, кухня, читальный зал, курительная и еще багажные отделения. Я показал Ститону, где планировал установить два крана, весом две тысячи фунтов каждый, чтобы с обеих сторон поднимать багаж и грузы. Особенно радовала меня еще одна важная деталь. На моем наземном корабле будет камера охлаждения, в которой постоянно поддерживается низкая температура. Здесь могли отдыхать пассажиры, измученные жарой пустыни. Все мы на собственном опыте узнали, что в таком чистом воздухе солнечные лучи достигают земли очень легко, не встречая сопротивления. Пребывание под открытом небом, конечно, было крайне опасно, так как излучение воздействовало на головной и спинной мозг (именно по этой причине, напомнил я, арабы всегда носили тяжелые тюрбаны, прикрывая головы и шеи). Очаровательные спортсменки закричали, засмеялись и начали, пусть и несколько неловко, совершать «перебежки». Интерес сэра Рэнальфа к крикету усилился. Я никогда не понимал британского энтузиазма по поводу этой таинственной игры. Всякий раз, когда удавалось привлечь внимание собеседника, я продолжал объяснять, что оставил на нижних палубах место для складов, каюты рулевого, моторного отсека, ремонтной мастерской, запасов воды и топлива. — Если вы захотите привлечь к этому делу своих партнеров, то, естественно, зайдет речь о том, что при покорении песчаных просторов маленькие транспортные средства гораздо практичнее такого «земного левиафана». Да, сэр Рэнальф, все мы недавно читали в «Иджипшн газетт», что было доказано: небольшие автомобили особой конструкции, подобные вашей машине, могут пересечь Сахару! Но вы также прочтете и о том, что они подвергаются огромной опасности. Например, возможно нападение дикарей! — Пустыня, мой дорогой друг, и впрямь переполнена опасностями. Эти язычники — в основном, похоже, берберы из Триполи. Британская полиция бессильна, конечно. Хорошая «перебежка», прекрасная мадемуазель! — Вы непременно оцените, сэр Рэнальф, превосходство моего «Лайнера пустынь», сравнив его с автомобилями. Грузовой «Лайнер пустынь» измещением в триста пятьдесят тонн обойдется приблизительно в двадцать шесть тысяч фунтов. А сорок грузовиков будут стоить, скажем, по пятьсот фунтов за штуку. Затраты на мой лайнер, вооруженный «буфошами» и «Баннингами»[1031], окажутся примерно на шесть тысяч фунтов больше, чем на грузовики, и все же текущие расходы на содержание сорока грузовиков при отсутствии заправочных станций будут значительно выше, чем расходы на мой роскошный крейсер. Для каждого грузовика понадобится по крайней мере двое шоферов — так что минимальный штат составит восемьдесят человек. А для управления моим лайнером будет довольно всего лишь двадцати! Буйные племена в пустынях — это примерно три с половиной миллиона человек. Дикие животные — еще одна опасность. Грузовикам придется останавливаться, понадобится принимать какие-то меры для защиты от этих угроз, а мой лайнер будет двигать день и ночь без остановки. Компанию Томаса Кука это, должно быть, особенно заинтересует. — Каково! Ха! Ха! Каково! Кук? — Сэр Рэнальф смотрел на меня с беспокойством. — О, нет! Мы уладим ситуацию, не обращаясь к ним. Мой партнер в Асуане всегда интересуется новыми рискованными проектами. Я уверен, что он захочет вас поддержать. Я знаю и других, в Александрии и Каире. Возможно, даже здесь, в Луксоре. Увидимся позже, прославленный бард, и я с радостью помогу отыскать кого-то, кто заинтересуется вашим кораблем! — Он снова отвел взгляд, посмотрев на крикетную ивовую биту и кожаный мяч. — Эта схема, мой прекрасный механик, достойна Суэцкого канала и всех его строителей! Я впечатлен. Сэр Рэнальф больше не мог держаться в стороне от состязаний; он, покачиваясь, шагнул в клубы пыли, чтобы выхватить биту из рук Эсме и бросить вызов профессору Квелчу, который, глубокомысленно потерев мяч о зад, начал пятиться — такова была характерная особенность этой игры. Все, знавшие меня в 1926‑м, понимали, откуда — целиком и полностью — Бишофф из Киля взял свои чертежи, когда объявил о постройке «Графини Марианны». В любом случае нацисты перечеркнули все эксперименты и исследования Бишоффа, когда пришли к власти. Я понимал, почему Гитлер принял такое решение, но он уже превращался в обычного близорукого политикана. Идеология нацистов требовала от них продемонстрировать обществу немедленные результаты. Как и в случае Сталина, пришлось пожертвовать всем: жизнью, достоинством, духом. Геббельс оказался прав. Он и его друзья действительно были темпераментными противоположностями терпеливых евреев. Симэна — и того отличала тевтонская решительность. У славянина же есть оба этих достоинства — вот почему он может так легко пережить взлеты и падения истории, сопротивляясь всем чужестранным завоевателям. Терпение помогало мне избавиться от неуместного напряжения, тогда как Симэна все больше расстраивало поведение неопытной киногруппы и вмешательство сэра Рэнальфа. Во втором случае я мог только посочувствовать режиссеру. Я объяснил сэру Рэнальфу, что задача продюсера — стать эффективным посредником для реализации творческого потенциала художника; но Ститон в кои-то веки почувствовал свою власть и не собирался выпускать ее из рук. Будет ли у фильма достаточный «вес» — вот о чем размышлял сэр Рэнальф. Когда мы потеряли нить рассуждений, он объяснил, что до сих пор мы слишком многое в фильме считали само собой разумеющимся. Характеры следовало углубить. Мы объединились против него, став одной командой. Мы не совсем понимаем, что он называет «углублением», говорили мы. Все актеры, даже Эсме, играли исключительно хорошо. На экране появились настоящие люди, с которыми могли себя отождествлять другие настоящие люди. — Но не все! Сэр Рэнальф настаивал, что фильм должен привлечь максимально широкую аудиторию. Он не был уверен, к примеру, что Эсме действительно покажется сладострастной, чувственной соблазнительницей. Меня его мнение оскорбило. Наша порывистость наглядно демонстрировала сексуальность Эсме. Сама Клара Боу это подтвердила. — Но разве можно поверить, что она в силах обольстить величайшего из жрецов Египта, благороднейшего из мужчин, вас, Ах-ке-тепа! Вы — самый могущественный технический гений в мире, драгоценный мой эсквайр, самый влиятельный архитектор Рамзеса Второго! Ему не следовало меня умасливать. Я лучше всех прочих понимал символический смысл своей истории! Я не мог отрицать, например, определенных автобиографических элементов. И все-таки меня озадачивал язык тела, которым пользовался Ститон. Как будто кальмар подавал сигналы, размахивая конечностями… — Я думаю, что мы должны показать Ру-а-на в особой сцене. Там, где она демонстрирует вам свое очарование. — Он прочистил горло. — Тшего? Миссис Корнелиус, кашляя, промчалась сквозь клубы пыли и наконец остановилась подышать воздухом. Она провела на верблюде большую часть утра и, в отличие от меня, не испытывала никакой симпатии к животному. — Грязь? — Сцена художественного обнажения. — Сэр Рэнальф не обращал внимания на миссис Корнелиус, которая, задыхаясь от гнева, стояла у него за спиной. — Тшто за хрень! — воскликнула она. — Я знала, тшто ты больной псих, Рэнни. Мне говорили, как ты занимался грязными картинками! — В самом деле, моя дорогая Королева Нила, уверяю вас, что говорю от имени всей Европы; сцены с обнаженной натурой там считаются вполне нормальными. Должен согласиться, в Америке, где правит ханжество, это не так. Но, конечно, вы, как истинные космополиты, понимаете: я не требую ничего недостойного ваших великих талантов? — Тоже верно, кореш. — Миссис Корнелиус прижалась ко мне и быстро прошептала: — С меня хватит, Иван. Этот ублюдок задумал тшто-то мерзкое, и я тшую вонь. Убираемся отсюдова, щас же. Поверь актерскому тшутью. — И, поднеся розовый палец к восхитительному носу, она сообщила мне, что связалась с майором Наем в Каире. — Мы с майором теперь снова кореша, с прошлой нотши. Он прислал билет в первый класс. И я уж потратшу немного денег. С меня этого довольно, Иван. По ходу, дальше я могу оказаться на какой-нибудь тшортовой лодке и поплыву в гарем треклятого султана. Бог знает, тшто они сделают с тобой! — И она улыбнулась, хотя руку мне по-прежнему сжимала крепко. Я редко видел, чтобы миссис Корнелиус проявляла такую настойчивость. И все же она просила отказаться от проекта всей моей жизни. Я должен был закончить свой фильм. Правда, пленка с главными сценами уже лежала в коробке, и нам требовалось снять лишь несколько интерьеров, которые можно было и «подделать», но я хотел, чтобы она осталась со мной! Я просил миссис Корнелиус не уезжать. Мы добьемся полного контроля и сможем убрать любой сомнительный материал. — Он весь, тшерт возьми, сомнителен, Иван. Ты, как и я, хорошо знаешь, как делаются всякие «дутые дела». Садись на тшортов поезд, Иван. Вместе со мной. Я доверял ее инстинктам, но моя верность Эсме и искусству была сильнее страха. Эта верность, конечно, оказалась совершенно неуместна. Я всегда буду проклинать собственное безумие, хотя миссис Корнелиус ни разу не напоминала мне о том предупреждении за все годы, проведенные в Англии. Я сказал, что обдумаю ее предложение. Я позволю Эсме решать (я, в конце концов, не сумел бы бросить ее). И оставались партнеры сэра Рэнальфа, которые могли вложить капитал в мой «Лайнер пустынь». Я мог сделать сразу несколько карьер в Египте — тогда эта страна была готова развиваться во всех направлениях. Разве не следовало мне довериться людям, интересы которых совпадали с моими? Я тогда еще не понимал, как часто подобные деловые люди предпочитают говорить, а не действовать. (Их бездеятельность обусловлена расой, исключение — самые истеричные и безответственные типы. Кровная месть и футбольные матчи — вот все, что их занимает.) В тот жаркий май я увидел возможность вернуть былую славу. История уже погубила мои надежды, уничтожив многообещающую карьеру, которую я начинал в России, потом в Турции и во Франции. Подобная же угроза возникла и в Америке. Но теперь у меня появился шанс вернуть все. Здесь были богатые вожди, имевшие огромные состояния и готовые вкладывать средства в развитие передовых идей. Мой «Лайнер пустынь» годился не только для гражданских, но и для военных целей. Эта безжалостная сила могла утвердить британское владычество во всей пустыне и далеко за ее пределами. Неужели миссис Корнелиус хотела, чтобы я бросил эту мечту (так же как мечту о нашем экранном союзе) вместе с зарплатой и невестой? Как я мог послушать ее? И все-таки я доверял своей старой подруге настолько, что готов был согласиться на побег, если Эсме отправится вместе со мной. Все прочие уже с интересом поглядывали в нашу сторону. Миссис Корнелиус успокоилась. — Ну, хорошо тебе время провести, Иван. Не замерзни. — И она вернулась к себе в палатку. Тем вечером мы возвратились в Луксор и приготовились поужинать на борту. Я решил, что при первой возможности отведу Эсме в сторону и настоятельно посоветую ей не участвовать в сцене, которую предложил сэр Рэнальф. На станции я смогу купить билеты до Александрии. Оттуда мы отправимся в Италию, где нас встретят друзья. Пройдет немного времени, и мы вернемся в Америку. Я ничего не сказал о собственных сомнениях. К превеликому облегчению, она не пожелала от меня никаких жертв! — Ты так много вложил в этот фильм, Димка. Я не могу позволить тебе все бросить. Я понимаю, что сцена необходима для успеха. — Она захихикала. — В конце концов, мой любимый, я привыкла к внимательным мужским взглядам. Я сказал ей: — То дурное время — только сон, о котором тебе нужно забыть. Я обещал, что ты больше никогда не испытаешь подобного ужаса. — О, Димка, мой сладкий, это же весело, — ответила она. — Это — всего лишь забавная игра. Сэр Рэнальф все объяснит. Не будь таким чопорным, дорогой. Я признавал, что принадлежал к другой эпохе, сильнее тяготевшей к правилам, и все же я не хотел, чтобы любимая считала меня слишком осторожным. Я требовал от нее сознательного повиновения. Я улыбался ее шуткам о моем «строгом, старомодном виде». Но она победила меня! Я понимал, что благодаря искусству она не унизит себя. Мне следовало добавить что-то насчет замечаний миссис Корнелиус. Я сказал Эсме, что ее формами будут любоваться иностранцы. Она рассмеялась: — Среди них нет мусульман, милый Димка. К нам присоединился Вольф Симэн, огромный, как башня, и принялся печально и настойчиво объяснять, что наш фильм в Европе никого не удивит. Без этих сцен история утратит силу воздействия. Режиссер попросил сделать их ради художественного совершенства. Он, конечно, не знал, что миссис Корнелиус, которую он все еще называл своей невестой, собиралась уехать. Я решился. Я отыскал подругу в коктейль-баре и увлек ее в тихий уголок на палубе. Дрожащим голосом я попросил ее остаться подольше — хотя бы для того, чтобы закончить сцену в гробнице. Она была непреклонна. — Когда я утшую какую-то гадость, Иван, я беру ноги в руки. Здесь какая-то подстава и воняет совсем гадко. Я ухожу, пока все не так плохо, тебе лутше тоже поторопиться. Только молтшок, ладно? Конечно, я не мог выдать ее. Я поклонился. Я поцеловал ее руку. И затем я возвратился, с некоторым нежеланием, к тому, что осталось от нашей съемочной группы. Исчезновение миссис Корнелиус было обнаружено следующим утром, когда мы собирались снимать у Колоссов Мемнона[1032], странных хранителей утраченной дороги в бесплодные долины мертвых. Я как можно быстрее укрылся в небольшом греческом кафе, где обслуживали проезжавших туристов. Сидя в тени за чашкой «Липтона», я слушал вопли Симэна — он ревел так же громко, как эти легендарные колоссы, голоса которых заглушали пустынные бури даже в те времена, когда сюда, чтобы подивиться памятникам побежденного прошлого, являлись римские императоры. Симэн произносил монологи о природе искусства, о художнике, его роли и правах, о необходимости порядка, о том, что всем нужно работать так же напряженно, как работает он, о том, что пунктуальность — основа любого хорошего фильма. Все полагали, что Глория Корниш осталась в Луксоре, но я на заре выглянул из окна и увидел, как она в сопровождении крадущихся нубийцев направлялась к повозке. Она села на ранний поезд в Каир — наверняка она возвратится в Англию с майором Наем, заново начнет карьеру и, возможно, потом присоединится ко мне в Голливуде. Она легко могла получить работу в Англии — достаточно было напомнить о «Капризах общества» и «Леди Лорекр». В одиннадцать прибыл сэр Рэнальф, которого призвал на помощь Симэн. Сначала наш продюсер казался таким же рассерженным, как режиссер, но скоро он собрался с мыслями и постарался успокоить всех участников группы, белых и цветных. Она сказал, что проблема невелика. Основные сцены сняты. Роль Эсме может немного увеличиться. Сэр Рэнальф заявил, что ни одна актриса (тут он кончиками пальцев коснулся щеки моей возлюбленной) не откажется от такого шанса. Эсме вспыхнула от удовольствия. Должен признаться, что в тот момент не сумел скрыть ревность. Я встал из-за столика и шагнул к ним, воскликнув: — Уверен, что мисс Корниш скоро вернется к нам. А пока я должен напомнить вам, господа, что этот сценарий — мой. Я не допущу постороннего вмешательства. Никаких замен. Видел ли и сэр Рэнальф миссис Корнелиус, направлявшуюся к станции? Может, когда выглянул из окна отеля посмотреть на наш пароход? Он ничего не сказал об этом. Сэр Рэнальф мягко успокоил нас, подтвердив, что сценарий фильма — образец литературного искусства. Об изменении основной линии не могло идти и речи. Но он был шоуменом, в каком-то смысле оформителем витрин. Его задача состояла в том, чтобы удостовериться: публика придет посмотреть нашу картину. Если зрителей не окажется, мое сообщение останется неуслышанным. Это был вполне разумный аргумент, и я мог его принять в таком варианте. Тогда сэр Рэнальф занялся не столь легким делом — попытался усмирить Симэна, который утверждал, что не может работать в отсутствие своей звезды. В конечном счете мы пришли к соглашению, что снимем отдельные сцены с «Айрин Гэй», которая будет носить вуаль, изображая Глорию Корниш, а на следующий день, когда исполнительница главной роли вернется, мы сделаем еще несколько дублей. Сэр Рэнальф напомнил нам, что время — деньги и, так как это решение проблемы обойдется дороже, мы несомненно оценим исключительную щедрость предложения. Миссис Корнелиус, конечно, так и не появилась. Через несколько дней люди сэра Рэнальфа узнали, что она села на каирский экспресс. После этого Симэн вернулся к себе в каюту и отказался выходить. Когда он все же появился на следующий день, то выглядел весьма смущенным. Ночью сэр Рэнальф навестил его и привел в чувство. После этого Симэн стал гораздо покладистее. Более того, его участие в съемках сделалось почти незаметным, иногда режиссура вообще отсутствовала. Сцену с обнажением со вкусом сняли днем среди руин Карнака. Конечно, не было никаких посторонних, да и большинству членов съемочной группы запретили в этом участвовать. Когда Эсме снимала свои шелка и то и дело обращала ко мне жаждущие взгляды, должен признать, как мужчина я был глубоко взволнован. Это зрелище неожиданно вызвало прилив похоти. Зверь прыгнул на меня и слился со мной; чувство казалось даже более сильным, чем в дикие дни любовных ласк и экспериментов в Каире. Мы добились наилучшего художественного результата. Симэн был полностью удовлетворен нашей работой. Эсме, пришедшая в превосходное расположение духа, от природы склонная к наготе и свободе, заставила меня понять, что я действительно был излишне щепетилен. В ту ночь мы с моей маленькой девочкой продолжили разыгрывать сцену — уже без посторонних глаз. Свидетели исчезли — и Эсме стала раскованной и изобретательной. Когда на следующий день Симэн собрал нас у священного бассейна и небрежно потребовал, чтобы моя возлюбленная сняла одежду и притворилась, что собирается плавать, — я оставался спокойным. Я понял, что нужна последовательность. Карнак, этот оплот дикого разума, глубоко языческого искусства, помог нам настроиться. Стало настолько жарко, что почти все уже разделись и носили лишь шорты, майки и легкую обувь. Эта полуобнаженность помогала расслабиться — она влекла и успокаивала вместе с медленным течением времени в Луксоре, качественным кокаином и кифом. Я был молод и относительно неопытен. Я не виню себя в том, что немного отступил от стандартов. Возможно, уже тогда я не сумел бы бежать. Теперь у нас были прожектора и мы могли снимать в тенистых уголках храмов, среди больших колонн. Мы уложили Эсме на громадную упавшую плиту, готовясь к жертвоприношению. И я, жрец Ра, должен был поднять нож и поднести его к ее телу, а прекрасная Эсме — закричать. Я обсуждал эту сцену с Малкольмом Квелчем. У меня возникли художественные и исторические сомнения. Конечно, тогда не приносили подобных жертв? Он сказал, что существует такая вещь, как вольность человеческой фантазии. Я спросил, имел ли он в виду «художественную вольность», и Квелч кивнул. Он стал себя вести исключительно небрежно. Теперь наша жизнь сделалась особой, совершенно закрытой. Мы снимались у стен, в альковах, в разрушенных часовнях, среди высоких колонн Карнака, которые видели человеческое безумие, человеческую жадность, человеческую похоть и темные, неестественные страсти. Мои запреты действительно казались глупыми рядом с этой горячей африканской чувственностью. Я отдался прошлому, варварской цивилизации, которая старела, становилась терпимее и все-таки жаждала человеческих чувств, острых ощущений, трепета плоти рядом с плотью, прикосновения кончика пальца к соску, бурления и жара в крови, захватывающего дух желания, пахнущего потом и сексом. Видя на той скале распростертое взмокшее тело Эсме, я испытал такой прилив неконтролируемого вожделения, что вскрикнул от удивления, когда дружеская рука сэра Рэнальфа коснулась моего обнаженного плеча. — Разве она не прекрасна, друг мой? Такая восхитительно естественная молодая леди, сами знаете. Ну, нам бы следовало знать всем. О тех вещах, которые мы делаем тайно! — И он захихикал. Я был оскорблен. — Что вам известно о моей частной жизни? Он тотчас стал заботливым и замурлыкал как кот. — Только то, что мне рассказала наша маленькая красотка. И, конечно, тогда я понял, что она предала меня. Осознав это, я пережил неописуемый прилив эмоций. Хотя я ненавидел их обоих, но мое вожделение к ней стало сильнее прежнего. Неужели я всегда ненавидел ее и всегда принимал одно глубокое чувство за другое? Любил ли я ее когда-нибудь? Я испытал ужасное замешательство. Эта кошмарная страсть пронизала все мое существо и изменила его. Меня словно сжали кулаки похоти и гнева. Моя Эсме была шлюхой! Она трахалась столько раз, что у нее во влагалище появились мозоли. «Они не плохие, эти солдаты». Почему она предала меня? Она была моим ангелом. Meyn batayt, meyn doppelgänger[1033]. Долг требовал спасти ее. Но долг требовал и многого другого, особенно долг перед Искусством и Наукой. Перед Будущим. — Эсме? — Я двинулся туда, где лежала она, скованная цепью и готовая к жертвоприношению. — Сэр Рэнальф признался. Я повернулся, чтобы заставить камеры замолкнуть. Я спокойно заметил, что эта сцена не предназначена для всеобщего обозрения. Ее голос был немного сонным, точно она дремала, ожидая съемки: — Но ты сказал мне, что все в порядке, Димка. Теперь, конечно, я понял свою ошибку. Несмотря на все ее экзотическое прошлое, моя маленькая девочка мало знала о нравах большого мира. Я слишком долго защищал ее. Я смягчился. — Я не имел в виду… — В самом деле, мой дорогой Чайльд Макс[1034]! Как светский человек! — Это говорил сэр Рэнальф, который воспользовался нами. Мое уважение к продюсеру исчезло в один миг. Я развернулся к нему. — Как вы могли? — Мой милый маленький странствующий рыцарь, не сердитесь! Мы все — просто невинные юноши и девушки, которые собрались здесь, чтобы получить немного языческих удовольствий; ведь мы гостим на этой Земле совсем недолго. Что тут дурного, милый Орфей? Это всего лишь игры! Вполне естественные игры, знаете, как у маленьких мальчиков и девочек. У ребят и девчат, а? Мило, мило! — И он коснулся теплыми пальцами моей руки. — Никакого вреда не будет. Мы же не всякие там зануды, скованные и ограниченные ужасной, бесполезной ревностью и собственническими чувствами, ведь так? Я считал вас, благородный сэр Галахад[1035], поклонником Шелли, как и я сам. Поборником всего, что естественно. Я снова почувствовал себя бесчеловечным и неискушенным. Невыносимым фанатиком. Я покраснел и откашлялся: — Я не совсем понял. Это было потрясение… — Конечно, именно так! Я так сожалею об этом, мой добрый старый друг. Я думал, что все происходило с вашего согласия. Я знал… — А я не знал! — И хотя я старался принять ситуацию, как принял бы ее познавший жизнь человек, я едва не плакал. Во мне смешалось слишком много разных эмоций. — Вы, конечно, не забудете о своих профессиональных обязательствах. Я не мог сразу ответить. Пах у меня словно раскалился добела. К нам присоединился Симэн, сопровождаемый Квелчем, который теперь всегда находился рядом с режиссером. Возможно, я, как и миссис Корнелиус, смотрел на Квелча в поисках сочувствия, но он ответил на мой взгляд с прежней двусмысленной теплотой, в которой я угадал смущение, так и не исчезнувшее с тех пор, как я стал свидетелем его пасхальных развлечений. Симэн, казалось, полностью лишился прежней энергии. Его слова: «Могу ли я помочь?» — звучали почти робко. — Вы нужны, чтобы убедить нашего сбитого с толку кореша в том, что все наши требования — в пределах хорошего художественного вкуса, — приветливо заметил сэр Рэнальф. — Конечно, на стенах самых респектабельных бирмингемских вилл есть картины, которые кажутся более вызывающими, чем наш небольшой эпизод. — Все дело в убеждении, — произнес Симэн. — Мы должны поразить их. — Нам нужно уверить аудиторию, поймите, в абсолютной ценности нашей мизансцены. Пока они говорили, мы выкурили немного кифа, и я начал понимать, к чему они вели. Я вспомнил, что в книгах многие египтяне ходили голыми во время торжеств и особых религиозных обрядов. Но, конечно, не при таких обстоятельствах? Я обернулся к Квелчу, который взмахнул руками. — Полагаю, как я раньше говорил, небольшая вольность… — Но, разумеется, вам бы очень помогло, если бы вы тоже оказались немного ближе к природе, к древним временам. Разве вы не согласны, герр Симэн? Дорогой Макси должен лишиться своего маленького килта, возможно, заменив его церемониальной набедренной повязкой? Я, конечно, отказался. Я спросил: какая в таком случае разница между нашим фильмом и коммерческой порнографией? — Между ними нет ничего общего, — обиженно заверил меня сэр Рэнальф. — Наш великий моралистический труд станет одной из вех в истории драматического театра. Это будет «Гамлет», Пинеро[1036], «Рождение нации» своей эпохи. Потому что мы осмелились, дорогой Макси. Потому что мы осмелились… Но я по-прежнему не видел оснований для того, чтобы раздеваться. Меня больше всего пугало, надо признаться, то, что обнаружатся последствия «гигиенического» решения моего отца. Малкольм Квелч снова отвел меня в сторону и напомнил об определенных прецедентах на известных картинах, а также в великих мифах об изобилии и возрождении, тех самых, которые мы надеялись раскрыть в будущем фильме. В другой части храма он помог мне раскурить еще одну трубку с успокоительным зельем и попытался смягчить меня, демонстрируя свои обширные познания, рассуждая о великом призвании и о мировой известности. — Это может стать вашим пропуском в бессмертие. — Он чиркнул спичкой. Киф был особенно едким; теперь я склонен полагать, что профессор сделал нечто, известное под названием «коктейль», — возможно, с опиумом или с чем-то еще. Снадобье подействовало — я как будто вернулся к своему истинному «я», к своим изначальным верованиям, к пониманию своего величия. Квелч бормотал, что все это — только средства для достижения цели. Когда «Капризы фараона» сделают меня всемирно известным, к моим ногам возложат великие награды. Это меня убедило, но все-таки я настоял, чтобы у меня была особая уборная, за занавесом в углу развалин. Квелч согласился. Он помог мне раздеться — я не очень твердо держался на ногах. Потом, в «ритуальном переднике» и прочих великолепных одеяниях, я вышел на съемочную площадку. Я не ожидал увидеть еще одного зрителя; кто-то стоял рядом со Ститоном в тени пилонов. Чудовищно толстая негритянка, тонкая вуаль которой едва прикрывала огромные губы и плоский нос, моргала глазами под чрезвычайно длинными, как у коровы, ресницами. Она встретила мой взгляд; судя по ее движениям, она явно считала себя очень привлекательной. Неужели это кормилица, присутствие которой должно придать сцене убедительность? Через несколько мгновений сэр Рэнальф, подойдя ко мне, пробормотал, что это «весьма высокопоставленная персона, которая может профинансировать все наши проекты». После выкуренной трубки я пребывал в чудесном настроении; я улыбнулся и поклонился негритянке, та в ответ почти кокетливо отступила в тень. Я ни секунды не размышлял, кем или чем она могла быть на самом деле. Когда Эсме впервые увидела женщину, она испугалась и начала осторожно приподниматься на плите, проверяя свои узы на прочность. Потом она обернулась ко мне, как будто успокоенная. Судя по ее поведению, я предположил, что Эсме уже сталкивалась с негритянкой у сэра Рэнальфа на одной из «встреч», куда я сам по наивности ее отправил. Мой гнев снова усилился. Я сделал шаг вперед и обратился к Симэну: — Мы можем заставить их поторопиться, господин режиссер? У меня есть другие обязанности, сами знаете, помимо исполнения главной роли и написания сценария. Симэн бросился к камере и коснулся ладонью бесстрастного грека, который готов был поворачивать рукоятку. Проверив свет и угол съемки гораздо быстрее, чем обычно, он кивнул мне и крикнул: «Мотор!» Держа нож в руке, я приближаюсь к своей малышке-предательнице. О, как я трудился для нее; я жил для нее, терпел такие муки для нее. И что стало моей наградой! Я вспомнил о собственном безумии, о бесплодном идеализме, о попытках превратить грязный сорняк в прекрасную розу — и теперь я желаю только истязать ее, запугивать, пока она не попросит прощения. Я хочу, чтобы она страдала каждой клеточкой своего тела, ибо прежде я никогда не причинял ей боли. Подобные чувства не вызывают во мне гордости, но это нормальные эмоции для мужчины, оказавшегося в такой ситуации, да и я не из тех, кто сопротивляется правде. От наркотиков у меня в ушах стучали барабаны. Казалось, огромная толпа стояла за моей спиной; невидимые существа давили на меня, я чувствовал на коже их влажное дыхание, их затуманенные глаза следили за каждым моим движением. Они хотели, чтобы я отомстил, отомстил за них, за все предательства, которые совершили женщины, — с тех пор, как Ева предала Адама, с тех пор, как Бог изгнал их из Сада. Симэн внезапно оживляется — он так разговаривает исключительно в случаях, когда знает, что снимает великолепную сцену. — Вот так! Замечательно! Ты идешь к ней. Ты любишь ее. Ты ненавидишь ее. Ты хочешь ее убить. Ты хочешь ее спасти. Она — твоя. Она — общая. Все ждут, что ты принесешь ее в жертву. Вот так. Ты поднимаешь нож. Хорошо. Но твоя рука замирает. Ты не можешь шевельнуться. Ты не можешь решиться на убийство — только после того, как надругаешься над ней. Да. Ты изнасилуешь ее. Ты возьмешь ее. Ты не замечаешь ее криков. Ее сопротивления. Она отдается тебе. Отдает то, что должна отдать. Это — долг, который ты потребуешь, а потом успокоишь гнев богов ее кровью. К горлу у меня подступила желчь. Я, конечно, испугался, что меня сейчас вырвет, и все-таки происходящее полностью меня поглотило, я знал, какое невероятное ощущение будет передано на экране. Я бросился на Эсме. Глядя в ее испуганные глаза, я понял, что она тоже была одурманена и тоже чего-то боялась. Я отступил. Я наклонился и сплюнул в песок у основания камня. — Снято! — закричал Симэн. Он сказал, что потом мы сделаем еще один дубль. Возможно, завтра, когда почувствуем вдохновение. Я извинился за свое состояние. Мне было тяжело работать в такую жару. Сэр Рэнальф забеспокоился: — Мы должны вернуть вас на корабль, мой милый малыш. Вы справились великолепно. Сцена наверняка потребовала слишком больших усилий. Но именно так мы сделаем наш фильм не просто хорошим, поймите, а по-настоящему великим. Остаток вечера и всю ночь я провел в своей каюте, погруженный в сны и грезы. Образ моей скованной цепями невесты часто появлялся в этих видениях, а вместе с ним — вязкая, ужасная похоть, бесконечно тоскливая и однообразная. Тогда я вспомнил об огромной негритянке. Кто она? Принцесса из великой династии? Незаконнорожденная дочь правителя? Или просто содержательница борделя? Казалось, я ей понравился. Нежная бледность моей распростертой на камне малышки и тесные объятия негритянки слились воедино; внезапно это невероятное ощущение проникло в гениталии — и я проснулся, задыхаясь и крича. Я был один в своей каюте; корабль мягко покачивался на воде. Где-то далеко выл шакал, призывая собратьев. Грезы не прекращались. Мои простыни промокли. На следующее утро меня разбудил жизнерадостный Квелч. — Приходите в смотровую комнату, мой дорогой. Вы чудесно сыграли. Все уже готово к показу. Еще не очнувшись от опиума, я позволил профессору помочь мне с мытьем и одеванием. Потом на негнущихся ногах вышел на жаркий, желтый дневной свет и добрался до кормы, где все уже сидели в полутьме, ожидая, пока Симэн запустит проектор. Экран засветился, затрепетал, потом изображение сфокусировалось и мы совершенно внезапно увидели очень сильную трехминутную сцену. Теперь я понимал, почему остальные были настолько возбуждены. Мы сняли невероятные кадры. Запечатлелось все — моя жестокая похоть, гнев и ненависть. Ужас Эсме был неподдельным. Никогда прежде на экране не появлялись эпизоды такой эмоциональной силы! Увиденное вызывало и тревогу, и гордость. Конечно, это надругательство станет для меня тем, чем для Валентино стало его танго. — И все-таки, — сказал сэр Рэнальф после того, как все поздравили нас, — необходимо сделать еще немного, чтобы наш фильм достиг своей великолепной кульминации! Я заметил, что, с моей точки зрения, мы уже преодолели вершину. Но он искренне рассмеялся. — Нет, дорогой мой, милый кореш, мы только начали подниматься! Не так ли, профессор Квелч? — Именно. Мы пока, если угодно, в предгорьях экстатической составляющей нашего фильма. Скажем так, его метафизического элемента. В конце концов, мы ведь пытаемся запечатлеть невещественное и неописуемое! Англичане всегда восхищались нематериальным — во всем, кроме религии. Их композиторы и художники, их модные авторы — все с готовностью заменяли реальный опыт мистикой. Наша русская «душа» была совсем не тем же самым. Однако я согласился. Слишком велика оказалась художественная и интеллектуальная ценность отснятых сцен. Я уже почти гордился тем, что все, кроме нас с Эсме, называли моей актерской игрой. — И помните, нам еще нужно польстить леди Торговле, — добавил сэр Рэнальф и покачал головой, смиряясь с грубостью нашего мира. Я подумал, что речь идет о негритянке. — Мы должны убедиться, что будет достаточно сентиментальных фрагментов, которые станут дополнением, мне кажется, к еще нескольким «занятным сценам». Чтобы продемонстрировать весь спектр эмоций, как вы понимаете. Нужно показать, что мы касаемся всех аспектов человеческой жизни, ни о чем незабывая. Сегодня днем, Макси, мой добрый друг, я хочу, чтобы вы подумали о том, не следует ли сорвать ваш ритуальный передник, когда вы надвигаетесь на беспомощную соблазнительницу. Конечно, мы не будем это снимать, но так мы сможем создать необходимый настрой, верно, мистер Симэн? Симэн молча кивал, сжавшись в кресле. Он достиг пика карьеры и все-таки по каким-то причинам был недоволен. Я отказался от предложения сэра Рэнальфа. — Мне нужно заботиться о своей репутации, — объяснил я. — Не уверен, что в инженерном мире станут доверять человеку, который показал голую задницу посетителям синематографа. Они рассмеялись. Публика получит только намек! Конечно, я смогу отсмотреть предварительные материалы. И увидеть, насколько тонко будут сняты кадры. Несмотря на сильнейшее желание продолжить работу над фильмом, я никак не мог согласиться. Я считал, что важнее всего благополучно доставить отснятый материал обратно в Америку и как следует его смонтировать. Истинный успех ждет нас только в том случае, если фильм получит одобрение в Штатах. Самые интимные сцены не появятся в американской версии, но слухи о них привлекут миллионы зрителей. Вероятно, в других странах не станут проявлять такое ханжество относительно изображения естественности, практически необходимого для успеха фильма, — во Франции, например. И все же меня по-прежнему сдерживало доказательство моего позора — или, скорее, позора моего отца: крайняя плоть, удаленная по гигиеническим причинам, когда я еще ничего не понимал. Я снова отказался — вежливо и доброжелательно. Сэр Рэнальф выглядел только немного разочарованным. — Как пожелаете, дружище. Я, однако, делаю вывод, что вы не против снять еще несколько дополнительных дублей сегодня? Я совершенно искренне объяснил ему, что этот фильм для меня означал все. Я ни в коем случае не стал бы вредить проекту. Когда сэр Рэнальф увез Эсме в «Зимний дворец» на обед, я почувствовал некоторое облегчение. Теперь мне было трудно общаться с ней в реальной жизни — наши роли стали слишком убедительными. Потрясенный и напуганный, я очень обрадовался, когда профессор Квелч продемонстрировал те же добрые чувства, которые проявлял его брат; он предложил выкурить еще пару трубочек, прежде чем начнется работа. — Чтобы вас успокоить, дружище… Вы же хотите быть в лучшей форме. И вчера это, конечно, сработало. Какие превосходные кадры получились! Мы сидели вместе в нашей каюте, и Квелч читал мне Браунинга и некоторых более современных авторов. Но я никак не мог сосредоточиться на смысле слов. Я изо всех сил пытался найти способ, позволивший бы мне описать возникшую проблему. Наконец я признался, что прекрасно понимаю логику своих партнеров и их потребности, но не желаю, чтобы мы с Эсме впредь снимались обнаженными. — Дело не в том, что мы имеем в виду, а в том, как нас поймут, — сказал я. Квелч отмахнулся. Он уверил меня, что возражать станут только немногие зануды в Америке, а в Европе мое имя будет известно в каждой семье. Выдающийся художник! Великий инженер! Но я по-прежнему колебался. Есть и другое затруднение, сказал я; дело в моей операции. Он выразил сочувствие. Он не знал, что у меня есть подобные проблемы. Шрам? Он не помнил шрама. Шрам, ответил я, был тайным и неизгладимым. И затем, не в силах нести свое тяжкое бремя в одиночку, я рассказал ему, что мой отец, социалист, врач и современный человек, исполнил варварскую хирургическую операцию, от последствий которой я страдал много лет и которая много раз могла стоить мне жизни. Квелч все понял. Он слышал о таких операциях. Детям в Англии их тогда делали очень часто. Он даже знал, что это вошло в моду в низших классах общества. Волноваться глупо. Это вовсе не клеймо. Все поймут. — Кроме того, — рассмеялся он, — ваш лысый джентльмен, знаете ли, не будет сильно выделяться в этой стране! Последние слова меня нисколько не утешили! Но он продолжал говорить, что подобные вещи теперь не имеют ни малейшего значения за пределами Украины и мои волнения по этому поводу просто нелепы и старомодны. Никто не примет меня за того, кем я не являюсь. Пришло время оставить позади все глупые мысли и страхи. — В конце концов, мой дорогой Питерс, fortuna favet fortibus! И еще говорили: «Fortuna favet fatuis»[1037]. Если бы я был дураком, которого любила Фортуна! Тем вечером я пришел на площадку в легком пальто. Я заранее надел свой костюм, чтобы избежать неловких ситуаций. Я чувствовал некоторую слабость. Отдельные детали того вечера вылетели у меня из головы, но я еще помню, что нам нужно было заново разыграть сцену в «гробнице» — ее устроили в небольшой разрушенной коптской часовне в предместьях города; стены часовни недавно покрыли фресками, на которых, как предполагалось, изображены жизнь и посмертное странствие нашей мифической царицы. Эсме будет прикована в гробу, на месте мумии. Ее удел — остаться там навсегда; так она займет место царицы, которой осмелилась бросить вызов. Мы снимем несколько вариантов сцены. В одной версии я заколю ее кинжалом. В другой я прижмусь к ее губам, и мои мускулы напрягутся, как будто я хочу освободить ее. Потом я подарю ей один поцелуй, развернусь и умчусь прочь по хлипкому картонному коридору, который изображает туннель, ведущий к гробнице. Я вновь приближаюсь к Эсме, уже лежащей на плите; ее ноги прижаты к теплому камню, ее восхитительное тело извивается, в каждом движении выражается неподдельный ужас. Я горжусь ею. Я оживляюсь. Я никогда не чувствовал такой удивительной силы. Я никогда не хотел этой силы. Но она не покинет меня. Зверь внутри меня движется и рвется наружу. У нас в животе металл. Я отступаю, чувствуя, как в атмосфере скапливается электричество. Я оборачиваюсь к Симэну. — Я не могу, — произношу я. — Ты должен. — Он говорит негромко и настойчиво. Кажется, в его голосе слышится страх. — Должен. Я начинаю дрожать. Подходит сэр Рэнальф: — Мой бедный старый друг, вы больны? Я вообще не могу играть в этой сцене. Я никогда не сыграю. Он спрашивает, нервничаю ли я. Я не знаю. Я дрожу. Сэр Рэнальф произносит какие-то успокоительные слова. Он отдает меня на попечение Квелча. Морфий и кокаин помогают мне собраться. Теперь я чувствую себя очень виноватым. Я вел себя непрофессионально. Если я подведу своего потенциального покровителя — это может повредить моим личным интересам. Когда я возвращаюсь на площадку, Эсме уже успокаивается. Ее глаза закрыты, и она вздыхает, словно погружается в сон. Отдаляясь, она становится другим существом, прекрасным зверьком, еще более желанным. Теперь я гораздо спокойнее, я почти весел — я поправляю свой костюм, позволяю эфиопке добавить последние штрихи к гриму и иду к алтарю. Все боги Египта смотрят на меня свысока. Пока Симэн двигает камеру, я с внезапным ужасом гляжу на Гора и Анубиса, Осириса и Изиду, Мут и Сета, Тота и полубогов с головами животных, окружающих нас. Зверь соединяется с мужчиной, женщина — со зверем. Я чувствую в себе силу зверя. Я чувствую ту ужасную силу, которая может вселиться в каждого из нас, если мы предложим ей войти, но которой мы должны управлять. Я могу ею управлять. Я управлял ею с тех пор. Затем Эсме начинает кричать, издает странный слабый звук, приходящий из снов, и я оборачиваюсь и вижу, как на ее лице появляются, сменяя друг друга, разные выражения, словно маски слетают одна за одной; ее глаза открываются, и она улыбается мне. Она думает, что я могу спасти ее. — Давай, Макси, давай! — шепчет сэр Рэнальф, который прячется за спиной Симэна. — Ты не знаешь, убить ее или истязать. Ты в бешенстве. У тебя в руке нож! Но ты не можешь немедленно убить ту, которую любил так страстно. И какова будет твоя месть? И я прижимаюсь к ней, целуя ее, лаская ее, припадаю всем телом к мягкой, трепещущей плоти. Крики теперь звучат приглушенно, и они пугают меня. Я продолжаю целовать и ласкать ее, но вдохновение снова начинает меня подводить. Я встаю, ступаю на острые камни и объявляю, что больше ничего не сделаю. — Но это невозможно. Говорит негритянка. Глубокий, четкий голос, великолепный и чувственный. — У нас должно состояться изнасилование, полагаю. Иначе просто не будет развязки. А публика требует развязки. Я не понимаю ее. Я слышу, как сэр Рэнальф решительно беседует с ней, но не могу разобрать ни слова. Она непреклонна. Сэр Рэнальф подходит ко мне. — Мой милый мальчик, это наша главная покровительница. Любой из нас поступил бы очень глупо, обидев столь важную персону. Если бы вы смогли как-то отыскать необходимое вдохновение, я был бы вам весьма признателен. Я стою и качаю головой. Внезапно негритянка шагает вперед, словно водоворот из ярких шелков и перекатывающейся черной плоти. Она движется с осторожностью великана. Она резко вздыхает. Теперь ее глубокий грудной голос наполнен печалью. — Я хотела принять участие в одной из величайших кинокартин этого века. Насилие обеспечит катарсис. Развязку. Ты понимаешь Фрейда? Я говорю, что не готов притворяться, будто насилую свою девушку. — Мы и не предлагали тебе притворяться. — Крупное тело негритянки шевелится, словно она беззвучно смеется. — Тогда я не буду больше играть. — Я с трудом могу сфокусировать взгляд. От этого существа исходит аура сверхъестественной власти. Ее глаза преодолевают любое неповиновение. И все же я стою на своем. Ради моей девочки. Ради себя самого. — Это настоящий позор, дорогой мальчик, — бормочет сэр Рэнальф из-за спины своего «партнера». — Для всех нас это исключительно важно. — Вы, однако же, просите слишком многого. — Губы у меня пересохли, слова звучат несвязно. — Я и Эсме утром возвращаемся в Каир. Полагаю, вы действительно напугали ее. — Я наклоняюсь и стискиваю ее благодарные пальцы. — Все это зашло слишком далеко. — Очень хорошо. — Сэр Рэнальф отворачивается, слегка пожимая плечами. — Как только вы погасите долги и разберетесь с остальным, идите своей дорогой. — Вы можете забрать мою зарплату — до последнего пенса. — Я совершенно спокоен. — Все, чего я хочу, — билеты домой для меня и Эсме. — Я говорю внятно. Мои требования просты. Я отказываюсь от компромисса. — Милый мальчик, боюсь, вашего гонорара, довольно щедрого по египетским стандартам, недостаточно, чтобы погасить долги. — В голосе сэра Рэнальфа слышится лишь глубокое сожаление. — Не так ли? — И он испуганно смотрит на свою покровительницу. Негритянка делает подтверждающий жест. Я не могу разгадать их знаки. — Профессор Квелч объяснит, — коротко говорит сэр Рэнальф. — Боюсь, что мне тоже пришлось заплатить по счетам, дорогой мальчик. Руки у меня связаны. Felix qui potuit rerum cognoscere causas[1038], можно сказать. Ваши долговые расписки были моим единственным имуществом. Сэр Рэнальф разъясняет смысл слов Квелча. Мы с Эсме должны около двух тысяч пятисот фунтов. Наши гонорары составляли не больше пятисот фунтов. Следовало также учесть затраты на проживание, местные налоги, счета из баров и все прочее. Еще возник вопрос о нарушении условий контракта. — Все очень легко, — говорит сэр Рэнальф. — Если вы желаете выйти из проекта, просто оплатите счета, возместите нам расходы и уходите. — Но что с нашим фильмом? — Полагаю, вы можете забрать все, что было снято. — И негативы? — Если договоритесь с мистером Симэном. — Но, когда я смотрю в сторону Симэна, тот отходит прочь. Я понимаю, что он уже принял окончательное решение. — Мы должны уехать. — Это говорит Эсме. Я оборачиваюсь к ней. Она шевелит ослабевшими руками, на которых висят цепи. — Мы должны вернуться домой, Максим. В Америку. Это была моя ошибка. Помоги мне. Я не знаю, нужно ли обвинить ее в случившемся или заключить в объятия и утешить. Ясно, однако, что мы теперь попали в ловушку. Все, что я могу сделать, — ждать, пока не представится возможность сбежать. Завтра я обращусь за помощью к американскому консулу. — Мы уедем, — заявляю я, еще не очнувшись окончательно. — Нам нужно сохранить за собой фильм, как я понимаю, в качестве гарантии безопасности. — Это говорит негритянка. Я не могу представить, что моя обнаженная Эсме станет ее собственностью. Я не могу думать ясно. Я стою там, пытаясь отыскать наилучший план действий. — Ты должен принять решение, Максим. Ты должен принять решение. — Никогда прежде я не слышал в голосе Эсме такой настойчивости. — Но фильм наш. Мы — его создатели! — Боюсь, что как продюсер должен подтвердить: фильм принадлежит моей компании, — говорит сэр Рэнальф. — И наша подруга, присутствующая здесь, конечно, остается нашим главным акционером. — Полагаю, вы все мне принадлежите. — За вуалью негритянки видна тонкая улыбка. — Я так думаю. Но нам не нужно ссориться. Вы будете хорошо себя вести, я знаю. Эсме снова шепотом говорит со мной. Она должна сбежать. Она должна добраться до Каира. У меня так много обязанностей. У меня долг перед нашим фильмом. Она перестанет уважать меня, если я брошу фильм. В конце концов, с этой картиной связан и ее шанс прославиться. Мы должны только вернуться в Голливуд — и наше положение обеспечено. Но у нас теперь нет денег. Я смотрю на Квелча. Он бросает на меня смущенный и в то же время ликующий взгляд, и тут мне приходит в голову, что именно Квелч и мог быть настоящим виновником нашего затруднительного положения. Неужели он вынашивал какой-то ужасный план мести с тех самых пор, когда мы с Эсме, единственные, случайно обнаружили его в обществе нубийского мальчика? — Мы можем пойти на компромисс, — настаивает сэр Рэнальф. — Мы можем еще остаться друзьями и партнерами. В конце концов, у нас есть основа для очень недурного фильма! — Но он должен изнасиловать девчонку. — Негритянка говорит спокойно, в ее словах — непререкаемая и угрожающая убежденность. — Да, да, конечно. Я поворачиваюсь, чтобы проверить узы Эсме. Она крепко прикована цепью к плите. Я кое-что понимаю о сути ловушки, в которую мы попали, но я не в состоянии отыскать легкий способ выбраться. — Решайся, Максим! — В ее голосе звучит отчаянное напряжение. Но как я могу решиться? В конце концов, она предала меня. Она была всего лишь маленькой шлюхой, которую я спас из сточных канав Константинополя. Чем я ей обязан? До сих пор она наслаждалась вместе со мной жизнью, которая намного превосходила все ее ожидания. Она родилась шлюхой. Пусть испытает судьбу шлюхи. В душе у меня с прежней силой пылает любовь к моему ангелу, моей сестре, моей розе. Но я не могу допустить, чтобы эта любовь возобладала над здравым смыслом. — Да. Вам действительно нужно решиться. — Сэр Рэнальф, очевидно, боится негритянки. — В конце концов, теперь вы находитесь по другую сторону закона, дорогие мои. Наркотики и проституция в Египте — это преступления, ха, ха! Власти будут сильно удивлены, если обнаружат белого, занимающегося и тем, и другим. Сэр Рэнальф, конечно, говорит о себе, но он слишком хорошо защищен и его не поймают, а мы с Эсме уже снялись в фильме. Квелч, несомненно, использует все доказательства, чтобы осудить нас за употребление наркотиков. Хуже того, без денег у нас нет никаких гарантий, что мы когда-нибудь выберемся из Каира. Неужели негритянка выкупила или просто забрала долговые расписки у Квелча? Ясно, что она крепко держала в руках и сэра Рэнальфа, и профессора, а у меня здесь вообще не было никаких друзей. Здравый смысл подсказывал, что Коля давно вернулся к своим делам и теперь уже уехал в Алжир. — Оцени собственное имущество, — по-прежнему настаивает негритянка. — Что у тебя есть? Симпатичная невеста и молодое, здоровое тело? У тебя еще есть мозги и талант. Но это — довольно незначительные вещи. Что ты можешь мне продать за две тысячи пятьсот фунтов? — Мой талант, очевидно. — Мне становится все страшнее. — И мои проекты. Я — инженер. Есть много вещей, которые я умею делать. — Несомненно. Таким образом, никаких причин ссориться нет! Если ты хочешь разорвать наши отношения, мы согласимся. Если ты недоволен, тебе не следует принуждать себя здесь находиться. Так, давайте скажем, что девочка стоит две с половиной тысячи, и мы в расчете. Она останется довольна. Это позволит расплатиться с долгом. Что скажешь? Предложение просто отвратительно. Я теперь в их власти, но я сохраняю свою цельность. Где-то позади все еще бормочет Эсме, умоляя меня принять решение. Но это невозможно. У меня нет выбора. Меня сбивает с толку поразительная резкость их угроз — и еще наркотики, которыми меня накачал Квелч. Верно, у меня есть долг перед фильмом, но у меня есть долг и перед своей судьбой. В конце концов, Эсме уже обманула мое доверие. И что особенного, если мы на несколько мгновений предстанем перед камерой чувственными животными, освободив свои страсти? Фильм останется великим. Мир увидит Глорию Корниш в моих объятиях. Мы уже обрели бессмертие. Эсме теперь успокоилась. Ее грудь вздымается и опускается очень медленно; глаза, потемневшие от наплыва эмоций, бессмысленно смотрят на меня. Никаких альтернатив нет. Я могу принять решение, выбрав меньшее из зол. Я еще раз осознаю, что означает быть бессильным и лишенным дипломатической защиты. Я один. У меня нет прав, и мне приходится полагаться только на собственные силы. Разум требует принять единственно возможное решение: — Очень хорошо. — Я прижимаю кулак к бедру и поднимаю голову, стараясь держаться максимально достойно. — Я сыграю сцену изнасилования. Мое заявление встречают общими аплодисментами — все хлопают, кроме Квелча, который молча смотрит на меня, и глаза его темнеют от восторга и предвкушения; кажется, будто наш ужасный компромисс — результат его злобного замысла; кажется, будто он полагает, что исправляет некую исключительную несправедливость, которую мы с ним сотворили. Злорадный автомат, Голем, он улыбается мне из тени. Я ищу взглядом Симэна. Он мог сейчас стать моим единственным союзником, моей последней связью с Голливудом и безопасностью, но он исчез. Сэр Рэнальф пожимает плечами и улыбается. Теперь он будет снимать фильм сам. (Я слышал, что Симэн следующим утром уехал и в конечном итоге возвратился в Швецию, а оттуда в Голливуд, где продолжил карьеру.) Как только я раздеваюсь, сэр Рэнальф выражает восхищение. Обрезание, уверяет он меня, часто совершали египтяне благородного происхождения. Это был признак знатности. Важно подтвердить значение нашей работы и добиться детального воспроизведения мельчайших подробностей. Abraham, der als erster seiner eigenen Menschlichkeit ein Opfer brachte: Wo traf dein Messer deinen vertrauensvollen Sohn? Alte, geliebte, furchttreifende Sumer. Leugne den Juden, und du leugnest Vergangenheit[1039]. Было время, когда евреев боялись в Египте, боялись в Греции и Риме, а потом они создали свой коварный, всеразрушающий фатализм, философию, которая назвала добродетелью поражение и гибель. И в этом, полагаю, мы тоже должны винить Веспасиана. Так появился richtung-gas[1040]… Я совершаю изнасилование. Тот и Изида смотрят вниз с горечью и отвращением, но англичанин в восторге. — Хорошо, Макси. О, милый мальчик, очень хорошо! И Эсме плачет совсем тихо. Тактичная камера этого не сохранит. Кажется, будто Эсме улыбается. Bar’d shadeed[1041]. Холодно. Кусок металла у меня в сердце. Я не могу избавиться от него. Говорят, мы в начале нового ледникового периода. Теперь лишь лед может очистить мир. Потом огонь, и затем море. После Рагнарёка мир обновится и станет прекрасным. Не только нацисты признают это. «Ибо зло навеки сгинет, и для высшей жизни вновь очищенным добро восстанет из огня…»[1042] Я знаю, что мусульмане верят во что-то подобное — в очищение мира в сражении, смерти и возрождении. Такие идеи привлекательны и просты. Я сам поддаюсь их обаянию. Они в основном не противоречат христианству. Некоторые совершенно разумные люди убеждены, что ныне ядерный холокост — наша единственная надежда. На следующий день я повторяю сцену изнасилования. Я достигаю цели, превращая ужас и ненависть в любовь. Сделать это куда проще, чем я представлял. У меня нет времени, чтобы рассуждать о духовных обретениях и утратах. Важно только мгновение. Кажется, в такой реакции нет ничего необычного. Возможно, я думаю о Лив и Ливтрасире[1043], которые скрываются в лесу Мимира и спокойно спят, не осознавая гибели света, пока не придет время, когда мы сумеем занять возрожденную землю? Какая великая мудрость сохранилась в этих старых камнях? Какие уроки можно извлечь из этой земли ожидающих мертвецов и древних, но еще реальных сил? Сахара многое скрывает, но то, что сокрыто, — спасено! В ней мир тайного волшебства, которое могло оживить случайное дуновение ветра; в ней миры здесь-и-сейчас пересекаются с мирами духа и звезд. В ней сокрыты давно исчезнувшие устремления, бессмертная тоска, которая никогда не утихнет окончательно, величественные и огромные мечтания; в ней почиет живая культура истинной любви и ненависти, где смерть восхваляют как лучшее и прекрасное приключение и множество богов, богинь и полубогов приветствуют и принимают душу, облачая ее в новую плоть. Как легко запутаться, разрываясь между реальностью и грезами древних. Говорят, что под пустыней сокрыт пышный лес, где терпеливо ожидают суда души мертвых. Я тот, кто Осирис, тот, кто — Вчера и родич Завтра… Да не остановят меня ваши ножи, да не паду я на вашей бойне. Ибо мне ведомы ваши имена. Мой путь ведет в землю Ра, и моя истинная цель — Осирис. Да не будут отвергнуты мои подношения у ваших алтарей. Я — тот, кто следует за Господином. Я летаю подобно Ястребу. Я гогочу подобно Гусю. Я двигаюсь вечно, как Нехебкау[1044]. О владыка всех богов, избавь меня от бога, правящего проклятыми, бога, у которого собачий лик, но человеческая кожа; от того, кто пожирает тени, переваривает человеческие сердца и исторгает грязь. Не дай мне предстать перед ним. Избавь меня от того бога, который забирает души, который расточает мерзость и погибель в темноте и на свету. Все те, кто боится его, бессильны. Этот бог — Сет, который также и Секхет, богиня. Секхет называют Оком Ра, и она — орудие уничтожения человечества. Избавь меня от бога, который одновременно и мужчина, и женщина. Да не паду я под их ножами, да не останусь я в их темницах, да не исчезну я в их пустынях, да не случится со мной то, что ненавидят боги. Вот что мне дал Квелч перед нашим расставанием — «Книгу мертвых». — Это может оказаться полезным, — сказал он. Для меня еще есть работа, говорит сэр Рэнальф. Я — звезда, говорит он. Я — гений. Я — естественен. Кто мог бы заподозрить такой талант? Эль-Хабашия, негритянка, просила передать мне свое восхищение. Я знаю, как и почему я должен заработать больше. Я слабею. Я думаю, что они кормят меня местной едой. Я не могу ее переварить. Я по-прежнему исполняю сцену изнасилования. Я насилую ее в зад. Я насилую ее в рот. У меня нет выбора. Если я хочу спасти ее и себя, то мне остается только исполнять их требования, пока не наступит момент, когда мы оба сможем сбежать. Она не понимает. Она думает, что я предал ее.Глава двадцатая
Мой корабль зовется «Корабль смерти», и он не может взлететь. Он дрейфует над бесконечной рекой черной ртути, под высокими тенистыми сводами, словно внутри какой-то обширной стамбульской цистерны. В экипаже одни только обреченные, управляет кораблем слепец, а командует — Тот, чье лицо обращено назад. Я исполняю ритуалы мертвых. Я исполняю ритуалы повиновения и раскаяния. С помощью точного их повторения я пробьюсь к тому лучшему миру, где всегда сбываются земные мечты. Я путешествую в то место, где взвешивают души, где великодушный Анубис взвешивает наши грехи, где шакал взвешивает наши грехи. У мертвых нет выбора. У меня не было выбора. Они забрали нас туда, где царила тьма. Тьма густая и живая, неторопливая и задумчивая, одновременно злорадная и недоумевающая, страдающая и торжествующая; она обезумела от горя и потерь, как будто осталась последней из себе подобных во вселенной, и сделалась эгоистичной и совершенно одинокой, лишенной милосердия и не думающей о живых существах. Здесь была воплощенная Смерть. Здесь было чистое Зло. Его имя — Сатана. Его имя — Сет. Олицетворение нигилизма приняло самую обольстительную форму, форму женщины, богини-львицы Сехмет, Разрушительницы. Они надели на мою малышку головной убор, возложили на нее изъеденный молью трофей какого-то rosbif[1045] — оскалившуюся цивету, и они нарекли ее Сехмет, злой тварью, которую я должен был победить, собрав все свое волшебство и все свое мужество, ибо они сделали меня богом. Сначала я стал Гором, Ястребом, сыном Осириса, братом Анубиса, который взвешивает души. А потом я каждый день перерождался в нового бога. Каждый день моя девочка отдавалась победителю. Возможно, это было наше искусство, но только ночной мир мог оценить его. Я слышал о подобных фильмах. Большую часть времени режиссеры, приказам которых мы беспрекословно повиновались, позволяли нам носить маски. Они все знали и презирали нас; они понимали, что с каждым днем барьеры исчезали и мы спускались все глубже в их мир, становясь их творениями. Я собирался выкрасть фильмы. Затем они начали строго отмерять все — нашу еду и наши наркотики. Это запутало нас и сделало легкомысленными. Масляные огни смешивались с электрическими, сильный аромат жасмина и роз стоял в воздухе, длинные черные фигуры ползали между колоннами, и от них воняло дешевым табаком и потом. Я желал им мучительной смерти, но мы не могли есть без их помощи, мы не могли содержать себя. Мы не могли жить. Они заставили нас улыбаться для них. К негритянке все относились с возрастающим почтением, и очень скоро стало ясно, что на ее мнение полагается даже сэр Рэнальф. Она всегда держалась незаметно и скрывалась в полутьме. Не была ли она сама воплощенной тьмой? Тьмой в человеческом обличье? От нее пахло тем, чего я боялся больше всего. С превеликим уважением все называли ее эль-Хабашия, но я не знал, что это означало. Я выучил только одно из ее имен. Единственное, которое мне дозволили произнести. Но это случилось позже. В течение многих недель я повторял сцену изнасилования. Я очень устал и постоянно плакал. В конце концов они сжалились надо мной и позволили мне отдохнуть, пока кто-то другой исполнял мою работу. Но эль-Хабашия настояла, чтобы я присутствовал на площадке. «Так будет лучше для всех». Глаза сэра Рэнальфа теперь стали красными, и он носил старые вещи Симэна, которые чаще всего ему не подходили по размеру. Иногда я видел Квелча, но он больше не смотрел на меня. Он, казалось, не был доволен недавними событиями и постоянно озирался по сторонам, словно тоже хотел сбежать. Однажды, как я вспоминаю, эль-Хабашия предложила выпороть его и оставить голым возле местных бараков — такое наказание обычно предназначалось для черных. Min darab el-walad es-saghir? Wahid Rumi nizil min el-Quads. Er-ragil misikni min idu. Fahimtush entu kelami? Ana kayebt gawab[1046]… Мой корабль зовется «Солнце», источник жизни. Мой корабль зовется «Ра», дневной свет, брат луны. Золото сочеталось браком с серебром в этом запретном тигеле. Мой корабль зовется «Неведомый мир». Два льва стерегут его — одного зовут «Вчера», а другого «Сегодня». Львица — их мать, Сехмет, Мать Времени, жестокая Ненавистница Жизни. Ее колесница — пламенный диск. Она стремительно летит над Нилом, разрушая все, что находит. По радио говорят, что Гайдн всегда завидовал Бетховену[1047]. Понимаю. Многие завидовали моему собственному гению. Я не стал музельманом. Wer Jude ist, bestimme ich[1048]. От «Mein Kampf» мне становится плохо. Я никогда не мог читать эту книгу. И все-таки Адольф Гитлер был блестящим человеком. Он подписал экземпляр Кларе Боу, выразив надежду, что чтение ей понравится так же, как ему нравилось сочинение этой книги. Я слышал, что бедная Клара сошла с ума на каком-то отдаленном ранчо, с неведомым ковбоем. Я думаю, что «Mein Kampf» раскрывала истину, которую я не осмеливался принять. Столкновение с этой истиной свело Гитлера с ума. Я не хотел такой судьбы. Не будите лихо, говорил я. Возможно, я был молод. В чем я мог винить себя? Эти обвинения бесполезны. Они бесцельны. В конце концов, предали-то меня. Eindee haadha — ma eindee shee — haadha dharooree li-amalee… Wayn shantati — wayn shantati — wayn shantati…[1049] Они говорили мне так мало, даже когда я умолял их. Я хотел получить свой багаж, чертежи, книги, личные вещи. Они сказали, что мое имущество все еще в Луксоре. Они находились в покоях сэра Рэнальфа в «Зимнем дворце». Я не осмеливался упомянуть о своей единственной ценности, о черных с серебром грузинских пистолетах Ермилова, о символах моего казацкого происхождения. Я молился, чтобы они не нашли пистолетов, спрятанных на дне кожаного саквояжа, под рабочими материалами, заметками и чертежами, mayn teatrumsketches[1050] и деталями моего «Лайнера пустынь»! К тому времени, признаюсь, они уже делались для меня все менее важными, потому что еще оставались в мире живых. Мы с Эсме теперь переселились в мир мертвых; нам приходилось притворяться живыми, чтобы заслужить сон, еду, даже наркотики, которые еще позволяли нам повторять сцену изнасилования. Наркотики немного уменьшали боль. Было ясно, что мы никогда не заработаем достаточно, чтобы расплатиться с долгами. Я мог легко отказаться от любых пристрастий, но для Эсме, я знал, это будет неосуществимо. Поэтому я не видел смысла отказываться, пока не появится возможность спастись. Итак, мы изображали леди и дворецкого, молодоженов, невольников на рынке, офисных служащих. Мы играли много ролей, но сюжеты отличались определенным сходством. Чем затейливее становились указания сэра Рэнальфа, тем ближе к съемочной площадке передвигала свою кушетку эль-Хабашия. Каждый день она наблюдала за нами с возраставшим интересом. Она казалась плотным сгустком тьмы; ее глаза сверкали, дыхание становилось все тяжелее, красные губы приоткрывались — и в конце концов она приближалась к нам вплотную, источая неутоленное желание; потом она отступала, что-то мурлыча на арабском. Сэр Рэнальф предлагал другой угол съемки. Они сказали, что необходима новая обстановка — место, где нам, скорее всего, не смогут помешать. Нас отвели в разрушенную коптскую часовню далеко в Западной пустыне. Под сенью обветренной зубчатой стены эль-Хабашия поставила свой великолепный шатер, гордость богатых бедави[1051]. Часовня была неизвестна археологам, как заверил сэр Рэнальф, потому что находилась в стороне от караванных маршрутов. Однако там оказался колодец, над которым возвышались две бледные пальмы, чьи кроны устремлялись в небесную высь. Вдалеке однообразие пустынного пейзажа нарушала гряда грязного сланца. Мы с Эсме молча сидели рядом, пока эль-Хабашия пила шербет с Квелчем и сэром Рэнальфом. Они разлеглись на кушетках, чтобы насладиться зрелищем заката. Мы устроились у их ног на покрытом коврами песке. — В Би’р Тефави[1052], - бормотала эль-Хабашия, — у меня есть вилла и сад. Там гораздо спокойнее. Теперь я живу в уединении, хотя когда-то, как вам известно, профессор Квелч, я правила Каиром — или, по крайней мере, Васа’а и окрестностями. Но потом меня схватили. — Она с упоением затянулась кальяном. — В итоге меня посадили в тюрьму. Это было довольно приятно. Мне повезло, и там нашлись друзья. Но подать пример другим решил сам Рассел-паша. Меня снова арестовали. Они попытались уничтожить мой бизнес. Рассел-паша тогда не хотел заключать соглашение, так что меня осудили на смерть в тюрьме. Я все легко устроила. Но мне нравится в городе. Когда тебя высылают в глушь — там быстро начинаешь скучать. Как трудно убивать время — столько времени… За первые месяцы моего плена это была одна из самых длинных речей, произнесенных эль-Хабашией в моем присутствии. Я вспомнил рассказы Квелча о существе, которое целыми днями неподвижно сидело на скамье на Абдель Халик[1053] и, однако, ухитрялось управлять всей преступностью в Каире. Я также вспомнил, что это был огромный негр-трансвестит, который всегда одевался как женщина, укрывался белой вуалью и протягивал слугам для поцелуев украшенные драгоценными камнями пальцы. Все арабы в квартале подчинялись этому уроду. Безмолвный эбеновый идол, по словам Квелча, был сильнее короля. Богатейший владелец борделей, сутенер, торговец наркотиками и белыми рабами, основной партнер половины «особых театральных агентств» на Востоке. И все-таки он был красив, как говорил Квелч. Однажды профессор видел лицо негра. Все, знавшие это существо, соглашались, что, несмотря на размеры тела, эль-Хабашия был самым восхитительным трансвеститом, которого им случалось встречать. Всем нам, однако же, эль-Хабашия (если мы и впрямь столкнулись именно с тем существом) являлся только под вуалью, оставаясь загадочным и женственным. То были первые дни нашей службы, когда казалось, что мы скоро получим свободу. На нас никогда не повышали голоса. С нами всегда говорили шутливо. Нам просто предлагали выбор. Если выбор был правильным, нас хвалили. Если выбор был неправильным, нас наказывали. Долгое время меня не оскорбляла очевидная несправедливость происходящего. Я понял, что попал в мир грез, в котором должен существовать, пока не смогу проснуться и вернуться к реальности и безопасности, доступным прежде. Это была единственная альтернатива смерти. Я оценил размышления Гете о радостных откровениях боли, страданий и унижений. Кроме того, я не склонен к самоубийству. Я по натуре, несомненно, оптимист. Разве это еврейское свойство? Будущее — Порядок, Безопасность, Сила. В этом все мы были согласны. Но Будущее — еще и Красота, Терпимость, Свобода, говорил я. Это придет потом, отвечали мне они. Тогда я утратил веру в нацистов. Я был «слишком большим идеалистом». Меня и до сих пор так называют. Миссис Корнелиус попыталась убедить меня в этом в берлинском трамвае, незадолго до моего ареста. Она послала мне топленые сливки из Корнуолла. Тогда я уже был на острове Мэн. Когда получил их, сливки прокисли. Потом снабжение ухудшилось. Я вернулся в Лондон как раз к «Блицу»[1054]. «Они не хотели, тшоб ты тшо-то пропустил, Иван», — кричала миссис Корнелиус в те первые наши совместные выходные, когда мы стояли в толпе у убогого переполненного бомбоубежища и повсюду слышался громкий вой, все было красным и черным, а сверху доносился гул двигателей и грохот выстрелов. Великобритания ждала поражения, понимаете, как Польша, или Чехословакия, или Франция. Лондон готовили к осаде, а не к победе. Говорят, Черчилль последним признал, что мы пережили битву за Британию. Даже он заразился этим новым вирусом пораженчества, который распространяется только из одного зловредного источника! Уже в те времена миссис Корнелиус ужасно кашляла. Ее кашель показался мне почти кошмарным, когда я услышал его впервые. Эти звуки напоминали кашель моей матери. Напоминали, как ее рвало и она склонялась над умывальником. Я терпеливо дожидался, пока миссис Корнелиус выйдет из ванной. Приступы кашля были в точности такими же, как тогда, в Киеве… С этими ассоциациями связаны определенные воспоминания: дурные, которые я не буду пересказывать, потому что останавливаться на них бессмысленно, и прекрасные. О летних садах и чудесных пикниках, цветочных полях вокруг Киева, дивном аромате лаванды, исходящем от лучшего пальто моей матери; о низинах, лесах, старинных желтых улицах и крепких бревенчатых зданиях под сенью деревьев, об оживленном Крещатике, о сверкающих магазинных витринах, о растениях, стоящих на подоконниках, и декоративных корзинках, о чудесных запахах, доносящихся из кафе и свечных лавок; об укромных уголках истинного города, лабиринты зданий которого рождали маленькие тенистые закутки, безопасные закутки, пещеры, лощины и дворики, много острых углов и скрытых в переулках тайн; о городе, который за череду столетий разросся, словно огромный замечательный куст, укоренившийся в земле и пропитанный образами прошлого: ибо память о Киеве — это память о славянах, о воинах восточного пограничья, оплоте Христа в борьбе против свирепых и завистливых монголов. Вот почему мы так хорошо понимаем, что происходит сегодня. И все же вы не хотите слушать. Думаете, вы заключили какой-то мир? Договор с Карфагеном? Поверьте мне, вам надо благодарить за это славян. Когда славяне падут, а они должны в конце концов пасть, если Христос не сотворит чуда, — тогда Старому Свету настанет конец. Я не хотел бы жить в ублюдочном, нечестивом новом мире. Неужто Хаос уже победил? Мой корабль зовется «Новый Киев», «Новый мир», он зовется «Царьград», цитадель нашей расы и нашей веры! Они пытались сделать меня евреем, музельманом, своим псом, но я обманул их. Я только играл. Я повторял сцену изнасилования. Шаг за шагом нас уводили в Землю мертвых. Мы облизывали губы; потом мы закатывали глаза; потом мы улыбались в камеру; а потом мы повторяли все снова. Пока «Грех шейха» обретал художественную цельность, благородные боги Египта, представленные в грубых, никчемных копиях, с отвращением смотрели на все это из альковов, где некогда обитали достойные святые. Они уговаривали нас и угрожали нам в Земле мертвых, где в гротескной пантомиме жизни мы бесконечно повторяли нашу сцену насилия, пока эль-Хабашия, Королева Проклятых, смеялась и аплодировала, словно гордая мать, приветствующая своих детей. И однажды она заставила нас прийти к ней в пропитанный благовониями павильон, где евнухи и гермафродиты удовлетворяли все ее потребности. «Теперь ты стал музельманом?» Нет, я не стану музельманом. «Тогда ты должен стать евреем. Милым маленьким еврейским щеночком. Мягким маленьким Yiddy-widdy dinkums»[1055]. Вот как он объяснил то, что изнасиловал меня. Этот поток черного жира никогда не останавливался, жир тек по моему телу, он мог задушить меня, и все же была в этой массе некая ужасная твердость, точно в какой-то момент покровы разорвутся и появится острая, как бритва, сталь, которая пронзит живую плоть и уничтожит меня. Рассечет мое тело, оставив бесформенные куски мяса. Эти жирные черные волны тянули меня в темноту — сильнее, чем любая боль. «Маленький сальный еврейчик, маменькин любимчик, сладкая попка. Послушный маленький грязный еврейчик-членосос трахает грязную шлюшку, английскую сучку-еврейку». Она спросила: мусульманин я или еврей? Я ответил, что христианин. Нет, возразила она, мусульманин или еврей? Она сказала мне, что должен есть мусульманин. Она сказала, что может есть еврей. Еврей, ответил я. Я стану евреем. В моем теле был кусок металла. Говорят, ледниковые покровы нагреваются из-за нашей промышленности. Какая ирония — двигатель Стефенсона стал непосредственной причиной того, что Александрия навеки скрылась под толщей Средиземного моря! Наука нашего Просвещения топит все, что когда-либо представляло для нас ценность. Неужели моя судьба — участвовать во всем этом? Сколько раз мне еще придется отвечать: «Виновен»? Я ни в чем не виновен. Единственная моя вина — желание улучшить мир! Неужели это преступление? Им предлагали мой Новый Иерусалим, мой новый Рим, мою новую Византию, мои летающие города из серебра, тонко отделанного золотом, мои великолепные башни, мой Рай, мою свободу мысли и передвижения — истинную, окончательную демократию. А что они предпочли? Гарольда Уилсона, Линдона Джонсона, Хо Ши Мина[1056] и «Битлз»! И все же, вопреки любым превратностям судьбы, я не забуду о своем истинном предназначении. Если я — свет и вдохновение Европы, то я же — и тайный защитник нашей цивилизации, хранитель наших побед и нашей чести. Я — Тот. Я — Анубис, писец и проводник в дни нашей смерти. Джейн Остин[1057] не производит на меня впечатления: она согласилась на роль шлюхи в том фильме, в названии которого стоит фамилия неведомого голландца. Я снова посмотрел его на прошлой неделе. В роли Клеопатры она могла бы завладеть моим сердцем навсегда. Но я — глупый, галантный старый славянин позабытой эпохи. Все мои слова тут же перевирают грязные подонки. Я просто берег ее — я так и объяснял… Я не говорил ничего дурного. Я думал только о любви. Ach, Esmé, mein liebschen, mayn naches![1058] Как я мог навредить тебе? Я был тебе братом, отцом, мужем, возлюбленным, даже матерью! Я был всеми ими. Я заботился о тебе, когда ты болела. Только я был всеми ими. Почему Бог забрал тебя у меня? Я все еще чуть-чуть обвиняю себя, но как это иронично — на меня взвалили совсем другую вину. Они обвинили меня в геноциде! Из-за всех этих миллионов славян, цыган, кельтов и евреев? Думаю, нет. Если бы меня послушали, я бы мог спасти их души, спасти их всех… Но они торговали с большевиками, они умасливали их; они стали друзьями Дяди Джо. Чего же они ожидали? Того, что бешеный пес внезапно превратится в верного доброго друга? И можно будет спать рядом с ним и не бояться, что он ночью разорвет горло? Я принес бы Свет и Мир и уничтожил бы голод и тьму. Гитлер правил бы миром просто, мягко и спокойно, и естественный отбор в конце концов привел бы к тому, что идеальные граждане жили бы в городе, достойном мечты нацистов. Но окончательное решение ослабило их авторитет. Я первым признаю это. Я видел тело Александра в его тайной гробнице. Бог открыл мне, где она спрятана. Бог сказал, что Александр теперь принадлежит Ему. Этот могущественный грек, великий евангелист Христа, пришел в Египет и построил первый истинно цивилизованный город, который стал крупнейшим в мире. Греки взяли все лучшее из Египта и Ассирии, отказавшись от жестокости, варварства и декаданса тех первых благородных семитов, которые пали слишком низко из-за собственных бесчеловечных амбиций. Такова участь еврея — он становится жертвой своего же изумительного изобретения. Кое-кто называет этот город колыбелью нашей церкви; здесь святой Марк в 45 году крестил первого еврея. Volvitur vota, как мог бы заметить Квелч. Я умолял англичанина передать сообщение Голдфишу. Он сказал, что риск слишком велик. Он вручил мне книгу в темно-красном переплете. «Книгу мертвых». Я разозлился. Я сказал, что он продал меня в рабство. Он отмахнулся от обвинения. «Вы, люди, должны уже привыкнуть к таким вещам», — произнес он. Это было бессмысленное замечание. Он показал на низкие холмы. «Примерно в одном дне пути отсюда находится железнодорожная линия. Ты почти наверняка сможешь туда добраться, если пойдешь пешком».Конечно, он знал, что я не покину Эсме; я все еще отвечал за нее. Он насмехался надо мной, он радовался моему падению. Тем вечером меня пороли. Я сказал, что я еврей. А Эсме — шлюха. Моя сестра, моя роза… У меня в животе был металл. Я назвал черномазого мусульманина-андрогина матерью, и я попросил у него прощения. Я сказал «матери», что Эсме была шлюхой и плохой девочкой. По таким правилам проходила одна из игр, в которые нас заставляли играть. В любом случае — что бы сделали вы, если бы у вас был выбор между унизительной смертью и унизительной жизнью? Жизнь или смерть? Что бы вы выбрали? Некоторые в тех лагерях выбрали смерть. Они хотели, чтобы это закончилось. Но я не таков. Я скорее оптимист. Ты предала меня, Эсме. Ты отдала наше дитя. Ты продала нашу маленькую девочку. Ты не думала, что причиняешь мне боль? When kunté, Esme? When kunte? Mutaassef jiddan. Bar’d shadeed[1059]. Это ложное место смерти. Какая разница, признал ли я свои грехи? Все это было ложно; все было не тем, чем казалось. Рассказы Квелча о Египте подтвердились. Обманный мир, второразрядная фантазия, увядшая мечта. Повсюду лежала пыль. Мы обратились в пыль. И все-таки в наших телах еще оставалась кровь. Наши конечности еще двигались. Эль-Хабашия еще аплодировал нам, и хвалил нас, и заставлял меня класть голову ему на бедро, в то время как он ласкал Эсме и играл восторженные каирские гимны на своем разукрашенном граммофоне. Он обещал, что отыщет для нас какого-нибудь Моцарта. То же самое было и в Заксенхаузене. Моцарт, похоже, устраивал всех. Тогда я носил черный треугольник. Я сказал, что я инженер. Это уступка, говорили мы. Эль-Хабашия гладил меня по голове и утешал. Vögel füllen mayn Brust. Vögel picken innen singen für die Freiheit. Mein Imperium, eine Seele. Vögel sterben in mir. Einer nach dem anderen. Mayn gutten yung yusen[1060]. Он гладил меня по голове и называл хорошим маленьким сироткой, милым маленьким еврейчиком. Лучше было подчиниться, чем терпеть ту бесконечную боль или страдать в ожидании смерти. Эсме понимала это лучше меня. Именно так она выжила. Человеческие тела там падали, как кровавая мякина в борозды бесплодных полей. Неужели среди них была и Эсме? «У меня есть мальчик, — сказала она. — Он солдат». Понимали ли они, что забрали? Сами мертвые, они даже не осознали, что украли. Они выбрасывали украденное. Они вспахивали украденное. Но русские знают правду. Каждый дюйм русской земли таит души миллионов замученных людей, которые на протяжении столетий защищали родину. Я рассказал об этом в больнице доктору Джею после того, как они исследовали мою голову. «Почему евреи такие особенные?» — спросил я. Он согласился со мной. Он сказал, что никаких физических повреждений у меня не нашли. Четыре дня спустя я был на улицах Стретема. Но я больше не мог летать. Бумажные змеи поднимаются с гор, с Totenbergen[1061], и красная пыль забивает мне горло. Ты должен уйти отсюда, Максим, сказала она. Люди здесь не sympatica[1062]. Я думаю, Бродманн приехал в Луксор. Кажется, я видел его под большими часами на железнодорожной станции. Он сказал, что он англичанин и его фамилия Пенни, но я угадал, что это Бродманн. Я был одержим Колей. Я все еще искал его. Эль-Хабашия дала мне какую-то пижаму. «Несколько полосок для тебя», — сказала она. Полосы были черными и белыми. Я видел Бродманна в Заксенхаузене. Я признал его и закричал. Он ответил, нерешительно подняв руку. Каким превосходным актером был этот монстр! Binit an-san![1063] Но должен ли я винить его? Нынешний век требует, чтобы мы разыгрывали шарады; он устанавливает роли, которые мы исполняем. Но это только игра, говорю я ей. Это на самом деле не мы. От пижамы у меня двоится в глазах. Полосы тянутся передо мной, кружатся, сходятся и расходятся, словно детали какой-то огромной духовной карты. Я не стал музельманом. Negra у bianco, noire et blanc[1064]. Я потерял тебя в пустыне, Эсме. Какой зверь забрал тебя? Миссис Корнелиус говорит, что Эсме, несомненно, выкрутилась из положения. — Некоторое время ей везло, Иван. Она никогда не имела таланта. Однако и я тоже, если уж тшестно. Я сказал миссис Корнелиус, что она была великой актрисой. — Ваш талант сохранен для потомства. Это ее позабавило. — Тшего? В какой-то древней закрытой киношке где-нибудь около Дарджилинга? Брось ты это, Иван! Я такие штуки не называю бессмертием. Я унесу свою удатшу в небеса. — Она была слишком тактична и избегала упоминаний о нашем египетском приключении. Моя подруга на словах исповедовала своего рода примитивный пантеизм, но в глубине души была христианкой. В 1969‑м, движимая, без сомнения, сильнейшим благочестием, которое она изо всех сил пыталась скрыть, миссис Корнелиус заняла место смотрительницы в церкви Святого Андрея, за углом. Но она решила, что уборка по понедельникам — это уж слишком. — Церковные скамьи! Странно, что не церковный стул. Некоторые из тамошних святош, наверно, никогда задницы не подтирают! Что они со мной вытворяют своими инструментами? Эти шипы! Эти пирамиды! Мои полосы! Золотой корабль приплывает ко мне по небу цвета синего серебра. Завтра Ястреб взлетит, говорю я ей. О, этот грязный поток поглощает меня. Черное солнце согревает меня. Лишенный сна, я почти всегда мечтаю. Я мечтаю о будущем. Они бы убили тебя, Рози. Ты слишком умна для них. Мистер Микс всегда настаивал, что ты была слишком хороша даже для меня. Но ты говорила, что я оказался лучше Франко, хотя ты никогда не тратила на него много времени. Так же происходило и с Муссолини. А о Гитлере ты хранила молчание. Ты хотела переспать со всеми диктаторами в Европе, но не знала точно, трахалась ли со Сталиным или только с его двойником. «Они всегда так увлечены деталями». А ты была увлечена их властью. Ты изучала их, как другие изучают вулканы, — двигаясь по самому краю, пока не обнаружишь источник разрушений. Ты переспала с Франко по ошибке. Тогда он был только полковником в маленьком гарнизоне. Мы летали вместе, Рози. Я исполнял сцену изнасилования. Я устал, сказал я. Мне требовалось больше кокаина. Это мне не на пользу, ответила она. Раздвиньте еврейчику ноги. И она опустилась, как теплое одеяло плоти, окутав мое тело. Только потом началась сильная боль и ужасный запах. Я вспоминаю, как она хихикала, точно школьница, при моих попытках освободиться. Вот! Ты совсем не устал, сказала она. Секхет приходит с ножом в руке, ибо она — Око Ра и ее цель в том, чтобы уничтожить человечество. Ты предала меня, Эсме. Ты отдала мою маленькую девочку. Я что-то утратил в том штетле. Я все еще не знаю, что это было. Bedauernswerte arme Teufel, diese Jude. Ich fing an zu frösteln. Meine Selbstkontrolle liess nach. Ich brachte Kokain. Ich kämpfe unter uberhaupt keiner Fahne! Ich stehe für mich allein ein. Я пережил нечто подобное в Праге. Кому нужно такое милосердие? Höher und höher stieg ich uber der Schlucht, bis ich ganz Kiew unter mirsehen könnte, dahinter den Dnjepr, der sich der Steppe entgegenwand und auf seinem Weg zum Ocean den Saporoschijischen Fällen entgegenströmte. Ich könnte Wälder, Dörfer und Berge sehen. Und als ich wieder nach unten sank, sah ich Esmé, rot und weiss, die mich…[1065] Я полетел, Эсме. Над Бабьим Яром. Я любил тебя. Ты была моей дочерью, моей подругой, моей женой. Ты была моим детством и моей надеждой. Я исполнял сцену изнасилования. Он показал мне, как заставить ее кричать, чтобы на пленке все выглядело так, будто она вне себя от страсти, после чего меня подвергли тем же унижениям, пока снимали второй ролик. Человек никогда не должен испытывать такого. Он сделал меня и евреем, и женщиной. Всякий раз, когда мог, я напоминал себе, вопреки всем пыткам и страданиям, что я ими не являюсь. Я не еврей и не женщина, я — настоящий казак, повелитель земли. Я — Киев. Я — стук копыт конницы, мчащейся по Подолу. Я — сила, я — повелитель собственной судьбы. Я — ученый и инженер. Я мог управлять миром, и я мог освободить мир! Я — еврей, сказал я. Да, я — мерзкий еврейчик; но, когда губы произносили эти слова, сердце говорило: «Казак», — душа говорила: «Инженер». В тех местах были и шутки, даже среди палачей и жертв. Все мы находили развлечение в невинных проделках, пытаясь остаться в живых. Мы соглашались участвовать в пугающих экспериментах с человеческой жестокостью не потому, что несли в себе зло, но потому, что это было единственное развлечение, которое оставалось нам доступно. Чтобы уменьшить страх, мы шутили друг с другом о нашей неизбежной смерти и расчленении. Мы делились ужасом ради него самого. Но я не думаю, что многие из нас были виноваты. Мы нуждались не в смерти, а в надежде и жизни. Мы отдали власть людям, которые недвусмысленно обещали нам все это. Если мы и дивились их обещаниям, то под сомнение их не ставили и не испытывали ни великих страстей, ни подозрений. Мы отдали им то, что ценили превыше всего, мы отдали все лучшее и доброе. Они ведь не собирали какую-то подержанную одежду. Они хотели получить все, чем мы обладали, чтобы доказать, будто это ничего не стоит. Они были такими жадными, эти немногие. А ведь великие империи опираются не на жадность, говорил я. Они опираются на потребности, развиваются постепенно и согласно исторической необходимости. Люди, которые пытаются смастерить империю за несколько лет, всегда терпят неудачу. Они всегда умирают, отвергнутые собственными странами. Процветание великих империй зависит не от войн, а от промышленности, торговли и любознательности. Просвещение — вот признак таких империй. Какие бы проявления неравенства там ни обнаруживались — в конечном счете они воплощают идею равенства, стабильной демократии. Таким старомодным империалистом был капитан Квелч. Мы встретились снова на острове Мэн в 1940‑м. Он много пережил и сменил имя. Первые слова, которые он мне сказал, были такими: «Привет, старик. Как твоя сексуальная жизнь?» Он кричал и обнимал меня, его лицо выражало удовольствие. Думаю, и Сережа тоже был там… Но иногда я путал лагеря. Больше всего меня раздражает в евреях их вульгарность. Забавно, но этот шумный, резкий, неугомонный, несдержанный народ перевозбуждается еще сильнее, если требуется преклонить колени и остудить головы. Они просто сходят с ума, когда начинают волноваться из-за разных ограничений. Это объясняет, к примеру, излияния Маркса и Фрейда. Если бы их оставили в покое, как я говорил Гитлеру, они бы просто ссорились друг с другом и не представляли бы угрозы ни для кого. Изоляция казалась мне наилучшей стратегией. Гитлер назвал меня любителем евреев. Я думал, он шутил. Через два дня меня тихо арестовали. Сам Геринг признал, что это была ошибка. Позднее технические навыки, мой природный оптимизм и удача принесли мне свободу. Не все умерли в тех лагерях! Я познал страсть и радость, познал любовь мужчин и женщин. Я добился некоторого успеха, и я видел большой мир. Я познал все это снова, с 1926 года. Так разве мой выбор — не лучший выбор? Я жив, nicht wahr[1066]? Мой повелитель говорила, что англичане зовут ее извращенцем. Знал ли я такое слово? Да, знал. Она спросила: а извращенец — это хуже еврея? Нет, повелитель, ответил я, еврей хуже извращенца. А еврей и вправду хуже черномазого? Да, повелитель, еврей хуже черномазого. Это была одна из наших шуток. «А что ты такое?» — спросила она. Я хуже еврея, сказал я. «Неважно, — ее слова ласкали мне слух, — я все еще люблю тебя». Тогда мы рассмеялись вместе. «Назови меня мамой, — велела эль-Хабашия, потянувшись за одним из своих инструментов, — назови меня мамой, грязный, сладкий маленький еврейчик». Мама! Мама! Я был евреем, а Эсме была шлюхой. «Она все еще принадлежит тебе, — улыбается эль-Хабашия. — Она все еще твоя». Я надеюсь, что так, говорю я. «О да, она еще твоя. Что же, если захочешь, ты сумеешь продать ее бедави и стать очень богатым. Ты можешь сделать это, когда пожелаешь». Эсме улыбнулась ей. Мы вдвоем улыбнулись. Мы все улыбнулись. Она была моей сестрой, моей розой; но ее невинность исчезла. О, Эсме, как бы я хотел, чтобы ты не предавала меня. Я делал для тебя все. Я поехал бы туда, куда ты хотела. Я превратил бы тебя в свою королеву. Но, возможно, тебя следует винить не более, чем меня самого. У всех нас случаются минуты слабости. Моя любовь к тебе осталась прежней. У меня не было иного выбора. Я думал, что смогу освободить нас обоих. Мой повелитель говорит, что она должна стоить, ну, по крайней мере, столько, сколько стоили наши наркотики. Ты можешь продать ее. Тогда я заплачу за тебя. И мы будем в расчете. Прекрасные губы моего повелителя ободряют. Возможно, я смогу связаться с полицией в Луксоре? Меня не волнует, что с нами будет, — лишь бы освободиться от эль-Хабашии. Я делаю все, что в моих силах, для нас обоих. Я соглашаюсь продать ее эль-Хабашии. Она теперь принадлежит вам, говорю я. Я смотрю, как она ставит печать жизни на внутреннюю сторону бедра Эсме, клеймит ее знаком скарабея. У всех, кто принадлежит мне, есть такой, говорит она. Я уплатил долг. Теперь позвольте мне уехать в Каир. Нет, возражает она, мы отправимся в Асуан. У меня большой дом и красивый сад. Я — почтенная египетская вдова. Все меня знают. Если ты будешь хорошо себя вести, возможно, я скажу им, что ты — мой приемный сын. Я свободен от долгов. Позвольте мне уйти! Пожалуйста, повелитель, позвольте мне уйти. Но ты еще не свободен от долгов, говорит она. Ты остаешься моей собственностью, пока не возместишь расходы на проживание, на наркотики и так далее. Полагаю, я продолжу быть щедрой по части неоплаченных счетов, по крайней мере до тех пор, пока ты на моем попечении. Я не думал, что мое отчаяние может стать еще сильнее. Мы сели в лодку, которая плыла к Асуану. Сэр Рэнальф оставался на борту, но Квелча с нами больше не было. Сэра Рэнальфа это очень раздражало; несомненно, он скучал по цивилизованному обществу, ведь ему больше не позволяли общаться со мной, за исключением тех случаев, когда работала камера. Во время путешествия мы втроем находились в смотровой комнате и без конца глядели, как я играл сцену изнасилования. На следующую ночь остались только я и эль-Хабашия. Через некоторое время я осмелился спросить, где Эсме. Эль-Хабашия отреагировала буднично. Ее «продали», сказала она. Кто-то далеко на востоке, несомненно, заплатит за нее немалые деньги. Потом повелитель воспользовался моим ртом, а черно-белая сцена изнасилования светилась над нами мрачным адским огнем. Я никогда не забуду, как холодно и серо было на острове Мэн. Думаю, вряд ли сыщутся лагеря угрюмее этого. Когда я снова повстречал капитана Квелча, он стал хилым человеком, согнутым сколиозом, но чувство юмора он сохранил. Это Квелч рассказал мне о судьбе своего младшего брата и упомянул, что уверен, будто видел Эсме во время одного плавания, неподалеку от Шанхая. Капитана интернировали, потому что его держали в плену на японском эсминце. По его словам, злить захватчиков вряд ли стоило. «Мне без разницы, что япошки делают с китаезами. Не верю, что парни на Уайтхолл считают меня предателем. Да, я видел твою маленькую девчонку — готов поклясться, что это была она, хотя волосы у нее стали поярче, а макияж — погуще. Думаю, и она меня признала. Так или иначе, это произошло в баре в Макао, как раз перед Перл-Харбором. Звали ее не Эсме. У нее было какое-то прозвище. Почти у всех прибрежных девчонок есть прозвища. И, похоже, всем это нравится». В ответ на мои вопросы он объяснил: прибрежными девчонками называли тех, что жили сомнительными доходами на западном побережье Китая. Он уверил меня, что та девушка выглядела не слишком уж плохо. «Так, слегка поизносилась, понимаешь ли». Но я никогда не узнаю, действительно ли он столкнулся с Эсме. Какую Эсме он видел? Приятно было думать, однако, что большого вреда ей не причинили. Высокие стены дома около Би’р Тефави, в нескольких милях от Асуана, охраняли тщательно, но незаметно. Сады были прекрасны, с помощью специальной системы их поливали водой из оазиса, а тени вполне хватало, чтобы растительность не уничтожило солнце. Как и во многих роскошных арабских садах, здесь были отделанные плиткой фонтаны, хотя цветы эль-Хабашия, по ее словам, предпочитала английские. У нее росли маки и розы, герани и гибискус; для этого не жалели дорогих удобрений. Стены дома были белыми, с темно-синими полосами. Большую часть дня я проводил во внутренних покоях. Здесь я обнаружил, что был не единственным иностранцем в коллекции эль-Хабашии. Все они, мужчины, женщины и бесполые существа, однако, зависели от морфия. Я жалел их, зная, что сам никогда не поддамся наркотику. Таков уж мой метаболизм. Должен признать, я относился к большинству из них с презрением, даже после того как обнаружил, что самые молодые были ослеплены или подвергнуты отвратительным хирургическим операциям. Это усилило мою тревогу, и я решил сбежать при первой возможности, даже несмотря на то, что находился теперь очень далеко от какой бы то ни было цивилизации. Как мне поведали другие заключенные, спасения не существовало. С крыши дома открывалась бесконечная панорама Нубии. Мой повелитель в те первые дни считал забавным, что я совокуплялся со всеми созданиями в его коллекции. Он сказал, что это лучший способ узнать людей. Иногда приходил и уходил сэр Рэнальф. Я думаю, что он организовывал производство и распространение разных товаров, включая фильмы и фотографии. Я молился, чтобы они не использовали те пленки, где мы были с миссис Корнелиус. (Позже я узнал, что их забрал Квелч, которому, как обычно, достались вещи, с коммерческой точки зрения никчемные! Эль-Хабашия спросил меня, не кажется ли это превосходной шуткой; мы вместе посмеялись.) Однажды мой повелитель снова захотел включить граммофон. Он поинтересовался, люблю ли я музыку. Он обожал Бетховена, но испытывал особую склонность, по его словам, к английскому модерну. Нравился ли мне Элгар? Я не слышал о нем. Теперь я знаю их всех. Я не могу их выносить — возможно, дело в неприятных ассоциациях. Холст, Дилиус, Уильямс, Бриттен и остальные — все они одинаковы. Сентиментальные мистики-педерасты, производящие бесформенную чушь, еще хуже французов! Не заблуждайтесь: я так же отношусь к Равелю и Дебюсси[1067]. Последним великим композитором был Чайковский. Все остальное не имеет смысла. Мне жаль, что я не смог отыскать копию «Песни Нила». Я поместил объявление в «Газетт», но ответы получил только от «фанатов», полных ностальгии по несуществующему прошлому. Однажды холодной ночью меня ведут в большой внутренний двор, в здание, именуемое «храм». Оно отделано в каком-то нелепом, как будто Птолемеевом стиле и посвящено львице и крокодилу, женскому и мужскому воплощениям Сета. Там стоит алтарь, похожий на кушетку, покрытую тканью; темные узоры мне с непривычки кажутся скорее алхимическими, чем египетскими (возможно, это копии облачений какой-то масонской ложи); а за алтарем — большой высокий трон, увенчанный головой змеи, облик которой также принимает Сет. От толстых свечей исходит неровный свет, капли воска стекают по витиеватым железным подсвечникам и застывают, словно сталагмиты в пещере. Перед алтарем видна раскаленная жаровня, где лежит единственный железный прут. Эль-Хабашия входит и осторожно садится на трон, расправляя шелковые одеяния; сейчас на моем повелителе корона Верхнего и Нижнего Египта, парик и накладная борода фараона, и красота эль-Хабашии возрастает, становится чуждой, неземной, словно передо мной самый странный из потомков Эхнатона. Темно-коричневая плоть колышется под шелковыми покровами, тело с головы до ног сотрясается так, будто оно состоит из тысячи других тел, которые изо всех сил пытаются вырваться на свободу. Я долго воздерживался от пищи, и я этому радуюсь, потому что меня тошнит. Ужас возвращается как раз в тот момент, когда я подумал, что научился существовать независимо от него, отдельно от него, став достаточно послушным, чтобы в безвыходном положении избежать худшей боли. Я не ожидал, что мучения усилятся. Когда к моему плечу приложили железо и оставили знак скарабея, это не имело большого значения. Я уже думал о более ужасном будущем. Сегодня вы почти не заметите клейма. Люди думают, что это — родинка, татуировка, шрам. Я говорю им, что получил отметку в море. — С этого момента, — произносит гермафродит, — ты будешь называть меня Богом. Ты понимаешь меня? — Эль-Хабашия использует английское слово. — Да, Бог, — отвечаю я. Уступки — единственная защита от неизбежного ужаса. Я не думал, что это богохульство. В те дни я оставался светским человеком. В лагерях подобные детали тоже становятся неважными и забываются. Бог говорит, что Он доволен мной. Он говорит, что я абсолютно покорен и послушен. Таково, говорит Он, естественное состояние еврея. Конечно, я теперь чувствую эту уверенность, скрытую глубоко в душе, этот отклик, который подсказывает, что я должным образом исполняю в жизни предначертанную роль. Да, Бог, я стараюсь. Я исполняю. Я не знаю, правда это или нет. Секхет называют Оком Ра, Разрушительницей. Безжалостная львица, она лишена сострадания. Ее холодные когти тянутся к груди и сжимают сердце. Она говорит, что она — Сет. Она является в облике Сета и оборачивается крокодилом. Той ночью мы открываем новые глубины страха и унижения, и щелкающие челюсти, кажется, разверзаются в усмешке, но темнота, хотя она становится очень густой, теперь мне знакома. Я — почти часть ее. Двое ранены, девушка и юноша. Бог объясняет, что Он — единственный целитель и сегодня Он хочет позволить им умереть. Их оставляют в саду умирать. Они там в течение многих дней. Мухи начинают надоедать. Бог ведет меня в сад, и там, на зеленых лужайках, среди маленьких маргариток и полевых цветов, играют евнухи, гермафродиты и слепые девушки и юноши. — Какая религия отвергает мир природы во всей красоте и разнообразии, чтобы превознести мир невидимый, который якобы гораздо лучше этого? Бог завел привычку рассуждать о религии, и порой Его голос звучит немного пугающе. Он отстаивает ислам, при этом воображая Себя языческим идолом. — Что может быть лучше мира, который я здесь создал? — добавляет Бог. Он просто огромен — в зеленых и синих шелках, в чудовищном алом тюрбане. — Разве не похож на рай тихий английский сельский садик в разгар лета? Что может быть лучше, чем создать такое уютное убежище? Ложись на эти розы. И пока спина у меня покрывается кровью от острых шипов, Он небрежно использует меня среди Своих цветов, ломая настурции, лилии и подсолнечники — красные, синие и желтые, зеленые и ярко-оранжевые в окружении маков, — а вода все течет, а евнухи и гермафродиты шепчутся, словно колосья пшеницы на ветру, а слепые юноши и девушки улыбаются неведомому будущему. И все-таки в красоте таится надежда — и потому я вспоминаю те запахи, вспоминаю те сломанные цветы с детским ностальгическим удовольствием, вспоминаю погнутые стебли, разлетевшиеся лепестки, упавшие на плитки, словно свадебное конфетти (и вопивших, как гости на свадьбе, зрителей). Влажная красная земля, древняя, почти безжизненная земля, которую поддерживает только постоянная забота человека, эта сырая земля обнимает наши тела и проникает в наши рты, как она проникала в тысячи других ртов, и впивается в нашу плоть, как она впивалась в плоть мертвецов, великого множества мертвецов. И мое тело выгибается над порослью зеленых, розовых и темно-желтых цветов, белых цветов с маленькими коричнево-красными пятнышками, цветов бесчисленных оттенков и форм, растущих под синим безоблачным африканским небом. И вы станете осуждать меня за то, что теперь я не понимаю никакой иной реальности? Что еще я могу знать? Я — собственность Бога в некоем забытом уголке Рая, где только Он определяет, что называть удовольствием, а что — болью, что имеет право на существование, а что следует уничтожить. Я говорю Ему, что страдаю. Он говорит мне, что нет. У меня не остается другого выбора, кроме как принять это и в конечном счете стать столь же безумным, как Бог. Я разделяю одиночество Бога; Он борется с надвигающейся скукой в течение многих часов, а иногда только в течение нескольких минут, когда мое удовольствие или моя боль достигают предела. Я больше не могу отличить одно от другого: мой разум покинул тело. Я начинаю подозревать, что Бог тоже почти утратил связь со своей огромной тушей и Он знает, что мы заключаем договор, пытаясь сохранить такое пограничное состояние, а не обуздать его. Он ненавидит собственную плоть. Это состояние становится нашей главной целью, нашим общим спасением, и я начинаю забывать о причине своей боли и желания сбежать. Мы растем вместе. Бог дозволяет мне существовать лишь потому, что я изобретателен и умею находить все новые способы борьбы со скукой Бога. Есть ужас настолько сильный, что он уже не ощущается; он пронизывает всю жизнь и делается ее частью. Человек существует в этом состоянии, словно во враждебной окружающей среде, смиряется с ним, но никогда не освобождается от него. Человек исполняет все действия, необходимые для выживания, но способность мыслить попросту исчезает. Человек инстинктивно реагирует на привычные стимулы и быстро приспосабливается к непривычным, усваивая, что следует делать, чтобы остаться в живых. Я познал этот величайший ужас — в России, в Америке, в Египте и в Германии. Просто невозможно с моральной точки зрения судить того, кто хоть однажды испытал подобное. Богу нравилось объяснять, как субъект (например, я) учится повиновению, сталкиваясь с вариантами выбора, которые постепенно сужаются. Конечно, именно на таком научном принципе основывались дисциплина и порядок в лагерях. После своего первого ареста я убедился лично. Бог велел убить одну из слепых девушек. Он объявил, что это наказание и мы все должны наблюдать за ней в часы ее смерти, но, я думаю, Он демонстрировал что-то еще, возможно, только для меня. Кажется, я понял, что мне нужно делать, но Бог мне ничего не сказал. Вот еще один способ управлять тобой, заметил Он. Неуверенность. Именно поэтому Он время от времени менял правила. Нам приходилось очень быстро разучивать новые. Я боялся, что Ему станет скучно со мной, как стало скучно с умершей девушкой. Она была бесполезна, сказал Он. Он спросил меня, могу ли я догадаться, почему Он говорил со мной обо всех этих вещах, о природе Его власти надо мной и природе моего стремления служить Ему. Потому, что Ты — Бог, сказал я. Но я ошибся. Он нетерпеливо ударил меня по лицу и рассердился, оттого что я не мог плакать. В тебе не осталось слез. Ты высох, маленький еврейский ангелочек. Нужно сделать тебя поинтереснее. После операции ты начнешь догадываться, почему Я чувствую себя в такой безопасности. Я так рад, что ты разумен. Большинство этих существ едва понимает слова, которые я произношу. Я мог бы просто говорить Сам с Собой. Но ведь ты — часть Меня, разве не так, милый грязный еврейчик? И мне нужно прошептать, что я люблю Ее, люблю свою мать, свою богиню, Секхет, которая так сильно оплакивает собственную смерть и смерть мира. И все же я пока не готов служить Ей в следующем мире, говорит Она. Я должен так же тосковать по смерти, как тоскует Она, желать смерти сильнее, чем жизни. Бог обещает мне, что мое время неизбежно придет, как оно приходит для всех Его творений. Для слепой это время настало, сказал Бог. Она захотела умереть. Во всяком случае, в самом конце. Пока мы смеемся над этим, я понимаю, что и мое время кончается. А ты готов, спрашивает Бог, к тому, чтобы твою совесть взвесили на весах? Я не готов, говорю я. Мне еще не хочется умирать. Бог терпелив. Но я не стану музельманом. Мысль о том, что я умру прежде, чем умрет мое тело, — непристойна. Вдобавок я храню тайну, которой, скорее всего, не владеют окружающие существа, — у меня уже есть опыт удивительного спасения. Я пока еще не утратил надежду. Бог понимает это без раздражения. Бог оставит мне тонкую нить надежды, пока Ему не понадобится перерезать ее. Таков Его научный метод. Это свойство нашего века: мы превратили в науку все, включая человеческие страдания. Мы иногда шутили о предстоящей смерти и о том, когда Бог пожелает лишить меня последней надежды, как будто дунув на одуванчик, — и споры разлетятся по ветру, а я даже ничего не замечу. Бог заставил меня одеться девушкой и сопровождать Его, когда Он принимал сэра Рэнальфа. Маленький человек затаил дыхание — он пытался шутить насчет жары. — Я думаю, что соглашение наконец достигнуто. Эти люди просто невозможны. Он теперь со мной. Я приведу его? Ты позволяешь себе слишком много вольностей, сэр Рэнальф, сказал Бог. Сэр Рэнальф смутился. — Я ужасно сожалею. Эти кошмарные верблюды. Я никогда к ним не привыкну. — Он вообще не смотрел на меня, возможно, от волнения, но, скорее всего, потому, что еще не заметил моего присутствия. — Вы встречались с моей женой? — спросил Бог. Сэр Рэнальф пришел в замешательство, он прищурился, потом посмотрел по сторонам. — Нет, эль-Хабашия, не встречался. Возможно, следует принести поздравления? Ему приказали поцеловать мою руку. Бог счел это весьма забавным, тем более что сэр Рэнальф не узнавал меня. Когда Бог утратил интерес к шутке, Он потерял интерес и ко мне и, я думаю, позабыл про меня. Сэру Рэнальфу разрешили ввести гостя, рослого закутанного бедуина, который заговорил с эль-Хабашией на грубом арабском, но тот высоким женским голосом сказал, что предпочитает французский. Возможно, она надеялась пристыдить кочевника, французский язык которого был превосходен, хотя и старомоден. Предлагались подношения и упоминались различные товары, и то и другое меня не интересовало. Я погружался в дремоту всякий раз, когда представлялась возможность. Один раз мне показалось, что я услышал русское имя, но воспоминания, связанные с ним, были слишком болезненными. Я отбросил их. Бог милосердно склонился набок, так что моя голова в конце концов оказалась зажата между подушками и Его плотью. После этого я слышал совсем немного, поскольку мне запретили шевелиться. Мне кажется, Бог разозлился на обоих посетителей и прогнал их. Он жаловался. Он чудовищно печалился. К вечеру, прежде чем солнце опустилось за горизонт, Он заставил всех нас собраться во внутреннем дворе, у фонтана. Он приказал, чтобы мы устроили холм, карабкаясь друг на друга, и в итоге все мы выли от неудобства, за исключением тех, которые неподвижно лежали внизу. С огромным трудом, часто падая, хрипя и покачиваясь, Бог начал подниматься на этот холм из конечностей, корчившихся мускулов и тел, пока не смог сесть на корточки на вершине; тогда Он поднял свои юбки и испражнился. Время было врагом, которого я отверг. Я не знаю, сколько времени прошло. Однажды мы возвратились в сад. Бог приказал мне играть со слепыми детьми. Он отметил, как они послушны. Им вставили искусственные глаза разных цветов, в основном синие, которые придавали лицам кукольный вид, особенно если на них были румяна и подводка. На всех телах, конечно, стояло клеймо скарабея. Когда Бог приказал мне убить одного из пленников — любого, выбор был за мной, — я ответил, что у меня нет оружия. Он велел мне воспользоваться руками или зубами. Выбери самого маленького, сказал Он, это должно получиться легко. Но я не смог. И это был знак Бога. Меня судили пред Его очами. Он собирался уничтожить последнюю из моих надежд. Если хочешь, сказал Он, я позволю тебе вырвать собственные глаза. Так уже делали. Или ты готов умереть? Я даю тебе день или два, чтобы ты мог выбрать. Я знал, что, ослепнув, никогда не сумею сбежать от Него. Я проклинал себя за слабость, за малодушие и нервную дрожь, которая одолела меня. Я, помню, не обвинял Бога за то, что он унизил меня и довел до этого. Я обвинял Эсме. Я остался, пытаясь спасти ее. Она даже не поблагодарила меня. Я обвинял дружище Хевера и Сэмюэля Голдфиша, Малкольма Квелча, Вольфа Симэна и сэра Рэнальфа Ститона. Я обвинял миссис Корнелиус. Я обвинял слепого за то, что он не сопротивлялся, когда я попытался сжать его горло. Я обвинял себя, называя мягкосердечным идиотом. И тем не менее я знал, что не выберу смерть. Я попросил бумагу, и, к моему удивлению, ее принесли, вместе с авторучкой и чернилами. Я был лишен милости Бога, но я надеялся развлечь Его, отсрочить Его решение, чтобы я мог чуть дольше сохранить зрение. Я подготовил подобие проспекта. Я описал свои изобретения, опыт, навыки. Я немного польстил себе, изменив собственным правилам, но тогда меня просто охватило отчаяние. Я сказал Ему, что умею летать. Я мог продемонстрировать ему планы «Лайнера пустынь». Я цитировал стихи на полудюжине языков. Я описывал совершенные мной подвиги в Киеве, Петрограде и Париже, встречи с кинозвездами в Америке. Свои связи с Ку-клукс-кланом я не обсуждал, не зная, как Бог истолкует этот эпизод. Я повторял анекдоты и пересказывал статьи, которые прочитал в журналах. Я описал свое детство, юношеские приключения, будущее. Я думал, что, по крайней мере, смогу убедить Его в моей чувствительности и даже открыть Ему новые пути к удовольствиям. Наконец Бог приказал отдать Ему написанное. Бог велел мне стоять перед Ним в Его храме, пока Он читал все страницы, кивая, сжимая губы, заинтересованно бормоча, выражая удивление, одобрение, недоверие, — и один за другим бросал листы в жаровню. Всякий раз, когда листок падал мимо жаровни, Он приказывал мне поднять бумагу и бросить в огонь, а потом вернуться на прежнее место. Дочитав, Бог потребовал опуститься перед Ним на колени и стал мастурбировать. Когда Он кончил мне на лицо, то поблагодарил меня за оригинальность. Мой рассказ действительно доставил Ему удовольствие, хотя, конечно, подобное удовольствие можно испытать только единожды. Он взял длинный металлический прут с наконечником странной формы, приказал мне поднести прут к жаровне и положить в самое пекло. Вот инструмент, который утром лишит тебя глаз, сообщил мне Он. Если ты хочешь еще читать или писать, можешь пока это делать. Теперь у меня оставалась только ложная надежда. Я впал в одержимость маленькой «Книгой мертвых», которую дал мне Квелч. Я начал отчаянно изучать все слова и ответы, что должны были открыть мне легкий путь в потусторонний мир. Бог понял природу моего мучения так же глубоко, как Паганини понимал свою скрипку. Убедив себя в реальности этой загробной жизни, я мог бы обрести отвагу, чтобы выбрать смерть. Я не должен был спать. Мои глаза, отказываясь понять, что им осталось жить несколько часов, начали моргать и закрываться. Последние минуты зрения будут для меня и последними минутами одиночества. Завтра я присоединюсь к другим в яме, оказавшись на попечении евнухов и гермафродитов, пока не вылечусь или не стану неизлечим, и тогда мое лицо сгниет, покрытое черными мухами, как телячья голова на рынке. Я видел таких существ, все еще живых, в саду Бога. Даруйте вы, чтобы я мог прийти прежде вас, ибо я не совершил греха, не творил мошенничества, я не причинял вреда и я не лжесвидетельствовал; вот почему да не будет мне причинено ничего дурного. Я жил истиной, я питался правдой, я претворял распоряжения людей и вещи, которые угодны богам. Я чист моими устами, и я чист моими руками, вот почему да будет сказано мне теми, кто увидит меня: «Приходи с миром, приходи с миром». Я сотворил моления богам, и я знаю вещи, которые принадлежат их телам. Я пришел, странствуя, долгим путем, чтобы принести праведное свидетельство и повесить коромысло весов на его опорные стойки в Аукарт. Я чист, мои наружные части тела очищены тем, что приносит очищение, и мои внутренние части тела были погружены в озеро Истины. Нет ни одного члена моего тела, который бы не обладал истиной. Я питаю отвращение к противным вещам. Я не стану есть того, что мне отвратительно. То, что я ненавижу, — нечистота: я не стану есть ее. Я не буду уничтожен умилостивительными жертвоприношениями и погребальными яствами. Я не приближусь к нечистоте, чтобы тронуть ее руками, я не буду ступать на нее моими подошвами[1068]. Не дай мне выпить щелок, не дай мне вслепую войти в загробный мир… В результате этого чтения я получил хотя бы смутное понятие о том, что имел в виду Бог, когда сказал мне: однажды я буду мечтать о смерти так же сильно, как мечтает Он. Ибо я — бог смерти и мне не дозволено почить. Я не сомневался, что Его предсказание сбудется и скоро я стану тосковать по смерти так, как когда-то тосковал по невесте. Может, здесь и скрыта тайна Египта? И для этой нации радости жизни по-прежнему были просто преддверием радостей смерти? Предпочитая смерть жизни, ислам способствует процветанию варварства. Что это, как не глубокое извращение древней египетской веры? Книга не могла отвлечь меня от скорбных мыслей. Я начал молиться о той самой смерти, которую завтра буду отвергать, и лепетал какие-то глупости на старославянском, с трудом вспоминая слова, — и тут дверь отворилась. — У меня есть еще несколько часов, — взмолился я. — Еще не утро. За спиной вошедшего было темно. Свет исходил только от моей настольной лампы; теплые оранжевые лучи скользили по белому полотняному таубу, кремово-белому шелковому зебуну и роскошной абе[1069] из синей шерстяной ткани. Увидев кочевника в таком королевском наряде, я предположил, что он — палач Бога. Я молился о том, чтобы он оказался лишь галлюцинацией, порожденной моим ужасом. Тогда он приподнял капюшон, пристально посмотрел мне прямо в глаза и усмехнулся, заметив мое удивление. — Коля? — (Возможно, это было более дивное, более прекрасное безумие, чем я себе представлял?) Он опустился на колени. Он обнял меня. На мгновение на его лице выразилось некое подобие сострадания. Потом он нахмурился: — Тьфу! Ты воняешь, как прусская шлюха. Встань на ноги, Димка, дорогой мой. Нам нужно добраться до Ливии прежде, чем придут англичане. Я спросил его, где Бог. Где стражи? Я начал думать, что это еще одна из игр Бога. Несомненно, Ему теперь принадлежал и Коля. Но Коля не понял моего первого вопроса: — Охранников этой твари подкупили. Они начали волноваться из-за причуд хозяина. Бог? О чем ты? У тебя было видение, Димка? — Эль-Хабашия, — я осмелился прошептать запретное имя. Если я спал, то мне никто не мог повредить. — О! — Он провел пальцами по груди, затем пожал плечами. Он согнулся, чтобы помочь мне встать. — Бог мертв. Скарабей неузнаваем, кожа в том месте обгорела. Я не думаю, что смог бы жить с этой отметиной на теле. Даже шрам отвратителен. Я не говорил о произошедших событиях, не говорил даже Коле, который имел определенное представление о том, что творилось в саду Бога. Он сказал мне, что видел яму. Он решил оставить ее — пусть найдут власти. Вряд ли они тогда станут преследовать убийцу эль-Хабашии. Я начал делать записи о случившемся только после Суэца. Я чувствовал, что это мой долг. Люди должны постичь влияние Карфагена. Они должны знать, что творится в мире, где извращенные негроиды-семиты наслаждаются, властвуя над жизнью и смертью. Все, что я могу сделать, — предупредить вас. Я послал свои отчеты в каждую газету и на каждую радиостанцию. На мои рассказы внимания не обратил почти никто. В «Ривали»[1070] напечатали материал, но там меня осмеяли. Заголовок был такой: «Сэмми Дэвис-младший[1071] — тайный правитель мира, утверждает польский мистик». Можете вообразить сам текст. Некоторые заявляют, что я внушаю им отвращение. Конечно, все произошедшее отвратительно, я согласен. Но это случилось со мной. Они думают, будто я сам не чувствую отвращения? Я — один из немногих, кто выжил, сохранив рассудок и речь. Не познав зла, мы не сумеем сопротивляться ему, и тогда нас могут обманом толкнуть на неверный путь. Я сказал Коле, что Бог был для меня тьмой, но какая-то часть моей души полюбила Его. Коля ответил, что всегда возможно найти маленькие кусочки тьмы в собственной душе, ничтожные клочки, которые хотят присоединиться к великой тьме и разделить власть ее повелителя. Вот что мы называем первородным грехом. Коля хорошо разбирался в религиозных вопросах. Он провел несколько лет в семинарии. Он постиг основы греческой веры куда глубже, чем я. Тогда, однако, это мало меня утешило, потому что утешение было мне недоступно. Я лишился эмоций и ощущений. Я безвольно последовал за другом через ворота, к ожидавшим снаружи верблюдам, которые стонали и жаловались, потому что их разбудили так рано. Коля заставил меня сесть на крупную палевую верблюдицу, поднявшуюся на ноги с оскорбленным изяществом вдовы, которой приказали убрать кресло с обочины дороги. Потом Коля взгромоздился на горб другого зверя и повел за собой нескольких вьючных животных, понукая всех длинным кнутом, — так мы двинулись в холодную ночную тьму. Из дома потянуло маслянистым смрадом. Этот запах преследовал меня в течение многих часов. И лишь тогда, когда воздух пустыни очистил мои легкие, я понял, насколько глубоко впитал аромат смерти. — Я продал ее ему, — произнес я. — Она была продана на… К рассвету дом и окружающие его пальмы скрылись из вида, и мы углубились в дюны. Коля сказал, что только так мы сможем избежать плена. Британцы в Судане приходили и уходили, когда хотели. За пределами Судана единственным стоящим местом оставалась Кения, но она тоже была британской. Никому из нас, заметил Коля, не следовало попадаться в лапы англичанам. Кроме того, в Ливии у него остались друзья. Он притормозил, сверился с картой и посмотрел на компас. Я, убежденный, что все происходящее — только спасительная галлюцинация, бегство в иллюзии, бессмысленно усмехался и смутно размышлял о том, когда боль в глазницах рассеет великолепное безумие. Я думаю, что именно в этот момент упал со своего верблюда. Потом я ехал в седле перед Колей, а он поддерживал меня одной рукой и сжимал поводья другой. По-прежнему пребывая в полуобморочном состоянии, я посмотрел на него и отметил его уверенность и силу. Он походил на одного из наших легендарных славянских героев. Я подумал, что он даже лучше, чем Валентино, а затем пришли мучительные воспоминания о «Грехе шейха». Увидев, что я очнулся, Коля обратил мое внимание на необъятные бледные дюны, тянувшиеся впереди, — то была истинная Сахара, которую боялись и ненавидели бедави, самый опасный и неумолимый из океанов, где зыбучие пески могли без предупреждения поглотить путника и все его имущество, отправив его к жителям погребенного города какой-то забытой расы, к тем созданиям, которые в течение многих столетий заполоняли мертвые, но прекрасные улицы. — Нам придется совершить долгое путешествие, мой дорогой Димка, чтобы добраться туда, где у нас есть друзья. — Коля вздохнул. Он погладил меня по голове, и я успокоился, словно загипнотизированный, но страх по-прежнему давил на меня. Мне все еще казалось, что я смотрю на своего палача, — даже тогда, когда Коля поцеловал кончики своих пальцев и поднес их к моим губам. — Ах, Димка, Димка! — Он с легким раздражением окинул взглядом неисчислимые милисветло-коричневого песка. — Так мало нужно сказать и так много времени для слов! Мы ехали без остановок до полудня, и я все еще ждал, что боль вернется с новой силой. Легко было увидеть в безумии милосердие Божье и понять, почему крестьяне все еще полагали, что безумцы благословенны. Или я уже попал на небеса? Я решил наслаждаться мгновением, не надеясь, что оно протянется долго. Когда мы снова отправились в путь, Коля указал на один из свертков, привязанных к спине верблюда: — Кажется, это твой чемодан, Димка. Именно так я и узнал, что ты все еще здесь. Я нашел его в комнатах Ститона в «Зимнем дворце». Я решил взять его с собой. Там есть что-то полезное? Я засмеялся, услышав эту нелепость. Западная Сахара окружает нас бесконечными песчаными волнами, которые движутся с неодолимой медлительностью; она угрожает нам. В этом море загробного мира внезапно появляется большая похоронная баржа, ею управляет какой-то сияющий благодетель с головой зверя, он безжалостно приближается к нам, неся с собой абсолютный чистый запах пустыни и смерти. Если случилось так, что я, став слепым, оказался в пустыне в одиночестве, взамен утраченного зрения я обрел удивительные, почти неотличимые от реальности миражи! Когда мы останавливаемся в следующий раз, чтобы разжечь вечерний костер, я открываю свой «гладстон». Все там, кроме основных чертежей «Лайнера пустынь». Книги, пистолеты, немного денег и другие личные вещи — вся моя жизнь возвращается ко мне. И, однако, я не осмеливаюсь надеяться, что происходящее — не просто иллюзия, скрывающая реальность моей невыносимой слепоты. Я не хочу и думать об иной, еще более ужасной альтернативе — что мой старейший, мой лучший друг послан, чтобы уничтожить меня так же, как мне недавно приказали уничтожить слепого мальчика. Мой корабль звался «Эсме». Розовый, как египетский рассвет, золотой, как египетская ночь, мягкая и теплая, — его запах казался ароматом самой жизни. Он был прекраснейшей из моих грез. Он возродился бы утром, такой чистый и полный энергии, и все, смотревшие на него, затаили бы дыхание при виде этой девственной красоты. Мой корабль звался «Украденная душа»; даже разбитый, полностью разрушенный, рассыпавшийся и разграбленный, он сохранил ауру благородства и жизни, чистое ощущение того, что он служил людям хорошо и достойно. — Если б когда-нибудь в твою тшесть, Иван, назвали бы тшортов корабль, — говорит миссис Корнелиус, — его бы следовало окрестить «Удатшливый ублюдок»… — Удачи, миссис Корнелиус, просто не существует, — отвечаю я. — То, что вы называете удачей, — лишь сочетание открывшейся возможности и разумного суждения. Здесь нет ничего случайного. Таким образом, благодаря моим возвышенным устремлениям и, с готовностью соглашусь, при некоторой помощи старого друга, я наконец сбежал из Рая.Глава двадцать первая
Я прошел через последние врата, врата вечной смерти. Анубис был моим другом. Я обрел бессмертие особого рода. Я мог свободно блуждать по земле теней, но мое будущее оставалось туманным, и ужас не покидал меня. Я обрел знание, к которому никогда не стремился и о котором никогда не осмелюсь заговорить. Я видел силу и власть абсолютного Зла. Есть один старик, похожий на бродягу; он ходит взад-вперед по Портобелло-роуд в будние дни, когда на рынке продают только фрукты и овощи. Нас с ним порой путают. Даже миссис Корнелиус говорит об этом. Он‑Irischer. Я не обижаюсь. Мы бы назвали его rorodivni. Он, по словам отца П., тот, кого предки этого старика именовали da-chearde, сынами двух искусств, оракулами. Еврей Барнум говорит, что он — nebech-meshiach, и дает ему шиллинг, но я не уверен, что это — богохульство. Берберы в пустыне Триполи могли бы назвать его achmak ilahiya[1072] и, возможно, тоже сочли бы его оракулом. А почему бы и нет? Он произносит вслух только то, что мы боимся сказать шепотом. Он цитирует Библию. Он говорит о милосердии Бога и о способах его заслужить. Нет причин не верить ему. Его логика основана на теологических традициях. Возможно, его голосом действительно говорит Бог. И никто из нас ничего не слышит. Даже я. Но я знаю, когда нужно молчать. В пустыне я научился молчанию и постиг искусство глупости. Иначе я не смог бы выжить. Он, кажется, не проявляет интереса к церкви. Но, я думаю, ему что-то дают в клариссинском монастыре напротив обиталища миссис Корнелиус. Значит, он католик, возможно, бывший священник. Те, кто говорит, что Бог никогда не объявляет о Своем присутствии, могли бы провести пару часов с мистером О’Доудом. Он не совершает ритуалов, не рассказывает притч, но напрямую передает Божью волю. И все равно мы не слушаем! Я видел его с теми новыми монахинями, сильно напоминающими социальных работниц, — у них практичные чулки, юбки и едва заметные каблуки. Это всегда ирландки; они смеются тем визгливым, неестественным смехом, который кажется мелодичным только после хорошей порции виски. Они напоминают мне женщин феллахов. Думаю, они присматривают за ним. Моя подруга мисс Б., которая раньше была очень известной танцовщицей, тоже католичка. Она посещала большую церковь неподалеку, там мы и познакомились. Все ее друзья — ирландцы или поляки из Хаммерсмита. Сама она живет на Спортинг-Клуб-сквер, в западном Кенсингтоне. Я нередко навещал ее, но Бродманн положил этому конец. В один погожий февральский вечер Бродманн снова выследил меня, или, точнее, я узнал, что он взял мой след. После чая я покинул эксцентричный терракотовый особняк мисс Б., решив не использовать ворота, ведущие на Мандрэйк-роуд, но пройтись по садам и насладиться последним вечерним светом. Я испытывал особые, нежные чувства к Спортинг-Клуб-сквер. Творение Галифакса Бегга[1073], с высокими оградами из кованого железа и стоящими вокруг деревьями, с богатейшими ботаническими садами, казалось подлинным убежищем. По какой-то счастливой случайности сюда почти не доносился навязчивый шум с соседней Норт-Энд-роуд, и я легко мог представить, что сидел, наслаждаясь одиночеством, в собственном наследственном имении близ Киева. Сады дают то особое чувство порядка и безопасности, которое отдельные люди часто находят в арабских внутренних дворах. Был понедельник, около пяти часов вечера. Солнце садилось, пульсирующие красноватые отблески пробивались сквозь густую листву массивного дуба, который шестьдесят лет назад был единственным ориентиром на обычном фулхэмском пастбище. Я вдыхал запах травы и вечнозеленых растений. Острый аромат горячих углей, казалось, одурманил двух полосатых кошек, гонявшихся друг за другом по лужайкам, среди декоративных посадок и клумб, лавровых изгородей и восковых ботанических курьезов. Маленький парк, который поддерживали на средства, оставленные самим Беггом, был столь же ухоженным и столь же богатым редкими растениями, как Дерри энд Томз-руф-гарденс[1074], еще одно излюбленное укрытие для размышлений и воспоминаний. Над площадью висел неподвижный туман, даруя то бесконечное спокойствие, которое часто можно было обрести в Лондоне, пока улицы города не заполонили крикливые иммигранты, поселенцы среднего класса и антиобщественные семейные седаны. В те дни после обеда толпы собирались только в центре. Большинство квартир в домах у площади занимали люди средних лет, которые поселились здесь в то время, когда арендная плата была умеренной. Сегодня это — известное место. Его знают все таксисты. Туристические автобусы привозят сюда людей по дороге к Эрлз-Корт. Каждое многоэтажное здание разного стиля, большинство из них казались вызывающими во время строительства, но теперь требуют усовершенствования. В тот раз я увидел Бродманна, когда подошел к декоративным северным воротам с чугунными орлами, точными копиями петербургских. Он, должно быть, следил за мной. Возможно, он уже знал о моей связи с мисс Б.? Или, возможно, мисс Б. предала меня? А может, они наблюдали за ней и случайно вышли на меня. Конечно, детали уже не имели значения. Стало совершенно очевидно, что Бродманн снова взял мой след. Это было сразу после войны, когда я молился о том, чтобы его отозвали или, еще лучше, убили во время «Блица». Полагаю, Бродманн решил, что я не признал его. Я использовал свое единственное преимущество и притворился озадаченным. Он был одет как бродяга, но никак не мог скрыть злобное торжество! Мое приятное мечтательное настроение вмиг исчезло. Душевное спокойствие нарушилось. Я чувствовал, что гармония, обретенная с таким трудом, разбита вдребезги. Теперь Бродманн, когда ему захочется, мог на меня донести — и тогда меня силой вернут на родину. Меня неизбежно станут пытать, как и тех, других казаков, которых британские лорды отослали назад к Сталину. Вот почему я никак не могу называть определенные имена, включая свое собственное. Те немногие из нас, кто сумел дожить до естественной старости, отвечают друг за друга. Называть нас нацистами (об этом я сообщил Бродманну в записке) — значит упрощать наши политические идеалы. Он так ничего и не ответил. Я надеялся спугнуть его. Бродманн, конечно, был настоящим нацистом. И не первым евреем-нацистом, которого я встречал. Они все одинаковы, эти коммунисты. Мне больше никогда не пришлось насладиться ботаническим уютом Спортинг-Клуб-сквер. Я сел на «двадцать восьмой» у «Семи Звезд» и оглянулся назад, чтобы проверить, не следует ли Бродманн за мной. Я вышел у «Одеона», на Вестбурн-Гроув, и, не рискнув пойти домой, отправился в кино. Показывали ковбойский фильм, где какой-то смехотворный Билли Кид[1075] спасал город от всяческих злодеев. Там была сцена в пустыне, в которой я опознал Долину Смерти, хотя холмы и столовые горы в том ландшафте сильно напоминают однообразную ливийскую Сахару, где все пики похожи друг на друга. Я очень плохо помню наше путешествие от Би’р Тефави к оазису, где мы присоединились к небольшому каравану верблюдов, с которым, по словам Коли, нам следовало добраться до Уэната[1076], а оттуда двинуться к Эль-Куфре[1077], где он собирался повстречать старых друзей. Эль-Куфра располагалась примерно в четырех сотнях миль к западу. Коля посоветовал мне расслабиться и наслаждаться путешествием. Оно будет очень легким. — Но что такое Куфра? — Я никогда не слышал о таком городе. — Великий оазис, место, где встречаются большие караваны из Африки и Индии. Он находится в шестистах милях к юго-западу от Каира, посреди непроходимых песков. Девятьсот миль дюн на запад до Гата и тысяча миль пустошей и гор на северо-запад до Триполи. Короче говоря, дорогой Димка, Куфра находится в самой глуши — и все же ты увидишь там такие достопримечательности, каких много веков не видел ни один христианин! Будь терпелив, мой дорогой, потому что сейчас ты едешь первым классом. После Куфры начнется настоящее путешествие. Я спросил его, что находится дальше Куфры, но в ответ Коля только сказал: «Остается надеяться, что потом нам не придется ехать в Гат». В караване меня называли «эль-багл», что означает «мул», но я не возражал. Я наконец оказался в безопасности от Бога, но сохранял привычки, которые Он мне навязал. Разумом я понимал, что Он больше не мог покарать меня, но мои нервы этого не понимали. В любом случае, я стал зависеть от одобрения других и был счастлив служить каждому, кто отдавал приказы. Я не мог спать, пока не осознал, что все в караване относятся ко мне доброжелательно. Только благодаря их веселой снисходительности я почувствовал себя непринужденно. Их насмешки и их презрение, их милые оскорбления согревали меня. По-арабски они иногда называли меня «отцом дураков», но на языке тубу[1078] имена обычно звучали куда загадочнее. В племени горан использовали и более грязные эпитеты. Эти надменные африканцы считали меня мальчиком на содержании у педераста Коли. Коля, благодаря знанию языков, сумел всем внушить, что он враг французов, сирийский шариф[1079], спасающийся от властей. У него даже нашлась потертая газетная вырезка — подтверждение этого рассказа. Материал был из парижского желтого издания, из светской хроники. Поскольку мало кто из караванщиков умел читать, его фотографии хватило, чтобы доказать: руми[1080] причисляли его к врагам. Иначе зачем они напечатали его портрет? Это предположение всем казалось убедительным. Между Би’р Тефави и первым оазисом раскрылся мой исключительно полезный талант. Я оказался от рождения наделен способностью ладить с верблюдами и всего через несколько дней поразил Колю необычайной ловкостью в седле и четкостью управления. Неужели какая-то часть меня нашла в окружающем мире некую древнюю родину? Я вновь задумался над вопросом о потерянной Атлантиде. Неужели белые берберы были остатками этого легендарного народа? И те и другие говорили на языке, от которого произошло множество прочих. Не существовало никаких объяснений появления берберов в Сахаре. Неужто они и были моими предками-атлантами? Немногие берберы считали кочевничество своим призванием. Они могли рассказать, как некогда жили в великолепных городах и правили миром. Сначала я полагал, что речь шла об их империи, которая до эпохи христианских завоеваний включала и испанский полуостров, но позже начал понимать, что они говорили о цивилизации, более древней, чем Египет, язык которого тоже походил на берберский. Берберы в нашем караване предпочитали держаться в стороне от арабов. Может, в их крови сохранилось воспоминание о том, что эти люди однажды были их рабами? И несла ли та же самая кровь память об эпохе, когда океаны еще не поглотили Атлантиду, когда Карфаген еще не вознесся во всем своем пышном и экстравагантном варварстве? Раньше Шумера, раньше Вавилона и Ассирии и прочих неврастеничных, беспокойных семитских империй, которые пали так низко, занявшись самокопанием и накоплением богатств? Мы достигли Уэната, долины из красных камней, окруженной обветренными горами, где стояли пожелтевшие от солнца кусты и несколько увядших маленьких деревьев, выросших над солоноватыми бассейнами, в которых скапливалась дождевая вода. Наш караван не собирался там задерживаться надолго. Считалось, что это место стерегли ифриты и вспыльчивые джинны. Стены долины становились все круче; гладкие гранитные валуны в любой момент могли сдвинуться с места и обрушиться на нас. В конце концов мы расположились лагерем у основания утеса, возле самого пристойного водоема, и решили дожидаться большого каравана из Фуравии[1081] и французской Экваториальной Африки. Мы ждали неделю, ворча и поглощая припасы, и постепенно другие караваны начали прибывать. Но мы никак не могли тронуться с места, пока не обсудим расположение каждого в шествии, пока все требования не будут удовлетворены. Для этого следовало устроить дайфу — особый пустынный ритуал — и несколько пиршеств и церемоний, сопровождавшихся подношениями даров. Вожаки разных караванов курили и подолгу беседовали, ведя дружеские споры; когда уже казалось, что мы вот-вот выпьем Уэнат досуха, они встали, пожали руки, ударили друг друга по плечам и рассмеялись; белые зубы ярко блестели на фоне морщинистой кожи лиц. Наконец мы были готовы направиться к Эль-Куфре, оставив позади горы и миновав равнину, которая сверкала искрами сердолика, кремня, слюды, агата и обсидиана; по ним ступали копыта и сандалии всех животных и людей, проходивших этой дорогой в течение трех тысяч лет. Изломанные пики скрывались в дали, а пустыня под вечерним небом казалась все огромнее — и тогда Коля стал одновременно и беззаботнее, и осторожнее. — Скоро, Димка, ты поймешь подлинные искушения пустыни. — Но никаких подробностей он не сообщил. У каждого каравана свой собственный ритм, темп и характер. Наш отряд теперь стал разношерстной компанией бедуинских купцов, заводчиков верблюдов из народа тубу, суданских работорговцев, паломников, возвращавшихся из хаджа, и сопровождающих, которые оказывали нам различные услуги. Коля уверил меня, что это ничто по сравнению с большим оазисом в Куфре. В те времена, до того как повсюду появились полугусеничные машины, караван очень напоминал поезд, который останавливался в различных оазисах, соединяясь с другими караванами, следовавшими по неизменным маршрутам. И потому приходилось дожидаться транспорта, шедшего в нужном направлении. Коля наконец признался, что в Эль-Куфре, около дороги на Тум, его должны были встретить люди Ставицкого. Он собирался передать им наших верблюдов в обмен на наличные. Тогда, по его плану, мы могли отправиться в Триполи. Я уныло заметил, что верблюды вряд ли стоили очень дорого, но это его только позабавило. — Достаточно, чтобы нам хватило на комнату и завтрак в «Бэгнольдз», не бойся! Ночью мы шли по золотым дюнам, которые мерцали серебром, и следовать в нужном направлении получалось легко. Мы редко удалялись от воды. С хорошим караваном идти было так же безопасно, как ехать по железной дороге из Дели в Бомбей. Постепенно пустыня превратилась в то, что бедуины называли сарира, — плотный песок, ровный, почти бесцветный и покрытый тонким слоем гравия. Позже я познал изнурительную скуку жизни каравана, которая научила меня терпению. Но тогда мой разум переполняло то, что еще отказывалось признавать тело. Я был свободен! Я избежал кары Бога. Бог, как уверил меня Коля, убит. Казалось, я прошел все испытания, о которых читал в своей книге. Я ответил на все вопросы, произнес подобающие слова раскаяния — и все-таки я полагал, что меня в любой момент могут повергнуть во прах, унизить, уничтожить. Но я благополучно миновал Первые Врата, и Анубис был моим другом. Чего же мне еще бояться? Но никакие рациональные соображения не избавляли от страха, что в любой момент предо мной снова мог появиться Бог, говорящий, что я просто ненадолго погрузился в сон. И все же, если я и спал, тогда снился мне кошмар. Мне предстояло ослепнуть. Я боялся будущего, которое могло быть только ужасающим, гротескным и отвратительным. Я видел, как юноша наматывал круги, сжимая в окровавленных пальцах свои глаза, а эль-Хабашия негромко хихикал. Я видел искалеченных девушек. Так что я по-прежнему дурачился и смеялся, безропотно выслушивая всевозможные грубые намеки. Я даже терпел унизительные сексуальные предложения. (Я часто думал: британцы с арабами чувствуют такую взаимную склонность потому, что обе расы страдают от сексуальной подавленности.) Секс, мой враг, продолжал меня мучить. Я старался им понравиться. Я спасал свою жизнь, угождая им. Тогда я почти утратил способность мыслить логически. Я зависел от милости любого феллаха всякий раз, когда оставался один, облегчаясь за выступом скалы или гоняясь за заблудившейся козой по склонам дюн. И тогда некоторые из них стали небрежно звать меня, ради собственного извращенного удовольствия, эль-Иегуди, и я снова начал испытывать страх за свою жизнь, порожденный и инстинктами, и рассудком. Тогда Коля сделал какое-то тонкое замечание моим мучителям (думаю, он не взывал к их лучшим чувствам, а предлагал оставить в покое его собственность). Я был благодарен Коле за заступничество, но надеялся на более достойное обращение. Он сказал, что сделал все возможное. В конце концов, ему нельзя было ничем отличаться от прочих арабов в пустыне. Иные слова и действия вызвали бы подозрение. Я понял, что больше не должен их бояться. Анубис был моим другом. Если я, по велению Бога, уже умер — тогда я больше не мог ничего потерять. Любое чувство само по себе делалось победой. Однако сохранялось понимание, что араб, намереваясь убить кого-то, всегда мог назвать жертву «евреем» — и тогда преступление становилось законным. То же самое, конечно, происходило и в некоторых районах Германии — я это усвоил на горьком опыте. Бог продолжал преследовать меня; ее плоть душила, ее члены все еще терзали душу. Внутренности содрогались в агонии, когда я думал об утрате Эсме, моей музы — маленькой богини, которая так ужасно меня предала. Я не хотел ничего подобного. Я сделал для нее все, что мог. Ссоры и свары в караване редко выходят из-под контроля. Люди, живущие по закону кровной мести и постоянно сражающиеся со стихиями, должны избегать дополнительных угроз. Слова Коли все поняли и приняли. Мое положение улучшилось. Что если бы я из любимого еврея казака превратился в любимого назрини араба? Но теперь у меня были прекрасные шансы вернуть все утраченное. У меня еще сохранился счет в калифорнийском банке. Через некоторое время Коля доставит нас в город, где найдутся все удобства цивилизации, и я телеграфирую Голдфишу, кратко изложив обстоятельства дела. Воспользовавшись нашими средствами, я смогу до конца года вернуться в Лос-Анджелес и возобновить карьеру без дальнейших препятствий. Я еще вспомню эти месяцы, когда дышал воздухом пустыни, пил затхлую воду и ел скудную пищу, и, без сомнения, даже стану приукрашивать пережитое, смягчая детали, добавляя определенные факты, пока воспоминание не начнет походить на «Песню пустыни»[1082] и не будет удовлетворять требовательным чувствам цивилизованного мира. Даже самые настойчивые преследователи утратили ко мне интерес, когда мы приблизились к Эль-Куфре, где, как нас предупредили, теперь располагался многочисленный итальянский гарнизон, следивший за перемещениями работорговцев и контрабандистов оружия. Неспособность Уормитера[1083] отличить контрабандиста от слепого мула бешено веселила тех арабов, которые уже пережили итальянскую оккупацию. Они, конечно, тоже не могли отличить итальянского мушкетера от норвежской медсестры. Ходили мрачные слухи, что солдатам приказано построить христианскую церковь на территории главной мечети оазиса. В легендах этих людей всегда оставалось место для сложных (и обычно чрезвычайно мелочных) тайных замыслов христиан, тративших немало сил только на то, чтобы нанести оскорбление мусульманам. Это напомнило мне о Кентукки, где подобные стремления, направленные против отколовшихся конгрегаций, приписывали папе римскому. Как я сказал Коле: «Если посмотреть на армию сумасшедших фанатиков, которую могут собрать главный раввин, папа римский и патриарх Константинопольский, — начинаешь удивляться, как они до сих пор не додумались объединить усилия!» Эта расистская паранойя отвратительна. Она лишь заслоняет подлинные проблемы и скрывает от нас истинного врага. — Мусульмане просто должны быть раздражительными, — сказал Коля, перейдя на русский, как только мы отдалились от основной части каравана. — Что бы ты почувствовал, если бы внезапно догадался: ты и твои предки поставили не на ту религиозную лошадь — но вы по-прежнему утверждаете, что бесполезная кляча может выиграть Петербургскую скачку? И все-таки, когда начинаешь прислушиваться к их политическим идеям, в Каире например, поневоле задаешься вопросом: что было раньше, саморазрушительная религия или обычный араб, который скорее выстрелит себе в ногу, чем вообще откажется от оружия! Мне казалось, что его понимание ислама несколько ограниченно, но я ничего не ответил, поскольку не хотел противоречить Коле, точно так же как не хотел противоречить арабам. К тому времени его уже считали мятежником, шарифом (мелким дворянином) и ученым, а меня принимали за его слабоумного родственника, которому добрый человек из сожаления дал работу. Эта история была сомнительной, но вполне приемлемой для наших союзников — они редко доискивались правды, если чувствовали, что окружающие считают хорошим тоном изящную, остроумную и благородную ложь. В основном арабы — терпимые люди, готовые признавать за человеком любые достоинства, пока он не покажет своих недостатков. Мой арабский был настолько слаб, что мне не осталось другого выбора, кроме как играть роль идиота. В те первые недели я мог говорить лишь о вещах, которым научил меня арабский Бог. С тех пор как мы присоединились к бескрайнему потоку навьюченных верблюдов и медлительных погонщиков, следовавшему по древнему торговому пути от оазиса к оазису, вверх и вниз по дюнам столь же высоким и крутым, как английские Пеннинские горы, все дальше и дальше в Западную пустыню, — с этих пор я грезил только о члене Бога и каждую ночь вновь переживал свой ужас. Мне по собственной просьбе заткнули рот — я боялся, как бы бедуины в соседних шатрах не обнаружили, что в их ряды проник назрини. Если бы они заподозрили меня, то обвинили бы в двойном богохульстве, за которое я получил искупление. Коля утихомиривал меня давно знакомыми приятными способами и превратил ужас в отдых, а отдых в удовольствие — и я начал успокаиваться. Он говорил, что я похож на испуганного бродягу, шарахающегося от каждого звука. Inta al hob. Inta al hob[1084]. Я никогда не забуду ее печальный голос, голос женщины, певшей в шатре бедуина. Это тебя я люблю. Ты — любовь. Я не мог сказать, пела она Богу или человеку. Коля заплакал, когда я спросил его. — Кто сумеет ответить? — Он откашлялся. — Сумеет ли она сама? Несколько раз он плакал и при воспоминании о моем унизительном испытании, но мы оба утешались опиумом, который курили в традиционном стиле, с помощью наргиле[1085]. Это наконец принесло мне успокоение. Постепенно прежняя личность возвращалась. Пока, сказал я, пустыне недоставало романтики, которую я видел в книгах Пьера Лоти или Карла Мая. Коля считал первого слишком женственным, а второго — слишком мужественным. На самом деле пустыня, как ни парадоксально, была местом, где подобные противопоставления утрачивали смысл, где даже жизнь и смерть сливались и всегда оставалась угроза внезапного исчезновения. Коля говорил, что пустыня усиливала чувства, но не дарила легкого освобождения. В утонченных существах она порождала необычайное обострение ощущений. Коля считал, что марочное вино и хороший кокаин были для истинных эстетов просто заменой пустыни. Тогда я впервые услышал о подобном эпикурейском отношении к Сахаре. И я еще раз подумал: Коля действительно опоздал родиться. Иногда казалось, что рядом со мной на роскошном, благородном сером верблюде ехал сам порочный гений, стройный Оскар Уайлд. Арабы, которые составляли большую часть нашего каравана (среди нас также были черные и, конечно, белые берберы), смотрели на моего князя с определенным уважением, дружески посмеиваясь над его неловкостью в управлении верблюдом; они говорили, что он провел слишком много времени в городах, с франками, а теперь, в пустыне, он снова станет истинным арабом. На них, однако, произвела впечатление тщательно подобранная одежда Коли, которую он носил с изрядным щегольством. Арабы предположили, что у его семейства весомые связи. Вопреки смехотворным мифам для наивных туристов, арабы так же тщеславны, как любые прочие люди, и больше всего на свете любят позировать фотографам или художникам. Не Коран, а пуританская традиция, основанная на ложном толковании нашего общего Ветхого Завета, запрещает изображать людей. По сравнению с тщеславным арабом даже неаполитанский жиголо похож на застенчивого скромника. Достаточно одного взгляда на стену любой французской гостиной, чтобы понять, с каким удовольствием эти люди позируют. А еще арабы осознали, что туристы готовы их вознаграждать за восхитительные впечатления! Поднимается «брауни», вперед тянется рука просителя, совершается обмен, и счастливый араб, подобно своим собратьям во всем мире, принимает самую романтичную и невероятную позу, таким образом подтверждая все стереотипы «цивилизованных людей». Любой снимок, сделанный на Ближнем Востоке и в Северной Африке, несет печать этой нелепой игривости — Haramin[1086] позируют на взятых напрокат верблюдах перед пирамидами Гизы на закате, наездники-марокканцы скачут во весь опор, размахивая винтовками, на потеху богатым европейцам, которые смотрят с балконов отеля «Атлантик». Но все это похоже на обыденную реальность жизни не больше, чем «Дикий Запад» Буффало Билла. Долгие унылые дни караванных переходов в полной мере раскрывают европейцу эту обыденность. Однако, если обыкновенная жизнь воина пустыни еще менее интересна, чем повседневные заботы пригородного конторского служащего, воображение араба куда живее, а его словарь в целом более эффектен и напоминает продукт совместного творчества французского санкюлота, русской шлюхи, греческого таксиста и английского школьника, благодаря опыту и привычке ставший средством выражения исключительно складной и нетривиальной непристойности. Поскольку главное развлечение этих людей составляет беседа, нет ничего удивительного, что их устная речь сделалась настоящим искусством, которое можно сравнить лишь с нашей украинской традицией. Это искусство развивает не только язык, но и разум. Меня никогда не удивляло, что очень многие поэты при Сталине могли заучивать целые книги стихов. Устная словесность зависит от интонации. Хороший арабский рассказчик изучает музыку беседы и драматического повествования. Он развивает и совершенствует свои способности, как западные романисты совершенствуют пунктуацию и грамматику. История араба проста только на бумаге. Его литературные приемы кажутся театральными и причудливыми только тем, кто не понимает их назначения. Почти так же обстоит дело с Шекспиром. Я думаю, однако, что мои бредовые ругательства могли потрясти арабов. К счастью, я все их произнес вслух только при Коле, в пустыне в трехстах милях к западу от Асуана, прежде чем мы присоединились к каравану. Но я все еще просил Колю затыкать мне рот и иногда связывать руки и ноги на ночь, пока со временем, говоря теперь по-арабски, я не стал бредить лишь о Боге. Это вполне устраивало мусульман, которые убедились, что я и в самом деле идиот, обретший божественный дар. Но только когда мы приближались к большому городу-оазису Куфре, я позволил себе заснуть лишь с помощью гашиша. Дьяволы медленно покидали меня, и мне становилось все легче играть сознательно избранную роль веселого дурака, которого все мужчины пытались ублажить добрым словом или монетой, чтобы получить в ответ сладкую улыбку. Благодаря заботам Бога здесь я сделался куда лучшим актером, чем в Голливуде. Постепенно я научился сдерживать самые явные проявления своего ужаса. Бедуины стали знакомыми и понятными. Я начал принимать их суровое добросердечие ко всем существам, за исключением кровных врагов. Они оказались не так жестоки и не так благородны, как герои Карла Мая и других любимых авторов моего детства. Они были отсталыми варварами, но чаще всего учтиво и вежливо обходились с теми, кого принимали. Они напоминали самых обычных крестьян, какие могли жить в любом уголке мира. Как только Коля избавил меня от их непристойных просьб, я оценил их гостеприимство, их грубую, мужественную дружбу. Конечно, я понимал иронию своего положения. Но все же, лишившись места в обществе и чувства собственного достоинства, я обрел взамен некую невинность. В этом смысле у меня было что-то общее с правоверным мусульманином. Те качества, которые мы в лагерях решительно презирали, в определенных обстоятельствах могли даровать человеку своеобразную силу. Я не переставал радоваться тому, что избавился от их худших сексуальных шуточек. Я по-прежнему страшился секса. Именно секс привел меня в нынешнее затруднительное положение. Они называли меня Счастливчиком, Любимцем Верблюдов, и еще им нравилось именовать меня эль-Сахра, Ястребом, когда я, чтобы повеселить их, размахивал руками и подражал крику хищной птицы. Они сказали, что поймают страуса мне в пару. Сами они продолжали развлекаться хвастливыми воспоминаниями и мололи всякую ерунду о женщинах, которых трахнут в Куфре, где (по словам Коли) им будут доступны только усталые и потрепанные старые шлюхи. Они обсуждали особенности нубийцев и евреев — прямо как искушенные школьники, собравшиеся в раздевалке. Ирония состояла еще и в том, что мои спутники-бедуины мечтали о сексуальном опыте, которого они никогда не испытывали, а я, наоборот, желал позабыть все, что успел узнать. Хотел бы я поделиться с ними богатствами своей памяти, рассеяв среди сотни или двух неискушенных людей чувственный опыт, достигший в моей жизни неестественной концентрации; это могло бы принести нам обоюдную пользу — я утолил бы их желания, одновременно избавившись от их докучливых бесед. Я был очень рад, что бишарины, нубийские кочевники с удлиненными черепами, религиозные верования которых вызывали беспокойство у наших немногочисленных ваххабитов, по большей части говорили на своем языке. Хотя иногда они рассказывали по-арабски истории о берберских женщинах-воинах — целых племенах, которые нападали в пустыне на мужчин и использовали их, пока те не умирали. Они также говорили о пристрастии всех берберов к человеческой крови, о принесении в жертву младенцев, об отвратительных пытках. Я вскоре осознал, что берберы для этих людей стали средоточием всех неясных страхов. Берберов, как считали бишарины, следовало по возможности избегать и торговать с ними только в случае крайней необходимости и очень осторожно, потому что в торговых делах они были хуже евреев. Удивительные и запутанные расовые предубеждения бишаринов порой казались чудовищными! Но они сочетались с понятием о народе и общине. Как обычно, это привело к появлению историй о «хороших» и «плохих» берберах, евреях, назрини, нубийцах и так далее; в общем, те, с кем ты общался лично, были, очевидно, хорошими; тех, кого ты презирал, боялся, терпеть не мог и клялся убить при первой встрече, никто и никогда не видел. У нас самих похожие представления об арабах. Такие ветхие логические аргументы, по мнению многих, действительно уменьшают возможное кровопролитие; если караванщики остерегаются таинственной опасности, то обычный караван будет для бандитов такой же трудной добычей, как обычный «пульман». Я еще не встречал араба (да и любого другого человека), который, будучи предоставлен самому себе, предпочел бы сражаться, а не беседовать и торговать. Так или иначе, но только незадачливые евреи из меллы страдают во время арабской войны, когда та или другая сторона «занимает» поселение и устраивает небольшую ритуальную резню, прежде чем удалиться прочь. Сами евреи, кажется, не испытывают особенного возмущения. Словно бы утрата нескольких сыновей и изнасилование нескольких дочерей — просто какой-то местный налог, который они должны заплатить. Эти евреи из оазисов вызывают во мне ужас. Меня оставили в штетле, но их темнота — хуже, чем штетль, возможно, потому что здесь, на родине, у них был выбор. И они сами выбрали эту жизнь! Каждый честный араб согласится, что даже среди таких существ, с их показной роскошью и их любовью к ростовщичеству, зачастую можно повстречать пару представителей поистине благородного типа, великих мастеров, интеллектуалов, художников. Но араб боится еврея вовсе не из-за любви еврея к искусству. Все дело в любви еврея к деньгам, которая заменяет ему патриотизм. С любовью к деньгам рождается и стремление к безопасности. Стремление к безопасности становится стремлением к власти, стремление к власти становится жадным стремлением к земле, и так появляется вполне сложившийся сионистский империализм, единственное оружие против которого — это, конечно, джихад! Такая священная война положила начало успеху нацистов. Низкое происхождение Гитлера, однако, в конце концов привело его к поражению. Более образованный и более воспитанный человек мог бы решить еврейскую проблему медленно и постепенно. Со временем меры по истреблению евреев лишили нацистов поддержки многих обычных порядочных немцев. Герман Геринг был единственным джентльменом среди радикалов, но, к сожалению, даже он не получил приличного образования. В самом деле, он так и остался на низшем уровне. В другую эпоху он постепенно сделался бы предметом насмешек в Bierkeller[1087], но, как мне известно, его отличало добросердечие, хотя и своеобразное, и инстинктивное понимание сложных инженерных принципов. Геббельс был куда интеллигентнее, но он просто не мог вести себя как джентльмен. Ритуалы, с помощью которых мы сдерживаем и укрощаем страх смерти, столь же различны, сколь и неизменны. Прежде чем мы осмелимся их исследовать и, возможно, изменить, мы отстаиваем их с помощью поистине геркулесовых усилий воображения, иногда до той самой смерти, которой сильнее всего боимся. Я сказал об этом Коле. — Неужели порочный круг ужаса и тирании навеки поработит даже самых просвещенных из нас? Он считал этот вопрос бессмысленным и пессимистическим, порожденным тяжелыми испытаниями. Коля видел в любых людях, какими бы безнравственными выродками они ни были, искру совершенства, которая всегда отзовется на то, что он называл «мыслящим голосом любви». Только изредка появлялся действительно ужасающий разум, способный поглотить даже эту искру совершенства и уничтожить ее. Когда он об этом упомянул, я успокоился — я не смог бы убить слепого мальчика. Я помню рассказ одного старого раввина. Когда его спросили: «Где был Бог в Освенциме?» — он ответил: «Бог был там с нами, страдающий и проклинаемый. Спросите лучше — где был Человек в Освенциме?» Я, в свою очередь, не стал музельманом. Я до сих пор хорошо понимаю, что он имеет в виду. Я рассказал Коле, как Эсме предала меня; как я не захотел, однако, бежать без нее. Я все еще надеялся найти того, кто ее купил. Он со странным неодобрением отнесся к моим словам, но он не знал Эсме так, как я. Меня удивил, впрочем, его ответ: — Я сомневаюсь, что ты когда-нибудь поймешь степень или природу ее страдания. Я готов предположить, что, возможно, она просто не осмеливается признавать, до чего невыносимы сейчас ее мучения. Я рассмеялся. Я мог бы подумать, что он сам в нее влюбился! Но, как я полагаю теперь, он имел в виду, подобно миссис Корнелиус, что лучше бы мне никогда не забирать ее из публичного дома в Константинополе, не обольщать ее рассказами о прекрасном будущем в Голливуде. Ей не хватало характера для этого будущего. Но, по крайней мере, она получила гораздо больше, чем многие подобные ей девочки, которым только обещают такие вещи! Следующая часть нашего путешествия должна была стать последней — опасное странствие по пустыне подходило к концу. Ночью, когда холодало, шатры стояли почти на милю вдоль дороги и дрожащие огни исчезали в бесконечности. Отовсюду доносился аромат еды, горячего древесного угля, запах экскрементов и мочи, специй и духов, животных и людей. Я думал, так ли выглядело путешествие в обозе на Диком Западе или, может, скорее большой перегон скота, который братья Бутч[1088] и Хопалонг доставляли в Мексику. Я видел такое по телевизору. Ковбойские фильмы — единственное зрелище, в котором осталась теперь настоящая мораль. Иногда я надеюсь, что среди прочих Хутов Гибсонов и У. С. Хартов обнаружится и мое имя. Но зритель уже слишком далек от моего времени. Теперь наша работа — больше не развлечение, она сдана в архивы общества. Люди, полагаю, хотят поскорее забыть старые уроки. Даже Джон Уэйн с готовностью играет «хранителя закона», похожего на Фальстафа[1089], осмеивая все, что он когда-то защищал, — нет, у меня не осталось особых надежд. Вестерн, без сомнения, превращается в громкое кровопролитие, в котором насилие заменяет техническое мастерство; теперь он напоминает детективные, экзотические и сенсационные романы. В это время года дневная жара казалась вполне сносной; для русских, привыкших к прохладному лету, мы очень хорошо переносили здешний климат. Мы из предосторожности надевали толстые головные накидки и прикрывали лица от яркого света и пыли, полностью следуя «арабской моде». Мы экономили на всем, даже на кокаине. Меня удивило, сколько качественного товара везет с собой Коля. Его это только позабавило. Он загадочно сказал мне, что горб верблюда — самая ценная часть животного. Неужели он убил эль-Хабашию из-за наркотиков? Коля рассмеялся. — Жирный извращенец поссорился с кем-то из своих деловых партнеров, видимо, с таким же мерзавцем, вот и все. Никто не станет о нем плакать. Но да, я думаю, что мы оба, вероятно, хотим поскорее сбежать, если ты это имеешь в виду. Я снова буду сам по себе, милый Димка. Я хотел бы освободиться от Ставицкого, и вскоре такая возможность представится. Но я могу и остаться его агентом. Все зависит от того, кто ждет нас в Эль-Куфре. А пока нас не станут долго разыскивать, даже если увидят наши следы. Они не узнают, кто мы. Новости разнесутся по всему преступному миру, как и должны, и люди, которые нас действительно знают, решат, что нас убили в этой заварухе. Видишь ли, там же было очень много трупов и настоящая бойня в конце. Бедный глупый сэр Рэнальф остался там; он держал чье-то грязное тело. Но Ститон пользовался щедростью эль-Хабашии много лет. Он, без сомнения, заплатит немалую цену за свои удовольствия. Я думал о фильме. Должно быть, отсняли целые мили пленки. Можно ли отыскать оригиналы? И сегодня где-то мой бедный, израненный черно-белый зад поднимается и падает между покрытыми синяками маленькими ножками, когда я исполняю сцену изнасилования; немногочисленные зрители могут даже подумать, что люди на экране — настоящие, могут даже захотеть узнать, как эти люди оказались там. Если бы кто-то посмотрел фильм сегодня, он стал бы смеяться при виде нашей эксцентричности. И я начинаю думать: не творение ли мистера Кодака и его коллег наше все более и более странное общество? Я сказал Коле, что не буду чувствовать себя в безопасности, пока мы не вернемся в Европу и не оставим все это позади. Я добавил, что у меня больше не было никаких документов. — Я сам выбросил твой паспорт, — сообщил он, — а свой заменил на более подходящий. Это увеличивает наши шансы. — Той ночью в нашей палатке он показал мне множество паспортов, которые нашел у эль-Хабашии. — Я искал деньги. Но эта собака была слишком хитра, чтобы держать там много наличных. По крайней мере, теперь у нас есть неплохой выбор имен, милый Димка. Я знаю в Танжере одного человека, который может творить с документами настоящие чудеса. Он надеялся добраться до Триполи, а оттуда на корабле поплыть в Танжер. Из Танжера, с новыми документами, мы могли отправиться куда угодно. Груда паспортов беспокоила меня, пробуждая десятки омерзительных воспоминаний, но я ничего не сказал. Я и впрямь по-прежнему не очень-то хотел разговаривать, даже после пяти недель, проведенных в пустыне, и обычно довольствовалсяусмешками и жестами, которые так нравились другим нашим путешественникам. Оставаясь наедине с Колей, я в основном сидел молча и плакал. Зачастую мой добрый и тактичный друг покидал палатку и прогуливался по пустыне, иногда на протяжении многих часов: он уважал мою скорбь. Зловоние и постоянная суматоха каравана стали привычными и уютными. Всегда были ссоры, обычно семейные, всегда были сплетни и насмешки, чтобы скоротать скучные часы, а пять молитв придавали дню желанную организованность, пока мы продолжали медленно ехать на верблюдах по враждебному миру песка, пыли и пронизывающих ветров, сильной жары и пересохших колодцев, неверных дюн и бесплодных вади; некоторым из нас эта дорога казалась подобием прогулки от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса — три тысячи миль пустыни, внезапной смерти и бесконечной скуки. Эти крайности породили неповторимую душу араба и сделали его таким неприятным врагом, всегда меняющим стороны из прихоти. Ведь араб — существо фаталистическое и практическое, привыкшее к тысячам лет неизменного деспотизма. Религия побуждает его подчиняться, традиции побуждают стремиться к власти вопреки жестокому деспотизму; ведь позор и гордость — полюса его жизни, а общество требует от него по меньшей мере эффектной демонстрации насилия. Израильтяне усвоили способ общения арабов. Они уже не пытаются говорить с ними на языке разума, увещевать, как увещевают Америка и Германия. Я вижу вокруг себя параллели. Не один я утверждаю, что мы в общественном отношении едва преодолели Средневековье, судя по широкому распространению идей простого народа. Философия — от Аристотеля до современности — сделала нас истинно великими, но она бессмысленна для человека с улицы, который лишь случайно извлекает из нее выгоду. Предоставленный самому себе, он бы радостно пил пиво, насвистывал простенькие мелодии и подсчитывал ставки, в то время как бесценные учреждения, за которые многие отдали жизни, институты, воплощающие самую безопасность рода человеческого, с шумом рушились бы у него на глазах. Я и впрямь с легкостью могу доказать, что средний ваххабит, при всей его неприятной набожности, может говорить о греческой и французской истории и культуре более внятно, чем любой современный британец среднего класса! Мы сближались со своими спутниками, и ощущение безопасности усиливалось, поскольку становилось все менее и менее вероятным, что нашу маскировку разоблачат (я даже слышал, как один хаджи утверждал, будто сражался вместе с моим «тарифом» в каких-то вади, память о которых сохранилась только в преданиях его племени). Я начал ценить свое положение. Моя голливудская жизнь, почти уничтоженная, могла снова вернуться на круги своя; я избежал ужасной участи, сохранив здоровье и рассудок, и я воссоединился с лучшим и старейшим другом. Мне требовалось время, чтобы залечить раны в сознании, чтобы стереть из памяти кошмары и вернуть обычную веселость и оптимизм. Приняв роль простака, я нашел для себя наименее сложную маску. Когда я наконец достигну Танжера (я знал, что это случится через несколько месяцев), я смогу обрести достойное место в цивилизованном мире. Мои калифорнийские деньги не мог снять со счета никто, кроме меня самого. И в то же время я привык к каравану. Я завел приятные знакомства, даже среди молодых женщин, которые доверяли идиоту намного больше, чем разумным юношам. Порой я просто не мог себе представить другой жизни, да и не желал ничего иного. Я стал особенно ценить красоту верблюдов и наслаждаться оттенками закатного неба, я с огромным удовольствием осваивал разговорный арабский, слушая рассказчиков, которые (иногда в сопровождении одного-единственного вьючного верблюда) брели с нами, заработав себе место в караване мешаниной из традиционных сказок (включая большую часть басен Эзопа), перепутанных новостей из других стран, обрывков дурных стишков и легенд. Невежественные и склонные к дешевым сенсациям, особенно сексуальным и спортивным, они служили по существу ходячими местными бульварными газетами. Для тех, кто предпочитал более интеллектуальную пищу, были немногочисленные шарифы, готовые обсуждать детали закона Корана, читать стихи из любимых книг и даже из самой Священной Книги. Наш караван становился все длиннее, поскольку к нему то и дело присоединялись небольшие группы; в конце концов ряды путников протянулись вдаль, теряясь на фоне красно-золотых дюн и долин бескрайней Сахары. Среди нас царило настроение, очень напоминавшее то, которое возникало на одесских бульварах в августовские выходные дни, — проникнутое добродушной решимостью максимально использовать часы, дарованные богом. В результате наши спутники стали казаться терпимыми и в основном честными людьми. Следовало подчеркивать эти достоинства. Все соглашались, что нет ничего хуже, чем неприязнь или недоверие в караване, среди людей, которые могли странствовать вместе в течение многих месяцев. Подобные настроения были потенциально опасными для всех. Компромиссы приходилось искать в каждой сфере жизни, от коммерции до выживания — даже до войны. В этом смешении бедуинов — торговцев зерном, суданских купцов и берберов-верблюжатников, племен и рас уникальных и столь же далеких друг от друга по развитию и культуре, как, к примеру, жители Бирмингема и Братиславы, среди людей, которые следовали разным обычаям и носили разные одеяния, — устанавливалась особая социальная стабильность, порожденная ощущением ответственности человека перед обществом. Этому могла бы позавидовать любая западная демократия. В мире кочевников почти не признавали королей или правительства; здесь царила естественная демократия, практически превратившаяся в анархистский идеал. К сожалению, такое совершенство, вероятно, достижимо лишь в пустыне или вакууме. Почему мы, живущие на Западе, полагаем, что имеем право определять, что прогрессивно, а что — нет? Мы создали силу, способную уничтожить ту самую звезду, вокруг которой мы кружимся. И, конечно, мы безумны? По крайней мере, именно в это я поверил тогда, прыгая и крича для развлечения усмехавшихся ваххабитов и хихикавших суданцев. Когда мы углубились в итальянскую Триполитанию[1090], к нам присоединилась малочисленная группа облаченных в синие накидки берберов-хаджи, возвращавшихся из Мекки; их кожа казалась трупно-серой на фоне одеяний цвета индиго, и они походили на мертвецов со стен какой-то королевской гробницы. У них были зеленые или голубые глаза, почти все эти люди прекрасно и с некоторым самодовольством правили верблюдами, как казаки правят полудикими лошадьми. Их длинные винтовки и копья были переброшены за спины; нагрудные патронташи и пояса — увешаны ножами, новейшими автоматическими пистолетами и английскими револьверами. Такими оказались знаменитые туареги, считавшие себя прирожденными повелителями Магрибской Сахары, Земли Запада. Возвращаясь в свои тайные города, они ехали в стороне от арабов и других берберов, упряжь их кремовых и золотистых верблюдов была украшена серебром и медью, на синей коже седел выделялись алые и белые кисти, расшитые одеяла идеально сочетались с костюмами. Оружие, яркий цвет, роскошь упряжи и одежды — все казалось предупреждением и демонстрацией силы. Это произвело желаемое воздействие на семитов, единоверцев туарегов, которые молили только о том, чтобы синие всадники не напали на них и не потребовали дани за свое аристократическое общество. Я исполнял выбранную роль с удвоенным энтузиазмом. Западные газеты часто писали о случаях, когда европейцы погибали от рук этих неуправляемых воинов пустыни, женщины которых, по словам арабов, выходили без вуалей и молились наравне с мужчинами. Женщины даже заседали в советах туарегов, а в отдельных племенах отправлялись с мужчинами на поле боя. Но синие воины покинули караван так же стремительно и так же внезапно, как присоединились к нему, исчезнув в пустыне задолго до того, как наши верблюды учуяли воду Эль-Куфры. Когда они удалились, красивый темнокожий старик в огромном белом тюрбане, который даже его ровесники считали архаичным, Ахмет эль-Имтейас, заговорил о туареге эль-Хадбани, неистовом воине, в течение многих лет наводившем ужас на всю Сахару, от Феццана[1091] до Тимбукту, и только в старости открывшем, что он — женщина, мать пяти сыновей, «супруг» многочисленных жен и любовниц. Ее сыновья властвовали в Сахаре, их тайный город располагался где-то в горах Такалакузет во французской Западной Африке. В рассказах эль-Имтейаса туареги обычно представали невероятными существами, воплощениями сверхъестественного зла. Их боялись, избегали и очень редко обманывали — когда в дело вступал какой-нибудь легендарный персонаж-умник (тот же Али Баба, которому, к примеру, удалось заставить раввина в Бенгази заплатить за новую мечеть). Я был, несомненно, единственным внимательным слушателем одинокого критика эль-Имтейаса, бледного курдского дезертира из императорской армии в Астрахани, который, вместе с разномастным отрядом самозваных охранников, стал полезным для каравана. Ни у кого из них не было лошади, достойной называться этим словом. Курд по большей части говорил по-арабски. Иногда, охваченный сильными чувствами и уверенный, что никто его не поймет, он ругался или возмущался по-русски. — Туареги, — сказал он в одном из таких случаев, — как и турки, управляют империей только потому, что арабы с подозрением относятся ко всяким переменам. Я пожалел, что разговаривать с ним небезопасно. Я мог бы заметить, что скептицизм и негодование делают его вполне подходящим кандидатом в Красную армию. Я мог бы предложить ему вернуться на родину, где приятели, такие же циники, его с готовностью примут! Учитывая его взгляды, было трудно понять, почему он покинул свою страну и присоединился к сотням и тысячам русских подданных, рассеянных по всей Европе, Азии и Америке, проникших и в Африку, и даже в Австралию, создавших диаспору поистине невероятных размеров. Курды всегда оставались недовольными ворчунами, как армяне, но было приятно слышать звук родного языка, пусть даже варварски исковерканного, — это помогло мне обрести душевное спокойствие. Коля, стараясь не выходить из роли отступника-сирийца, настаивал, чтобы я говорил только по-французски и по-арабски. Он утверждал, что очень важно убедить итальянцев. Величайшим утешением в моей почти бесконечно унылой жизни стала растущая привязанность к нашим верблюдам, особенно к прекрасной палево-золотистой самке, на которой ехал Коля. К сожалению, эта привязанность оставалась безответной. По непонятным причинам ни один верблюд в мире не испытывал ко мне теплых чувств — в лучшем случае они меня только терпели, а чаще всего — просто не переносили. Дважды, блуждая около одного из стад, я слышал предупредительный крик погонщиков и, развернувшись, видел животное, которое мчалось на меня, вытянув шею, обнажив большие желтые зубы и раздув ноздри; верблюда приводил в бешенство сам факт моего существования. Я подбирал полы рваной джеллабы и кидался по скалистой земле обратно к каравану, а люди кричали и выли, некоторые подбадривали меня, а некоторые — верблюда; их это немало развлекало, и они хохотали несколько дней подряд, вспоминая о случившемся. Мое унижение казалось им почти таким же забавным, как происшествие со старухой, которая села слишком близко к огню и сгорела заживо. Тщетные попытки ей помочь, в том числе и мои собственные, вызвали больше всего веселья. И все же на свой лад караванщики были добрыми людьми, и одному из приятелей русского дезертира дали несколько монет за то, что он избавил старую ведьму от мучений выстрелом из карабина. Они сделали бы то же самое для любого существа, которое не могло выжить в пустыне. Они ценили жизнь так же, как люди в цивилизованном мире, но в песках нет места сантиментам и болезненному самоанализу. Через некоторое время мы увидели широкую и неглубокую долину Куфры — разросшиеся поселения тянулись вдоль чудесной полосы голубой воды. Трепетали зеленые пальмы, блестели плитки на мечетях и домах, сиял сам оазис — все это в первые мгновения едва не ослепило нас. Я испугался, но Коля сказал, что оазис кажется ему вульгарным, хотя признал, что несколько месяцев назад мог лишь мечтать о подобном месте. Даже прекрасные здания в тени пальм и роскошные сады не производили на него впечатления. Коля усвоил аскетические законы пустыни, которые породили скромную красоту Альгамбры[1092]; теперь он предпочитал глубокие цвета, сочетания красного камня и желтовато-коричневого песка, бесконечно повторявшиеся, почти неизменные, как классическая египетская мелодия. Поселки Цуррук, Талалиб и Тойлет[1093] раскинулись по всей долине, на их бессчетных прилавках лежали сокровища Африки и Средиземноморья, обломки Европы и Америки. Над всем этим нависали изъеденные эрозией ливийские столовые горы, а кое-где над оплотами западной цивилизации развевались оранжевые, белые и зеленые знамена Италии. Эти современные римляне, не дождавшиеся поддержки от прочих христианских государств, пытались совладать с возрастающей угрозой Карфагена, которую они чувствовали — и которой боялись. Мы с Колей старались укрыться от пыли, поднимаемой итальянскими грузовиками и полугусеничными машинами, военными автомобилями и мотоциклами. Коле их присутствие казалось преступлением — как будто в святом месте началась шумная вечеринка. Поняв, что меня немного удивил размер гарнизона, Коля позволил себе осторожно пошутить: — Они, видимо, собираются присоединить к своей империи всю Центральную Африку. Они создадут новую Византию в Конго, как ты думаешь, милый Димка? Даже в тот момент, когда я еще не был так разборчив, замечания Коли показались мне сомнительными, но его уже занимали другие мысли. Друзья не смогли встретить его на дороге на Тум. Добравшись до центра Куфры и оказавшись напротив самой большой мечети и на удобном расстоянии от армейского поста, возбужденный Коля поручил мне смотреть за верблюдами и удалился по своим делам. Очевидно, он хорошо знал город и окрестности. Я сел в тени святыни и всякий раз, когда ко мне кто-то обращался, я просто усмехался и визжал, размахивая руками и повторяя: «Эль-Сахр! Эль-Сахр!» Верблюды, в основном по привычке, пытались укусить меня. Коля быстро вернулся; он был бодр и, очевидно, чему-то радовался. — Люди Ставицкого ушли. Сейчас они уже пересекли Красное море и прибыли в Мекку. Они везли слишком много контрабанды, и они не могли дожидаться меня. Просто превосходные новости, милый Димка! — Он широко улыбнулся. — Они услышат о моей смерти. Никто не станет преследовать меня. Ставицкий спишет убытки и все позабудет. Даже если он потом узнает, что я жив, мы успеем избавиться от нежелательных доказательств. Я вполголоса сказал Коле, что нас легко могут подслушать. Он пожал плечами и ответил по-английски: — Мы поедем с караваном до Эль-Джауфа, но нам нельзя рисковать; нельзя, чтобы нас узнали другие люди Ставицкого, идущие из Бенгази. Так что нам придется двигаться дальше — может, до самого Туниса. Мне требуется отыскать покупателя. Мы минуем Триполи и Танжер, поскольку там кто-нибудь обязательно заметит одного из нас. Это означает, что необходимо заключить сделку с местным торговцем. Полагаю, нам нужно идти в Зазару. Еще один оазис, существование которого отрицают представители властей! — Коле план явно нравился. — Оттуда, если потребуется, мы можем пойти на юг, следуя по тропику Козерога через всю Sahra al-aksa![1094] Даже я слышал, что этот маршрут — легенда. Дорогу много раз искали — но никто ее не нашел. Коля в ответ покачал головой и рассмеялся. — Здесь все знают о Зазаре и Дарб эль-Харамии, хотя никогда не скажут о них руми. Дарб эль-Харамия — древняя Дорога Воров. Это тайный маршрут работорговцев из Чада и французской Западной Африки через «вершину мира». Арабы утверждают, что это самая опасная дорога в Сахаре. Берберы, которым бесспорно принадлежит территория, называют ее Дорогой Отважных. — Его улыбка становилась все шире. — Разве не странно, Димка! У этой дороги тысяча имен, и все же ее нет ни на одной карте. Потому-то она безопасна для нас. Британцы и французы, к примеру, официально заявили, что ее не существует. Итальянцы утверждают, что они ее разрушили. Как это похоже на ответы людей, которые не могут с чем-то справиться! Зелен виноград, как сказал бы Ахмет эль-Имтейас. Я осмелился заметить, что все эти названия звучат не слишком привлекательно. Я больше не испытывал интереса ни к каким особенностям работорговли. До сих пор мы путешествовали в спокойной, дружественной компании. Но я видел воинов в синих накидках. Подобные им, несомненно, повстречаются на Дороге Воров. Как же они нас примут? — Они ценят отважных мужчин, — весело и беззаботно сообщил мне Коля. — В конце концов, нигде нет обозначенной дороги в Зазару. Мужчины сами должны отыскать путь. С помощью карты и компаса. — Он указал на старый кожаный чехол, висевший у него на поясе. Я восхищался своим другом, но, откровенно говоря, не особенно полагался на его навыки поисковика. Теперь я убежден: все было еще более безнадежно, чем он признавал. Как я догадался, он собирался украсть товар, представлявший огромную ценность. Ставицкий давил на Колю и шантажировал моего друга в Париже, возможно, угрожая сдать его чекистам, которые составляли тогда примерно половину эмигрантов в городе. Также возникла проблема с одной девчонкой из апашей[1095]. Я не осуждал Колю. Я и сам иногда не мог действовать как святой. Il fallait être idiot ou hypnotise pour périr dans ces fameux camps. Chacun a toujours être maître de son destin[1096]. Наше путешествие, которое, как мы надеялись, должно было закончиться в Танжере, теперь еще только начиналось. Мы знали, что нас ожидает не то неспешное и предсказуемое странствие, которым мы наслаждались до сих пор. Однако я уже научился уважать пустыню и никогда не доверять ей — это был единственный способ выжить. Пока еще мы не столкнулись с «настоящей» пустыней, той «мерзостью запустения»[1097], о которой говорил Леонард Вулворт, хотя, полагаю, он имел в виду Ур[1098]. Египет завоевал Финикию, но совершил ошибку, дозволив ее обитателям обосноваться в Ханаане. Египтяне верили, что «филистимляне» будут управлять евреями. И, конечно, они не подумали о Самсоне. Как это ни парадоксально, но, оставив позади одинокую цитадель христианского мира, мы присоединились к каравану высоких, одетых в белое странников, которые собирались совершить несколько выгодных сделок и вернуться в Чад богатыми людьми. Они с сильным акцентом говорили по-арабски и совсем плохо — по-французски. Но черные оказались приятными спутниками в те две недели, которые нам потребовались, чтобы достигнуть Эль-Джауфа, небольшого оазиса с привычными глиняными лачугами, ветхими храмами, рваными навесами и шаткими стойлами. Зато там обнаружились хвастливые евреи-торговцы, которые, судя по их относительно богатой одежде, были единственными зажиточными людьми в селении; Коля вел с ними какие-то дела. Он избавился от нашего самого старого и самого слабого верблюда, получив за него удивительную, почти невероятно высокую цену. Когда Коля показал мне кошелек с золотом, сердце у меня упало. Теперь туареги были просто обязаны напасть на нас. Я подслушал разговоры погонщиков и предположил, что мы пойдем по одному из маршрутов до Джербы[1099], а уже оттуда в Тунис, но Коля сказал, что это слишком опасно. Мы должны были убедиться, что нам не придется жить в страхе, когда мы возвратимся в Европу. А еще мы не могли рисковать и встречаться с французскими и итальянскими патрулями, которые постоянно следили за этими дорогами. Единственно возможный маршрут — выбранный им. Я спросил, насколько он уверен, что Дарб эль-Харамия действительно существует. В ответ он громко рассмеялся, но ничего не сказал. Потом он заметил, что я должен подготовиться. Меньше чем через неделю мы направимся в Море Песка, в путь к «Затерянному оазису». — Мы станем первыми белыми людьми, которые увидят его! Оставив себе хороших ездовых верблюдов и обменяв трех вьючных животных на двух новых и крепких (мы долго торговались с тубу, который привез верблюдов в Эль-Джауф на продажу), мы присоединились к следующему каравану, двинувшемуся прочь от оазиса, когда наши молитвы еще отзывались эхом среди обветренных холмов. Коля настоял на том, что нам необходимо прикрытие, поэтому мы везли ткани и одежду, большей частью ярких цветов, которые одобряли берберы. Теперь мы называли себя палестинскими торговцами одеждой из Хайфы. Как я и предполагал, оазис Зазара не был отмечен ни на одной карте, и почти все считали его мифом, но Коля, по его словам, получил информацию от арабского работорговца из Эль-Джауфа, который регулярно проходил там. Оазис располагался далеко в Море Песка, там была пышная растительность и сладкая вода; Зазару укрывал большой выступ скалы, и это место не удалось бы заметить ни с воздуха, ни с земли. — Работорговец поклялся, что там самая чистая вода в мире. Все в караване предполагали, что мы собираемся отправиться на юго-запад торговать с туарегами, и объявляли нас обоих безумными. Один суданский продавец специй сказал Коле, что теперь ему ясно: Коля был так же глуп, как его брат. «Разумеется, вы одной крови!» Он по-дружески просил Колю не идти на верную смерть. Я погрузился в особое состояние, из которого меня было почти невозможно вывести, — я спокойно ждал. Поняв, что не сумеет уговорить нас сойти с Дороги Воров, торговец пожал плечами и предоставил нас воле Божьей, но продолжил вести себя так, точно убедил нас остаться и отбросить все мысли о Дарб эль-Харамии. Таков был этикет караванщиков. Я снова поражался, какими разными оказывались все эти люди, созданные и вскормленные пустыней. Сахара — безжалостная пустошь из песка и скал, в которой кое-где встречаются мирные воды и пышные ветви кроваво-красного оттенка, когда зацветают пальмы и кактусы; и все же укромные уголки найдутся даже в самом захудалом и перенаселенном городке в оазисе. Вот основа чувства порядка, общего для всех кочующих пустынных племен. Снаружи угрожает Хаос, сомнительная Судьба. В племени, в лагере, в семье, в шатре должна царить гармония. Вот почему мусульманин делит свой мир на зоны войны и зоны мира. Мусульманская архитектура обеспечивает приюты спокойствия посреди городского шума. Мусульмане создали философию, которая помогает приспособиться к реальности, не отвергая фактов. Вот в чем принципиальная разница между христианином и мусульманином и особенно — между мусульманином и прозападным евреем, который так много сделал, чтобы изменить великий механизм нашего существования. Своими «социальными экспериментами» и своей теоретической физикой он мог привести нас только к самоуничтожению. Араб понимает это; вот что позволяет ему реалистически оценивать своего старого друга, еврея. В остальном у него больше общего с родственничком-семитом, чем различий. Вот единственное ироничное развлечение, которое можно выжать из суеверных расовых представлений араба. Он цепляется за эти суеверия с гордым безумием, хотя они — скала, о которую разбиваются даже самые прекрасные умы, стремления и желания. Подобно уроженцам Новой Гвинеи, он создал религию самоуничтожения и бесконечного поражения. Иногда этот араб кажется мне благородным в донкихотском сочетании здравого смысла и безумных, фантастических видений. Возможно, духовные корни Дон Кихота сокрыты в какой-то мавританской пустыне — там, чтобы выжить, нужно сойти с ума. Эти люди нежны и мягкосердечны. Они заботятся друг о друге. В конце концов, однако, пустыня оставляет слишком много возможностей для абстрактного мышления, особенно когда это касается внешнего мира. Пустыня неизбежно превращает тебя в отшельника — все твои мысли свободны и просты. Отшельник, проведший в пустыне десять лет, приходит на главную городскую площадь. Он говорит: «У меня есть сообщение». Люди собираются вокруг него. Они посылают своих друзей, чтобы те пригласили других друзей. Они ждут, терпеливо, но с возрастающим волнением. И когда все собираются там и почтительно умолкают, отшельник смотрит на них и улыбается. «Любите друг друга», — говорит он. Возможно, город усложняет проблемы. Город, в конце концов, сложный организм, прекраснейшее создание человечества. Как человеческая математика может описать город? Сложности города отражают сложности Божьего мира. И все-таки кочевник наделен ясностью видения, которой никогда не обретет городской житель. Именно поэтому наши города должны взлететь; таков лучший из двух миров. — Тут у тебя все не в плепорцию, Иван, — говорит миссис Корнелиус. — Как в любых больших местах. То же самое было, когда мы попали в Дартмур. Или в Йоркшире. Полутшаешь какие-то новостишки и тут же их раздуваешь. После этого я снова задумался об отношении к христианам, скажем, арабов-ваххабитов или о том, как казаки воспринимают евреев. Возможно, именно поэтому я чувствовал такую крепкую связь с пустыней. Степи или baria’d[1100] — неизменные картины всегда оказывают на разум сходное воздействие. Как я узнал от бедуинов, чем меньше видишь предполагаемого врага, тем более зловещим он кажется. Тогда, конечно, воображение делает свою работу. И вы не признаете врага, когда увидите его. К примеру, не все евреи — это пятая колонна коммунистов; не все христиане — лицемеры. Я сказал Коле, что, по-моему, в словах суданца есть смысл. Нам требовалось нанять проводника. Если не бишарина, то, может, кого-то из племени туарегов? Но он был непреклонен. — Путь никому не известен. Тропа, которая ведет к тропе, потеряна. Именно поэтому европейцы не сумели ничего найти. Когда мы все отыщем, то сможем устроить свой собственный маршрут. Тайна даст нам постоянное преимущество, если мы и дальше станем заниматься этим бизнесом. Потом он показал мне карту, которую ему помог нарисовать сенусит[1101]. Это место могло быть где угодно. Но Коля знал долготу и широту. — Как только доберемся до Зазары, у нас снова будет четкая тропа. И не одна. Большинство из них, конечно, направлены во внутренние районы. Дороги работорговцев ведут с континента — из французской Западной Африки и Рио-де-Оро[1102], из Абиссинии. Почти все темнокожие рабы теперь проходят через Зазару. Оттуда они могут направиться на восток: в Каир и Мекку, в Ирак или Сирию; на запад: в Триполи, Алжир и Марокко. Римляне не изобретали дорожную сеть, как не изобретали математику. Всем этим мы обязаны арабам. Правда, арабы изобрели алгебру. Правда и то, что Эйнштейн использовал алгебру, чтобы изобрести ядерную бомбу. Прекрасный пример сотрудничества арабов и евреев. Nicht wahr?[1103] И кто несет ответственность за победу примитивной десятеричной системы счисления над изысканной двенадцатеричной? Шумеры, чтобы восславить собственное интеллектуальное богатство, подарили нам гибкую математику дюжин, бесконечно более изменчивую и бесконечно более приспособленную к представлению и изучению мира. Но рациональные евреи с их десятками того и десятками этого, вечные спутники арабов, нашли способ уменьшить и упростить наши достижения. Нумерологический империализм одержал окончательную победу, когда Великобритания поддалась идиоту от математики, месье Диксу[1104]. Двенадцать гротов — пенс, двенадцать пенсов — шиллинг и двенадцать шиллингов — фунт. Вполне достаточная была бы «рационализация»! Что являла бы собой Англия без своей «нелогичной» валюты? Использование таких нестандартных исчислений развивает остроту ума. История этого столетия с жестокой иронией отметит, что наше поклонение Божественной Рациональности стало нашим наиболее нелепым безумием. Полагаю, во всем винить нужно французов. В больнице было то же самое. Тот психиатр рассказывал мне, что проводил эксперименты на кошках. Человеческий мозг, по его словам, походит на компьютер. О, конечно! Он имел в виду вот что — нашлась модель, которую он смог понять. И тогда он назвал модель Реальностью. Я напомнил ему простую истину: компьютер — изобретение человека. Разум человека, однако, — изобретение Бога; первый удобен ограниченностью, второй — непостижим в своем бесконечном разнообразии. И две шестерки лучше выражают это, чем половина двадцати. Мы отвергаем наследие первых великих строителей городов. Бог даровал им «двенадцать». Мы с тех пор превратили Его дар в «десять». С нашими нынешними образовательными стандартами мы скоро будем требовать «один плюс один плюс один», потому что забудем, как считать до трех. С помощью этих экономических систем мы все дальше уходим от Рая. Сможем ли мы когда-нибудь двинуться в обратный путь? Ночью, перед утренним призывом к молитве, мы покинули караван. Мы скрылись за скалами, едва начался рассвет и стала видна плоская даффа. Эта безводная и бесплодная равнина, коричневая, неизменная, однообразная, потом уступила место дюнам, которые стояли как застывшие во времени волны, напоминания о тех днях, когда по узким долинам текли огромные реки и все было зеленым и прекрасным, и на этих пышных землях стояли города людей, которые жили до эпохи Атлантиды, создавали законы, развивали великие искусства и пребывали в мире и покое. Теперь, обретя все это незаслуженное богатство, арабы легко могли снова сделать свою землю цветущей, увидеть, как она порастает деревьями и травой, — но, конечно, арабы превыше всего ценили пески. Теперь они стремятся к тому, чтобы создавать новые пустоши всюду, где это возможно. Нет, я не считаю, что все дело в мусульманской религии. Персия не станет тратить свое богатство на боеприпасы. Но арабы, как сказал бы капитан Квелч, и впрямь любят оружие. Вот почему, мне кажется, Коля спрятал под тяжелыми тюками с тканями «ли-энфилды». Под одеждой и бедуинским снаряжением мы носили револьверы Уэбли и еще по паре кинжалов на виду, чтобы показать, как говорили мозабиты[1105], что мы не избрали Путь Женщины. Бедуины с подозрением смотрели на безоружных мужчин; они, как американские ковбои, склонны были считать пистолет формой половой идентификации. Хотя некоторые ковбои боялись пускать свои игрушки в ход: такими старыми и в таком плохом состоянии те были. А еще, как мне рассказывал племянник Буффало Билла, тоже известный директор цирка, на старом фронтире единственным надежным оружием оставались нож, топор и лук. Лишь немногие ковбои носили приличные «кольты» или винтовки «Генри»[1106] и обычно не хотели брать их в руки, чтобы не привлекать внимания. Молодой Коди попросил меня вообразить, как трудно было предводителю разведчиков сохранять оленьи кожи, особенно белые, такими чистыми и яркими в погоне за буйволами. Требовалось постоянно менять их, чтобы облачение Щеголя Равнин никогда не покрывалось пылью. Да, Кастер брал с собой камердинера на Литтл-Бигхорн — так мне сказал Коди. Действительно, в одной легенде говорилось об этом камердинере, пережившем резню и сопровождавшем нового хозяина, Сидящего Быка, в знаменитом большом турне по Европе. А например, куда бы ни отправился Техас Джек, он всегда брал один фургон с оружием, а с костюмами — три. Кит Карсон, которого сиу звали Пе-хехаска (Золотые Завитки), как известно, по крайней мере дважды спасся от верной смерти при помощи одного только маникюрного набора. И, добавил Коди, паломино Джима Бриджера был самым холеным и чистым пони в целой Аризоне. Он дал мне взглянуть на изображения этих людей[1107]. Все оказалось правдой. Я никогда не мог представить, сколько внимания великие герои американского фронтира уделяли личной гигиене и внешнему виду. Теперешние космонавты — настоящие наследники былых обитателей равнин. Да, у них многому могли бы научиться те нынешние мальчики, которые приходят в мой магазин и жалуются, потому что я сначала должен почистить пальто, а затем уже выставлять его на продажу! Меня познакомили с Коди, когда я еще был в Голливуде, и он пообещал, что при следующей встрече представит меня парикмахеру Пекоса Билла[1108]. К сожалению, вмешалась Судьба. И я волей-неволей отправился в Египет. А когда мы с Коди повстречались несколько лет спустя, я узнал, что парикмахера скоро убил разочарованный клиент в «Кастрюльной ручке» [1109]. Достаточно только взглянуть на мистера «Грязные Спагетти» Иствуда, чтобы понять, каковы теперешние стандарты! А нам в пустыне, я думаю, это помогало сохранить чувство собственного достоинства. Неважно, насколько изнурительным был переход и насколько кратким — сон, мы в любом случае поддерживали приличный внешний вид. Ни на равнине, ни среди дюн мы не заметили никаких признаков дороги и продолжали двигаться, полагаясь лишь на сомнительные указания Колиного компаса, пока мой друг корил себя за невнимательность, которую он проявлял в кадетском корпусе на занятиях по ориентированию, и проклинал британцев за отсутствие таланта к картографии. Теперь мы вроде бы продвигались к югу, к линии тропика. Коля был уверен, что там мы должны отыскать Зазару или, по крайней мере, одну из дорог работорговцев, которая приведет нас к оазису. Следуя бестолковым и противоречивым советам друга, я чувствовал себя брошенным на произвол судьбы и уязвимым. Однако я восседал на верблюдице с новообретенным фатализмом, пока Дядя Том послушно следовала за Колей вверх и вниз по бескрайним застывшим просторам красного Моря Песка. По каким-то причинам эту самку прозвали Дядя Том — точнее, Дядя Тхум, потому что арабы умеют произносить «Т» немногим лучше, чем мы произносим этот невнятный горловой звук, который они используют вместо «К» (русским он более привычен, чем британцам). В глубине души я все еще чувствовал, что спасаюсь бегством в Землю мертвых, но не видел в бескрайнем мире вокруг никаких следов потенциальных врагов. Я был спокоен и доволен; мне хватало собственного общества. Мне больше не приходилось прыгать и пронзительно вопить, чтобы защитить свою жизнь. Сначала я также радовался освобождению от бремени пяти ежедневных молитв; но, парадоксальным образом, по мере того как мы преодолевали все новые дюны и скорость нашего передвижения замедлялась, мне стало не хватать привычной рутины обрядов, и я с удовольствием возобновил прежнюю практику. Теперь я понял, что обрел в караване особое счастье и безопасность, и тосковал по нему, как по родному дому. Я молился, чтобы наше странствие по бездорожью продлилось недолго, чтобы мы скоро повстречали другой большой караван и отправились с ним в Магриб. Я спросил Колю, кто еще бывает в Зазаре, кроме работорговцев. — Еще контрабандисты наркотиков и оружия, — ответил он. — Мы сможем ненадолго забыть о предубеждениях. Неплохо, да? Я возразил, что пока не считал своими настоящими товарищами людей, которых он описал. Коля в ответ усмехнулся, упомянув о замечательном благочестии, царившем в «монастыре» Би’р Тефави. Я инстинктивно чувствовал, что его острый язык скрывал, как говорится, мягкую совесть. Я не стал больше мучить его. В жилах моего друга текла кровь Романовых. Общение со всякой шушерой нравилось ему не больше, чем мне. Я заметил, что у нас уже достаточно денег, чтобы оплатить дорогу до Генуи или Гавра. Оттуда мы могли возвратиться в Америку, где меня дожидалось небольшое состояние. Коле оставалось только напомнить, что теперь я был испанским гражданином, Мигелем Хуаном Гальибастой, жителем Касабланки, родившимся в Памплоне католиком. Коля показал на паспорт, который я выбрал. Я ответил, что предпочел бы свой американский паспорт и готов рискнуть. Покинув наконец безопасный караван, мы едва не поссорились. Возможно, таким образом мы освобождались от чрезмерного напряжения, поняв, что, если расстанемся сейчас, угроза гибели значительно возрастет. Путешественники очень часто умирали в какой-нибудь миле от колодца или источника, сбившись с пути. Должен признать, что переход из американского подданства в испанское казался мне не слишком выгодным, тем более что я никогда не ступал на землю своей «родной» страны. Я спросил: как «Гальибаста» снова превратится в «Питерса» в Голливуде? Ситуация с подтверждением личности становилась все сложнее и опаснее. Мир следил за американским кинозвездами. Как актер мог притвориться владельцем марокканского кафе? Коля сказал, что я волнуюсь из-за пустяков. Я вернусь в США с рассказом о пленении, пытках и спасении — и тотчас стану настоящим героем. Моя карьера будет обеспечена. Я смогу совершить турне, повествуя о своих приключениях. Я сказал в ответ: «Надеюсь только на то, что о моих приключениях не станут снимать фильм». Теперь мы носили накидки, защищаясь от мелкой пыли, которую поднимал неприятный непрекращавшийся бриз. Пока мы еще не сталкивались с настоящей песчаной бурей. Суданец предупреждал, что надвигается сезон штормов. Вот, заметил я, очередная причина, чтобы выбрать другое время для поисков Затерянного оазиса. Арабы обожали такие истории. У них часто появлялись книги типа «Где отыскать погребенное золото Египта», «Сладкие колодцы Нубии» и так далее. Арабы верили им, как американцы верили «Нэшнл инквайер», а австралийцы — «Сан»[1110]. Они рассказывали истории о мужчинах, которые по глупости отправились на поиски этих мест. Даже назрини с их шумными машинами, как говорил суданец, много раз пытались достигнуть Зазары — и терпели неудачу. Я чувствовал, что вокруг нас собираются призраки, и думал о том, сколько костей сокрыто под толщей песка. Сколько душ, подобно росе, покинули иссушенные солнцем тела мужчин, которые рискнули всем лишь ради того, чтобы доказать истинность легенды? Я вспомнил тающие снега Украины во время гражданской войны, ту белую чистоту, скрывавшую подтверждения миллиона трагедий, миллиона тяжких преступлений. Возможно, мы ехали по останкам всех путешественников, которые погибли здесь, в Африке, со времен Атлантиды до наших дней? Пепел тех мертвых японцев пролетает через Анахайм[1111] и оседает на гигантских ушах Плуто; пепел греков, египтян, арабов и евреев носится средиземноморскими ветрами; пепел из Конго, Индии и Китая парит над поверхностью океанов и континентов. Так много смертей, так много умерших… Каждый вдох, который мы делаем, несет клетки других людей к нам в легкие, в кровь, в мозги. Мы никогда не сможем освободиться от наших предков. Возможно, в пустыне нет больше ничего другого. Я погрузился в особый транс, то состояние между вечным сном и вечной настороженностью, когда человек постигает природу бытия и смысл Божьих велений. Я вытряхивал песок из ноздрей и иногда сплевывал. Я не хотел плеваться. Я даже не хотел расставаться с мочой или потом. Я инстинктивно пытался сохранить любую жидкость, неважно, насколько вредную; я сознавал, что она, несомненно, пригодится в безводном мире. Дюны — в этой части Сахары гигантские красновато-коричневые насыпи — ярко светились в лучах солнца, и по ним струились небольшие серебряные реки, вечно маня иллюзией воды; если после всего этого увидишь настоящую воду, то уже не станешь обращать на нее внимание. Именно поэтому многие искатели приключений находили в пустыне смерть совсем рядом с оазисом. Однажды мы миновали носилки с верблюжьими и другими костями; оставшиеся на песке следы чьего-то лагеря, которые никто не тревожил, возможно, в течение столетия, породили у нас предчувствие медленной смерти. И снова я подумал о мумифицировавшихся трупах, о сохранившихся телах всех тех, которые искали Зазару, но так и не нашли. И с чего нам рассчитывать на снисхождение, если Бог определил, что звайа[1112] и тубу, коренные обитатели этих мест, обречены погибнуть в тщетных поисках? Другое мое опасение, возможно, более насущное, тоже было связано с сомнительной способностью Коли ориентироваться. А если мы не просто потеряемся в пустыне, а развернемся и снова, к общему недоумению, столкнемся с тем самым караваном, который покинули так осторожно и вежливо? Наши спутники с восторгом отнеслись бы к тому, что мы готовы принять все последствия своего решения. Но у них возникнут подозрения, если мы вернемся без каких-либо причин. Я начал сочинять убедительную историю о нападении большого отряда туарегов, но тут Коля прервал мои размышления немного банальным замечанием, что мы с тем же успехом могли бы идти по пескам Марса. Я заметил, что, судя по рассказам мистера Уэллса, даже марсиане не испытывали особого желания жить на родной планете! И к чему нам дольше необходимого оставаться в мире, где ни один нормальный человек — и даже монстр — не захочет провести и дня? Все, что я говорил, веселило моего друга. В конце концов его смех стал настолько частым и настолько громким, что я пришел к выводу: Коля слишком долго находился на солнце. Вскоре я осознал, что мой бедный друг потерял хватку — он, вероятно, был безумен уже в течение некоторого времени. Как ни странно, я связал свою судьбу с одержимым безумцем! На пятый день даже небольшие далекие утесы исчезли или оказались ничем не примечательными. Мы бродили по бескрайней пустоши и могли ориентироваться только по солнцу. Коля визжал и ревел, неловко сидя на верблюде, иногда прерываясь, чтобы исполнить несколько тактов из «Лоэнгрина» или «Тангейзера»[1113], пока моя милая Дядя Том ворчала и огрызалась, демонстрируя исключительно дурной нрав, как будто ощущала, что мы никогда больше не увидим воды, — а я вновь примирялся с мыслями о смерти. Пыль сменилась песком, который постоянно бился в наши израненные лица. Каждый раз, когда я осмеливался высказать свои сомнения вслух, Коля разражался смехом, сообщая, что мы еще на территории сенуситов; туареги не посмеют напасть на нас здесь. Я обрадовался бы кому угодно, даже туарегу, лишь бы он смог вывести нас обратно на знакомую дорогу. Коля сказал, что мы теперь бедуины и поэтому должны думать как бедуины, предавая свои души в руки Аллаха. Он напомнил мне, что именно так поступил Вагнер, — и проорал какую-то арию из «Кольца…». Я прошептал, что готов довериться Аллаху, а не несчастному поющему идиоту. Мне следовало остаться в Куфре и подождать, пока не появится караван, движущийся к Гату… Но, конечно же, я понимал: без защиты Коли я стал бырабом сенуситов. (Сенуситы были известны справедливостью и вместе с тем строгостью и придерживались системы наказаний, заимствованной из Корана. Поэтому их рабы славились честностью и округлостью форм.) Я по-прежнему был благодарен Коле за спасение из Би’р Тефави, но его удивительная самонадеянность, без сомнения, возникшая по причине аристократического воспитания, вызывала все возрастающее беспокойство. Я даже не пытался обсуждать с ним эти проблемы. Он прокричал какую-то фразу из «Летучего голландца»[1114]. Поскольку Коля продолжал понукать свое животное, я позволил собственной верблюдице последовать за ним, хотя начал сожалеть об этом, когда друг стал повторять длинные однообразные стихи на старославянском, отрывки народных песен и греческих богослужений, поддерживая силы запасами наркотиков, которые он прежде мне не показывал. Без сомнения, он собирался продать их в Зазаре или каком-то другом мифическом оазисе. В первую ночь два навьюченных верблюда столкнулись, и мы лишились одного бурдюка с водой. У нас осталось еще несколько и пара оловянных фэнтасов[1115], привязанных к горбам животных под снаряжением и товарами. Мы могли продержаться по крайней мере неделю. Но происходящее угнетало меня. Ни один человек на земле не может прожить без воды больше четырех дней, тогда как верблюду, выносливому, но совсем не трудолюбивому, никак нельзя доверять, если речь идет о выживании! Некоторые, пусть и болезненные с виду, могли тащиться в течение многих недель, даже лет, без малейшего намека на усталость; другие, молодые, здоровые и крепкие, могли повалиться и умереть без всяких явных причин — их сердца просто останавливались. Я уверен в том, что верблюда, благородного и независимого, всегда унижала отведенная ему роль — роль носильщика человека и его вещей. Едва ли не единственный значимый выбор, остававшийся ему самому, — выбор времени смерти. Много дней мы провели в безжалостной синеве, под солнцем, которое требовало все большего почтения к себе, под звездами, которые появлялись в необычайной, утешительной темноте ночи и были разными и неповторимыми, и свет их менялся с каждым часом; мы преодолевали дюны, скалистые выступы и выжженные вади, мы тащились на запад по самым открытым участкам Сахары, куда не добирались другие путешественники, и уходили все дальше от нанесенных на карты районов — казалось, мы по нелепой случайности перенеслись на какую-то иную планету! Как ни странно, я наконец перестал бояться. Пески, наши животные, небо — все сделалось изумительным и прекрасным в моих глазах, когда я обрел самообладание, отличающее всех истинных джентльменов пустыни. Карл Май писал об этом. Я остался наедине со Смертью и с Богом. Моя судьба уже предначертана Аллахом. Я доверял мгновению. Я наслаждался мгновением. Я мог свободно блуждать по земле теней. Я примирился с судьбой. Я обрел бессмертие особого рода. И Анубис был моим другом.Глава двадцать вторая
В пустыне Бог пришел ко мне снова, и я больше не страшился Его. Мы страдали вместе, сказал Он. Теперь Он принес мне успокоение. Я не осознавал, как хорошо усвоил привычку к молитве, к погружению в замысел Творца, к преклонению перед Его планами, в которых отведено место и мне. Я был убежден, что заблудился, что нам суждено умереть среди этих бесконечных дюн, но мы тащились вперед, то и дело теряя опору на мягком песке. Бог расправил мне плечи и очистил глаза. Он вернул мне достоинство, похищенное тем отвратительным созданием, воплощением неправды. Из заднего окна моей квартиры виден большой подстриженный вяз, который городская изоляция защитила от голландской болезни, уничтожившей его собратьев. Он стоит как торжествующий гигант, опустив голову, кора его странных мускулистых рук мерцает в туманном свете, узловатые деревянные кулаки поднялись, словно он одержал победу, а другая толстая ветка торчит снизу, будто застывший член. Этот очаровательный монстр рос на том же месте и сто лет назад, до того как спекулянты додумались выселить цыган и свиноводов, избавиться от кожевенных заводов и беговых дорожек и расчистить путь для представительного Лондона среднего класса, который отыскал здесь новые удобства и чувства, сохранив пару деревьев в память о старых добрых временах. Теперь стойкий вяз стал для меня самым очевидным символом Бога и доказательством моей веры в наше вечное искупление. В пустыне перед смертью легко понять, как можно поклоняться Солнцу, видя в нем воплощение Бога, приближаясь тем самым к постижению идеи Бога-единства. Теперь не так уж трудно сочувствовать древним славянам, франкам и готам, которые поклонялись Богу в форме дерева. Что может быть лучше? Поклоняться Богу в форме банка? Или даже поклоняться Ему в форме храма? Я полагаю, что становлюсь кем-то вроде адвоката дьявола. Но я никогда не скрывал симпатии к пантеизму. В городе порой есть только церковь или общественное здание, в котором можно найти спокойное место для молитвы, но бедуины могут создать уютное укрытие практически из ничего. Я много лет предупреждал весь христианский мир о том, что ислам несет варварскую кровь Карфагена в самые вены Европы и Америки. И все-таки я не враг рожденных в пустынях арабов. В своей пустыне бедуин — принц, образец благородного достоинства и мужественного смирения. Однако в смертоносном мире построенных на нефти эмиратов традиции абсолютной самоуверенности, с помощью которых он выжил (слепо полагаясь лишь на удачу), сделают его общим врагом. Благородный бедуин становится параноиком-аристократом. Великие традиции сенуситов, которые принесли в Ливийскую пустыню закон, приносят в Каир только кровопролитие и хаос. Евреи и арабы всегда недовольны властью. Вот что делает их такими опасными врагами. Сегодня модно насмехаться над философией апартеида, как будто она просто сводится к рассуждениям о черных и белых. В течение многих лет арабы успешно воплощали эту философию на практике. И не возникало никаких проблем, пока они сами не начали нарушать собственные правила. Молодые люди сегодня используют подобные слова, точно притупившееся оружие. Они понятия не имеют об убеждениях, стоящих за словами. Пока я не приехал сюда, я не знал, что британский «городской крестьянин» так же полон суеверий, лжи, предубеждений, упрямства, фанатизма, самоуверенности, низости и хитрости, как и любой обитатель подворотен Порт-Саида; но он может быть таким же добросердечным, общительным, суровым на словах и любезным в делах, как его арабский собрат. Как я говорил старшему мальчику Корнелиусу, если использовать принципы аристотелевской логики, то мы поймем: единственное, что отличает британца от бербера, — бербер чаще моется. Но парень ничему не учится. На прошлой неделе он признался, что никогда не слышал о Дж. Г. Тиде[1116], который знал о Британской империи больше Киплинга! Мальчик с таким презрением относится к своему наследию. Я говорил ему, что стыдиться нечего. Британия могла бы снова стать великой империей. Он лишь посмеялся надо мной. Он насмехался над прекраснейшими традициями своего государства. Подобная непочтительность не вызвала бы возражений только в самой упадочной, декадентской стране. Он говорит, что ненавидит не меня, а то, что я представляю. Я говорю, что представляю себя и представляю Бога. И все это ты ненавидишь? Я не понимаю, что он здесь находит забавного. Миссис Корнелиус не раз намекала, что его отец был безумен. Просто нельзя поверить, что мне исполнилось всего сорок, когда родился этот парень. Два поколения. Миссис Корнелиус настаивает, что в их возрасте и я был таким же неприятным. Я, во всяком случае, ничего подобного не замечал. Saa’atak muta qadima[1117], как говорят в Марракеше. Она защищает этих детей, и все же они принесли ей огромное разочарование. Пару недель назад по телевидению показали несколько секунд из «Аса среди асов». Мы были там, в этой сцене: Макс Питерс, Глория Корниш и Лон Чейни — яркое воспоминание, прекрасный ансамбль. Я позвонил на «Гранаду»[1118], чтобы спросить, позволят ли мне посмотреть весь фильм. Они сказали, что получили фрагмент из Америки. Я услышал название, что-то вроде «Когда Голливуд был королем» — и больше ничего. В Голливуде теперь есть много людей, которые скрывают правду о немых фильмах. Если бы они этого не делали, публика вскоре усомнилась бы в их таланте, их творческом потенциале! Нам сейчас разрешают только смеяться над прошлым или забывать о нем. Вот как нами управляют. Они заменяют серьезную драматическую музыку веселой и нелепой. Я знаю их приемы. Они никого не уважают. Немой фильм был редкой формой искусства. Звуковые картины помогли ленивым режиссерам и второсортным актерам, а большие бюджеты разрушили телевидение. Можно немало сказать в защиту полезных, дисциплинирующих ограничений. Как отвратительно они поступили с Гриффитом — и со всеми нами! Причина, по которой я не смог продолжить карьеру в кино, состояла в том, что я оставил Голливуд звездой немых фильмов, а вернулся в мир, где единственным языком, дозволенным актерам, стал американский английский. И сионисты еще заявляют, будто им ничего не известно об империализме. Они завладели всем! Их стремления отражаются и в фильмах. Посмотрите, как в Голливуде все преданы Киплингу. Техасцы ставят книги Киплинга на второе место после Библии. Евреи — истинные хамелеоны. Арабы скажут вам то же самое. Достаточно лишь присмотреться к Би-би-си. Там заправляют евреи. Я только вчера беседовал с Десмондом Рейдом[1119], сценаристом, в «Хеннеки»[1120]. Он работает в этой сфере. Он со мной согласен. — Дерьмовые левые жидки, парень! — Его слова, не мои. Он пишет триллеры. Я думаю, он работал над «Диком Бартоном, специальным агентом»[1121]. Он говорит, что я неплохо помогаю ему по части идей. Рейд был первым профессиональным автором, который порекомендовал мне предложить свои мемуары для публикации. Хотя в пятидесятых именно он занимался всеми книгами о Секстоне Блейке, он никогда не знал Дж. Г. Тида лично. Очевидно, Тид внезапно умер в госпитале от тропической лихорадки, прежде чем я приехал в Англию. Я сказал Рейду, что этот человек даровал моей душе покой в самые трудные, напряженные времена. Тид знал о мировой политике пару важных вещей. В отличие от «Кинг-Конга» Уоллеса[1122], который письменно выступал против евреев и анархистов, но был, вероятно, тайным сионистом и масоном, Джордж Гамильтон Тид глубоко, как постранствовавший по всему миру человек, понимал истинно английские ценности и осознавал, что англичанин должен всегда воплощать эти ценности, служа примером для окружающих. Рейд говорит, что теперь уже нельзя выражать такие честные, здравые суждения. Его собственные телевизионные работы, по словам Рейда, страдают от цензуры подобного рода. Рассуждения о том, что у нас есть свободная пресса, — это сущая ерунда, говорит он. Во многих отношениях пресса в нацистской Германии была гораздо свободнее, чем в современной Великобритании. Наше фото появилось в «Филм фан»[1123]. Там заявили, что это Ричард Дикс и Элизабет Аллен[1124], но их картина была просто римейком. Дикс никогда не мог отрастить усы. Как это типично — их нисколько не интересует собственная история. У меня есть вырезка. Я им все показал. «„Прекрасная операторская работа и воздушные столкновения, которые обеспечивают острые ощущения“. — „Вэрайети“. Питерс и Корниш всегда убедительны». — О, пусть прошлое хоронит прошлое! — Сэмми, этот жирный Ромео, бродит вокруг миссис Корнелиус и утверждает, что он ее старый друг из Уайтчепела. (Вот что британцы называют «толерантностью», а все прочие — атрофией морали. Из-за подобного безумия гибнут империи.) Почему она позволяет ему приходить? У этого человека нет ни ума, ни души. Я первый соглашусь с тем, что мораль должна измениться, чтобы соответствовать теперешним условиям. Мораль араба-бедуина действенна в пустынях и оазисах, так же как мораль японского самурая или русского казака действенна в его родном мире. Я говорю, что мораль ограниченна. Добродетель — безгранична. Выступать за новую мораль — значит не поддерживать хаос, а признавать перемены. Мне больше семидесяти, и даже я понимаю это. Возможно, опыт научил нас тому, чего никогда не смогут осознать выкормленные с ложечки хиппи. Да, это, конечно, уже совсем не та Британская империя, которой я с детства привык восторгаться. В глубоких пещерах под дюнами могли появиться и сгинуть сто империй, оставив после себя лишь тайну нескольких непонятных слов, возможно, обрывок легенды и обломок колонны. Становилось очевидно, как ничтожны человеческие устремления. И я был уверен, что очень скоро наши иссохшие трупы скроются в той же геологической бездне. Поскольку спасение казалось маловероятным, я стал настоящим фаталистом; подобно бедуинам, я примирился с неизбежностью конца. Именно так выживают некоторые из нас. Другие, когда остается мало воды, а они сбиваются с дороги в нескольких неделях пути от ближайшего населенного пункта, отгораживаются от реальности ради спасения сознания и погружаются в бред и безумие — этот путь избрал Коля. Теперь он уверял меня, что мы приближаемся к Зазаре, но отказывался показать компас. «Не нужно тебе все запутывать, милый Димка». В любом случае, говорил он, мы покинули материальный мир и вскоре войдем в золотое чистилище, которое простирается пред небесными вратами. Нам нечего бояться. Он угощал меня своим превосходным кокаином. У моего друга было не меньше килограмма порошка. В итоге единственным нормальным спутником, который у меня остался, оказалась ворчливая верблюдица, Дядя Том. Коля продолжал развивать свои навязчивые идеи — он выдумал теорию, что Вагнер не только испытывал влияние арабской музыки, но и сам был по крайней мере на четверть бедуином. — Мы знаем, что он пережил духовное потрясение в пустыне. — Коля напел несколько нот из «Парсифаля». Да, всегда печально, когда добрый друг страдает от банальной паранойи. Хотя воды мы пока не нашли, Коля пил жадно, расплескивая последние капли наших запасов. Как он утверждал, кокаин, который мы потребляли, улучшался в организме пропорционально объему выпитой жидкости. Я радовался только тому, что Коля, по крайней мере, так же щедро делился водой с верблюдами, которые теперь находились в лучшей форме, чем мы. К тому времени Коля стал постоянно нюхать кокаин и засыпал только после приема морфия; глаза у него покраснели, а кожа под загаром побледнела. Он больше не брился и не следил за собой. Он легко испражнялся там, где его заставала нужда, прямо на песке, напевая отрывки из «Гибели богов»[1125] в подтверждение каких-то безумных размышлений. — Так он поет о новом порядке, мой милый Димка. О том, что Любовь, а не Сила должна управлять миром! Идеализм и музыка объединились. Мы будем поклоняться не какому-нибудь сектантскому Старику, а универсальному, всеобъемлющему, всеприемлющему Существу! Разве можно назвать этого гения язычником? Нет! Любовь к Богу показывает, что Вагнер — потомок сенуситов! Он вернулся домой, в пустыню, и обрел здесь истину, которую искал. Но он отказался от христианского благочестия и отверг еврейскую сентиментальность так же легко, как и арабский фанатизм. Вот почему, любимый мой Димка, он вернулся к великим богам нашего общего прошлого. К силам, которые не может сдержать современная теология! Отвергайте эти стихии, если хотите, — но именно они и даровали Вагнеру удивительную, тончайшую технику, необычайную способность сплетать повествование и лейтмотивы. Так он стал непревзойденным новатором. В пустыне Вагнер постиг истины, которые вот-вот могли позабыть наши соплеменники. Он хотел узнать, кто в действительности был его отцом. Он стал Парсифалем, самым чистым и святым из рыцарей. Он стал Саладином, самым благочестивым из вождей. Он стал Игорем, так же как становился Зигфридом, Артуром, и Шарлеманем, и эль Сидом. Все наше великое общее наследие, наше средиземноморское наследие возродилось волей Вагнера. А почему? Потому что он вернулся к колыбели нашей культуры. В то место, где расы встретились и породили цепную реакцию, которая еще не закончилась. Эль-Фахр — так они назвали Вагнера. Мудрец. Старые боги умерли, и теперь править должен человек. Но готов ли он принять на себя ответственность? Разве ты не слышишь эхо бедуинского барабана и мавританской гитары в последней арии Вотана[1126]? И он знал своего еврея. Подобно предкам, Димка, он знал своего еврея. Но это не сделало его фанатиком. Я не стал спорить с ним. Мой друг был одержим. Более суеверный человек, возможно, решил бы, что в князя Николая Петрова вселился джинн, но я не припоминал ни одного момента, когда подобное могло бы случиться. Теперь настал мой черед плакать о друге, безумном друге. И в самом деле, посреди бескрайних равнодушных песков, когда наше одиночество нарушали только пульсирующий шар солнца и мерцающие огоньки звезд, — я рыдал о нем. Я оплакивал его. Я просил Небеса вернуть ему разум. Я всхлипывал, и я кричал. Я умолял всех богов, которые могли меня услышать, я ждал от них ответа на молитвы. Но мои вопли были обращены к безграничным глухим небесам. В такие времена я завидовал атеистам. Они отрицают существование Бога. И все же иногда, как и в те дни, мне приходило в голову, что Бог наверняка существует, но Он ни в коем случае не может походить на тот приятный образ, который мы сотворили. Нам запрещают творить Бога по нашему подобию — ибо Бог, совершенно определенно, не Человек. Бог — это Бог. И все-таки Бог может проявлять к нам, Своим созданиям, не больше интереса, чем кошка, которая быстро становится равнодушной к собственным котятам. Мы сами предполагаем, будто Бог заботится о нас. Именно это мы называем Верой. Вот надежда, за которую мы цепляемся. Такие мысли никак не могли уменьшить мою печаль и беспокойство, и я стонал все громче. Однажды утром Коля ушел, бросив своего верблюда и все товары. Он, как говорят бедуины, «удалился в пустыню». Я звал его. Я знал, что нельзя покидать это место, куда он мог, по крайней мере, по своим следам вернуться назад. Я целый день ждал, выкликая его имя, пока обожженное горло не отказалось мне повиноваться; оно издавало лишь слабый хрип, даже несмотря на то что мои силы поддерживало умеренное количество кокаина. Коля не вернулся. Однажды мне показалось, что я услышал мотив «Летучего голландца», но это была, несомненно, галлюцинация. Я скорбел о друге и глядел на горизонт, где блестели коричневые дюны, застывало в неподвижности синее небо и жгло беспощадное солнце. Я никогда не чувствовал себя таким одиноким, и все же я не испытывал страха. Хотя я и волновался о друге, который, в конце концов, спас мне жизнь, но в тот момент я чувствовал огромное облегчение, избавившись от бедуинского Вагнера. У меня был запас воды на три дня, но Коля забрал с собой компас. Все, что я мог сделать, — выстроить верблюдов в ряд, заметить, где восходит солнце, и идти на запад в надежде, что я по крайней мере смогу найти би’р, песчаное углубление, в котором удастся отыскать воду. Я вытащил из-под тюков «ли-энфилд» и зарядил ружье. Я всегда стрелял метко, но мне не доводилось в одиночку отбиваться, скажем, от орды гора. Я понукал Дядю Тома, орудуя длинным кнутом, который Коля бросил вместе с прочей амуницией, а другие верблюды, не видя старшего самца, подчинились стадному инстинкту и плелись за нами. Я без труда вел их по дюнам и так же легко стреножил их на ночь. Казалось, верблюды чувствовали опасность и сами старались держаться вместе. Дядю Тома я награждал ее любимым лакомством — жевательным табаком «Редман», купленным в Эль-Куфре. Умный верблюд — один из величайших даров Божьих. Это все, что нужно человеку в пустыне. И если верблюдица красива, как моя Дядя Том, она — бесконечное напоминание нам, что мы важны для Бога не больше и не меньше, чем любое из Его творений. Как Божьи творения, мы всегда чувствуем некую близость к животным — и они отвечают нам тем же. Симбиоз, истинная дружба между человеком и животным — это так же прекрасно, как любые человеческие отношения, и так же полезно. Вот еще один урок, который можно выучить в пустыне. Бог не запрещает подобного. Библия содержит великое множество примеров такой любви между человеком и его дальними родичами. Ной меня бы понял. В пустыне между человеком и Богом нет никаких преград, кроме самообмана человека. Если ты не признаешь власти Бога, ты обречен. Есть простые притчи, которые можно понять только в пустыне. Здесь ты теряешь себя, но обретаешь Вселенную. Я молюсь обо всех душах, обо всех невинных душах, которые погибли во время войны. Я молюсь о том, чтобы они обрели сладостный покой пред ликом Иисуса, нашего Спасителя и Бога, нашего Отца. Пусть избавятся от ужасов и унижений этого мира, от всех его несправедливых мучений. Пусть силы зла сражаются между собой, пока Благочестивые остаются беспомощными и не могут добиться мира. Чем был Мюнхен[1127], как не последней надеждой доброго человека в злом мире? А британцы предали эту надежду. Коля сказал, что религия — последнее утешение проходимцев[1128]. Конечно, и это утверждение может быть истинным. Но я пожертвовал бы всем, лишь бы жить в эпоху, когда Бог воспринимался как первое наше утешение и Владыка Мира, управляющий сердцами и умами! Я почти оставил надежду на Новый Иерусалим, как зовут его англичане. В конце концов, без сомнения, Карл Маркс завоюет мир, Зигмунд Фрейд предложит для него иное объяснение, Альберт Эйнштейн создаст подходящую физику, Стефан Цвейг обеспечит историю, Израэл Зангвилл организует литературу, и мы уже не вспомним о том времени, когда христианское рыцарство могло обновить Рай. Carthago delenda est[1129]. Думаю, нет! Ветер взметнул раскаленный песок, и я спрятал под накидкой рот и глаза, из-за чего стало еще труднее придерживаться избранного направления. Прикрыв от сильного ветра красивые длинные ресницы и изящные ноздри, Дядя Том шла вверх и вниз по дюнам, теперь пришедшим в яростное движение, словно тысячи пробудившихся дьяволов старались сбить нас с пути. И очень часто в стонах воздушных потоков мне слышались призрачные отзвуки «Мейстерзингеров» или ария Кундри[1130]. Я останавливался и кричал, но на мои призывы никто не откликался. С обнаженных участков моего тела как будто сдирали кожу. Верблюды, отказываясь идти дальше, легли в песок. Они погибли бы, погребенные под барханами, если бы я не укрыл их головы тканью и не заставил подняться, нахлестывая животных кнутом и умоляя их позаботиться о своей и моей безопасности. Тогда, сбросив покрывало, Дядя Том наконец поднялась, подав пример другим. Вскоре верблюды спокойно последовали за Дядей Томом сквозь яростный шторм. Думаю, теперь они признали, что их судьба в руках Бога. В берберской пословице говорится: великий идет путем Бога, мечтающий о величии идет путем сатаны. Здесь есть немалая доля правды. Я понял это на пляже в Маргейте в 1956‑м, когда мне было, разумеется, пятьдесят шесть лет. Я только что услышал новости: Объединенные силы обороны союзников вступили в бой за Суэцкий канал, захваченный милитаристом Насером. Насера теперь никто не поддерживает в арабском мире, потому что арабы хотят справедливого короля, а не демократию. Прежде всего они хотят найти успешного короля, которому можно поклоняться как наместнику Бога на Земле, ведь и предки арабов, шумеры, так же поклонялись своим вождям. О неудачливых лидерах, вроде Абд эль-Крима или Райсули[1131], просто забывают. Крима впервые разбили в тот год, когда я проник в Западную пустыню. В результате весь сброд, который прежде стекался под его знамена, был рассеян примерно на полторы тысячи миль по сарире и дюнам; они пытались выживать так, как умели. А лучше всего они умели убивать и грабить, особенно те курдские наемники, которые первыми сбежали с поля боя. Подобно Троцкому, Крим решил убить или выдать нескольких подручных, чтобы подтвердить свою преданность французам, отправившим его в Париж вместе с добычей. Но такова арабская политика. Такова их культура. Кто-то может сказать, что такова и наша культура. Но нравы собственного племени, проявляющиеся лишь на уровне инстинктов, полагаю, мы никогда не поймем до конца. Англичане и американцы всегда забавляют меня своими заверениями о том, что такое бессознательное племенное мировоззрение им неведомо. Только истинные граждане мира, подобные мне, отчасти свободны от нерациональных предубеждений. Маргейт, я порой думаю, был моим духовным Ватерлоо, как Суэц — Дюнкерком для британцев и французов. Именно тогда я с изумлением понял, что англичане, позволив Персии забрать их нефть в 1951‑м[1132], отказались от своих обязанностей на Ближнем Востоке, а Америка не могла нести такое бремя. И вновь повторилось падение Константинополя. Я обгорел, у меня осталось несколько глотков воды и жалкие крупицы кокаина да еще немного морфия и гашиша, но я не сдавался. Я решил, что не поддамся безумию, как поддался ему мой бедный друг. День спустя, когда буря стихла, оставив после себя лишь барханы и пыльные вихри, мне показалось, будто я услышал отдаленный гром, эхом раскатывавшийся по холмам. Верблюды насторожились и оживились. Это было обещание дождя или, по крайней мере, воды. Саид-суданец говорил мне, что грозы часто случались после песчаных бурь. Иногда они происходили одновременно. Иногда начинался дождь. Я подумал, что вряд ли он прольется здесь, в дюнах, но в тенистых известняковых впадинах такое вполне возможно. Я собрался с силами, допил остатки воды, поднес к истерзанным губам немного кокаина и повел маленький караван на звук грома. И наконец, как раз перед закатом, я увидел бледно-синий горизонт, на котором внезапно возникла линия низких скалистых холмов; над ними висели редкие облака, как будто дожидаясь компании. Я задрожал от радости. Я даже немного всплакнул, хотя чувствовал недостаток воды настолько остро, что размазал слезы по лицу и шее, прежде чем заставить верблюдов пересечь следующую дюну. Холмы скрылись из вида, но заходящее солнце указывало мне, где их искать, — когда появились звезды, я точно знал, куда надо направляться. Солнце, звезды и Бог вели меня вперед, и я наконец достиг Затерянного оазиса Зазара. Это был не мираж и не легенда. Но прошло немало часов, прежде чем я испил той дивной воды. Доносившийся с холмов грохот раздался во второй раз, но я остановился; внезапно меня охватили подозрения. Я вскоре понял, что слышал не шторм, а звуки перестрелки. Сердце у меня упало. Впереди разгорался какой-то племенной конфликт. Мое появление, согласно освященной веками традиции, могло примирить обе стороны — они удовлетворятся тем, что забудут о разногласиях, убьют чужака и разделят его товары, таким образом сохранив лицо. По этой причине я приближался к холмам, как учили меня бедуины, по широкой дуге, пока не убедился, что смогу добраться до цели незамеченным. Я часто останавливался, застывал и прислушивался, приподняв «ли-энфилд», готовый выстрелить в любого, кто попытается напасть. Но, очевидно, враждующие стороны были заняты своими делами и не замечали меня. Время от времени раздавались залпы, потом наступала тишина — несомненно, враги зализывали раны и обдумывали дальнейшие действия. В других обстоятельствах я рискнул бы продолжать путь, но Зазара находилась на Дарб эль-Харамии, которая, как всем было известно, вела на тысячи миль назад, в Судан, на юг во французскую Западную Африку, а еще в Чад, в Абиссинию, в Феццан, Триполитанию, Алжир, Марокко и Рио-де-Оро. Я был на другом конце пути и мог отправиться почти куда угодно. Единственная проблема теперь заключалась в том, чтобы избежать ограбления и смерти. Как только изучу окрестности, я попробую войти в оазис, напоить верблюдов, заполнить фэнтасы и снова уйти, пока дикари будут заняты битвой. Я уже почти обезумел от жажды, мое тело не подчинялось приказам разума — и я очень хотел зайти за холм и отыскать воду, которую пытались унюхать верблюды. Я не мог долго сдерживать животных. Это умеют только опытные кочевники. Я понимал: скоро верблюды помчатся вперед. Я потеряю контроль над животными. Поэтому я решил, что лучше вести их, а не следовать за ними. Дядя Том, величественная, как обычно, продолжала двигаться в своем обыкновенном неспешном темпе. Когда она оглядывалась, чтобы проверить, следует ли за ней стадо, ее прекрасные глаза были полны беспокойства, ее губы широко раздвигались и огромные старые зубы блестели в ободрительной улыбке. Я гордо уселся на ней с грацией истинного бедуина и, положив винтовку на колени, пустил верблюдицу трусцой по холмам, пока мне не пришлось спешиться и повести терпеливых животных по твердым известняковым склонам, усеянным мелкими камешками. Рытвины на этих склонах были заполнены мягким песком и казались опасными. Камешки попадали в копыта моих верблюдов, и они могли охрометь; я часто останавливался, чтобы осмотреть их ноги, проверить, все ли в порядке. Сосредоточившись на медленном, осторожном продвижении среди холмов под пульсирующим сине-серым небом, я не замечал, что легкий песок больше не скатывался между скалистыми пригорками. Теперь появились искусственные барьеры — древние стены, которые приобрели такой же нежный золотисто-коричневый цвет, как песок и камни. Я понял, что веду своих верблюдов по руинам большого города, простиравшегося насколько хватало глаз, — мы шли по разрушенным улицам забытой Зазары. Город несказанной древности, уничтоженный теми же силами, которые, без сомнения, стерли с лица Земли Ниневию и Тир. Этим камням могло быть и двадцать тысяч, и две тысячи лет — как и многим другим североафриканским развалинам. Точный ответ сумел бы дать только археолог. Город был заброшен уже давным-давно. Здесь не осталось никакой растительности, а значит, вероятно, в оазисе Зазара не окажется и воды! Или воду прятали и тщательно охраняли, как могущественные бедуины-сенуситы стерегли все свои колодцы? Отступники-звайа, изгнанные из родных земель вечно нападающими сенуситами, могли и теперь бороться за этот оазис. Я привязывал верблюдов, а они беспокойно покачивали шеями, высовывали языки, раздували ноздри и сопели — они чуяли воду. Тени становились все длиннее, а я осторожно продвигался вперед, прячась за старыми стенами, пока не понял, что очутился почти в самой верхней части холма, где склон внезапно обрывался и, казалось, отвесно падал в долину, откуда доносились слабые крики и свист, а еще голоса, говорившие на незнакомом диалекте. Верблюды позади меня начали фыркать и ворчать; чтобы они не выдали меня, я отбежал туда, где оставил животных, ухватился за поводья и повел караван дальше. Я по-прежнему старался использовать все возможные укрытия, пока солнце не начало быстро опускаться за горизонт. Тогда я остановился у гребня холма и пополз вперед, решив аккуратно выглянуть на ту сторону. Утес подо мной не обрывался в пустоту, как я предполагал; чуть ниже был большой известняковый выступ, который прятал тенистый бассейн, окруженный несколькими финиковыми пальмами и зарослями тростника: оазис Зазара не пересох! Оттуда, где я лежал, было трудно разобрать детали, но, очевидно, кто-то разбил поблизости лагерь. Я заметил палатки и двух или трех людей, быстро ходивших туда-сюда. Это оказались не бедуины, а гора, соплеменники суданцев, — я уже встречал их в караване на пути из Эль-Куфры. У высоких, красивых темнокожих людей почти не было огнестрельного оружия; они до сих пор предпочитали копье, меч и лук. Я удивился, что гора могли так метко стрелять. Я вытянул шею, стараясь рассмотреть побольше, и увидел внизу что-то, сначала показавшееся водой, а потом миражом. Это был огромный зелено-бело-красный итальянский флаг, растянутый на камнях, — увенчанный короной белый крест в обрамлении фасций Нового Рима Муссолини, изображенных на двух ярдах легкого шелка! Как будто итальянцы решили буквально укрыть Ливийскую пустыню своим флагом. Я рассмотрел крепившиеся к ткани веревки и когда рискнул приподнять голову и немного вытянуть шею, то смог увидеть, что они привязаны к большой плетеной корзине, достаточно крупной, чтобы вместить по крайней мере полдюжины человек; тогда я понял, что смотрю на огромный, но поврежденный воздушный шар. Несомненно, здесь высадилась какая-то группа воздухоплавателей, возможно, из итальянского гарнизона в Триполи. Я надеялся, что это военный отряд. Если у нас будут винтовки, боеприпасы и еда, мы почти наверняка сможем уничтожить примитивных гора, которые не выдержат боя и разбегутся. Вспышка огня заставила меня быстро пригнуться, но когда я снова присмотрелся внимательнее, то увидел, что выстрелы доносились только из воздушного шара. Укрывшись за выступом скалы, я разглядел узкую тропку, ведущую к известняковому отрогу, на котором лежала корзина шара, а потом тянувшуюся к водоему. Гора не были местными, иначе они знали бы, что есть другой путь. Они бросались в атаку по крутым скалам при ослепительном дневном свете только со стрелами и копьями — и их встречал быстрый и экономный оружейный огонь из поврежденного шара. Я вновь поразился точности атак воздухоплавателей и, присмотревшись еще, обнаружил, что ружье было только одно, большой старомодный французский «гатлинг», митральеза, которую установили на медном шарнире, укрепленном на ограждении борта корзины. Посреди корзины, казалось, находился маленький паровой двигатель, вроде бы не работавший. Пули проносились над головами решительных дикарей. Судя по их воплям и жестам, сбылись худшие страхи гора. На них обрушились силы зла. Религиозный фанатизм укрепил их мужество, но, разумеется, не помог здравому смыслу — они пошли в атаку вместо того, чтобы сбежать. Я решил, что даже с верблюдами без особого труда смогу добраться до скального выступа и застрявшего воздушного шара. Если удастся отогнать гора от воды, то все мы очень скоро сможем напиться. Казалось, если я произведу при спуске побольше шума и подниму побольше песка, то сложится впечатление, что на помощь потерпевшим пришел значительный отряд. Если повезет, дикари наверняка захотят изменить теперешнюю тактику. Не было бы ничего позорного в том, чтобы отступить перед превосходящими силами врага. Я вернулся к своим верблюдам. Используя немногие итальянские слова, которые я выучил в Отранто, когда мы с Эсме высадились на берег после побега из Константинополя, я сообщил пассажирам воздушного шара, что помощь близка. Когда я освободил Дядю Тома, она посмотрела на меня благодарными, любящими глазами. Я позволил ей отвести свой небольшой отряд к утесу и начал трудный спуск по неровному песку, уверенный, что «гатлинг» итальянцев пресечет возможную атаку лучников. — Е da servire?[1133] — закричал я, стреляя вверх из своего «линфилда». Я едва не вывихнул плечо. Я не знал о легендарной силе отдачи этой винтовки. Кто-то мне говорил, что «ли-энфилд 303» прославился в окопах как «лучший друг немца», и все-таки большинство Томми клянутся этим оружием по сей день. Держа дымящийся ствол в почти онемевшей руке, я дружески приветствовал воздухоплавателей. Митральеза не поворачивалась в мою сторону, что ясно говорило: меня считали союзником. Именно в этот момент Дядя Том рухнула, на морде ее изобразилось удивление и возмущение, ноги разъехались под немыслимыми углами, шея вытянулась — все движения верблюдицы указывали на то, что она сознает свое унижение. Я выпустил из рук повод и, попытавшись снова подхватить его, упал на землю и покатился к корзине; тут винтовка выстрелила еще раз, едва не оторвав мне пальцы. Другие верблюды смешались, начали взбрыкивать и рычать; так они могли потерять все грузы. Я старался поднять Дядю Тома, чтобы мы оба сумели привести себя в более или менее приличное состояние, и тут на меня пала тень корзины воздушного шара и оттуда явилось видение женственности, настолько прекрасное, что я снова усомнился в здравости своего рассудка. Неужели все это оказалось частью какой-то запутанной галлюцинации? Предсмертного бреда в пустыне? На ней был бледно-голубой, обшитый шелком тропический шлем, из-под которого выбивались два изящных рыжих завитка, обрамлявшие очаровательное сердцевидное личико. С головным убором прекрасно сочеталось короткое, по моде, платье. Как и шлем, оно было обшито розовым и синим жемчугом. Я видел подобные костюмы только в Голливуде. Ее свежее лицо хранило слабые, почти незаметные следы модной косметики, чудные бирюзовые глаза и прекрасную мальчишескую фигурку дополняла уверенная грация, с которой она перепрыгнула через борт корзины, по-английски восклицая: «Замечательно! Великолепно! Мои молитвы услышаны!» Она побежала (туфли на низких каблуках, идеально подходившие к костюму, ей практически не мешали) к тому месту, где поднималась на ноги Дядя Том. Наконец, к моему великому облегчению, она остановилась, но теперь ее чувственное личико омрачало выражение крайнего смущения. — Спасибо! — воскликнула молодая женщина. Потом она обернулась, как будто извиняясь. — Большое спасибо. Скажите, вы сможете сесть за «гатлинг» и последить за дикарями? Они меня допекают с тех пор, как я потерпела аварию, но я не хочу им навредить. — Тут она начала снимать тюки с тканями с одного из наших верблюдов. — О, надо же! Шелк! Потрясающе! Шелк! Шелк! Я с некоторым трудом взобрался наверх по веревкам и оказался, очевидно, в штаб-квартире какой-то смелой научной экспедиции! Повсюду лежали ящики и коробки с инструментами, а в центре гондолы находился небольшой паровой двигатель, способный, похоже, вырабатывать достаточно тепла, чтобы воздушный шар оставался заполненным. Овальная корзина была снабжена и маленьким пропеллером, который, как мне показалось, вряд ли годился для запуска такого огромного воздушного шара или управления им. Я осторожно сжал пальцами рукоятки «гатлинга» и выглянул наружу. По другую сторону озерца возле шатров стояли темнокожие гора, беседуя с молодым человеком в белом тюрбане, вероятно, сыном их шейха. Он указывал на узкую трещину в скале — очевидно, это был другой путь в оазис. Я обрадовался, что они временно утратили к нам интерес. Так у меня появилась возможность оправиться от удивления, вызванного открытием: единственной пассажиркой воздушного шара оказалась красивая молодая женщина, главная проблема которой — подобрать материал для нового платья! Я подумал, что если бы нашел ее в пустыне умирающей от жажды, то она вежливо попросила бы бокал ледяного «Боллинджера» урожая 1906 года. Меня поразило подобное хладнокровие, ведь его проявляла совсем еще юная женщина. Этим она напоминала миссис Корнелиус (на которую внешне ни капли не походила). Через несколько минут незнакомка вернулась с тюком ткани из наших поддельных товаров. — Это подойдет, — произнесла она по-прежнему по-английски. — Мне очень жаль. Я была ужасно грубой. — Она медленно заговорила по-арабски; ее акцент показался мне очаровательным. — Я благодарю вас, сиди, за великодушие, ибо вы помогли той, которая не принадлежит ни к вашему племени, ни к вашей вере. Вас послал мне Бог. Ее манеры оказались лучше, чем словарный запас. Я решил, что пока удобнее оставить ее в убеждении, что перед ней обычный сын пустыни, некий благородный бедуинский Валентино, прибывший спасти ее в самый последний момент. По общему признанию, Валентино спас молодую возлюбленную от участи, которая хуже смерти[1134], тогда как я, очевидно, просто помог выпутаться из галантерейного затруднения. Она прижала руку к невысокой груди и представилась: — Я — Лалла фон Бек, и я — летчица. Я не хотела причинить вреда вашей земле. Меня сбила шальная арабская пуля. Взгляните. — И она указала на отверстие, которое теперь было различимо прямо над короной, украшавшей поверхность шара. — Я выполняю официальное поручение Королевского итальянского географического общества. Ради собственного развлечения я ответил по-английски: — Я вижу по вашим инструментам, что вы рисуете карты. Возможно, вы ищете золото на нашей земле? Она заволновалась: — О нет! Да и, в любом случае, все ищут нефть. Это исключительно научная экспедиция. Ваш английский, по-моему, превосходен. Вы там учились? Или в Америке? Мне не мерещится акцент янки? — Бедуины прославились великим стремлением к перемене мест даже среди назрини, — сказал я. — Но я никогда не видел наполненного горячим воздухом шара, который был бы так хорошо сработан. — К сожалению, — ответила она, — эта конструкция слишком сложна. Очень трудно удерживать высоту, знаете ли, не выбрасывая все из корзины. Меня бы никогда не подстрелили, если бы у меня был такой корабль, который я просила. Однако, должна признать, оружие действительно пригодилось. Мне очень жаль, если вы пострадали. Я немного умею оказывать первую помощь. Так что если пожелаете… Я мужественно отказался. В этот момент мне не хотелось, чтобы она увидела белую кожу, скрытую под моими одеяниями. Как и Коля, я дочерна обгорел на солнце и оброс бородой. Я польстил себе, заметив, что выгляжу как настоящий пэр Сахары. — Пусть шелк станет моим подарком вам, — произнес я, соблюдая этикет пустыни. — Надеюсь, в нем вы будете еще прекраснее. Казалось, мои манеры впечатлили ее, но чем-то смутили — потом она улыбнулась. — О, шелк! Это для воздушного шара. Мы отрежем полосу, смажем ее тем, что у вас в той фляге, — она станет воздухонепроницаемой. Уверена, все необходимое у меня найдется. Этим голодранцам досталось лучшее из моих запасов. Вещи вылетели из корзины, когда я приземлилась. Шар слегка болтало, как вы могли заметить. — Тут она опомнилась и смахнула грязь с одежды. — Хотя я немного придирчива по части платья, — призадумалась она. — Не стоит опускать планку. — Это мнение разделяют и бедуины, — сказал я. Комплимент ей польстил. — Я обычно одеваюсь не так, но я начала чувствовать себя немного подавленной. Очень часто смена одежды улучшает расположение духа. А теперь появились вы, так что я не зря искала светлую сторону. Как в кино, не правда ли? Я не испытал особой радости при упоминании о киноиндустрии. Собеседница приняла мое молчание за выражениенесогласия. — Мне жаль. Полагаю, вам не приходилось его смотреть. — Она была очень любезна. — Я ведь так и не дала вам возможности представиться. — Я — шейх Мустафа Сахр-эль-Дра’аг, — сказал я, позаимствовав имя из старого сценария. — Подобно вам, госпожа, я — исследователь. Таков обычай нашего племени. Мы прирожденные путешественники. Ее энтузиазм подтверждал мое мнение: она поддалась, как я и предположил, опасному очарованию Аравии, которое сбило с пути немало европейских женщин. И все же мне не следовало разрушать ее иллюзию. Что-то подсказывало, что ей будет интереснее объединиться с Ястребом Пустыни, чем с Орлом Степей. У бедуина и казака много общего — гораздо больше, чем различий; и я вполне резонно решил сыграть роль благородного защитника юной девушки, оказавшейся в глубине пустыни. Так подсказывал мой инстинкт, моя врожденная галантность. Однако когда я спросил о «добром старом Итоне», то с удивлением узнал, что она вообще не была англичанкой и жила там только время от времени. — Мой отец — граф Рихард фон Бек. Мать — ирландка, леди Мэв Левер из дублинских Леверов. Я училась в Англии, но по рождению я — албанка. Троюродная сестра короля Зогу[1135]. В тысяча девятьсот двадцать пятом я стала итальянской националисткой. — Очевидно, вы поклонница синьора Муссолини. — Верно! Мой отец постоянно говорил, что Италия преуспевала только тогда, когда у власти находились выдающиеся люди. Конечно, он был саксонцем и испытывал склонность к преувеличениям. Он предпочел вольную атмосферу Албании. Его наняли турки. Инженеры в те времена могли жить как настоящие принцы. У нас было просто изумительное детство. Это, конечно, испортило нас. А потом, разумеется, мать умерла от чахотки, отца расстреляли как предателя, и это был конец. К счастью, мы научились сами стоять на ногах. — У вас есть братья? — Только сестры. Они все замужем, кроме меня. На самом деле я — инженер, но даже не могу вам объяснить, как трудно убеждать людей, что я ни в чем не уступаю мужчинам. Вот поэтому я здесь. Нечто вроде рекламного трюка, можно сказать. Теперь люди станут относиться ко мне серьезно. — Мне такие трюки известны, — ответил я. — Я тоже интересуюсь техническими проблемами. Я почувствовал вкус удачи, и сердце у меня забилось сильнее. Посреди Сахары я встретил привлекательную и харизматичную молодую женщину, которая, оказывается, разбиралась в инженерном деле. Такие девушки — их даже сегодня считают странными — появились в годы Первой мировой войны. Я против них ничего не имею. Многим достались от природы способности к техническим наукам, хотя мы пока еще не видели инженерного гения женского пола. Женщины говорят, что они выше таких вещей и предпочитают шить и готовить. Возможно, им это действительно нравится больше. Если так — вот еще один довод в поддержку моего мнения. Я не переставал разглядывать синьорину фон Бек внимательно и заинтересованно и радовался, наконец-то повстречав в пустыне кого-то, понимающего различие между двигателем внутреннего сгорания и волшебным орехом. — И еще меня интересует Албания, — добавил я ради политеса. Мои страдавшие от жажды верблюды стояли там, где я их привязал, — и очень громко жаловались; их рев и ворчание то и дело заглушали нашу беседу. — Сыны орла, да! — проговорила она, указывая на разорванную ткань. Полагаю, она имела в виду то, как албанцы себя называют — Skayptar[1136]. Чем меньше страна, тем больше в ней важности. То же относится и к маленьким мужчинам. Я хорошо помню одного латыша, Адольфа Веда. Его показная любовь к собственной стране могла сравниться только с его тщеславием. А что у них за культура — несколько позаимствованных где-то народных песен, национальный герой с труднопроизносимым именем и еврейский университет! И все же я был сама галантность, и моя новая знакомая успокоилась. — Смотрите, — сказала она, — скоро закат. Я должна предложить вам дайфу. Я зажгу примус. Местные, как вам известно, не любят нападать ночью. Что скажете насчет черепахового супа и сухарей? Мы можем начать, к примеру, с фуа-гра, а еще у меня в шкафчике спрятан превосходный «Сент-Эмильон»[1137]. Но шампанское, наверное, взорвалось. Жара и высота, в этом все дело. Она отвела меня к середине гондолы, где два пляжных зонтика стояли так, чтобы тень падала на маленький столик с серебряным прибором и салфеткой для одного человека. Из шкафчика она достала второй складной стул, а в сундуке нашелся другой столовый прибор. — Видите, я готова принимать гостей. Не знала, где придется приземлиться. — Она смутилась. — О, я забыла, у вас же нет никаких запретов на еду, верно? Ну, кроме свинины. Я заверил ее, что живу по особым законам, как подобает путешественнику, и могу, с ее разрешения, даже осушить вместе с ней стаканчик кларета. Она извинилась за свое невежество по части нравов моего народа. По крайней мере, сказал я, она хотела расширить свои познания и прилетела, чтобы взглянуть на нас собственными глазами, не полагаясь на сведения из албанских газет. Ее это впечатлило. Она сказала, что слышала о легендарной вежливости бедуинов. — У нас много общего, — сказал я, — с вашим Доном и кубанскими казаками. Казалось, это сравнение ее удивило, ведь бедуины обычно предпочитали, чтобы их сравнивали с полубогами. Но девушка сочла мои замечания признаком скромности, что еще сильнее обрадовало меня. Одобрение этого ангела согревало мое сердце! Разве обычный мужчина — да и любой мужчина, если на то пошло, — мог противостоять такой прелести? Надо признать, я не собирался разуверять ее. Маскировка стала для меня второй натурой. При всем очаровании синьорины фон Бек у меня пока не было никаких причин доверять ей. Бедуинов в пустыне уважали. Даже одинокого странника обычно отпускали с миром, поскольку у него, вероятнее всего, имелось превеликое множество кровных родственников. Важнейшая особенность кровной мести в том, что она должна оставаться реальной угрозой, поскольку именно так люди могут устоять перед искушением убийства и Хаос сдерживается. Пес редко нападает на другого пса, если не отчается и не убедится в превосходстве собственных сил. Вот почему, раз гора, очевидно, не нуждались ни в воде, ни в пище, я не ожидал, что конфликт продлится дольше одного-двух дней. Решив, что прибыло подкрепление, они почти наверняка предпочтут самый разумный вариант поведения — отступление. В таком легком расположении духа я сел пить чай с очаровательной воздухоплавательницей, а внизу, среди пальм, спорили гора, обсуждавшие случившееся высокими, практически театральными голосами. Было почти невозможно не обращать внимания на их болтовню. Я внезапно представил, что сажусь на закате ужинать на балконе, выходящем на Крещатик, а внизу продолжается шумная жизнь главной улицы Киева. Я с ностальгией вспоминал о родных трамваях, о теплоте и уюте моего украинского детства. Я бы заплакал от ностальгии, а не от грусти, если б мне не следовало сдерживаться, помня, что я бедуин и джентльмен. Я все еще мечтаю о том Киеве. Но сегодня это просто модель вроде Нюрнберга — неубедительная диснеевская копия восхитительного оригинала, выполненная в натуральную величину. Коммунисты уничтожили оба города. Renis le Juif et tu renieras ton passé[1138]. Я больше не думал о том, что вижу галлюцинации, заблудившись в пустыне. Мне стало ясно: настолько убедительной иллюзия быть не могла — разве что я на самом деле умер. Я обрел, как всегда выражается Бишоп, свою награду. Аромат синьорины фон Бек оказался так же тонок, как окружавшая ее тело аура, а я был готов к любым фантазиям — и все-таки возбуждения я не испытывал. Возможно, чувственность стала для меня слишком хорошо знакомой и оттого ужасной. Я пребывал в состоянии бесконечного платонического счастья, без всякой похоти окунаясь в волны женственности и в то же время наслаждаясь общением с умным и дружески настроенным собеседником. Впрочем, я держался немного отстраненно, и мы соблюдали определенные формальности, что было весьма удобно. Потом мы слегка развеселились, обсуждая успехи фашизма и вероятные достижения обновленного итальянского государства. Синьорина знала моего друга Фиорелло. Она сказала, что он теперь стал бюрократом. Она извинилась за неподобающий вид. — Никто просто не ожидал, что это понадобится. Как трудно прятать от солнца руки и лицо! Я очень быстро покрываюсь веснушками. Конечно, ваши женщины совершенно правы. Я прекрасно понимаю, насколько практична их одежда. Здесь одни только мухи чего стоят! Надеюсь, мой костюм не возмутил вас, сиди. Я и впрямь не ждала гостей. Но вскоре, конечно, станет холодно. — Она достала зеленовато-голубую кофту. Я уверил ее, что хорошо усвоил западные обычаи и она могла положиться на мое понимание. Очень важно, заметил я, чтобы человеческие существа уважали друг друга. Пустыня превращает некоторых людей в настоящих зверей — я махнул столовой ложкой в сторону темных силуэтов гора, — но она также требует, чтобы мы ради выживания соблюдали правила этикета. Синьорина фон Бек решительно согласилась со мной. Правила были ключом ко всему. Меня все больше впечатляла острота ее ума. Эта женщина оказалась близка мне по духу! Нас связывала общая политическая философия! Во всем, кроме внешнего облика, она была настоящим мужчиной! В точности походила на меня! Замечательный друг, особенно в сложившихся обстоятельствах. Когда мы потягивали кларет и рассматривали в последних лучах солнца взволнованное сборище бандитов, мне показалось, что она стала слегка кокетничать. Ее интерес мне льстил, но не возбуждал меня. Самая мысль о прикосновении чьей-то плоти казалась почти отвратительной. Только Коля или Дядя Том могли успокоить меня. Ощутив мою сдержанность, она, конечно, стала проявлять еще больший интерес. Однако она была настоящей леди и не делала никаких намеков — ни словом, ни жестом (может, если только самые тонкие); я наслаждался возрастающим ощущением довольства. Мгновение казалось бесконечным. Я никогда не сталкивался с таким уникальным сочетанием чувств и обстоятельств. Я понимал, что это — истинная реальность. Я пил третью чашку арабского чая, восхитительный аромат мяты подчеркивал еще более экзотические запахи, и мне показалось, что где-то слышится пение. Я напряг слух и всмотрелся в темноту, гадая, не поднялся ли просто порыв ветра, — но все-таки был абсолютно уверен, что уловил несколько нот из «Тристана и Изольды»[1139]. Моя хозяйка продолжала беседу, а я по-прежнему пытался понять, откуда же исходит этот музыкальный звук, но гора, которые о чем-то спорили при свете факелов, своими воплями заглушали любой шум. Все они смотрели на ущелье, вход в оазис, как будто думая, стоит ли отступить или можно напасть с другой стороны. Оттуда, где они находились, наше убежище рассмотреть было нельзя, и они понятия не имели, какое именно подкрепление я привел. Синьорина фон Бек внезапно заговорила о Токио, где побывала пару лет назад с делегацией Лиги Наций. — Нет сомнения, что в интеллектуальном отношении японцы выше прочих монгольских рас. И, конечно, расовая чистота столь же важна для них, как и для белых людей. Чистая кровь, по их словам, всегда одержит верх над смешанной. Она была на пару лет младше меня, но казалась гораздо мудрее. Женщины часто достигают зрелости раньше мужчин. Я потом жалел, что не прислушивался к ней с должным вниманием. Это избавило бы меня от многих неудобств и опасностей в более поздние годы. Но тогда я думал о том, не изобрела ли она некую особую форму защиты — противоядие, которое должно было отвлечь меня от ее несомненной сексуальной привлекательности. Я, со своей стороны, был практически неспособен к простым разговорам. Я стал очень внимателен к мельчайшим деталям. Я держался настороже, как затравленный зверь. Я слушал ее; я слушал гора; я слушал все звуки пустыни, непрерывно пытаясь их понять, — и все-таки я, по сравнению с прежним состоянием, совсем расслабился. Я усвоил еще одну хитрость кочевых тварей — использовать в своих интересах каждое мгновение безопасности, каждый шанс отдохнуть. И снова я подумал, что распознал в шуме ветра мелодию, возможно, арию из «Тангейзера». На сей раз я подал собеседнице знак и внимательно прислушался. Я начал подозревать, что это не просто болезненные воспоминания. Она спросила, какой звук я уловил, но я покачал головой. — Наверное, я слушал пустыню, — сказал я. На нее это произвело впечатление, и некоторое время она ничего не говорила. Еще не было и девяти часов, и гора по-прежнему не могли принять решение. Я подумывал выстрелить из митральезы, чтобы поторопить их, но тут заметил, что некоторые африканцы вернулись в залитый светом лагерь и вытолкнули вперед пленника — бородатого мужчину, дико вращавшего глазами, босого, в порванном бедуинском бурнусе. Его руки были стянуты за спиной, изо рта у него торчала палка, привязанная так, чтобы он не мог говорить. Через мгновение я узнал графа Николая Федоровича Петрова. Он, как и обещал, стал первым белым, который попробовал воду Затерянного оазиса! Теперь я понял затруднения, возникшие у гора. Они не могли решить, представляет ли Коля какую-то ценность для нас. Если так, они обменяют заложника на что-то, спасут свою репутацию и с честью отправятся дальше. Мне оставалось только опустить на столик чашку, подойти к корзине, взять большую аварийную лампу и подать знак вождю в белом тюрбане. — Уверен, — сказал я на своем лучшем арабском, — что произошло недоразумение. Синьорина фон Бек присоединилась ко мне. — Это ваш друг, шейх Мустафа? — Слуга, — объяснил я. — Простоватый парень. Он ушел несколько дней назад. Он — сын белой женщины и немного знает русский язык. Вы говорите по-русски, синьорина фон Бек? Она призналась, что выучила только несколько слов. Это означало, что я мог спокойно побеседовать с Колей. — Мой дорогой друг, я намерен спасти тебя, — заявил я. — Но ты должен играть свою роль. Я с радостью отметил энергичный кивок Коли, доказывавший, что он все еще сохранил остатки здравого смысла. Тогда начались долгие переговоры с дикарями, которые, громко крича и задавая вопросы, попытались узнать, какую ценность представляет для меня Коля. Я понял, что они предлагают этого раба на продажу. Я сказал, что мне нужен крепкий парень, а их пленник с виду довольно слаб. Его бросили в пустыне? И почему ему заткнули рот? Они заверили меня, что мужчина мускулистый и здоровый, настоящий верблюд, если речь идет о работе. Правда, теперь он немного перегрелся на солнце, но это никак не влияло на его ценность. Он непременно выздоровеет. Переговоры уже набрали обороты, и я почувствовал, что смогу лучше всего помочь другу, если буду демонстрировать полное отсутствие интереса к торгу. — Сильная собака для меня бесполезна, если она бешеная. Смотрите — у него пена изо рта идет! Они тут же громко заорали, возражая мне. Это просто слюна — кляп у раба слишком плотный. Если мне не интересна покупка, они отведут его в Куфру и продадут там. Я ответил, что приехал из Куфры и не видел там людей, которые покупали бы для работы в полях сумасшедших бродяг. Я добавил, что в парня, наверное, вселился джинн. Иначе почему он связан, а рот у него заткнут? Пусть лучше бедное существо уйдет в пустыню и Бог позаботится о нем. Нет, настаивали они, он будет работать. При свете факела они развязали веревки. Вынули изо рта Коли палку. Он забормотал что-то невнятное. Потом они копьями подтолкнули Колю к воде и остановились посмотреть, как он пьет. Затем его заставили принести в оазис бурдюки и наполнить их, что он проделал с некоторой поспешностью, в полной мере осознав важность игры. Он быстро ходил туда и обратно при свете костра. Он перенес дюжину мехов за раз. Я начал опасаться, что Коля станет работать слишком хорошо и тогда его хозяева поднимут цену до недосягаемых пределов. Синьорина фон Бек восхищалась моими торговыми навыками, хотя я пока еще не предложил никакой цены за Колю. Мы до сих пор сговаривались, стоит его покупать или нет. Когда взошла луна, слегка посеребрив горизонт, ни одна сторона еще не назначила цену. Наконец я сказал, что сообщу, готов ли заключить сделку и выкупить их пленника, утром. Пока вопрос останется нерешенным. Колю, казалось, это не слишком обрадовало, но я снова заговорил по-русски, как будто обращаясь к кому-то из своей группы, стоявшему позади: — Терпение, мой друг. Я освобожу тебя завтра к полудню. Ночью я расположился на отдых и напоил верблюдов, использовав запасы балласта синьорины фон Бек, а затем устало завернулся в джард[1140] и приготовился уснуть на земле. Синьорина фон Бек, скрывшись в плетеной корзине, еще некоторое время не спала и читала при свете аварийной лампы, а из темноты доносились приглушенные напевы самых известных арий из «Лоэнгрина» под монотонный ритм барабанов гора, которые, думаю, пытались заглушить пение моего друга. Потом голос Коли внезапно умолк, и я стал наслаждаться покоем и тишиной. Утром меня разбудила очаровательная воздухоплавательница в свободной джеллабе с капюшоном; леди предложила мне чашку, в которой, судя по запаху, мог находиться только лучший колумбийский кофе. Я покачал головой, выражая удивление и восхищение, и сел. — Я надеюсь, что ваш бедный слуга пережил ночь. — Она протянула мне фарфоровую сахарницу. — Он казался очень слабым. Это что-то вроде бедуинского блюза? Его пение временами почти напоминало оперы Вагнера. Вы знаете такого композитора? Я объяснил, что бедное создание одно время работало в Бейруте у торговца граммофонами и повторяло немецкие мелодии, которые тогда разучило. Как и у многих других идиотов, у него была способность точно воспроизводить музыкальные мотивы. Я заверил ее, что мой слуга успокоится, как только вернется к нам. Но, однако, следовало избегать разговоров о гении из Байрейта[1141]. — Он кажется довольно красивым, — сказала она, — несмотря на всю эту грязь и загар. А его мать была красива? — Она была русской аристократкой, — честно ответил я, — которая стала женой его отца. Синьорина кивнула. — Гены иногда не могут справиться с потрясениями. Во мне самой есть капля той опасной старой крови. Даже при смешении с кровью соплеменников возможны необратимые психические нарушения. Моя сестра, к примеру, совершенно безумна. Конечно, то же самое происходит и с лошадьми. Вы не хотите немного сухарей и конфитюра? Вот и все, что я могу предложить на завтрак. Масло кончилось. Я согласился присоединиться к ней, как только помолюсь. В молитвах не было ничего дурного, особенно если учесть, что гора ожидали от меня их. Более того, они могли бы что-то заподозрить, если бы я пропустил утреннюю молитву. Синьорина посмотрела в бинокль, когда я садился за стол. — Он кажется отдохнувшим, ваш товарищ. — Она передала бинокль мне. Глаза Коли были уже не такими красными, как накануне, но он смотрел в нашу сторону с тревогой и печалью. Потом мы увидели, что его снова заставили работать, демонстрируя выносливость и силу невольника. Вероятно, то, что он был занят делом, оказалось только к лучшему. Это отвлекло его от Вагнера, который, в конце концов, немало способствовал нынешнему положению Коли. Думаю, он начал понимать это, и прежнее чувство юмора возвратилось к нему. Коля обернулся ко мне и довольно бодро сказал по-русски: — Вот видишь, дорогой Димка, я обещал тебе, что мы найдем здесь работорговцев. Проблема, сухо отметил я, поглаживая бедуинскую бороду, состояла не в том, как найти работорговцев, а как потерять их. По моему мнению, единственная причина их нападения на воздушный шар заключалась в том, что они считали летающий аппарат беззащитным. Теперь честь была восстановлена и начались достойные переговоры; а потом бандиты почти наверняка двинутся обратно в Судан или станут бродить по забытой богом пустоши, которую они считали своим домом. — Смотри! — сказал единственный гора, умевший хорошо говорить по-арабски. — Он хорош и силен, а когда он работает, он не поет. — Но где я буду его держать? Он не может все время работать. — Пусть работает побольше, тогда он слишком устанет, чтобы петь. Я обдумал это разумное предложение. — Хорошо, — через некоторое время ответил я, — он кажется достаточно крепким. Мы, наверное, найдем применение еще одному носильщику. Я осторожно отошел назад, скрывшись из поля их зрения. Вернувшись, я сказал: не все согласились, что нам требуется еще один раб. Мы сделали перерыв на кофе. Тем временем Коля таскал туда-сюда бурдюки с водой. — Он очень силен, — сказала синьорина фон Бек, громко хрустя не слишком хорошо засоленным огурцом, — и кажется неправильным, что вам придется платить за выкуп собственного раба. — Печально, — ответил я, — но в пустыне редко встретишь окружного судью. Закон владения здесь превыше всего. Она поняла смысл моих слов и улыбнулась. — Это ваша забота: сохранить то, что вам принадлежит, верно? Подобный индивидуализм развивается в Европе при новом порядке. Им следовало бы у вас поучиться. — О, думаю, мои люди уже очень многому научили европейцев, — язвительно, почти с упреком заметил я. Она в ответ покраснела. Я протянул к ней руку, чтобы заверить, что не имел в виду ничего дурного. На это моя собеседница улыбнулась, и я был вдвойне очарован. Я пребывал в прежнем восхитительном, платонически-духовном состоянии, когда обычные чувства, казалось, достигали пределов экстаза — и все же не требовали физического выражения. После обеда, пока Коля переводил дух в тени маленькой пальмы, я возвратился к выступу скалы, держа на локте «ли-энфилд». Я сообщил, что товарищи отправили меня осмотреть раба. Я с должной церемонностью попросил разрешения приблизиться и получил его. Потом я осторожно спустился к берегу озерца, где ждали кочевники. Массивный выступ известняка, который укрывал эту площадку от лучей солнца и благодаря которому появился бассейн, теперь отражался в водах оазиса вместе с немногочисленными финиковыми пальмами, что сохранились здесь, без сомнения, со времен цивилизации, покинувшей Зазару. Гора толпились возле неприглядных шерстяных шатров; рядом были тощие козы и несколько верблюдов. Эти люди напоминали обычных бандитов, в лучшем случае — работорговцев-любителей. Мне сразу все стало ясно, ведь я уже повидал влиятельных бедуинских работорговцев. Они превосходно одевались и носили много оружия, у них были шатры, слуги, жены и вьючные животные, как и приличествовало их положению. Благородные берберы пожалели бы Колю, согласно требованиям их кодекса чести, и помогли бы ему достичь цели. Гордость не позволила бы им потратить хоть минуту своего времени на переговоры о его продаже. Решив заключить подобную сделку, я сам рисковал потерять лицо, но мне нужно было позволить сохранить его этим темнокожим проходимцам, чтобы они могли убраться прочь. Вдоволь поторговавшись, они добьются своего и уедут. Я был убежден, что они не направили разведчиков в обход наших позиций и не узнали, сколько нас на самом деле. Возможно, они и не хотели выяснять истину, о которой подозревали. Не зная сил врага, они не чувствовали себя обязанными перейти к боевым действиям, тем более что «гатлинг» оставался нашим главным аргументом. Я добрался до плоской скалы и приблизился к африканцам, остановившись, чтобы положить винтовку и нож. Вождь в белом тюрбане — тот, который говорил по-арабски, — вышел вперед и положил свой лук и копье. Теперь между нами установилось понимание, и оно сохранится независимо от того, насколько горяч будет наш спор. Меня пригласили в их лагерь. Воины отвели меня туда, где смеявшийся Коля, до сих пор полубезумный, сказал мне по-французски: — Будь ты проклят, Димка! Если тебе мой вид не нравится, пусть они меня продадут кому-то другому! Я в ответ покачал головой и обратился к вождю: — Смотри, все оказалось правдой. Пусть помилует его Аллах. Он одержим. Джинн говорит его устами. Что бормочет эта обезьяна? — Это франк. Возможно, мы должны отрезать ему язык, — серьезно заметил вождь, глядя на лезвие ножа. — Это не помешает ему работать. Я согласился, что так мы могли бы на некоторое время решить проблему, но пока его лучше оставить как он есть. Предположим, джинна удастся изгнать, тогда несчастное существо будет искалечено без всякого смысла и вдобавок станет менее ценным. Коля, казалось, успокоился, когда это услышал. Потом я объяснил, что мы путешествовали с небольшим грузом и у нас есть только несколько маленьких рулонов качественной ткани. Может, они возьмут за сумасшедшего немного тканей… Вождь дружески улыбнулся и пригласил меня сесть рядом с ним на землю. Так начался настоящий торг. Мы шутили, обменивались оскорблениями, изображали разные эмоции — от сомнения до отчаяния; мы выпили несколько чашек горького чая, поговорили об устройстве мироздания, пришли к выводу, что вера — единственное решение наших проблем, а евреи и христиане — их причина (при любом другом варианте часть вины падала на Бога, что, конечно, было бы ересью). Время от времени мы возвращались к основной теме и вновь принимались торговаться. Иногда торговля — это единственное, что связывает обитателя пустыни с его сородичами, и обмен становится таким же важным способом общения, как и назначение настоящей цены. Было уже три часа пополудни, когда я заявил, что друзья назовут меня упрямым дураком, но я добавлю красивый кинжал к той клетчатой материи, которую хотели получить гора. Они внезапно согласились, и таким образом я вновь обрел друга. Наверное, напряжение этих минут отрезвило его. Коля больше не говорил о Вагнере; теперь он поблагодарил меня со своей прежней вежливостью: — Ты прирожденный дипломат, милый Димка. Наши верблюды все еще у тебя? Я заверил его, что сохранил весь наш маленький караван. Коля сильно устал, но все-таки был довольно весел. Гора напоили и накормили его, чтобы он понравился покупателю, и это придало ему сил и помогло прийти в себя. — Что случилось, Димка? — Он остановился перевести дух, когда мы карабкались по склону. — Тебя нашла итальянская армия? Нам понадобятся документы? Я заверил его, что больше никакая опасность ему не угрожает. Он снова остановился перевести дыхание и посмотрел на сетку и шелк, которые лежали на ближайших скалах. — Если это не армия, то что же это такое? Итальянские воздушные силы? Но я больше ничего ему не сказал, пока не помог подняться, притворяясь, что проклинаю и понукаю раба. Наконец он добрался до вершины горного хребта и застыл, удивленно разглядывая корзину и ее очаровательную обитательницу. Синьорина фон Бек надела бледно-зеленое платье с темно-синей оторочкой, темно-синюю шляпу — «колокол» и такого же оттенка чулки. Обувь была подобрана в цвет платья. — Как он, бедняга? — спросила она, обращаясь ко мне через голову Коли. — Восхваляет Аллаха за его милосердие, синьорина фон Бек, подобно всем нам. Закончив дела, гора уже сворачивали лагерь. Я предположил, что они направлялись на встречу с другими бандитами, рассчитывая подыскать себе какое-то занятие. Но там они могли рассказать о нас… Когда Коля приблизился, синьорина фон Бек сморщила нос. — О, дорогой! Он должен принять ванну, вам не кажется? Я согласился с ней. Я сказал, что тоже не прочь искупаться. Тем временем, решила она, как только раб отдохнет, он сможет, вероятно, принести немного воды, для того чтобы и она могла помыться. Я согласился, но сначала мне следовало проведать своих верблюдов. Наши бедные терпеливые животные страдали слишком долго. Оставив груз у корзины воздушного шара, мы с Колей с трудом удерживали измученных верблюдов, готовых броситься к оазису. Вода была хороша, но приобрела специфический вкус — старая пальма упала в озерцо и сгнила там. Верблюды тщательно обнюхали бассейн, прежде чем начали пить. — Полагаю, ты не ожидаешь, что я потащу воду для той девчонки, — пробормотал друг, когда мы разделись и окунулись в озеро в тенистом месте; нас нельзя было заметить сверху. Я улыбнулся, оценив его беспокойство, и сказал, что мы привезем немного воды в фэнтасе на верблюде. — Поскольку, дорогой Коля, ты был не в своем уме, у меня просто не осталось выбора. Пришлось вернуться к прежнему оправданию и рассказывать сказки о слабоумном слуге. — Эта роль не очень-то мне подходит, — заметил он, но в итоге принял мою точку зрения. — Девчонка, как я полагаю, здесь по заданию правительства? — Только отчасти. Она — первая женщина, совершающая полет в одиночестве по заданию Итальянского географического общества. Как я понимаю, Муссолини теперь оказывает немалую поддержку таким предприятиям. В ту секунду меня посетило вдохновение: Италия — вот страна, которой я должен предложить свои услуги. Я мог помочь в строительстве энергетических установок; мои машины сделают эту страну настоящим государством будущего, Новым Римом в истинном смысле слова. В Италии, как я понял, процветала и киноиндустрия. Возможно, моя встреча с синьориной фон Бек была своевременной сразу во многих отношениях. Коля уже говорил о следующем этапе нашего путешествия через пустыню. Теперь мы нашли Зазару и Дорогу Воров, и все, что нам оставалось сделать, — это двигаться по ней на запад. В итоге «меньше чем через тысячу миль» мы попадем в Марокко. Теперь, конечно, я представлял свое будущее несколько иначе, но ничего не сказал. — Сначала мы должны помочь синьорине фон Бек надуть ее воздушный шар. — Я вытянулся в воде и поплыл. — А затем можно снова двинуться в путь. Это самое меньшее, что мы способны сделать, Коля, так как она, по правде сказать, спасла наши шкуры. — Потерпев крушение в пустыне? — (Я вкратце изложил ему всю историю.) — Доверившись нам, — напомнил я. — Вообще-то, с ее точки зрения, мы могли оказаться просто парочкой жуликов. Его это оскорбило. Ведь я, конечно, заметил, что она уже разглядела под тряпьем настоящего человека? Когда он снова облачится в приличную одежду, то непременно поблагодарит синьорину за своевременное появление, хотя она, в конце концов, помогла нам просто случайно. То, что она оказалась в нужном месте, — лишь удачное стечение обстоятельств. Я возражал, что это чересчур низкая оценка ее навыков воздушной навигации, тем более что сам Коля не очень-то хорошо умел ориентироваться в пространстве. Он начал грубить, но почти сразу же извинился. Он просто слишком сильно устал от перенесенных лишений, нервного истощения и нехватки воды. Солнце клонилось к закату, и гора уходили из ущелья, несомненно, направляясь в пустыню, — они так же радовались исходу столкновения, как и мы. Оставив Колю спать у кромки воды, я сам заполнил металлический фэнтас, погрузил его на Дядю Тома и повел животное по крутому склону туда, где ждала воздухоплавательница. Синьорина фон Бек коротала время за чтением. Я уже заметил небольшую стопку книг в мягких цветных обложках и еще несколько журналов. Все они были на английском и, казалось, с приключенческой литературой. Синьорина объяснила, что любовь к ужасам и драмам у нее пробудилась в Челтнеме[1142]. — Там, понимаете, вообще ничего не происходило. Аккуратно отметив страницу, она положила книгу на столик и вытащила из встроенного шкафчика складную холщовую ванну, которую бережно развернула. Я перелил в ванну четыре галлона воды из фэнтаса. Синьорина захлопала в ладоши. — Я мечтала об этом уже три дня! Я тихо вернулся в оазис и стал приводить в порядок Дядю Тома. Верблюдица все время ворчала и вертела головой, однако мое внимание явно приносило ей удовольствие. Вдобавок знакомые и привычные действия помогли мне собраться с мыслями. Конечно, легче всего будет покинуть пустыню на отремонтированном воздушном шаре. Но что, если это приведет нас прямо в руки властей? Если мы двинемся по Дороге Воров, пройдут месяцы, возможно, даже год, прежде чем мы доберемся до цивилизации. Если же мы поднимемся на воздушном шаре и сохраним свою маскировку, то у нас будет возможность скрыться в городской толпе, прежде чем итальянцы или французы проявят чрезмерное любопытство. Впрочем, оставалась большая вероятность того, что нас снова подстерегут и на сей раз убьют, чтобы отобрать верблюдов и вещи. Гора, несомненно, были не единственной бандой, действовавшей в этих краях. Они разнесут новости. Нам придется выдержать пару нападений — в лучшем случае. И не следовало забывать о верблюдах. — Мой дорогой, твоя любовь к этим верблюдам кажется прямо-таки непристойной. Коля встал и подошел к одному из наших вьючных животных, попытавшись нащупать что-то у него на горбе. Только тогда я заметил на шкуре недавно зажившие шрамы. — Я очень испугался, что ты захочешь обменять меня на нескольких наших верблюдов! — Я потерял бы лицо, если бы предложил больше, чем ты стоишь, — ответил я. Такие шутки были для нас обычным делом. В глубине души я, конечно, очень обрадовался, узнав о спасении друга. Вряд ли я испытывал такие сильные чувства к какому-то иному мужчине, кроме разве что капитана Квелча. Мы стали Роландом и Оливье[1143], искателями приключений, хранителями законов рыцарства. Я был обязан ему жизнью. Тем не менее и дальше действовать по его первоначальному плану казалось мне чистейшим безумием. Возможно, мы даже могли бы убедить леди высадить нас в каком-нибудь удобном месте. — Пожалуйста, постарайся успокоиться, Коля, мой дорогой. Ты по-прежнему слаб, и твой рассудок, мне кажется, еще не в полном порядке. Он не обратил на это внимания и небрежно напел какой-то джазовый мотив, как будто пытаясь доказать мне, что разум полностью вернулся к нему. Когда я упомянул имя нашей спасительницы, мой друг выразил желание представиться синьорине фон Бек. — Я слышал об этой женщине. Она была любовницей Бенито Муссолини. Я помню ее еще в Париже! И она летала с испанской экспедицией из Барселоны в Рио несколько лет назад. Я объяснил, что в его положении было бы опасно и непристойно напоминать о знакомстве с нашей хозяйкой. С учетом ее истории все еще оставалась незначительная вероятность, что она могла оказаться итальянским правительственным агентом. Мы любой ценой должны были сохранять свои маски, пока не поймем, что ей можно доверять. Коля согласился, но ему не хотелось долго изображать идиота. Он сказал, что с радостью двинулся бы в путь. Он по-прежнему был одержим мыслью пройти по Дороге Воров. В тот вечер я ужинал в обществе новой подруги. Чуть ниже по склону мой старый друг готовил себе кускус, к которому добавил яйцо вкрутую, выданное синьориной фон Бек. Мое альтер эго в женском обличье проявляло то же инстинктивное великодушие, уже принесшее столько страданий мне! И однако я не жалею, что был таким. Как я всегда говорил, лучше подчиняться добродетельным порывам, чем постоянно думать только о своих интересах. — Ты дал им тшертовски много, Иван, и потом пожалел об этом, глупый педик, — на днях сказала мне миссис Корнелиус. И это справедливо. Но я почти ни о чем не жалею. Я никогда до конца не понимал, в чем заключалось их сходство с синьориной фон Бек, потому как они были вроде гвоздя и панихиды, но, возможно, оно заключалось в самообладании. Конечно, об общих интересах не шло даже речи! В последний раз, когда я пытался рассказать миссис Корнелиус о принципах инженерного дела, она выскочила из паба, вопя, что пузырь у нее совсем ослаб; в итоге мне пришлось занять фунт у мисс Б., чтобы заплатить за выпивку. А с синьориной фон Бек я странным образом сблизился. Мы вместе обсуждали великие проекты. Как только Коля улегся спать, я рассказал ей немного о «Лайнере пустынь». Она, в свою очередь, нарисовала для меня схему поезда метро, оснащенного ракетным двигателем. Она сказала, что итальянское правительство хочет изготовить экспериментальный опытный образец. Зная, что Муссолини привлекал в свой лагерь известных людей, она согласилась на полет на шаре ради рекламы, а не из научного интереса. — Мне все это казалось просто восхитительным, пока меня не подстрелили. Конечно, я отчасти сама виновата — опустилась слишком низко, чтобы спросить у тех арабов, где я очутилась. Однако, мне кажется, даже на то была воля провидения. Как забавно, а, шейх Мустафа! С рассвета до десяти часов утра мы пытались починить шар, штопали ткань и собирали топливо, чтобы развести огонь и нагреть воздух для первоначального этапа подъема. Коля нехотя помогал нам. Мы перенесли аппарат на вершину холма, откуда открывался вид на мертвый город, и, следуя инструкциям синьорины фон Бек, я установил рукав, по которому в шар подавался нагретый воздух. Увидев, как огромный овальный купол начинает заполняться, я едва сумел сдержать чувства. Теперь итальянский флаг развевался высоко в небе. Я вообразил Новый Рим Муссолини, его великую африканскую империю, которая наконец-то отбросит Карфаген в небытие. К небесам этой страны воспарит множество таких кораблей. На руинах благородного прошлого восстанут архитектурные строения, величием и изяществом напоминающие сооружения Древнего Рима. Воздушный шар был запечатленным видением! Казалось, со мной говорил ангел. И ко мне возвращалось мужество. Я знал, что должен пробиться ко двору дуче как можно скорее, чтобы связать свою судьбу с его судьбой. Дурную славу фашизму создали не такие идеалисты, как я. Однако я не был бы джентльменом и христианином, если бы не признавался в прошлых привязанностях. Крайности, на которые решались помощники Бенито Муссолини, лучше всего сравнивать с крайностями, к примеру, испанской инквизиции, последовавшей за Фердинандом и Изабеллой в мавританскую Испанию. Они увидели разврат, темные суеверия, упадок, сластолюбивый ориентализм, ученые абстракции — и ответили на священный призыв, изгнав из принадлежавших им земель восемь веков зла и моральных низостей[1144]. Они оживили своих людей и вернули им историю. Иногда человек, слишком сильно изводящий себя сомнениями, не может противостоять злу, которое несет его враг. Итальянцы — сентиментальные люди. Им нужен диктатор, нужна дисциплина фашизма, чтобы они стали великими; иначе их одолеет врожденная лень. То, что они повернулись спиной к единственному лидеру, который мог сделать их великими, — лишь новое доказательство моего тезиса. Кто они теперь? Где их богатства? Несколько развалин и фонтаны эпохи Ренессанса, которые можно сдавать в аренду как реквизит для новой синерамной[1145] киноэпопеи! Несмотря на всю свою способность к предвидению, в этом случае я различал впереди только светлое будущее. Я видел совершенство. Скоро шар качался вверху, словно кит, попавший в сети, и синьорина фон Бек принялась запускать небольшой двигатель, грея его до тех пор, пока в клапанах не засвистел обжигающий пар. Горячий воздух удерживался под куполом, но позабытый пропеллер еще не работал. Теперь, когда корзина подпрыгивала, натягивая веревки, летчица решительно взялась за дело; она проверила балласт, осмотрела все детали и обратила особое внимание на аккуратно пришитый кусок синего шелка, который прикрыл часть национальных символов и букв. Мисс фон Бек, словно нимфа, порхала возле двигателя и веревок, улыбаясь всякий раз, когда ее корабль подчинялся командам. Она в волнении высунулась из корзины и помахала рукой Коле, который стоял с открытым от удивления ртом, наблюдая за оживавшим воздушным судном. Все веревки натянулись до предела, а кое-какие, казалось, в любой момент могли порваться или выдернуть из земли колья, к которым были привязаны. Мисс фон Бек попросила нас снять рукав для подачи воздуха и снова радостно помахала ладонью. — Ура! Замечательно! Какая удача, что вы, друзья, оказались рядом! Давайте затащим на борт багаж. Скажите, что вы собираетесь делать с верблюдами? Коля пробормотал что-то грубое. Я обратился к нему по-русски: — Ты снова заговариваешься, Коля, друг мой? Прими ее предложение! Мы можем оказаться в Танжере через неделю! — Или во Французской Экваториальной Африке, — уныло заметил он. — Димка, нельзя направлять в нужную сторону воздушный шар. Но можно идти по дороге. По крайней мере, тогда я буду знать, куда двигаюсь. Оставь ее. Она — привлекательная и опасная женщина. Она живет ради острых ощущений. Я думал, что пока приключений тебе достаточно. Твое предложение не дает никаких очевидных преимуществ. А если мы последуем первоначальному плану, то будем точно знать, куда идем. — К черту, Коля! Рисковать теперь ни к чему. — Он в порядке? — спросила синьорина фон Бек по-английски. — Он боится лететь на вашем корабле, я полагаю, — тоже по-английски ответил я, а потом по-русски добавил: — Здесь для тебя ничего нет, Коля. — Только мерзавец бросил бы бедных верблюдов, — сказал он. — Я остаюсь. Такой аргумент я не мог парировать. Я и сам не хотел покидать свою прекрасную Дядю Тома. И все-таки на этой дороге беззакония у нее было куда больше шансов выжить, чем у меня. Я страдал от чувства вины и никак не мог смириться с мыслью о расставании с Колей. И все же выживание в такие моменты требует забыть о чувствах. Дядя Том могла найти новых хозяев в пустыне, хоть даже в лице вернувшихся гора. Она была слишком хороша — к ней станут с любовью относиться все, кому бы она ни досталась. — Давай же, Коля. — Я в последний раз попытался убедить друга, больше для очистки совести. — Синьорина фон Бек говорит, что ветер отнесет нас на запад. Она предпочла бы направиться на север, но, по ее словам, мы так или иначе доберемся до Триполи или Танжера. — Или до Тимбукту, — многозначительно заметил он. — Это вам угрожают неведомые опасности, а не мне. Отправляйся, если хочешь. Просто оставь мне моих верблюдов и наши припасы. — Все, что пожелаешь. С удовольствием, — ответил я. Мысленно я уже перенесся в Италию. Я неудержимо стремился к идеалам, я думал, что возвращаюсь к своему истинному призванию. О, Эсме! Ты видела, как я летел. Я снова обретал веру в силу разума и науки. Меня переполнял Святой Дух. Я двигался все быстрее. Мои чувства вернулись благодаря мудрости Аллаха. Мертвым я ушел в пустыню, и из пустыни я явился, чтобы жить снова. Наконец-то мое тело запело прекрасную песню. — У тебя есть паспорт? — Настроение Коли, казалось, неожиданно испортилось. Его резкость меня немного расстроила. Ведь именно меня, в концеконцов, отвергли и бросили! — Разумееется, да. Я сниму свою сумку с Дяди Тома. — У вас много воды? Он втягивал в себя воздух пустыни, как будто восстанавливая силы. Потом я услышал, как он напевает мотив из «Тристана и Изольды». — Много. Когда я расставался с Дядей Томом, Коля настоял на том, чтобы проводить меня. Он помог мне привести это прекрасное существо обратно по крутой тропе к вершине холма, где у воздушного шара ждала синьорина фон Бек. Ее волосы теперь трепал сильный бриз, и шифоновый шарф взлетал высоко над головой. — Ты дурак, — пробормотал Коля. — Я не боюсь лететь в этой штуке, хотя затея и безумная, но я побоялся бы отправиться с ней. Она опасна, поверь мне. Вернись в пустыню, вернись к свободе. Димка, ты никогда не знал таких женщин, как она. Она отнимает энергию. Она играет с великими силами и обречена на смерть, как и все ей подобные. И она заберет с собой по крайней мере одного бедолагу. Она ненадежна, как взрывчатка. — Это всего лишь ревность, Коля. Прошу тебя, перемени решение. Не унижайся и не посягай в своем беспокойстве на честное имя леди. Синьорина фон Бек, очевидно, благородная дама. Она наделена острым умом. Это ум, достойный мужчины. Но она никогда не могла бы встать между нами, Коля. Мы — братья. Я просто беспокоюсь о твоем благополучии. Хватит ли тебе наших припасов, чтобы продержаться всю дорогу? Друг пожал плечами. Он взял у меня из рук повод Дяди Тома. — Верблюды — мой главный запас. Нужно продать их прежде, чем я смогу сделать что-то еще. Дядю Тома я попытаюсь сохранить, клянусь. — Если придется, ты должен получить лучшую цену за Дядю Тома, — заверил я Колю. — Как только доберешься до следующего большого оазиса. — Я отыщу тебя в Танжере, — пообещал он, — и отдам тебе твою долю. В конце концов, ты помог нам сюда добраться. — Может, и так. — Я крепко ухватил его за плечо. — А пока, старый друг, тебе нужно поменьше принимать наркотиков. У тебя ничего не останется к тому времени, как ты доберешься до города. — О, я продержусь. Мы подошли к воздушному шару, и он снова начал бормотать, передавая в корзину мой чемодан и другой багаж, пока я поднимался наверх, чтобы помочь синьорине фон Бек убрать сумки в шкафчики. Я наклонился над краем корзины и, вопреки бедуинскому обычаю, пожал руку Коли, а затем прижал его к себе и поцеловал. — Прощай, добрый друг, — сказал я по-арабски. — Пусть Аллах и впредь защищает тебя и ведет к цели безопасной дорогой. — Ваш раб и впрямь не полетит с нами? — Синьорина фон Бек казалась разочарованной. — Я дал ему свободу, — отозвался я. — Он решил взять верблюдов и в одиночестве отправиться в путь по дороге Дарб эль-Харамия. Пусть Бог пребудет с ним. По крайней мере, за верблюдами он проследит. Он хорошо обходится с животными. Они представляют для него большую ценность. Видите ли, синьорина фон Бек, он похож на меня, он тоже человек пустыни. Однако, в отличие от своего хозяина, он не может поверить, что будет счастлив в любом другом мире. Так обстоят дела. Мы такие, какие есть. Это воля Божья, и Бог защитит его. Больше я ничего не мог добавить. Мой друг выбрал свой путь, и мне больше не следовало подвергать сомнению его решение. И все-таки, кажется, слезы стояли у меня в глазах, когда я махал ему на прощание. Коля отвязал последние веревки, которые удерживали шар на земле, и мы быстро поднялись, крича «бог в помощь» и «прощай». Я с колотившимся сердцем следил за тем, как друг повернулся и побрел к остаткам своего имущества. Бедный Коля! Я постеснялся сказать ему, что переложил часть нашего груза в собственные сумки задолго до того, как достиг оазиса, — исключительно ради безопасности. У меня было три фунта кокаина, фунт героина и четыре фунта гашиша — все из тайника в горбах верблюда. После этого груз значительно уменьшился, так как Коля уже употребил немалую часть своей доли между Куфрой и Зазарой. С другой стороны, я, конечно, спасал Колю от него самого, и теперь он практически избавился от опасности — его не ограбят ради того, чтобы отобрать остатки наркотиков. Я не защищаю торговлю наркотиками и никогда бы по своей воле не ввязался в это дело, но мне, увы, пришлось заняться подобным бизнесом, и казалось только справедливым, что я должен получить какую-то прибыль. В итоге товар все равно будет использоваться одинаково. Синьорина фон Бек отклонилась в сторону, изучила внешнюю оболочку купола и с облегчением убедилась, что заплата выдерживает нагрузку. Ее губы приоткрылись в радостной улыбке, когда она посмотрела на горизонт, который расширялся и расширялся, по мере того как мы поднимались, равномерно и легко, все выше к бескрайнему синему небу Сахары. — Вы, очевидно, мужчина, — сказала она, — который в жизни идет собственной дорогой. Я оценил то, что она признает мою индивидуальность, но оставался настороженным и старался не отступать от роли. Я не мог допустить, чтобы мою маскировку раскрыли. — По воле Аллаха, — сказал я. — И как направит Аллах. Я смотрел вниз, на оазис. Я все еще мог различить друга, я видел карликовую фигурку, спускавшуюся к крошечному бассейну и миниатюрным животным. — О, взгляните! — взволнованная синьорина фон Бек указала на восток. — Вот они! Как забавно! Те арабы, которые подстрелили меня! К счастью, мы уже высоко поднялись. С вашим рабом все будет в порядке? Я смотрел на дюны огромного Моря Песка. От Зазары с величественной неспешностью ехали те же самые туареги, которых мы видели несколько недель назад неподалеку от Эль-Джауфа. В руках они держали длинные тонко сработанные ружья, из-под накидок сверкали жестокие глаза. Они никого не боялись. Было очевидно, что они обнаружат Колю прежде, чем тот успеет убраться с их пути. На мгновение я обернулся к «гатлингу», подумав, что мог бы отпугнуть их, но они находились почти за пределами досягаемости, а я понятия не имел, как подействует на корзину отдача от мощного пулемета. Теперь туареги увидели нас. Они подняли винтовки к плечам, крепко обхватили ногами широкие кожаные седла и прицелились. Но их залп не достал нас или просто все пули пролетели мимо; пока туареги перезаряжали ружья, мы набрали более чем необходимую высоту, чтобы стать недосягаемыми для их примитивных винтовок. Увы, к несчастью для Коли, Бог дал ему лишь несколько часов свободы. Мой друг должен был снова стать пленником. — Как звали твоего слугу? — спросила она, натягивая веревки. — Юссеф, — сказал я. Она подошла ко мне и встала у борта. — А ты — Мустафа. Думаю, нам не стоит соблюдать формальности. Синьорина фон Бек крепко сжала мою руку. — Ты должен называть меня Рози, — настойчиво сказала она. — Я так рада, что нахожусь под защитой настоящего принца бедуинов. Правда, ты и впрямь больше похож на Рудольфа Валентино. Хотя ты гораздо утонченнее… Туареги, Зазара и все наши проблемы остались позади. И когда воздушный шар изящно воспарил в кровавых лучах заходящего солнца, я обнял свою Розу.Глава двадцать третья
Теперь я не мог искать спасения в сексуальных фантазиях. Взамен мне открылось великое множество интеллектуальных наслаждений. Е si risuelgo da quel sogno di sangue, con ispavento, con rimorso, e insieme con una specie di gioia… Черные полосы пересекались с белыми. Зрелая красота притягивала меня. Yusawit! Yuh’attit! Yuh’attit! Yukhallim. Yehudim. Yukhallim. Ana ‘atsha’an. Bitte, ein Glas Wasser. Они отказывались меня понимать. Я никогда не был ein Musselman. Dawsat. Walwala. Я слышал его. Это был не я. Я слышал, что он предал нас. Ермилов. Yehudim! Yehudim! Gassala. Meyne pas. Meine peitsche. Meyn streifener. Meine Herzenslust…[1146] Иногда в пустыне я молился об обретении Веры. Как я завидовал своим верующим спутникам. И все же, возможно, многие из них тоже молились лишь для того, чтобы не отличаться от прочих… Я летел. Я жил. Мир подо мной омывали золотые потоки. Атлантида восставала из звездной пыли. Мои шрамы были серебряными. Они были цвета черного дерева. Меня не могли держать в этом вагоне для скота. Я отказался назвать себя. Он не был моим Volksgenosse[1147]. Я так сказал. Мои глаза никогда не знали такой красоты; моя душа никогда не ведала такого покоя и безопасности. Мы плыли в ветрах пустыни — днями и ночами чудес. И она вернула меня на Землю жизни и возродила мое будущее. — Тебе известен Мандзони[1148]! — воскликнула она. Я не признался, что читал его только в русском переводе… Di non aver fatto altro che immaginare… Будь хорошим, он сказал, будь хорошим. Будь милым, он сказал, будь милым. О, Dios! О, Иисус! Que me occurre? Sperato di diventare famoso. Qualcosa non va?[1149] — Уверена, — произнесла она, — что именно ты открыл мне глубину истинно арабской мысли. Мне польстил ее комплимент. По утрам и вечерам, когда мы парили высоко над розовым и охряным Морем Песка, тревога отступала, но днем, когда мы опускались ниже всего, следовало проявлять особую осторожность. Температура могла подниматься до ста сорока градусов[1150]. И пейзаж внизу больше чем когда-либо напоминал виды Красной планеты. Я вообразил, что под песком скрыты гигантские орудия, готовые выбросить снаряды в сладкий воздух Земли — в смертельный воздух Земли. Здесь, в пустыне, всякая смерть была благородна, всякая жизнь была великолепна. Полустертые ветрами горные цепи и моря бушующего песка, мягкого, как пух, убийственного, как цианид, оставались позади нас, миля за милей — блестящие озера соли, реки обсидиана. Полная грез пустыня ждала чуда, которое возродит ее — и тогда перед нами предстанут деревья, животные, реки, поля, города. И вернется великолепное прошлое. И все-таки, думал я, какие странные создания могли бы появиться здесь? Сколько веков эти пустоши удобрялись кровью Карфагена? A quei tempi c’eramo oceani di luce e citta nei cieli e selvagge bestie volanti di bronzo… Por que lo nice? «Du bist mein Simplicissimus»[1151], - сказала она. Но это было намного позже. Сейчас, когда мы дрейфовали над бесконечными пространствами под неизменными небесами, я стал ее господином и учителем, ее ближайшим другом; и все же я не испытывал желания познать ее. Мы лежали, сплетясь в объятиях, а сильный ветер сотрясал большой купол, заставляя веревки и корзину басовито гудеть. Невероятный шум заполнял пустыню, словно биение пульса Аравии. Мы не чувствовали опасности, продолжая дрейфовать к западу, к Алжиру и испанскому Марокко. Если не удастся спуститься на материк, сказала она, тогда, возможно, придется садиться на Канарских островах, которые также принадлежали испанцам. Испанцы с радостью нас примут. — У меня есть друзья в колониальной службе. Но с тех пор, как капитулировал Абд эль-Крим, рифы повсюду. Некоторые банды просто ненавидят всех европейцев. Даже ты, шейх Мустафа, не сможешь защитить меня. Я напомнил, что прекрасно видел, как она обращалась с митральезой, — сомнительно, что ей понадобится чья-то защита! Это замечание не было лестью. Рози фон Бек не помогла мне разгадать тайны женщин. Скорее она позволила мне обнаружить новые. Я пришел в себя под бескрайними сверкающими небесами, в объятиях той, которую Коля назвал разрушительницей и которую я назвал Розой. Моя роза. War’di War’di, ana nafsi. Sarira siri’ya. D’ruba D’ruba[1152]. Ее удивили мои шрамы и бледность, и я упомянул о тюрьмах и турецких пытках. — Ты не всегда был властелином, сиди? — сочувственно спросила она. — Истинно верующий человек принимает волю Аллаха. И я с радостью повторю, что шел путем смирения. Она пробормотала, что смирение, кажется, не самая заметная черта моего характера. Я улыбнулся в ответ, поглаживая густую темную бороду. — Ты должна знать нашу пословицу — олениха всегда склоняет колени перед оленем. Все это тоже предначертано. Благодаря ее желанию я вновь обрел мужественность. Я обрел силу. Я возродился. Она уступила собственным фантазиям и утратила всякую сдержанность, уверенная, что нет никаких свидетелей, исключая стервятников, орлов и меня. Она называла меня своим Ястребом — эль-Сахром. Но ее спасение мне было недоступно; мое удовольствие порождалось тем волнением, которое даровало вновь обретенное чувство силы, чувство собственного «я». Она вернула мне прежний мир грез, вернула мои города и мою душу. Вот дар, вручаемый Женщиной Мужчине. Только невежественный чурбан может отказаться от такого дара. Вот истинный союз плоти и духа, о котором говорил святой Павел. И все-таки я оставался для нее персонажем из романа; она не видела подлинного Максима Артуровича Пятницкого, «Аса» Питерса, завоевателя Голливуда. Взамен она создала иной образ — алтарь, на котором она могла бы принести в жертву свою индивидуальность и родиться заново в облике Вечной Женственности. Я был в этом смысле нематериален. Часто, когда она вспоминала о детстве и юности в Албании, Италии и Испании (там она училась в школах при женских монастырях), казалось, что она просто размышляет вслух, довольная тем, что я не могу понять некоторые слова и поэтому никогда не сумею уловить весь смысл сказанного. Тут Рози была совершенно права, потому что она иногда использовала албанский, иногда итальянский и часто — английский. Я бегло говорил только на английском, хотя и выучил отдельные итальянские слова во время пребывания в Риме с Эсме, перед отъездом в Париж. Рози с нежностью упоминала какого-то Бон-бона. Через некоторое время я понял: Бон-бон — нынешний диктатор Италии. Было совершенно очевидно, что моя спутница еще сохраняла привязанность к нему, но между ними случилась какая-то размолвка. Угроза общественного скандала и давление ближайших родственников — вот что разрушило их идиллию. Она также полагала, что он увлекся американской наследницей, «одной из Макрэйни», и не мог себе позволить ухаживать сразу за двумя дамами. — Но его чувства к женщинам совершенно ясны. Обернувшись ко мне, Рози спросила: — Ты читал роман «Любовница кардинала»[1153]? Я признался, что не читал. И добавил, что у меня не было времени на сенсационные романы. — Это написал сам Муссолини, — произнесла она. — Я прочитала книгу прежде, чем повстречалась с автором. Уже в ней он ясно указал на все, что нужно Италии, чтобы вернуть себе прежнее значение. Он — романтик, которому свойственно сильное стремление к порядку. За исключением Фиорелло, я не хотел упоминать о своих друзьях в Риме. Среди них были и те, кто почти сразу же поддержал фашистскую партию. Но мне пришлось бы слишком много объяснять. Меня зачаровал образ, который мы с Розой создали для меня вместе, к нашей взаимной выгоде. Полагаю, моей моделью был Кара бен-Немси — великий немецкий ученый-авантюрист из книги Карла Мая «Durch die Wüste»[1154]. Я прочитал этот роман в детстве, в Киеве, примерно в 1912‑м. Май принадлежал к числу немногих прозаиков, которых одобрял мой учитель, герр Лустгартен. По его словам, Май был по-настоящему «philosophisch».Глава двадцать четвертая
Иллюзии, которые человек создает в кино, не всегда воплощаются в действительности. Слава, как и власть, влечет за собой огромную ответственность. Паша и его гости возвращались с охоты на антилоп. По дороге в касбу Глауи в Тингерасе[1169], будучи почетным гостем с голливудских небес, я сожалел о том, что осторожность мешает мне рассказать восторженному лейтенанту Фроменталю о роли каскадеров в кино. Вместо этого я объяснил свою неловкость в седле последствиями старой доброй малярии. Услышав такие новости, лейтенант выразил поистине братское беспокойство. Он сообщил, что в гостях у паши вскоре будет чешский врач (паша завел немало полезных знакомств во время частых визитов в Париж). Возможно, выдающийся доктор Н. сумеет что-то сделать для меня? Я сказал, что очень благодарен за это предложение, но должен просто перебороть болезнь. Я был уверен, что через несколько дней (втайне я рассчитывал к тому времени уже сесть на поезд до Касабланки или Танжера) совершенно поправлюсь. Похлопав меня по спине, молодой француз заверил, что мы будем в крепости к следующему вечеру. А если мое здоровье улучшится, то я смогу присоединиться к нему и во весь опор проскакать по пустыне, пока это еще возможно. — После Тафилальта, когда мы достигнем Атласа, — Фроменталь указал на охристые предгорья огромного хребта, теперь скрывавшего горизонт на севере, — нам придется пробираться по тем проклятым тропам и по каменным грядам, которые здесь служат тропами; иначе нам не миновать местных пропастей. Нам еще повезет, если мы вообще сможем ехать верхом. Уже не в первый раз с тех пор, как я уехал из Калифорнии, мне показалось, что пара пропастей — это куда лучше, чем мое теперешнее затруднительное положение. Я по-прежнему верю (если хотите, можете называть это предательством памяти предков-казаков), что лошадь была просто грубой временной мерой, которую мы использовали вместо двигателей внутреннего сгорания. По какому-то странному капризу природы моему темпераменту больше соответствовал не галоп жеребца, а медленный, размеренный шаг верблюда. Благодаря врожденному стратегическому чутью эль-Глауи стал истинным властелином Марокко. В венах этого энергичного маленького человечка текла кровь арабов, негров и берберов, трех главных народов этой страны; итогом такого смешения стал заурядный внешний облик — подобное посредственное пухлое лицо, украшенное куцей бороденкой, могло быть у любого банковского служащего, от Бангкока до Треднидл-стрит. Однако оживление, которым горели его глаза, сразу привлекало внимание, и иногда все его лицо светилось, подобно солнцу, — не всегда от радости, но от стыда, презрения или ярости, возможно, в ответ на какую-то несправедливость космического порядка. Чувство собственного достоинства придавало эль-Глауи некое очарование. Он понимал, что добился того, к чему стремились большинство мужчин и чего желали почти все женщины. Он доказал свои притязания в бою и за столом переговоров. Он завоевал Юг и совершил большое паломничество в Мекку, таким образом решительно продемонстрировав храбрость и благочестие. Теперь он демонстрировал изысканность, утонченность и поистине научный интерес ко всему, что мог предложить мир. Эль-Глауи, конечно, был не первым мусульманским принцем, который стремился занять место Гаруна аль-Рашида или даже Саладина, но на какое-то время он ближе всех подобрался к этой цели. Я мог бы сказать, что он добился результата благодаря сообразительности, личному очарованию и безжалостному практицизму. Он был дикарем, когда встречался с врагами, но мог проявить щедрость к побежденным. Он оставался вежлив, но тщательно продумывал все слова и жесты, как подобает благородному берберу, его отличала спокойная ирония, которая так нравилась женщинам, и разумная скромность, сразу привлекавшая собеседников. Европейцам очень повезло, что очаровательный Тами эль-Глауи, тан этого далекого Кавдора[1170], хотел править только одной малой частью Магриба, опираясь на помощь французских союзников! Он был настоящим Наполеоном! Александром! А те люди, которые теперь пренебрежительно к нему относятся или говорят мне, будто он не представлял ничего особенного и мог существовать только в тени французов, — они приняли на веру официальное мнение о героическом, а скорее просто менее харизматичном султане, который теперь называет себя королем. Истиной становится то, что подают как истину представители власти. Именно так поступили с Махно и Мосли. (Не то чтобы я ими восхищался, но их храбрость нельзя было отрицать.) Мы превращаем этих отважных беглецов в каких-то гоблинов, стремящихся творить зло, при том что сначала использовали их ради собственной выгоды. Затем мы умаляем и забываем их достижения. Это паша Марракеша, а не марокканский султан и не алжирский бей был желанным и узнаваемым гостем во всех салонах и даже будуарах Вест-Энда. Уинстон Черчилль называл его братом по духу. Шарль Буайе[1171] стал его другом, Ноэл Кауард создал в Марракеше сценарий своего знаменитого фильма о подводной лодке[1172], а одного из героев списал с эль-Глауи, чья популярность намного первышала популярность короля Фарука или Ага-хана[1173]. Эль-Глауи был куда более культурным. Я первым скажу, что нисколько не завидовал его успехам. (Мы оба стали жертвами одного и того же жалкого Яго. Но, как обычно, мне не дали возможности объясниться. У людей теперь не осталось никаких человеческих чувств. Даже следователям недостает терпения и выдержки прежних царских профессионалов.) В своих владениях, особенно в одном роскошном зале, паша доказывал, что не отстает от жизни и следит за достижениями цивилизации; он обеспечивал гостям все современные удобства, включая новейшие граммофонные пластинки и трехчастные фильмы, главным образом французские. У него были великолепная пианола и все свежие записи. Я услышал об этом от лейтенанта Фроменталя, когда мы ехали по мавританскому раю, через рощи темно-зеленых финиковых пальм, длинные тени которых опускались на небольшие лагуны и ручьи. Под безоблачным насыщенно-синим небом красная пыль взлетала над выветренными терракотовыми холмами, где высились зубчатые башни десятков мелких вождей, вассалов нашего хозяина, которые исполняли его повеления под страхом смертной казни. Здесь царила невероятная тишина. Здесь становилась понятна уверенность паши в себе, в своей безграничной защищенности. Я завидовал этому феодальному могуществу. И все-таки уже тогда я знал цену подобного могущества. Чтобы добиться его, нужно было сражаться — и продолжать сражение каждую секунду, чтобы удержать власть. В племенах пустынь, так же как в современных деловых кругах, всегда есть молодые соперники, дожидающиеся лишь первых признаков слабости. Их нравственные правила мало чем отличаются от правил боя, которым следуют дикие олени, — только окружающему миру они наносят куда больше ущерба. И все-таки эль-Глауи был настоящим принцем эпохи Возрождения. Если бы французы не предали его, он создал бы династию, настолько же известную и замечательную, как династия Борджиа. У его народа был бы принц и папа в одном лице. У эль-Глауи сложилось впечатление, что мы — американские киноработники, взявшие напрокат воздушный шар и случайно приземлившиеся на его землях. Как он считал, мы прилетели из Алжира. Нам не стоило разочаровывать его, тем более что это превосходно объясняло наличие кинокамеры, которую он, опасаясь итальянских шпионов, мог счесть доказательством каких-то тайных происков. Роза рассказала ему некую историю, и он охотно ее принял. Он приветствовал нас в своей столице как истинных художников и настоял, чтобы мы стали его личными гостями, пока будем жить в Марракеше. При дворе у него уже собрались политические деятели, поэты, актеры и известные персоны со всего мира. В нашей охотничьей компании оказались мистер А. Э. Дж. Уикс, служивший в саперных, позднее в инженерных войсках, который прибыл для подготовки к строительству новых защитных укреплений, чтобы остановить возможное вторжение берберов Сахары (многие из них все еще отказывались признать эль-Глауи своим вождем), и граф Отто Шмальц, офицер Свободного немецкого армейского корпуса в изгнании, нанесший визит вежливости из Константинополя. Он был капитаном, дворянином старого южно-немецкого типа; прусское военное образование не оказало на него большого влияния. Капитан в тот же день сообщил мне, что учился в Гейдельберге и у него осталось несколько приличных шрамов в качестве подтверждения. Эль-Глауи, который ехал рядом и внимательно прислушивался к разговору, весело заметил, что ритуал шрамирования теперь распространен только в самых примитивных из его кочевых племен. Когда немцы собираются искоренить этот обычай? В ответ румяный молодой граф едва не закричал, его лицо цветом стало напоминать свежеразрезанный арбуз, и он резко заметил, что паша — добрый малый. Его хозяин в ответ знаком простился с нами и присоединился к мисс фон Бек — он очень обрадовался, узнав, что моя спутница не итальянка. Она отказывалась разговаривать со мной с тех пор, как мы отправились в путешествие в горы. Сначала я полагал, что она позволяла маленькому мавру повсюду сопровождать себя, чтобы вызвать у меня ревность, а потом стал склоняться к другому выводу: поскольку я оказался всего лишь умелым исполнителем роли арабского принца, она решила завоевать настоящего. После этого я утратил к ней эмоциональный интерес. Мои раны были слишком свежи. Я знал только одно средство избежать боли, которую испытал от предательства Эсме. Я примирился с тем, что положусь исключительно на собственные ресурсы — по крайней мере до тех пор, пока у меня не будет возможности побеседовать с мистером Миксом наедине. Теперь я понял, что мистер Микс воспользовался своим опытом и знакомством со мной, чтобы найти себе место у монарха. Он стал личным режиссером эль-Глауи и официальным оператором двора. Он постоянно возился со своей камерой — новейшим аппаратом «Пате»[1174], - которую носил на себе в особой «колыбели», что позволяло ему поворачивать рукоятку, даже пока мы двигались. Меня очень огорчало, что фильм Микса был предназначен только для частного показа во дворце паши. Эти ролики стали бы самым популярным в мире травелогом, подтвердив представления западных зрителей об арабской роскоши и декадентской расточительности, связанной с почти неограниченной властью на фоне почти невероятной романтики, — особенно когда мы достигли пальмовых рощ, ручьев и бассейнов оазиса Тафилальт. Небольшие соломенные хижины деревень, ветхие замки и пустынные холмы, ярко одетые женщины и простые достойные мужчины — все напоминало какой-то замечательный роман Скотта, Киплинга или Ф. Мариона Кроуфорда[1175], где вознаграждалось благородство души, самоотверженность и храбрость, где в любой момент мог появиться Кара бен-Немси Карла Мая, приехав на своем белом верблюде по слежавшемуся песку; где из-за каждой скалы сейчас, казалось, выйдет Аллан Квотермейн[1176], дружески приветствуя путешественников. Нам мог бы повстречаться галантный сарацин из богемного романа, какой-нибудь средневековый французский джентльмен, которого мавры почитают как героя. Я видел такое во многих фильмах. Именно это сделало «Лоуренса Аравийского» настоящим посмешищем в мире кочевников, как я слышал. Миссис Фези с Тэлбот-роуд просто смеется, когда я вспоминаю о чем-то подобном. — Все это шутка, — говорит она по-арабски. Она любит беседовать с теми, кто понимает ее. Даже египтяне, по ее словам, иногда притворяются озадаченными. Она говорит, что не хочет терпеть поношений от этих ублюдков, которые любят евреев, хотя благородно соглашается, что все мы должны быть снисходительными и помогать друг другу, даже таким отсталым христианам, как я. Поскольку она мне нравится, я повторяю молитву вместе с ней. Это успокаивает нас обоих. Я не сожалею о времени, проведенном в пустыне. Дело не в том, как человек поклоняется Богу, а в том, как человек повинуется Ему, говорю я. Но она не станет повторять «Отче наш», хотя я переписал молитву для нее. Я ее не виню. Она — крестьянка, а во мне течет кровь королей. Так или иначе, говорю я, где бы мы все были без евреев, а? После этого она отказывается слушать меня. Она ведет себя так же, как вежливые русские, когда при них упоминают о Сталине. Возможно, в конце концов, Сталин и впрямь был не только грузинским военачальником, но также и восточным богом? Возможно, Иисус был нашим первым истинным пророком, и в таком случае я трачу впустую время, занимаясь тем, что называю антимиссионерской работой. Если эти люди хотят приехать на Запад, чтобы устроить тут восточную трущобу, возможно, мне не стоит и пытаться изменить их судьбу к лучшему. Но действительно ли они счастливы? В их мире, во всяком случае, никто не презирает их из-за внешности или верований. Средние века ближе и ближе. Вокруг нас идет жестокая Война Времени, а мы притворяемся, что ничего подобного не происходит. Мы говорим о качестве рыбы с жареным картофелем. Кто эти кочевники времени, пересекающие границы, являющиеся из несуществующих стран в прекрасный мир Парижа, Лондона и Амстердама? Наши ценности во всем отличаются от их ценностей. Мне приходит в голову, что все преступления, совершенные против невежественных и невинных за многие годы, вернулись бумерангом и теперь сокрушают страны богачей. Их духи — призраки, населяющие сокровищницу нашего наследия. Мы не можем насладиться нашим благосостоянием и не владеем им. Цена войны бесконечно велика. Мы никогда не избавимся от ее жертв. Многие поколения испорчены войной. Многие поколения платят самую страшную цену — они смотрят, как рай медленно уменьшается, сжимается, тает. Я помню Мюнхен. Я все еще не верю, что Führer был тогда неискренним. Я принадлежу к поколению, которое согласно с мыслью, что «на войне победителей нет», — полагаю, мы доказали это утверждение. И все-таки Тами эль-Глауи посчитал бы меня безумцем, если бы я сделал подобное заявление, когда он двигался во главе огромной свиты, длинных рядов повозок и вьючных животных, в окружении флагов и солдат, к каменной твердыне своего семейства. — Великий лэрд[1177], - объявил мистер Уикс, мать которого принадлежала к роду Маккензи, — и джентльмен до кончиков ногтей. Той ночью мы расположились лагерем, разбив его поодаль от деревни, чтобы не страдать в тесноте от гостеприимства местных вождей, которые продемонстрировали подношения жителей, состоявшие главным образом из ягнят и коз, устроив дайфу — традиционный приветственный ритуал. Они на наших глазах перерезали целое стадо, а потом поджарили туши над ямами, вырытыми в песке. Позже, когда мы пировали, явились местные музыканты, исполнявшие невероятно печальные берберские любовные песни, сильно напоминавшие те музыкальные упражнения, которые теперь называют ковбойскими и западными и которые возникают из подобных крестьянских корней. Этим прославлениям космической жалости к себе аккомпанировали барабанщики; монотонный ритм мог соперничать с любым современным «танцем из джунглей» в «Вершине популярности»[1178]. Дурной вкус поистине одинаков у всех народов и во все времена. Я сидел рядом с лейтенантом Фроменталем, мистером Уиксом и графом Шмальцем, а Роза фон Бек уединилась с пашой. Они не обращали внимания на музыку, и я завидовал им. Другие местные сеиды и их вассалы, казалось, испытывали от этих развлечений те же неудобства, что и все мы. Только мистер Микс как будто наслаждался происходящим, снимая их и нас с разных сторон; массивные батареи позволяли ему использовать прожектора, и тогда в кадр попадало что-то еще, кроме мерцающих теней (в итоге ему все равно пришлось попросить, чтобы музыканты повторили свое выступление на этом невероятном фоне следующим утром, пока все прочие собирали вещи и готовились к отъезду). Я по-прежнему никак не мог остаться с негром наедине. Я начал подумывать о том, не избегает ли он меня, но потом мне пришло в голову, что кино стало подлинным призванием сообразительного африканца. Поскольку мистер Микс намеревался вернуться обратно в Америку, он, несомненно, собирался ставить фильмы для зрителей своей расы. Этот бизнес процветал, такие картины хорошо продавались в Африке и на Востоке. Я успокоился, поняв, что рано или поздно мой старый друг доверится мне. Я все еще волновался из-за поведения Розы фон Бек. Мне казалось, что важен человек, а не имя, которым он себя называет. Но, возможно, она считала меня более могущественным, чем обнаружилось, в то время как Тами эль-Глауи был, определенно, самым настоящим монархом, пусть ему и не хватало моей внешности и некоторых особых дарований. Я подозревал, что она, будучи искушенной авантюристкой, мигом взвесила наши возможности и силы. Мне оставалось только радоваться, что я не возлагал на нее особых надежд и не предавался мечтам, а ограничился простой дружбой, — и я использовал ситуацию наилучшим образом, найдя утешение в обществе грубоватых мужественных спутников, в их шутках и частных беседах. Не было ничего удивительного в том, что после окончания пира и фольклорного концерта Роза фон Бек не выходила из шатра паши до самого рассвета, когда она на цыпочках прокралась к себе в палатку. Все воспоминания о былых радостях я уже похоронил. Это стало для меня второй натурой. Плотно сжимать губы умеют не одни англичане. На следующий день, когда мы приблизились к касбе, паша счел своим долгом пригласить меня присоединиться к нему во главе каравана. Пока мы ехали вдоль ровных рядов пальм, на нас смотрели коленопреклоненные крестьяне. Роза не попадалась мне на глаза; как мне сказали, она укрылась в одном из фургонов, страдая от лишений, перенесенных во время нашего полета на воздушном шаре. Сам шар везли в другом фургоне. — Как я бонял, вы не только кинозвезда, но еще и инженер, мистер Битерс. Как и большинство арабов, он смешивал «б» и «п», но был очарователен. Его вежливость и любезность сразу меня покорили. — Мне повезло, и я получил пару ученых степеней, — подтвердил я. — Моя коллега Лалла фон Бек, боюсь, выдала мои тайны. Он оценил, что я использовал арабское имя. — Лалла фон Пек рассказала о вашей неопычайной встрече. Вы вышли из бустыни, мистер Битерс, словно легендарный педуин, и сбасли брекрасную деву! Будьте осторожны, истории о ваших бриключениях набечатают в дешевых журналах. — Он пересказал какой-то древний анекдот, подслушанный на набережной Орсэ, о затруднениях, которые возникли у Буффало Билла после того, как появились сочиненные от его имени истории. — Вы когда-нибудь видели «Шоу Дикого Запада», мистер Битерс? Я признался, что был знаком только с племянником Коди, но общался с некоторыми довольно грубыми типами «с Запада». — Поверьте мне, ваше высочество, в жизни есть куда большие злодеи, чем те, кого нам осмеливаются показать на экране. — Могу в это боверить, мистер Битерс. Однако, бока я не имею удовольствия босмотреть ваши чудесные фокусы в кино, мне нужно ограничиваться реальностью вашего опщества. А кто вы бо опразованию? Я быстро объяснил, что по профессии был изобретателем. Мне уже принадлежала целая серия новых экспериментальных машин, от дирижаблей до великолепного автомобиля на динамите. Я разрабатывал проекты больших кораблей, которые могли бы доставить туристов в пустыню, где люди увидели бы все прелести кочевой жизни. Таким образом, конечно, увеличились бы доходы региона. Именно эта последняя идея привлекла внимание эль-Глауи. Я как можно подробнее описал «Лайнер пустынь». Потом мы перешли к разговору о самолетах; мой собеседник оказался большим энтузиастом воздухоплавания. — Вы что-то знаете о строительстве аэробланов, месье? — Я — первый русский, который летал по воздуху, — сообщил я ему. — Я летал в одноместной машине над Киевом задолго до того, как другие люди задумались о возможности подобных изобретений. Именно за свои достижения в этой области я получил особую медаль в Санкт-Петербурге. — Ах, Битерсбург. Ваше настоящее имя, полагаю? И все-таки вы отказались от такой многоопещающей карьеры, чтопы стать актером? — Его, похоже, это слегка озадачило. Я не знал, с чего начать. В конце концов я решил чуть-чуть просветить собеседника: — Я не стремился, подобно многим современным обитателям Запада, выбрать для себя одну узкую дорогу и мчаться по ней до конца жизни. Я использую все возможности, которые передо мной возникают. Именно так я всегда выживал. Мир кино интригует меня. Какое-то время он меня устраивал, и я полагаю, что считал этот мир своим. Теперь мои интересы сместились в более интеллектуальные сферы. У меня есть целый каталог самолетов, которые я спроектировал за прошедшие годы. Чтобы воплотить проекты в реальность, нужен только просвещенный покровитель. Но, к сожалению, в наши смутные времена таких провидцев немного. — Я летал в тысяча девятьсот тринадцатом году, — сказал паша с некоторой гордостью. — Это пыло интересно, хотя и не ботрясающе. Кое-кому из моих людей обыт не бонравился, но им бришлось его исбытать. Ха-ха! Может, вы, месье, сумеете бостроить маленький воздушный флот, если у вас пудут неопходимые средства? Я остался озадачен, но молча кивнул. Я не мог придумать, что на это ответить. Но моя реакция, казалось, вполне удовлетворила его. Паша пообещал, что мы вернемся к этому разговору, как только доберемся до Тафуэлта. Оставшуюся часть утра, когда склоны стали более крутыми и нам иногда приходилось двигаться цепочкой друг за другом, я пребывал в какой-то эйфории. Неужели Леонардо наконец нашел своего принца? Возможно, мне самой судьбой было предначертано начать триумфальное возвращение в респектабельный мир, вернуть утраченное уважение? Со временем я смогу поехать в Париж и наглядно продемонстрировать, что я был не каким-то второразрядным торговцем дутыми акциями, а честным изобретателем. Тами водил тесное знакомство с самыми влиятельными политиками Франции. Я думал, что в Марракеше смогу исполнить все данные обещания и затем, восстановив репутацию, отправиться в Италию, где, как я был теперь убежден, меня ждала великая судьба. Я ничего не сказал эль-Глауи об Италии, поскольку неприязнь к этой стране стала у него навязчивой идеей. Теперь меня переполнял оптимизм, я так увлекся мыслями о будущем, что не заметил, как мы поднялись на низкий холм, и очень удивился, когда перед нами предстал большой оазис Тафилальт. Это была огромная долина — или несколько мелких долин — примерно двенадцать миль в длину и девять в ширину, где пятна красных камней виднелись среди плодородных пастбищ, среди полей пшеницы и ячменя, среди всех оттенков зелени. Зелень сияла ярче, чем озера и реки в долине. Зеленый был Священным Цветом. Мы остановились, чтобы воздать ему почести. Мы еще долго ехали по извилистой тропе, которая внезапно привела нас к воротам большого замка, построенного на розоватом горном склоне, — замка с разводным мостом, опускной решеткой и прочими атрибутами действующей средневековой крепости. Тафилальт был одним из главных фортов семьи Глауи и принадлежал, шепнул мне Фроменталь, племяннику Тами, которого все называли Стервятником. Хотя Тами считался главой семьи, Сай Хаммон был истинным правителем этой области Высокого Атласа; он владел половиной богатств южного Марокко, и Тами, презиравший родственника, терпел от него унижения и всеми силами старался сохранить с ним мир. Мы въезжали в эту мрачную крепость на утомленных, спотыкавшихся лошадях. Когда я оглянулся и посмотрел в сводчатый проход, мне открылась панорама долины Тафилальта, и стало понятно, почему именно там построена большая крепость. Это место было ключом ко всей области; тайно проникнуть сюда не мог никто. Как только последние воины в цветных одеждах прошли по разводному мосту, его тут же подняли и закрепили на веревках. Внутри все пропахло навозом, во дворе было свалено старое тряпье, какое-то барахло и кучи отбросов, которые пытались сжечь темнокожие невольники. Мы спешились и прошли в широкий, просторный зал; рабы Тами выбежали вперед, чтобы взять нашу верхнюю одежду, а дворецкий провел гостей по узким изогнутым лестницам в довольно прохладные покои. Мое окно выходило туда, где раскинулась, как мавры называли ее, хаммада — каменистая пустыня, откуда, очевидно, можно было ожидать нападения в любой момент. В комнате стояла богато украшенная кровать в провинциальном французском стиле, новенький туалетный столик из бамбука и стол, кажется, испанской работы. Окна были не застеклены, их закрывали тяжелые ставни и английские ситцевые занавески. Раб принес мне горячую воду и полную смену одежды. Она оказалась значительно лучше моего походного наряда. Скоро я вновь насладился такой роскошью, как мыло, и почувствовал прикосновение шелка к коже. Тем вечером наш пир отличался от предшествующего только наличием крыши над головой: в зале играл оркестр и упитанные леди довольно громко вопили, руководя хористами, а также хлопали в ладоши. Внутри было очень жарко, в воздухе смешивались запахи сгнившей древней кожи, горящего мусора и готовившегося мяса; от этого у меня началась сильная головная боль, которую я смог наконец вылечить, приняв столько морфия, что свалился в обморок. Обеспокоенный Фроменталь подхватил меня и отнес в комнату, заверив, что все мне очень сочувствуют. Они просто забыли, какие ужасные испытания я перенес в пустыне. Утром, когда мы покинули угрюмую касбу и начали долгий спуск в прекрасную долину, лейтенант Фроменталь покачал головой и спросил, какой дурак способен по своей воле оставить этот рай. — Думаю, человек может найти здесь покой, — сказал он. — Может, даже завести маленькую ферму… — А я‑то думал, что вы собираетесь после выхода в отставку совершить большое путешествие в Тимбукту, — напомнил Отто Шмальц, который как раз присоединился к нам. — Возможно, и это тоже. — Фроменталь нахмурился. Он не хотел близко общаться с молодым немцем. Отец и брат француза были убиты у Ипра[1179]. Мы некоторое время спускались молча, потом дорога расширилась и ехать стало гораздо легче. Нам больше не приходилось внимательно следить за каждым шагом. Скоро наша тропинка превратилась в грязный проселок, который тянулся между финиковыми пальмами и оливковыми деревьями. Я никогда, даже в Египте, не видел такого природного богатства. Здесь, как и раньше, берберские поселяне отрывались от работы и выходили из хижин, чтобы приветствовать нас песнями, когда мы проезжали мимо. Я как будто стал спутником путешествовавшего древнерусского боярина или принимал участие в рыцарском странствии по Франции двенадцатого столетия. Не вызывало сомнений, что эль-Глауи демонстрирует нам свое могущество. По словам Фроменталя, эти земли никоим образом нельзя было считать безопасными для французов, пока они оставались под крылом Стервятника. К вечеру мы пересекли большую долину и достигли гор, где воспользовались гостеприимством местного сеида, который по случаю продал паше несколько темнокожих рабов, полученных им якобы по особой цене. Казалось, сеид совсем не обращал внимания ни на недовольного (но остававшегося дипломатичным) Фроменталя, ни на законы, запрещающие такое варварство. Я ждал, что эль-Глауи подойдет ко мне, чтобы продолжить нашу беседу. Но он был явно поглощен мыслями о Розе фон Бек. На третий день путешествия мы вступили в настоящие запретные горы Высокого Атласа, где дороги превратились в крутые узкие тропы, огибающие склоны древних скал, и я должным образом оценил этот ландшафт, когда остановился и, оперевшись о большой выступ, осмотрел сверху широкие долины, тянущиеся среди пологих холмов, которые постепенно сменялись огромными серыми скалами. От увиденного у меня захватило дух! Долину за долиной во всех направлениях покрывали полевые цветы, казавшиеся бесконечным потоком драгоценностей. Яркие и разные, они пылали, отражая солнечный свет. Они пульсировали и бурлили, как океан радуг. Я никогда в жизни не сталкивался с красотой, настолько совершенной и впечатляющей, внезапно сменившей немногочисленные зеленые оазисы и суровые скалы. Мне открылся образ иных небес, тайное место мира и красоты, где смерть делалась не чем иным, как чудесным обещанием, где было дано удивительное доказательство существования Бога. И когда Тами и его люди опустились на колени, чтобы помолиться, я неожиданно присоединился к ним, следуя той склонности к абсолютной религиозности, которую в пустыне испытывают все. Я восхвалил Бога и поблагодарил Его за все Его создания, особенно за те, что ярко отражали Его абсолютную щедрость. Чувства настолько переполняли меня, что я решился рискнуть — я восстановил силы, прибегнув к кокаину; я прислонился к боку своего игривого скакуна, пытаясь удержать трубочку, чтобы вдохнуть целительный порошок. Немного позже, когда мы подходили к его коню, эль-Глауи сказал, с некоторым замешательством, что вознес хвалу Аллаху, ибо он обрел брата в ожидаемом месте. Он говорил без особой теплоты. Возможно, он подозревал, что я просто пытался снискать расположение мусульман. Мисс фон Бек, которая проезжала мимо, когда я с трудом взбирался в седло, смахнула со лба роскошные волосы и заметила, что мне, конечно, не стоило продолжать демонстрировать здесь свои актерские дарования. Если только, добавила она, я не намерен устраивать платные представления. Тогда она с радостью вознаградит меня парой дирхемов за мои бесспорные успехи. Она поехала дальше, прежде чем я успел дать ей остроумный ответ. Стало ясно, однако, что она справилась с замешательством и как будто готова продолжить нашу дружбу. Со своей стороны, я не испытывал к ней никаких недоброжелательных чувств. Вскоре после этого эль-Глауи удалился в фургон, который он использовал, если дорога была хорошей, и я не видел ни его, ни Розы фон Бек, пока мы не остановились, чтобы разбить лагерь в долине, где воздух был так сильно пропитан ароматами полевых цветов, что я испугался, не потеряю ли сознание, погрузившись в экзотический сон, от которого не смогу пробудиться много лет. Когда солнце опустилось за гребень западных холмов, остался свет, который словно заливал все вокруг слоем глазури. Цветы не утратили яркости и привлекательности. Они, казалось, существовали с незапамятных времен. Мы доели остатки угощения со вчерашнего банкета; запах кускуса и жирного мяса нарушал гармонию окружающего нас рая, и я заметил графу Шмальцу, что этот пейзаж заставляет человека понять, что цивилизация и эстетика могут обретать разные формы. Кому, в конце концов, придет в голову писать здесь картины, когда вокруг каждый год возникают такие великолепные образы? Но Шмальц дружески возразил мне: — Только в том случае, если вы судите цивилизацию по ее искусствам, мой дорогой друг. Я сужу иначе. Я согласен, что искусство может принимать множество форм, некоторые из них не соответствуют нашим идеалам. Но общество — совсем другое дело. Добрые старые северные европейские институты правосудия и равенства кажутся нашему теперешнему хозяину настоящим безумием. Он притворится, будто понимает их, но ему практическиневозможно представить общество, в котором власть разделена между множеством групп и классов. Он считает цивилизованную Европу всего лишь более рафинированным, более успешным и, возможно, более лживым вариантом своего собственного мира. — Кто скажет, что он не прав? — разумно заметил я. Но это вызвало у Шмальца раздражение. Его лицо снова порозовело, как арбуз. — Не поймите меня неправильно. — Он огляделся по сторонам, вытирая пальцы салфеткой. Мы ели по местному обычаю, пользуясь только правыми руками. — Я очень уважаю «реальную политику», которую проводит эль-Глауи. Но он становится честолюбивым. Скоро он начнет диктовать нам условия. Так же дела обстоят с большевиками. Попомните мои слова. Пусть они продолжают свой «социальный эксперимент». Но пусть даже не пытаются нас запугать. Я согласился с ним, хотя и сомневался в его правоте. Я спросил, о каком моральном превосходстве Запада можно говорить, если люди Запада не сумели даже прийти на помощь братским христианским странам. И после этого мы утверждаем, что превосходим арабов? Или большевиков? Он становился все нетерпеливее. — Герр Питерс, я не вижу причин, почему страна, которая обычно не мучит и никак не терроризирует своих граждан, должна принимать условия стран, которые именно так и действуют. С позиций обыкновенной нравственности, уважаемый господин, мы, очевидно, гораздо выше их. — Но до какой степени? — вмешался мистер Микс, проходивший мимо со своей камерой. Он удалился прежде, чем Отто успел ответить, поэтому немец снова обернулся ко мне. — Я все еще не готов к тому, что черномазый ведет себя со мной так небрежно, — заметил он. — Но эти американцы все одинаковы, как говорят. Вам понравился Голливуд, герр Питерс? Он был моим вторым домом, сказал я. Золотой мечтой о будущем. Мои слова поразили Шмальца. Я не знал, что в немецких военных кругах тогда было модно хулить все американское, особенно если это пришло из Голливуда или Нью-Йорка, в то время как во Франции обаяние Соединенных Штатов не меркло. Для французов это было место, где все мифы стали реальностью. Мне обе точки зрения казались довольно шаблонными. Недоумение толерантного мистера Уикса, столкнувшегося с самыми экстравагантными особенностями американского общества, было куда легче понять. Так проходила первая из нескольких продолжительных бесед, исключительно продуктивных и оригинальных, которыми мы вчетвером (мистер Микс постоянно держался в стороне, паша и мисс фон Бек большей частью отсутствовали) наслаждались во время случайных остановок. После первой вспышки фанатизма я стал ограничиваться тем, что опускал голову и бормотал молитвы, подражая турецким аристократам; своим новым товарищам я объяснял, что по дипломатическим причинам считаю необходимым здесь признавать мусульманскую веру. Хотя они так никогда и не поняли этой стороны моей жизни, подобные мелочи не мешали нашим задушевным спорам за трубками и скромным стаканчиком бренди в конце дня (паша еще предлагал всем гашиш), когда мы собирались у костра, наслаждаясь ароматом дикого вереска и цветочных полей; ветер все еще доносил легчайший запах пустыни, пламя мерцало, и жизнь в лагере постепенно затихала, а мы сидели в дружеской теплой атмосфере у самых вершин гор, которые греки назвали именем титана, державшего на спине мир. Возможно, это напоминало символическое содружество благородных христиан, поклявшихся, что они прославят имя своего Избавителя и возьмут на себя обязательства всей цивилизации, — мы очень часто возвращались к теме обязанностей и жертв империи. Мистер Уикс сказал, что нет ничего лучше хорошего разговора с несколькими башковитыми парнями, каждый из которых — специалист в своей области. Нам было удобно общаться на французском языке, но, когда саперу становилось трудно следить за ходом беседы, мы переходили на английский. Для нас не существовало запретных тем, и я сожалел только о том, что наш хозяин и мисс фон Бек не могут присоединиться к разговору, поскольку они были исключительно остроумными собеседниками. Однако в результате мы часто обсуждали самого пашу. По мнению графа Шмальца, например, эль-Глауи сознательно создавал романтические легенды о себе, хорошо понимая, что они наделяли его дополнительной силой, особенно в либеральных европейских кругах. — Эти ребята простят тебе любой позор, если ты представишься проигравшим — хоть в каком-то отношении. Паша добился поддержки консерваторов благодаря военным действиям и абсолютной преданности французскому делу, но он принимал самых разных гостей, которые имели влияние в своих странах. У всех мусульманских лидеров было в крови вести двойную игру с мировыми державами. — Но все это — фантазия, — продолжал Шмальц. — И она основана на ужасной несправедливости и жестокости, о которой нам никогда не позволят узнать. Вы видели в какую-нибудь из ночей темницы в замке? Я видел. И даже видел — и нюхал, — что там внутри. Горящий мусор скрывает кое-что похуже. Эти люди до сих пор расчленяют живых врагов на публике. В каждой деревне есть рабские рынки. Семья — и, следовательно, кровная месть — вот их единственный закон. И все же наши великие немецкие драматурги и наши композиторы приезжают сюда; они восторгаются героями «Тысячи и одной ночи» и возвращаются в Берлин, описывая чудеса цивилизации при дворе паши. Сейчас, друзья мои, повсюду слишком много людей, готовых поверить рассказам о диковинах и сентиментальным глупостям. Дымя наргиле, лейтенант Фроменталь покачал головой, выразив дружеское несогласие. — Почему нам нельзя верить в чудеса, волшебство и счастливый исход, м’сье? С Богом дела обстоят так же. В чем же, спрашивается, смысл неверия? — Бог — не спасение, а долг, — ответил слегка опечаленный Шмальц. — Я говорю не о синематографе, герр лейтенант, а о насущных общественных проблемах. О политике. Я убежден, что все мы с превеликим удовольствием насладимся зрелищами герра Питерса. Всем нам, уверен, иногда нужно немного развлечений. Но переносить эти представления в реальный мир… Конечно, вы не станете утверждать, что нравственные установки «Ковбоя в маске» должно принять все современное общество? Тут мне пришлось его прервать. — Я предлагаю вам сначала посмотреть кинодраму, а потом уже судить о ней, герр граф. Она создана в той же моралистической традиции, что и «Рождение нации». Немец был достаточно хорошо воспитан — он покраснел и даже принес мне грубоватые извинения. Шмальц добавил, что не имел в виду никого из присутствующих. Он с подобающим уважением относился к профессиям и моральным ценностям других. В конце концов, мы жили в современном мире, и некоторые факты нужно было просто принимать. Таким образом, идеальный немец вернулся к своему первоначальному вопросу. — Положение в мире слишком опасно для того, чтобы потакать фантазиям; конечно, речь не идет о нынешнем великолепном спектакле, которым, наверное, все мы наслаждаемся. Но лично мы, — добавил он, — не очень часто слышим крики, доносящиеся из застенков. Мистер Уикс пробормотал, что, по его мнению, если и были какие-то нарушения, то французские власти давно рассмотрели бы дело и, в случае необходимости, все исправили бы. В конце концов, с влиятельным союзником нужно было заключать определенные договоренности. Французы просто не могли поддерживать тирана. — Поэтому он делает тиранию менее заметной. И все мы принимаем его гостеприимство и любезность, участвуя в сокрытии целой системы пыток, вымогательства и террора! — Шмальц не сдавался. Он был из тех чрезмерно щепетильных немцев, которые создали туркам немало проблем во время армянского кризиса. Я мог только восхищаться им, не обязательно соглашаясь с его мнением и даже не симпатизируя ему лично. — Что же вы нам предлагаете? — спокойно спросил Фроменталь. — Мы не можем содержать армию шпионов. — Я говорю не о варварстве за границей, герр лейтенант, а о безумии дома. Вот что меня беспокоит больше всего. — Немец рассуждал вполне дружелюбно. — Мы все должны сначала решить свои внутренние проблемы, забыв о старых различиях и используя положительную энергию, которая скрыта в каждом обычном человеке. Фроменталь хотел знать, можно ли «использовать» обычную порядочность и если да, то как именно. — С помощью общества и идеализма, — ответил граф, занятый пенковой трубкой, — а не коммунизма и риторики. Все мы должны сплотиться ради пользы общества. Лейтенант Фроменталь воздержался от скептических замечаний. Тем вечером паша пригласил нас в свой шатер. — Это стало большой редкостью с того дня, когда он повстречал вашу прекрасную спутницу, — подмигнул мне мистер Уикс. Он, как и все остальные, не заметил, что мои отношения с мисс фон Бек выходили за профессиональные рамки. Они предпочитали думать, что мы выполняли некое общее поручение итальянского и британского правительств. Я считал, что нам обоим не следовало раскрывать подробности пережитого, достаточно было и рассказов берберов. Истории очень быстро приукрашивались, когда их переводили на литературный арабский. Фроменталь, единственный человек, которому я доверял, согласился: — Люди, живущие под властью тиранов, мистер Питерс, не движутся вперед. Они учатся только оставаться на месте. Они постигают науку молчания: примитивные бюрократические и армейские выражения, договоренности правящей элиты, которая боится живого языка, потому что именно на этом языке задают вопросы. И навыки публичной речи позволяют не говорить ничего нового, хотя люди творят новый язык каждый день. Именно поэтому арабская литература утратила в Средневековье всякую оригинальность, снабдив Запад почти всеми ныне существующими формами сюжетов и приемами повествования. Новый арабский язык — не что иное, как способ пересказывать одни и те же мифы различными путями. Результат этого ощущается в Турецкой империи и повсюду, где серп и молот режут и бьют. У тирании нет никаких преимуществ — только для самого тирана. — И это, — подвел итог я, — неэффективный метод сохранения власти, как могут подтвердить нью-йоркские финансисты! Эль-Глауи, надо признать, был идеальным примером современного доброжелательного тирана — учтивый, бурно проявляющий чувства, щедрый и веселый, интересующийся чужими мнениями, нетерпеливо стремящийся к чудесам двадцатого века и в то же время решительно убежденный в превосходстве своего образа жизни. Когда мы сели на подушки в его большом шатре, после того как наши руки и лица омыли красивые негритянские рабы (по слухам, белых рабов он припрятал, побоявшись оскорбить европейцев), меня тотчас покорили его гостеприимство и обаяние. Всех гостей паша приветствовал и расспрашивал об их нуждах и пожеланиях. Он был исключительно вежлив и помнил вкусы каждого из своих собеседников. Мистер Уикс, сидевший рядом со мной, пробормотал, что не удивится, если узнает, что наш хозяин получил образование в Итоне. Лейтенант Фроменталь внимательно слушал графа Шмальца, который расспрашивал пашу о недавних конфликтах с рифами. — Но вы же летали, лейтенант Фроменталь, во французских воздушных войсках, верно? — Паша явно хотел, чтобы молодой человек высказал мнение собственного народа. — Несколько дней, ваше высочество. Конечно, в качестве наблюдателя. Я никогда не испытывал желания управлять одной из таких машин! Тут заговорила Роза фон Бек. — Я завидую вам, лейтенант. Я едва заметил ее в тени. Она надела длинное роскошное платье, отделанное в берберском стиле, а ее голова была покрыта своеобразным тюрбаном. Берберские женщины часто не носили вуалей и прятали лица только тогда, когда подражали нравам более искушенных арабов. В деревнях, как мне рассказали, ходивших с открытым лицом считали просто неотесанными, а не неверующими. (Кино, говорит миссис Фези, изменило все это. Она вновь обвиняет египтян. «Теперь все в провинциальных городах стали кинозвездами, — замечает она. — Но мы не носили вуалей, никто в моей семье. И так было в Мекнесе[1180]».) — Завидуете мне, мадемуазель? — с удивлением спросил мой юный приятель. — Вы по своей воле летали над этой дивной страной. Мы, с другой стороны, едва успели увидеть ее красоту, прежде чем потерпели крушение. (Она не стала объяснять, почему мы так редко рассматривали пейзажи!) Мне очень жаль, что я не была вашим пилотом! Какое ужасное и волнующее зрелище — толпы рифов во всем их могуществе! — По правде сказать, мадемуазель, — ответил лейтенант Фроменталь после неловкой паузы, — мы бомбили деревни. На «Голиафах», знаете ли. Это самые новые тяжелые бомбардировщики. Из-за дыма и огня нам было почти не видно рифов. — Шесть тысяч часов полетов и три тысячи рейсов. Надо же, сорок вылетов в день! — В голосе паши звучало самое искреннее восхищение. — Я прочитал это в «Ле Темпс[1181]». Сорок вылетов в день! — И все-таки Абд эль-Крим и его рифы умели сбивать эти самолеты. Там были снайперы, рядами лежавшие на спинах и стрелявшие залпами! Самолеты не влияют на исход войны, если вы спросите мое мнение. В это верят только гражданские. — Мистер Уикс явно принял сторону мятежного вождя. — Сколько эскадрилий вы там задействовали? Четырнадцать? Это просто безумие. У британцев был такой же катастрофический опыт — когда они бомбили курдские деревни в Ираке. Аэропланы никогда не смогут действовать независимо. Авиация, как и артиллерия, не способна самостоятельно вести войну. В конечном счете все всегда сводится к пехоте. И, — признался он после некоторых размышлений, — иногда к кавалерии. Я сомневаюсь, что французы вообще начали бы войну в Сирии, если бы не их бестолковые бомбардировки. «Таймс» об этом ясно пишет. Разрушение деревень, конечно, позволяет врагам заполучить множество бездомных новобранцев. Тут я начал смеяться. — Надо же, мистер Уикс. Теперь вы нам скажете, что дирижабль — изобретение дьявола! Он пожал плечами и приподнял руки, а потом, слабо улыбнувшись, сменил тему. Все прекрасно знали о его ненависти к воздушныму транспорту. — Однако аэробланы очень эффективны, — внезапно вмешался паша, заставив нас замолчать. Он сделал паузу, чтобы взять конфету с начинкой с подноса, который предложил ему раб. — Как и говорит мистер Уикс. И артиллерия эффективна. Знаете ли вы, мистер Уикс, что польшая часть могущества нашей семьи основана на том, что у нас есть орудие Крубба[1182]? Мистер Уикс так мне и говорил, но сейчас он просто притворялся невеждой. — Дар Пожий, — сказал паша. — С этим бревосходным немецким орудием (еще одно выражение нежных чувств к соплеменникам Шмальца) — мы смогли усмирить небослушных варваров, сделали всю опласть единым целым и укребили нашу дружпу с французами. — Паша облизнул губы и опустил пальцы, которые тут же омыли и обтерли рабы. — Но есть отдельные южные районы, куда не достанет даже орудие Крубба, а там до сих пор пунтовщики, брестубники и мятежники, и они устраивают трусливые напеги на наши земли, а ботом снова скрываются. Мы часто говорили о них с генералом Лиоте, этим великим человеком. В Танжере и в Бариже. — Эль-Глауи самодовольно кивнул. — Он сказал, что если мне нужны воздушные силы, то я не должен бросить у французов. Это неболитично. Но если я бострою сопственный маленький флот, просто пару эскадрилий, то никто мне и слова не скажет. Он смотрел куда-то вдаль, как будто его взгляду уже предстали блестящие боевые птицы, готовые нести пламя новой великой мавританской державы, империи, которая, рука об руку с империей французской, сможет цивилизовать всю Восточную Африку. Я понял этого проницательного человека точно так же, как он понял меня. Я очень хотел, не медля ни секунды, встать во весь рост и поклясться, что через пару лет я создам авиацию, о которой он мечтал. Я дал бы ему еще больше. Я подарил бы ему странствующие города, медленно движущиеся по дюнам на могучих гусеницах. Я подарил бы дороги, созданные из песка, расплавленного тепловыми лучами — в точности похожими на мой луч смерти, который расплавил камни Киева. В тот миг наши взгляды встретились. Он улыбнулся, немного озадаченный. Я подарил бы ему Утопию. Я немедленно уверовал в это общее будущее. Я не сомневался, что оно вскоре станет реальностью и, как только мои идеи воплотятся в полной мере, меня пригласят в Рим. Собеседники обратились к другим темам, и я остался наедине со своими радужными мыслями. Лишь однажды я заметил, что привлек чье-то внимание. Я всмотрелся в тени, возникавшие в свете костра, всмотрелся в дым и маленькие клочки тумана, который надвигался из долины. Роза фон Бек следила за мной из-под длинных ресниц, притворяясь, что слушает своего нового возлюбленного. Казалось, я во второй раз пробудил в ней любопытство. Думаю, что она понемногу начала видеть того человека, которым я был в действительности, а не фантазию, созданную ею самой. Я прикрыл глаза, а потом решительно посмотрел на нее. Паша, поглощенный каким-то сложным философским спором с графом Шмальнем и мистером Уиксом, не обращал на нас внимания. Только Франсуа Фроменталь, который поудобнее устраивался на подушках и раскуривал внушительную гаванскую сигару, бросил на меня удивленный взгляд. Ma sha’ allah! Ma teru khush ma’er-ragil da! A ‘ud bi-rabb el-fulag! A ‘ud billah min esh-shaitan ev-ragim![1183] Немного позже я услышал свое имя. — Мистер Питерс! Ас! — Молодой француз наклонился и потряс меня за плечо. Я открыл глаза. И с удивлением понял, что на мгновение снова перенесся в страну грез. Уже на следующий день меня в третий раз посетило видение рая — огромные пальмовые рощи Марракеша покрывали зеленую гору, окруженную благородными скалами Атласа, а посредине, под чистым синим небом, стоял Красный Город, с которым мог соперничать только Тимбукту — такой же таинственный и легендарный. Зубчатые стены возносились над кронами пальм и тополей — то был город, давший имя целой стране и подаривший миру слово «мавр». Полный грез Марракеш, такой же древний, как сказка, столь же прекрасный, как запретное вино, если цитировать Уэлдрейка. В тот вечер я стоял, трепеща от восторга, и размышлял о том, как мавры могли отвернуться от такой неповторимой красоты. Эль-Глауи подошел ко мне и легко, почти изящно коснулся моего плеча. — Мистер Битерс, я хочу, чтобы вы бомогли мне строить будущее — здесь, в Марракеше. Отказаться было невозможно. В тот момент я позабыл все мечты о Голливуде и вернулся, паря на крыльях надежды, к своему истинному призванию. Мои города будут заполнены садами. Окруженные ореолом золотого света, они поднимутся над землей и утвердятся на горах, словно гордые ястребы. И первый из них будет называться Марракеш. Должен признать, что не ожидал ничего подобного тому приему, которого удостоился по прибытии в Марракеш. Постепенно собралась целая толпа; люди кричали и указывали на меня, и, когда я весело махнул им рукой, послышался громкий вздох, а затем вопль, полный чистой радости. Эль-Глауи, ехавший в тот момент рядом со мной, усмехнулся и заметил: — Вы, наверное, бривыкли к такому, мистер Битерс, где бы вы ни боявились. Я на вашем фоне выгляжу совсем маленькой рыпкой. Не думаю, что он очень обрадовался, когда приветствия зазвучали громче, и я услышал: «Ковбой!» — срывавшееся с губ каждого. По некой счастливой случайности меня в Марракеше обожали так же, как Валентино обожали в Миннеаполисе. Лейтенант Фроменталь почти опьянел, купаясь в отраженных лучах моей славы. — Когда-нибудь, — взволнованно объявил он, — о вас узнают и во Франции. Мой дорогой друг, вы будете столь же знамениты в Париже и Марселе, как сейчас — в Мекнесе и Фесе! У меня не осталось иного выбора, кроме как махать рукой и приветствовать собравшихся; одновременно, борясь с ужасной ломотой в мышцах, я пытался управлять своей игривой лошадью. И таким образом мы миновали стены Марракеша, и только Роза фон Бек не обратила внимания на мою славу.Глава двадцать пятая
Наркотики не обладают лечебными свойствами «белых» психоделических веществ. Я говорю не о ЛСД-трипах, которые устраивают жаждущие удовольствий хиппи, а о чистом кокаине, расширяющем разум и одновременно помогающем сосредоточиться. Сегодняшние мальчики и девочки ничего не знают о кокаине. Они никогда его не нюхали. Они испытали иллюзию удовольствия от чистящего средства, смешанного с детским слабительным, и они снисходительно относятся к человеку, который принимал «женское лекарство» с величайшими знаменитостями двадцатого века — и я имею в виду совсем не наших нынешних правителей и их родственников. Я высказываю свое мнение, когда оно у меня есть, но я давно прославился осторожностью. Я усвоил ценность молчания в Египте и Марокко. Для тамошних жителей «свобода слова» стала синонимом «богохульства». Самодисциплина при мавританском дворе — это залог выживания. Я постиг старые, средневековые добродетели и начал осознавать смысл рыцарства. Я путешествовал во времени. Как мне известно, на подобных древних соглашениях были основаны кодексы «Черной руки»[1184]. Так называемая мафия в своем мире воплощала древние формы Закона, противостоявшие новым, точно так же, как сегодня арабы противостоят учреждениям демократии. В Телуэ[1185], месте, где зародилось могущество его семьи, эль-Хадж Тами Бен Мохаммед Мезоури эль-Глауи, паша Марракеша, изложил мне свой план — еще до того, как мы вошли в столицу. Величественная средневековая громада была заполнена, почти как в странной фантазии Херста, смесью мавританских сокровищ и дорогой европейской мебели с будто бы выбранными наугад произведениями искусства. В замке обитала большая часть наложниц паши, по крайней мере половина из них, по слухам, были француженками. Прислуживали во дворце огромные нубийцы, и там никогда не смолкал шум. По словам паши, его беспокоил неприятный маленький француз низкого происхождения, человек по имени Лапен[1186] — коммунистический журналист, получивший какое-то юридическое образование. Он вступил в союз со старым врагом Глауи, неким опозоренным сеидом по имени эль-Хаким, который нанял приспособленца-француза, чтобы тот помог подать иск против паши. Сторонники эль-Хакима даже предоставили в распоряжение Лапена газету, где он печатал самую разную клевету о паше и его семье. Одно из обвинений (его эль-Глауи считал особенно унизительным) состояло в том, что он якобы не вкладывает свое богатство в развитие страны. Он ничего не тратил на культурные проекты или научные разработки. Если Глауи — действительно просвещенный властитель, вопрошал Лапен, почему же он не поощряет науку и общественное развитие в своей стране? В ответ на это паша указывал на мистера Микса, нанятого, чтобы запечатлеть детали просвещенного правления великого паши и быта его окружения «для ботомков». Он основал в Марракеше киноиндустрию, которая в конце концов сможет соперничать с Голливудом. Теперь настал черед аэронавтики. Это было поистине блестящее, современное начинание. С каждым днем город все сильнее напоминал второй Лос-Анджелес. Внезапно, по совету защиты, мистеру Миксу поручили подготовить планы солидных общественных построек английского типа. «Вроде туалетов на Лестер-сквер», — заявил паша. Другие гости также включились в работу. К графу Шмальцу обратились за советом касательно дисциплины и организации современной постоянной армии, хотя немец, подобно мисс фон Бек, был только гостем паши. Обо всем этом эль-Глауи подробно рассказывал, когда мы стояли вместе на крыше самой внушительной из башен касбы, глядя на вершины Высокого Атласа, прислушиваясь к шуму Уэд-Меллы и всматриваясь вдаль, в скрытую за окрестной полупустыней истинную Сахару, которую мы совсем недавно покинули. Я никогда не видел таких ярких разноцветных гор. Сами скалы сияли темно-зеленым и желтым, блестящим вишневым и сиреневым, глубоким красным и голубым; каменные плиты иногда сливались с холмистыми лугами, полными полевых цветов, которые словно вспыхивали под жарким синим небом. Я не перестаю думать о том, насколько отличался этот пейзаж от всего, что я видел раньше, о том, что пустыня скрывала целый мир контрастов и перемен, в котором не было ничего общего с миром европейским. Пока солнце опускалось за горы и их тени вытягивались, словно поглощая замок, эль-Глауи говорил о своей любви к этой земле. Именно здесь, а не в Марракеше, была его истинная столица, которую он считал подлинным домом и к которой питал самые сильные чувства. Его бы воля, сказал мне паша, он проводил бы здесь гораздо больше времени. Меня представили нескольким кузенам и шуринам паши (хотя сам местный вождь, Стервятник, проявляя тактичность, отсутствовал), но я никого из них не запомнил. Это было ничем не выдающееся семейство, за исключением основной линии. Именно тогда эль-Глауи попросил, чтобы я работал на него и построил для него воздушный флот. Я сказал, что тщательно все обдумаю. Той ночью мне прислали двух черкесских гурий, наделенных самыми изысканными и удивительными дарованиями. Моя жажда осталась неутоленной, но я оценил заботу гостеприимного хозяина. В то время я предполагал, что это было своеобразное извинение с его стороны, учитывая его интерес к мисс фон Бек, но позже стало ясно: слово «вина» не существовало для эль-Глауи ни на каком языке. Он спросил мое мнение о лейтенанте Фроментале; я дипломатично ответил, что лейтенант казался достаточно приятным молодым человеком. — Он здесь, чтобы шпионить за мной, — пробормотал эль-Глауи с еле заметной улыбкой. — Думаю, он скрытый коммунист. Я в глубине души считал, что это чрезмерно сильная реакция на христианский гуманизм Фроменталя; но свое мнение я держал при себе. Я не стремился к гибели. Как мне уже случалось говорить, я по натуре не мученик. Возможно, уже слишком поздно, даже для нового мессии? Иногда я говорю еврею Барнуму, что у людей его племени, может, и появляются правильные мысли. Способно ли все стать еще хуже? Где же этот мессия, о котором вы нам рассказываете? Еще не явился? Он не может ответить. Он будет ждать своего мессию, даже когда все мы уже окажемся на глубине двух футов, но он, без сомнения, и тогда заберется ко мне на шею. — Я считаю, что причина всего — смерть семьи, — говорит Барнум. Он особенно расстроен из-за своей девочки, о которой миссис Корнелиус предупредила его, когда той исполнилось всего шесть лет. — Смерть семьи, — сказал я, — вероятно, остается нашей единственной надеждой. Но тогда я думал, будто знал, что означает «семья в первую очередь». Со своей стороны я по-прежнему верю в великие политические идеалы, которые мы создали в течение девятнадцатого столетия. Ницше в этом случае нельзя абсолютно доверять. Мы должны вернуться к тем самым ценностям девятнадцатого столетия, а не искать какой-то идеальной анархии. — Кто захочет жить в твоей Утопии? — спросил я у него. Твоя мать! А кто еще? Некоторые семьи нужно разлучать сразу же! Я встречал в Марракеше Г. Дж. Уэллса[1187]. Он все еще предлагал в качестве решения проблемы какой-то проект вроде гигантских детских яслей, но я сказал, что гораздо проще на самом деле уничтожить фактор отцовства. Пусть отец всегда остается неизвестным. Это его позабавило. — Есть немало знакомых мне парней, включая и меня самого, которые выпили бы за это, — сказал он. — Теперь я знаю, чем мы похожи! Illustre Abraham; procriateur fanatique du Mythe sacrificateur[1188]. У Герберта Уэллса уже не оставалось времени на занятия практической наукой, и его общественные воззрения были зачастую неосновательными, но, став вдохновителем моего поколения, он оказал на него огромное влияние. Сталин считал его своим близким другом. Только мистер Микс, как я припоминаю, никогда его не поддерживал. Но я привык к странным переменам в настроении этого человека. Я думаю, мистер Микс чувствовал себя хуже других и потому злился. Теперь он обычно обменивался со мной только несколькими фразами, но иногда бывал столь же любезным и дружелюбным, как в прежние времена. Я начал подозревать, что он зависел от какого-то ужасного наркотика. Он часто исчезал со своей камерой и разношерстной командой берберских погонщиков ослов и уличных арапчат в горах, а потом возвращался в Талуэ. В этой мрачной семейной крепости клана Глауи высоко над Соленой рекой[1189] в трудные времена по-прежнему собирались вожди, чтобы решить судьбу племен, которые остались в Атласе и принесли феодалу Глауи присягу на верность, по забавному выражению берберов, не обменяв ружья на мулов. Берберы гордились своими кланами примерно как шотландцы, и, судя по моим воспоминаниям, оставшимся от чтения «Роб Роя»[1190], их общественное устройство и занятия были почти одинаковы, за исключением того, что у марокканцев тогда не нашлось непримиримой, решительно возрастающей власти, готовой навсегда их подчинить, заставив склониться под суровой и все же совсем не жестокой рукой прогресса. Мистер Микс стал в какой-то степени защитником этих кланов («бербер» — просто искажение греческого слова «варвар») и проводил очень много времени с блокнотами, пытаясь записывать местные диалекты и народные верования. Я задумался о том, не возникло ли в его затуманенном сознании мысли, что эти таинственные люди могли оказаться его предками. Я высказал свое предположение вслух; он ответил отрицательно. Поскольку мистер Микс стал личным режиссером эль-Хадж Тами, он считал своим долгом запечатлеть величие и многообразие владений паши. Не испытывая ни малейшего интереса к мелким отличиям шрамов одного племени от шрамов других племен, я понял, что описание местных нравов помогает мистеру Миксу получить более полее полное представление о собственном прошлом. Я также начал понимать, что осторожность мистера Микса связана в основном с его нежеланием смущать меня перед прочими белыми. Это было типичное проявление чуткости моего друга, и я позволил ему догадаться, что высоко ценю такое решение. Когда мы оставались наедине, он возвращался к нашей прежней товарищеской манере общения. И все-таки даже в таких ситуациях он как будто не мог преодолеть чувство обиды. Не раз он предлагал мне сесть на первый же поезд в Касабланку и оттуда отправиться в Италию, где, по его словам, было мое настоящее место. Он говорил, что там во мне нуждаются. Сначала я считал, что он просто заботится о моем процветании, но потом постепенно осознал: мистер Микс почему-то желает отправить меня подальше от Марракеша. Без сомнения, он боялся, что я, истинный представитель Голливуда, вскоре могу затмить его и лишить места. Однако мистер Микс продолжал заниматься производством фильмов без всякого моего участия, а паша с огромным удовольствием пользовался его услугами, чтобы делать записи торжественных событий и общаться с иностранными журналистами, когда им требовалась кинохроника или интервью. По сути, мистер Микс занял высокое место пресс-атташе правителя, а также придворного хроникера. В те первые дни на службе у паши я еще не очень понимал, как мистер Микс добился своих должностей; вдобавок он наверняка тосковал по железным дорогам. Что до моего собственного положения, как я в шутку сказал лейтенанту Фроменталю, теперь меня можно было назвать и придворным инженером, и арлекином, и королевским строителем самолетов. Марракеш — наиболее изящное из всех мавританских поселений. Это бесконечный город, цвет красных бархатцев и зеленых пальм здесь насыщен и глубок, а небо так же спокойно и сине, как отлично прорисованный голливудский небесный свод. Дни Марракеша полны запахов животных, мяты, шафрана и мускуса, хны и свежих апельсинов, моркови, лука-порея и десятков загадочных сушеных пряностей, чая, и сладкого шербета, и варящегося кускуса, поджаренной баранины и тушеной козлятины, меда, кофе и красок, тяжелого табачного дыма и густого манящего кифа, кислого молока и сладкой плоти, горячей грязи летом и кислой сырости зимой, когда засоренные стоки скрыты под водой и даже французские коллекторы не могут справиться с наводнением. Марракеш — один из волшебных городов Земли, деловая, современная столица Магриба, где автомобили и верблюды на равных спорят о праве проезда по узким переулкам. Марракеш великолепен и красив в любое время года. Весной он поистине совершенен; огромные заснеженные горы видны со всех сторон, и многие мили пальмовых рощ создают пышный изумрудный фон для города, который, словно пылающий рубин, сверкает в сердце страны. Марракеш красив во время дождя, когда деревья и кусты темнеют под тяжестью воды, а стены начинают блестеть; он красив летом, когда в густых, насыщенных цветах появляются оттенки пустыни. Он был основан в тот год, когда Вильгельм Завоеватель сделал Лондон своей столицей[1191]. Даже если внезапные песчаные бури мчатся по улицам, словно беспощадная харка[1192], и в течение многих недель почти невозможно выйти наружу, не ослепнув и не захлебнувшись в этом непрерывном потоке красной пыли, — даже тогда есть что-то волнующее в облике города, есть особое благородство в том, как величественные пальмы и крепкие люди принимают удары стихии. Если ваше воображение не умерло, нельзя не полюбить Марракеш. Этот город превосходит Париж, он может обольстить путешественника и удержать его в уютном убежище, за массивными зубчатыми стенами. Ведь Марракеш — в силу необходимости — город-крепость. Всего несколько лет (даже не десятилетий) назад крепостные стены отделяли местных жителей от неутомимых варваров. Возможно, и впрямь именно здесь, а не в пустыне, я встретил Искушение и уступил ему. Очарование эль-Глауи и волшебство Марракеша объединились и сбили меня с пути. Они создали иллюзию научного прогресса. Эль-Глауи был щедрым работодателем. Я познал такую роскошь, о которой прежде не мечтал. Я обрел почет, положение, поддержку — все, что мне мог обеспечить паша. Все, о чем я когда-либо мечтал. — Я сам, — сказал он мне, — вовсе не аскет. Есть немало сбосопов исболнить волю Аллаха. Он дал мне возможность изучать брироду наслаждения. А иногда, — он улыбнулся как мужчина мужчине, — даже брироду поли. Мисс фон Бек выразила намерение задержаться в Марракеше на неопределенный срок. Только она могла представить меня дуче. У меня не осталось выбора. Я принял предложение паши. Я решил потратить полгода или девять месяцев, чтобы наладить для паши производство аэропланов и исполнить нашу общую мечту. Я сменил гардероб и сочетал европейскую одежду для тропиков с местными роскошными костюмами — шелковыми рубашками и брюками, шелковыми кафтанами и остроконечными бабушами[1193] на ногах. Это было удобно, это мне шло и позволяло с иронией относиться к многочисленным западным официальным титулам: советник аэронавтики, председатель La Compagnie de l’Aviation du Monde Nouvelle à Maroc[1194]. Моей целью было создание местной, марокканской авиационной промышленности, которая не просто обеспечила бы потребности страны, но и могла экспортировать машины в другие страны. — Здесь у нас идеальные условия для взлета и бриземления аэробланов. Вот бричина, бо которой Марракеш должен стать авиационной столицей Средиземноморья, — с заразительной уверенностью сказал эль-Глауи, в первый день приветствуя меня в современном офисе, способном украсить любое парижское учреждение. Я не стану воспроизводить здесь все многословные обороты и цветистые фразы, которыми он пересыпал французскую речь. В ней, если уж на то пошло, было куда больше приукрашиваний и лести, намеков, тонких угроз и скрытого хвастовства — на арабском он говорил намного проще; однако это странным образом усиливало чарующую власть его слов. Он часто притворялся, что слушает, но никогда не слышал собеседника. Важнее всего были его собственные интересы. И все-таки его великодушие, приветливость и природный интеллект очаровывали каждого, особенно когда он обращался к темам, в которых разбирался лучше всего, — к войне и религии. Даже по мавританским стандартам он казался воплощением легендарного прошлого, интеллектуальным человеком действия; возможно, он сознательно развивал эти свойства характера — точно так же, как создавал свою знаменитую библиотеку, но не думаю. Если бы эль-Глауи получил достойное образование и избавился от саморазрушительных убеждений, он бы и сегодня был среди нас. Он оказался не единственным другом французов, которого безжалостно предали. Даже принцесса Елизавета пренебрежительно обошлась с ним, когда он явился на ее свадьбу с маленьким пирогом. В определенных отношениях он был человеком удивительно простым, но всегда оставался величественным. Нож, которым следовало разрезать пирог, был вложен в золотые ножны, инкрустированные драгоценными камнями. Но увы… Она приняла бы кокосовые орехи из Тонги, она приняла бы ведра бобов от бонгу[1195]. Но бесценный — и изысканный — дар великого паши Марракеша был отвергнут. К тому времени, конечно, сионистская удавка сжала Европу и Америку крепко — и ее не удалось бы разорвать. Эль-Глауи знал, что евреи унизили его. Он слишком долго доверял им вести свои дела. Но он уже сломался. Он умер в одиночестве, бывшие подданные оскорбляли и избегали его, а на улицах его благородного города снова раздался звон оружия, когда племена скрестили клинки. Но это случилось в 1956‑м — тот год имел для христианского мира не меньшее значение, чем 1453‑й. Эль-Глауи знал: тогда же настал конец арабскому рыцарству. В 1956‑м христианский мир испытал свою силу — и оказался слишком слаб; большевизм испытал свою силу — и победил; безбожные арабы создали светское государство, а евреи купили у французов Тунис; британцы отменили в поездах места третьего класса, назвав их вторым классом, а Нью-Йорк приказал англичанам забыть о священном долге защиты Суэца. Британия теперь стала верной собакой Америки. Она никогда не понимала, кто ее настоящие друзья. У нее были свои провидцы. Они верили в великую независимую Аравию; Аравию, которой управляли достойные халифы, решительные, неустрашимые и справедливые. Они верили в Аравию, где снова могли бы сформироваться рыцари Круглого стола, явив свои религиозные идеалы в слове и деле. Величайшие правители Аравии всегда находили утешение в речах Иисуса, которого они признавали замечательным пророком. Их вражда с христианами началась из-за того, что в Магомете те не видели нового и самого главного из пророков Божьих и не подчинялись воле Его, хотя души их, несомненно, стремились к этому. Какое зло, какое ужасное тайное бесчестье владеет христианином, если он не способен принять истину ислама? И тем не менее мы могли уважать друг друга. У нас, в конце концов, оставались общие враги. Но все это не означает, конечно, что я поддерживал сближение двух вероисповеданий на каком-то ином уровне, кроме самого поверхностного. Мусульманам нужно разрешить остаться в своем анклаве, в зоне мира, при условии, что они прекратят закупаться в «Хэрродс» и «Бритиш хоум сторс»[1196]. Будем жить и дадим жить другим — так я всегда говорил. Но это уже не прежние благородные мусульмане вроде эль-Глауи или тех, которых завербовал Лоуренс; это существа более грубой породы, не закаленные в пламени пустыни, появившиеся в залах с кондиционированным воздухом, в какой-то искусственной Флориде. Подобные люди нефти не понимают обязанностей власти. Вагнер знал об этом. В одной из бесед с графом Отто и лейтенантом Фроменталем мы коснулись христианских убеждений композитора и его уважения к буддизму и исламу, которые в своих лучших проявлениях проповедовали идеалы рыцарства, так полно воплощенные Вагнером в его последнем великом труде, «Парсифале», где содержался призыв создать всеобщее братство, чтобы достичь наивысшего совершенства. Таков был и древний кодекс ислама. И древний идеал Платона. Шмальц критиковал политику французов в Северной Африке. По его мнению, разрушая исламские законы и заменяя их французскими, набережная д’Орсэ фактически поощряла анархию. — Вы свысока относитесь к этим варварским законам и традициям. Но, предположим, вы попадете во Францию тринадцатого столетия и решите, что с рыцарством, старомодным и примитивным, нужно покончить. Нравится вам это или нет, но вы уничтожите их единственную этику, а то, что вы предложите взамен, покажется людям еще одним проявлением чуждого правления, которое их и так возмущает. Лейтенант Фроменталь запротестовал: — Эль-Глауи — истинный друг французов. — Потому что дружба с французами — единственное, что позволяет ему сохранить власть. Он сделал свой выбор и знает, что должен следовать ему до конца. Я не обвиняю нашего хозяина в недостатке храбрости, сэр! Но мавританское рыцарство тоже умирает, поверьте. Если французы завтра уйдут, они оставят разрушенный миф — удивительное чудовище. Местным не нужны теории демократии. Им нужно предложить то, на чем теории основаны. А это, я убежден, христианская вера или нечто подобное. В обмен на их свободу вы предлагаете этим людям современную философию, по меньшей мере на триста лет опережающую их потребности. Думаю, граф Отто отчасти выражал идеи того модного язычества, которое поставило на колени Веймар[1197], но он происходил из прекрасного древнего южнонемецкого рода, и я потом никак не мог поверить, что он был причастен к этому преступлению. Его заинтересовало мнение Коли о Вагнере, которого мой друг называл «великим современным гением». — Я хотел бы побеседовать с вашим русским князем, — сказал немец. Я ответил ему, что, вполне вероятно, это желание исполнится. Коля мог как раз тогда направляться в Марокко, хотя нельзя было исключать, что Судьба забросила его и в какую-то иную, более удаленную область мусульманского мира. — Вагнер — это будущее, — провозгласил граф Шмальц. — Что за совершенные, блистательные новшества! Все движется с такой невероятной точностью, словно тщательно подогнанные детали в сложной машине. Это — величайшая музыка двадцатого века. Штраус и Малер — просто путаники, которые отчаянно потчуют нас неблагозвучными пустяками, не давая существенных и возвышенных мелодий. — Такой яркий свет, такая черная тень! — воскликнул Фроменталь. — О, эта вдохновенная вульгарность! — И он восхищенно расхохотался. Он воспринималнемецкую серьезность с традиционной французской подозрительностью. — Вы, как мне кажется, противник империализма. Его отношение к графу Шмальцу было скорее вызывающим. Все мы знали, что у Шмальца семья в Восточной Африке и он собирался ее посетить после отъезда из Марракеша. — Вы предпочли бы, мой дорогой граф, французское влияние или то варварство, которое существовало здесь до нашего прибытия? — Не нужно сравнивать благотворный империализм с диким племенным строем, — заявил немец. — Я согласен, в первом случае возможен хотя бы намек на оппозицию, а во втором подобное просто невероятно. Но это не единственный выбор. Таково мое мнение. — Вы думаете, старина, что слабая власть должна сама решать, с какой сильной властью она свяжет свою судьбу? Мистер Уикс постоянно возвращался к любимой теме: большинство неевропейских стран, включая Америку, если им предоставить выбор, пожелают жить под защитой государственного флага Соединенного Королевства. Он воображал некий Пакс Британника, который воцарится на земном шаре с помощью гигантских дирижаблей, способствуя торговле и увеличивая богатство всех, кто решил присоединиться к великому Содружеству наций. Он рассматривал империю, созданную его страной, как ядро нового мирового порядка, при котором справедливость и мир станут доступными для всех. Я с восторгом выслушивал его оптимистические фантазии, но не мог понять, как они воплотятся в реальность, если не воззвать к силе Христа; однако мистер Уикс, вдобавок к прочим странностям характера, оказался сторонником старомодного и примитивного атеизма. Другие гости (которые приезжали на пару недель и зачастую были всего лишь собирателями анекдотов, а экзотический опыт хотели использовать в своих послеобеденных беседах — им хватило бы его на десять или двадцать лет) выступали против того, что они называли социализмом мистера Уикса. На деле же он именовал себя синдикалистом и развивал мнения унылого нудиста Уильяма Морриса[1198], который настаивал на том, что должен работать голым в оксфордской плотницкой лавке, подражая своему кумиру Блейку. Оба думали, что они могут построить Новый Иерусалим из бесконечных стихов, пользуясь палитрой художника и несколькими перьями из ласточкиного хвоста. Мистер Уикс не соглашался только с резким протестантизмом прерафаэлита, но снисходительно замечал, что Моррис просто родился слишком рано. Я так и вижу, как этот сумасшедший с могучим задом склоняется над беленым столом; огромные гениталии, которые сделали его настоящим Тарзаном для некой Джейн, легко и ровно покачиваются, пока стружки падают со стола — художник занят изготовлением нового буфета! Я не отрицаю заслуг Морриса как производителя мебели или как декоратора. Миссис Корнелиус не раз говорила, что ей нравились его обои; но они слишком дороги, даже у «Сандерсона»[1199]. Г. К. Честертон[1200] тоже был учеником этого добродушного викторианского мечтателя и развивал его взгляды в газете, которую сам основал. Я не видел ничего дурного в его идеях, как и в идеях мистера Уикса, но они были столь же сильно испорчены католицизмом, сколь идеи Уикса были испорчены вероотступничеством. В наши дни такие крупные мужчины становятся трансвеститами. Они никогда не удовлетворяются достигнутым. Между службой у марокканского паши и у голливудского магната есть немало общего. Вы можете ждать и того, и другого в течение многих часов, иногда месяцев. Они меняют мнения чаще, чем нижнее белье, и неизменно удивляются, что вы не можете исполнить их мгновенные прихоти (обычно связанные с уничтожением всего сделанного ранее). Наниматель также обрушивает на вас большой, но неравномерный поток денег, лишая возможности строить долгосрочные планы и ставя работника в зависимость от воли хозяина. Он хочет, чтобы вы постоянно общались с ним, делались его задушевным другом, когда в три утра он пресытится своими новыми сексуальными завоеваниями. В иных случаях можно ожидать, что он пройдет мимо, даже не признав вас. Вы становитесь всего лишь тенью в лучах его тщеславия. Подобно его женщинам или мальчикам, вы — просто способ провести время. И все же, пока вы у него в фаворитах, он наделяет вас немалой властью. Вам достается значительная часть его влияния, хотя вы полезны и достойны привязанности не больше, чем хороший охотничий пес. Мой новый патрон был, надо признаться, несколько более терпимым к человеческим слабостям, чем многие другие тираны, а я так устал от пережитых испытаний, что очень быстро привык к изобилию, обретенному под покровительством паши. Я принимал как должное новообретенную власть и безопасность, которыми наслаждался при дворе — точно так же как в Голливуде. И в самом деле, когда я просыпался утром, стоял на балконе и смотрел на высокие пальмы, на мавританские крыши и зубчатые стены, на башни муэдзинов и горы, мне казалось, что я вернулся в Голливуд. Почему было не потратить несколько месяцев жизни на это замечательное предприятие? У меня не находилось особых причин торопиться обратно в Америку. Я пил шербет. Я читал книги. Что еще мне можно было делать? Через несколько дней после прибытия я снова пристал с разговорами к мистеру Миксу. Теперь я положил руку на его объектив и шутливо предупредил, что буду делать это каждый раз, когда его вижу, если он не явится тем же вечером в мой номер в отеле «Трансатлантик». Он согласился быстро и легко, как мальчик, не привыкший высказывать собственное мнение. — Я буду. А теперь позволь мне уйти, Макс. Но он выглядел расстроенным и явно не хотел соглашаться. Он казался усталым, почти измученным и думал о чем-то своем. В первые дни я получил помещение в резиденции паши — в одном из нескольких небольших зданий, примыкавших ко двору, где размещались почетные гости или высокопоставленные должностные лица. Все эти постройки были из одинакового оранжево-розового камня, с зелеными плиточными крышами; окна их выходили только во внутренний двор, как в любом здании в той части Марракеша, которую называли мединой, то есть Старым городом. Новые французские администраторы и торговцы возводили для себя прекрасные особняки за окружавшей медину стеной. Некоторые из построек, если забыть о цвете, могли украсить любую провинциальную улочку — от Брюсселя до Барселоны. Помимо коммерческого чутья, империализм еще склонен к банальности. Теперь я оставался гостем паши в единственном приличном отеле в Марракеше, названном «Трансатлантик» — полагаю, в честь американцев, которые сочли новую колонию достаточно безопасной, чтобы отсюда начать отважное наступление на таинственный Восток. Американцы пойдут куда угодно, если там есть приличные туалетные комнаты. Первое действие любой страны, желающей привлечь доллары США, — заказать сантехнику у «Томаса Крэппера и сыновей»[1201], причем лучшие модели. Так и Великобритания извлекает выгоду из психологии своих новых хозяев. «Без американцев, — говорит водопроводчик в пабе (его называют Флэш Гордон[1202]), — британская туалетная промышленность пошла бы псу под хвост». Других метафор он не признает. «Как только японец помочится — Стаффордширу перекроет кислород», — предсказывает он. В политике он просто тупица. Он как-то сказал, что люди вроде меня засорили коллектор истории. Если так, то все потому, что история не может вызвать тебя, ответил я. Эти водопроводчики все одинаковы. Они в целом мире прославились. Заговорите с берлинцем о его огорчениях — и он вспомнит о водопроводчиках, заговорите о грабительских счетах — и бомбейский брамин закричит: «Водопроводчик!» В Каире «водопроводчик» — прозвище любого кровопийцы или вымогателя, а в Сиднее «утопить водопроводчика» означает выбраться из передряги. Москвичи и сегодня считают водопроводчиков вульгарными нуворишами, теперь живущими в тех же самых многоквартирных домах, где обитают академики и инженеры! «И тебе хватает нахальства, — кричу я Гордону, — называть меня эксплуататором!» Водопровод в «Трансатлантике» близ Маммуния-гарденз оставлял желать лучшего (хотя он был европейского, а не турецкого типа), так как воду часто отключали по таинственным причинам. Однако я мог регулярно принимать душ и пользоваться западным мылом, что казалось настоящей роскошью. Даже самые гостеприимные обитатели пустыни старались экономить воду. Впрочем, некоторые наслаждались, попусту расходуя запасы. Миссис Корнелиус как-то убиралась у одного араба. Все краны в доме были открыты. Ему нравился звук льющейся воды — он говорил, что это лучшая музыка, которая ему ничего не стоила! Мистер Микс явился ко мне в номер, расположенный на верхнем этаже «Трансатлантик». На балконе можно было насладиться теплотой летней ночи, естественными геометрическими узорами пальмовых рощ и далеких гор под алмазными звездами и золотой луной. Камердинер уже лег спать, и я сам открыл дверь Миксу. Мой номер был обставлен в том богатом мавританском стиле, который можно увидеть разве что в лучших ресторанах. Мистер Микс вошел и закрыл за собой зеркальную дверь. Он был одет в тропический костюм цвета хаки и большую широкополую шляпу. Мистер Микс снял головной убор и попробовал шербет, которым я его угостил (мне пришлось отказаться от алкоголя — теперь я пил очень редко и в определенной компании). Гость тотчас спросил, есть ли у меня «снежок», и я сказал, что немного осталось. Я мог предложить ему пару дорожек. Он поблагодарил и тут же расслабился и извинился за свое поведение. — Приходилось держаться подальше от тебя, Макс. Паша не любит, когда у его мальчиков появляются друзья в другом лагере. Но теперь ты в нашей команде. Наверное, это хорошо. Я тебе все быстро расскажу, Макс, я попал в беду и должен выбраться отсюда. Я на крючке у паши, и мне нужно отработать долг. Теперь я все понял и тотчас испытал прилив сочувствия. — Мистер Микс! Так ты хочешь купить себе свободу! Тебя все-таки захватили работорговцы! Он казался смущенным. — Не совсем, Макс. Он наклонился вперед на кожаном диване, нашел опору и успокоился, поднеся один конец соломинки к ноздре, а другой — к небольшой дорожке кокаина, которую я насыпал для него. — Это долгая история, — сказал он. — Но после того, как я дезертировал с корабля в Касабланке, у меня возникла идея поехать в здешние места на поезде и посмотреть, что кругом творится. — Тебя не похитили цыгане? — Эти парни… Они просто задницы. Они попытались ограбить меня. Нет, я купил билет и сел на поезд, в первый класс, все мои вещи были в багажном вагоне. Я получил в свое распоряжение целое купе, едва лишь додумался подсунуть нужное количество франков нужным людям. Только поезд шел в Рабат. Я проснулся — а за окном по-прежнему был Атлантический океан! Я не успел выйти, и поезд отправился в Фес. В общем, в поезде я встретил алжирского организатора развлечений. Он устраивал местные представления, чтобы веселить туристов и все такое, но он вдобавок организовал несколько эстрадных театров в Танжере. Он собирался открыть еще два в Касабланке и один в Марракеше. — Он предложил тебе возможность, о которой ты всегда мечтал, — догадался я. — Как ты мог отказаться? Что это было… что-то вроде негритянского номера? Одни только твои танцевальные навыки… Он устало приподнял руку, попросив не прерывать рассказ. — Мы пришли к соглашению. Сделка казалась мне выгодной, так как я получал в свое распоряжение театр в Марракеше. Я начал понимать, что Африка не сильно отличается от Америки. Никто не приветствовал меня, словно потерянного брата. Они только хотели знать, почему я оказался таким дураком и уехал оттуда и еще сколько бабок я с собой привез. Это больше напоминало слова Валентино, которые он сказал, вернувшись в Штаты: «Во всем мире я был героем, в Италии я просто еще один итальяшка». Здесь я просто еще один черномазый, а в Танжере это означает примерно то же, что и в Теннесси. Затем деловой партнер меня надул, завладев моей долей в компании, и я решил убраться оттуда и приехать в Марракеш, где, как я слышал, босс был почитай что настоящим черномазым и цветному джентльмену удалось бы прожить получше, чем на Севере. В общем, в итоге я наконец добрался туда — по суше, — заработав немного денег в пути. Я явился в город три месяца назад, и к тому времени у меня скопилось достаточно, чтобы открыть «Дворец кино» — там, где прежде находилась бойня на Джема-эль-Фна, неподалеку от мечети Кутубия[1203]. Все было перестроено. Поверь мне, Макс, это самый роскошный маленький театр за пределами Касабланки. Мы открылись в июне, и бизнес выстрелил. Я тебя не разыгрываю, Макс, мы могли заработать целые кучи долларов, и берберские горцы держали всех прочих ребят в стороне. Я нашел альтернативу. Поверь, «Ас среди асов» круче заклинателей змей и тысячных пересказов «Али Бабы и сорока разбойников». Местные ребята заплатят хорошие деньги, чтобы посмотреть кино. Любое кино! Черт побери, не имеет значения, что говорят муллы, они все равно туда идут. Мне требовалось только прикрывать лавочку в самые большие религиозные праздники и проверять, чтобы сеансы не совпадали со временем молитв. Пять шоу в день, с утра до ночи, семь дней в неделю, и каждый раз полный сбор. Одни и те же парни приходили снова и снова. Эти люди не поверят, что получили максимум от истории, пока не услышат ее раз сто. Они никогда не уставали от наших «промежуточников»! Только теперь выяснилась причина роскошного приема, ожидавшего меня в городе, а также готовности, с которой паша доверил мне воплощение своих авиационных замыслов, — все это имело кое-какое отношение к деловому предприятию мистера Микса. Но почему мой старый сотрапего теперь вынужден отрабатывать долг? — Я только не знал, что у Тами есть интересы почти во всех денежных городских делах. Он — генеральный директор добывающих компаний, импортных и экспортных фирм, банков, газет. Неважно чего — было бы оно прибыльным. Меньшие фирмы он оставлял своим большим мальчикам, а самые маленькие просто платили комиссионные местным чиновникам. А я не платил никому, кроме ребят из мечети. Наверное, никто и подумать не мог, что «Дворец» станет популярным. Ну, Тами много времени не понадобилось — он новый бизнес чует лучше, чем Аль Капоне, — и однажды я получил предложение. Он сообщил, что собирается купить компанию и сделать меня управляющим. Или, сказал паша, он может бросить меня в тюрьму как нелегального эмигранта, или отослать обратно в США, или оштрафовать. Именно тогда я узнал, что он не просто мэр Марракеша, но и все чертово министерство юстиции, судья и присяжные разом. Мое дело уже рассмотрено. Я должен ему сто тысяч дирхемов, штраф за мой незаконный бизнес. «Дворец кино» конфискован вместе со всем имуществом. Ну, Макс, у меня в гостиничном номере было пятьдесят тысяч франков, но его гориллы нашли деньги, с меня «стребовали налог», и я снова остался без гроша в кармане! — Ты не обращался за помощью к американскому консулу? — Там не могли мне помочь, — вот все, что он сказал в ответ. — А «Дворец кино»? — Я вытащил из проекторов пару винтов, и через несколько дней все сломалось. Я думал, что поступил по-умному. Я сказал эль-Глауи, что могу снова запустить машину, но мне нужно отвезти ее в Танжер на ремонт. Он ответил, что пошлет за новым аппаратом. Его пока еще не привезли, а тем временем два местных инженера осмотрели проекторы, которые теперь работают довольно сносно, за исключением того, что нет большинства линз. Я не могу даже добраться до пленок. Тами где-то все спрятал. И вот я здесь. Я даже послал в Касу за некоторыми английскими и египетскими фильмами. Пора уже заменить «Белых асов» — у них не хватает середины — и «Пропавшего ковбоя» — там огромная царапина на последней катушке. — Кажется, они предпочитают кинофильмы Макса Питерса, — с некоторым удовлетворением сказал я. Все стало ясно! По выражению лица мистера Микса я угадал, что именно он забрал с собой пленки, когда сбежал. Это мои фильмы много раз показывали в Африке, по всему Марокко, меняя названия, переводя их на арабский, — и это мои фильмы стали основой прибыльного бизнеса негра! В желудке у меня возникло необычное ощущение — так организм выразил странную смесь негодования и благодарности. Вот почему нас не схватили как итальянских шпионов! Вот почему эль-Глауи так твердо верил, что мы — американские кинематографисты, вот почему он так заботливо обхаживал меня и ловко заманил негра в ловушку! Я молчал несколько минут, пока Микс смущенно бормотал извинения. — Это был единственный выход, который у меня оставался, Макс. Я знал, что существовали другие копии. Я понимаю, что немного навредил твоему тщеславию, но для меня это был способ выжить. — Лучше бы ты остался на борту, — сказал я наконец. — Я не мог, Макс. Я пытался объяснить вам. Ноги у меня зудели. Я должен был уйти. Я понял это стремление, хотя едва ли мог сочувствовать ему. — А мои фильмы — теперь личная собственность паши? — Наверное. Может, нам удастся выкупить их. Я вздохнул, не решаясь винить темнокожего в содеянном. Нельзя судить о людях других рас по собственным высоким стандартам. Я сказал ему, что тайна разгадана и я этим доволен. И несколько принужденно добавил, что по-прежнему рад нашему воссоединению. — Поверь мне, Макс, — произнес он. — Я так счастлив тебя видеть. Ты еще и половины не знаешь. Мне везло, как петуху в супе. Мне нужно добраться до Танжера! — Но я не собираюсь в Танжер. — Я не знал, что еще ответить. — Соберешься, Макс, — сказал он. — И когда это случится, я буду с тобой. Он поблагодарил меня за кокаин. По его словам, порошок поможет ему исполнять официальные обязанности. Он посмотрел на карманные часы. — Я должен лететь. Не думай обо мне слишком плохо, Макс. Мы вернем твои фильмы. Когда он ушел, я по-настоящему развеселился — и не без оснований. Теперь я понял причину своего нынешнего успеха и успокоился. Вдобавок свидетельства моей голливудской карьеры, пусть и не полные, по крайней мере, оказались в безопасности. Я решил, что частью платы за мои услуги станут фильмы, которые паша прятал, чтобы не позволить мистеру Миксу сбежать. Несомненно, мне не так-то легко удастся добиться согласия эль-Глауи на это — требовалось подождать, выбрать нужный момент. Утвердившись в таком решении, я целиком отдался работе. Я подготовил все первоначальные планы и проекты, расчеты и расценки (в долларах и франках) задолго до того, как паша послал за мной. Кажется, возникла проблема с наследованием, и он участвовал в возведении на престол нового султана. Я постарался с максимальной пользой провести время. Мои нормальные желания наконец полностью восстановились, а Марракеш славился красивыми шлюхами, стоявшими по ночам по периметру Джема-эль-Фна, в пешей доступности от моего отеля; я увлекся и спал с несколькими партнершами каждую ночь. За исключением того, что в Марракеше не было побережья, город почему-то казался странным эхом Голливуда. Он порождал во мне удивительные воспоминания. И чувствовал я себя как в Голливуде — так, словно вернулся домой. Тем не менее я не был готов назвать конкретные черты, объединявшие эти два очень похожих места и столь отличный от них Киев, в котором я провел большую часть детства. Марракеш мог бы в конечном счете стать столицей кинопроизводства Карфагена и распространять по Земле исламские идеалы, как мы пытались распространять идеалы христианства. Но один идеал — Смерть, а второй — Жизнь. Сегодня Жизнь отступает под давлением Смерти. Самое время для чудес, как сказал я миссис Корнелиус. Она загадочно ответила, что, по ее мнению, с меня уже довольно чудес. И захохотала от всего сердца, отчего у нее начался приступ кашля, и я так и не смог добиться от нее объяснений. — Ваши легкие доведут вас до беды, — сказал я. — Нужно курить сигареты с фильтром. Но она небрежно относится к таким вещам. И все-таки я думаю, что теперь, сидя в старом кресле в сыром подвале, полном заплесневелых журналов, потягивая джин из стакана и беседуя с той маленькой черно-белой кошкой, которую до безумия любит ее сын, миссис Корнелиус иногда счастлива, как в прежние времена. К сожалению, она не замечает запаха. Но она настаивает, что сама будет делать всю работу по дому. — Я завсегда аккуратная, но особо не привередничаю, — говорит она. — Нет смысла волноваться из-за кошатшьего дерьма на ковре. Она смеется, складки жира качаются, как кружева актера, играющего роль Пьеро на курорте, и я вспоминаю о ее недолгом возвращении на сцену в сороковые годы, когда она развлекала военных и шесть недель подряд выступала в «Килберн эмпайр» с братьями Миллер: Карлом, Джонни и Максом[1204]. Тогда все они еще были комедиантами. Я думаю, что чувствовал себя с ней счастливее всего в наши голливудские времена и потом, уже в пятидесятых, когда она гораздо чаще искала моего общества. Я переехал в Ноттинг-Хилл, потому что она жила там. Я в те годы был еще очень активен и полон надежд, хотя она жаловалась, что я слишком часто искал во всем темную сторону. Тогда мы стали вместе проводить отпуска. Сначала это были просто случайные поездки в Брайтон, Маргейт или Хэмптон-Корт, но со временем она обнаружила, что наслаждается моим обществом, и решила: будет забавно поселиться на недельку в пансионе, чтобы вечерами беседовать о нашем полном приключений прошлом, о довоенных годах. — Энта война сильно протрезвила нас, — считала миссис Корнелиус. — Но по правде скажу тебе, Иван, мне так же весело кататься на автобусе в Батлинс[1205], как пить шампусик в Биаррице. Признаюсь, я никак не мог разделить этот энтузиазм, хотя всегда пытался проникнуться духом ее развлечений. Мы ездили в Майнхед в Сомерсете два года подряд, в 1949 и 1950‑м, и оба раза погода была превосходная. В 1952‑м мы отправились в Сент-Айвс[1206] в Корнуолле и провели ужасный день на лодчонке, которая плыла к островам Силли; миссис Корнелиус извергала (большей частью за борт) все деликатесы и вкусности, съеденные за предшествующие двадцать четыре часа. Да, настоящий рог изобилия полупереваренных пирогов и сладостей… Когда мы добрались до Силли, то увидели только дюны и несколько самых обычных зданий, и мне пришлось поверить, что это и есть остатки острова д’Авильон, куда Артур приехал умирать. «Без вопросов, Иван, так и есть», — заверила меня миссис Корнелиус в перерывах между резкими вдохами и ужасными судорогами, когда она беспомощно тащилась обратно к лодке. Море Силли, возможно, и было Стиксом. Тами эль-Глауи, уважаемый вождь клана, несомненный правитель одной половины Марокко и политический посредник другой половины, послал за мной, когда я провел в Марракеше около месяца, сполна насладившись праздностью. Вождь был в своем кабинете, окна которого выходили в большой внутренний двор резиденции, где тенистые кусты окружали шумный фонтан, украшенный роскошной мозаикой. В такое утро я мог представить, что нахожусь в Византии и наношу визит какому-то греческому сановнику. К сожалению, Тами, при всех его достоинствах, продолжал выглядеть как пригородный ростовщик и, по крайней мере, пока не открывал рта, мог обмануть возвышенные ожидания. Кроме того, он казался еще меньше в окружении старинной массивной испанской мебели, которая придавала комнате вид тесного музея. Здесь располагалась часть огромной библиотеки эль-Глауи. По слухам, он читал с трудом, а большинство книг просто украл. Тами и вправду хотел казаться людям мудрецом, но он действительно прочитал львиную долю этих сочинений и многое понял гораздо лучше, чем я. Как истинный книжник, он наслаждался запахом и видом принадлежавших ему томов. Сегодня мы стояли у окна, глядя на роскошный столик, где он разложил мои чертежи. Позади нас были прекрасные арки, своды и плитки лучшей мавританской архитектуры, снова напомнившие мне об офисе голливудского магната. К сожалению, эту архитектуру с готовностью опошлили все модернисты, которые проектировали пригородные кинотеатры или парки для пикников. — Я сейчас их бросмотрел, — сказал эль-Глауи, улыбаясь мне. — Они очень хороши, я думаю. Я дал взглянуть на них паре эксбертов. Надеюсь, вы не возражаете. Я что-то пробормотал об уже зарегистрированных патентах. — Ну, — сказал он, поправляя шелковый воротничок, — вобреки мнению юного лейтенанта Фроменталя, думаю, мы можем начать строить аэробланы, мистер Битерс. — Мой энергичный отклик обрадовал пашу, и он громко рассмеялся. — Вы — человек, который любит такие штуки! — Иногда я думаю, что люблю их больше жизни. Эль-Глауи пришел в восторг. Подобно многим тиранам, где бы они ни обитали, он ценил сильные выражения и решительные мнения, пока они не начинали противоречить его желаниям. Он казался заботливым, дружелюбным, почтительным, вежливым — и все-таки сохранял уверенность и властность. Как я узнал от мистера Микса, он распоряжался жизнью и смертью во всем Марракеше и окрестностях, хотя не хотел пользоваться этой своей властью по политическим соображениям; он был сильнее, чем номинальный правитель в Рабате, и обладал достаточным могуществом (и не желал большего, потому что отличался природной острожностью), чтобы сохранять равновесие между французами, мятежниками и султаном. И пока я дивился внезапному решению Глауи, последовало новое предложение. — Думаю, нам надо сделать бо одному каждого тиба. А тем временем набечатаем каталог, где расскажем о достоинствах наших машин. Исбользуйте столько цветов и фотографий, сколько захотите. Когда бридут заказы, мы сделаем аэробланы. И болучим основные инвестиции от клиентов. Как думаете? Я просто радовался тому, что снова могу заняться делом, которое больше всего любил. Я решил подождать, а потом уже поднять вопрос о конфискованных «Ковбоях». Не было смысла спорить с пашой, который мог спокойно пообещать что угодно, а затем объявить, что делом занимается полиция, а он бессилен. Восток уже научился обращать любимые Западом слова и порядки себе на пользу. — Мы бронумеруем их, я болагаю, — продолжал он, — и, возможно, дадим им названия. Как я вижу, вы именно это делаете в своих набросках. Например, я думал о «Ветре бустыни». Или это немного бровинциально, как вам кажется? — Нам нужно выбрать тему, — предложил я, — примерно так, как я сделал здесь. Вот названия животных — вспомните знаменитый «Сопвит-кэмел»[1207] — и океаны: Тихий, Атлантический, Индийский — или погодные явления: тайфун, ураган, водоворот, песчаная буря. Я признался, что сам предпочитаю птиц: ястреба, ласточку, сову и гуся. Мой корабль зовется «Серебряное облако». Члены экипажа — только ясноглазые славяне. Паша согласился на птиц. Он сказал, что слышал, будто меня в некоторых местах называли Ястребом. Я признал, что этим именем меня наделили бедуины Восточной Сахары. — Меня тоже сравнивали с хищной бтицей. — Он повернулся к окну и прислушался к музыке своих фонтанов. — Меня иногда называют «Орлом Атласа», в то время как мой блемянник Хаммон, как вам, к сожалению, известно, стал «Стервятником». Вот так. Кажется, мы «одних берьев»? Я не пытаюсь воспроизводить странную смесь изысканного арабского, довольно примитивного французского и жаргонного английского, на которой изъяснялся паша. Знаю, что женщины считали это особенно очаровательным. — Что скажете, брофессор Битерс? Он решительно похлопал меня по спине, и от этого жеста я преисполнился странным чувством гордости. Я не сомневался, что обнаружил собрата-гения. Я всегда сильно сожалел, что он использовал свой талант так неосмотрительно и не по-христиански. Я никогда не был лицемером. Я посещал мечеть по крайней мере раз в неделю и соблюдал ежедневные обряды с тем же тщанием, что и сам эль-Хадж Тами, который часто читал фрагменты из Священного Корана, но мои искренние молитвы были адресованы несколько более прогрессивному Богу. Я, однако, не жил во лжи. За время, проведенное в Марракеше, моя вера окрепла, и я не раз спорил с самим собой о природе Бога и о своей роли в Его замысле. Я научился принимать ответственность, связанную с новым положением. Я был вдобавок большой мировой знаменитостью, приглашенной ко двору паши. В его резиденции я проводил не меньше времени, чем за рабочим столом. Почти каждый день прибывали новые гости из Европы. Наши дела продвигались неспешно; такой темп сначала огорчает европейца, пока однажды он не обнаружит, что научился ценить его и считать единственно возможным цивилизованным способом работы. Теперь я понимаю, что меня соблазнило нечто напоминающее роскошь и лесть сатаны. Все советники паши были евреями. Один из самых молодых оказался великим энтузиастом моих фильмов о ковбое в маске и считал меня кем-то вроде героя. Он, к большому удовольствию своих товарищей, не отставал от меня, требуя сообщить каждую деталь биографии юного Текса Риардона. Я прилагал все усилия, чтобы ответить ему; такое внимание мне немного льстило. Это был европейски образованный, очень интеллектуальный еврей. Он обучался во французской школе. Я называл его «месье Жозеф». Эти евреи часто сидели рядом со мной за обеденным столом и вели себя достаточно дружелюбно. Некоторые знали идиш. Все они были сообразительными, говорливыми людьми, часто заставлявшими пашу смеяться. Он уделял им очень много внимания, поскольку они консультировали правителя по всем интересовавшим его вопросам, шла ли речь о сельском хозяйстве, добыче ископаемых или производстве. Слушая евреев, которые работали на пашу, я понемногу стал понимать его «генеральный план». Он не хотел вступать в вооруженный конфликт с султаном. Вместо этого он строил для себя современную коммерческую империю, настолько же обширную и разнообразную, как империи Херста или Хьюза. Подобно им, подобно Ротшильду или Захароффу[1208], паша понял важность новейшей техники для увеличения состояния и вовремя завладел всей марокканской прессой. Он хотел добиться власти и влияния, пользуясь демократическими средствами. Все яснее и очевиднее становилось сходство моих хозяев в Голливуде с моим хозяином в Марракеше; поначалу мне это казалось забавным. Думая, что так мы сможем решить наши общие проблемы, я предложил мистеру Миксу сделать для паши несколько хороших старомодных кинокартин, которые наверняка его порадуют, но мистер Микс охладил мой пыл. — Кинопленка, — объявил он, — подходит к концу. Что-то заказано в Касе у «Пате», но заказ еще не прислали. Скоро мне придется заняться подделкой. Или придумать какую-нибудь интересную штуку вроде двойной экспозиции. И я весь отдался своим аэропланам. Я переселился в изумительный огромный дом в новом Французском квартале, что строился по другую сторону стены, за Бэб-Дждид[1209] — воротами, через которые проходил бульвар Кутубия. Мне прислуживали рабы из дворца паши, в том числе несколько прекрасных существ, доставленных исключительно для моего удовольствия. В моем распоряжении был персональный экипаж с гербом паши — этот знак свидетельствовал, что я могу ехать куда пожелаю. В целительном однообразии неспешной придворной жизни я начал понемногу забывать о своих египетских испытаниях. Я иногда думал о Коле, моем замечательном друге, и о его благородном упрямстве, поставившем этого человека в такое трудное положение. Но я верил в Колю! Став рабом или сохранив свободу, он мог выжить где угодно, и я в глубине души знал, что когда-нибудь мы встретимся снова и весело вспомним о приключениях в пустыне, ставших далекими миражами. Мисс фон Бек по-прежнему не хотела говорить со мной на людях; она оставалась любовницей паши дольше, чем любая другая женщина. Чернокожий визирь, Хадж Иддер, получивший свободу раб, который был самым близким доверенным лицом эль-Глауи, очень радовался такому постоянству. Он говорил, что его хозяин нашел себе подружку. Как нам казалось, Глауи, по заведенной привычке, каждый вечер выбирал себе новые развлечения, но значительную часть времени он уделял мисс фон Бек. Его лошади, его поле для гольфа, его автомобили — все было в ее распоряжении. И опять же, не меняя привычек, он очень ревниво относился к обретенной дружбе и не раз сурово смотрел на людей, которых подозревал в нежных чувствах к мисс фон Бек. Мы с ней научились скрывать наши краткие встречи, так что в конечном итоге наша связь вновь окрепла и усилилась. Только Хадж Иддер подозревал нас. Как и многие жители Марракеша, он стал поклонником «Ковбоя в маске» и не раз хвалил мою актерскую игру, но этот энтузиазм не мог поколебать его верность паше — Хадж Иддер относился к своему хозяину так же, как мистер Микс ко мне. В каком-то смысле Хадж Иддер напоминал монахинь-христианок, только он восхищался не делами Бога, а делами паши. По слухам, они были единокровными братьями и любовниками, и мы могли поверить почти всему — безусловно, Хадж Иддер оставался самым близким эль-Глауи существом. На черном лице появлялась восторженная улыбка, когда паша находил для себя новые удовольствия. В эти минуты Хадж Иддер очень сильно напоминал мистера Микса. Он хохотал, кричал или плакал, улавливая мимолетные настроения хозяина. И все же, делая свое дело, он выглядел солидным, как дворецкий в большом особняке в спокойные годы на Юге. В таких случаях он представал дипломатом, осторожным и неподкупным, — возможно, при дворе паши он остался единственным (разумеется, кроме меня) человеком, которого нельзя было купить ничем. Ему доверяли по тем же самым серьезным причинам, по каким во многих кварталах еще доверяют Всемирной службе Би-би-си. Я предложил использовать в качестве завода бывший кинотеатр, надеясь, что мои фильмы все еще там, но вместо этого мне выделили большой ангар в предместьях города. Первоначально там располагалась экспериментальная фабрика по производству пальмового масла, но ее забросили после неких разногласий генерального директора, кузена эль-Хадж Тами, с французскими совладельцами, которые жаловались на недостаток обученных сотрудников. Естественно, весь персонал состоял из родственников или слуг правителя. У меня пока не было никаких материалов для начала работы, и я проводил целые дни у чертежной доски, внося последние изменения в каталоги. В конечном счете их отправили в типографию в Танжере, что вновь вызвало продолжительную заминку; в это время я, разумеется, жил в роскоши, но не получал зарплаты. Сходство с Голливудом становилось все заметнее. Мои дни проходили в облаках дыма от кокаина и кифа. Я оставлял свой «самолетный завод» на попечение слуг и после длинной сиесты отправлялся на Джема-эль-Фна. Главная городская площадь Марракеша окружена магазинами, кафе и небольшими улочками, уводящими в лабиринт базара, где продается все, включая арак. Площадь называют Собранием Мертвецов, и существует несколько легенд, объясняющих это, согласно наиболее вероятной версии, здесь выставляли разлагавшиеся тела мятежников. Головы врагов паши сохраняли евреи, гетто которых в Магрибе всегда называли «мелла» (соль), и до французского протектората праздные жители, великие торговцы и важные персоны Марракеша потягивали мятный чай и рассуждали о цене на гранаты, видя на другом конце площади явное напоминание о цене инакомыслия. К закату здесь собираются очень многие — чтобы сплетничать, торговать и развлекаться. Прыгающие заклинатели змей и садящиеся на корточки сказители, цыганские гадалки и берберские барабанщики, глотатели шпаг и пожиратели огня, акробаты и уроды являются сюда, выходя на Площадь Мертвецов с воплями, возгласами и дикими завываниями, принимая важные позы и хвастаясь, совершая нелепые прыжки и демонстрируя свои умения, показывая ленивых змей, обезьян и экзотических птиц, ящериц на нитках и пылающих цикад. В оранжевом свете угасающего солнца тянутся длинные тени, от жаровен исходит запах орехов и баранины, фруктов и кускуса, запах восхитительных маленьких колбас и хлебов, у которых есть тысяча названий, запах риса с шафраном и густого овощного рагу, таджина[1210] и пастиллы из голубиного мяса и миндаля, которую так любят все южане, ибо Марракеш — Париж Магриба, где прекрасную еду готовят прямо у вас на глазах на маленьких керосиновых печах и на углях уличные торговцы, собирающиеся по краям Джэма-аль-Фна. Их лампы так ярко пылают в надвигающихся сумерках… Тем временем огромный темно-красный шар дрожит, опускаясь все ниже и ниже, пока небо за острыми зубцами Атласа обретает цвет коралла и холодной стали; закутанные женщины идут по своим таинственным делам, покупая еду для мужей, посещая родственников или мечети, и за ними в воздухе разносятся запахи жасмина и лаванды. Крытые экипажи, запряженные роскошными лошадьми, куда более крупными, чем в египетских городах, медленно движутся в разные стороны, лавируя между ораторами, певцами, фанатиками и факирами. На площадь приходят, кажется, все берберы и арабы, обитающие в этих местах. Никто не спешит. Они бродят по обширной арене, а в это время с балконов и из-под навесов кафе крикливые мужчины и женщины сообщают друг другу последние новости о родственниках и друзьях или читают важные статьи из газет тем, кто умеет читать только по-арабски, или тем немногим, кто не умеет читать вообще. Здесь люди верят только Священному Корану и изреченному слову. Я пробивался мимо стенавших нищих и вопивших уличных продавцов к своему любимому столику возле отеля «Атлас» и присоединялся к приятелям. Одни из них были соратниками и друзьями паши, служащими, как мистер Уикс, другие — разными европейскими гостями, которые являлись почти ежедневно по приглашению Глауи. Третьи были коммерсантами, желавшими узнать, какие дела можно вести с правителем. Это означало, конечно, что немногим из нас приходилось платить за свои удовольствия, и мы часто удивлялись, обнаруживая конверты с банкнотами, которые затем клали в карманы: ведь мы не имели никакого особого влияния. В результате, однако, я скоро смог открыть счет в «Сосьете Марсель де кредит»[1211] на имя Питерса; в то же время куда более скромный счет был заведен на Мигеля Хуана Гальибасту (имя в паспорте, который у меня по-прежнему оставался) в «Банке Британской Западной Африки». Хотя я получал небольшую зарплату непосредственно от эль-Глауи, вскоре стало понятно, что, подобно всем прочим чиновникам, мне следовало вести личные дела и распоряжаться деньгами, когда речь идет о повседневных нуждах. Мистер Уикс заверил меня, что все это в порядке вещей. — Необходимо приспосабливаться, мистер Питерс. В чужой монастырь… Ну, вы знаете. Он действовал просто изумительно, когда, к примеру, какой-нибудь янки, торговец швейными машинками, пытавшийся продать сто штук в гарем по особым ценам, спрашивал, может ли мистер Уикс помочь в этом деле. Тот неизменно отвечал, что готов подкупить нужных людей, и, конечно, просто присваивал деньги. Когда его спрашивали о них, он делал многозначительный жест и объяснял, что бездействие чиновников — прекрасный пример арабского коварства. Его жертвы были, разумеется, готовы к такому ответу и принимали его с совершенным фатализмом. Потом ритуал повторялся вновь. Медленно, но верно, прежде всего моими усилиями, удалось собрать команду корабельщиков из Агадира и Могадора[1212], местных плотников и слесарей, обладавших необходимыми навыками, — этих людей я должен был превратить в строителей аэропланов. Все они оказались мастерами импровизации и охотно создавали прекрасные детали, воплощая мои представления. Мои прекрасные проекты — ар-нуво в практике машиностроения — обретали форму; дерево и тяжелые шелка сплетались в руках мавританских умельцев, и пустоту огромного ангара оживляли гигантские сверкающие стрекозы. Их было уже больше десятка. Все это, конечно, заставляло мое сердце биться сильнее, но, к моему возрастающему беспокойству, мы еще не получили инструкций касательно двигателей. Я объяснил паше, что, если нам придется делать собственные двигатели, потребуются другие вспомогательные заводы. Он ответил, что больше в заводах не нуждается, и после долгих размышлений решил купить готовые португальские моторы при посредничестве фирмы из Касабланки. Однако у людей в Касабланке скоро возникли «проблемы с таможней» (явно помехи со стороны султана), и задержки не прекращались, пока, сгорая от нетерпения, я не взял дело в свои руки. Я услышал о машине, найденной туарегскими пастухами на пути к Таруданту[1213]. Очевидно, она приземлилась более или менее благополучно, поскольку шасси было повреждено незначительно, однако пилота так и не нашли. Машина оказалась старым французским монопланом «Блерио»[1214] и, возможно, попала в пустыню еще до войны. Лейтенант Фроменталь не смог проследить ее происхождение по французским документам и пришел к заключению, что самолет, вероятно, принадлежал джентльмену-летчику, который просто бросил машину, когда двигатель, без сомнения, засорившийся, окончательно заглох. Летчик, возможно, благополучно присоединился к каравану верблюдов, шедшему в Марракеш, а оттуда вернулся в родную страну. Или, что еще более вероятно, какие-то туареги поймали его и продали в рабство. Я так ничего и не узнал — зато теперь у меня, по крайней мере, был полезный, хотя и устаревший двигатель. После того как я провозился с ним несколько дней, очень радуясь возвращению к практическим занятиям с гаечными ключами, штепселями и цилиндрами, механизм стал функционировать просто отлично. Это оказался тяжелый старый «Мартинес Бланко» — модель, которую не слишком высоко ценили даже в 1912‑м; но ничего иного у меня не было, и очень скоро я смог объяснить своим людям, как аккуратно установить двигатель на мою любимую машину — изящный «Сахр эль-Друг», мой «Ястреб вершин». И теперь у меня появился работающий самолет! Через неделю-другую я снова поднимусь в воздух. Тогда я смогу (втайне думал я) делать все, что пожелаю, — остаться у паши или продолжить путешествие в Рим с Рози фон Бек. Я не собирался предавать своего работодателя, но чувствовал себя гораздо счастливее теперь, когда у меня появилась действующая машина, средство спасения. Я надеялся испытать ее. У нее был необычно широкий размах крыльев, примерно в пятьдесят футов, и изящный корпус, укрытый блестящим разноцветным шелком. Машина напоминала великолепное насекомое. Ее тело возносилось на тонких гидравлическихстержнях, поддерживавших колесную ось. Тяжелый темный двигатель выглядел немного неуместным, но я улучшил вид самолета, добавив удлиненный пропеллер, который удалось использовать благодаря более высокому шасси, — в результате сходство аппарата с насекомым увеличилось. Мистер Микс, присланный эль-Глауи, чтобы запечатлеть это фантастическое рождение, создание первого марокканского воздушного корабля, увидел мое творение раньше всех. Он сказал, что машина выглядит изумительно — нечто подобное мог бы придумать Дуглас Фэрбенкс. Мне это польстило. Фэрбенкс оставался моим киногероем много лет, даже после того, как стало ясно, что идеальный брак с Мэри был обманом, а сам он — Halbjuden[1215]. Я не могу сказать, что сильно удивился. Пикфорд никогда не подходила для взрослых ролей. Я взял на себя смелость вывести по обе стороны самолета, за крыльями, лозунг «Ас из асов», так как думал, что это привлечет возможных американских покупателей; узнаваемые арабские символы славили Бога и Глауи. Моих рабочих всегда поражали мельчайшие детали, все те новые чудеса, которые они создавали, повинуясь моей воле. Думаю, они так же гордились нашей первой птицей, как и я. Они могли предвидеть час, когда, возможно, ведомая самим «Асом» Питерсом, их небесная конница взлетит, чтобы сражаться с той же отвагой и хитростью, которые арабские всадники демонстрировали в течение многих столетий на земле. Я, со своей стороны (пусть это было немного эгоистично и прозаично), видел рекламу собственного гения, который теперь просто не могли не заметить в Италии. Благодаря вмешательству своего покровителя я уже получил новый паспорт на американское имя, но сохранил и испанский, а также марокканские документы. Я мог спокойно путешествовать по всему миру. Я вспомнил, как смеялся над словами Шуры: «Два имени лучше, чем одно, Димка, а три — лучше, чем два». Теперь я постиг мудрость этого принципа! Дело не в расцвете преступности, а в необходимости обычной страховки в опасные времена. Перек Рахман был моим другом. Его жестоко оклеветали. Он говорил, что большинство людей — как скот, они не добры и не злы. Но у них просто нет воображения. Их потрясает вид мальчика, который платит за билет в трамвае меньше, чем следует. Обычные предосторожности, необходимые для выживания, кажутся им истинным доказательством зла. Для тех из нас, кто был лишен страны, для людей из той земли, на которой воссел сам сатана — он питается человеческой кровью и душами, безумные красные глаза на его рогатой голове неистово вращаются, когти тянутся за новыми телами, которые он хочет пожрать, — для нас это просто доказательство благоразумия. Так же обстоит дело и с людьми, утверждающими, что никогда не знали шлюх: они говорят со шлюхами на автобусной остановке, считают их приличными, благонамеренными созданиями и, как замечает миссис Корнелиус, «никогда, тшорт побери, не догадаютца, тшто вони тшлены сосут всю жизнь». Не судите, да не судимы будете — вот что нам всем следует запомнить. Я почувствовал себя в безопасности впервые с тех пор, как мы выехали из Египта. Я полагал, что истинный Бог снова направляет меня. Каждую Пасху я хожу на Эннисмор-гарденс[1216] на предпраздничную службу. Это служба Воскресения, самая красивая служба, которую совершают в храме на славянском языке, и тогда мы ближе всего к Богу. Я часто наблюдал за теми маленькими девочками, певшими «Господи, помилуй». Такое прекрасное жизнеутверждающее переживание… И однако же в газетах состряпали какую-то историю, и внезапно я оказался грязным стариком. Нет никого сентиментальнее меня — да, именно любовь к детям привела меня к такому ужасному падению, и все же я не чувствую горечи и обиды, когда они поют так сладко. «Я возвеличу Тебя вечной любовью». Такая духовная красота! Как я мог навредить себе, восстав против этой красоты и этой непорочности? Но мне сказали, что я виновен, и вынесли приговор. Материал напечатали в «Ивнинг стар», но никто из местных не порицал меня. Как все говорили, она — просто обычная хитрая шлюха. Миссис Корнелиус сказала, что ее мать шаталась по Тэлбот-роуд с 1958 года. Но никого не волнует, что они обесчестили «старого поляка». Я говорю им, что я украинец. Они думают, это до сих пор польская область. Так или иначе, они называют все тамошние земли «Россией». Я в отчании от невежества молодежи. Однажды вечером я остановил мистера Микса, проходившего мимо меня, во внутреннем дворе. На мгновение он, казалось, смутился, будто я поймал его за каким-то интимным занятием — к примеру, ковырянием в носу. Он улыбнулся мне самой широкой за последнее время улыбкой и сказал, что слышал, будто я собирался на следующей неделе испытать «Ястреба вершин». Я спросил, хочет ли он подняться вместе со мной, и мистер Микс, к моему удивлению, ответил, что готов к этому. — Мне не нужно бояться авиакатастрофы, если ты будешь со мной, Макс, — сказал он, но потом добавил, что, вероятно, его первейшая обязанность состоит в том, чтобы стоять на земле и снимать замечательное событие. — Я лорд протоколист, ты же знаешь. Каково? Всякий раз, когда мистер Микс говорил о своих обязанностях или титулах, он словно притворялся, что стоит на сцене, — этот неестественный английский акцент мне казался неприличным и неуместным. Мистер Микс уверил меня, что примет участие во втором полете, чтобы снять город с воздуха. Он нашел новый тайник с пленкой, оставленной два или три года назад французской кинокомпанией, которая обанкротилась, снимая «Саламбо»[1217]. Наверняка испорчено не все и что-то можно использовать. Мистер Микс сказал, что ему очень повезло и пленка почти подходит к аппарату. Я поддержал его усилия. Я заметил, что он создает архив, которым будет дорожить потомство. Он снимал, по моему мнению, исчезающий мир. Когда я обнаружил, что этот мир вовсе не исчезал, а рос и расширялся, я уже не чувствовал той элегической сладости, той ностальгии об утраченной эпохе. Теперь моя ностальгия обращена к более близким вещам, и я испытываю ежедневный страх, что внезапно лишусь привычного образа жизни, что именно мой, а не их мир будет украден. Большой бизнес останется в своих касбах, а все прочие — на базарах и в трущобах. Разве я прошу очень многого — провести отмеренные мне дни с некоторыми удобствами, ухаживая за маленьким садом, зарабатывая достаточно для жизни, беседуя с соседями, возможно, иногда помогая кому-то? Но нет, вам не позволяют даже этого, когда такие люди добиваются власти. Они забирают все. Они съедают все. Их бог — бог саранчи. Их бог — бог пустынь. Я знаю это. Я молился с ними, но я отказался стать одним из них. Это невозможно. В отличие от Христа, говорит миссис Корнелиус, я никогда не был плотником, не был соединителем. Я не стал музельманом, но к тому времени усвоил восточную привычку к мгновенному подчинению, поскольку с ее помощью можно дожить до момента, когда удастся сбежать. Ikh hob nicht moyre! Der flits htot vets kumen. Wie lang wird es dauern? Biddema natla’ila barra! Kef biddi a’mal?[1218] Мистер Микс удалился, сказав, что присоединится ко мне позже. Я снова оценил удовольствие, которое испытывал от нашего товарищества, удовольствие трудно объяснимое, поскольку мы очень сильно отличались по характеру и складу ума. И все-таки его общество давало мне ощущение безопасности и теплоты, и я испытывал муки утраты всякий раз, когда он становился равнодушным ко мне. Свернув за угол гостевого крыла, я натолкнулся на мисс фон Бек, которая бросила на меня заинтересованный, внимательный взгляд. Она казалась слегка растрепанной, но, похоже, никуда не спешила. Она стояла у пальмы, склонявшейся над синим бассейном, над которым протянулся декоративный позолоченный мостик. Она спросила, как идет работа над моими аэропланами, и я ответил, что у нас есть первая модель, готовая взлететь. Я поинтересовался, придет ли она посмотреть. Вежливый вопрос звучал вполне невинно, и все же она ответила с решительной готовностью. — Туда? — уточнила она. — В ангары? Хорошая мысль. И она послала мне воздушный поцелуй, исчезая, как сильфида, облаченная в темно-зеленое с золотом одеяние. Невероятное потрясение сменилось дурным предчувствием, вызывавшим дрожь! Я понял, что неосторожно установил связь, которая могла привести к ужасным последствиям для нас обоих, если все выплывет наружу. Ikh veys nit…[1219] Я обратился в свой калифорнийский банк, попросив, чтобы они выслали мне чековую книжку и сообщили, каким образом смогут открыть доступ к счетам. Но почта и в Марракеше, и в Калифорнии отличалась медлительностью, и письмо могло идти несколько месяцев. Даже когда Фроменталь отправил телеграмму (используя, вопреки конкретным военным инструкциям, официальные каналы), в ответ последовало только настойчивое требование «рукописного заявления». Тем временем я целиком зависел от своего местного кредита, который для знаменитого Макса Питерса был достаточно велик, и от (весьма капризной) благосклонности паши. Я не понимал тогда, что за месяцы безделья стал рабом восточной неги и потворствовал собственным слабостям, поддаваясь, как обычный школьник, мимолетным искушениям и подчиняясь не похоти, а гордости, высокомерной лени, безоглядной скуке. Как можно усвоить простые и понятные уроки, подобные тем, которые преподал нам Гриффит в своих шедеврах, «Нетерпимости» и «Рождении нации», — и все-таки не изменить способ существования? Я, поклонявшийся этим трудам и человеку, философии которого я следовал большую часть жизни, вел себя словно какой-то расточительный викторианец. И все-таки я не мог уехать без своих конфискованных фильмов. Эль-Глауи забыл о них. Проектор из Касабланки до сих пор не доставили. Я был, как говорится, «спутан накрепко». Но я совершал ошибки; меня не раз предавали. И я первым признаю, что нет обмана хуже самообмана. Именно это говорит нам шакал. Anubis, mein Freund[1220].Глава двадцать шестая
Я по природе вовсе не обманщик. Обман — то искусство, в котором преуспевают женщины; по сравнению с ними мы, мужчины, — простые ученики. Их колдовство приводит нас к падению и заставляет совершать постыдные и самоубийственные поступки; об их хитрости нас предупреждали святой Павел, Пушкин и Мэлори[1221]. Кундри всегда готова отвлечь нашего невинного сэра Персиваля от его благородной цели, увести его от Христа. И все же, и все же я не обвиняю их. Я не ненавижу их. Я люблю их. Я всегда любил женщин. Они так прекрасны. Des petites dents sucent la moèlle de mes os. Esmé! Comme le désespoir a du t’endurcir tandis que la fange grisâtre du bolchevisme engloutissait ta vie, ton idéalisme. Mere! Les Teutons t’ont-ils tué là où je fis voler ma première machine? Je n’ai pas voulu te perdre. Ton regard ne reflétait jamais d’amour. Mais tu étais heureuse…[1222] Роза фон Бек была, полагаю, восхитительной Кундри для моего Парсифаля, хотя тогда я почти верил, что отыскал Брунгильду для своего Зигфрида, тем более что за время, прошедшее с начала нашего романа на воздушном шаре (если позабыть о шлюхах и кнутах), моя кровь снова стала горячей. Низменные чувства опять вернулись и смущали меня, угрожая отвлечь от моей судьбы. И однако же, когда наша тайна стала основным источником беспокойства в моей жизни, мне порой казалось, что Роза понимала мое призвание и помогала в работе, а такой Erdgeist в женском обличье — все, о чем мог мечтать мужчина. Миссис Корнелиус ошибается, она слишком высокомерна, а взгляды ее отличаются некоторой узостью — она несколько раз упоминала о «говорястшем зеркале». А я по-прежнему настаиваю, что, вопреки всему случившемуся, мисс фон Бек была вполне самостоятельной личностью. Конечно, на меня действовало ее очарование, но это вряд ли снижает ценность моего опыта. Миссис Корнелиус упорствует, что в подобных обстоятельствах разговаривать со мной не было никакого смысла. «Француз, влюбленная женщина и кошка, которая лезет на дерево, — ежели хошь им помотшь, Иван, нитшего, окромя горя, не будет. И с тобой это самое». Но я никогда не утрачивал благоразумия. Я напоминаю миссис Корнелиус, что именно она зачастую ревновала, узнавая о моей дружбе с другими женщинами. Она не может ответить. Она просто несвязно бормочет. Всегда, когда она возвращается к языку своей юности, к жаргону Уайтчепела, ее форма оставляет желать много лучшего. Как правило, я стараюсь избегать подобных тем. Я просто огорчаюсь, когда вижу ее в таком ужасном состоянии. Мой корабль зовется «Эль-Риша»[1223], и он легок и изыскан, как подснежник. Мой корабль зовется «Jutro», и он унесет меня в будущее. Мой корабль зовется «Die Schwester», он — это я. Мой корабль зовется «Das Kind», и он — все, о чем я мечтал. Meyn schif genannt Die Heim. Meyn shif зовется Die Triumph. Jemand ist ertruken. Widerhallen… Yehudi? Man sacht das nicht. Мой корабль зовется «Ястреб». Я не назвал бы его Yehudi. Ikh veys nit. Ikh bin dorshtik. Ikh bin hungerik. Ikh bin ayn Amerikaner. Vos iz dos? Ya salaam! Ana fi’ardak! Biddi akul… Allah akhbar… Allah akhbar…[1224] Я уже говорил, что мы поклоняемся единому Богу и Он — сумма всего добра, которое есть в нас. Мы поклоняемся тому, что есть Добро. Но тогда почему мы сохраняем столько зла? Подобно многим интеллектуалам своего поколения, таким как Вагнер и сэр Томас Липтон[1225], я усвоил учения других прославленных пророков. Я не закрывал разум. Я не говорю, что какой-то путь неправилен, но я по рождению и убеждениям — защитник великих греческих добродетелей, духа и сердца, объединенных в ритуалах и учении святой Русской православной церкви. Всякий выбор веры требует исполнения определенных обязанностей, отказа от некоторых любимых привычек и идеалов в согласии с мудростью многих поколений. Иногда простого чувства недостаточно. Иногда оно — самый главный враг правды. Но моя вера — не их вера. Моя вера — только моя. Я верую так, как считаю нужным. Я верую так, как требуют обычай и вежливость, подражая своим хозяевам. От человеческих жертвоприношений я, конечно, уклонился бы. Но нельзя насытить всех голодных. Я сказал миссис Корнелиус, что теперь остается только молиться — Бродманн отыскал меня снова. То же самое случилось в Марракеше. Какой вред я ему причинил? Он выбрал большевизм. Я не заставлял его вступать в ЧК. Я не делал его евреем. За что он возненавидел меня? За то, что я был жертвой? За то, что я сохранил веру, от которой он сам отрекся? Возможно, он и впрямь подумал, что обнаружил во мне, как предположила однажды миссис Перссон, зло, в действительности таившееся в нем самом. Возможно, он страдал от пуританского рвения и избавлялся от искушений, преследуя некоего ненавистного невинного, вместо того чтобы принять истину, сокрытую в его собственной совести? В письме я напомнил ему, что Небеса примут только подлинно раскаявшихся. Миссис Корнелиус раздражается, когда я говорю о нем. «И какой же, к тшорту, вред он тебе за сорок лет принес, Иван?» Какой вред? Это прямо забавно, отвечаю я. Он играл со мной, как кошка с мышью, с тех пор, как я уехал из Одессы, — и даже раньше! Он владеет секретной информацией о том, чему стал свидетелем в лагере Григорьева! Он злорадствует. Именно поэтому он так долго не хочет отпускать меня. Не удивляйтесь, говорю я ей, если однажды утром мой магазин не откроется, я внезапно исчезну и мир обо мне больше никогда не услышит. Я веду дневник, но они могут найти его. То же самое было в «1984». Питер Устинов[1226] потерял четыре стоуна[1227], чтобы сыграть ту роль. Он никогда не играл так хорошо. «Десять лет прошло, Иван, — говорит миссис Корнелиус. — И тшего Большой Брат теперь стоит?» Я молчу. Пусть она будет счастлива. Но неужто это и впрямь «Страна слепых»[1228]? Вот почему они называют меня «Шейлоком»[1229], те глупые мальчшики. Шейлок был благородным евреем. Стоит ли мне обижаться? Я неоднократно ходил смотреть на Вулфита[1230], прекраснейшего из всех английских актеров. По сравнению с ним сэр Лоуренс «Оливье» Коэн казался безжизненным. Голос Вулфита напоминал голос какого-то великого русского тенора; он звенел над безвкусной плюшевой обивкой и потускневшей позолотой мюзик-холла «Олд Вик», придавая всякой вульгарщине уникальную, неповторимую красоту. Это был последний из эдвардианских титанов. Его Лир ревел, плакал и бросал вызов Судьбе; его Гамлет изучал мрачные доказательства человеческого безумия и говорил только о преисподней; его Макбет со смутным ужасом вещал о судьбах тех, кто пытался низвергнуть установленный Богом порядок, объявляя им громовое предостережение, а его Тит проповедовал о самой страшной опасности, грозящей тому, кто свяжет свою судьбу с судьбой королей. Вулфит относился к Шекспиру небрежно и уверенно; он воспринимал его с огромным старомодным уважением к истинной сущности истории, и в его голосе в последний раз в Англии звучал беззаботный индивидуализм. К тому времени, когда этот голос заглушили, Би-би-си навязала стране респектабельную посредственность и «Домашнюю службу» и внушила нелепые правила приличия всем детям среднего класса. И вот, пока британцы дрожат от предчувствия перемен всякий раз, когда решают, чем намазывать булочки — маргарином или маслом, остальная часть мира корчится во власти Красного Карфагена, умоляя о помощи, о чуде, которое могли бы сотворить только Британская империя и ее союзники. За это избавление от реальности они заплатили большую цену — цену Второй мировой войны. От чего могут отвернуться эти островитяне? От Европы? Китая? Америки? Аравии? И они загораживают ширмой всю дремлющую страну и показывают на этой ширме видения великолепного прошлого, напоминая о своем вкладе в искусства и науки, в создание институтов и языка, распространившихся по всему свету. Это означает, что мир за пределами экранов видится британцам очень смутно и кажется им жестоким и тягостным карнавалом. Такое ощущение дистанции сохраняется во всех их фильмах. Оно пронизывает их радио и большую часть телевидения. Вот почему они притворяются, будто презирают американские программы, которые на самом деле очень любят. Их пугает собственная вульгарность, способность убивать и разрушать, превращаться в скотов. Я видел, как это происходило в пятидесятых. Старые, вольные, небрежные театрализованные представления тридцатых, в которых отражались все аспекты жизни, уступили место американской косметике и «Техниколору». Я ходил смотреть «Лондон-таун»[1231]. Это было невозможно. Даже Петула Кларк утратила прежнее обаяние, хотя она никогда не походила на Ширли Темпл. Американцы одержали победу. Молодежь помнит только иностранную культуру. Элис Фэй, Фред Астер и Говард Кил, разумеется; но как же Сонни Хейл и Джесси Мэттьюс[1232], которые принесли на экран сексуальность, недостижимую и невозможную для голливудских умельцев? Именно поэтому мисс Мэттьюс возвратилась в Англию и сошла с ума. Только когда я услышал, что бедное создание, подобно Кларе Боу, умерло, лишившись рассудка, — начал я понимать загадку «Дневника миссис Дейл»[1233]. Сегодня никто даже не сообразит, о чем речь. Великобритания так долго зарабатывала пиратством, что позабыла, как жить честно. Вместо этого она научилась дружить с Дядей Сэмом. Тетушка Саманта занята сегодня собственными опытами самогипноза. Она изучает искусство благородного повиновения. И утверждает, будто не имеет ничего общего с Аравией! Если бы я продолжал актерскую карьеру, то строил бы ее по образцу Вулфита. Так или иначе, моя жизнь во многом начала напоминать те фарсы, которые вызывали небывалый восторг в Бельгии. Наши встречи становились все более тщательно продуманными и тайными, и я начал подозревать (увы, слишком поздно!), что желания Рози фон Бек чаще всего пробуждались от неутолимого стремления к риску и новизне. Я стал задумываться о том, насколько безопасным было наше путешествие на воздушном шаре. Per miracolo мы выжили. Per miracolo[1234], я подозреваю, мы остались незамеченными — не благодаря нашим усилиям, а лишь благодаря небрежности самого паши, который, несомненно, не верил, будто кто-то способен на такое безумство. Впоследствии я задавался и другим вопросом: не закрывал ли он глаза на нашу связь, как подобные ему люди закрывали глаза на взятки, систему которых всячески поощряли, — они «выводили на чистую воду» только тех чиновников-преступников, которые больше не приносили пользы. Всякий раз, когда я вижу, как правитель с беспокойством и возмущением сообщает о «разоблачении коррупционеров», я вспоминаю о собственном опыте. Большевики не единственные, кто усвоил, насколько полезно составлять туманные законы, в которых все неясно и нет ничего абсолютно «правильного». Владычество тиранов, добивающихся успеха, основывается именно на непредсказуемости и внезапных переменах настроения. Но тирану не всегда удается долго продержаться, если он не укрепит свою власть законами и не поймет, как превратить ее в идеал, способный сплотить всех подданных. Этим умением, конечно, обладал Черчилль. Он и эль-Хадж Тами были близкими друзьями на поле для гольфа и в других местах. Оба оказались слабыми художниками, но выдающимися мастерами по части примирения противоречий. Теперь модно сомневаться в добродетелях лидеров, но в свое время мы взирали на великих вождей почтительно. Следуем ли мы лучшим курсом в наши дни ленивой демократии? «Ты меня смешишь», — говорю я девице Корнелиус, которая хочет сжечь свое нижнее белье, а ведь я когда-то менял ее подгузники. Она заявляет, что мир тоскует по равенству. Ерунда, отвечаю я. Посмотри! Прислушайся! Эта страна тоскует по тирану. Если она хочет строить жизнь по правилам Веры, то я могу предложить ей лучшую альтернативу, чем ее приятельница мисс Бруннер. Но она никогда меня не слушает. Как будто я говорю с ней на чужом языке. Даже те, кто именует себя «возрожденными», эти бескровные хиппи, которые входят в мой магазин жеманными шажками, наигрывая разные мелодии (и нубийцы сочли бы их отвратительными) на флейтах, что привез из Индии с огромной прибылью какой-то бизнесмен-иммигрант, — даже они говорят об Иисусе так, точно он был шепелявым изнеженным мальчиком. Подобного не смог бы стерпеть и протестант! Это хуже, чем богохульство! Они съедают только сахарную облочку девятнадцатого столетия, которой миссионеры покрыли целительную пилюлю Евангелия. Это не просвещение. Это успокоительная тьма. Такие насмешливые последователи Христа просто не хотят двигаться вперед. Неужто они — авангард нашей армии? Неужто христианство так ослабло, неужто забыло о своих жизненных силах и равнодушно к спасению, которое вполне достижимо? Неужто Бог мертв и Его Сын, колеблясь, отступает под натиском Сатаны? Наверняка это великая борьба, предвещающая конец мира. Армагеддон? Gotterdammerung[1235]? Последнее сражение христиан? Или битва была проиграна уже в тот день, когда захватили Зимний дворец? Неужели с тех пор только отступали уцелевшие стражи, сражаясь за каждый дюйм чистой земли, а Сатана, красный стальной гигант с серпом в одной руке и молотом в другой, надвигался, выплевывая смертельно опасный яд и с триумфом поднимаясь на руины нашего последнего пристанища? И еще говорят, Вагнер не был пророком! Да что можно сыграть взамен? «Жизнь героя» Рихарда Штрауса[1236]? Я не хочу сказать, что прощаю нацистов. Их ошибки и безумие теперь совершенно ясны. Но в те дни представлялось, что выбор у нас ограничен, и люди, которые противостояли большевизму, иногда волей-неволей вступали в союзы с чужаками. Я не единственный страж истины. Я помню, как три недели назад Бишоп говорил в пабе всем, кто хотел его слушать, что он по-прежнему восхищается Гитлером как истинным интеллектуалом — и неважно, что творили его последователи. То же он самое говорил об Энохе Пауэлле[1237]. В паб, как обычно, набилось полно жителей Вест-Индии, ирландцев, греков и прочих, но никто из них не протестовал. И неужто это был злодей, который, как нам говорили, останется вечно жить в кошмарах мира? Сегодня он так же безвреден, так же успокаивает и веселит, как Чарли Чаплин. «Heil Hitler»! Эти слова вошли в репертуар хихикающих школьников. Даже евреи не знают, кто такой еврей, — в Ноттинг-Хилле, по крайней мере. Неудивительно, что Мосли получил меньше ста пятидесяти голосов. Уже было слишком поздно для Ноттинг-Хилла. Ему следовало выставить свою кандидатуру в Сёрбитоне или Ширли, где люди до сих пор ценят собственный образ жизни и следят за нравственностью так же тщательно, как за лужайками. Экран в Шеппертоне[1238] поднимается выше и выше, демонстрируя картины равноправия и процветания всем, кто обитает в бесконечности серых высотных зданий. Министерство правды улыбается, глядя на свою любимую и самую удачную рекламу. Вот они — английские ораторы, благополучные и ограниченные, незаметно перемещающиеся по обеззараженным кабинетам Би-би-си, воплощая будущее и моральный авторитет империи. Они обращаются к людям, живущим в совершенно иных условиях, рассылают по радиоволнам самовосхваления, перемешанные с нелепыми национальными мифами, и до сих пор верят, что их язык универсален. Но, возможно, существует подполье? Какой-то samizdat, который прячется у самого основания их иллюзии, — какой-нибудь Блейк из Барнса или Стейнса — даже какой-нибудь Теккерей из Торнтон-Хита[1239], готовый щекотать им, спящим, носы? Неужели никто не протрубит в рог, чтобы поднять тревогу? Неужто люди будут смотреть на стены своего кокона и не услышат Последнего Зова, когда он прозвучит? Неужто они мечтают о смерти, как древние египтяне, культуру которых теперь считают столь чуждой? Неужто они предпочтут такую смерть вечной жизни? Я одно время ходил туда, сопровождая мисс Б., но в конце концов мне пришлось от всего этого отказаться. В тех тихих пригородах на самом деле полно сумасшедших домов с высокими стенами. Любой лондонец, которому не повезло и которого никчемные специалисты назвали психически больным, хорошо знает, что я имею в виду. Эти дома почти всегда незаметны. Вокруг всегда много деревьев. Они всегда расположены далеко от центра города. Говорят, что так мы можем обрести мир. На самом деле так они ощущают себя в безопасности. Конечно, это — превосходный способ опозорить нас. Нас разом лишают и чувства собственного достоинства, и нашей будущей силы. Нет, их власть мне ни к чему. Когда на меня обращали внимание наделенные ею, мне это редко приносило пользу. Все, чего я хотел, — уважения равных, признания моих способностей, моего авторитета инженера-провидца. Вот что у меня украли — именно то, что я ценил выше всего. Никто, кажется, не понимает меня. Боль, говорю я им, кроется в моей душе. В моей бедной русской душе. Как мы можем притворяться, будто понимаем ценности друг друга, если даже не способны говорить на одном языке? И все же я не отчаиваюсь. Я и теперь еще вижу проблеск надежды для мира. Но мир должен научиться признавать свои недостатки так же, как признает свои достоинства. И, как учит нас Христос, самопознание должно стоять на первом месте. Вот послание возрождения. Они вложили резонирующий металл мне в живот. И разлад теперь не исчезает. Он лишает меня гармонии с Богом. Эти евреи? Почему они так сильно завидуют мне, почему преследуют меня, почему хотят уничтожить? Vos hot irgezogt? Iber morgn? Iber morgn? Ikh farshtey nit. Почему не mitogsayt?[1240] В полдень корабли вознесутся ввысь, чтобы навеки избавиться от земной грязи, а тех, кто не взойдет на борт, ожидает упадок, жестокая война и погибель всей планеты. В полдень мы поднимемся к солнцу, к самому спасительному из знаков Божиих, и наша кожа воспылает золотом и серебром, наши глаза вспыхнут медью, а наши зубы заблестят как слоновая кость; и все равно мы останемся людьми, а не ангелами, людьми, которые непреклонно направляются ввысь, к священной силе и славе. Почему же они ревнуют, эти арабы и евреи? Мы предложили им руку помощи Христа, а они отвергли ее. Они сделали свой выбор, и я уважаю его, но давайте же не будем оплакивать их страдания: они повинны в них сами! Это очень часто становилось темой проповедей, которые я посещал на острове Мэн во время своего пленения. Священник был пресвитерианином, шотландцем с носом, напоминавшим морковь, с губами, по словам Воса, моего соседа по койке, походившими на дыру старой девы, и копной волос, казавшихся языками адского пламени, вырывающимися из пробитого черепа. Он знал, что мы пришли на землю, получив способность выбирать между правильным и неправильным; и если мы выбрали неправильное, то могли винить в своем тяжелом положении только самих себя. Однажды вечером он сказал мне: «У нас довольно много затруднений с паствой, когда мы наставляем верующих — не говоря уже о неверных». Он получал ирландские молочные продукты от двоюродного брата в Дублине и относился ко мне с симпатией. Он считал меня каким-то будущим апостолом славянского мира. Мы сидели и ели хлеб, намазанный контрабандным маслом, а он говорил о пришествии Христа на остров, о долгой истории Мэна как заставы света в годы тьмы. Разве так Бог являет Себя? Единственным проблеском солнца в мучительных страданиях шторма? Неужели Он не дает никаких иных признаков надежды? Вот о чем мы беседовали, сидя у серого каменного очага в обиталище священника, набивая желудки обильными кельтскими дарами. Я возлюбил пресвитерианскую веру в те долгие дни несправедливого заточения. Нацист? Какая «пятая колонна», сказал я командующему. Он согласился, что это глупо. Священник, доброжелательный человек, хотя и с не очень приятными манерами, готов был делиться своим религиозным энтузиазмом, и его общество казалось предпочительнее компании карьериста-англиканина, который проповедовал терпимость и невероятное благочестие, в то время как сами адские орды собирались у порога его дома. С точки зрения подобных ему гибель богов — не что иное, как перерыв в чемпионате по крикету и ухудшение качества местного пива. Я‑то думал, британцы отважны. Теперь я понимаю: все, что у них есть, — высокомерие и недостаток воображения. Эта британская флегма — французская мокрота. Француз выкашливает ее и забывает о ней. Плотно сжатые губы — губы, которые слишком долго касались холодной чаши невежества и равнодушной жестокости. Я говорил так майору Наю, когда мы повстречались в Виктории, сразу после Суэца. Он ответил, что не может понять меня. «Нет, — возразил я, — вы имеете в виду, что не осмеливаетесь понять меня, ведь я иду туда, где открывается путь к истине!» Он ответил, что лучше продолжит считать меня добрым парнем и купит мне водки. Он был слишком мягкосердечен, он воплощал все то, против чего я выступал, — как же я мог ожидать, что он ко мне прислушается? Его воспитали в мире, реалии которого были почти совершенно уничтожены. Новые факты для него просто не существовали. Он продолжал думать и действовать так, как научился думать и действовать, — как верный слуга справедливой и честной империи. Он не испытывал «этих современных сомнений». Вот что сделало его общество таким приятным для меня, хотя мы во многом не могли прийти к согласию. Большинство людей не способны понять, например, жгучего чувства унижения, которое испытывают подобные мне — те, чьи слова и дела сегодня считают недостойными внимания. Майор Най уважал всех людей — и уважал их больше всего тогда, когда они владели собой и решали собственные проблемы. «А пока, — заверял меня майор, — они совершенно счастливы, поскольку пользуются нашими удобствами». Он выражал то же самое мнение, что и мистер Уикс, который уже не искал моего общества, как в прежние дни. Граф Шмальц отправился в Восточную Африку. Другие белые приезжали и уезжали. Я оставил много автографов американским вдовам — они обещали посмотреть «Аса среди асов», как только вернутся домой. Лейтенанта Фроменталя отправили в экспедицию; начались перестрелки и местные восстания, которыми предводительствовали люди из последней харки Абд эль-Крима: они решили, что господин их предал, и отказались исполнять соглашение, подписанное им. Они теперь пытались заключить союз с южными берберами, особенно с синими туарегами и воинами пустыни, которые бросили вызов власти Глауи. Они негодовали на новый закон, пришедший в их древние торговые места. Их опыт свидетельствовал, что новый закон всегда приносил более высокую прибыль городским арабам. Фроменталь доверительно сообщил мне, что не видит никакого смысла в том, что французские солдаты помогают улаживать древние племенные споры. Он боялся, что Марокко никогда не избавится от последствий политики Лиоте — генерал поощрял завоевание недружественного племени племенем уже дружественным (или с которым можно было договориться), таким образом используя собственные миротворческие ресурсы страны. Это помогало экономить деньги французских налогоплательщиков — и решать одну из главных проблем французской имперской стратегии со времен Наполеона. Теперь, однако, политические перемены, усиление «националистов» (таких же, как в Египте и везде) вызвали на набережной д’Орсэ недоверие к местным правителям. Так что Фроменталю приказали отправляться к границам протектората и подгонять солдат для расширения зоны влияния. Фроменталь таких мер не одобрял. Он говорил, что это совсем не защита, а вмешательство в старые ссоры. Он хотел, чтобы французы отступили к Атласу и успокоились. Такая умеренность, однако, уже не соответствовала экспансионистским устремлениям французов, на которые, конечно, тотчас откликнулись итальянцы и испанцы. Все дело было в нефти. Но нам тогда этого не говорили. Под влиянием ислама исчезает всякая сдержанность, в том смысле, в каком ее понимают в Европе, и меняются перспективы — так же, как они меняются в пустыне. Любовные ласки Рози фон Бек становились все более страстными — и в то же время сокращалась их продолжительность; наше удовольствие, усиленное «белой девой», сосредотачивалось в нескольких мгновениях, которые мы могли провести вместе днем или ночью. Ничего подобного я прежде не испытывал. Я жил двадцать три часа и сорок минут лишь ради двадцати минут самой изысканной страсти. Я требовал у Рози все новых откровений о приключениях с эль-Хадж Тами, о его полных рабов гаремах, где больше половины наложниц были французского или испанского происхождения, а две или три оказались ирландками или англичанками — Рози не могла сказать наверняка. Она описывала оргии и необычайные проявления чувственности, тонкой и невыносимой жестокости. Это усиливало мою похоть, восстанавливало мужественность и заставляло забыть о ледяном прикосновении Бога и Ее смертельных удовольствиях, уводило прочь от прохладного дыхания Смерти — несмотря на то что у меня были все основания опасаться новых открытий. Возможно, я тоже мог в полной мере ощутить свою силу лишь в кризисные времена. Но это же просто нелепо — связывать такие удовольствия с оскорблением, совершенным Гришенко на глазах у Бродманна. Я никогда не испытывал мазохистского стремления к почитанию. Мысль о карах паши не приносила мне восхитительного возбуждения чувств, она просто порождала ужасное беспокойство. Она не открыла мне ничего нового. Она сказала мне, что паша заставлял называть его арабским словом. Я попросил ее использовать это слово. Оно было мне знакомо. Она жаловалась, что он проводил большую часть времени на ногах. Они полагала, что у рабынь появилось очень много костных мозолей, даже у самых молодых девочек. В некоторые ночи, по ее словам, она ничего не ощущала выше колен, а ниже них испытывала муки неутоленной чувственности. Она говорила, что от этого ей делалось дурно. Баланс устанавливался слишком необычный. Она утверждала, что девочки с проколотыми частями тела не показались ей странными. Они были довольно красивы и гордились своими украшениями, даже теми, что с замками. Я заметил, что она описывает обычные извращения короля-варвара. Неужели она до сих пор считала их возбуждающими? — В более скучной компании, — ответила она. Ее лесть была восхитительна. Она свидетельствовала о моем превосходстве над повелителем, власть которого я утверждал, от лица которого я говорил. Роза убедилась, что я известный актер, и я снова стал ей бесконечно интересен. И все-таки она не сочувствовала мне из-за трудностей с «Ястребом». При первом испытательном полете я едва-едва сумел вытянуть машину с кустарной взлетно-посадочной полосы, чуть не задел одноэтажные здания пригородов Марракеша и, миновав большую часть деревьев в ближайшей пальмовой роще, попытался направить самолет к далеким пикам Атласа. Но рычаг не работал. Мое изобретение вертелось и раскачивалось почти свободно, по собственной воле, тяжелый двигатель понес его к автомобилям и павильонам паши и его придворных, аппарат пролетел над самыми головами водителей и всадников и ткнулся носом в кучу мягкой красной земли. Пропеллер треснул и отвалился, лопасти полетели в разные стороны, на разбегавшихся зрителей; одна из них рассекла канаты, и павильон паши обрушился на землю, другая разнесла ветровое стекло его «роллс-ройса» и вонзилась в обивку пассажирского сиденья. Колеса самолета сорвались с оси и покатились мимо молодых пальмовых рощ, хижин и шатров, они попали в канал, заблокировав его, и вода залила все вокруг — палаточный лагерь паши превратился в болото, а Глауи и его фавориты оказались в ловушке под тяжелой, промокшей насквозь шерстью берберских шатров. Они толпились в грязи, а двигатель, сорванный с опор, несколько раз перевернулся, по-прежнему испуская клубы черного дыма, пока не вспыхнул примерно в ярде от уцелевшего «мерседеса» паши и не разнес машину вдребезги как раз в тот момент, когда я, с ног до головы залитый бензином, бросился прочь от места катастрофы и врезался прямо в своего покровителя. «Ястреб» вспыхнул, и мы пригнулись. Паша словно бы с неверием смотрел на останки своих любимых автомобилей, своих флагманов. Я понял его смятение. Я по-дружески протянул ему руку, как равный равному, готовый разделить эту неудачу, как подобает людям пустыни. Но Глауи посмотрел на меня необычайно холодно. Он удалился, громко кашляя. После этого мне пришлось обращаться к своему работодателю через Хаджа Иддера или каких-то третьих лиц; стало ясно, что я по крайней мере на некоторое время попал в немилость. Как я предполагал, паша раздумывал, обвинять ли меня в катастрофе. Но в конце концов он должен был вспомнить, что я предупреждал о возможных последствиях использования неподходящего двигателя в таком тонко настроенном аппарате, как мой; я также надеялся, что паша, успокоившись, учтет, что я сам отправился в полет и только по счастливой случайности не погиб. Потом я посмотрел фильм. Мистер Микс заснял все это происшествие и охотно позволил мне увидеть ролик, хотя паша запретил пользоваться проектором — запрет не распространялся только на самого эль-Глауи и его избранных гостей. Я сказал мистеру Миксу, что фильм получился полезный. Паша мог узнать, что проблемы возникли из-за старого двигателя, а не из-за моей конструкции. Как только доставят новые двигатели из Касабланки, мы сможем начать настоящие полеты. В конце концов, «Ястреб» оказался изящной машиной. Мы потерпели неудачу исключительно из-за старого двигателя. Я с некоторой тревогой услышал от Рози фон Бек, что эль-Глауи упомянул обо мне более или менее спокойно один-единственный раз: когда пошутил, что бедуины называли меня не «Ястребом», а «Попугаем». Паша вел себя точно обиженный ребенок. Yuhattit, yuqallim, yehudim[1241], как сказано в поэме. Все не так просто. Выходит, он думал, что я куда лучше болтаю, чем летаю. По некоторым причинам эти сведения вызвали во мне новый прилив сексуального желания — и она остекленела от наслаждения. Но когда Рози ушла, я почувствовал себя уязвленным. Я преданно служил паше. Он восхищался моим каталогом с цветными иллюстрациями. Он хвастался нашей фабрикой. Ни один гость Марракеша не покидал город без проспекта новой авиационной компании. Правителю не следовало стыдиться моей незначительной неудачи. Это не провал, а эксперимент. Мы просто были чересчур нетерпеливы. Я признался самому себе, что питал слишком много неосновательных надежд, готовясь с помощью построенного аппарата покинуть пашу. В одном из своих писем я объяснил ему, как история оценит наши усилия, как наши первые горести уподобятся битвам великих пророков или проблемам, которые решили Уилбер и Орвилл Райты, прежде чем их планер взлетел в небеса над Китти-Хоуком[1242]. Меня успокаивало то, что у меня по-прежнему оставались слуги и дом. Даже автомобиль (хотя это был всего лишь помятый «пежо») все еще находился в моем распоряжении. Становилось понятно: мой работодатель пока не решил, как ко мне относиться. Я утешался тем, что, если он позволит мне уехать, у меня оставалось вполне достаточно наличных, чтобы прожить определенное время в Риме без особенного стеснения. Меня держали здесь только фильмы, о которых я все никак не мог завести разговор. И я знал, что Рози уедет со мной. Я с пользой провел время в Марракеше. Одним из признаков немилости стало удаление евреев из-за моего стола. Только мой молодой поклонник, месье Жозеф, нарушал приказы паши, рискуя вызвать его неодобрение. Он горячо умолял меня смириться с поражением и покинуть город. Это было типичное проявление жадности, пессимизма и боязливости. Компания по производству аэропланов оставалась вполне жизнеспособным проектом, и я знал, что паша — человек будущего. Он справится со своим разочарованием и продолжит работу. Как может наш повелитель разрекламировать воздушные силы, а после не создать их, спрашивал я. Это крупное дело, ответил еврей. Потом он стал вести себя со мной осторожнее, даже не приветствовал меня при встречах на улице. Теперь я понимаю, что евреи уже тогда сговаривались с моим заклятым врагом. Мистер Микс, который, несомненно, разделял мое беспокойство, стал более дружелюбным, но также не проявлял особой веры в мои способности и инстинкты. Он предложил нам тайно купить билеты у военных в железнодорожном депо. Нам следовало перебраться в Танжер, а потом уехать из Марокко, пока мы еще оставались в первых рядах соратников паши. Мне его рассуждения показались грубоватыми: он подчеркивал, что я едва-едва продвинулся в своих делах! Я шагну вперед, когда новый «Ястреб» взлетит в прекрасное небо нашего города. Я шагну вперед, когда все мировые кинохроники и все газеты будут восхвалять мое имя, когда Сикорский, Сопвит и Грумман станут толькомаленькими сносками в истории авиации. Я шагну вперед, когда дуче поприветствует меня в Риме, колыбели и столице нового европейского порядка, и покажет мне фабрики, которые он устроил для изготовления моих самолетов. Как я мог предвидеть подобную ограниченность бербера? Его готовность прислушиваться к любой клевете? Я сумел бы сделать Тами самым почитаемым вождем в мусульманской Африке, человеком, которого уважали бы все европейские правители, вся Америка и Восток. Его Магриб стал бы истинным твердым оплотом в борьбе с большевизмом. Его легионы полетели бы на битву точно так же, как прежде, на протяжении веков, они скакали в бой по воле мавританских эмиров. И тогда их взгляды обратились бы не на христиан Полуострова, а на ожидающий возрождения мир собратьев-мусульман: людей, отчаянно нуждающихся в цели и в благородном лидере. Европа не потребовала бы, чтобы они сделались христианами; достаточно того, что они станут мусульманскими джентльменами, как Саладин в «Талисмане»[1243]. Когда рыцарь признает другого рыцаря — согласие почти неизбежно. В известной степени эта тревога усиливала мое предчувствие опасности, и я стремился разорвать неосмотрительные связи. И все же, тоскуя по редким свиданиям, несколько раз оказываясь на острие ножа, мы только добавляли пикантности ее желаниям — в результате я был зачарован и с восторгом участвовал в грубых и совсем не сентиментальных сексуальных приключениях. Если смотреть из мира пригородов, то мир сексуального странника покажется сплошным сплетением потных стонущих тел в окружении разных objets sportifs[1244], тел, вечно качающихся и извивающихся, со странными отметинами на ягодицах, приоткрытыми ртами и выпученными глазами; но посторонние представляют мир порнографии, а не наш мир эротических исследований. Наш мир дарил нам столько прекрасных ироничных бесед, самопознания, великой доброты, жизненных интересов и хорошего настроения — подобно любому человеческому общению; без этих радостей сближения тел остались бы лишь совокуплениями двух животных. Не было бы никакого интереса, никакого трепета. Осталось бы только повторение прошлого опыта — без ощущения эксперимента. Секс — не просто набор средств, которыми женщина удовлетворяет своего мужчину. Это единение. Это любовь. Даже в аду. Это единение сил. И оно — рай. Это равенство сил, взаимное воспитание чувств. Другое состояние в Праге и прочих местах именуют «эротомания» — попавшиеся в ее сети забывают даже о еде и безопасности. Безумие привело многих мужчин и женщин к смерти, особенно в таких обстоятельствах, в которых оказались мы. Сам Лоти вспоминает историю о том, как он похитил женщину из гарема султана и как она все-таки заплатила огромную цену за свою измену. Во Франции признают эту болезнь, как признают шизофрению или манию величия, и, конечно, чаще всего упоминание о ней возникает в делах о разводе и об убийстве и ее принимают во внимание как смягчающее обстоятельство. Вот ключевое различие между законами Корана и законами Наполеона, особенно удивляющее мусульманина-рогоносца. Будучи сторонником рационализма, я продолжал верить, что паша понимает смысл честной игры. Я думал, он ждал только прибытия авиационных двигателей, чтобы послать за мной. Я уже написал много извинений и объяснений, которые передавал своему работодателю через Хаджа Иддера. Я потратил на подарки визирю гораздо больше, чем получил от просителей, обращавшихся ко мне. После того как началась моя бессменная вахта, я с удивлением обнаружил, что мистер Микс также подает визирю «письма с приложениями» и обращается к собрату-негру за помощью. У мистера Микса больше не было пленочной камеры. Он сказал, что снимал особенно интересную сцену в подземельях — нечто вроде художественного сопоставления света и тени, старого и нового Марракеша, по его словам. Он не хотел никому навредить, но особая стража паши заметила его, и мистера Микса в чем-то заподозрили. У него отобрали камеру и большую часть его фильмов. Теперь он, как и я сам, пытался восстановить хорошие отношения с пашой. После того как мы провели много часов вместе в приемной, я все же обнаружил, что мистер Микс удивительно мало говорит о своих проблемах. — Я не жалуюсь, Макс, но ублюдок просто поймал меня в капкан. Я не могу уплатить долг без этой камеры! Нам надо сесть на поезд, Макс. Ты можешь вывезти нас отсюда. В конце концов, я сделал тебя знаменитым. Он, казалось, сильно забеспокоился, когда я сообщил ему, что не уеду без своих фильмов, но вроде бы смирился с этим справедливым, хотя и суровым приговором. Мистер Микс мрачно добавил: — Помни, Макс, с каждым днем, пока ты его ждешь, Тами все больше осознает свою власть над тобой. С каждым днем ты увязаешь все глубже. Мистер Микс так и не рассказал, как обзавелся прекрасной современной камерой и изысканными костюмами, которые он носил после прибытия ко двору паши (и еще продолжал носить). Я предположил, что он покорил сердце какой-то богатой и просвещенной марокканской наследницы или столь же богатого шейха, прощальным подарком которого и стала камера. Но Микс ничего не говорил. Он всегда умел обманом и лестью выпытать у собеседника все его тайны, отвлекая внимание от собственных поступков и мыслей. Думаю, он действительно интересовался тем, чему мог его научить я, но мои попытки чему-то научиться у него оказались тщетными. Он оставался очень любезным, но прежняя близость, существовавшая между нами, возрождалась только иногда. С тех пор я встречал и других naif’s[1245], которых отличало такое же неуместное пораженчество и нехватка веры в свои способности. Иногда я думал: никакое ободрение и сочувствие не поможет ему, даже если подробно объяснить, что за возможности открываются в мире негру, наделенному интеллектом и врожденными манерами. К кинематографу мистер Микс чувствовал призвание. Он отличался несомненными дарованиями в сфере производства фильмов. Я попытался убедить его в этом. Я снова рассказал о прибыльном американском рынке, и на сей раз он слушал меня внимательнее. Он обещал, что обдумает мою идею. Мы говорили по-английски. Прочие просители в приемной общались на французском, арабском или берберском; мы все находились в одном и том же опасном положении и испытывали одинаковые страдания — и все-таки собратья по несчастью демонстрировали дружелюбие и великодушие, которые всегда отличали истинных марокканцев. Я никогда не чувствовал подобной близости к этим людям. Вот еще одна черта характера, сближающая их с британцами: они принимают неудачу как свидетельство некоего морального превосходства побежденного. Между тем Рози фон Бек начала проявлять признаки нервозности, а ее сексуальные потребности, хотя и столь же настойчивые, время от времени приобретали характер ритуала. Она не раз говорила мне, что Тами не позволит ей уйти, что он настаивал, чтобы в Танжер с ней поехали охранники, что ее паспорт забрали якобы по ошибке и паша утверждал, будто делает все возможное для решения проблемы. Все пути оказались перекрыты. Кроме того, она стала возражать против отдельных сексуальных воззрений, которые, как она уже сообщила эль-Глауи, не пользовались на Западе особой популярностью со времен Калигулы[1246]. Она сказала, что это замечание сдерживало его, пока он не добился объяснений, кто такой Калигула; затем тан Тафуэлта усмехнулся и сказал: он может заметить некоторое сходство, но, хвала Аллаху, у него нет никаких недовольных преторианцев, способных встать на пути Божьей воли. В результате в библиотеке паши теперь появился какой-то возбужденный гомосексуалист, переводивший Гиббона[1247] на французский, а некий изнеженный метис ухитрился переложить на местное наречие какие-то отрывки из жизнеописаний цезарей[1248]. Рози не шутила, когда рассказывала мне, что эль-Глауи стал теперь с любопытством поглядывать на свою любимую лошадь. «Мне очень жаль его ближайших родственников», — заметила мисс фон Бек. Она благодарила Бога, что ей хватило ума не рассказывать о «Декамероне». До сих пор она отговаривала эль-Глауи от знакомства с «Тысячью и одним днем Содома»[1249], уверяя, что де Сад — не настоящий маркиз. И я снова почувствовал, насколько велика, возможно, даже всесильна власть мифа.Глава двадцать седьмая
По словам князя Лобковица, некоторые цвета, кажущиеся нам символами комфорта, безопасности и удовольствия, для чужаков могут воплощать смерть и угрозу. Примерно так мы смотрим на Марс и верим, что он опустошен, а марсиане смотрят на Землю и считают ее грязной. Я не думаю, что проявлял особую неосторожность в те дни, когда утратил благосклонность паши. Я в самом деле в ближайшее время собирался перевести свои счета в Танжер и конвертировать франки в другие валюты через британский банк. Но я, конечно, не хотел заниматься переводами денег, пока не верну доверия паши. В противном случае он посчитал бы мои действия подтверждением вины. Будучи основным акционером многих банков, он мог бы просто изъять мои деньги! Очень часто его технические проекты терпели неудачу из-за взяточничества и коррупции, закупок дрянных материалов, найма неквалифицированных работников за половинную плату. Я знал: если бы паша осмотрел мою фабрику, он сразу обнаружил бы, что я действовал исключительно благородно. Я, конечно, не мог отвечать за отдельных рабочих или за местных мастеров, но я не представлял себе, как они сумели бы меня обмануть. Это, в конце концов, было не так уж легко. Я мог жить спокойно, пока не найду средство незаметно выбраться из города, предпочтительно вместе с мисс фон Бек, и как можно быстрее отправиться в Рим, к цивилизации, где мы уже не будем зависеть от прихотей местного тирана. Но тогда в мою мавританскую фантазию проник Яго. Я заставил Рози рассказать мне о потайных комнатах и о том, что там творилось. Она продемонстрировала мне несколько синяков в странных местах. Мне стало любопытно, что сделал паша, и Рози все объяснила, открыв иную, чуждую точку зрения. Эта опрометчивая близость с третьим партнером — тоже часть ужасно притягательной неверности. Вот почему некоторые женщины не могут избежать искушений, восхитительных и удивительных открытий, откровений о человеческой сложности и человеческом вероломстве. Для некоторых неверность — почти настоящее призвание. Я не из их числа, но, подозреваю, Роза фон Бек как раз относилась к этому типу людей. Она хранила необычайные тайны, некоторыми делилась, другие скрывала, тщательно распределяя свои знания и таким образом обретая новую власть. И все же она должна была понять: большая часть ее сокровищ — это просто иллюзорные (или в лучшем случае временные) способности шлюхи. Я как-то сказал, что желания Рози фон Бек недостойны ее. Вместе мы сумели бы, если можно так выразиться, завоевать Италию. Тогда я еще думал, что у нашего сотрудничества есть перспективы. Я говорил об этом. В конце концов, сказал я, она может воздействовать на дуче, нашептывая ему на ухо. — На эту часть его анатомии я никогда не имела особого влияния, — сказала она и замолчала, поглаживая скулы длинными пальцами и задумчиво разглядывая меня странными фиолетовыми глазами. Она явно изучала мое предложение. Она согласилась, что ей пора выбираться отсюда. С ее стороны было глупо играть в эти игры так долго. Она сказала, что сроду не ставила на победителей. Так шла вся история ее жизни. — Но, говорят, ты — особенно удачливый игрок, Макс. Я не мог понять, от кого она об этом услышала. — Я редко играю на деньги, — сказал я. — Жизнь, в конце концов, сама по себе азартная игра. — Так говорят. Она начала быстрыми привычными движениями надевать лифчик. Мы нашли уютную кабинку в дальнем конце завода по производству аэропланов. Она была предназначена для обустройства современной уборной и ванной, но по прихоти паши в последний момент пришлось отказаться от услуг западных сантехников. Теперь в комнатке лежали стеганые одеяла, подушки и вещи, которые нам требовались в минуты любовных ласк. Чудесные силуэты моих самолетов парили над нами в полутьме, словно существа из неземных легенд, взиравшие на людей дружелюбно, но слегка удивленно. В помещении все еще пахло клеем, смолой и аэролаком, шелком и бензином, нефтью и древесным углем, на котором фабричные рабочие готовили себе еду. Порой, когда Рози уходила, я зажигал лампы и прогуливался среди своих прекрасных монстров, проводя рукой по их гладким телам, мечтая о той минуте, когда мощные новые двигатели займут свои места, чтобы оживить самый современный воздушный флот в мире! Даже в Америке все будут поражены, как только мои птицы, сверкая, вознесутся над горизонтом! Хевер окажется бессилен. Что станут значить его ничтожные обвинения, если я вернусь в Голливуд героем, ключевым деятелем дивного Круглого стола Муссолини, современным рыцарем, известным изобретателем и исследователем? Должен признать, что мне не хватало дружеских обедов у паши и теперь я находил новых европейских собеседников только изредка, обычно в кафе и гостиничных барах у Джема-эль-Фна. Эти люди были не всегда из лучшего общества, они скорее напоминали мелких рэкетиров и бродяг, которые собираются везде, где почитаемый нами закон слаб или уничтожен. У меня не было на них времени. Даже в одиночестве, тоскуя по цивилизованному обществу, я считал ниже своего достоинства общаться с ними. Из всех моих прежних знакомых лишь юный поклонник, месье Жозеф, посмел нарушить правила, обрекшие меня на одиночество. Месье Жозеф посоветовал мне немедленно возвращаться в США и предложил связаться с американским консулом. Он говорил, что это настоящая дикость — актеру моего уровня приходится терпеть подобные оскорбления. Потом он усмехнулся и вспомнил некоторые сюжетные перипетии из «Закона ковбоя», заметив, что у меня, несомненно, уже есть какой-то отважный план. Он утверждал, что хочет эмигрировать, посетить Дикий Запад и там подражать своему герою. Я вполне разумно ответил, что есть варианты и похуже этого. В Европе многие его соплеменники присоединялись к коммунистам. Месье Жозеф сказал, что хочет поговорить с пашой и переубедить его. Эль-Глауи, несомненно, поймет, какую дурную славу он может приобрести, так унижая меня. Я поблагодарил молодого еврея и ответил, что еще не опустился до того, чтобы полагаться на помощь других. Надеюсь, эти слова не показались ему грубыми или вызывающими. Я решил жить своей жизнью согласно обычному распорядку, продолжал молиться и, как всегда, посещал мечеть, обыкновенно Кутубию, в прохладных помещениях которой я обретал душевный покой. В этой мечети бывали самые выдающиеся городские интеллектуалы. Кутубия, с ее мягкими старыми камнями и выцветшими мозаиками, — символ Марракеша. Ее может заметить издалека любой всадник, въезжающий в город. Это — воспоминание о великом прошлом Марракеша, художественной и литературной столицы мавританского мира. У стен мечети собираются продавцы книг, которые и дали название этому зданию; они ставят там и сям свои киоски и торгуют древними святыми сочинениями, Коранами в изысканных изданиях, изящно отпечатанных, в золотых, зеленых, красных и синих переплетах из шелка и мягкой кожи, которой славится Марокко. Однажды в субботу я вышел из мечети и стал разглядывать разнообразные свитки, болтая о пустяках с продавцами (они были мне хорошо знакомы) и рассматривая наполовину чистые гроссбухи или случайные французские издания, которые считали достаточно значительными, чтобы продавать их рядом с книгами веры, ибо в Марракеше, как нигде во всем Марокко, относятся к религии просто и преданно, но чрезмерное благочестие считается здесь дурным тоном. Вот и все, что осталось от блестящей славы Альгамбры… Когда я потянулся к знакомой книге, каким-то ориенталистским измышлениям популярной романистки, которая считала, что жители Магриба были наследниками всех добродетелей и, как ни странно, потомками исчезнувшего народа Атлантиды, рядом со мной точно по волшебству появился мистер Микс, словно дьявол в пантомиме, и спросил, не тратя времени на вежливые фразы: — А сможет один из этих твоих самолетов долететь до Танжера, если на нем будет стоять нормальный двигатель? — Конечно. — Я озадаченно посмотрел на своего симпатичного африканского друга, который явно разработал некий план. — Нам, полагаю, придется испытать машину. Но дальность полета будет выше, чем у большинства доступных самолетов. Если предположить, что мы найдем двигатель хорошего качества. Неужто их все-таки привезли из Касабланки? — Можешь ты, к примеру, переделать приличный автомобильный двигатель? — поинтересовался он. Я сказал ему, что это зависело от самого механизма. Но я научился импровизировать в Одессе и Константинополе. Я полагал, что мог заставить почти любой двигатель проделывать почти любую работу. Правда, я поспешил, использовав слишком тяжелый мотор в одном конкретном самолете. Но я учился на своих ошибках. — Но потребуется немного времени, — предупредил я, — чтобы все доработать и проверить. — Тогда тебе лучше заняться делом как можно скорее, — сказал мой верный негр, — у меня такое чувство, что наш общий работодатель вот-вот доберется до тебя. Я отвел его в сторону от любопытных продавцов книг, хотя они не могли понять ни слова из наших разговоров на английском, и спросил, что же он имел в виду. Мистер Микс ответил, что сейчас не время разыгрывать невинность. Очень похоже, что нас сварят в одном котле в четверг днем. — Я хочу занять место пассажира, — сказал он, — когда ты взлетишь. До тех пор я буду держаться поблизости. Когда ты решишь бежать, я тоже сбегу. Меня снова тронула его преданность. После всего пережитого мой темнокожий приятель не утратил честности, добродушия, беспечности; он с прежней радостью смотрел на мир. Хотя многие из его красочных фраз ничего для меня не значили, я восхищался ими. Я привык не вдумываться во все, что он говорил, так как чудные иронические выражения мистера Микса порой имели смысл только для него одного. Я пообещал, что он станет первым пассажиром, когда я поднимусь в воздух. Это его не вполне удовлетворило, и мистер Микс собирался сказать что-то еще, но передумал, бросил взгляд в сторону входа в мечеть и прошептал, что встретится со мной позже. Он исчез, а я без малейших оснований почувствовал приступ беспокойства. Я решил побродить по Джема-эль-Фна и восстановить силы чашечкой кофе в «Атласе». Еще не пробило полдень, и я не ожидал там увидеть приятелей, но мне надо было как-то успокоиться. Марракеш, так же как и Голливуд, — это город иллюзий. Вокруг, конечно, происходят банальные события, иначе иллюзия не могла бы продлиться, но вызывающий галлюцинации свет, мерцание камней и штукатурки, спрятанные в укромных уголках фонтаны и внутренние дворики, в которые попадаешь совершенно неожиданно, дружелюбие и общая открытость людей — все это делает два города очень схожими. Голливуд — прекраснейший пример мавританского влияния на нашу цивилизацию. Без Альгамбры не было бы голливудского стиля. Без мавров западный жаргон оказался бы совсем другим; ведь ковбои позаимствовали его у пастухов, а пастухи — у арабов. Отправьтесь в Мексику. Поезжайте в Гвадалахару — Вади-эль-Джар[1250] означает на арабском то же, что на языке майя. Испанцы принесли Карфаген в Южную Америку. Результат очевиден. Сегодня мы видим только самые романтичные стороны Карфагена и заимствуем их для своих фантазий. Но в действительности (думаю, мне удалось это показать) все иначе. Мы живем в эпоху иллюзий. Искусство иллюзий стало основой индустрии двадцатого столетия. Даже наше богатство оказывается иллюзией. Оно может исчезнуть в любой момент. Мусульмане подготовлены к этому. Мы, христиане, этого боимся. Мы верим в прогресс. Мусульмане верят в более основательные вещи, в отличие от жителей Запада, которые из арабской астрономии узнали подлинное послание небесных сфер — мы должны жить по законам естественного порядка. Мусульмане говорят: по какому праву мы хотим так радикально изменить Божий мир? Но я полагаю: наша судьба — стать участниками перемен. Многое требует улучшения. Их иллюзия не более и не менее ценна, чем наша. Все сводится к темпераментам и предпочтениям. Я оказался на земле смерти, и Анубис был моим другом. Я заглянул в черную душу мира. Я испугался. Я вернулся на землю жизни, и моя весть — весть, полученная от богов. Мы должны добиться искупления. Мы должны стать сильными. Мы должны превратить свою человечность во что-то положительное и устойчивое. Мы должны снова шагать под знаменем Христа. Но сначала мы должны познать себя. Сначала мы должны научиться управлять своими судьбами. Теперь я это понимаю. Неужто такова Божья кара? Явить мне истину лишь перед тем, как я умру? Показать ту малую часть правды, которую я искал всю жизнь? Они вложили кусок металла в мое тело. Тот штетль не был сном. Я все еще ощущаю его запах. Чувствовалось слишком много страха. Мне это казалось невыносимым. В мире не должно быть столько страха. Я упустил какую-то мелочь, иногда думаю я; пожалуй, это все может объяснить… Перед полуднем Джема-эль-Фна больше всего напоминает пустынную ярмарку; несколько киосков открыты, совершаются маленькие сделки, кто-то предсказывает судьбу, немногочисленные мальчишки делают акробатические трюки. Проулки, которые окружают площадь, заняты ленивыми торговцами, но мужчины по большей части просто стоят, беседуют, курят и наблюдают за тем, что привлекает их внимание. Сегодня здесь проходили прелестные молодые верблюды, которых гнали на пятничный рынок, а еще на площадь со стороны отеля «Трансатлантик» въехал большой красный спортивный автомобиль. Он явно двигался к гаражу Брауна и Ричардса. Один из евреев эль-Глауи, сидевший за столиком возле «Атласа», заметил меня и поспешно допил чай. Я не стал приближаться к отелю, пока он не поднялся. При дворе паши мы научились не смущать товарищей, чтобы однажды они не смутили нас. Мир вертелся, как любил говорить Хадж Иддер. Последний из чудесных маленьких верблюдов пересек площадь, и тут я бросил взгляд в проулок напротив. Я увидел Бродманна. Это был точно он — в помятом льняном костюме и грязной панаме. Чтобы освежиться, он помахивал маленьким детским веером — вроде тех, которые продают туристам берберские женщины. Когда Бродманн понял, что я его заметил, он прикрыл лицо и тотчас отвел взгляд, а затем шагнул в тень под навесом продавца специй. Я не знал, что мне делать: напасть на него или не обращать на его появление внимания. Я попытался понять, какой вред он мог причинить мне в Марракеше, и решил, что здесь он бессилен. Но я все еще чувствовал волнение. Я немедленно подозвал экипаж, приказав вознице пустить лошадей галопом. Я торопился. С того момента я стал серьезно относиться к предупреждениям мистера Микса. На следующий день, отправившись на фабрику, в первую очередь затем, чтобы уничтожить доказательства своего романа, я обнаружил, что доставили автомобиль. Поврежденный «роллс-ройс» паши. Возможно, маленький знак примирения? Или мистер Микс нашел путь снабдить меня двигателем? Двигатель, как я тотчас убедился, остался в полном порядке; его легко было приспособить для «Эль-Нахлы», моей «Пчелки». (После катастрофы я переделал названия в каталоге, заменив птиц насекомыми. Можете вообразить мое удивление, когда я, прибыв в Англию, услышал, что здесь объявляют, будто неожиданно изобрели «Москито»[1251]! Но теперь я держу свое мнение при себе. Истина о моих достижениях известна мне и Богу, а это все, что имеет значение.) В тот же день я без посторонней помощи смог извлечь двигатель, и назавтра он уже был закреплен в корпусе аэроплана, в люльке на черно-желтом теле моей «Пчелки». К третьему дню я настоял, чтобы мисс фон Бек провела на фабрике побольше времени и помогла мне отрегулировать двигатель, а я испытал свой хитроумный ременной привод, благодаря которому вертелся пропеллер, придававший легкому самолету достаточную мощь. Мисс фон Бек предупредила меня, что, находясь в ангаре столько времени, она подвергала опасности себя и других. — Если эти другие — я, — заметил я в ответ, — то не волнуйся. У нас теперь есть средство спасения! При необходимости мы воспользуемся тем же способом, с помощью которого и прибыли в Марокко. Кстати, а что случилось с воздушным шаром? Эль-Глауи сказал ей, что спрятал его ради безопасности. Как теперь полагала Рози, он хранил трофеи в своеобразном музее. Она была необычайно взволнована, даже после наших любовных ласк, хотя ранее в подобных случаях часто казалась холодной и равнодушной. Теперь, когда мисс фон Бек говорила об удовольствиях эль-Глауи, ее глаза наполнялись не едва угадываемой похотью, а слезами. — Он — вроде Синей Бороды, — сказала она. — Убийство — просто одно из радикальных средств его политики. Нам не стоило пользоваться его гостеприимством, Макс. Я был слишком благороден, чтобы напоминать, с какой готовностью она принимала все предложения паши — почти с того самого момента, как мы покинули корзину воздушного шара. Она поделилась со мной своими страхами, и я посочувствовал ей. Ее опасения были не похожи на мой ужас, возникавший при мысли о Бродманне. Они больше напоминали мой страх перед египетским Богом, безнадежный и горький, оставлявший лишь ничтожный выбор — между жизнью в унижениях и мучительной смертью. Итак, находясь в относительно свободном положении, я сумел успокоить Рози. Я не колеблясь решил, что возьму с собой ее, а не мистера Микса. Природная галантность требовала, чтобы я оказал услугу женщине. Так или иначе, мы по-прежнему находили время для сексуальных утех, но я теперь подчинялся скорее привычке, а не похоти. Сексуальность для нее стала почти единственным средством спасения; это было своего рода безумие. Она напоминала тех людей в «трудной» палате в новом Бетлеме[1252], которые выполняют одни и те же действия снова и снова, возможно, попав в ловушку мгновения, когда они чувствовали себя свободными, независимыми или живыми. Катарсис, если он наступает, в таких случаях всегда исключительно силен. И все же я не мог уничтожить узы любви и очарования, которыми она опутала меня. Я чувствовал, что наши судьбы будут сплетены навеки. Пока мы продолжали работу с двигателем, она не могла удержаться и сообщала мне секреты эль-Глауи, хотя я уже не испытывал к ним особого интереса. Все восточные сексуальные извращения были мне более чем знакомы; рассказы о различных удовольствиях, связанных с обрезанными и необрезанными девушками, кастрированными юношами и так далее вызывали неприятные эмоции. Паша предпочитал в основном необрезанных женщин, сказала Рози; вот почему в его гареме было так много наложниц из Европы. Ничего удивительного, заметил я, что эти владыки предпочитали держать любовниц подальше от публики. Рассказы о членовредительствах и побоях создавали у меня впечатление, что некоторые женщины в гареме напоминали боксеров после особенно тяжелых поединков. Вот, полагаю, еще одна причина для ношения вуали. Рози говорила, что паше нравилось показывать ей все больше, чтобы она все глубже увязала в ловушке, но по-прежнему интересовалась им. Он повторял, что она остается гостьей и ее участие всегда должно быть добровольным. Как считала Рози, это доставляло эль-Глауи особое удовольствие. — Но он уже показал, что случается с теми, кто его огорчает, — произнесла она. — Он переменился с тех пор, как увидел мой итальянский паспорт. Как я понял, в одной из камер в Тафуэлте произошло нечто вроде казни и она присутствовала там в качестве почетной гостьи. Я ясно представлял себе ее положение. Было бы слишком жестоко разделять мнение миссис Корнелиус. Зачем мисс фон Бек понадобилось бы клеветать на пашу? Я не единственный, кто слышал такие истории. Во Франции есть много литературы об этом. Миссис Корнелиус дала мне книгу женщины, которая была любовницей эль-Хадж Тами и работала на французскую секретную службу. И не одну эту авантюристку — или авантюриста — влек странный двор паши, тонкие интриги, опасные сплетни и волнующие открытия. О детях в железных клетках она ничего не писала. После 1956 года все члены семьи Глауи стали квалифицированными специалистами и бизнесменами и очень легко приспособились к существованию западных обывателей среднего класса. У нас есть привычка прощать тиранам их преступления при жизни и полностью забывать об этих преступлениях, едва тираны умирают. Неужели мы так низко ценим человеческие страдания? И все мы — только скоты, которые щиплют траву на пастбище, медленно приближаясь к бойне? Так же ситуация обстояла и в лагерях. Я мог выбрать этот путь, но я находил практические решения проблем. Я максимально использовал то, что было мне доступно. Я отказался становиться музельманом. Я — инженер. Я — гражданин двадцатого столетия. И то, что меня унижают разные скоты, — неправильно. Я несу в себе великую духовную традицию Рима и Византии. У неверных нет ни честолюбия, ни интеллекта. Они отвергают всякий анализ. А я — ученый. Я исследую, и я творю. Я управляю своей судьбой. Бог помогает тому, кто помогает себе. Таков был тайный уговор англосаксов с их Творцом — не тратить впустую Его время. Если Его помощь не приходила сразу, они продолжали трудиться сами. Иногда им хватало сил, чтобы подать руку Богу в тот момент, когда Он, казалось, ослабевал. Англосакс — творец чудес великого христианского союза. Славянин — душа этого союза. Рози фон Бек, несмотря на все неприятности, по-прежнему романтизировала меня, превращая нашу связь в какую-то мелодраму. Это тоже пугало меня. — Ты и впрямь Ястреб, — сказала она, когда я, переводя дух, лежал на куче стеганых одеял. — Ты похож на одну из охотничьих птиц Сая Хаммона. Есть веские причины, чтобы ты прятался весь остаток жизни. Тебя будут выслеживать. Тебе больше не нужна свобода. Тебя к ней никогда не готовили, не приучивали. Тот, кто освободил тебя, совершил серьезную ошибку. Думаю, это сделала революция. Если бы не большевики, ты наверняка стоял бы сейчас на набережной в Одессе, сдавал в аренду велосипеды и был вполне доволен жизнью. Я мягко заметил ей, что мои притязания несколько больше. — Слишком многих из вас выпустили в мир, — сказала она. — Девятнадцатый век поглотил век двадцатый. Слишком много безумных птиц прилетает из России, чтобы охотиться на толстых и беззаботных голубей Запада. Полагаю, она шутила, ведь она все время улыбалась и смеялась. Я думал, что безумна именно она, а не я. Ей очень нравились мои грузинские пистолеты, привезенные мною с Украины, из странствий с казаками. Она была не первой женщиной, которая с удовольствием размышляла о том, как их использовали, при этом упоминая о евреях. Я объяснил Рози: все, что ей следовало знать, — я никогда не нацеливал эти пистолеты на живого человека. — Они старинные, — сказал я ей. — Они принадлежат мне по праву рождения. Я не захотел использовать пистолеты так, как она предлагала. Гашиш, который я поглощал в больших количествах, чтобы успокоить нервы, начал на меня действовать. Я взял пистолеты у нее из рук и убрал в футляр, а потом и в сумку. Эта сумка оставалась со мной всюду. Грязная и штопаная, она была моей единственной связью с прошлым, единственным доказательством моих достижений. В двадцать девять лет я стал успешным ученым и изобретателем, звездой и художником-декоратором множества голливудских фильмов высшего качества; я до последней возможности сражался с красными в дни гражданской войны; я оставил след в американской политике и финансовом мире. Я сделал намного больше, чем любой обычный смертный, — и однако я не был удовлетворен. Вдобавок меня все сильнее изводило неизбежное знание: где-то на грязных, мерцающих настенных экранах, в черно-белом туманном мире, я много раз повторял сцену изнасилования. Я очень плохо помнил, что было на прочих египетских пленках, но я знаю, что мое лицо не всегда оставалось под маской. Неужели мой измученный взгляд до сих пор впечатляет мастурбирующих бизнесменов в Афинах и Франкфурте? Может, он кажется им признаком экстаза? И это — мое единственное бессмертие? Неужели я — иллюзия правды, подтверждающая неприглядную ложь? И потомство запомнит меня как простую фальшивку? Я пытаюсь купить эти фильмы, но никогда не нахожу нужных. Посмотрев их, я могу только молиться о том, чтобы знатокам все задницы казались похожими. Впрочем, мне всегда представлялось странным, что эти фильмы, независимо от запечатленного в них, очень далеки от печальной действительности. Но я слышал, что теперь в Америке доступны и более реалистические картины. Я все сильнее и сильнее мечтал о Калифорнии и о жизни, которую сам для себя устроил там. Как только я восстановлю свое состояние и репутацию в Риме, то смогу вернуться с шиком. А пока я утешался мыслями об очаровании Марракеша. Я раньше думал, что Калифорния самое эффектное место в мире — с ее цветущими кустами и огромными пальмами, океанскими закатами и пустынными восходами; но сначала Египет, а затем и Марокко превзошли Калифорнию во всем, за исключением цивилизации. Здесь, в этом варварском раю я, как ни странно, по-прежнему чувствовал себя дома, будто действительно оказался у самой колыбели истории человечества. Все наши предки пришли на запад из степей и пустынь; возможно, в моей крови осталась память об этом. Сказать, что душа моя смутилась, было бы ближе к истине, и все же опыт получился не совсем неприятный. Какая великая культура некогда существовала здесь — до того, как дикие кочевники принесли свою жестокую религию через пустыню от Мекки до Атлантики, а оттуда в Европу, до Лиона и Вены! Что они разрушили? Неужели в моей крови осталась память о рае, существовавшем до ислама? Я снова видел призраки великих городов, поднимавшиеся над равнинами. Я видел прекрасные террасы садов в предгорьях Атласа. Я слышал эхо учтивых бесед, доносившееся оттуда, из жестоко уничтоженного прошлого, от которого и остался один только шепот. Неужели Аравия стерла последние следы Атлантиды? Лишь в Еврейском квартале я испытывал настоящее неудобство. Под властью эль-Хадж Тами, Льва Атласа, Черной Пантеры, евреи процветали. Никогда в мелле не царило такое веселье. Никогда евреи не демонстрировали так ярко свое безвкусное богатство, защищенность и силу; их родственники были ближайшими советниками паши, и поэтому все евреи находились под его опекой. В мавританском характере неизменно присутствовал оттенок филосемитизма, но обнаружить это свойство у воинственного бербера — просто удивительно. С тем же успехом можно ожидать, что казацкий гетман захочет собственными руками построить синагогу. Эти люди уважают друг друга как старых соперников. Для их примирения нужно нечто большее, чем смена флага. Конечно, обитатели меллы не напоминали жалких, полуголодных хасидов из штетля. Эти евреи были хороши собой, с пропорциональными чертами лица и чудесными глубоко посаженными глазами. Женщины слыли красавицами и, когда появлялись на рынке, всегда становились предметом интереса благородных людей. Возможно, это были те самые евреи, которые следовали за Моисеем в пустыню, подобно тем, которые следовали за Чарлтоном Хестоном[1253], - достойные и чистые. Даже Геринг отличал этот тип от всех прочих, но в конце концов его аргументы остались неуслышанными. Все, наверное, думали, что он слишком сентиментален. Я тоже привык, что на меня не обращают внимания по этой причине. Именно Геринг и напомнил мне старую шутку: никогда не доверяй сытому еврею, он тебя надует быстрее и хитрее всех прочих. Не то чтобы я когда-то верил, будто Чарлтон Хестон меня обсчитал. В конце концов, именно Сесил Б. Демилль пытался сделать Голливуд духовной твердыней нашей веры. Теперь, конечно, там правит Сион. Теперь, но не в 1929 году, когда я грезил, купаясь в восточной роскоши, а западный мир резко менялся. Я провел тот год, сосредоточившись исключительно на романтических отношениях, так что лишь спустя несколько месяцев после события услышал о крахе своего калифорнийского банка. Банки валились по всему миру, от Шанхая до Стокгольма, словно кегли в боулинге; казалось, что западная цивилизация сокрушена, что предреченный Хаос наконец обрушился на нас. Прозвучал сигнал к последнему бою — и некоторое время складывалось впечатление, что силы добра побеждают. Но все возможности были упущены. Я не извиняю Гитлера, Муссолини и прочих. Они тоже повернулись спиной к спасению. Я начинал понимать, что в мире творятся серьезные беспорядки, и чувствовал, что мне повезло, поскольку я наслаждался безопасностью при дворе эль-Глауи, а моей следующей целью должен был стать Рим, тогда, очевидно, самая могущественная столица в Европе. Я наблюдал ясные подтверждения всего того, о чем предупреждал Муссолини. Позднее такие доказательства послужили наилучшими основаниями для требований Гитлера. Большевизм и большой бизнес были осуждены. Век диктаторов стал не заблуждением, а попыткой вылечить болезнь. Все мы хотели, чтобы этот век существовал. Но болезнь в конце концов одержала победу. Теперь гиганты, ставшие братьями в финансовом мире, шагают, взявшись за руки; победил не капитализм и не коммунизм, а централизованный монополизм. Как раз об этом говорил мне мистер Уикс, когда мы еще поддерживали отношения. Он предсказал мрачное будущее, и теперь в нем я живу. И, кажется, никого, кроме меня, это не заботит. Самолет был почти готов, и я опять представил ходатайство ко двору эль-Глауи. Хадж Иддер словно бы удивился, увидев меня. Он спросил, как продвигается работа. Я решил, что это добрый знак, и сказал, что дела идут очень хорошо. Мы приближались к финалу. — Он будет как новый? — слегка таинственно спросил Хадж Иддер. Я подумал, что это арабское выражение и он имел в виду, что мы начнем все с чистого листа, как говорят американцы. Я поддержал его настрой. — Совсем как новый, — согласился я. Он взял мое письмо и деньги, а потом пошел туда, где сидел мрачный мистер Микс, и, обменявшись с ним дружескими фразами, принял и его конверт. Но едва он ушел, Микс пробрался сквозь толпу бормотавших просителей, подношения которых отвергли, и быстро произнес: — Я не шутил, когда с тобой разговаривал. Соберись с мыслями, Макс, ты в глубоком дерьме! Встретимся с тобой здесь сегодня вечером, в восемь. Постарайся замаскироваться, если сможешь. Он протянул мне записку. Шпионские приемы мистера Микса меня беспокоили примерно так же, как позаимствованные словно из французского фарса манеры мисс фон Бек. Я хотел забыться в собственном, особом, восточном романе. Но Бродманн постарался, чтобы я лишился даже этого маленького утешения. Тем вечером я проник в меллу около Бэб-Беррима[1254], чуть поодаль от французского почтового отделения, позади тюрьмы. Адрес был знакомый. Я направлялся в дом одного из евреев паши, по-прежнему поддерживавшего меня молодого человека, величайшим героем которого стал Ковбой в маске. Да, речь шла о месье Жозефе. Я очень не хотел углубляться в эти мрачные закоулки, особенно ночью. Что мне требовалось из того, что они могут продать? Я утешал себя тем, что, по крайней мере, здесь мне не угрожает смертельная опасность. Отыскав дом еврея, я испытал облегчение. Месье Жозеф был одним из самых незаметных советников эль-Глауи, но он ценил европейский стиль и манеры и мечтал выбраться за пределы меллы, даже за пределы Марокко. Он по-прежнему восхищался моими фильмами, и я отчасти верил в его дружбу. Мистер Микс был довольно хорошо знаком с евреем и нередко навещал его. Я пришел, истекая потом в тяжелой зимней джеллабе (погода внезапно улучшилась). Меня приветствовал сильно взволнованный месье Жозеф. Он утратил весь свой европейский светский лоск и стал похож на обычного украинского еврея, напуганного и затравленного. Внезапно я сложил два и два. В этом деле почти наверняка участвовал Бродманн. Где он прятался? Здесь, в мелле, или, возможно, в резиденции паши? Месье Жозеф повел меня по темным проходам и безмолвным внутренним дворам, все глубже и глубже в этот чуждый район, пока мы наконец не достигли маленькой комнаты без окон, где меня дожидался мистер Микс; тень от его массивного тела заполнила все помещение, когда он поднялся, заслонив лампу, стоявшую поодаль на полке. — Я рад, что тебе удалось прийти, — серьезно сказал он. — Я не знаю, как ты выходишь сухим из воды, Макс, но это не единственное, чего я не знаю. Послушай, паша умнее всех нас. Ему известно о вас с Рози уже много месяцев, но он ждал, чтобы проверить, насколько полезным ты окажешься. Ты отремонтировал его автомобиль? — Я не механик, — сказал я. — О чем ты говоришь? — Он послал тебе свой «роллс» в починку. Тот, что ты повредил. Думаю, он дает тебе шанс искупить вину. Ты можешь сделать это? Теперь фраза Хаджа Иддера уже не казалась загадочной. Я по неосторожности снял детали с машины, которую только утром пообещал визирю привести в состояние совсем новой. Я даже не проследил за судьбой останков кузова. Все эти известия на миг ошеломили меня, и я попросил Микса повторить некоторые слова — чтобы убедиться, правильно ли я все расслышал. Мгновенно стало ясно: моя единственная надежда теперь заключалась в том, чтобы как можно скорее продемонстрировать эффективность моего самолета. Это бы полностью вернуло мне прежнее доверие паши. — Что ты хочешь делать? — спросил мистер Микс. — Месье Жозеф говорит, паша жаждет крови. У нас есть еще один друг, который сумеет организовать место на французском военном поезде. Кроме того, мы можем сесть на автобус, но я ставлю на поезд. Так мы получим защиту у французов. Из Касабланки один шаг до Танжера, свободного порта. У меня едва не сорвалось с языка, что самолет великолепен и готов к полету, но потом я передумал. Для него стало бы большим разочарованием то, что я предпочел ему мисс фон Бек, хотя, полагаю, он был достаточно крепким человеком и спокойно бы принял такие новости. У него, так или иначе, оставался другой запасной выход. Еврей мог вывезти его. Возможно, все мы встретимся в Риме и поделимся забавными историями о наших авантюрах. Я согласился, что поезд казался наилучшим вариантом. Мистер Микс посоветовал мне залечь на дно на ближайшие пару дней, а он договорится, когда и где состоится встреча. Сельскохозяйственные составы уходили к побережью каждые несколько суток, и, пословам мистера Микса, они часто брали пассажиров. Я спросил, кто наш второй друг. Он прошептал, что это Фроменталь, совсем недавно вернувшийся с «фронта». Лейтенант, несомненно, обрадовался бы, увидев мою спину. Он понимал, что мой отъезд положит конец всяким мечтам паши о военно-воздушных силах. Я по-прежнему не вполне доверял еврею. Я спросил, почему он так рискует. — Потому что я вами восхищаюсь, — вот и все, что он ответил. — Потому что однажды я тоже вдохну сладостный свободный воздух прерий. Я так никогда и не узнал настоящей причины. Железнодорожная станция, напомнил нам месье Жозеф, располагалась довольно далеко, на противоположном конце города, за воротами Нкоб. Он договорится об автомобиле для нас. Я оставался там столько, сколько представлялось благоразумным, а потом сказал, что у меня есть дела, которыми нужно немедленно заняться, поэтому я должен уехать. Я встретил своего шофера там, где оставил его, на Джема-эль-Фна, и приказал ехать сразу на фабрику, где я упаковал сумку с чертежами, пистолеты и оставшиеся запасы кокаина вместе с несколькими рекламными проспектами. Я убрал в сумку свой новый американский паспорт, потом аккуратно спрятал все под сиденьем пилота; пара пакетиков кокаина и испанский паспорт лежали, как обычно, у меня в карманах. Теперь я принял все основные предосторожности. Мой следующий шаг был очевиден — предупредить об опасности Рози фон Бек. Если я не мог сам войти в дом эль-Глауи, где она оставалась практически в плену, то отправить ей сообщение был способен — через одного из нескольких посредников, помощью которых мы пользовались в прошедшие месяцы. Потом я заподозрил, что слуги уже все сообщили паше и дали клятву, что будут и впредь докладывать о каждом нашем действии, — это казалось вполне вероятным. Я решил подождать до завтра и понадеяться на то, что паша еще хочет посмотреть на исправленный автомобиль. Я очень удачно запутал ситуацию своими туманными речами, когда утром посещал приемную эль-Глауи. Все обдумав, я решил, что сумел-таки убедить его. Если он не захочет приехать и осмотреть работу лично, у меня была отсрочка по крайней мере на двадцать четыре часа. Очень скоро мы с моей родственной душой воспарим ввысь и направимся в Танжер. Есть белая дорога, по которой я еду вниз, и дорога кончается у зеленого утеса, у синего моря, и, когда я добираюсь до конца дороги, я легко поднимаюсь в воздух и лечу к Византии, чтобы воссоединиться с Богом. Я все еще вижу ее яркие фиалковые глаза на коричневатой албанской коже. Она разделяла мою мечту о полете. Я сделал полет тем, чем он должен был стать, — прекрасным воздушным парением, как в природе. Я не принадлежал к тем, кто низводил идею полета до громыхающих металлических труб, везущих человеческий багаж от города к городу, словно мешки с зерном. Что проклятый большой бизнес делает с нашими мечтами и грезами! Им нельзя давать такую большую власть. За кого умирают отважные мальчики? За родину? За семью? За банк? Я снова заметил Бродманна. Ihteres! Ihteres![1255] Он последовал за мной в проулки базара, а потом обогнал. Сначала я увидел его спину, когда он остановился, чтобы изучить какую-то вещицу на прилавке жестянщика. Он повернулся ко мне, сжав в руке декоративный кинжал — такие вещи нравятся людям из определенных племен, которым теперь запрещено носить оружие. Я думаю, что он собирался пустить кинжал в дело, но я умчался, свернув в переулок и скрывшись в темном лабиринте лавочек и киосков, накрытых пальмовыми листами и полосами старого хлопка — солнце, пробивавшееся сквозь них, могло ослепить, если резко выступаешь из тени на свет. Я обошел открытые сточные ямы и кучи грязной земли; потом я выбрался на мощеную булыжником улицу и вернулся на Джема-эль-Фна, к ожидавшему меня водителю. Он доставил меня на завод по производству аэропланов. Я приказал ему приехать опять через два часа. Немного позже, когда пошел зимний дождь, прибыла в экипаже Рози; как только он остановился, она бросилась ко мне по неровной, залитой гудроном полосе. — Он все знает! — Рози была ужасно напугана. — Он знает, что я поехала сюда. Ты не можешь представить, что он сделает! Она позволила мне заплатить и отпустить экипаж. Рози взволнованно сказала, что паша пренебрежительно отзывался о нашем романе, дразня и оскорбляя ее. Она больше не собиралась терпеть унижения. — Очевидно, он не верит, что мы можем выбраться. Самолет и правда готов? Вместе мы установили на «Эль-Нахлу» пропеллер. Небольшая машина ровно стояла на широком шасси; черно-желтый полосатый фюзеляж засиял, когда мы выкатили аэроплан наружу. Я затянул последнюю гайку. Роза забралась в кабину и завела двигатель. Приборная панель «роллс-ройса» выглядела в самолете особенно изящно, хотя нам пришлось изменить некоторые элементы управления. Мотор запустился отлично, и пропеллер медленно начал поворачиваться. Потом моя «Пчелка» задрожала и дюйм за дюймом стала двигаться вперед. Она собиралась с силами, чтобы оторваться от земли. Она требовала полета! Восхищенная Рози выключила мотор, выпрыгнула из машины и обняла меня. В моей душе царила радость — радость великого свершения. Я знал, что создал превосходный аппарат. Я смотрел на машину новыми глазами и видел, как мое будущее вновь обретает реальность! Как только я покажу эль-Глауи, что «Эль-Нахла» способна летать, я буду прощен. Он смирится, он спросит у меня, как может искупить свои сомнения, и я вспомню о фильмах. Он их непременно вернет. С этим багажом, распрощавшись с деловым партнером, я отправлюсь в Рим за славой и богатством! Я проклинал самого себя за идиотизм. Мне не следовало поддаваться страху, прислушиваться к словам мистера Микса. Паша, конечно, позабудет о моей неудаче. Так делали дела на Востоке… Но когда я сказал Розе фон Бек, что теперь нам нужно только ждать восстановления хороших отношений с пашой, она посмотрела на меня с поистине животным ужасом, и я немедля уверил ее: мы уедем как можно скорее. Я сказал, что готов ради нее на любые жертвы. Успокаиваясь, она прошептала, что всегда ценила мою дружбу. Мы держались за руки, испытывая сильнейшие платонические чувства. Нас окружали огромные горы Атласа, жестокие и прекрасные, как сам Марракеш, гордые, как берберские воины. Снежные вершины устремлялись к бледно-голубым небесам. Изумрудные пальмы покачивались под слабым южным ветром. Муэдзин в далеком городе начал долгую молитву о славе Божией. Я отпустил ее руку. — Спасибо. — Ее искренность казалась почти трогательной. Я никогда не забуду тот миг. — Я верю тебе, — произнесла она. — Я действительно нашла своего Лоэнгрина. Она скрылась в помещении, когда вернулся мой водитель. Она сама найдет путь домой. Она сказала, что мне не стоит за нее волноваться. Когда я возвратился к себе, то обнаружил, что все двери широко распахнуты, а слуги сбежали. Было вынесено все. Вещи, включая любые мои документы и мебель, исчезли. Без сомнения, паша теперь знал, что произошло с его машиной. Я помчался наружу, но водитель уже уехал. У меня не оставалось выбора — только отправиться обратно в Марракеш пешком. Паша пребывал в таком настроении, что голос рассудка на него просто не подействовал бы. Моя единственная надежда состояла в том, чтобы добраться до меллы и спрятаться, пока я не смогу улизнуть на аэродром следующим утром. Я видел повсюду руку Бродманна. Разумеется, именно он написал этот сценарий! Я начал понимать природу игр паши с мисс фон Бек, начал понимать, почему она так стремилась сбежать. Пока я поспешно шагал по темнеющей дороге к городским воротам, ряды пальм превращались в зловещих врагов, тая десятки различных опасностей; иногда я бросался бегом. Когда я остановился, чтобы отдышаться, то понял, что все мое тело содрогается. Другой житель Запада, не ведавший о всемогуществе тирана, начал бы нервничать гораздо позже. Но я уже обладал большим опытом. Я легко мог вообразить, какую участь уготовил мне эль-Глауи. Я знал, что заставляют делать под пытками. Я помнил, как мечтал о смерти и все-таки был готов на что угодно, лишь бы мне сохранили жизнь. Я не мог еще раз вынести подобное унижение. Еще оставалась вероятность, что паша подстроил какой-то хитроумный розыгрыш, постаравшись преподать мне урок, возможно, для того чтобы я сделался более верным слугой в будущем. Оставалось молиться лишь об этом. Спасти меня могло только чудо и ничто иное. Когда я проскользнул через узкие ворота в медину и двинулся по темным извилистым улицам, ведущим к мелле, я задумался, не совершаю ли глупости, разыскивая еврея. Возможно, он уже был мертв? Но у меня не осталось других надежд. Я удирал так, как обреченный жук-скакун бежит по горящему бревну; я знал, что шансы на спасение — лишь иллюзия. Я едва мог думать из-за тяжести в груди, спазмов в кишечнике и желудке, из-за стука моего несчастного сердца. Я постоянно стану сожалеть о том, что не отправился прямо во дворец паши, чтобы умолять его о милосердии. У меня было доказательство его доверия. Мне удалось бы избавиться от мучений, испытанных, когда я проник в обиталище евреев, оставил позади проходы и лестницы, маленькие мощеные улочки, миновал дверные проемы и перекрестки и ступил в сырой зловонный лабиринт крошечных комнат, за дверьми которых царила тишина. И когда такая же дверь затворилась за моей спиной, а голова месье Жозефа поднялась в воздух на острие ятагана паши и повисла прямо передо мной, я понял, что, как напуганный пес, сам пробрался в темницы эль-Глауи. — Добрый вечер, мистер Битерс. Маленький человек прошел мимо меня, по-прежнему держа голову на кончике меча, и ловким движением ятагана распахнул дверь. Мистер Микс посмотрел на меня и пожал плечами. — Наверное, он с нами играл с самого начала. Мы — только участники его проклятого спектакля. Он лучше нас в этом деле поднаторел. Он говорил на английском, которого паша не понимал. Нашего похитителя это беспокоило не больше, чем бессмысленная болтовня обезьян. Он даже не мог представить, что мы способны по-настоящему общаться друг с другом! Паша захихикал, когда с нас сорвали одежду. Он посмотрел на нас с удовольствием, словно жадный любовник, и я задрожал, поняв, что вот-вот перестану управлять кишечником. Я начал умолять, чтобы он, во имя всего святого, выслушал меня; я говорил, что оставался его истинным и верным слугой, а другие люди вынуждали меня предать его. Будучи князем в своей стране, я служил ему честно и утверждал его власть. На мои исковерканные арабские фразы последовал ответ — на грубом, полудетском французском. Я опозорил его всеми возможными омерзительными способами. Я лгал ему, бесконечно предавая. Вдобавок я притворялся мусульманином, хотя в действительности был грязным маленьким евреем из Одессы. Последнее оскорбление показалось мне самым отвратительным. Он явно сделал выводы из намеков Бродманна. Я заверил, что все это ложь и я уже слышал ее. Я знал, кто ему рассказывал такую чушь и почему. Я собрался с силами. Я объяснил, что Бродманн всегда оставался моим врагом. Он был известным мошенником. Большевистским агентом. Эль-Глауи нахмурился и хлопнул в ладоши, чтобы заставить меня замолчать. Он потешался надо мной: — Знаменитый русский киноактер стал скулящей еврейской собакой. Неужто вы думали, что я бозволю мадемуазель Рози что-то от меня скрыть? Вас будут бытать несколько недель, а потом сунут в корзину воздушного шара вашего итальянского хозяина; шар бодожгут и выпустят в непо. Вы станете героями в западной брессе. И все, по воле Аллаха, завершится как бодопает. В его голосе звучал восторг театрального режиссера, добавляющего финальные штрихи в постановку. Паша, кажется, ожидал наших аплодисментов. Он приказал мне войти в камеру к мистеру Миксу. — Я боеду в Тафуэлт, чтобы разопраться с мятежниками. Это мой долг. Но я вас научу кое-каким фокусам. Он снова хлопнул в ладоши, и на сей раз появились рабы: они сначала внесли тяжелую камеру «Пате» мистера Микса, а затем сумку, которую я спрятал под сиденьем своей «Пчелы». Вещи бросили у наших ног. Теперь эль-Глауи едва не мурлыкал. — Мадемуазель Рози оставила это для вас. Он не стал смотреть, как нас приковывали цепью к стене, но после некоторых размышлений положил на мою сумку голову еврея, и она покорно глядела на меня мертвыми глазми, пока крысы не стащили ее на пол.Глава двадцать восьмая
В этом веке я стал свидетелем гибели христианской благопристойности. Удивительно, как скоро миссис Корнелиус начали беспокоить крысы — едва снесли клариссинский монастырь напротив ее дома. Первое время они возились среди обломков, а потом обнюхали южную сторону улицы и поселились там. Миссис Корнелиус говорила, что несколько крыс ее не волнуют, но это была чертова чума. Мы оплакивали уничтожение монастыря. Он служил оплотом христианского здоровья в мире языческого убожества. Его стены помнили прекрасные тихие дни, когда вдоль ручья тянулись луга, а ветер не приносил зловоние с кожевенных заводов. Несоменно, для того чтобы выделить участок монастырю, пришлось снести какой-то георгианский особняк, и, конечно, современники считали это началом конца. Мы всегда видим начало конца, всегда видим лучшее и худшее. Неважно, каким атакам подвергается город, — он все равно должен победить. Пытаться нарушить это неизменное положение, как сделали нацисты, — настоящее безумие. «Кто ты? — спросил он. — Некий Передур[1256]? Некий гасконский rapiero?» «Никакой романтики, — ответил я ему. — Вы оказываете мне слишком большую честь». Что еще я мог сказать? То же самое было с евреем в Аркадии. Я всегда признавал, что благодарен ему. Но я не Венера в мужском обличье, родившаяся из моря, как он описывал. Поэт всегда обесценивает подобные фантазии — не стоит жаловаться. Гасконский rapiero? Не так храбр, сказал я. Не так безрассуден. Я видел Муркока, которого они все презирают и которому клянутся в вечной дружбе. Он — их любимый журналист; он принимает их ложь. Он бродил по руинам монастыря после того, как рабочие разнесли стены и большинство корпусов, а холодные бульдозеры уничтожили плодовые деревья и огороды, загадили лужайки, где монахини обычно играли в крикет и устраивали летние пикники. Казалось, тут шли бои. Монастырь, это крепкое викторианское свидетельство духовных устремлений, стал одним из первых сооружений, построенных здесь — в 1860‑м, — и одним из первых был уничтожен. Миссис Корнелиус говорит, что тут хотят устроить муниципальные многоквартирные дома. Нам нужно больше муниципальных квартир, верно? И поменьше духовных утешений, так? А что еще они пожелают? Тотализаторы? «Бургер-кинги»? Продажу алкогольных напитков навынос? Хотелось бы мне увидеть, как книжный или цветочный магазин будет существовать в тени этого кошмарного бетона. Много лет на стене красовался лозунг «Vietgrove» — и еще что-то об Эйхмане[1257]. Мы сверяем часы по этой стене, сообщает мальчик Корнелиус, несомненно, наслаждаясь смесью «Аякса»[1258] и порошкового молока. Я предупреждал его. Вот почему он говорит в нос. Люди примут его за американца. И все же падение монастыря символизировало падение Ноттинг-Хилла. Теперь в зданиях по другую сторону Лэдброк-Гроув живут члены парламента от либеральной партии, судьи и кое-кто похуже. Я видел, как Муркок что-то сунул в карман. Очевидно, он искал деньги. Притворяясь, будто фотографирует груды обгоревших бревен и тлевшей штукатурки, немногочисленные деревья и стоящие под ними машины, он наклонялся и то и дело вытаскивал из грязи какие-то вещи, разбитые чашки или пустые бутылки. Чаще всего он выбрасывал свои находки, но, очевидно, иногда ему везло. Я вспомнил один старый разговор о сокровище, туннелях и чудесном спасении, но это была химера. Я уже перестал гоняться за призраками. Заметив, что Муркок появлялся на руинах каждый вечер после ухода рабочих, я однажды опередил его и оставил несколько старых монет на плитах каменной кладки у алтаря, под эффектным распятием, раскрашенным зеленым, красным и желтым — эти яркие цвета еще несли миру тайное послание. Я перелез через проволочную ограду, которую установили вдоль Латимер-роуд, и вернулся по Кенсингтон-Парк-роуд на Бленем-кресчент как раз вовремя, чтобы увидеть, как он роется в кучах щебенки, по обыкновению делая разные снимки; иногда он останавливался и почти изумленно осматривался по сторонам, как будто заблудился. В другие моменты он, казалось, переживал трагедию этого уничтожения двадцатого столетия, доказательство того, что Вера снова уступила Спекуляции. Когда он наконец удалился, уже темнело; по грязи и руинам я поспешил к алтарю. Деньги, разумеется, исчезли. Я рассказал об этом миссис Корнелиус. Она посмеялась и ответила, что он, вероятно, искал сувениры. Это приносит ему счастье, добавила она. «Счастье? — воскликнул я. — Выходит, воровство делает человека счастливым?» Все они одинаковы, эти люди. Я не чувствовал особенных неудобств во время заключения в тюрьме эль-Глауи. Думаю, я слишком сосредоточился на том, как избежать грядущих неприятностей. Я уже понял, что эта ночь была роскошью, о которой я стану вспоминать с ностальгией, и я попытался извлечь из нее максимум пользы, но сосредоточиться на чем-то приятном в подобных обстоятельствах удавалось с трудом. В камере стало совсем душно, и в тишине тюрьмы разносилось эхо слабых криков и рыданий, шепотов и молитв — это означало, что надзиратель ненадолго удалился. Некоторые самые тяжелые и заунывные стоны, как сказал мистер Микс, уже начинали действовать ему на нервы. Он понес какую-то дичь: когда конфисковали его кинотеатр, американский консул предложил ему работу в роли агента, для сбора, по его словам, «компромата» на пашу. Тогда американцы выдали мистеру Миксу хорошую новую камеру. Но официальной помощи они ему оказать не могли. — Полагаю, что я был прав. Американский консул не обрадуется мне в Касабланке. Я даже не хочу думать, что паша собирается с нами сделать. Я‑то слишком хорошо понимал, что нас ожидало. У меня появилось желание хотя бы косвенно разделить с пашой его удовольствие и сообщить мистеру Миксу, какие части его тела отделят первыми, но в итоге мое обычное человеколюбие заставило меня придержать язык. Не было смысла пугать бедного негра. Тогда он только сильнее вспотеет, а воздух и так уже стоял тяжелый. Поэтому я позволил ему продолжать тщательно продуманный рассказ о шпионах и международной интриге. Он описал огромную систему соперничества, в которой Италия играла все более и более значительную роль. Это, по словам мистера Микса, было не очень-то по вкусу Соединенным Штатам. Его работа заключалась в том, чтобы составить подробное описание сил паши, а также его финансовых потребностей и сексуальных склонностей. Я бы мог поверить в такую историю, если бы речь шла о плане какой-нибудь венгерской секретной службы, а не правительства Соединенных Штатов. Однажды мое раздражение все-таки прорвалось, и я сказал мистеру Миксу, что вся его история звучит так, будто он прочитал слишком много бульварных романов. В свою очередь, это напомнило мне об идиллических странствиях с мисс фон Бек по Сахаре, и я стал воскрешать в мыслях те счастливые моменты, пока не воспроизвел практически все действия и некоторые диалоги из «Тайнсайдских людей-леопардов»[1259], вплоть до заключительных сцен, где Блейк, образцовый англичанин, выбирается из обломков планера и обращается к уцелевшим представителям злого культа, когда они надвигаются на героя: — Предупреждаю вас, моя дорогая баронесса, и вас, джентльмены, что у меня в руке «смит-вессон» и я знаю, как им пользоваться. Если бы Секстон Блейк в этот момент находился в Марокко, мое освобождение стало бы делом нескольких часов. Но, казалось, мне следовало готовиться к бесконечным мучениям. Ночь я провел в благочестивых молитвах. Утром Хадж Иддер лично принес нам фрукты и кофе. Он словно бы испытывал какое-то смутное беспокойство, задумываясь о нашей судьбе. Он приказал освободить нас от части оков, но ноги оставить в кандалах. Пока мы ели, он читал нам французскую газету. Мистер Ноэл Кауард и его спутники заселились в «Трансатлантик» и тем вечером должны были стать гостями эль-Глауи, потом паша отправится по военным делам на юг. — Какая жалость; вы будете скучать по нему. Мустафа займется вашими ногами примерно тогда же. Он очень изящно выражается по-французски и еще лучше — по-английски, как мне рассказывали. — Хадж Иддер утратил интерес к газете, встал и осмотрел камеру, пока мы продолжали трапезу. Ногой он пошевелил череп еврея. — Они сделали это сами, — заметил он. — Они отправили голову сюда. Они не хотели, чтобы паша лишил меллу своей защиты. Хадж Иддер внезапно устремил на нас вопросительный взгляд, точно для него было важно доверие слушателей. Репутация любимого повелителя по-прежнему волновала визиря больше всего прочего. Он спросил, хватило ли нам еды и питья. Мы сказали, что да. — Это вопрос государственной безопасности, — объяснил Хадж Иддер. — Дела идут не очень хорошо. Некоторые французы неприязненно относятся к желаниям моего повелителя. Если бы был какой-то способ вас освободить — поверьте, я бы так и поступил. Но у вас нет ничего, что позволило бы заключить сделку. У меня сложилось впечатление, что его подослал сюда паша, возможно, чтобы облегчить наши мучения. Я не позволял себе надеяться на иную цель этого визита. — Обычно к европейцам так не относятся, особенно к знаменитостям. Но сейчас возникли некоторые сложности — из-за различных волнений и семейных проблем паши. Хаджа Иддер будто бы извинялся перед нами. Он колебался, словно желая поделиться некой тайной. Я вопросительно посмотрел на него. — Сай Питерс, — сказал он, — как вам известно, я восхищаюсь некоторыми вашими кинематографическими приключениями, особенно в ролях ковбоев. Для меня было бы великой честью получить ваш автограф прежде, чем паша возвратится из Тафуэлта. Возможно, на маленьком плакате, который мне посчастливилось раздобыть? Казалось, его нисколько не огорчило сдавленное хихиканье мистера Микса — мой товарищ рассыпался в поздравлениях, заявив, что с такими поклонниками мне никогда не понадобятся враги. Я сказал Хаджу Иддеру, что буду весьма польщен; возможно, взамен он проследит, чтобы мое сообщение доставили одному другу, ныне находившемуся в Танжере. Его звали мистер Секстон Блейк. Это произвело на него впечатление, как я и надеялся. Он нахмурился и сказал, что, по его мнению, все можно устроить к общему благу. Он вернулся через несколько минут с рекламой «Закона ковбоя» и протянул ее мне вместе с большой серебряной авторучкой, чтобы я мог подписать изображение скрытого маской лица и еще раз вспомнить (о, как это было мучительно!) счастливые дни в Голливуде с Эсме и миссис Корнелиус. Как я теперь мечтал о том, чтобы удовольствоваться малым и согласиться на шантаж Хевера, пока другая студия не признала бы моих талантов, — но было слишком поздно. Я поддался ужасу, который проник в меня в штетле. Теперь мне следовало подчиниться велению разума, иначе я почти наверняка погибну, и мой темнокожий друг вместе со мной. Я написал на своем изображении по-арабски: «Хадж Иддер — помоги Бог нам всем, — твой брат, Ас», а потом по-английски: «Счастливого пути, напарник, — твой друг, Ковбой в маске!» Упитанный африканец, казалось, был по-настоящему растроган и поцеловал меня несколько раз в обе щеки, бормоча, что Бог, несомненно, должен помочь истинно верующим. Именно тогда я начал понимать: наше освобождение принесет ему счастье. Но если мы сбежим, разве не простится с жизнью сам Хадж Иддер? Я обреченно подумал, что, как говорят швейцарцы, хватаюсь за перья. Хадж Иддер не торопился уносить свой трофей; он стоял передо мной, погруженный в размышления, а потом наконец высказал то, что было у него на уме: — Думаю, мой господин смог бы в этом случае поступиться своей гордостью, — заметил он, — если бы вы, например, сумели оказать ему какую-то небольшую услугу. Я не мог отделаться от подозрений. Кошки-мышки были любимой игрой Тами. — Услугу? — Как-то облегчить его теперешние затруднения с французами. Я так понимаю, вы дружны с лейтенантом Фроменталем, несмотря на его скептическое отношение к воздушному флоту? Я признал, что время от времени наслаждался обществом молодого человека. — А вам известно, что он был шпионом? — Хадж Иддер внезапно посмотрел прямо на меня. Я, даже в нынешнем положении, скептически отнесся к этому заявлению, но вслух ничего не сказал. — Если бы вы сообщили паше, — продолжал Хадж Иддер, — возможно, совсем немного о том, что этот Фроменталь говорил вам о французском шпионаже. Как он сознательно вредил нашему делу, и прочее, и прочее. Если на набережной д’Орсэ узнали бы, что он, скажем так, потерпел неудачу на службе или превысил свои полномочия, это было бы весьма полезно для нашего повелителя. А может, у него случались какие-то сексуальные приключения? Если бы вы знали о чем-то таком, что сумели бы изложить в письме… — Это одна из самых паршивых вещей, которые мне случалось слышать, — возмутился мистер Микс. — Мы получим свободу, если сдадим друга, так? — Фроменталю не будет никакого вреда — его просто переведут в иное, не столь опасное место. Это все, чего желает паша. — Вы просите, чтобы он предал лучшего друга, который у него здесь есть! Ответ мистера Микса был понятен, но едва ли благоразумен. Как сказал Хадж Иддер, Фроменталь просто получит приказ возвращаться домой, а оттуда он отправится в Камерун, а может, в Мозамбик. Но я теперь знал, что ни на что не должен соглашаться, не получив сначала четких гарантий. Я усвоил это в Египте, у Бога. Я сказал Хаджу Иддеру, что мистер Микс прав. Я не мог предать друга. Мажордом пожал плечами. — Досадно, — отозвался он. — Вы предпочтете предать пашу? Я вздрогнул — но напугали меня не слова, а интонация. — И ваша свобода даровала бы мне великую радость, — продолжал негр, — ибо я ваш большой поклонник. И в моих силах добиться того, что вы, по благословению Аллаха, создадите еще много фильмов… — К сожалению, фильмы, в которых я сыграл, больше никогда здесь не покажут, — намекнул я. — Но с ваших плеч было бы снято это бремя, друг Иддер, если бы я и мои фильмы вернулись в Америку. Там я с превеликим удовольствием стану рассказывать о великодушии и мудрости владыки Марракеша. — Но моему господину будет нанесен вред, если вы упомянете об этом несчастном стечении обстоятельств — о тюремном заключении… — Дорогой друг, точно так же вред будет нанесен и мне, ведь возникнет вопрос о том, почему я оказался в тюрьме. Есть определенные происшествия, о которых лучше всего молчать. Через какое-то время они становятся лишь снами, и их реальность можно доказать или опровергнуть так же легко, как реальность снов. Но позвольте сказать, сай Иддер, что я горжусь своими достижениями, связанными с пашой, и я мог бы использовать их, дабы упрочить собственное доброе имя. Разве возможно в таком случае распространять лживые измышления о доверенном деловом партнере? Хадж Иддер принял мои аргументы и, кажется, обдумывал предложенную сделку, в то время как мистер Микс, который говорил по-арабски не так изысканно, по-прежнему интересовался, кто из нас двоих, черт побери, настоящий предатель. Я принял это за шутку. Я знал, что мое небрежное упоминание об известном английском детективе заставило Хаджа Иддера призадуматься, и было столь же очевидно, что он мог освободить меня, если обнаружится способ сохранить лицо. Я вновь обретал надежду. Вопреки всему я видел шанс на спасение. Я молился о том, чтобы в конце концов вернуться домой, в Голливуд, Di Неут[1260], в новую Византию. Ее тонкие минареты и изящные крыши сливаются с рощами кедров, тополей и кипарисов в теплом тумане, который укрывает серебряные холмы и несет ароматы жасмина, мяты и бугенвиллей. Я иду по пальмовым бульварам, вдоль океана, безопасного и спокойного, в мягких золотистых лучах солнца. И эти огромные шпили и купола, возносящиеся над кронами высоких деревьев, посвящены не жестокому пускающему слюни патриарху, который гадит на мир, одряхлев и утратив способность сдерживать позывы кишечника, — нет, они посвящены его Сыну, его Преемнику, заново рожденному Богу, Богу чистому и единому, Богу, который остается не нашим мрачным властелином, а настоящим партнером на пути самосовершенствования. Я говорю о христианском Боге, а не о Боге евреев или арабов. Их Бог — Бог Карфагена, слабоумный старец, исполненный слепой звериной ярости, которая привела к гибели Минотавра. Он — Бог кровавого прошлого. Этот Бог не способен помочь нам в решении сложных и тонких городских проблем. Призывать такого Бога в Ноттинг-Хилле равносильно вызову дьявола. Я говорю о Боге, который явил Себя в Иисусе Христе. Я говорю о том самовозрожденном Боге, который провозгласил век мира и затем с тревогой смотрел, что Человек творил с этим веком. Бог — женщина, утверждает девчонка Корнелиус. Тогда ты не знаешь Бога, отвечаю я. Бог — присутствие. Бог — идея. Она заявляет, что я всегда свожу все к абстракциям. Но Бог — абстракция, говорю я. Что тут можно изменить? Бродманн, конечно, хотел моей смерти. Я помню, с каким злорадством он смотрел, когда кнут Гришенко касался моих ягодиц. Я помню все оскорбления. Я помню грязный взгляд Бродманна, который скользил туда и обратно, от моего члена к заду. Пусть думает что хочет. Я — жертва научного рационализма, а не религии. Нож моего отца был оружием светского человека. Ni moyle… Ikh farshtey nit…[1261] Миссис Корнелиус соглашается со мной. Она говорит, что теперь все так делают в Англии. Это никак не связано с религией. И в Америке тоже. Повсюду на Западе. Утешение слабое. О чем возвещает подобный обычай? О том, что Сион завоевал христианский мир, — о чем же еще? Иногда миссис Корнелиус хочет видеть в мире только хорошее — и тогда она не замечает очевидных вещей. В такие моменты она осознает, что моя логика одержала победу, и не хочет продолжать спор. Я все понимаю, это вполне типично для женщин. Всю жизнь я был добровольной жертвой слабого пола. «В твоих глазах отражается каждая их фантазия», — сказал еврей в Аркадии. Он записал афоризм: «Византия сражается, Карфаген смеется; Иерусалим правит, Рим воздает». На идише это значит куда больше, как я полагаю. Он сказал, что в основном опирался на греческие образцы. Я напомнил себе, что Иисус родился евреем, а по духу был греком. Неужели поэтому мое сердце пело ему? Я с тех пор не знал подобной любви. Твой темный глаз отражает мою несовершенную душу. Я обнимаю твое постаревшее тело. Признаюсь, мне немного стыдно… В тот вечер в Аркадии стояла невероятная тишина, не было даже трамваев, которые обычно ходили вдоль набережной в Одессу, — и я почти уступил… Война часто приносит не шум, а тишину. Некоторое время я продавал в своем магазине новые велосипеды, но на них не было спроса. Теперь, разумеется, все городские только о них и мечтают. Они покупают велосипеды в Вест-Энде, но за ремонтом обращаются ко мне. В Вест-Энде им наверняка скажут, что лучше выбросить вещь и купить другую. Лично я не испытываю ни малейшего сочувствия к таким потребительским правилам. Что дает им это буржуазное богатство? Я спрашиваю об этом миссис Корнелиус. Неужели их жизнь слаще? Лучше? Они ею больше наслаждаются? Похоже, не слишком. Я вижу их по субботам в пабе, этих новых людей из телевизора и их друзей — в одинаковых свитерах, с дурно воспитанными детьми; они орут на весь бар, словно стая обезумевших попугаев, и искоса смотрят на своих жен, плотоядно и смущенно. Что они делают? Их ритуалы для меня — загадка. Звуки, которые они издают, не очень-то веселы. Миссис Корнелиус говорит, что я уделяю им слишком много внимания. «Они дрянные простаки, эти жадные ублюдки». Она считает мои размышления забавными. «Ублюдки есть ублюдки, и все, тшто ты должен знать, — как их остановить. Потому как ублюдков надо останавливать. Это всегдашнее правило». Много выпив, она начинает все упрощать. Бродманн хотел моей смерти, но Хадж Иддер по каким-то причинам — нет. Казалось, мне открылся весь смысл происходящего. Бродманна не волновали политические последствия моей смерти, которые могли повлиять на положение паши. Хадж Иддер думал совсем не так. Он не хотел, чтобы его господина опозорили. И однако честь паши, разумеется, нужно было спасти. Я не мог представить, что верный раб эль-Глауи решится предать владыку без серьезных оснований, — и старался не обращать внимания на то, как сильно колотится сердце в груди. Но потом я задумался о другом: может, случились какие-то политические изменения, и Хадж Иддер должен был их завершить, пока эль-Глауи находился на юге. Очевидно, Хадж Иддер не хотел, чтобы его господина ославили на всю Европу и Америку. Наше устранение, предположил я, оказалось не таким простым, как представлялось. Люди могли начать расследование и задать много вопросов. Возможно ли, что эль-Глауи желал отменить свой опрометчивый приговор, но не мог этого сделать, не теряя лица? Вероятно, единственным решением его проблем стало бы наше освобождение? Ко мне понемногу возвращалась надежда. Но Хадж Иддер по-прежнему ждал от меня ответа, разве не так? — Он мог передумать, — сказал я мистеру Миксу. Он почти не слушал меня. — Что с Рози? — пожелал узнать он. — Она выпуталась? Мне показалось, что он чрезмерно беспокоится о судьбе женщины, которую почти не знал. Я не мог понять его тревоги, но я тоже хотел услышать новости о Рози. Неужели эль-Хадж Тами позволит мне думать, будто она предала меня и сбежала, в то время как на самом деле ее поймали и ей просто пришлось отдать мою сумку? Насколько я понимаю, мисс фон Бек — больше не гостья паши, — холодно заметил я Хаджу Иддеру, который потирал лоснящиеся щеки, как будто тюремная блоха заползла в складки и укусила его в том месте, куда он никак не мог дотянуться. — Мисс фон Бек, как говорят, умерла в горах. — Темнокожий мужчина смотрел в пол. — Ваша «Эль-Нахла» не зря получила свое имя. Она летела немного неровно, и высота ее не устраивала. Вы оба любили ее, я знаю. Я уважаю ваше горе. Но он не сказал мне, что она мертва. Он сказал мне, что она свободна. Я верил в свой самолет. Я был счастлив. Я передал все мистеру Миксу. — Это означает вот что: он не может утверждать, что она никому не расскажет о происходящем тут с нами, — заявил он. — Теперь они попались, Макс. Его радость показалась мне глупой и нелепой. Он подмигнул Хаджу Иддеру. Он усмехнулся. И визирь через несколько мгновений улыбнулся в ответ. Потом Хадж Иддер захихикал. Напряжение исчезло. Теперь все мы просто ожидали чего-то. Хадж Иддер вежливо сказал: — Меня весьма взволновали ваши похождения в «Асе из асов», сай Питерс. Глория Корниш — настоящая красавица! Я вам завидую. — На самом деле она — моя жена, — сказал я. — Мы поженились несколько лет назад в России. Теперь она с нетерпением ждет моего возвращения в наш голливудский особняк. Она и наши дети. Я рад, что вам понравился «Ас». Мой дядя, президент Гувер[1262], всегда говорил мне, что этот фильм — один из его любимых. Мои замечания не удивили и не встревожили Хаджа Иддера — напротив, они, кажется, подтвердили некие его предположения. — И как все это раздуют газетчики! — провозгласил мистер Микс, который не оставлял попыток вмешаться в разговор. Я велел ему сохранять спокойствие. Рассуждения о газетах могли показаться нелепыми и ненужными угрозами. Я заверил Хаджа Иддера, что эль-Глауи был хорошим и щедрым хозяином. Я очень огорчен, если какие-то мои действия причинили паше неприятности. Я с разрешения визиря протянул руку к своей сумке и вытащил спрятанное там золото. Это теперь мне не нужно, сказал я; не будет ли Хадж Иддер так любезен взять его и использовать по своему желанию для любого благочестивого дела? Он принял деньги с обычным изяществом. Он сказал, что Аллах благословит меня и, без сомнения, возблагодарит. Это — все, о чем я молюсь, ответил я. — И я, сай Питерс. Мы оба избежали бы этих затруднений, если бы могли. К сожалению, я не в силах освободить вас. Все зависит исключительно от вашей воли. Естественно, я уважаю ваш отказ; с равным уважением я принял бы ваше согласие. Все это — дело принципа, а мы оба, хвала Аллаху, принципиальные люди. — Воистину, — подтвердил я, — и добрые последователи Пророка, которые, надеюсь, увидят, как в мире вершится правосудие. — Воистину. Наступила еще одна пауза, во время которой мистер Микс ворчал и вертелся в оковах, говоря, что он скорее сядет на электрический стул в Синг-Синге[1263], чем согласится еще минуту слушать весь этот бред. Он спросил, что, черт побери, происходит. Я на жаргоне бродяг ответил ему, посоветовав прикрыть хлебало, пока я умасливаю нашего тюремщика. Я сделал паузу. — Я прежде всего рассчитываю на правосудие, — сказал я наконец, к явному удовольствию Хаджа Иддера. — Мне подадут все необходимое, — произнес он и тут же хлопнул в ладоши. Стоявший, очевидно, где-то неподалеку старый слуга принес поднос с чернилами, ручкой и пергаментом. Меня на миг посетила нелепая мысль: мое обвинение в адрес юного Фроменталя будет напоминать какую-то монашескую рукопись, но все, что мне пришлось сделать, — сочинить небольшой текст. Я опустился на колени на подушке, подложенной слугой, и, пока он придерживал поднос, начал писать мягкой перьевой ручкой. Я не обращал внимания на бессвязные вопли мистера Микса, доносившиеся сзади. Он бормотал проклятия и пытался разорвать оковы. Бедный чернокожий начал терять самообладание. Возможно, он думал, что я предаю его. Закончив, я оставил документ неподписанным. — Я его подпишу, когда я и мой слуга будем освобождены, вместе с моим багажом и фильмами, — сказал я. — На станции. Хадж Иддер вздохнул с облегчением; он выглядел как человек, на глазах которого дорогой друг принял разумное решение и избавился от опасности. Визирь забрал золото и подписанный портрет, и я начал уже подозревать какую-то нечестную игру, но десять минут спустя вошел явно взволнованный охранник в грязной джеллабе; он нес большой мешок, в котором, очевидно, лежали пленки с моими фильмами. Бросив мешок на пол и отомкнув огромными ржавыми ключами наши кандалы, он зажег сигарету. Потом он впился в нас взглядом, словно это мы были повинны в его затруднениях, и, ссутулясь, удалился, проклиная грязных неверных. Дверь клетки оставили открытой, но мы не увидели в этом ничего особенно необычного. Без разрешения мы не могли выйти из тюрьмы, а надзиратели славились такой суровостью, что немногие осмеливались подползти к двери хоть на дюйм, уже не говоря о выходе в общий коридор. Час спустя снова появился Хадж Иддер. Он принес тяжелые джеллабы, чтобы прикрыть остатки нашей одежды. Также он отдал строгие приказы прежнему охраннику, выражение лица которого очень быстро менялось — от огорчения к ужасу и потом к принятию. Затем араб с угрюмым негодованием повел нас по ступеням и остановился у двери, ведущей в лабиринт переходов, по которому нас сюда притащили. Хадж Иддер крикнул снизу по-французски: — Когда мой хозяин вернется, он будет сердит. Он обязан наказывать тех, кто трогает его женщин. Поэтому вы оба приняли мудрое решение — удалиться из Марокко как можно скорее. — У нас нет автомобиля, — сказал я. — И самолета нет. У нас, кажется, были билеты на поезд, но… — Как вы уедете, мне совершенно не интересно, — небрежно проговорил он. — И вас не накажут за то, что вы нам помогли? — спросил я упитанного негра. — Может, вам тоже стоит уехать? Хадж Иддер успокоительно улыбнулся. Он указал на нашего проводника, который явно не понимал ни слова. — Что Глауи узнает, а что не захочет узнавать, — это его дело. Но вам не следует бояться за меня. Какую-то неверную собаку накажут, чтобы честь моего господина была удовлетворена. Собаку станут пытать и казнят, тем все и кончится. Если, конечно, вы к тому времени уже окажетесь на пути в другую страну. — Он отдал резкий приказ охраннику, и тот уныло забросил мешок на спину. Джейкоб Микс хотел узнать, не может ли он получить обратно некоторые из фильмов, которые сам же и снял. Хадж Иддер выслушал эту просьбу с явным удовольствием. — Надеюсь, вы насладитесь свободой так же, как я наслаждался вашим обществом. — Эти слова, обращенные к мистеру Миксу, могли сойти за комплимент, но на вопрос Хадж Иддер не ответил. Мне показался очень неприятным намек Хаджа Иддера на то, что у мисс фон Бек были какие-то отношения с мистером Миксом. Несомненно, он хотел, чтобы я начал подозревать друга, хотел отравить мой разум ложными фантазиями. Было невозможно представить, что даже сумасбродка Рози фон Бек решится на роман с обычным американским негром! Я собирался возразить Хаджу Иддеру, но визирь отступил назад и скрылся в тени. Бормотавший араб, которому в плане Хаджа Иддера была отведена роль козла отпущения, вел нас по лабиринту таким черепашьим шагом, что я уже заподозрил новую ловушку. Но наконец мы оказались на темных, опасных улицах меллы, возле дома несчастного еврея, которого предал Бродманн. Охранник оставил поклажу у наших ног и отступил. Мистер Микс поднял мешок и усмехнулся. — Вот «Ковбой в маске», Макс. Целиком и полностью в твоем распоряжении. Но когда оказалось, что я не могу нести разом и фильмы, и свои вещи, он сжалился надо мной, хотя его отношение оставалось прохладным, — мистер Микс подхватил сумку и зашагал впереди, а я следовал с мешком. Я по-прежнему чувствовал возбуждение. Я все еще не мог окончательно разгадать намерения эль-Глауи. Почему он отпустил нас? Но Бродманн, конечно, будет разъярен, когда узнает о моем спасении, и попытается связаться с французскими и испанскими властями. Так что нам еще угрожала серьезная опасность. Когда мы остановились в узком пространстве между двумя глухими стенами, сводчатый проход впереди внезапно озарился светом и мы услышали звук мотора. Араб уже скрылся где-то далеко позади нас. Мы осторожно пробрались к проходу и широкой дороге за ним. В тени стоял современный «бьюик» с работавшим мотором, а из окна салона выглядывал бледный хмурящийся бербер. — Такси, заказанное месье Жозефом, — с заметным нетерпением произнес водитель. — На железнодорожную станцию. — Это для нас, — сказал мистер Микс. Он распахнул дверцу, я забрался в удобную машину и сел, держасумку на коленях и мечтая о том, чтобы поскорее опорожнить кишечник — он как будто заполнился водой. Мистер Микс положил мешок с фильмами на пол и обосновался на заднем сиденье. — Единственная проблема, которая у нас теперь осталась, состоит в том, что билетов Фроменталя нет, а купить их мы не можем. Здесь же не обычная станция с кассой и билетами. Все нужно добывать через военных. Автомобиль покинул меллу и выехал на более оживленные городские улицы. Он прополз по дальнему краю Джема-эль-Фна. Даже теперь, спасаясь от гибели, я думал о том, что Собрание Мертвецов, получившее такое ироничное название, притягивает меня. Здесь текла истинная жизнь, и все формы жизни достигали наибольшей интенсивности. И все-таки мы — тоже мертвецы. Мы — тоже призраки будущего. Мы — наши собственные дети, преданные и покинутые. Каждый вечер на закате эти люди собирались на площади, чтобы разыграть сцену, которую не сумел бы повторить даже Гриффит, чтобы представить тысячу камео, тысячу маленьких моралите для аудитории, чья реакция отличалась той же непосредственностью, что и реакция зрителей, приветствовавших когда-то спорные пьесы на подмостках «Лебедя» и «Глобуса»[1264]; для аудитории, столь же искренней и открытой, как все добросердечные крестьяне в мире. Автомобиль катился сквозь толпу нищих, акробатов, оракулов и рассказчиков, мимо заклинателей змей, державших своих умирающих, лишенных яда кобр высоко в воздухе, мимо музыкантов с флейтами, тамбуринами и лютнями. Иногда «бьюик» останавливался, поскольку на площади делалось слишком тесно. К стеклам прижимались улыбающиеся лица маленьких мальчиков, а позади них я видел внимательных суровых стариков, полных зависти и презрения молодых людей, любопытных женщин под покрывалами — и я хотел заговорить с ними, хотел поведать им о мире, который я мог бы им дать. Тогда на мгновение я задумался, насколько мой мир совершеннее известного им. Возможно, это было бы ошибкой — принести двадцатый век в общество четырнадцатого. Не лучше ли оставить их в покое? Но разве растущий Карфаген когда-нибудь оставит в покое Европу? Он посылает турецких и тунисских рабочих во все северные страны. Теперь Али Баба и Синдбад известны в Стокгольме так же хорошо, как некогда Лоэнгрин и Тангейзер. Но разве мусульмане, в свою очередь, выучили наши рыцарские эпопеи? Разве Ланселот и Персиваль волнуют кровь маленьких мальчиков в Багдаде и Бенгази? Честно ответив на этот вопрос, вы все поймете. Карфаген запрещает все, кроме собственных легенд. Он главенствует. Карфаген наступает дюйм за дюймом. Половина лозунгов на стенах Лэдброк-Гроув написаны на незнакомых языках. Стена — все, что осталось несчастным, лишенным прав, лишенным голоса в этом мире. Почему аэрозольные баллончики заменили избирательные бюллетени? Возможно, потому, что людям свойственно естественное стремление к злу и хаосу, но, думаю, более вероятно, что ими движет знание: нигде в коридорах власти не прислушиваются к их мнению. Я не виню их за то, что они потеряли веру в свои конституции. Но я по-настоящему виню их за то, что они повернулись спиной к Богу. Так же ситуация обстояла и в лагерях. Многие заключенные не замечали очевидных фактов. Они потому и оказались там — а затем было уже слишком поздно. Выжили только те, кто принял реальность происходящего. В «лагере свободы» оставалось мало места для сантиментов, как нам неоднократно напоминал старый комендант. Именно сантименты и привели нас в нынешнее затруднительное положение. Ikh bin eyn Luftmeister. Der Flugzeugführer sitzt im Führersitz…[1265] Я вернусь в Город золотой мечты. Боль начинается у меня в животе. Потом она достигает рта. Я не стал музельманом. Чего еще они хотели от меня? Я носил их полосы. Я носил их звезду. Даже несмотря на то что их наказание было несправедливо, я выполнял свою работу. Такова моя судьба — вечно страдать и отвечать не за собственные действия, а за нелепое решение отца, которого я совсем не знал. Но, полагаю, именно это случается с сыном свободного казака, с ребенком, надолго оставленным на попечение матери. Сразу скажу, я не виню свою мать, но, вероятно, она и вправду сделала меня чрезмерно чувствительным. Эти полосы… Бродманн злорадствовал. Гришенко поднял нагайку. Чтобы я не забыл жертвы своего друга Ермилова. Тогда он подарил мне пистолеты, пистолеты из черного дерева и серебра. Эти полосы… Никто не винил меня за то, что я сделал в Киеве. Эти люди срывают кожу с трупов. Они вырезают свои инициалы на телах. Они чувствуют, что живут, лишь тогда, когда творят какие-то невероятные жестокости с очередным несчастным существом. И этот век, как нас уверяли, должен был стать веком просвещения! Сегодня по телевидению обсуждают проблему досуга. Какой досуг? Мы на краю нового Средневековья, а они обсуждают организацию вечеринок в раю! Они говорят, что я душевнобольной! Чем их жизнь лучше жизни их предков? У их отцов, по крайней мере, была надежда. А нынешнее поколение смотрит в будущее и видит только упадок и гибель. Я осторожно изучил содержимое мешка (там действительно лежали лишь мои фильмы), а потом снова посмотрел в окно автомобиля на Джема-эль-Фна. Людей окутывали сумерки, желтое свечение масла и жира заполняло всю площадь настоящими фламандскими красками, а я думал об этой восхитительной заурядности. Как обидно, что не существовало никаких старых арабских мастеров. Чрезмерно буквальная интерпретация Книги Бытия — вот истинная причина. Эти люди цепляются за правила так, как практически все из нас цепляются за жизнь. Чем больше у них правил, тем им удобнее. Я сказал это сварливому истеричному типу на почте, тому Pakistanischer. Он ведет себя так, словно почтовый министр — восточный тиран, который казнит любого за малейшее проявление своеволия. Или этот человек просто демонстрирует свою власть? Когда автомобиль выбрался за ворота, а потом на дорогу де Сафи, широкую новую трассу, которая вела к темным военным составам за виллой Мажореля[1266], нашему водителю пришлось затормозить: путь преградил массивный «мерседес». Из его пассажирского окна появилось дуло пистолета, затем наружу вышел маленький человек, направившийся к «бьюику», двигатель которого по-прежнему работал. Человечек держал в руках поднос: на нем были чернила, ручка и бумага. Я поднял ручку, и «мерседес» отодвинулся в сторону, освобождая дорогу такси. Как только я подписал и отдал бумагу, «мерседес» развернулся и уехал. Нам оставалось всего пять минут пути до железной дороги, но в обществе удивительно недружелюбного мистера Микса это расстояние показалось гораздо длиннее. На станции не было заметно никакого движения. В хижинах по ту сторону забора светилось несколько огней, повсюду стояли огромные черные военные локомотивы и товарные вагоны. Здесь явно не хватало оживления, свойственного коммерческим станциям. Водитель предъявил пропуск, выданный несчастным Фроменталем, и нашему автомобилю разрешили проехать через ворота. Машина направилась к зданиям, расположенным по другую сторону путей, но я похлопал шофера по плечу. Мы выйдем здесь, сказал я. Я отдал ему свою последнюю французскую банкноту. Затем мы с Джейкобом Миксом покинули автомобиль и скрылись в густой тени больших поездов. Моя сумка оказалась очень тяжелой, и катушки с фильмами, болтавшиеся в мешке, мешали мистеру Миксу, но мы решительно, почти отчаянно цеплялись за остатки моего имущества. Больше у нас ничего не было — а еще предстояло добраться в Танжер, а оттуда в Европу. Паша или его визирь могли в любой момент передумать и послать в погоню солдат. Я слышал, что Фроменталь не остался в армии. Кто-то мне рассказал, будто он добился большого успеха, став управляющим на радио в Лионе (на родине нашего христианского Завета)[1267], так что все в итоге сложилось для него к лучшему. Судя по всему, немцы расстреляли его в 1943‑м. Когда я услышал эту новость, то не смог сдержать скорби — я вспомнил его сияющее восторженное лицо, его искренний идеализм. У нас было много общего. Я постоянно говорил, что честь, которую христианин ценит превыше всего, — это честь благородного рыцарства, превосходящая даже так называемую мужественную отвагу. Фроменталь, несомненно, удостоен чести — он стал мучеником. Думаю, когда мы встретимся, он захочет пожать мне руку. Сориентировавшись, мы начали внимательно рассматривать поезда — у нас же был немалый опыт. Мы оба изучили все уловки американских железнодорожных бродяг, а французские власти никогда прежде не имели дела с искушенными хобо. Очень скоро мы отыскали подходящий локомотив. Он уже стоял под парами и, судя по маркировкам на вагонах, направлялся в Касабланку. Из Касабланки удалось бы легко перебраться в Танжер, Свободный Город, где не действовали ни марокканские, ни французские законы. Оттуда мы могли отправиться на любом корабле в Геную. Из Генуи было очень просто попасть в Рим… Мистер Микс нашел незапертую дверь и легко отодвинул ее. Когда мы забрались в грузовой вагон, мы оценили современный подвижной состав, который содержался гораздо лучше гражданских поездов; затем, попав в знакомую обстановку, мы улеглись на дощатый пол, чтобы вздремнуть, пока наши натренированные чувства не уловят первых движений поезда. В этот момент следовало быть начеку — на случай, если нас обнаружат проверяющие. Но поезда здесь издавали совсем немного привычных нам звуков. Время от времени в ночную тьму взлетали клубы пара, а потом вновь наступала тишина. Я вознес молитву о Рози фон Бек, надеясь, что ей удалось довести «Пчелу» до самого Рима. Я вспомнил Колю и вознес короткую молитву о его безопасности. Я подумал об Эсме, моей сестре, моей дочери, и о том, как она в конце концов не сумела возвыситься до уровня моих мечтаний. Все-таки я не мог окончательно осудить ее. В течение нескольких лет ее жизнь наполняли чудеса и роскошь, элегантность и богатство, которых она никогда бы не узнала, если б я оставил ее в Галате, где она так и была бы простой шлюхой. Я все еще восхищался ее очарованием, ее невинностью, ее детской красотой. Я все еще любил ее. На рассвете состав с грохотом начал тормозить. Я собрался с силами. Поезд тряхнуло, и он остановился. Мы услышали свист и крики. Вагоны откатились назад, дернулись несколько раз, а потом замерли; локомотив раздраженно фыркал и шипел. Мы слышали нетерпеливый хрип мотора — словно старый благородный бульдог, задыхаясь от волнения, вышел на прогулку. Внезапно я испытал сожаление обо всех обманутых ожиданиях, о бессмысленном идеализме, который я принес в этот мир. Какая нелепость — нам приходилось искать убежища на древних землях Карфагена, в Танжере! Но, возможно, это правда, и в клетке всегда безопаснее, когда лев вырывается на свободу. Meyn strerfener. Meyne herzenslust. Ya muh annin, ya rabb. Meyn siostra, meyn rosa. Allah yeftah ‘alek. Hallan, amshi ma’uh. A’ud bi-rabb el-falaq. Ma shey у sharr in sha. ‘Awiz minni ey? ‘Awiz minni ey? ‘Awiz minni ey?[1268] Наконец мы тронулись. Никто не проверял наш вагон. Пока поезд катился вперед, солнечный свет пробивался сквозь дощатую крышу и оставлял резкие черно-белые полосы на полу, все еще хранившем свежие следы соломы и навоза, но теперь еще вонявшем карболкой. Ряды полос тянулись по моему распростертому телу, словно какой-то эфирный поток, а лицо мистера Микса то темнело, то внезапно светлело. Среди зловония дезинфицирующих средств и кипящего машинного масла я в последний раз уловил теплый мятный аромат Марракеша — и затем красный город исчез позади, а поезд начал долгий подъем по ущельям Атласа. Было что-то обнадеживающее и знакомое в ритме колес, стучавших по рельсам, и я смог дотянуться до своей сумки и отыскать один из маленьких пакетиков restorif[1269]. Я по-дружески предложил мистеру Миксу понюшку успокоительного снадобья, но он отказался, заявив, что намеревался вздремнуть. Нам предстояло ехать до Касабланки весь день. Если повезет, мы прибудем ночью. Иначе придется ждать, чтобы выбраться наружу в темноте. Было двадцать восьмое октября 1929 года. Через несколько месяцев мне исполнится тридцать. Я собирался отпраздновать это в Риме. Но вскоре я загрустил: я подумал о тех великолепных монстрах, ожидавших двигатели, которые так никогда и не прибудут. Французская имперская политика и нежелание паши сдерживать эмоции привели к тому, что мои прекрасные машины теперь должны были превратиться в музейные экспонаты. У меня, однако, еще осталось много дорогих каталогов, но, к сожалению, только арабских, а не французских. Я думал о своем «Лайнере пустынь» и о том богатстве, которое он сумел бы принести целой стране. Я мог сделать их пустыню зеленой. Теперь им придется ждать — возможно, целую вечность. Потеря эль-Глауи станет приобретением дуче. Всего через несколько недель я пообедаю со своими старыми друзьями в «Осе». Я сказал мистеру Миксу, что он полюбит дивный город. Там — колыбель наших величайших достижений. Поезд ускорял ход, и я видел в полутьме вагона большое дружелюбное лицо негра, который улыбался, выглядывая наружу через щели в стене нашей временной тюрьмы; свет мерцал, и создавалось ощущение, что мы находимся в кинозале. Я даже сказал об этом вслух. Скрежет тележек очень напоминал шум проектора. Да, иллюзия была действительно странная. Я кипел от злости, думая о людях, которые тайно решили уничтожить наши карьеры и обречь нас на такое несправедливое унижение. Я сказал, что даже не уверен, найдется ли у меня достаточно денег, чтобы получить приличную каюту на судне, плывущем в Италию, уже не говоря о покупке какой-то приемлемой одежды. От меня ведь теперь разило коровьим дерьмом. «Я слышал, в Риме сейчас все тщательно следят за модой». Никто не ожидает, что через Святой Город будут вышагивать зловонные статисты из «Песни пустыни». Кроме того, я не верил, что наши джеллабы дотянут до конца путешествия. — Посмотри на швы на этих одежках, — сказал я. — Самая дешевка! Ни единого двойного шва на всех тряпках. Разве это честный обмен? Целый мешок английского золота… Как обычно беспечный, темнокожий великан внезапно расхохотался. Я не мог ничего понять. Я сначала подумал, что с ним случился приступ истерики, к которой всегда были склонны представители его расы, но потом стало ясно: он просто выражал безграничную радость после спасения из пыточной камеры паши. Я сказал мистеру Миксу, что очень горжусь им — он так легко перенес все испытания. Не у многих его соплеменников это бы получилось. Я заверил его, что в Европе ему не следует ничего бояться. Я буду рядом и непременно помогу. Если какие-то люди оскорбят его в Вечном Городе, им придется иметь дело со мной! За этим последовал еще один безумный взрыв хохота, возвестивший, что встреча со мной помогла этому человеку поверить в чудеса. — Макс, ты — самый везучий ублюдок в целом чертовом мире. Я никогда не встречал таких удачливых ребят. Теперь, пока мы не вернемся к цивилизации, я буду держаться за тебя, как муха за свежую краску. Я был немного сбит с толку. — О каком везении ты говоришь, мистер Микс? Я думаю, ты имеешь в виду это «решение суда»! Если бы у меня не хватило присутствия духа и я не упомянул бы имя одного из самых влиятельных и незаметных людей Англии, мы бы до сих пор томились в тюрьме Глауи или корчились бы от нежных прикосновений «щипцов святого Павла». — Мне стало дурно. Я почти ощутил запах поджаренного мяса. — Это и есть везение? Я вытащил из сумки свои грузинские пистолеты, чтобы проверить, не повреждены ли они. Он изо всех сил старался овладеть собой. Он повернул голову и опустил подбородок на грудь. Но было ясно, что он так и не понял меня. — Везение? — Я все еще не верил ушам. От какой нелепой иллюзии страдал этот schwartze[1270]? — Разве ты не заметил, мистер Микс, что мы снова унизились до путешествий в вагоне для перевозки скота? Ужасы последних нескольких дней, очевидно, подействовали на него. У бедняги зашел ум за разум. Его голова тряслась, его рот открывался от изумления, все его тело содрогалось от лихорадочной радости. Локомотив медленно, но верно вез нас к Высокому Атласу, а я с огорчением смирился с тем, что мистер Микс будет так же бесноваться, даже когда мы пройдем наконец через золотые ворота Рима.Приложение
(Нижеследующая расшифровка взята из материалов, не предоставленных полковником Пьятом, но пере- данных им мисс Кристин Бруннер, которая любезно дала разрешение воспроизвести здесь этот фрагмент. М. М.)Если бы Тами помог Абд эль-Криму в 1925‑м, в Марокко сейчас не существовало бы никакого иностранного протектората. Вместо этого племена, политические соперники, религиозные соперники, кровные соперники и торговые соперники вернулись бы к освященному веками укладу — человек человеку волк. И Тами — без сомнения, почти неохотно — стал бы наконец тираном Марокко, трон которого полит кровью ста тысяч невинных, первым истинно исламским диктатором, готовым пожать руки собратьям в Европе. И если бы Тами превратился в союзника христиан, разве стали бы мы бояться Карфагена? Я думаю, Тами расширил бы границы своей империи на востоке, не разрывая дружбу с Западом, и постепенно построил единое государство от Касабланки до Суэца, которое стало бы защитой исламского рыцарства от дикости Востока и Африки. Если бы французы позволили паше создать собственные воздушные силы, а не противились бы такому его плану действий, — тогда в один исторический миг Карфаген захотел бы сделаться союзником Христа, а не правой рукой Антихриста. В конечном счете не дремлющий Карфаген стал причиной нашего поражения, но спящий христианский мир, всегда готовый умиротворить общего врага, уже пожравшего Россию и собиравшегося пожрать половину Европы и самую могущественную страну Востока. Фроменталь был прав, когда с подозрением относился к исламу, но неправ, когда подозревал Тами. Теперь Карфаген — ручной пес большевизма, как Великобритания — пес Америки. Настали годы скупости, годы войны ради войны, ради одной только власти. Настали ужасные годы упадка, и грядет последняя битва, когда скот швырнет другого скота обратно в грязь, из которой мы появились много миллионов лет назад. И такой окажется вся наша история? Неужели эта необузданная, безответственная, поистине языческая сила будет расти и расти, пока сам Христос не потерпит поражение? Что нам сделать, чтобы предупредить безумцев? Что мы можем им сказать, чтобы напомнить о Божьей воле в тот миг, когда они видят, как черепа маленьких детей раскалываются под пятой ужасного демона? У нас есть религиозный долг. Ведь религия дала нам богатство и безопасность. Мы обязаны хранить ее заветы во имя Сына Божия; наш долг — прожить жизнь с максимальной пользой для Бога и Человека. Так я пытался поступать сам и продолжаю, по Божьей воле, выполнять свои обязанности, предупреждать мир о том, с чем людям придется столкнуться, если они не смогут нести христианское бремя, не смогут совершить паломничество души через долину страха и к свету Небесному. Всякое паломничество — личное, частное дело, как и молитва, и мы готовимся к совершенству, которое обещал наш Избавитель. Но даже если мы последуем по Его пути — многие введут нас в заблуждение. Я признаю, что поддавался искушениям в двадцатых и тридцатых, но то были запутанные времена, и я никого не виню за то, что творилось тогда, — и меньше всего виню себя. Пусть бремя вины возьмут на себя еврей и мусульманин. Это у них в крови — подгрызать корни нашей веры, словно сатанинские крысы!
Последние комментарии
8 часов 18 минут назад
12 часов 37 минут назад
14 часов 24 минут назад
15 часов 38 минут назад
16 часов 44 минут назад
17 часов 53 минут назад