Под шифром "Рб" (Книга о Н.Рубакине) [Лев Эммануилович Разгон] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]


ТРУЖЕНИК ИЗ КЛАРАНА

Несколько десятков лет жители маленького швейцарского городка Кларана ежедневно в одни и те же часы со снисходительной улыбкой наблюдали, как с высокого холма спускался к Женевскому озеру на прогулку кряжистый, крепко сколоченный старик с развевающейся бородой. Кларанцы, даже те из них, кто застыл в высокомерном благополучии и отвращении ко всем, непохожим на них, прощали этому человеку его странную внешность, его широкополую, мятую шляпу, черную крылатку, калоши. Ведь в каждом городе должен быть свой чудак, и для кларанцев Рубакин был именно таким тихим и безобидным чудаком, городской достопримечательностью. Их мало занимало: кто этот русский, чем он занимается, что делает. Они знали, что старик чем-то знаменит, что он директор какого-то международного института, обладает многими почетными званиями, что он дружит с другой швейцарской знаменитостью — французским писателем Роменом Ролланом. Их даже не раздражало, что Рубакин, на глазах которого выросло несколько поколений кларанцев, говорил по-французски с невыносимым русским акцентом. У нас нет претензий к швейцарцам. В конце концов, кто бы у них ни жил: Руссо, Плеханов, Роллан, Чаплин — все они были квартирантами, и хозяева к ним относились как к жильцам. Тихо себя ведут, ну и хорошо! Но и у нас в стране, родившей Рубакина и целиком духовно владевшей им, многие до сих пор представляют его себе тихим кабинетным ученым. Был такой — просветитель, библиограф, книжки популярные писал, методист был. Даже широко отмеченное печатью столетие со дня рождения Рубакина не намного изменило это представление. А в действительности он был человек необыкновенно яркий, страстный, целеустремленный. Он поднял целину и пропахал ее глубоко, надолго, оставив после себя след незабываемый: любовь и благодарность одних и бешеную ненависть других. Многих поражало, что Рубакин не любил и не понимал поэзии, не посещал театров и даже в кино ходил лишь из-за того, что во время сеанса ему в голову часто приходили новые и неожиданные идеи… Во всяком случае — он никогда не мог рассказать содержания просмотренного кинофильма. И это не потому вовсе, что Рубакин был сухарем и рационалистом, равнодушным к жизни и искусству. Ему просто было некогда. Все слова, какие мы употребляем для того, чтобы определить высочайшую степень трудолюбия — все они недостаточны, чтобы охарактеризовать деятельность Рубакина. Незадолго до своей смерти он, со свойственной ему любовью к статистике, составил кратенькую табличку им сделанного: прочитано 250 тысяч книг, собрано 230 тысяч книг, создано 49 больших научных работ, написано 280 научно-популярных книг, составлено и разослано 15 тысяч программ по самообразованию, опубликовано свыше 350 статей в 115 периодических изданиях… А ведь сюда не входят сотни книг, которые Рубакин редактировал, тысячи писем, которые он писал! «Переписка с частными лицами — это особый вид текущей литературы», — говорил Рубакин и к своим письмам относился с той же серьезностью, с какой относился ко всякой литературе. Сюда не входят и рукописи двух больших неопубликованных романов и многое еще, что он не внес в свою памятку. Рубакин жил долго — 84 года. Но, чтобы перевернуть эту гору работы, ему надо было трудиться безостановочно, дорожа каждой минутой. Он так и трудился, каждый день с раннего утра до поздней ночи, без дней отдыха, без развлечений, вернее — без всяких отвлечений. За сорок лет своей жизни в Швейцарии он выезжал из дома всего лишь два раза на несколько дней. И это при своих многочисленных знакомствах и связях, огромном интересе к жизни стран и людей… Он спешил, он должен был работать, должен был каждый день исписывать десятки страниц своим мельчайшим, стенографически неразборчивым почерком. В последний период жизни ему уже трудно было владеть правой рукой — ее постоянно сводило от письма, он заболел болезнью, которую медицина назвала «писательской судорогой». Когда вот так пробегаешь по внешним контурам рубакинской жизни, то сначала может показаться, что перед тобой облик человека необыкновенно цельного, устремленного, который однажды определил жизненное призвание, выбрал себе жизненный путь и с него никогда не сходил. И это правда. И все же очень неточно. При всей цельности характера, личность и судьба Рубакина поражают трудно объяснимыми противоречиями. Рубакин был русским не только по рождению, национальности, языку, вкусам, привычкам. Как человек, общественный деятель и литератор — он был порожден Россией, он был неотделим от ее интересов, радостей и горестей. Родину он любил страстно, одержимо, к ней и только к ней был обращен весь его титанический труд. И все же последние сорок лет жизни — большую ее часть! — он прожил безвыездно за границей. Прожил, не будучи эмигрантом, находясь в тесной связи с новым общественным строем Родины, разделяя его идеалы…
 Экслибрис Н. Рубакина
Экслибрис Н. Рубакина
Симпатиями, личными связями, надеждами он был связан с рабочим классом, с развивающейся социал-демократией. И, однако, на многие годы этого тихого человека ясного и трезвого ума занесло к эсерам, в бесформенный мелкобуржуазный хаос бомб и риторики, террористов и провокаторов… Рубакин неотделим от книг. Они были — начиная с детских лет и кончая глубокой старостью — его главной привязанностью. Он относился к ним, как к живым существам. Когда его никто не видел, он подходил к книжным шкафам и гладил корешки любимых книг. Знакомство с каждой новой книгой было для него подобно знакомству с новым человеком. Он был трогателен в этой любви, и когда он ссорился с близкими из-за запачканной страницы, помятой обложки, никто не воспринимал это как старческое брюзжание. Но никогда Рубакин не дрожал жадно над своими книжными сокровищами. Всю жизнь он книги раздавал и отдавал. Давал всем, кто только в них нуждался — рабочим и профессорам, неизвестным крестьянам и известным политическим деятелям. Тратил собственные деньги на то, чтобы рассылать книги по почте, раздавать в чайных, снабжать ими учащихся воскресных рабочих школ. Да что отдельные книги — он раздавал целые библиотеки! В девяностых годах прошлого века, только окончив университет и начав самостоятельно жить, Рубакин тратит все заработки на то, чтобы создать библиотеку — лучшую частную библиотеку в России. Чтобы ее пополнять, он брался за работу редактора, корректора. А собрав сто тысяч книг, — передал их полностью и безвозмездно петербургской «Лиге образования». Новая библиотека, собранная им в Швейцарии, была уникальной и бесценной по составу. Ею пользовалась на протяжении десятков лет вся революционная эмиграция, к Рубакину обращались все слависты мира. Рубакин требовал от читателей одного: бережного возвращения взятых книг. Ни для кого — даже самых им почитаемых — не делал исключения. Но когда в годы второй мировой войны в Швейцарии очутились тысячи советских военнопленных, бежавших из фашистского плена и интернированных швейцарским правительством, — Рубакин сумел пробить стену изоляции, которой они были окружены, и послать им больше десяти тысяч книг, не рассчитывая на их возвращение… Свою огромную библиотеку он, преодолев немалые трудности, вызванные швейцарскими законами, — завещал Родине. Впрочем, себя Рубакин считал скопидомом, скрягой и с сокрушением говорил, что в этом повинно его детство, проведенное в старозаветной купеческой семье. А «скопидомство» заключалось в том, что Рубакин очень неохотно тратил на себя и свою семью каждую копейку, которую можно было бы употребить на покупку книг. Рубакин совершенно искренне был уверен и в том, что он со своими книгами стоит над всякой полемикой, над всякими политическими дискуссиями. А в действительности он был полемист природный, неудержимый. В очень доброжелательной рецензии на знаменитый труд Рубакина «Среди книг» Ленин иронизировал по поводу «курьезного предубеждения автора против „полемики“. Ленин писал: „В предисловии г. Рубакин заявлял, что сам он „на своем веку никогда не участвовал ни в какой полемике, полагая, что в огромнейшем числе случаев полемика — один из лучших способов затемнения истины посредством всякого рода человеческих эмоций“. Блестяще доказав, что автор этого заявления сам в высшей степени подвержен „эмоциям“ и что именно они завели его в эклектизм и идейную путаницу, Владимир Ильич восклицал: „О, г. Рубакин, никогда на своем веку не участвовавший ни в какой полемике!“ Ленин понимал характер и особенности Рубакина, как общественного деятеля, больше и лучше, нежели сам Рубакин. А особенности характера Рубакина наложили и на его судьбу неизгладимый отпечаток.
ПОСЛЕДНИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИСТ

В представлении многих современников Рубакин был неистовым, одержимым человеком, все интересы которого были связаны только с книгами. Действительно, Рубакин всю жизнь прожил "среди книг". Название, которое он дал своей главной и любимой книге, точно характеризует образ жизни ее автора. Из многочисленных литературных псевдонимов, которыми он пользовался, Рубакин больше всего любил самый первый: "Книжный червяк". Он не видел в этом прозвище ничего смешного и унизительного. Хоть и червяк, зато всю жизнь живет в книгах и без книг жить не может… Но Рубакин жил и работал не для книг — для людей. Все его помыслы, весь труд были обращены к русскому народу и неразрывны с многолетней и мучительной борьбой народа за политическое и социальное освобождение. Рубакин мог наивно считать, что он стоит "над полемикой", но ни одну из своих книг, ни одно из своих действий он не мог бы назвать так, как назвал свою книгу его друг Роллан: "Над схваткой"… В одной из ранних революционных брошюр Рубакин писал: "Идет война трудящегося народа с обидчиками. Те отстаивают свое сытое благополучие, а народ борется с ними за землю и волю". В этой войне Рубакин участвовал всю жизнь, и воевать он пошел без всяких сомнений и колебаний. Он только искал и нашел для себя наиболее подходящее оружие. Им была книга. На своем не менявшемся никогда книжном знаке — экслибрисе — Рубакин написал: "Книга — могущественнейшее орудие в борьбе за истину и справедливость". Книга для Рубакина была не целью, не источником сладостного наслаждения — она была средством борьбы. В 1915 году, когда Рубакину было уже 53 года, он в автобиографическом наброске, вспоминая свою юность, говорил: "Я решил посвятить свою жизнь борьбе за человека, — против гнуснейшего вида неравенства — неравенства образования". Он бросился в эту борьбу с оружием, в могущество которого верил безгранично. В этой вере была заключена и сила Рубакина и его слабость, это стало источником его побед и поражений. Ему казалось, что стоит только пробиться сквозь все рогатки и препоны, чинимые правительством, духовенством, фабрикантами и помещиками, дать рабочим и крестьянам скрываемые от них знания, — как те станут несоизмеримо сильнее своих противников. Ведь их — океан, а социальных паразитов — ничтожная кучка… Всю свою энергию, купеческую деловитость, неиссякаемое трудолюбие он употребил на осуществление этой задачи. Сотни статей и книг, тысячи писем, анкет, методических указаний, библиографических списков… Будучи по темпераменту бойцом, испытывая жадный интерес к новым местам, новым людям — он сознательно обрек себя на добровольное заключение в рабочем кабинете — ему казалось, что только там и только так он сумеет выполнить свое предначертание. В 1907 году он покинул Россию не потому только, что царский министр его выслал "навечно" — Рубакин не испытывал страха перед преследованиями, не боялся тягот нелегальной жизни, — ему нужны были условия для работы, в силу которой он так верил. Свершилась в 1917 году социалистическая революция, народ получил неограниченные возможности для образования — тем больше, значит, оснований для того, чтобы еще больше писать, активней разрабатывать методы самообразования. И Рубакин с головой ушел в работу, не позволяя себе прервать ее ни на день, ни на час. Тоскующий по Родине, с жадностью ловивший каждое известие из России, он, ради своих иллюзий, обрек себя на трагическую разлуку с ней. В неопубликованных еще у нас дневниках Ромен Роллан много места отвел Рубакину, поразившему его кипучей деятельностью и фанатической верой в силу образования. "Это — великий энциклопедист!" — восклицает Роллан после первого знакомства с Рубакиным. Знаменитому французу не случайно пришли в голову образы его великих соотечественников — Дидро, Д’Аламбера. Конечно, просветительская деятельность Николая Александровича Рубакина не была схожей с просветительской деятельностью французских энциклопедистов — она была иной по целям и средствам. Но действительно в натуре Рубакина, в его убеждениях было нечто от XVIII века. С фанатической верой в могущество знания, непоколебимым убеждением в неограниченное влияние печатного слова, ему пришлось жить в кипении политических страстей между двумя русскими революциями, в обстановке, когда не слово, а действие стало решающим в борьбе народа с угнетателями. История жизни Рубакина со всей беспощадностью свидетельствует, что прошлое не повторяется…
КУПЕЧЕСКИЙ СЫН

Эта история началась 13 июля 1862 года, когда у ораниенбауманского купца Александра Иосифовича Рубакина родился сын, которому вместе со всем его поколением предстояло стать свидетелем самых напряженных и значительных событий в истории человечества. И какую бы уединенную гору ни выбирал пророк самообразования для того, чтобы там сочинять и оттуда рассылать заповеди своей веры, — эта гора постоянно омывалась бурными потоками великих событий. Но по детству Рубакина об этом было бы трудно догадаться. Ораниенбаум. "Рамбов" — как его звали в народе. Маленький провинциальный спутник столицы Российской империи. Город мелких торговцев, ремесленников, офицеров, чиновников-пенсионеров, петербургских дачников. Город столь незначительный, что даже купец второй гильдии Рубакин казался в нем весьма значительным лицом, невзирая на то, что он по своему состоянию и размаху деятельности ничем особенно не выделялся. Торговал лесом, был владельцем "Торговых бань", имел несколько небольших домов на главной улице города. Но примечательно, что этот не очень богатый купец целых восемнадцать лет пробыл городским головой. Может быть, потому, что он не был этакой купеческой акулой из кулачков, разжившейся на пене "крестьянской реформы" 1861 года. Рубакины — купцы старозаветные, почитаемые за приверженность к старому. Уже в начале XVIII века Рубакины были купцами в Торопце на Псковщине — остатками тех самых "торговых гостей", которые были хозяевами древнего Новгорода и древнего Пскова. Конечно, фигура старого Рубакина импонировала и ораниенбаумскому купечеству и властям. Казалась незыблемой передаваемая в семье Рубакиных от поколения к поколению вера в силу денег, в то, что власть — "от бога", в святость всего, что установлено начальством… И трудно было предположить ораниенбаумскому городскому голове, что его сын Николай не унаследует от него одно из основных качеств: почтения к властям, к авторитетам, к деньгам. Но такое случилось, и отнюдь не по вине отца будущего бунтаря и просветителя. Николая Рубакина приучали к наследственному делу со всем старанием. Учиться отдали не в гимназию, а в реальное училище. Реальные училища не давали права на поступление в университет, но зато знакомили своих воспитанников с такими "положительными" науками, какие могли пригодиться будущему купцу — механикой, бухгалтерией, математикой… В свободное от уроков время отец приказывал продавать веники в принадлежащих Рубакиным банях. Николая Рубакина с братом — только-только овладевших премудростями арифметики — отец уже заставлял проверять кассу у приказчиков в банях. Считал каждую копейку, выдаваемую на учебники, на завтрак, на развлечения. Почтение к старшим и к купеческим обычаям внушал сыновьям проверенным способом: кулаками и жестким ремнем…
 Рубакин — ученик реального училища.
Рубакин — ученик реального училища.
Словом, казалось, было сделано все, дабы новое поколение купцов Рубакиных приумножало состояние предков и пользовалось снисходительным покровительством властей предержащих. Очень скоро старший Рубакин понял, что произошла осечка, что детей его тянет совсем в другую сторону. И все же до конца жизни он не терял надежды, что выведет их "в люди". Уже после того как — вопреки его воле и желанию — сыновья уехали учиться в Петербург, после того как Николай Рубакин успел окончить университет, посидеть в тюрьме и прочно обосноваться в списках "неблагонадежных", Александр Рубакин попробовал назначить сына управляющим фабрикой оберточной бумаги. Он полагал, что его наследник, окунувшись в ту самую обстановку, где изготовляются доходы, поддастся сладкой отраве "собственных" денег… Но новый управляющий, обрадовавшись самостоятельности, стал бешено тратить и доходы и основной капитал на покупку книг, организацию библиотеки для рабочих, устройство для них общеобразовательных курсов. За какие-нибудь два года Николай Рубакин быстро и уверенно довел вверенную ему фабрику до полного и окончательного краха. На этом и закончился последний воспитательный эксперимент Рубакина-отца. И сын его был полностью предоставлен своим вкусам, стремлениям, страстям. Они определились очень рано и все были связаны с одним — с книгами. Эта неожиданная для выходца из руба-кинской семьи страсть имела свои истоки. Как это ни казалось странным, но знаменитые, потрясшие старую Россию "шестидесятые" годы имели даже в ветхозаветной купеческой семье своего убежденного и страстного представителя. Им была не кто иная, как жена ораниенбаумского городского головы — Лидия Терентьевна Рубакина. Об этой женщине, оказавшей на своего сына огромное влияние, стоит рассказать подробней. Лидия Терентьевна была заметным человеком в городе. Живая, веселая, общительная, вечно занятая организацией литературно-драматических вечеров, устройством библиотек — словом, трудно было поверить, что вышла она из старообрядческой, торговой семьи, в которой сохранялись все изуверские правила купеческого "домостроя". Отец Лидии Терентьевны зверски избивал детей, даже ставших уже взрослыми. Для дочери не делал исключения. Выдал ее замуж насильно за человека незнакомого и нелюбимого. Но в этой страшной жизни были и просветы. Нелюбимую дочь купец Тихонов отдал в пансион мадам Труба в Петербурге. Надо полагать, что пансион этой женщины со столь неблагозвучной фамилией не был самым первосортным. И все же пребывание в пансионе дало возможность способной и умной девушке проникнуться страстной любовью к наукам, научиться французскому языку, а самое главное — завести знакомства со своими более счастливыми сверстницами — теми, кто с трудом попал в первое в России частное Высшее учебное заведение для женщин, так называемые Бестужевские курсы. Лидия Терентьевна оказалась в студенческой компании шестидесятых годов, преклоняющейся перед наукой, веселой, непочтительной к казенным авторитетам. Много лет спустя мать Николая Рубакина с благоговением вспоминала о том, как на собрание студенческого кружка приходил властитель дум молодежи, знаменитый публицист и критик — Дмитрий Иванович Писарев.
 Лидия Терентьевна Рубакина
Лидия Терентьевна Рубакина
Когда этот праздник в жизни купеческой девушки окончился и она снова попала в почти тюремный режим своего дома, а потом была насильно выдана замуж за человека намного ее старше и таких же взглядов на семью, как и ее отец, — Лидия Терентьевна сохранила в душе пыл юности. Несмотря на тяжкие отношения с мужем, появление детей, необходимость вести хозяйство, она продолжала читать, следить за всеми новинками науки, перевела с французского знаменитую книгу Бюхнера "Сила и материя". Лидия Терентьевна была человеком необыкновенно волевым и настойчивым. На протяжении многих лет она добивалась для себя и детей прав на образование, на совсем другую жизнь, нежели та, на которую обрекал их строгий муж и отец. И добилась этого! Это она, купеческая дочь и жена, питавшая непонятную для окружающих тягу к просвещению народа, передала Николаю Рубакину уважение и страстную любовь к книге. Напрасно впоследствии черносотенные журналисты иронизировали по поводу того, что Рубакин посвятил знаменитый свой труд "Среди книг" матери. Это вовсе не было маскировкой, как в том обвиняли автора. Этим посвящением Николай Рубакин отдал дань уважения и благодарности человеку, внушившему ему с детства преклонение перед силой печатного слова. Скуповатый купец второй гильдии с одобрением относился к тому, что жена его не балует Колю дорогими подарками, а ограничивается всегда книжкой. Ему и в голову не приходило, как дорого ему обойдутся впоследствии эти дешевые подарки! Книги были для маленького Рубакина первыми и самыми любимыми игрушками, с ними связаны его первые и очень стойкие увлечения. Еще не умея читать, стал он играть в библиотеку и собирать книги. Только-только научившись писать, начал изготовлять собственные рукописные "книги". Можно сказать, что Николай Рубакин был не только природным библиофилом, но и природным литератором. Каждая вновь прочитанная книга вызывала в нем желание сочинить такую же или переделать прочитанное, внести в него свое. В одиннадцать лет Рубакин, как и надлежало мальчику этого возраста, зачитывался пресловутыми приключениями Рокамболя. Увлекались ими все его сверстники. Но Коля Рубакин переделал огромный и толстый роман в пьесу и пытался ее поставить. Через год он сочинил приключенческий роман и пьесу "Ни то, ни сё". Естественно, что юный романист и драматург остро нуждался в собственном печатном органе. И тринадцатилетний ученик реального училища Николай Рубакин начал-издавать рукописный журнал "Стрела". Множество детей пытаются писать приключенческие романы и исписывают толстые тетради с таким трудолюбием, о котором мечтать не смеют их учителя русского языка. Но "журнал" Рубакина вовсе не был приключенческим. Больше всего места в нем занимали заметки научного характера. Это были его собственные наблюдения за тем, что открывалось любознательным мальчишеским глазам в лесу, на болоте, в поле. Или же пересказ того прочитанного в газете, во "взрослом" журнале, что поражало воображение "редактора-издателя", интересовавшегося ботаникой, энтомологией, историей, этнографией и прочими науками. Первым печатным произведением Николая Рубакина была небольшая статья "Обоготворение животных", посланная им в редакцию распространенного журнала "Детское чтение". Там понравилась статья, написанная простым языком и содержащая прогрессивные по тому времени взгляды. Ее напечатали в одном из номеров журнала за 1877 год и не забыли выслать автору гонорар — 16 рублей. Гонорар был по тем временам довольно большой, но редакция журнала не знала, что ее новому сотруднику всего лишь пятнадцать лет…
 Рукописный журнал "Стрела". Редактор-издатель Н. Рубакин.
Рукописный журнал "Стрела". Редактор-издатель Н. Рубакин.
 Первые литературные опыты Н. Рубакина. Страничка из юношеского дневника.
Первые литературные опыты Н. Рубакина. Страничка из юношеского дневника.
Учился Рубакин в реальном училище. Казалось бы, что реальное образование, в котором не было зубрежки мертвых языков, где естествознанию было отведено гораздо больше места, чем в классических гимназиях, должно было прийтись по душе будущему просветителю и популяризатору. Однако учился он плохо. Не помогал ни страх перед отцовской тяжелой рукой, ни почтение учителей к городскому голове. В третьем классе с трудом перешел в следующий. В пятом классе все же остался на второй год. Конечно, много значило, что Рубакину не везло на учителей, что интересные ему науки преподавали унылые чиновники, а товарищи по классу были по преимуществу купеческими сынками, которым плевать было на любую науку. Но все же главным, что мешало Рубакину стать учеником, примерным по успехам и поведению, были книги. Он их читал везде, всюду, где только возможно и когда только возможно. Читал непрерывно дома, удивляя отца своей приверженностью к "деланию уроков". Читал в старом сарае, куда скрывался ото всех. Убегал с уроков и читал, спрятавшись в школьном саду. В третьем классе он пропустил 565 уроков, и потребовались немалые усилия родителей, чтобы перетянуть сына в следующий класс. Между тем, никто из людей, близко знавших реалиста Рубакина, не сомневался в его блестящих способностях. Когда, после окончания реального училища, Рубакин с помощью матери настоял на поступлении в университет, ему пришлось подготовиться и сдать экстерном полный курс классической гимназии, включая латынь и древнегреческий язык. Менее чем за год Рубакин прошел весь курс гимназии, получил аттестат зрелости с отличием и вместе с ним — право на поступление в университет.
РУБАКИН-СТУДЕНТ

Учился Николай Рубакин на естественном факультете. Учился с огромным увлечением, изучая физиологию не только на университетских лекциях и семинарах, но и в научном студенческом кружке — том самом, где вместе с ним занимался и студент-естественник Александр Ульянов. Он посещал также лекции на историко-филологическом и юридическом факультетах, и в его маленькой студенческой комнатке угрожающе росли стопки толстых общих тетрадей, исписанных быстрым малоразборчивым почерком. Разносторонние научные интересы не могли уменьшить огромной тяги Рубакина к литературе. Вспоминая через много лет свои отроческие и юношеские годы, Николай Александрович признавался: "У меня был огромный писательский зуд…" После первой публикации Рубакин забрасывает самые разные редакции своими сочинениями. Это были и статьи, в которых уже тогда проскальзывал талант популяризатора (например, статья "Всегда ли люди умели писать", напечатанная в 1879 году в журнале "Семейные вечера"). А были и полувеселые и полуобличитель-ные стишки, которые за подписями "Н. Р-н" и "Ораниенбаумский" печатались в "Будильнике" и других юмористических журналах. Впоследствии Рубакин очень самокритично объяснял, почему он печатался в эти годы по преимуществу в детских и юмористических журналах: они были совершенно неразборчивы и с готовностью — за ничтожный гонорар или вовсе без гонорара — печатали все, что им присылал студент Рубакин. Не следует думать, однако, что Рубакин в юности был тем, кого в современной ему литературе называли "увлекающейся натурой". При всем великом разнообразии интересов и занятий, Рубакин вовсе не разбрасывался и не плыл по воле увлечений. Уже в студенческие годы Рубакин мечтал о широкой просветительской программе: педагогическая деятельность, массовые библиотеки, разносторонние курсы, вечерние школы… И к этой деятельности Рубакин готовился настойчиво, упрямо, с купеческим практицизмом. В остатках студенческого архива Рубакина сохранились планы обширных серий популяризаторских книг, списки лучших социальных романов, конспективное изложение наиболее взволновавших его книг. Однако задолго до этого Рубакин имел возможность уже практически начать удовлетворять свои стремления к просветительской работе. Его мать, стремясь найти какое-то поле для общественной деятельности, решила открыть в Ораниенбауме частную библиотеку. Сын с восторгом отнесся к планам матери. Рассчитывать на помощь ораниенбаумского городского головы было трудно. Но у Лидии Терентьевны были выигрышные билеты на 600 рублей. Эти билеты были проданы и деньги употреблены на аренду помещения и покупку книг. С петербургскими книжными магазинами договорилась об отпуске книг в кредит. 22 октября 1875 года на Могилевской улице открылась первая в городе частная библиотека Л. Т. Рубакиной. Надо ли говорить, что сын хозяйки библиотеки не вылезал из комнаты, уставленной стеллажами с книгами. Об этом эпизоде в биографии Рубакина стоит упомянуть уже потому, что несколько сотен книг маленькой библиотечки на Могилевской улице впоследствии стали основой тех огромных библиотек, которые Николай Александрович Рубакин создавал в течение всей своей долгой жизни. Мало того: именно в маленькой библиотеке матери будущий библиограф, популяризатор, теоретик самообразования столкнулся не только с книгами, но и с читателями этих книг. Там он впервые стал размышлять над огромным разнообразием и своеобразием читательских интересов. Родители Николая Рубакина, его профессора, его товарищи по университетскому курсу не сомневались, что Рубакина ждет блестящая научная карьера. Студенческая работа Рубакина "О развитии крови и сердца у зародыша цыпленка" принесла автору медаль и признание профессуры. Профессор Ф. П. Овчинников видел в талантливом студенте своего будущего ассистента, помощника, преемника. Университет Рубакин кончил с отличием и только от него зависело, чтобы исполнились честолюбивые мечты его отца, желавшего дожить до времени, когда его сына будут титуловать: "Ваше превосходительство"… Время, когда учился Рубакин, было страшным. Всего несколько лет прошло с тех пор, как была разгромлена "Народная воля", исчерпавшая свои силы в охоте за Александром II. Черная ночь реакции опустилась над Россией, отданной под неограниченную власть генерал-губернаторов, просто губернаторов, жандармов, полицейских, земских начальников… Беспощадно выкорчевывались остатки куцых либеральных реформ прежнего царствования. Из высших учебных заведений изгонялись профессора со сколько-нибудь прогрессивными взглядами, выгонялись и сдавались в солдаты студенты за любое проявление свободомыслия. Петербургский университет не был исключением. Университетские "педели" — официальные сыщики за студентами, зорко следили за теми, кто не внушал им доверия, прежде всего, за студентами в сатиновых косоворотках под небрежно надетой студенческой тужуркой. Но таких становилось в университете все меньше и меньше. Зато все заметнее прибавлялось "академистов", "белоподкладочников", одетых в форменные сюртуки тонкого сукна на белой шелковой подкладке. Они презирали революционные традиции петербургского студенчества, восторженно встречали бородатого царя в тех редких случаях, когда он рисковал показываться на улицах столицы.
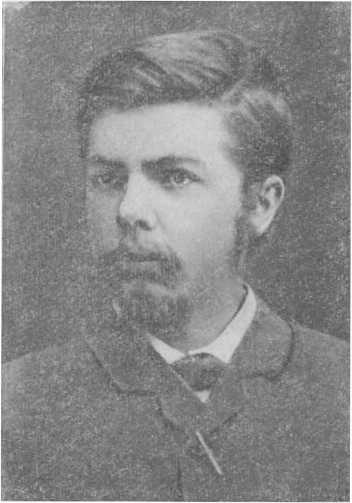 Н. А. Рубакин — студент С.-Петербургского университета.
Н. А. Рубакин — студент С.-Петербургского университета.
В этой затхлой университетской атмосфере быстро гибли пылкие юношеские мечтания о свободе. Зато было все, что только могло выпасть на долю честного и умного юноши, наивно полагавшего, что студент может и должен беспрепятственно готовиться к служению людям. Была полиция, врывающаяся на студенческие сходки; были нагайки казаков, рассекающие студенческие шинели у Казанского собора; был ужас, охвативший от известия © казни Александра Ульянова… Правда, в студенческий период своей жизни Рубакин не имел никакого отношения к динамитным бомбам, к отчаянной и гордой попытке своего студенческого товарища воскресить время народовольцев. Участие Рубакина в революционном движении студенческой молодежи было гораздо более скромным. Уже перед поступлением в университет приятель Рубакина гимназист В. П. Бонч-Осмоловский познакомил его с нелегальными брошюрами. Это была брошюра "На смерть Мезенцева" — пламенный рассказ о революционерах-террористах и о Степняке-Кравчинском, кинжалом заколовшем шефа корпуса жандармов Мезенцева. Это была брошюра "Заживо погребенные" — героические биографии людей, осужденных на медленную и мучительную смерть в "русской Бастилии" — Шлиссельбургской крепости. Это были и знаменитые "Исторические письма" Миртова (П. Лаврова), обосновывавшего народнические надежды революционных террористов. Эти нелегальные издания были весьма распространены среди свободомыслящего студенчества. Когда полиция начала производить обыски у членов, хотя и нелегальной, но вполне безобидной "Санкт-петербургской студенческой корпорации", она у наиболее радикальной части "корпорантов" обнаружила и вещи криминальные. В фондах Петербургского охранного отделения департамента полиции за 1886 год сохранилось донесение о результатах этих обысков. В нем, в частности, писалось: "В числе лиц, подвергнутых обыску, находился и студент Николай Александров Рубакин, у коего были найдены преступного содержания заметки и стихотворения и листок для сбора пожертвований политическим ссыльным. Рубакин, как это установлено дознанием, состоял членом корпорации и занимался распространением революционных изданий". Рубакин был арестован, но, благодаря хлопотам отца, отделался от первого знакомства с полицией довольно легко: "По высочайшему повелению от 10 мая 1886 года, вменено в наказание считать пребывание под арестом, с подчинением его затем гласному надзору полиции на один год". Множество прекраснодушных и вполне либеральных молодых людей, пройдя через подобные испытания, смирялось, находило уютное место в жизни, уходило в ученую деятельность, надевало вицмундиры различных ведомств. Крах ученой карьеры в результате довольно случайного ареста и последующего зачисления в "неблагонадежные" лишь облегчил Рубакину переход к занятию совершенно новому и необычайному даже для той среды прогрессивной интеллигенции, в которой жил Рубакин.
ПЕРВЫЕ ШАГИ

На Большой Подьячевской улице Рубакин открывает частную "общедоступную библиотеку". В основу ее он положил шесть тысяч книг матери. Через десяток лет в библиотеке насчитывалось уже 115 тысяч. Только железное здоровье Рубакина могло выдержать работу, которую он на себя взваливал, чтобы иметь деньги на пополнение библиотеки! Рубакин писал десятки статей, редактировал книги, держал корректуру книг самых разных издательств, заведовал изданием научно-популярных книг в фирмах О. Поповой, П. Сытина, Гершунина. Тогда именно у него выработалась привычка садиться за работу в пять часов утра, привычка, сохранившаяся до последнего дня жизни. Конечно, этот труд не был просто лишь источником средств для пополнения библиотеки! Сразу же по окончании университета, Рубакин знакомится с Горбуновым, чье издательство "Посредник" занималось выпуском литературы для самых широких кругов народа, прежде всего — крестьянства. Рубакин уговаривает издателя начать выпускать серии научно-популярных книг, в которых максимально доступно излагались бы основы наук. И тогда же начинается изучение Рубакиным "народной литературы" — книг, написанных специально для людей малограмотных, людей, жаждущих образования и не имеющих возможности учиться. В 1888 году Н. А. Рубакин в журнале "Русское богатство" напечатал статью, в которой — впервые — высказывал свои мысли о том, какой должна быть литература для народа. Меньше всего они походили на железные и уверенные рецепты. Молодой просветитель был убежден в одном: надо учиться писать книги для народа. И учиться этому следует у самого народа. Только так можно создать настоящие книги, которые поймут все! Рубакин ищет помощников, единомышленников, друзей. Он организует "Кружок для изучения народной литературы"; в этом кружке он составляет "Опыт программы" изучения литературы для народа и печатает эту программу в двух номерах "Русского богатства" за 1889 год. Тогда же он становится активным деятелем одной из немногих легальных просветительных организаций — "Петербургского комитета грамотности". В своей первой большой просветительской работе Рубакин прежде всего отверг всякие схоластические рассуждения о том, может ли существовать особая литература для народа. Рубакин утверждал: не о чем спорить! Такая литература уже есть, в ней орудуют халтурщики и деляги, штампующие книжечки узкопатриотического и сентиментально-слащавого содержания. В этой "народной литературе" нет литературы. Ибо "составление книжек для народа считается делом таким легким, что за него может взяться всякий, — и чиновник, сидящий десятки лет в департаментах, и столичные барыньки, выезжающие в деревню лишь на лето". Рубакин с негодованием отвергает право далеких от народа людей решать, что хорошо народу читать и что плохо. Он приводит слова Льва Николаевича Толстого: "Почему мы для себя считаем хорошим писателем того, который нам нравится, а для народа считаем хорошим писателем того, который нам, а не народу нравится?" Судьей народности литературы Рубакин согласен считать только сам народ. Надо знать запросы народа, его вкус, исходить из его насущных нужд. Книги для народа должны писаться короткими, ясными фразами, выражающими самую суть дела. А для того, чтобы знать, что сейчас важнее и нужнее всего народу, следует обратиться к самому народному читателю. В рубакинской "Программе" основное внимание было уделено тщательно разработанному вопроснику, с которым следовало обратиться к крестьянам, к солдатам, к фабричным рабочим, к ремесленникам. 139 вопросов, содержащихся в "Программе" Рубакина, показывают, с какой глубиной подходил Рубакин к изучению будущего своего читателя. Он видит в крестьянах людей с различными социальными и историческими оттенками и спрашивает: "кем были опрашиваемые крестьяне до реформы 1861 года: государственными ли, удельными, барщинными, оброчными"? Его интересует: Бывает ли, чтобы грамотный читал неграмотным и как часто это случается? И как читают: мужики и бабы вместе или отдельно? И замечают ли читатели фамилии авторов? И встречаются ли сонники и оракулы? И верят ли читатели в их непогрешимость? И как читаются Некрасов, Короленко? Заучивают ли стихи? С каким содержанием книги больше нравятся? И какое влияние на выбор той или иной книги оказывает рекомендация ее интеллигентом? И к какой книге лучше относится народ: купленной ли за свои деньги (хотя бы и дешевой) или же к бесплатной? Многочисленные вопросы Рубакина обращены и к тем, кто должен собирать все эти сведения. Он желает знать, как народ относится к ним? Отстаивают ли читатели свое мнение, если оно не совпадает с мнением спрашивающего? А замечали ли вы, что, может быть, читатель, у которого спрашивают мнение о книге, подделывается под вкус спрашивающего? "Программа", составленная Рубакиным, коренным образом отличалась от множества "программ", "записок" и других прекраснодушных интеллигентских сочинений уже тем, что составитель ее напечатал в типографии и без дальних околичностей пустил в ход. Он предпослал своей работе обращение, в котором говорилось: "Приступая к посильной работе над народной литературой, мы обращаемся ко всем, кому дорого дело народного образования России, с просьбой принять в нашем деле посильное участие и оказывать ему посильную помощь. Письма и пакеты просим адресовать на имя Николая Александровича Рубакина в Стрельну (Балтийская жел. дор.)". По адресам тех людей, которым рассылал Рубакин "Программу", можно представить, кому, по его мнению, должно быть "дорого дело образования России". Это сельские учителя, деревенские фельдшерицы и акушерки, это крестьяне-самоучки — энтузиасты образования. На них, а отнюдь не на официальные органы просвещения, рассчитывал Рубакин. И он не ошибся. Сотни и тысячи писем хлынули к нему. Как следует разговаривать с крестьянами, как нужно подвинуть их к самообразованию, к просвещению, Рубакин показал в книжке, разошедшейся многими изданиями по всей мужицкой России и вызвавшей у тысяч людей огромный душевный порыв. Такой книжкой была тоненькая брошюра под названием "Крестьяне-самоучки". Она имела приложение: "Список удобопонятных и полезных книг". "Крестьяне-самоучки" — очень характерный пример работы Рубакина-агитатора. В ней не содержится никаких выспренних упражнений на тему "знание — добро, а незнание — зло": никакой риторики, пересыпанной восклицательными знаками и многоточиями. Книжечка очень простая, очень спокойная и деловитая. В России школ мало. На 500 тысяч городов, сел, поселков всего 35 тысяч школ. Значит, большинству населения России в них не попасть. А без образования сейчас человеку худо — это и доказывать не надо. Остается одно — учиться самому. Можно это сделать?
 Обложка книги Н. Рубакина "Крестьяне — самоучки".
Обложка книги Н. Рубакина "Крестьяне — самоучки".
И Рубакин рассказывает историю жизни четырех крестьян-самоучек. Как они пришли к заключению о необходимости научиться читать и писать. Как они это сделали, кто им помог. Как помогали они другим людям становиться грамотными. И как то, что они научились грамоте и стали читать книги, сказалось на их жизни. Каждая история, рассказанная Рубакиным, предельно точна. И начинаются они с самой сути и точного адреса. "В Вятской губернии, в деревне Мерзляковке живет крестьянин Осип Чупраков…" Или: "В настоящее время в Тверской губернии, недалеко от Красного Холма, в деревне Ям живет крестьянин Сергей Григорьевич Журавлев. Журавлеву теперь лет тридцать с небольшим". И дальше следует неторопливый рассказ о жизни Журавлева, рассказ со всеми житейскими подробностями, которые так важны деревенскому читателю. Как Журавлеву показали, как надо складывать буквы и слова, как научился он свободно читать, а потом уже — по грамматике — и писать сам научился. Как приохотился Журавлев к чтению книг и многое полезное узнал и для собственного хозяйства и для соседей. Подробно говорит Рубакин о том, как с помощью книг простой мужик мог научиться даже землю мерить, со сложными инструментами обращаться. И как своего родственника по фамилии Козлов из деревни Коробово Журавлев тоже грамоте научил и к книгам приохотил. Для Рубакина эта брошюра была одним из первых опытов народной книги. И потому весьма примечательно, что уже в ней нет и тени сентиментального сюсюкания и снисходительной фамильярности, в чем обычно выражалось высокомерное превосходство барина, "пошедшего в народ". Автор беседует со своим читателем уважительно, как равный с равным, признавая превосходство читателя во многом, чего он — автор — не знает. Но ведь и читатель не знает много такого, что знает Рубакин. Деловитость, стремление к тому, что Рубакин любил называть "сутью дела", свойственны и списку книг, приложенному к книжке "Крестьяне-самоучки". В этом списке 353 книги. Это оченьтщательно подобранная литература по практическим вопросам сельского хозяйства — полеводству, огородничеству, садоводству. Это книги о медицине, о ремеслах, о том, как бороться с пожарами. Там есть и такие книги, как изданные Ф. Павленковым "Беседы о законах и порядках". Есть и художественные. Конечно, все эти книги совершенно легальны, на всех есть пометки, что они разрешены цензурой. Казалось бы, все благонравно — придраться не к чему… Но умному читателю ясно, что подбор книг не безобидный: в массе, то есть собранные вместе, они как бы выносят приговор действительности. Даже из разрешенных цензурой "Бесед о законах" можно сделать вывод, что законы не так уж всесильны, когда к их защите обращается крестьянин-труженик. Гораздо сильнее законов власть и выгода. В "Беседах" множество ссылок на "Указы его императорского величества" и на "Правительствующий Сенат" и на всякие высочайшие и просто высокие учреждения империи. Однако эти учреждения, оказывается, ничего не стоят перед произволом власть имущих! А над мужиком — власть имеет любой, кто богаче, кто имеет землю, деньги. Когда листаешь эту книжку, так и видишь перед собой героя будущего рассказа Рубакина "Книгоноша", умею-щего "подсунуть" вот такую легальную, такую законную книгу мужику, которому "куренка некуда выпустить"… Просветительство Рубакина с самого начала носило ярко выраженный социальный и политический характер. В 1903 году в Женеве был выпущен сборник "Песни жизни". В нем было помещено стихотворение "По выходе из тюрьмы", подписанное: "Рабочий". В этом стихотворении писалось:
ПИСАТЕЛЬ

В девяностых годах литературная деятельность Рубакина выходит далеко за рамки чисто просветительской работы: составления программ для самостоятельного чтения, сочинения научно-популярных книг, широкой переписки с читателями. Он выступает и как автор рассказов и очерков, сразу же привлекших к нему внимание всех, следящих за развитием литературы. Появившиеся в журналах и в отдельных изданиях очерки и рассказы Рубакина: "Два колеса", "Бомба профессора Штурмвальта", "Воскресение мертвых", "Искорки" и другие стали значительным литературным событием. Они были отмечены всеми влиятельными деятелями русской журналистики — начиная от "властителя дум" народнической интеллигенции Н. Михайловского и кончая нововременским критиком В. Бурениным. Рассказы Рубакина заметил и Лев Толстой, просивший передать их автору, что они ему очень понравились. Это был большой литературный успех, и перед Рубакиным была открыта накатанная дорога к широкой литературной известности и материальному благополучию. Однако молодой литератор вовсе не рассматривал свои рассказы и очерки как творчество художника. В предисловии к сборнику рассказов "Искорки", вышедшему в 1901 году, он прямо об этом пишет: "Автор этой книжки не беллетрист-художник". Такое заявление вовсе не вызвано писательской скромностью. Рубакин действительно относился к рассказам как к еще одной возможности в форме беллетристической, столь понятной всем, изложить свои просветительские взгляды, свои идеи, свои планы. Сборник рубакинских рассказов "Искорки" говорит о взглядах Николая Рубакина и о его личности больше, чем многие статьи и исследования, посвященные выдающемуся русскому просветителю. Сборник открывается рассказами о позорной роли той интеллигенции, которая поставила себя на службу господствующим классам, изменила высоким идеалам и стала ренегатом науки и прогресса. В рассказе "Два колеса" выведен начальник "образцовой" тюрьмы. Он добился, чтобы заключенные ни в чем не нуждались, не страдали ни от каких лишений. В этой тюрьме отличная пища, великолепная вентиляция, в ней можно жить и жить, не подвергаясь никаким случайностям. Либеральный начальник тюрьмы, заботящийся о долголетии своих арестантов, убежден в благостном значении своих забот. Но людям, потерявшим свободу, не помогает ни свежий воздух, ни прекрасное питание, они не могут жить без главного — без свободы… И этого не понимает начальник, искренне убежденный в том, что он делает нужное и хорошее дело. Еще отвратительнее профессор Штурмвальт с изобретенной им бактериологической бомбой. Никакой талант ученого не может искупить подлую, звериную сущность этого человека. Он предлагает министру свое изобретение с холодным цинизмом, заставляющим вспомнить тех, кто придумывал газ "циклон" для Освенцима… Выкладки и рассуждения профессора Штурмвальта способны вызвать холодную дрожь у людей, читающих рассказ почти через семьдесят лет после того, как он был написан. Настолько он злободневен, настолько он перекликается с действительностью. Очерки и рассказы Рубакина о русских интеллигентах, сменивших свои либеральные идеи на вицмундиры, перешедших в стан "умывающих руки в крови", — еще более резки и выразительны. В сатире "Воскресение мертвых" Рубакин изображает действие фантастического указа о повторных испытаниях для чиновников, кончивших высшие учебные заведения. С жесткой насмешкой показывает Рубакин, как мало "университетского" осталось в этих толстеньких и благополучных мещанах и обывателях через пятнадцать лет службы. И не в том дело, что они не помнят химических и физических формул. Просто, та интеллектуальная и либеральная позолота, которую им дал университет, быстро слетела. Герой рассказа "Воскресение мертвых" Павел Иванович, просматривая свои студенческие конспекты, видит "неделовые" записи на полях — свидетельства хороших и смелых мыслей. Он вспоминает себя — юного студента с пылкими чувствами и живым умом, которого любили друзья. Павел Иванович встречает на повторных "экзаменах" старого друга Белявского, слушает его рассказ о нелегкой жизни, о многих "неприятностях", вынужденных "путешествиях" — и видит перед собой такого человека, каким он сам собирался, хотел быть… Но все это в прошлом, а сейчас никакое сознание своего нравственного падения не может заставить его отказаться от спокойной, обеспеченной жизни. Павел Иванович пытается уговорить себя, что, пойдя на службу к угнетателям, можно чем-то помочь угнетаемым. Но эта попытка себя успокоить не может скрыть главного: выбор сделан, нравственный рубикон перейден — и нет тебе дороги обратно из болота душевного и духовного предательства. А за этими рассказами, в которых нет ни жалости, ни снисхождения к их героям, идут рассказы, исполненные светлой и гордой любви. В "Митрошкином жертвоприношении" рассказана история одной жизни. Мальчику, выросшему без отца, жившему с нищенствующей матерью, в лишениях неимоверных и тяжких — выпадает на долю редчайшая удача. Сельский священник, движимый восхищением перед способностями мальчика, уговаривает деревенского толстосума, хлеботорговца, этакого уездного "упыря", дать мальчишке двухрублевую стипендию, чтобы он мог учиться. Не только одно лишь честолюбивое желание прослыть "благодетелем" двигает купчиной. Он решил, что может вырастить преданного ему, толкового приказчика. Действительно, через несколько лет хлеботорговец находит в лице Митрошки незаменимого, честного слугу. Автор рассказа рисует все необыкновенное счастье, выпавшее на долю мальчика и его матери: спокойная, обеспеченная жизнь, возможность продвинуться, стать старшим приказчиком, а там — ведь так это и делается — может быть, он и сам станет купцом, хозяином дела… Как мы видим, герой рассказа идет по тому же пути, по какому пошли дипломированные интеллигенты предыдущего рассказа. С той только разницей, что для Митрошки его переход на службу к купцу — спасение от нищеты, от голодной смерти. Но дальше в рассказе "Митрошкино жертвоприношение" все поворачивается по-другому. Наступает страшный голодный год. Митрошка сопровождает большой обоз с хлебом, закупленным его хозяином. И, видя вымирающую от голода деревню, детей, которым осталось несколько дней жизни, не выдерживает, раздает весь хлеб мужикам. Митрошка знает, что он идет на полное свое жизненное крушение, обрекает на голодную смерть мать. Но нравственный порыв Митрошки естествен, он вытекает из сознания неразрывности своей судьбы с судьбой народа. Герой рубакинского рассказа сполна получил то, что ему причиталось за его нравственный подвиг. Он сидит в тюрьме, выгнана на улицу его мать. Но Рубакин пишет и о том, как народ награждает такую живую душу, как трогательно заботятся крестьяне о матери героя рассказа, о той великой любви и великом уважении, каким окружено в деревнях имя Митрошки. Но если в рассказе "Митрошкино жертвоприношение" звучат некие толстовские нотки, этакое народническое умиление перед "благородством народной души", то совсем иную тональность имеет рассказ Рубакина "Взыскующие града", отмеченный всей критиком, как произведение, в котором выведены совершенно новые для русской действительности типы. Рубакин дал ему подзаголовок "Из наблюдений над русским читателем" и всячески подчеркивал достоверность, фактографичность описываемого. Вагон третьего класса, в котором едет автор рассказа, полон пассажирами, наглядно представляющими средние и низшие классы русского общества. Там сидят мордастые купцы, перемежающие рассказы "о божественном" деловыми разговорами. Сидят мрачные, жующие обыватели, с наслаждением обменивающиеся последними новостями о чудесах, о ведьмах, о распутных бабах. Есть там и изображающие интеллигенцию две барышни — "трясогузки", которые "неустанно вертясь и подпрыгивая на своей вертикальной оси", отворачиваясь от "необразованной публики", непрерывно трещат о душках-тенорах — о Фигнере, о Яковлеве. И сидят в этом же ноевом ковчеге, напротив всех "нечистых", двое, в которых Рубакин увидел единственно "чистых" людей тогдашней действительности. Это фабричные парни — люди, интеллигентные по самой своей сути, по взглядам, по устремлениям. Они добились знаний самоучками, им все дала книга, она превратила заводских рабов в людей с сознанием своего достоинства, людей нравственно и интеллектуально полноценных. Новыми героями Рубакин не просто любуется так, как он любовался Митрошкой, несколько умиляясь. Автор весь охвачен огромной радостью, которую он не может сдержать. Ведь перед ним люди, в появление которых он верил, появлению которых он содействовал своим неустанным трудом! И когда Рубакин пишет: "Я уже не чувствовал себя словно в душной и тесной тюрьме, где ни действовать, ни жить нет возможности…" — он передает ощущения человека, встретившегося с радостным будущим. Да, появились на Руси новые люди, люди-бойцы, сознающие свою силу и знающие, как ее употребить. Когда-то либеральные интеллигенты и народники любили свои статьи и речи кончать многозначительными словами: "На святой Руси петухи поют, скоро будет день на святой Руси". Рубакин кончает рассказ словами из другого стихотворения, другой песни: "Будет буря, мы поспорим и поборемся мы с ней!" Вспомним время, когда Рубакин выступил с рассказами и очерками о деревне. Это были годы, когда рассеялись все либеральные надежды, что новый царь сделает какие-нибудь шаги для демократизации русской жизни, для того чтобы хоть сколько-нибудь вытащить крестьянство из вековой трясины голода, нищеты, рабской забитости. Русские писатели, от великих до малых, в своих книгах изображали весь ужас "кретинизма деревенской жизни". Перед русским читателем проходили вереницы людей, до такой степени измордованных, искалеченных страшной жизнью, что ничего человеческого в них уже и не оставалось. Деревня вымирала физически и духовно, и жизнь давала каждодневно новые и убедительные доказательства этого. И вдруг нашелся человек, который, рассказывая о деревне, увидел в ней не только забитых рабов. Рубакин писал об увиденном в современной деревне с бодростью, с радостью. Он увидел ростки нового человека, он преисполнился верой в этих новых людей. И автор этих рассказов всячески подчеркивал, что его рассказы "не художественные", что это правда, невыдуманная правда, увиденная им в жизни! В рассказе или очерке — трудно, да и не надо искать жанровое определение для него — "Искорки" Рубакин рисует новый для литературы образ "деревенского интеллигента". Это не учитель, не фельдшер — это самый настоящий крестьянин, но крестьянин, самостоятельно дошедший до понимания необходимости учения и чтения книг. И книги дали ему то, в чем отказывала ему мерзкая российская действительность: они дали ему сознание своего человеческого достоинства, понимание устройства общества и его несправедливости, вооружили уверенностью, что он и его товарищи найдут дорогу к новой, настоящей жизни. Деревенская молодежь, которую изображает в рассказе Рубакин, ничем не похожа на деревенское "быдло", на смиренных мужичков. Это люди красивые душевно и физически, люди, рвущиеся к знаниям и верящие, что овладеют ими. Наблюдая за тем, как ветер разносит по округе снопы искр, вылетающих из высокой трубы фабрики, мимо которой проезжает автор, Рубакин размышляет о том, что есть люди-искорки, такие, как его ямщик Ефим. Он пишет: "Мне казалось, что они то гаснут, то загораются вновь, что одна искорка в геометрической прогрессии порождает десятки и сотни новых, и все они несутся и летят как бы стремясь охватить сколь возможно большее пространство… И в этом движении было что-то величественно роковое, что-то стихийно непобедимое, — непобедимое по своей непреоборимой логике, неизбежное, как естественный ход вещей". Конечно, следует учесть, что оптимизм Рубакина питался не только увиденным и — может быть — даже не столько увиденным, сколько фанатической верой в силу печатного слова, в его непреоборимость. Но Рубакин ничего и не выдумывал, — те люди, появление которых в деревне он возвещал с великой радостью, были им действительно увидены. Именно они, эти новые люди, самоучки, упорные в стремлении к знанию, стали впоследствии заметной политической силой в деревне. Они руководили аграрным движением в революцию 1905 года, они были корреспондентами большевистской "Правды" в годы нового революционного подъема, они потом, после Великой Октябрьской революции, возглавили большевистские волкомы и укомы, были активными борцами за Советскую власть и культурную революцию в деревне. Рубакин не был фотографом, которому безразлично, что снимать. Как и все, что он писал, его рассказы глубоко тенденциозны, они написаны не для того, чтобы передать спокойные и объективные наблюдения, а — прежде всего — чтобы высказать идеи. Страстно, убежденно, высказать с такой силой, которая не могла не воздействовать на читателей. Вот таким, без преувеличения, программным произведением был для Рубакина его известный рассказ "Книгоноша".
"КНИГОНОША"

В этом рассказе — весь Рубакин! Не только его убеждения, его идеи, но и его характер, темперамент. Недаром он начинается с размышления автора о ненавистной ему пословице: "Всякому овощу свое время". Рубакин пишет: "Мало таких пословиц, от которых пахло бы столь возмутительной мертвечиной, как от этой. Во всяком случае, к ней у меня долго сохранялось какое-то органическое отвращение еще с юных лет жизни". Спокойный, примиряющийся с действительностью вывод этой пословицы противостоял неистовому, активному характеру Рубакина. Не ждать, когда незыблемые законы истории преподнесут тебе, как на блюдечке, свободу, образование, ликвидацию неравенства, а страстно вмешиваться в исторический процесс, содействовать ему — вот убеждения автора рассказа, с большой силой выраженные им в образе героя — деревенского "книгоноши" Морозова. Два человека противостоят друг другу в этом рассказе. Это не только разные человеческие характеры, но и разные социальные позиции, разные политические взгляды, разные цели. Один из этих людей — студенческий приятель рассказчика Гарусов. Человек, который проделал весьма типическую и банальную эволюцию, став из пылкого и "свободомыслящего" студента земским начальником. Правда, он не звероподобный помещичий зубр, способный в пылу гнева "почистить зубы" своим неразумным подопечным… Нет, это вялый, либеральствующий человек, убежденный, что если он говорит крестьянам "вы" и не сечет их — он вносит в российскую действительность великие либеральные идеи, которые сам исповедует. Он, в общем, положительно относится к тому, чтобы деревня училась, чтобы мужики читали книги, он даже готов защитить деревенского книгоношу от придирок полиции и духовенства, усматривающих в деятельности Морозова нечто подозрительное и противозаконное. Но при всем своем "либерализме" земский начальник с университетским значком совершенно не переносит Морозова. Как сам признается Гарусов, ему Морозов не только не по душе, ему просто нехорошо от того, что он называет "кипением" Морозова. А тот, действительно, — кипит… В герое "Книгоноши" получил дальнейшее развитие и углубление образ того нового человека из низов, рабочего, ставшего интеллигентом, которого Рубакин вывел в "Искорках". Морозов — самоучка. Он нигде не учился, поэтому не очень грамотно пишет. Но он намного интеллигентнее самоуверенного и кичливого Гарусова. Морозов ищет в книгах близкие ему идеи и распространяет их в народе. У этого странного офени нет среди "книжного товара" ни сонников, ни оракулов, ни житий святых, ни патриотических книжонок. На его лотке лежат книги, изданные Сытиным, Поповой, Павленковым. Когда у него просят книгу "о геройском", он не дает книжечку "Как солдат царя Петра спас", а уговаривает купить "Спартака" Джованьоли. А когда покупатель просит у него "что-нибудь о войне", то Морозов вынимает из-под лотка знаменитую книгу пацифистки Берты Зутнер "Долой оружие"… Морозов не только продавец — он еще и талантливый пропагандист книги. Время, свободное от торговли, он употребляет на то, чтобы рассказывать крестьянам, — прежде всего молодежи — о значении книги в жизни человека, об идеях, заложенных в книгах и дающих оружие тем, кого держат под спудом угнетения и невежества.
 Первый вариант рассказа "Книгоноша". Автограф.
Первый вариант рассказа "Книгоноша". Автограф.
В Морозове всех окружающих поражает и подчиняет эта его необыкновенная вера в силу знания, в силу идей, содержащихся в печатном слове. "С книгой не совладаешь! Она сильнее тебя!" — не говорит, а кричит книгоноша спорящему с ним городскому интеллигенту… Убежденность в силу слова связана у Морозова с его верой в могущество человеческого интеллекта, в достоинство человека, способного найти истину и сделать ее своим оружием в борьбе за свободу. Перевертывая современную ему терминологию, он считает "темными" людьми ту цензовую интеллигенцию, которая своими знаниями служит правительству, служит темному делу угнетения людей. А себя, своих друзей — сельских учителей, крестьян-самоучек он считает "светлыми", по-настоящему просвещенными. В этой наивной гордости Морозова нет и тени самолюбования, тщеславия, это вытекает из выношенного, выстраданного им понимания того, что такое "светлое" и "темное" в окружающей его действительности. Морозов при всей своей неистовой приверженности к книге вовсе не фетишизирует ее. Он убежден, что книга без человека, ее продвигающего, пропагандирующего, разъясняющего, не имеет никакой силы. Он говорит: "Книгу надобно подтолкнуть к человеку — сама она мертвая — не ползет. Книга, что бочка с порохом: тогда только и действует, когда вспыхивает и из букв печатных и слов делаются мысли и понимание". Герой рубакинского рассказа — фигура, нарисованная необыкновенно отчетливо, это характер, выраженный ярко и сильно — со всеми его сложными сторонами. В Морозове причудливо сочетается непримиримость с умением обходить "подводные камни", встречающиеся у него на пути; бескорыстие с купеческим практицизмом; щедрость со скупостью. Нетрудно увидеть в этом образе самого автора "Книгоноши" — со всеми его достоинствами и недостатками, с сильными и слабыми сторонами этой замечательной личности. Размышления "лирического героя" рассказа открывают нам "тайное — тайных" Рубакина — его отношение к тому, что значит книга для человека: "Слабые делаются сильными; они не только находят себе опору — они начинают защищаться. И разве оружие защиты не может сделаться оружием нападения?" В этой посылке — весь Рубакин, все его убеждения, итог всех его размышлений, вся его жизнь, все его будущее…
 Обложка книги Н. Рубакина "Книгоноша".
Обложка книги Н. Рубакина "Книгоноша".
В "Книгоноше" герой терпит поражение в борьбе с многочисленными врагами: урядниками, попами, всевозможными представителями полицейского государства. Ему запрещают заниматься продажей книг. Но Морозов уходит из рассказа непобежденным. Все книги, все состояние, в них вложенное, он раздает людям, раздает бесплатно — ведь ему запретили торговать книгами, но ему не могут запретить их раздавать. Мы расстаемся с Морозовым в драматический момент его жизни. Но читатель остается в убеждении, что сокрушить книгоношу Морозова — невозможно, что он все равно встанет на ноги, все равно будет заниматься любимым делом, что нет такой силы, которая могла бы его заставить отказаться от убеждений! И люди, которых он вынужден покинуть, будут уже другие. Они навсегда запомнят книгоношу и его любимую сказку о "книге Глубины", в которой заключена сила, дающая свободу, книге, которую хозяева — богатые, чиновники, духовенство всячески прячут от народа. В "Книгоноше", "Искорках", "Взыскующих града" очень примечательно вот еще что: эти рассказы написал человек, который по своим политическим симпатиям и связям был близок к народникам, а не к марксистам, к эсерам, а не к социал-демократам. Однако нигде — ни в одном своем рассказе, очерке, научно-популярной книге — Рубакин не считает главной революционной и прогрессивной силой в России крестьянство, нигде он не отводит пролетариату только вспомогательную роль. Напротив, во всех книгах Рубакина именно пролетариат выступает самым главным, самым передовым революционным классом, именно в нем видит Рубакин будущее России. В "Искорках" все новое, бодрое, жизнеутверждающее, что появилось в деревне — пришло от заводских рабочих. Это они вдохнули в деревенскую молодежь веру в будущее, они научили парней и девушек читать Некрасова, читать книги, бороться за свое будущее. И биография героя "Книгоноши" Морозова — это не биография деревенского правдолюбца, испытанного героя народнических рассказов. Морозов — человек, выварившийся в заводском котле, проделавший путь, типичный для рядового революционного рабочего. Мальчишкой поступил на завод, был чернорабочим, овладел самоучкой грамотой, приобрел квалификацию. Стал на заводе кочегаром, машинистом, механиком. Завел знакомства с "хорошими" людьми и от них узнал о том, как надобно бороться с несправедливым устройством жизни. Два раза "совершил путешествие на родину" — то есть высылался по этапу. Выгонялся с работы, был безработным, потом попал в аварию, лишился пальцев на правой руке и вынужден был уйти с завода. Как мы видим, политические связи Рубакина оказались слабее, нежели его стремление к жизненной правде, и так было на протяжении всей его долгой литературной жизни. И недаром впоследствии в книге "Практика самообразования" Рубакин, говоря о значении единства для трудящихся, нашел для этого не затертые слова из народнических кладовых, а совсем другие — подлинно великие слова. Он писал: "недаром и девизом пролетариата всех стран земного шара без различия государства, племен и рас уже давно стали слова Маркса и Энгельса — "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"
В ИЗДАТЕЛЬСТВАХ

До сих пор мы еще не в достаточном объеме представляем себе значение Рубакина для демократизации русского книгоиздательского дела, для огромного перелома, происшедшего в нем в конце прошлого — начале нашего века. Реформа и либеральная оттепель шестидесятых годов вызвали в России огромный рост новых издательств. Среди них были такие, которые засыпали книжный рынок переводами модных европейских романов, были и более культурные, и прогрессивные издатели, выпускавшие сочинения русских классиков, лучшие произведения западноевропейских мыслителей. Но и те и другие ориентировались на интеллигенцию, на учащуюся молодежь. С многомиллионной массой русского народа — с рабочими, с мужиками — издатели как с читателями не считались. Народ был отгорожен от литературы китайской стеной поголовной неграмотности, зоркого контроля властей, духовенства, "опеки" помещиков над своими вчерашними крепостными. Эту стену одолевали лишь ловкие офени — книгоноши, распространявшие и пресловутого "Милорда-глупого", о котором презрительно писал Некрасов, и ура-патриотические книжечки, писанные отставными генералами, и всякую дребедень "духовно-нравственного содержания". Издатели могли рассчитывать лишь на крошечные, убогие библиотечки школ. Но за ними был неослабный контроль чиновников из министерства народного просвещения. Очень немногие книги научного содержания разрешалось включать в каталоги школьных и народных библиотек. Надо было обладать поистине неимоверной рубакинской настойчивостью, энергией и оптимизмом, чтобы убедить некоторых наиболее прогрессивных русских издателей, что издание книг для народа не только возможно, но и перспективно. И что не следует безнадежно относиться к тем препятствиям, которые воздвигли власти на пути книги к народному читателю. В "Опыте программы исследования литературы для народа" Рубакин дал план массового издания мировоззренческих книг, развивающих прогрессивные социальные и политические идеи. В воспоминаниях об известном прогрессивном издателе Ф. Ф. Павленкове, напечатанных впервые в 1964 году, в сборнике, посвященном 400-летию русского книгопечатания, Рубакин излагает идеи, положенные им в основу планов издания книг для народа. "Я воочию увидел, что… простого "распространения хороших книг среди читателей" уже недостаточно, — необходимо распространять их так, чтобы ими революционизировались и знания, и понимание, и настроения читательские. Многолетняя работа в библиотеке моей матери и общение с рабочими и крестьянами на фабрике в достаточной степени научили меня, как делать это при каких угодно полицейских препятствиях: прежде всего не следует придавать решающее значение "содержанию" книги, — надо принимать в расчет прежде всего ее действие на читателей. А это действие всегда можно сделать революционизирующим, даже при помощи хотя бы и самой дозволенной книги и официально изданной. Для этого стоит лишь присмотреться к читателю, нащупать в нем ту точку чувства, эмоций и инстинкта, в которой сосредоточены его страдания от той или иной неурядицы существующего строя, и выбрать, предложить, подсунуть этому читателю как раз такую книгу, которая эту-то точку и разбередит и вместе с тем покажет, что излишне нелепые, но болезненные страдания причиняются тут самим строем жизни, а не чем иным". Это план весьма активный и наступательный. Не просто издать "хорошую" книгу, а издавать эти книги тенденциозно, подбирая книги со скрытым "подтекстом". Подбирать и готовить людей, для которых эти книги будут средством активной революционизации народа. Не просто выбрать книгу, а "предложить", даже "подсунуть". С такими издательскими планами обращаться можно было далеко не ко всякому. В тех же воспоминаниях Рубакин пишет, как он, не зная лично знаменитого издателя Павленкова, пошел к нему и начисто выложил ему свои сокровенные планы издательской и библиотечной реформы. Наверное, было что-то располагающее в этом молодом человеке, не очень связно, но горячо и убежденно высказывающем такие радикальные мысли. Известный суровым нравом, старый шестидесятник сразу же почувствовал в Рубакине единомышленника. Он дал ему свои издания, помог сделать рубакинскую библиотеку полнее и богаче. Павленков внимательно присматривался к деятельности молодого просветителя, его сочувствие и помощь быстро сделали имя Рубакину не только в журналистике и библиотечном деле, но и в издательском. По рекомендации Павленкова Рубакин в 1894 году становится во главе издательства О. Н. Поповой и быстро превращает его в одно из крупнейших, выпуская книги мировоззренческого характера. Рубакин издавал сочинения Ч. Дарвина, Элизе Реклю, Э. Тейлора, им была издана "Культурно-историческая библиотека", посвященная истории революции в Англии, Франции, Германии. Не только содержание этих книг настораживало цензоров, но и то обстоятельство, что их внешний вид, оформление, цена свидетельствовали, что они предназначаются отнюдь не для городской интеллигенции, а для людей попроще, живущих на обширной периферии Российской империи. Через несколько лет, в поисках еще более демократического массового издательства, Рубакин перешел на работу к Сытину. Это был умный и ловкий издатель, уверенно делавший ставку на "народную" литературу — дешевую, многотиражную. Большой распространительский аппарат, привлечение к распространению книг старых офеней, кредит, щедро предоставляемый библиотекам и школам, помогли Сытину перевалить за стену, отделявшую провинцию от столичных издательств. И когда Рубакин предложил ему план широкого издания книг для народа, Сытин его принял. Конечно, Сытин не был таким идейным издателем, как Павленков, и меньше всего руководствовался идеями Рубакина. Но он понимал, какие огромные перспективы таятся в плане Рубакина насытить провинциальный книжный рынок миллионами общедоступных книг, которые будет рекомендовать и продвигать целая армия энтузиастов — учителей, библиотекарей, студентов. Он согласился предоставить Рубакину полную самостоятельность, даже пошел на то, чтобы в его издательстве существовал особый "Отдел Н. А. Рубакина". Два года (1897–1899) проработал Рубакин у Сытина. Конечно, невозможно было рассчитывать на то, что огромное издательство пойдет на риск выпуска книг только заведомо малоцензурных, подозрительных по своему содержанию, ставящих под угрозу большое коммерческое дело. Среди сотен названий, выпускаемых "отделом Рубакина", было много сочинений вполне либеральных и приемлемых даже для самой строгой цензуры. Но Рубакину удавалось протаскивать и книги, содержащие изложение марксистского учения, книги, полные гнева по адресу всякой тирании, книги, хотя и цензурные, но с радикальным политическим подтекстом. И среди них большое место занимали книги самого руководителя отдела сытинского издательства. Ясное представление о таких книгах дает содержание двух книг Рубакина, вышедших у Сытина в конце прошлого века. Одна из них "Из мира науки и истории мысли" является сборником популярных научных очерков. В них не было ни одного, который мог бы вызвать формальные придирки цензуры. Это рассказы о загадках "поющих песков" пустыни, "говорящих статуй" древности, это очерк о том, как "устроено" куриное яйцо и как развивается в нем зародыш, это объяснение загадок птичьих перелетов, миграций животных и птиц, это очерки по астрономии… Словом, в этой книге было почти все, что можно было найти в учебниках, разрешенных и рекомендованных для всех учебных заведений. Но как же они отличались от учебников! И не содержанием, нет, другим — тем трудно уловимым для цензуры качеством, которое Рубакин называл "тоном" книги. Книга Рубакина — страстное выступление в защиту свободы человеческой мысли. Это рассказы о стремлении человеческого ума проникнуть в тайны, окружающие его, добиться точной, беспристрастной, ничем не опровержимой истины и распространить эту истину среди людей. В предисловии к этой книге автор пишет: "Тайна мира и история мысли связана тесными и неразрывными узами, освященными и закрепленными кровью мучеников — мучеников науки и свободной мысли". Как и почти все научно-популярные книги Рубакина, "Из мира науки и истории мысли" — это книга о человеке, о могуществе его ума, о преодолении им всех препон, чинимых церковью, властями, их наемными и добровольными слугами. Такой же подтекст содержится и в другой книге Рубакина — "Вечная слава". Эта "Историческая хроника XVI века" рассказывает о борьбе нидерландцев с кровавым владычеством испанцев. Конечно, это совсем не походило на популярный исторический рассказ о событиях столь далеких, что даже чуткая цензура министерства народного просвещения разрешала о них упоминать во всех учебниках. Книга Рубакина — вдохновенная повесть о том, что никакая сила тирании не может устоять перед волей людей к свободе и свету, о том, что лучше смерть, нежели муки рабства. В "Вечной славе" Рубакин проводит еще одну очень важную для него мысль. Речь идет о месте науки и ученого в жизни человеческого общества. Герой повести, великий ученый, поглощен поисками такой математической истины, которая перевернет и изменит знание людей о мире. Старый человек, чья жизнь клонится к закату, он почитает свои занятия столь важными, что даже не участвует в той кровавой борьбе не на жизнь, а на смерть, которую ведут жители его родного города против испанцев. Гибнут от голода старики, женщины, дети, еще немного — и враги ворвутся в город… Только старый ученый может спасти всех, указав место и способ взорвать плотины, чтобы хлынувшее море разметало врагов. Но ученый готов пожертвовать жизнью горожан, жизнью сына — лишь бы закончить работу. И только поняв, что гибель города означает и гибель всех его многолетних усилий, старик идет на выполнение гражданского долга и гибнет в бою с сознанием, что место ученого среди своих сограждан. "Ученым можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, — такая перефраза знаменитых некрасовских слов звучит в книге Рубакина. Большинство популярных книг Рубакина — это книги-притчи, книги-басни. Как в любой классической басне, в них идет повествование, полное таких исторических и бытовых подробностей, которые всем известны и по началу не могут вызвать никаких опасений. И только к концу идет высказанный, или же невысказанный, но вполне и без этого понятный вывод о том, ради чего была написана книга. Но как бы ни был осторожен Рубакин, работать долго в издательстве Сытина он не мог. Цензура окружила зловредный "рубакинский отдел" таким неусыпным вниманием, такими придирками, что не могли помочь ни обильно раздаваемые Сытиным взятки, ни связи хитрого издателя с видными сановниками. В 1900 году, после ареста цензурой перевода знаменитой вольнолюбивой книги Гра "Марсельцы", Рубакину пришлось уйти из издательства Сытина. Он перешел в другое — в "Издатель". Но в издательстве Сытина Рубакин свое дело сделал. Он доказал, что выпуск книг для народа, книг не лубочных, не "базарных", а настоящих — умных, честных — дело не только прогрессивное и благородное, но и выгодное. Рубакин открыл перед издателями неисчерпаемый книжный рынок. Он показал, что если стремиться к подлинному образованию народа, если выпускать книги, вооружающие людей знаниями, то эти новые читатели не пожалеют отдать последнюю копейку за хорошую, нужную им книгу. И тогда за Сытиным, за Ф. Павленковым потянулись и другие издатели. Они поняли, что на книгах о природе, об устройстве человеческого общества, по истории, можно больше заработать, нежели на "Бове-королевиче", "Разбойнике Чуркине", "Атамане Буря". Перестраивает работу издатель П. Сойкин, начавший выпускать хорошие научно-популярные книги. Даже такой издатель, как В. Губинский, известный тем, что выпускал знаменитую книгу Е. Молоховец "Подарок молодым хозяйкам", десятки лубочных и полулубочных книг, — стал тянуться за Сытиным, за Павленковым и Сойкиным. Вслед за столичными издательствами начинают пробовать выпускать научно-популярные книги для народа и некоторые провинциальные издательства. Рубакину были свойственны не только неутомимая энергия и редкая работоспособность, — он был убежден, что человеческая воля, настойчивость могут пробить любую стену! Ему не один раз посчастливилось на собственном опыте убеждаться в оправданности своего оптимизма.
ГЛАВНОЕ ЗВЕНО

Как бы ни была заметной и значительной деятельность Рубакина в книжных издательствах, главным делом для него продолжала оставаться библиотека, ставшая лабораторией по изучению читателя. В ней он, как алхимик, искавший "философский камень", стремился найти рецепт перестройки жизни народа, освобождения его от социальной несправедливости. Библиотека Рубакина на Большой Подьячевской улице была учреждением необычным, мало схожим с либерально-культуртрегерскими библиотеками и кружками. Недаром постоянными посетителями ее были Н. К. Крупская, Е. Д. Стасова, 3. П. Невзорова, сестры Менжинские. Библиотека Рубакина стала базой для тех самых воскресных рабочих школ, которые дали революционному рабочему движению первых рабочих-пропагандистов, первых рабочих марксистов. Само существование этих школ, подвергавшихся постоянным преследованиям полиции, — было подвигом многих самоотверженных, героических девушек. Отсюда начался их путь в революционное движение, в тюрьмы и ссылки. Для этих школ, история которых, к сожалению, еще не написана, Рубакин подбирал учебные пособия, прогрессивную научную литературу, а иногда и нелегальные издания. Для рабочих вечерних и воскресных школ он вместе с Еленой Дмитриевной Стасовой организовал первый в России "Музей наглядных пособий" — откуда на прокат давались в школы ценнейшие пособия, начиная от географических и геологических карт и кончая лабораторным оборудованием. Мало кто знал, что в этом музее некоторые коллекции лишайников, камней, любовно изготовленные гербарии и многое другое — сделаны руками Веры Фигнер, Михаила Фроленко, Ашенбреннера и других ветеранов народовольничества, осужденных к пожизненному заключению в Шлиссельбурге. "Музей наглядных пособий" сумел добиться передачи заказа на пособия узникам Шлиссельбургской крепости. В воспоминаниях Фигнер, Новорусского и других революционеров, которым удалось выйти на волю, рассказывается, как облегчила жизнь узников их работа для рубакинского музея. Работавшие в музее Е. Д. Стасова, А. М. Коллонтай, М. И. Страхова распространяли пособия среди рабочих школ Шлиссельбургского и Нарвского трактов. Естественно, что рубакинская библиотека стала местом явок для революционеров, местом, откуда расходилась по окраинам Питера всякого рода нелегальщина. Конечно, все это делалось с ведома владельца библиотеки, а иногда при его активном участии. Рубакин и сам писал иногда листовку, распространял нелегальное издание, выполнял рискованное конспиративное поручение. В одном из набросков автобиографии Рубакин вспоминает свое участие в отчаянной попытке организовать бегство из Петербурга народоволки Софьи Гинзбург. И все же Рубакин не был революционером и не стал им, как не стал он и обычным просветителем, действующим "в рамках существующего строя". Именно в этот период жизни складывается в нем убеждение, что он нашел то самое звено, ухватившись за которое можно разорвать цепи социальной несправедливости, сковывавшие русский народ. Ход мысли Рубакина был неукоснительно прям, выводы — как и всякие умозрительные выводы — непреложны. Неравенство в образовании — важнейшее орудие в руках господствующих классов. Оно поддерживается всей силой полицейского государства, могучим аппаратом церковного мракобесия, деятельностью тех образованных людей, которые пошли на службу к реакционерам. Надо пробить этот железный заслон и сделать — вопреки официальной системе образования — знания доступными всему народу. Нужны миллионы популярных книг, в которых знания предстанут такими, что приобщиться к ним сможет каждый. Тысячи всем доступных библиотек, целая армия энтузиастов — добровольцев, которые смело и уверенностанут направлять чтение миллионов людей. План — великий, вдохновенный и… очень наивный. Его автор считал, что способен создать из разобщенных, забитых людей великую революционную силу, способную сломить существующий социальный и политический строй. Нет особой надобности доказывать всю утопичность этого плана, противопоставлять ему тот единственный путь, который был выбран революционными марксистами и привел к Октябрю 1917 года. История — судья строгий, приговоры ее — окончательные и не подлежат апелляции. Нам надлежит лишь рассмотреть драматическую историю того, как человек большого ума и пламенного сердца шел по пути, на котором он сделал так много хорошего, но который привел его на вершину Кларанского холма и сделал его не участником, а больше наблюдателем тех великих преобразований, к каким он стремился всю жизнь. Произошло это не только в силу утопичности рубакинских идей, но и конкретных обстоятельств его судьбы. Особенностью Рубакина-просветителя, популяризатора, библиографа было то, что он никогда не был чистым "книжником". Любая книга рассматривалась им в ее тесной взаимосвязи с читателем. Она была для него интересна и значительна лишь тогда, когда она читалась, делала полезную работу. Под этим углом зрения он рассматривал все те сотни тысяч книг, которые переворошил на своем долгом веку. Выводы его были резки и неутешительны. Подавляющее большинство книг — прогрессивных, полезных, написанных с лучшими намерениями — недоступны и малопонятны народу. Они создаются в полном неведении нужд народа, его духовных запросов, языка. Интеллигенция, создающая духовные ценности, не знает широкого читателя, не ориентируется на него и делает очень мало для приобщения простых людей к знаниям, к культуре. Эти выводы были Рубакиным развиты в его книге "Этюды о русской читающей публике", вышедшей в 1895 году и вызвавшей целую бурю откликов. Основываясь на широкой и умело составленной статистике, автор книги с таким нейтральным названием развернул перед читателями картину ужасающей духовной нищеты, сознательной изоляции народа от прогресса знаний, оторванности интеллигенции от народа. Это был подлинный обвинительный акт, в котором нелицеприятными свидетелями выступали люди самых разных категорий: рабочие, крестьяне, учителя, врачи, даже священники и либеральствующие земцы. Рубакин спокойным тоном прокурора цитирует показания этих десятков и сотен людей, приводит выдержки из официальной статистики, из опубликованных отчетов министерства народного просвещения. Само оглавление "Этюдов" уже дает представление о масштабности вопросов, исследуемых Рубакиным: "Богаты ли мы книгами?" "Как распространяются книги?" "Состав читающей публики". "Много ли читателей на Руси?" "Что читают?" "Любимые авторы". "Читатель из народа". "Интеллигенция из народа". "Читатели из фабричных рабочих". В 1891 году на одного жителя России приходилось лишь по 1 экземпляру периодических изданий. На каждого гражданина Российской империи приходилось в год по 0,16 книжки. Количество книжных лавок в России не растет, а убывает. В 1885 году их в 50 русских губерниях было 1544, а через два года, в 1887 году, — только 1271… Да и в этих лавках продают, главным образом, продукцию до того духовно убогую, что неизвестно: печалиться ли закрытию книжных лавок, или же радоваться. Московские издатели Никольского рынка — всякие там Земские и Леухины — заваливают рынок такими книгами, как "Пан Твардовский", "Разбойник Чуркин", "Бездны удовольствий для молодых людей, любящих повеселиться", "Настольная книга для холостых". Даже в столичных книжных лавках полки забиты такими книгами, как "Серапион Владимирский", "Митрополит Евгений", "Монеты царствования Александра II-го"… Глохнут, влачат самое жалкое существование провинциальные библиотеки, некогда бывшие важными очагами образования. В них установлена высокая плата за пользование книгами. Даже в такой, прежде демократической библиотеке, как харьковская, за пользование 5 книгами в месяц надо платить 1 руб. 10 коп. — плата, совершенно недоступная для бедняков, для рабочих. Об уровне людей, работающих в этих платных библиотеках, красочно говорит факт, приводимый Рубакиным. В вятской библиотеке, той самой, что была организована еще Герценом, когда он находился в вятской ссылке, заказали в книжной лавке произведения "молодого писателя" В. Г. Короленко. Книготорговец по ошибке вместо книг Владимира Короленко прислал книги безвестного и бездарного Лавра Короленко. И библиотекари, нисколько не сомневаясь, что это именно тот "молодой писатель", которого требуют читатели, переплели его книги и пустили в обращение. Библиотекари совершенно не стараются продвинуть к читателю книги современных писателей. По официальной статистике, в губернских и уездных библиотеках больше всего читают Густава Эмара, Понсон дю Террайля, Габорио, Поль де Кока, Дюма. А из отечественной литературы наибольшим спросом пользуются исторические, полу-бульварные и просто бульварные романы графа Салиаса, Вл. Соловьева, лихие романисты Вас. Немирович-Данченко, Бор. Маркевич, В. Крестовский, мещанские тягучие романы Шеллера-Михайлова… Многие воспоминания о девяностых годах прошлого века отмечают огромное впечатление, произведенное "Этюдами о русской читающей публике". В русской журналистике появился новый острый публицист, совершенно по-новому повернувший вопрос о месте и значении книги в жизни русского народа. Надо ли удивляться, что в этом "ученом исследовании" власти быстро усмотрели опасную направленность. Да они и не обманывались в значении даже таких внешне безобидных сочинений Рубакина, какими были его первые научно-популярные книги: "Дедушка время", "Рассказы о великих и грозных явлениях природы", "Рассказы о подвигах человеческого ума". В этих абсолютно легальных книгах содержалась самая отъявленная нелегальщина! Она была в подборе примеров, в том, что автор никогда не упускал случая показать, как правящие классы расправляются с трудящимися, в стремлении подорвать влияние церкви и начальства на умы читателей. Собственно говоря, сам Рубакин не очень и старался скрыть эту тенденциозность. Свою книгу "Вечная слава", рассказывающую о борьбе Нидерландов за независимость и свободу, Рубакин посвятил памяти Марии Федосеевны Ветровой. Гибель молодой революционерки, курсистки Ветровой, которая не вынесла преследований, оскорблений и в знак протеста в начале 1897 года сожгла себя в тюремной камере, — вызвала бурю негодования среди учащейся молодежи. Посвящение книги погибшей революционерке переполнило чашу терпения полиции. Ей нужен был только повод, чтобы расправиться с дерзким литератором и изгнать его из столицы. Этот повод был дан властям участием Рубакина в протестах против избиения студенческой молодежи. 1 марта 1901 года на площади у Казанского собора полиция и казаки устроили очередное зверское избиение студентов. Петербургские литераторы публично и письменно протестовали против избиений, против массовых исключений студентов из университета и сдачи их в солдаты. В этом протесте литераторов принял активное участие и Рубакин. Немедленно после этого Рубакин был арестован и на два года выслан из столицы под "гласный надзор полиции". Местом ссылки была определена маленькая, глухая татарская деревушка в Крыму вблизи Алушты.
НЕ НА СВОЕЙ УЛИЦЕ

Странная это была ссылка. В ней не было обычной для ссылки "политической колонии", не было политических споров, столкновений мнений, атмосферы политической борьбы. Скука, отрыв от привычного общения с читателями и многочисленными своими помощниками, тоска по книгам. А Россия рядом, газеты приходят из Питера через несколько дней, почта засыпает Рубакина письмами. Россия кипит, в городах и деревнях все сильнее и увереннее развивается революционное движение. Может быть, действительно надо перестать быть книжным червяком, забыть о книгах и их читателях, не с книгой, а с оружием кинуться на борьбу с жандармско-полицейским правительством? Ведь как-то жалко выглядит копание в книгах рядом с самоотверженными поступками людей, отдающих революции свои молодые годы, а то и жизнь… И пример такого самопожертвования здесь, рядом… В той же деревушке, под таким же "гласным надзором" жила Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская. Имя человека, которого эсеры в 1917 году гордо прозвали "бабушкой русской революции", теперешнему поколению совершенно незнакомо. А после Февральской революции Брешко-Брешковская получила бесславную известность по ее поддержке шовинистического разгула, борьбе с большевиками в период Октября и позже — по резко враждебной нам деятельности в рядах белой эмиграции. Но нужно знать, что значило имя Брешко-Брешковской для восторженно-революционной молодежи начала века. К моменту встречи с Рубакиным Брешко-Брешковская не была еще "бабушкой", но уже была известна как один из ветеранов народнического движения. Позади было двенадцать лет страшной каторги и ссылки, многочисленные аресты, зверские избиения. Ореол мученичества и непримиримости окружал эту рано поседевшую, изможденную женщину. Она была живым укором рубакинской тихой и спокойной жизни: сидению в библиотеке, перелистыванию статистических справочников, неторопливой переписке с читателями. Надо полагать, что для Брешко-Брешковской было очень важно завербовать в только что созданную эсеровскую партию видного литератора. Ей это удалось. Полный воодушевлением неофита, Рубакин со всей своей энергией и редкой трудоспособностью окунулся в политическую деятельность. Для нового члена партии эсеров она носила исключительно литературный характер и, по сути дела, являлась частью его популяризаторской деятельности. Никогда Рубакин не пускался в полемику с социал-демократами, отстаивая тот путь политического террора и радикальной фразы, который исповедовали В. Чернов, Г. Гоц, Е. Брешко-Брешковская и другие столпы мелкобуржуазной партии эсеров. Десятки революционных брошюр, написанных Рубакиным и широко распространенных в годы первой русской революции, — примечательны. Они совершенно не напоминали обычную эсеровскую литературу, полную трескучих фраз, риторического пафоса. Они очень "рубакинские". Каким бы псевдонимом ни подписывал их автор — ни у кого не было сомнения в том, кто их написал. В этих брошюрах Рубакин широко использовал сложившееся у него представление о том, какой должна быть популярная книга для народа. Название должно быть простым и выражать самую суть книжки. И своим брошюрам Рубакин давал названия "Долой полицию!", "Правда о бедствиях простого народа", "Хватит ли на всех земли?", "Куда идут русские денежки"… Предельно простой и всем понятный язык. Отсутствие иностранных слов и малопонятных терминов. Никакой риторики — спокойный и деловой рассказ. Доказательность. Таковы литературные средства Рубакина-публициста. Многие прогрессивные ученые и талантливые популяризаторы, такие, например, как Тимирязев, не раз высказывали отвращение к "народной" литературе, к популярным брошюркам, в которых авторы их, приспосабливаясь к читателю, придумывали свой якобы народный язык, упрощали сложное, вульгаризировали великие истины. Немало и эсеровских листовок и брошюр было написано тем же ерническим псевдонародным языком, каким писались в недрах жандармских отделений листовки, адресованные "Черной сотне". В языке и стиле всех этих столь разных сочинений выражалось незнание народа, неуважение к нему. Отличительной чертой Рубакина-просветителя и популяризатора было уважение к читателю. Всякую истину надо доказать! — таково было первое и главное рубакинское правило. Вот почему в революционных брошюрах Рубакина такое большое место занимают цифры. Не просто ругать помещиков, а серьезно, опираясь на официальную статистику, показать и доказать, что класс помещиков ограбил и продолжает грабить крестьянство. Не выдумывать бранные клички похлеще, чтобы обругать сановную бюрократию, а посчитать, во сколько обходится народу содержание банды плутократов, кто из них сколько захапал народных денег, когда, каким образом. Известная статья Рубакина "Треповская партия в цифрах" внешне походила на труд статистика. Но агитационное воздействие этой статьи было огромно, она получила широчайшее распространение.
 Обложка книги Н. Рубакина "Архив государственной мудрости…"
Обложка книги Н. Рубакина "Архив государственной мудрости…"
Таким же был и другой памфлет Рубакина о царском Государственном Совете. В нем автор скрупулезно подсчитывает, сколько, в течение какого времени получают сановники, имеющие и без того сотни тысяч десятин земли и многомиллионные состояния, арендные, пенсионные, наградные, орденские, заседательские, подъемные, прогонные, столовые, квартирные, фуражные… Он пересчитывает, сколько эти Долгорукие, Менгдены, Саблеры, Оболенские, Арсеньевы, Икскули за время нахождения на государственной службе приобрели земли: где, сколько на свое имя, сколько на имя жены. Факты следуют за фактами: генерал Половцев имеет 7 тысяч десятин и берет у казны еще 10 тысяч десятин; граф Игнатьев, имеющий 128 тысяч десятин, закладывает как "нуждающийся" 18 тысяч десятин и получает за них 4 миллиона рублей. Содержание только лишь 28 сановников — все названы по фамилиям! — обходится каждый год в один миллион рублей. А в деревнях от голода умирают крестьяне. Сколько нужно, чтобы эти люди остались живы? Только 1 рубль 40 копеек в месяц. Двадцать восемь старцев, обвешанных орденами и заседающих несколько раз в год в Государственном совете, забирают из казны такую сумму денег, какая нужна, чтобы спасти от голодной смерти 625 000 человек! Никаких лишних слов, никаких восклицательных знаков, только факты, цифры, подсчет. И вырастает потрясающая картина организованного разбоя, казнокрадства, бесстыдного и бессовестного лихоимства. Насколько революционные книги Рубакина были далеко не эсеровскими, видно из того, что в Крым к Рубакину приезжал такой видный социал-демократ, как Л. Б. Красин, и вел с ним переговоры об издании его революционных памфлетов социал-демократическими организациями. Рубакин передал Красину рукописи некоторых своих брошюр: "Правда о бедствиях простого народа", "Долой полицию!" и другие. Много лет подряд революционные брошюры Рубакина были одними из самых распространенных в России. Одна из них "Хватит ли на всех земли?" за шесть лет — с 1904 по 1910 — выдержала 51 издание и разошлась в количестве более полумиллиона экземпляров. Условия, в которых жил Рубакин перед революцией 1905 года, во время нее и после ее разгрома, казалось, мало должны были способствовать литературной работе. Но именно тогда было написано Рубакиным большинство его публицистических произведений. Из крымской ссылки его отправляют под полицейский надзор в Новгород. В 1904 году Плеве отдает приказ выслать Рубакина из России "навсегда". Но через несколько месяцев бомба Егора Сазонова разрывает автора этого приказа, и Рубакину удалось вернуться в Россию. Бесконечные переезды, лихорадочная суета, явочные квартиры, ночные разговоры с цекистами, боевиками, беглецами из ссылки… И все равно — на уголке обеденного стола, в поезде, в перерывах между бесконечными заседаниями и дискуссиями Рубакин пишет, пишет, — статьи, брошюры, рассказы, повести. В дело идет все — секретные сведения, доставаемые из неведомых источников, рассказы много видевших людей, собственные наблюдения. Вот только то, что совсем недавно было главным для Рубакина — книга, воздействие ее на читателя, — это оставлено, вытеснено другим. Об этом этапе своей жизни Рубакин впоследствии не очень любил вспоминать. Легко понять почему. Случилось так, что революция обернулась к Рубакину эсеровщиной. Конечно, среди многих сотен тех революционеров, с которыми общался Рубакин, было много честных и искренних людей, поражавших его воображение готовностью к самопожертвованию, фанатичной верой в то, что бомбы и пистолеты откроют народу дорогу к новой и светлой жизни. Но еще больше было дешевой риторики, политиканов и златоустов, заговорщических сановников. И среди них самая таинственная, всеми укрываемая фигура, высокий человек с рыхлым и бесстрастным лицом — Азеф, агент охранки, сумевший стать руководителем "Боевой организации" эсеров… Да, подытоживая свою попытку непосредственно включиться в революционную деятельность, Рубакин, как герой знаменитой пьесы Горького, мог убедиться, что он "не на той улице жил". Многократные заявления Рубакина, после того как он в 1909 году вышел из партии эсеров, о своей "непартийности", его отвращение к тому, что он называл "полемикой", — было следствием его длительного общения с теми, кто исповедовал пресловутую народническую теорию "героев и толпы". А ведь именно "толпа", а не "герои" всегда притягивали политические и литературные симпатии Рубакина. Надо ли удивляться тому, что после революции 1905 года он с новой силой обратился к книге. В этом возвращении Рубакина к главному делу своей жизни не было и тени отступничества от революции.
ПРОРОК САМООБРАЗОВАНИЯ

В основе этого убеждения, — а с ним Рубакин прожил всю жизнь! — лежало фанатическое по своему упорству уважение к человеку. К его воле, возможностям его ума. Те, кто кадетствующим профессорам представлялись безликой и аморфной массой, готовой в любой момент прорвать зыбкую корку цивилизации в России, — для Рубакина были надеждой и украшением родной страны, с ними он связывал будущее русской культуры. Он различал в них конкретных и живых людей — с разными вкусами, характерами, склонностями, запросами. Он считал, что книги пишутся настоящими писателями не для людей вообще, не для безликого и абстрактного читателя, а вот для этих — самых разных, непохожих друг на друга людей. Еще в конце прошлого века, в предисловии к "Этюдам о русской читающей публике", Рубакин писал: "История литературы не есть только история писателей и их произведений, несущих в общество те или иные идеи, но и история читателей этих произведений". В книге "Как заниматься самообразованием" Рубакин рассказывает притчу о двух рабочих. Один пылкий и эмоциональный, другой спокойный и рассудительный. Оба попросили у библиотекаря книгу про небесные светила. Библиотекарь дал первому книгу Ньюкомба, сдержанную, доказательную, снабженную множеством таблиц и рисунков. Второму — книгу Фламмариона, глубоко поэтическую по своему настроению. Через некоторое время оба читателя с разочарованием вернули в библиотеку эти книги, не дочитав их до конца, и попросили другие, поинтереснее. Но стоило библиотекарю дать Фламмариона первому читателю, а Ньюкомба — второму, как оба они получили величайшее удовлетворение от прочитанных книг. Очень рано у Рубакина сложилось то убеждение в существовании разных "читательских типов", которое в будущем легло в основу придуманной им науки "библиопсихологии". Надо сказать, что его выводы не были ни в какой степени умозрительными. Они были сделаны в результате многолетнего изучения тех, кого Рубакин, по старой интеллигентской терминологии, именовал "читательской публикой". Невозможно сколько-нибудь точно подсчитать и учесть число людей, опрошенных Рубакиным и его многочисленными добровольными помощниками, количество писем, разосланных и полученных ими. В годы, когда Рубакин жил в России, он общался с колоссальным количеством людей, которых рассматривал, прежде всего, как читателей. Это были самые разные люди: крестьяне, рабочие, мастеровые, приказчики. Рубакин видел страшные социальные условия, в которые они были поставлены. Тяжкий иссушающий труд, постоянная забота о хлебе для семьи, малограмотность или полное отсутствие образования. Но Рубакин видел также, как настоятельно требовали для себя пищи ум и чувства этих людей. "Народ не ждет, когда ему дадут грамотность. Он сам берет ее", — писал Рубакин на основании анализа даже казенной статистики. И отсюда он делает вывод: народное образование в России "в силу основных особенностей строя заменяется самообразованием". При этом Рубакин вовсе не считал, что самообразование — пусть и вынужденное — является лишь суррогатом образования. Напротив, он пользовался каждым удобным случаем, чтобы подчеркнуть, что всякое настоящее образование добывается только путем самообразования. Многочисленные работы Рубакина по вопросам самообразования представляют первостепенный интерес не только для биографа писателя, но и для биографа эпохи. Книги Рубакина меньше всего напоминают свод методических указаний, рассудительных советов и "рекомендательных списков". Рубакин, которого иногда выспренне называли "апостолом книги", всегда настойчиво подчеркивал, что самое главное в самообразовании — подходить к нему не со стороны книги, а со стороны конкретных условий жизни человека, того, что он даже не боялся называть "обыденщиной". Он писал: "Нашу помощь делу самообразования мы строим не на рекомендации книг, а на борьбе со всякого рода страданиями личности человеческой". В переписке с тысячами людей, жаждущих овладеть знаниями, он постоянно подчеркивал: "Только тогда я могу сказать о себе самом, что я действительно обладаю знаниями, когда я это знание сумел применить к жизни, к делу, понимая это применение в широком смысле слова". Книги Рубакина о самообразовании — совершенно особые, не только по мыслям в них выраженным, но и по происхождению, по структуре. Они созданы на базе многолетней и огромной переписки с читателями. Я имею в виду не тех знаменитых ученых и политиков, которые обильно пользовались рубакинской библиотекой (и чьи письма представляют очень большой интерес), а письма рабочих и крестьян, с которыми Рубакин находился в самой тесной связи. Книга Рубакина "Практика самообразования" недаром имеет подзаголовок "Среди книг и читателей". И она начинается словами: "Перед нами лежит большая пачка писем — более семи тысяч писем, полученных пишущим эти строки за 1912–1913 годы из самых разнообразных уголков Российской земли. Есть письма, пришедшие из Благовещенска, из Тифлиса, с Онеги, с Волги, Днепра, из Севастополя… В 1912 году бывали дни, когда приходило по 86 писем в день…" Конечно, огромная переписка Рубакина с читателями в его книгах отражена в самой малой степени. Но и то, что напечатано, потрясает неистовостью политического и человеческого оптимизма, способного разрушить уныние, тоску, неуверенность человека, захлебывающегося в трясине обывательщины. В одной из книг Рубакин страстно пишет: "Только бы души живые перестали твердить о себе самих: мы мертвые, мертвые… Неправда! Хотелось бы нам крикнуть всем таким замерзшим: вы живые, ведь вы же страдаете!.. Ищите выхода, все ищите! Еще ищите и еще!" Когда некоторые читатели-самоучки писали ему о том, что они тупые, неспособные, что они не могут понять книг, Рубакин возмущался… Нет, удивительно! Он не понял книгу и считает себя в этом повинным. Себя, а не автора книги! Себя, а не человека, давшего ему эту книгу! И Рубакин не раз заявлял, что не верит в неспособность любого человека к знаниям, к культуре. Он сражался за каждого, стремившегося к образованию, и не жалел никаких усилий, чтобы ему помочь. А как он радовался каждому проявлению ума, таланта в человеке из народа! Как гордился он людьми, с боя взявшими образование, добившимися — несмотря ни на что — знаний и культуры! Для Рубакина русский народ был огромной кладовой талантов. Он жил с ощущением того, что в далеких затерянных деревнях живут нераскрывшиеся Ломоносовы и Менделеевы; с очередной сменой спускаются в шахту люди с гениальным даром поэта; через проходные ворота заводов и фабрик ежедневно идут работать на эксплуататоров люди с блестящими способностями инженеров… Когда Рубакин в письме безвестного корреспондента усматривал хоть маленькую искру литературного таланта, он не жалел никаких усилий, чтобы заставить этого человека заняться литературной деятельностью. И к Рубакину одаренные люди из народа обращались легко, без унизительного стыда за малограмотность, без боязни, что они встретят равнодушную снисходительность. Маргарита Владимировна Ямщикова, которая получила огромную известность как "Ал. Алтаев", автор исторических повестей, оставила после себя интересные и значительные воспоминания. В них она пишет о Рубакине: "Этот крупный талант, часто воевавший с цензурой, был лозунгом для писателей, работавших для народа. К нему совершались, в буквальном смысле, паломничества начинающих литераторов и студентов". Не один русский писатель, вышедший из народных низов, испытал на себе, на своей литературной судьбе влияние, дружескую помощь и заботу Николая Александровича Рубакина. В 1924 году, вспоминая в письме к Рубакину свою многолетнюю дружбу с ним, А. С. Новиков-Прибой писал: "На Ваших научно-популярных книгах я, как самоучка, воспитывался. Они заменяли для меня школу. Я руководствовался Вашими указаниями, что читать и как читать. Они были для меня профессорской головой… Вы встретили меня, начинающего в литературе, с доброй улыбкой, по-отечески обласкали, окрылили…" В архиве Рубакина сохранилось 74 письма к нему от писателя А. А. Демидова. Мало кто сейчас помнит произведения этого писателя. Но фигура эта была очень интересная и колоритная. Малограмотный крестьянин, он был одним из тех, в ком призывы Рубакина к самообразованию вызвали самый страстный отклик. Из их переписки видно, как настойчиво, тактично направлял Рубакин первые шаги в литературе одаренного самоучки; как толкал он Демидова к тому, чтобы тот постоянно учился, читал русских классиков, знакомился с политической литературой. Первые произведения: "Жизнь Ивана", "На шахте", "Два вора" — А. Демидов посылал Рубакину и не решался их печатать без одобрения человека, которого он считал своим духовным руководителем. Эта тесная связь начинающих литераторов из народа с Рубакиным кажется тем более удивительной, что Рубакин жил за границей и в Россию не приезжал. Но адрес его был широко известен, и поток писем к нему был неиссякаем. Рубакин не только оценивал и правил первые произведения литераторов-самоучек, но еще и принимал самое активное участие в издании этих произведений. Писал знакомым издателям, обращался с просьбами к редакторам крупных журналов, пускал в ход все свои связи, весь свой авторитет. Когда поэт из народа С. Фомин попробовал издать книжку стихов "Песни радости и печали" — немного нашлось издателей, желавших напечатать эти грубоватые, искренние стихи, живые картины страшной и безрадостной жизни рабочих. Только вмешательство Рубакина помогло С. Фомину. В 1914 году книга его с предисловием Н. Рубакина вышла в свет. Столь же оживленной была переписка Рубакина с писателями-самоучками из крестьян С. И. Семеновым, Ф. Н. Желтовым, М. И. Ожеговым. Но, конечно, влияние Рубакина на рост народной интеллигенции не ограничивалось кругом начинающих литераторов-самоучек. Рубакинские идеи самообразования проникали в самые далекие уголки России, они захватывали настоящие толщи народных масс. В двадцатых годах Рубакин в письме к библиографу Н. В. Чехову говорил, что им было написано 115 тысяч писем. Это были его ответы на письма людей, откликнувшихся на призыв Рубакина самостоятельно овладевать знаниями и культурой. Но за этими десятками тысяч рубакинских корреспондентов стояли еще многие другие тысячи людей. Рабочий И. С. Забелин из Нижнего Новгорода пишет ему в 1912 году: "Ваше письмо, которое Вы прислали мне, так меня обрадовало, столько влило в меня надежды, что я просто не найду слов, чтобы передать Вам… Скажу только, что письмо Ваше заинтересовало и тех моих товарищей по работе, которые доселе не обращали на книгу ни малейшего внимания"… Сила Рубакина, как практика и организатора самообразования, заключалась и в его умении заражать энтузиазмом сотни и тысячи добровольцев-помощников. Ведь добрую половину переписки Рубакина составили письма тех врачей, фельдшеров, учителей, студентов, курсисток, которые были организаторами общественных библиотек, вечерних школ и курсов. А при невозможности создать легальную библиотеку — организовывали ее у себя на дому, распространяли книги, давали консультации, вербовали все новых и новых читателей. В одном из "Писем о самообразовании" Рубакин приводит строки Гейне:
РУБАКИНСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Библиография — наука, начавшаяся не с Рубакина и на нем не кончившаяся. В мировой и русской библиографии, задолго до Рубакина, существовали классические труды, ценнейшие пособия. Но то что делал Рубакин, не имело предшественников, было делом совершенно новым как по целям, так и по средствам. В своей библиографической деятельности Рубакин задался целью установить и классифицировать "читательские типы", представить себе конкретного, живого читателя со всем богатством и сложностями его человеческих особенностей. И каждому такому читателю помочь найти те самые "пять тысяч страниц в год", которые превратят его в полноценного, образованного человека, способного противостоять страшной машине классового угнетения и успешно с ней бороться. Именно для этого необходимо изучить и установить "типы книг". А после этого — научно, обязательно научно! — докопаться до таинства воздействия книги на читателя, раскрыть механизм его, установить закономерности. Еще ни один библиограф так не описывал книги, как Рубакин, исходивший не только из их содержания, но и формы — языка, стиля и даже тона. Да, для Рубакина имело совсем немаловажное значение такое обстоятельство, как тон авторской речи. Он прослушивал в нем все оттенки: меланхолические, угрюмые, иронические, полемические. Рубакина интересовали не только композиция книги, но и темп изложения: ровный, ускоренный, переменчивый. Подобно живым людям, книги обладают неповторимой индивидуальностью, имеют свои психологические особенности. Как и люди, книги по своему характеру бывают интеллектуальными, эмоциональными, волевыми. Как и люди, они могут быть вялые, беспечные, сонные, инертные, в них может быть избыток эмоциональности или рассудочности. Как и создавшие их люди, каждая книга — член общества, она социальна, ей присущи определенные политические симпатии и антипатии. Рубакин считает, что книга рождена не только психической работой писателя, но и всем укладом социальной и политической жизни общества, в котором эта книга появилась. И каждой книге свойственны особенности, сказывающиеся на идеях книги, ее композиции, языке, даже внешности. О любителях книжного искусства написано много прелестных воспоминаний, даже целые книги. Мы знаем людей, с любовью собиравших прижизненные издания, редкие экземпляры книг уцелевших, несмотря на преследования и уничтожения. Нам понятны волнения такого книжника перед уникальным переплетом, красивой гравюрой, редкостным оформлением. Ничего этого не существовало для Рубакина. Когда он держал в руках книгу, когда он обозревал свои огромные книжные сокровища — он видел в книгах совершенно другое, классифицировал их так, как не пришло бы в голову никакому любителю книг. Он видел на своих полках книги-пролетарии и книги-дворяне, онразличал среди них разночинцев, помещиков, купцов, книги-сельчане и книги-горожане. Среди книг были общественные борцы и были презираемые им ничтожества, книги-ученые и книги-невежды. Словом, как писал Рубакин, "даже в значительной степени независимо от своего содержания, а лишь формою своего изложения, каждая книга имеет, так сказать, свою душу или душонку, и это не что иное, как отпечаток психики того или тех, кто породил ее". Несмотря на любовь к строгой классификации явлений, Рубакин понимал трудность, а иногда и невозможность этого, когда речь шла о книге. Поражает, насколько просто и предельно доступно писал Рубакин научно-популярные книги, настолько же усложнены и набиты научной терминологией его теоретические труды. Но однажды в речи, произнесенной им в 1913 году на съезде по женскому образованию, у него — вдруг — сквозь завесу психологических терминов прорвалось человечески ясное и сильное объяснение своих убеждений: "Когда через ваши руки проходят десятки тысяч книг, ваш глаз, да и не только глаз, а и душа ваша начинает как-то сама собой различать, что есть психические типы и в книжном царстве. Книжная работа затягивает и втягивает. В ее круговороте образы, типы книг делаются все ярче, индивидуальней, а образы читателей — объективируются, тоже превращаясь в типы. И есть что-то мощное, да и жуткое в этих полчищах идей, воплотившихся в книгах перед лицом людей… Сама жизнь раскрывает тысячами фактов родство типов книг с типами читателей. Это особый мир, мир тех и других, и никакие общие слова и фразы не в силах передать, что он такое, если вы сами не жили среди книг и не рылись в них много-много лет". Для некоторых книг у Рубакина было беспощадное определение — "мебель"! Рубакин убеждал писателей, издателей, библиотекарей: "Книга превращается в нуль, в мебель, книга гибнет, когда она отскакивает от читательской головы. Но та же книга пускает ростки, когда она находит свою почву в человеческой душе и когда ее содержание вступает в психическое соединение, аналогичное с химическим, с душою читателя, а такое соединение бывает наиболее крепким… когда книга определенного типа находит себе читателя того же типа, то есть когда оба говорят на одном и том же языке". Приступая к своему труду, Рубакин должен был просеять огромное количество книг, не просто выбрать лучшее, а выбрать их по совершенно иному принципу, нежели тот, которым руководствовались библиографы до него. "Среди книг" — это не свод аннотаций лучших книг, а попытка дать для миллионов читателей "Круг чтения" — руководство для чтения. Он хотел взять читателя за руку и вести его от близкого к далекому, от конкретного к абстрактному, от фактов к идеям. Замысел — грандиозный! И силы для этого требовались колоссальные. Рубакин понимал, что ему одному этого дела не поднять. Он привлекал к работе множество людей, он пытался получить нужные для книги сведения не от посредников, а из первых рук — от крупнейших ученых, публицистов, литераторов, политиков. В. И. Ленина он просил написать обзор о большевизме, а Мартова о меньшевизме. Конечно, в этом проявилась не столько та "объективность", о которой мечтал Рубакин, сколько его эклектизм, за который его справедливо упрекал Ленин. Г. В. Плеханов, с которым Рубакин много советовался, подготавливая очередные тома "Среди книг", высоко оценивал значение работы Рубакина. Тем не менее он часто критиковал эклектическую "объективность" рубакинских оценок тех или иных явлений в русской литературе и общественной жизни. В одном из писем Плеханов писал Рубакину: "Я иначе представил бы ход развития русской общественной мысли, чем он представлен на этой странице. Вы вообще иначе смотрите на него, нежели я". И дальше Плеханов ядовито указывает: "Вы нередко цитируете Иванова-Разумника, чего я никогда не сделал бы". А надо сказать, что Иванов-Разумник — автор толстых и тягучих работ по истории русской общественной мысли — был не очень даровитым эпигоном позднего народничества и среди эсеров почитался, как продолжатель Н. Михайловского. Никто из настоящих исследователей русской литературы к нему серьезно не относился, и упоминание о нем Плехановым означало недвусмысленный намек на то, что, порвав с партией эсеров, Рубакин все еще не освободился от влияния народничества.
 Обложка книги Н. Рубакина "Среди книг".
Обложка книги Н. Рубакина "Среди книг".
Столь же решительно Плеханов спорил с Рубакиным и по некоторым другим оценкам общественных течений в России. Он писал: "Я решительно не могу признать Л. Толстого представителем передовой общественной мысли. Сказать "царство божие внутри нас", значит покинуть общественную точку зрения и перейти на точку зрения теологии и религии". Оспаривая оценку роли анархизма в революционном движении, Плеханов писал Рубакину: "Неправильно смотреть на анархизм, как на левое крыло в современном социалистическом движении. Анархизм противоположен социализму и уже поэтому не мог бы быть ни правее, ни левее его". Самый факт обращения Рубакина к Ленину и Плеханову, его внимательное отношение к их замечаниям и советам показывает, что Рубакин стремился сделать все тома своего путеводителя по книжному морю идейно передовыми. Не все ему удавалось, в этих томах можно найти немало досадных ошибок и идейной путаницы. Но в целом Рубакин создал труд, который имел огромное значение для ряда поколений русской "читающей публики". В этом значении не обманывался никто — ни друзья, ни враги. В. Розанов — наиболее талантливый представитель реакционной журналистики — в статье откровенно выразил отношение к работе Рубакина. Он писал: "Много забот правительству дают эти социал-библиографы: Гернфельд, Венгеров и Рубакин. Все они хитры, как Талейраны: пишут библиографию — не придерешься… Ни для Петропавловской, ни для Шлиссельбургской крепости библиография недосягаема… Достаньте вы, хоть двенадцатидюймовой пушкой, Рубакина, когда он пишет просто "Среди книг". Просто, очень невинно и для усиления невинности посвящает книгу своей мамаше Лидии Терентьевне Рубакиной. Книга Рубакина будет ходка, да она уже и сейчас пошла, как "Крестный календарь" Гатцука. Каталог с толкованием подчиняет себе неодолимо библиотекаря, становясь ему другом и светящейся свечой. Кто же заметит, что в сущности "свеча" Рубакина сжигает все библиотеки, что она не "Среди книг", а против книг, за брошюрки, за листки. Вот все эти Киреевские, Аксаковы, Рачинские парили в воздухе, махали крылышками; к ним подполз незаметно червячок, всего только Рубакин, послушный своей мамаше, и испортил им все блюдо". Другой представитель крайней русской реакции — бесноватый черносотенец Пуришкевич выразил свои чувства к Рубакину еще более прямолинейно. Выступая с трибуны Государственной думы, он вопил: "Рубакин является одним из самых опасных, самых дерзких посягателей на народную душу… Его девиз, его лозунг — "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Открыто, совершенно открыто в народную школу идут книги Рубакина!.. Если вы примете во внимание, что последняя книга г. Рубакина "Практика самообразования" в таком количестве расходится, что Сытин, ее издавший, не успевает ее посылать в магазины Петербурга, то вы можете себе представить, как разлагает это произведение душу… Это страшно еще и потому, что аудитория Рубакина громадна!" Против идей и практики Рубакина выступил объединенный фронт — от Пуришкевича и Розанова до классных дам из академической библиографии, негодующих против нарушения Рубакиным канонов, установленных библиографической наукой. Несмотря на все различие между погромщиками и либеральными интеллигентами, и те и другие усматривали главную опасность Рубакина не в том, что он отвергал одни книги и рекомендовал другие, а в том, что Рубакин пытался соединить нужного читателя с нужной книгой — больше того — с нужным автором. И наиболее законченной работой Рубакина в этом смысле была, конечно, "Среди книг". Все двадцать две тысячи книг, о которых рассказывается в "Круге чтения" Рубакина, снабжены условными обозначениями: звездочками, цифрами. Ключом к ним являются большие таблицы, придававшие "Среди книг" совершенно своеобразный характер. Рубакинские таблицы были рассчитаны на то, чтобы каждый читатель смог найти себе книгу, руководствуясь не только темой, но и своей подготовкой, склонностями, вкусом. Рубакин подразделяет книги на "конкретные" и "абстрактные". Первые из них он, в свою очередь, делит на такие, в которых факты более или менее ярко описываются, или же такие, в которых факты только перечисляются; на книги, где факты преобладают над рассуждениями, и книги, где рассуждения преобладают над фактами. При характеристике каждой книги Рубакин обязательно указывает: "с настроением" она или же "без настроения". И, не довольствуясь этим, выделяет книги "не чуждые пессимизму" и книги "активного, волевого типа". Больше полувека прошло с тех пор, как была сделана эта удивительная попытка втиснуть все огромное разнообразие книг, носящих черты их создателей, в стройную и универсальную таблицу. Можно, конечно, критиковать ее автора за неточность этой классификации, за субъективность оценок и прочие многие грехи. Но не в этом суть — она в страстном стремлении увидеть читателя, именно читателя, увидеть его через книгу! С этого, собственно, и начинается та полоса жизни Рубакина, которая привела его в запутанные дебри "библиологической психологии". Ей он отдал двадцать лет напряженного труда — почти столько же, сколько потратил Эйнштейн на попытку создать "единую теорию поля".
БИБЛИОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Что это за наука? Сам Рубакин ее характеризовал довольно общо и туманно. "Библиопсихология есть наука о социальном и психологическом воздействии книги", — писал он. "Психологическом" — в свою науку Рубакин втискивал биологию, физиологию, рефлексологию. "Социальном" — Рубакин упрямо подыскивал в социологии, экономике, политике факты и примеры, которые могли бы доказать, что книги в состоянии через читателя формировать самую жизнь. Рубакин любил вспоминать легенду об Антее. Он не уставал писать и говорить о необходимости для ученого, для писателя и публициста находиться в постоянной и неразрывной связи с народом. В этом, по убеждению Рубакина, состоит главное условие того, чтобы делать нужное людям дело. Как и многое другое, Рубакин доказал правильность этого требования на собственном опыте. В тупики "библиологической психологии" Рубакин забрел именно в тот самый период, когда обстоятельства истории на много лет оторвали его от непосредственного контакта с русскими читателями. Это случилось тогда, когда первая мировая война, а затем годы гражданской войны и блокады Советской России напрочь изолировали Рубакина от его Родины. Лишенный возможности любимой живой работы, Рубакин делает попытку обобщить многолетние наблюдения над книгой и читателем в единую и универсальную науку. Он носится с мыслями о создании некоего международного института, который стал бы центром этой новой науки. К нему слетаются многие буржуазные психологи, желающие найти подтверждение своим абстрактным и идеалистическим теориям в практике такого выдающегося знатока читателя, каким слыл во всем мире Рубакин. Странное, часто жалкое и в то же время трогательное впечатление оставляют работы Рубакина этого периода. По-прежнему в них имеется много зоркого, подмеченного в жизни, по-прежнему в них есть мудрые мысли, основанные на многолетнем общении с читателями из народа. Но они тонут в пучине сложных, наукообразных формул, понятий и терминов, которые можно было истолковать и так, что они вступали в вопиющее противоречие с тем, что всегда говорил Рубакин. Ведь во всех работах Рубакин утверждал примат жизни над книгой! А из некоторых положений "библиологической психологии" вытекало, что "читательские типы" складываются не в результате социальных условий, а скорее обусловлены физиологическими особенностями. Что не жизнь, не социальные условия, не политические идеи рождают книги, а сами книги начинают через читателей командовать жизнью. "Библиологические" работы Рубакина пересыпаны рассуждениями о "мнеме" — понятии, введенном западноевропейским биологом и психологом Рихардом Семоном. Мнема, филогенезис, энграмма, экфории — чего только нет в этих попытках создать "свою", новую науку!.. Но не следует и полностью перечеркивать всю деятельность Рубакина в этот нелегкий для него, скорее драматический этап жизни. Крайности часто заводили его в тупики, но он и никогда не жалел усилий, чтобы из них выбраться. В этой эмульсии ценных наблюдений и наивных выводов, по-настоящему новаторских идей и старомодно-идеалистических представлений было много полезного и нужного, выношенного всей большой и трудной жизнью Рубакина. Но было и много уязвимых мест. И этим в полной мере воспользовались люди, которые любят искать "уязвимые" места. Тем более, что наступило время, когда для таких любителей открылись широчайшие возможности… И вот тогда-то появились в журналах многочисленные статьи, рецензии, выступления, в которых на старого русского просветителя и популяризатора напяливался чуть ли не мундир царского пристава или белого атамана. "Рубакинщина — смертельный враг марксистско-ленинского мировоззрения"; "Деятельность Рубакина — это непримиримая и длительная полемика с теорией и практикой коммунистического воспитания масс, с пропагандой коммунизма"; книги Рубакина — "руководство для деятельности, объективно направленной к разоружению пролетариата и к притуплению его классовой бдительности"; они выступают "в самой худшей форме против диктатуры пролетариата, против уже строющегося социализма"… Эти цитаты далеко не исчерпывают всех страшных обвинений против Рубакина. Так полагали и некоторые авторы статей, которые заканчивали их словами: "далеко не все стороны ру-бакинщины были разоблачены советской критикой". Речь идет, конечно, не о том, что работы Рубакина не подлежали критике. Но критики Рубакина, состоявшие в духовном родстве с рапповцами в литературе, начисто перечеркивали все наследие Рубакина. Они отрицали какую бы то ни было оригинальность просветительских взглядов Рубакина и заявляли, что он всего-навсего мелкий либерал, обслуживавший меркантильные интересы крупных книгоиздателей. Они вырывали Рубакина из русской общественной мысли и передавали его в лоно идеалистической европейской философии. Они клеветнически заявляли, что деятельность Рубакина по организации в России библиотечного дела носила реакционный характер и была на руку врагам революции. Впрочем, в эту же категорию "врагов" попали многие другие выдающиеся организаторы русских библиотек. "Критики" требовали полной и безоговорочной расправы над всем тем, что составляло содержание жизни Рубакина. Можно только (содрогнувшись!) представить себе лицо Рубакина, когда он читал все это. Нет возможности и какой бы то ни было надобности в полемике с авторами этих статей. Ведь их отличительной особенностью являлась самая циничная демагогия и полное отсутствие какой-либо доказательности. Конечно, если подвергнуть то, что писал Рубакин в связи с "библиопсихологией", всем видам анализа, включая спектральный, то без труда можно в них найти следы философии Канта, теории западного психолога Уэтсона, влияние многих других авторов, которых Рубакин изучал, в старании подвести "теоретическую базу" под свои многолетние наблюдения и размышления о самообразовании. Но есть ли сейчас в этом надобность? Даже из того немногого, что мы рассказали об идейном формировании и прошлом Рубакина, видно, как он путался в вопросах теории. Да в этом качестве никто никогда его всерьез и не принимал. Не этими туманными размышлениями вокруг настоящего и большого дела, которым он занимался, нам интересен и ценен Рубакин. Тем более, что сам он никогда не настаивал на категоричности выдвинутых им "теорий". И сам про себя говорил: "Я не из тех, кто уже нашел истину, а из тех, кто ее ищет и до конца дней будет искать ее". В центре всех размышлений Рубакина находится конкретный, реальный читатель. И это оказывалось сильнее, нежели все теоретические построения, все попытки разложить особенности каждого читателя по клеткам своеобразной "периодической системы элементов" читательской психологии. Когда дело доходило до настоящей, живой библиотечной работы, Рубакин не уставал говорить: "Читателя "вообще", как и книг "вообще", не существует и существовать не может". Для Рубакина читатель — это, прежде всего, понятие социальное. "Интересы заведуют думами", — так неуклюже пересказал Рубакин знаменитую формулу Маркса о том, что бытие определяет сознание. В свое время вызывала яростное возражение мысль Рубакина о том, что "сколько разных читателей, столько и разных содержаний у одной и той же книги". Между тем, как бы ни была внешне парадоксальна эта мысль — она была верной и обоснована практикой библиотечной работы, изучением читателя. Впоследствии, разъясняя эту мысль, Рубакин писал: "В чем же главное значение книжного влияния? Не столько в том, что читатель выносит из книги, сколько в том, что он переживает во время ее чтения". Следовательно, необходимо заботиться не только о том, чтобы создавалась книга, полная мыслей и чувств, но и знать, когда и какому читателю ее рекомендовать. В тридцатые годы критики Рубакина забывали, что именно эти принципы лежали в основе работы огромной армии библиотекарей-энтузиастов, что в той подлинной культурной революции, которая происходила в нашей стране, идеи Рубакина нашли конкретное воплощение и дали обильные и богатые всходы. Изучение читателя, поиски форм такой пропаганды книги, которая одновременно была бы руководством чтением, широко развито именно в нашей стране. В этом заслуга человека, чьи мысли не утратили ценности и в наше время. Увлечение Рубакиным библиологической психологией не мешало ему развивать и углублять содержание библиотечной работы. Рубакин, бесспорно, является одним из создателей теории библиотечного дела. Рубакин был создателем огромных библиотек, служивших бесценной базой для самых разнообразных научных и публицистических трудов. По современной библиотечной терминологии, они были типично "научными", даже "академическими". Но сам Рубакин именно этой стороной библиотечной работы меньше всего интересовался. Ему были близки и важны библиотеки общественные, публичные в самом прямом смысле этого слова. Библиотеки, в которых самый широкий читатель мог бы найти книги для удовлетворения всех своих потребностей. Вопросы комплектования библиотеки Рубакин поставил на почву научную, социальную. Он боролся за то, чтобы в правильно организованной общеобразовательной библиотеке были книги, подходящие для всех главнейших читательских типов, представленных в районе работы каждой данной библиотеки. Мысль о том, что библиотека — это просто-напросто учреждение, где желающим выдают книги, — эта мысль была для Рубакина кощунственной, дикой. В представлении Рубакина, библиотека — это важнейший просветительский центр, глубоко изучающий своего читателя, его самые разносторонние запросы, руководящий чтением большого круга людей. Огромное значение Рубакин придавал библиотечной статистике. В ней он видел действенное средство изучения читательских интересов. И он не ограничивал эту статистику подсчетом книговыдач. Для массовых библиотек Рубакин разрабатывал всевозможнейшие вопросники, анкеты, тесты. Библиотекарь должен знать, видеть, понимать читателя. Он призван умно, тактично, чутко руководить его чтением. Так же как учитель принимает в свой класс неопытного, жаждущего узнать мир ребенка и этот мир перед ним открывает, так и библиотекарь обязан планомерно и неустанно развивать вкус читателя к книге, к знаниям, открывать перед ним всю образовательную, эмоциональную, этическую силу книги. Рубакин настаивал на том, что библиотекарей надо учить, надо их готовить, как готовят учителей, что людям у библиотечного прилавка нужно иметь специальное образование, включая высшее. Рубакин был одним из тех, кто впервые поставил на очень высокий нравственный пьедестал работу библиотекаря. В наших частых, иногда грубоватых, иногда изысканных спорах о книгах мы забываем о сотнях тысяч людей, являющихся проводниками этой книги. В нашей стране сотни тысяч библиотек — в них самоотверженно работают люди, бескорыстно преданные своему делу. Любой, кто хоть сколько-нибудь соприкасался с работниками сельских и районных библиотек, не может не поразиться энтузиазму этих мужчин и женщин, готовых пройти по бездорожью много километров, чтобы достать и доставить "интересную" книгу; в ненастье спешащих прийти в районный центр прослушать обзор книжных новинок, списаться с большой государственной библиотекой, достать своему читателю редкое издание… "Выбирать книгу для своего и чужого чтения — не только наука, но и искусство", — говорил Рубакин. В работу человека, стоящего за библиотечной стойкой, принимающего и выдающего книгу, Рубакин внес элемент Творчества.
РУБАКИН — ПОПУЛЯРИЗАТОР НАУКИ

Литературное наследие Рубакина — популяризатора огромно. 250 книг Рубакина рассказывали о самых разнообразных областях знания — биологии, астрономии, физике, химии, географии, истории… Трудно найти какую-нибудь современную Рубакину науку или область знания, о которой он не писал. Успех его книг у читателя был колоссален. Тираж его изданий до революции превысил 15 миллионов экземпляров. Без обиняков можно сказать, что Рубакин заслужил название народного писателя — по его книгам приобщались к знаниям десятки миллионов людей. Но с книгами Рубакина случилось, казалось бы, самое страшное, что только может случиться с книгами, — они не пережили своего автора. Больше того — автор надолго сам их пережил. Некоторые научно-популярные книги Рубакина переиздавались в двадцатых-тридцатых годах, время от времени и сейчас еще встречаются редкие переиздания этих книг. Но тем не менее непреложным остается факт: после великой культурной революции, происшедшей в нашей стране, научно-популярные книги Рубакина, для которых, казалось бы, исчезли все цензурные и иные препоны, начали терять читателя. Означает ли это, что все многолетние и страстные поиски Рубакиным такого "ключа", который открывал бы для популяризатора сердце и ум читателя, оказались напрасными? И что сам читатель — тот самый, которого Рубакин считал высшим судьей писателя, отверг, как надуманную, всю деятельность Рубакина — теоретика популяризации? Если бы дело обстояло именно таким образом, то нам следовало бы писать о большой трагедии человека и мыслителя. Но в действительности никакой трагедии не было. Напротив, естественная смерть большинства рубакинских научно-популярных книг в советское время столь же закономерна, как и огромный их успех у дореволюционного читателя. И то, и другое подтверждало правоту мыслей Рубакина о том, какой должна быть настоящая научно-популярная книга для массового читателя. Какой же она должна быть? Рубакин об этом сказал предельно коротко и ясно: книга должна быть подходящей для читателя. В одном из обращений к читателям Рубакин раскрыл, какое содержание он вкладывал в это так ненаучно звучащее слово — "подходящей". "Подходящей книгой называется такая, которая в наибольшей степени соответствует всем твоим качествам и свойствам, например, запасу твоих знаний, складу твоего ума, твоим желаниям и стремлениям, вообще всем твоим душевным качествам, интересам и выгодам, также твоей подготовке, уровню твоих знаний, умственному твоему развитию, обстоятельствам твоей жизни". Такая точка зрения на научно-популярную книгу — в отличие от многих других точек зрения Рубакина — не менялась у него на протяжении всей его долгой редакторской и писательской жизни. Он пересматривал, перечитывал тысячи, десятки тысяч научных книг и большинство их отбрасывал как неподходящие. Рубакин не боялся противопоставлять хорошую книгу — книге подходящей. "Одно дело — книга хорошая, книга, удовлетворяющая научным и т. п. требованиям, и совсем другое дело — книга подходящая — подходящая для данного читателя, со всеми его личными особенностями, с его образовательной подготовкой, и к той обстановке, где ему волей-неволей приходится жить". Конечно, тот "писательский зуд", который, как признается Рубакин, проявился у него еще во время отрочества и юношества, сопровождал его всю жизнь. Но не этим зудом вызвана невиданная работоспособность человека, написавшего две с половиной сотни научно-популярных книг. Страсть к писательству Рубакин мог вполне удовлетворить очерками и рассказами, хорошо встреченными критикой. Ведь насколько большой интерес у литературной критики всех направлений вызвали беллетристические произведения Рубакина, настолько же эта критика проявила полное равнодушие и даже пренебрежение к сотням научно-популярных книг писателя. Но для Рубакина это не имело значения. За научно-популярные книги он принялся потому, что среди современных ему литераторов он не нашел никого, кто ставил бы перед собой задачу создания подходящих для народа книг научного содержания. Недаром наибольшая активность Рубакина как популяризатора падает на то время конца прошлого и начала этого века, когда еще не выступили в литературе Лункевич, Нечаев, Перельман, Рюмин, во многом перенявшие у Рубакина его писательскую манеру. Когда в России научная популяризация стала делом многих талантливых литераторов, когда усилиями их и, прежде всего, Рубакина научно-популярные книги стали занимать очень значительное место в русском книгоиздательском деле, Рубакин стал все реже к ним обращаться. Он свое дело сделал. Огромный, ни с чем не сравнимый успех рубакинских книг объяснялся тем, что их автор писал только подходящие книги. В каждой из них, за простотой сюжета, лаконизмом и народностью языка стоял огромный труд, выношенные идеи, изучение читателя, отличное знание не только обстоятельств его жизни, но и уровня, стремлений, интересов, языка. От популяризатора Рубакин требовал, выражаясь языком современной техники, полной синхронизации с запросами и особенностями читателя. И Рубакин блестяще демонстрировал возможность их выполнения. Даже в наше время, когда книжная статистика стала частью государственной статистики, одни лишь цифры не могут дать полного и точного представления о подлинной популярности, читаемости и воздействии книги на читателя. Тем более, невозможно какими-либо цифрами выразить жизнь рубакинских книг. Этому не может помочь и анализ той статистики, которая во многих русских общественных библиотеках была заведена еще до революции. Да и сам Рубакин, который был статистиком по призванию и убеждениям и сделал очень многое, чтобы превратить библиотечную статистику в средство изучения читательских интересов, отрицал ее как единственное мерило того влияния книги на читателя, которое он считал главным критерием ценности книги. Он писал, что "судить по числу выдач о влиянии книги, — это нечто вроде того, как судить по высоте мачты о том, как зовут капитана"… Краеугольным камнем убеждений Рубакина — популяризатора была уверенность, что научно-популярная литература существует не для того, чтобы давать читателю информацию "вообще" — для аттестата, для механического "расширения кругозора". Надо, чтобы читатель искал и находил в научно-популярной книге то, что ему жизненно важно и интересно. Только такую книгу читатель из народа и будет искать, только ради такой он готов будет пойти на необходимые жертвы. Еще тогда, когда Рубакин делал первые просветительские шаги и составлял "Программу изучения народной литературы", он стремился выяснить, какие книги крестьяне и рабочие больше ценят: купленные ли за свои деньги или же полученные бесплатно, выданные в библиотеке… Вопрос был не зряшный! Чтобы человек, чей бюджет был всегда полунищенским, потратил — пусть небольшую сумму — на покупку книги, надо было, чтобы эта книга была для покупателя не средством развлечения, отдыха, занятием в часы досуга. Надо было, чтобы она стала могучей необходимостью! Книги Рубакина не часто, скорее редко попадали в библиотеки. Большинство так называемых массовых и общественных библиотек не были ни массовыми, ни общественными. Они обслуживали, как правило, только интеллигентных и полуинтеллигентных читателей — главным образом городских. За библиотеками земских школ, школ церковно-приходских, городских школ ведомства министерства народного просвещения был установлен жесточайший контроль со стороны чиновников и духовенства. Научно-популярные книги Рубакина туда не допускались. Огромные тиражи рубакинских книг расходились непосредственно среди читателей из народа. Их покупали у книгонош, раскидывавших лотки и короба на престольных ярмарках в тысячах сел и деревень России. Их покупали в первых русских кооперативных лавках, открытых энтузиастами в рабочих поселках. Их выписывали на "свои, кровные" с книжных складов Сытина, Парамонова, Сойкина и других издательств, работавших на массовый, народный книжный рынок.
 Обложка книги Н. Рубакина "Вода на земле, под землей…"
Обложка книги Н. Рубакина "Вода на земле, под землей…"
И каждая рубакинская книга имела не одного — сотни читателей. Они передавались из рук в руки, их читали вслух во время коротких перерывов в горячих цехах, после работы, по вечерам на завалинке у рабочего барака, возле деревенской хаты, ими зачитывались деревенские мальчишки в "ночном", их брали в свою пастушескую сумку пастухи и подпаски. До нас дошли немногие экземпляры рубакинских книг в библиотечных фондах — затрепанные, со страницами, замазанными неотмывающейся угольной пылью и заводской копотью. И почти не сохранились те миллионы книг Рубакина, которые были куплены самими читателями. Их — зачитали… Зачитали буквально. Эти книги распались, их страницы разломались от того, что их сотни, тысячи раз перелистывали, закладывали, снова и снова перечитывали. Да, завидной была читательская судьба научно-популярных книг Рубакина! Но свершение того, к чему стремился Рубакин, чему посвятил он свою деятельность популяризатора — социальное и политическое освобождение трудящихся, — неминуемо влекло за собою умирание рубакинских книг. Изменились не только "обстоятельства жизни" того массового читателя, для которого писал Рубакин. Изменились его интересы, его понятие о "выгоде", изменились уровень знания, умственное развитие. Словом, появился совершенно новый читатель, которого Рубакин не знал и для которого Рубакин не писал и писать не мог. Книги его стали вытесняться другими, более реально отвечающими запросам нового читателя. Жизнь доказала бесспорную правоту популяризаторских взглядов Рубакина — доказала на судьбе его собственных книг. Может показаться странным, что Рубакин с его фанатической верой в самообразование и силу научной популяризации не пытался полемизировать со словами Фарадея о том, что "популярные книги никого научить не могут". Полагаю, что происходило это не от авторитета автора этих слов, в борьбе за свои идеи Рубакин боролся и против больших авторитетов, — а потому, что задачу популяризации Рубакин видел вовсе не в том, чтобы "научить". Именно поэтому в его книгах нельзя обнаружить признаки математического аппарата, некоторые сложнейшие явления он старался объяснить столь просто, что вместе со сложностью явления иногда исчезало существо этого самого явления. На такие потери Рубакин шел совершенно сознательно. Он считал, что научно-популярная книга должна не столько учить, сколько образовывать. Популяризатор выращивает не знания, а мировоззрение. В этом — объяснение того, почему Рубакин, не будучи специалистом по астрономии, физике и многим другим наукам, считал возможным для себя писать о них научно-популярные книги. Больше того, Рубакин, столь приверженный к систематизации, был уверен, что "целесообразнее всего вести популяризацию не по наукам и их системам, а по вопросам, освещая каждый вопрос с возможно большего числа сторон". Ни в одной его книге не присутствует одна наука в чистом виде. Рядом с астрономией соседствует история, в географию врывается геология, о медицине интересно рассказывается в книжке, посвященной вулканической деятельности Земли. Легко себе представить, что почти любая научно-популярная книга Рубакина способна вызвать у ученого рецензента массу недоуменных вопросов, если не прямое возмущение. Мерилом ценности научно-популярной книги Рубакин считал не объем даваемых ею знаний, а ее влияние на читателя. Важно в книге одно — какие мысли она вызовет у читателя, на что подтолкнет! В статье "Как писать научные книги для массового читателя" Рубакин говорил: "Книгу надо писать так, чтобы она с самого начала создавала эмоциональную почву в читателе. На деле же мы видим обратное: сначала писатель сеет, а о почве даже не думает". В своей писательской практике Рубакин стремился прежде всего дать яркое представление о важности, жизненном значении того, что он собирается объяснить читателю. Многие критики Рубакина упрекали его в склонности к эффектам. В его книгах детально рассказывается о гигантских катастрофах, о потоках лавы, сжигающих на своем пути города, о деревнях, провалившихся в пропасти во время землетрясения, о людях, поражаемых ударами молнии. Действительно, почти каждая книга Рубакина начинается детальным рассказом о необыкновенных, часто трагических по последствиям, явлениях природы. В своих советах популяризаторам он писал: "Если популяризатор дает факты, он отнюдь не должен их цитировать; он должен картинно и подробно описывать их, сводя свои описания, если уже не к беллетристике, то к полубеллетристике". Из этого заявления не следует делать вывод, что Рубакин мог поступаться достоверностью ради того, что он (очень неудачно) называл "беллетристикой". Если хоть чем-нибудь будет нарушено ощущение правдивости, точности — все ценное, что содержится в книге, исчезнет. Все необыкновенное, потрясающее, о чем рассказывается в книгах Рубакина, имеет точные приметы времени, места. Если рассказывается об обвале в Швейцарии, то обязательно приводится не только название долины, дата обвала, но и час, когда обвал произошел, его длительность, указывается сколько миллионов кубометров земли и камня было обрушено в долину, перечисляются названия пострадавших деревень, количество убитых и раненых. Если описывается оползень Соколиной горы в Саратове в 1884 году, то это описание делается со скрупулезностью официального акта о происшествии. Очень легко себе представить, как читались вслух рубакинские книги. Они и "сконструированы" с сознательным расчетом на громкую читку. Коротенькие главки — каждая минут на десять неторопливого чтения. Они начинаются с фразы, которая не может не заинтересовать, захватить, не может не вызвать желания узнать: а что же будет дальше? "В 60 году нашего летоисчисления случилось удивительное событие: Веспасиан, римский император, убийца и гонитель христиан, совершил чудо. Такое чудо, какое могут совершать, по словам верующих, лишь самые настоящие чудотворцы — святые, угодники божьи. Веспасиан исцелил слепого и расслабленного. И сделал это на глазах у всех, перед большой толпой. И это засвидетельствовано многими очевидцами". "Жил в незапамятные времена некий человек по имени Ситнапистим, по прозванию Касисадра, царь города Суриппака. Жить ему пришлось в нехорошее время. Люди тогда уже развратились, и рассерженный бог Бел решил уничтожить их". "А вот что было в 1895 году в деревне Ащепково, Мокринской волости, Гжатского уезда, Смоленской губернии. Летом в той местности бродил некий Захар-юродивый, то есть полоумный, родом из тех же мест". Так начинаются некоторые главки в книге Рубакина "Среди тайн и чудес". Этих маленьких главок в книге — 113.
 Н. Рубакин. Рис. художника Р. Шалита, 1919 г., с надписью Н. Рубакина: "Да здравствует книга, могущественнейшее орудие борьбы за истину и справедливость!"
Н. Рубакин. Рис. художника Р. Шалита, 1919 г., с надписью Н. Рубакина: "Да здравствует книга, могущественнейшее орудие борьбы за истину и справедливость!"
Увлечь сразу же, с первых же строк, читателя, поставить перед ним увлекательную загадку, вместе с ним начать медленно и обстоятельно решать ее — таков прием Рубакина, так он начинает вызывать у читателя "эмоции", без которых, по его мнению, содержание книги будет падать на каменистую и бесплодную почву. В понятие "эмоции" Рубакин вкладывал еще и публицистичность. Почти все научно-популярные книги Рубакина писались с необходимой оглядкой на царскую цензуру. Но тем не менее в каждой из них — о какой бы науке в ней ни писалось — неуклонно проводится мысль о борьбе бедных и богатых, о несправедливости существующего социального строя. В некоторых книгах Рубакина, рассказывающих о каменном угле, о добыче железа, о поваренной соли, целые страницы посвящены страшным картинам жизни рабочих. Каторжным условиям их труда, полному отсутствию техники безопасности, нищенскому заработку. Все книги Рубакина человечны и социальны — в самом прямом и непосредственном смысле! Рубакин был убежден, что он пишет научные книги. Но невозможно найти ни одной книги Рубакина, в которой была бы только чистая наука, без людей. Он попросту не умел писать таких книг. В каждой рубакинской книге всегда содержится элемент публицистического очерка. Когда он пишет о происхождении каменного угля и способах его добычи, в книге всегда имеется картина жизни людей, этот уголь добывающих. Рубакин пишет о безрадостных рабочих поселках, о землянках, натыканных возле терриконов, где курятся ядовитые дымки вредных газов. Он пишет о каторжном труде людей, всю жизнь проводящих — как слепые рудничные лошади — под землей, без радости, без духовной жизни, только ради куска хлеба. Гордость за человеческий ум, создавший сложные машины, никогда не заглушала в нем понимания того, что в условиях капитализма эти машины служат закрепощению людей, выжиманию из них все новых и новых доходов для хозяев. Исследователю рубакинского творчества приходится всегда расшифровывать рубакинскую терминологию. Конечно, под "эмоциями", которым Рубакин отводил такое большое место в научно-популярной книге, он прежде всего понимал нравственную позицию писателя. Эта позиция является главной для тона книги, для ее настроя, только она соединяет автора с читателем. Но, конечно, больше всего взгляды Рубакина на задачи научной популяризации сказались на стиле и языке его книг. Это и понятно. Ведь автор ни на одну минуту не переставал видеть перед собой того живого читателя, с которым он беседует. Недаром Рубакин советовал авторам научно-популярных книг перед тем, как сдавать в печать готовую рукопись, обязательно прочитывать ее вслух некоторым из тех читателей, для кого она писалась. Рубакин рассказывал, что, решив писать научно-популярные книги, он предварительно составил специальный словарь из таких слов, какие заведомо будут понятны всем без исключения его будущим читателям. Он попросил своих многочисленных корреспондентов — учителей и библиотекарей прислать ему дневники, школьные сочинения и письма взрослых рабочих, занимающихся в воскресных школах и пользующихся библиотеками. Рубакин получил более десяти тысяч таких сочинений. Из них он выбрал полторы тысячи слов, понятных — как он считал — всем. И решил пользоваться только ими. Пушкиноведы подсчитали, что в произведениях великого поэта, создателя нашего литературного языка, насчитывается около 21 тысячи слов. Между тем, Пушкину не нужно было рассказывать о существе ньютоновской механики, об успехах физических и других естественных наук за десятки лет, ему не нужно было объяснять явления сложные — объяснять только словами, образами, сравнениями — без помощи спасительной математики. Так, может, следует возмутиться нарочитым обеднением языка, усмотреть в этом принижение и науки и литературы, обидеться на читателя, которого писатель не приподнимал, а перед которым он снисходительно опускался на корточки? Рубакину приходилось выслушивать и такие упреки. И каждый раз он упрямо на это отвечал: а читатель? Разве имеет право популяризатор не думать о главном — поймут ли его? Для Рубакина это был самый главный, самый основной вопрос в научной популяризации. Уже на закате своей деятельности популяризатора, в статье, написанной в 1927 году, он столь же категорически настаивал: "Для успешной популяризации необходимо перевоплощение популяризатора в своего читателя". В отношении языка Рубакин был беспощадно требователен. Он считал, что писатель не вправе употреблять такие слова, которые имеют не один смысл. Нельзя пользоваться в популярной книге такими словами, как "материал", "образ", "тело", "явление", — ибо читатель связывает с этими словами совершенно определенные, ему хорошо известные понятия. Да, в нелегкие условия работы поставил самого себя этот теоретик популяризации, когда он стал проводить в жизнь собственные же советы! Рубакин — не Пушкин, и навряд ли найдутся исследователи, которые захотят подсчитывать слова, которыми он пользовался. Вероятно, если бы такие досужие любители нашлись, они установили бы, что Рубакин не уложился в прокрустово ложе полутора тысяч слов. Последние книги Рубакина, такие, как "Вечное движение", где ему пришлось рассказывать о новейших открытиях в физике и химии, намного более сложны по языку, нежели его первые популяризаторские книги. За те два-три десятка лет, которые отделяют первую по времени написания книгу Рубакина от последней, — менялась не только наука, менялся и сам рубакинский читатель. Менялся необыкновенно быстро. Молодой рабочий, к которому Рубакин обращался перед началом первой мировой войны, намного отличался от того забитого полудеревенского и деревенского паренька, о котором думал писатель, создавая первые книги в начале девяностых годов прошлого столетия. Язык рубакинских книг не был ни бедным, ни маловыразительным. Он был предельно простым и экономным. Эти требования Рубакин начинал выполнять уже с названия книги. Название должно абсолютно точно раскрывать содержание. У читателя не должно быть никаких сомнений в том, что предлагает ему автор. Это точные ответы на точные вопросы. "Что такое кометы?" "Как и когда разные народы научились говорить каждый на своем языке?" "Вода на земле, под землей и над землей". "Камни, которые падают с неба". "Самые дикие люди на земле". В названиях книг не должно содержаться ничего загадочного. ЕслиРубакин давал книгам название не сразу понятное, то он его обязательно снабжал разъясняющим подзаголовком. Название "Вещество и его тайны" показалось ему слишком общим и он дает подзаголовок "Как построена вселенная из различных веществ". Современного читателя, вероятно, раздражали бы архаизмы рубакинского языка, его — несмотря на экономное и даже скопидомное использование слов — многословность. Ведь наш современник, обогащенный огромным количеством слов и понятий, хочет скорее добраться "до сути". А Рубакин развертывает плавный и неторопливый рассказ — с многочисленными отступлениями, с десятками разных случаев, происшествий, историческими рассказами или анекдотами, житейскими примерами. Ведь Рубакин писал для читателя, который читал очень медленно, которому популярная книга заменяла беллетристику, историю, — она входила в голодный книжный паек, на котором жил его читатель. И любая книга Рубакина, о чем бы в ней ни рассказывалось, должна была насытить читателя волнением перед драматическими судьбами людей, негодованием против несправедливо устроенной жизни, изумлением перед богатством человеческого ума. Не надо упрекать Рубакина в том, что "беллетристика" в его книгах была невысокого качества, — он не был художником; и что очерковые страницы его книг ниже лучших образцов русского очерка, — он не был очеркистом; и что научная суть его книг о науке несовершенна — Рубакин не был ученым. Во всех этих ипостасях его невозможно наградить никаким титулом — ни великим, ни выдающимся, ни каким иным. Но в своих произведениях он выступает в другом и главном своем качестве — просветителя. И вот здесь-то он с полным основанием может быть назван по заслугам — великим просветителем! В этом его сила, его значение и под этим углом, а не под каким-либо другим, следует рассматривать содержание и композицию, стиль и язык его книг. И тогда нас перестанет раздражать то, что Рубакин страны света называет по-старинному — полночь и полдень, что он вместо "испаряется" пишет "усыхает", что он может сказать о море, что оно "просторно", что в поисках доступных образов он способен сравнивать Кара-Бугаз с "неглубокой лоханью, которую налили водой и поставили в теплую избу"… Язык рубакинских книг носит следы неустанной заботы автора над тем, чтобы простыми и точными образами, сравнениями объяснить сложные явления природы. И очень многое удавалось Рубакину, и даже избалованного читателя он поражает силой точного образа. "У всех наших рек, текущих с полдня на полночь или с полночи на полдень, левый берег нарастает, правый берег разрушается; значит эти реки передвигаются бочком"; "Волны моря делают ту же работу, что и волны речные. Только у морских волн больше силы, чтобы разрушать, и меньше силы — строить". Меньше всего Рубакин нуждается в том, чтобы в его сочинениях выискивать литературные находки, свежие и смелые образы и этим подтверждать писательские достоинства книг великого русского просветителя. В одном брезгливо-ворчливом отзыве о Рубакине, напечатанном в "Новом времени", его критик презрительно говорил, что невозможно оценивать писательские способности человека, который книги не пишет, а "выстреливает". Вероятно, Рубакин не обиделся за это сравнение. Он писал научно-популярные книги быстро, захлебываясь, он спешил к читателю, он знал, с какой жадностью ждет тот его книг. В 1911 году в письме к Рубакину Корней Иванович Чуковский писал: "Еще мальчишкой я собирал копейку за копейкой, чтобы купить Рубакина "Чудо на море", "Рассказы о делах в царстве животных и растений"… Какой Вы счастливый человек! Вы знаете, что нужно людям, и Вы делаете именно то, что нужно… Это не суфле, не шоколад, нет, это хлеб!" Да, хлеб. Черный, насущный, иногда наспех выпеченный хлеб образования. И где уж тут было думать об изысках? И уж о чем никогда, видимо, не думал Рубакин, — это о посмертной литературной славе. Известен случай, когда либреттист, писавший для Петра Ильича Чайковского либретто "Пиковой дамы", подобрал для знаменитой арии Томского "Если б милые девицы…" стихотворение, где не было ни одной буквы "р". Он имел в виду певца, который картавил и эту букву не выговаривал. Это забавная история о том, как литератор разрешил маленькую литературную задачу. Но представим себе, что не один — и притом далеко не главный, — а все певцы невыносимо картавили бы, шепелявили и от автора либретто потребовали, чтобы он выступал не только в качестве литератора, но и логопеда… Вот почти такую же невероятную по трудности задачу поставил перед собой Рубакин. Он сознательно шел на очень крупные литературные убытки, он понимал, что языковые ограничения, которые он себе предписал, неминуемо вызовут ограниченную во времени жизнь его книг. Неизвестно, думал ли Рубакин о своем великом современнике — Льве Толстом, посчитавшем необходимым перестать писать гениальные романы и начавшем сочинять дидактические рассказы "для народа". Но несомненно, что творческие возможности Рубакина — популяризатора были в действительности намного больше, чем это демонстрируют его книги. Вот уж, действительно, кто при всей своей нелюбви к стихам мог повторить слова великого поэта — "Умри мой стих, умри как рядовой…" Как и Маяковскому, Рубакину было "наплевать на мраморную слизь" и "бронзы многопудье". Ему нужно было протянуть руку помощи живому, нуждающемуся в нем современнику. Поэтому для него не существовали никакие чисто литературные соображения и совершенно не занимал вопрос: останутся ли его книги для будущих поколений. Научно-популярные книги Рубакина умерли. Но они умерли, как отважные, храбрые рядовые бойцы, сделав великое дело и навсегда заслужив вечную благодарность потомков.
ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ, ВМЕСТЕ С РОДИНОЙ

"Десять лет СПУСТЯ". Еще "Двадцать лет спустя"… В том возрасте, когда впервые читаешь Дюма, названия его знаменитых романов потрясают, прежде всего, количеством лет, оставшихся позади. Подростку это кажется нереальным — так оно велико! В старости эти цифры утрачивают свой устрашающий смысл. И спокойно можно думать о том, как они прошли — не десять, не тридцать, а полных сорок лет, проведенных в стране, не ставшей родной ни на один день. Для Рубакина окончание этих сорока лет означало и конец жизни. Ему шел восемьдесят пятый год, и уже не осталось никаких надежд на встречу со своей Родиной, своим народом. Как сказались на нем эти сорок лет? Не стали ли они неосознанной, а может быть, и осознанной формой эмиграции? Или, во всяком случае, стремлением изолировать себя от сквозняков, а то и ураганов революционной эпохи? Эти вопросы естественны, они возникают даже при самом благожелательном отношении к патриарху русского просветительства, от них не следует отмахиваться. Попробуем ответить на эти вопросы так, как это кажется нам. Рубакин уезжал — как оказалось, уезжал навсегда — из России в 1907 году. Таких, уезжающих после разгрома революции, было очень много. Уезжали еще недавние пылкие "революционеры", а ныне разочарованно-усталые литераторы, адвокаты, студенты. Уезжали, чтобы "отдохнуть" от революционной горячки, пожить спокойно в уютной и комфортабельной Европе, где не печатаются ежедневно в газетах списки повешенных, где нет военно-полевых судов, земских начальников, звероподобных черносотенцев… Уезжали за границу и те, кто больше не мог оставаться на родине, за кем, по горячим следам их работы, шли жандармы, кто уезжал, чтобы снова и снова упорно трудиться над приближением часа новой революции. С кем из них был Рубакин? Перед отъездом из России Рубакин прощался со своей библиотекой. Ему предстояло расстаться с плотно набитыми полками, точная длина которых (их вымерил, прощаясь с библиотекой, ее хозяин) составляла 1 версту 250 сажен и 9 дюймов. На них стояло более сотни тысяч томов. Эти тома Рубакин не продал, не увез — он их подарил Петербургской "Лиге образования". На торжественной церемонии передачи Рубакин выступил с речью, которая, при всей старомодно-риторической форме, не оставляла сомнений в том, кем Рубакин уезжает из России. Он говорил: "Делая неизбежный логический вывод из основных посылок того мировоззрения, которое я имею честь разделять со студенческой скамьи, я, скромный работник в области народного просвещения, считаю делом своей чести и совести служить победе этого мировоззрения не только одним пером, а потому передаю частную собственность в нераздельное общественное владение — прежде всего петербургского пролетариата и трудовой интеллигенции". Какое понятие Рубакин вкладывал в слова "мое мировоззрение", раскрывается его страстной полемикой с растерявшимися отступниками, с откровенными ренегатами. Эта полемика велась им тогда, когда в литературе и искусстве самодовольные юнцы, приват-доценты, мечтающие о профессорской кафедре, версификаторствующие девицы содрогались от отвращения при слове "народ". Рубакин презирал и ненавидел эту "чистую публику" с такой силой, что его публицистика того времени по своему тону напоминала библейские проклятья пророков. Он отказывал им в праве называться образованными людьми, считать себя интеллигентами. В статьях, посвященных русской интеллигенции после революции 1905 года, Рубакин производит беспощадную чистку "рядов интеллигенции". Он исключает из ее состава всех, кто личные интересы, вкусы ставит выше интересов общества. Он торжественно лишает этого звания "перебесившихся" вчерашних студентов, начавших успешно приспосабливаться к казенному пирогу: "Точно так же не интеллигент тот, кто отдает свой ум, талант, силы, энергию и хотя бы даже самую выдающуюся ученость существующему государственному строю и работающий для его поддержания, улучшения и приспособления к нуждам тех общественных классов, которые живут на неоплачиваемый чужой труд, на "добавочную стоимость". Но Рубакин не только в выражениях, напоминавших церковную формулу отлучения от церкви, отлучал от лона интеллигенции пораженцев и отступников. Он убежденно предсказывал, что рабочий класс — именно рабочий класс! — вырастит свою интеллигенцию, которая сменит интеллигенцию буржуазную и станет носителем самых высоких творческих идей: "На фабриках, на заводах, на железных дорогах, в рудниках, даже в солдатских казармах быстро наросла новая сила, — сила мыслящих разрушителей и мыслящих и сознательных созидателей". Рубакин с тем большим правом мог об этом говорить, ибо он немало сделал, чтобы в рабочем классе скорее вырастала эта новая и могучая сила. Поражение первой русской революции проложило водораздел между последовательными бойцами за социальное переустройство мира и их случайными попутчиками. Но еще в большей степени этот водораздел был создан не поражением, а победой революции. Размежевание после Великого Октября 1917 года было окончательным, внесшим полную и исчерпывающую ясность в позицию русской интеллигенции. Рубакин в это время находился там, куда с большим трудом доходил гул революционного вулкана. Зато он был завален прессой, которая из номера в номер, каждый день сообщала о том, что большевики разрушили Кремль, разграбили музеи, перебили русскую интеллигенцию. Уже появились в Швейцарии первые ласточки из будущих огромных стай белой эмиграции. Они захлебывались от злобы, печатали дикие рассказы о "варфоломеевской ночи", устроенной большевиками писателям, ученым, учителям. Но ни на один день не стал Рубакин отступником, ни разу не поддался он на многочисленные провокации людей, многие из которых некогда были его друзьями и даже единомышленниками. В октябре 1918 года, в самый ожесточенный разгар гражданской войны, когда фактически вся капиталистическая Европа, весь капиталистический мир находился в состоянии войны с Советской Россией, Рубакин письменно и устно, везде, где только возможно, заявлял о солидарности с новым социалистическим строем на своей Родине. 1 октября 1918 года он пишет М. Горькому: "Дорогой товарищ, Алексей Максимович! Прежде всего пользуюсь случаем, чтобы послать Вам мой душевный поклон и приветствовать в Вашем лице нашу милую, дорогую, близкую и далекую социалистическую республиканскую Россию, осуществляющую мечту моей жизни, как и наших друзей, соратников и соработников. Посылаю привет через Вас и русскому трудящемуся классу — сердцем я всегда у вас, с вами и с ними". Близкие Рубакину люди рассказывали, в какой физической и душевной изоляции оказался Рубакин в эти трудные годы. От него отшатнулись многие из его западных друзей, оценивавших положение в России по телеграммам "Гаваса" и других буржуазных агентств. На него сыпались явные и тайные доносы в швейцарскую полицию, растерявшуюся от того, что под самым боком у них находится "большевизан". А гром Великой социалистической революции в России уже докатывался до измученной Европы. Даже в сытой и благополучной Швейцарии происходили упорные классовые бои, в ней разразилась невиданная прежде для этой страны забастовка. Швейцарские власти, толкаемые к этому русскими белоэмигрантами, стали рассматривать человека, более десяти лет безвыездно жившего в Кла-ране, как "руку Москвы". Ромен Роллан — один из немногих, кто в эти годы поддерживал дружескую связь с Рубакиным — 22 ноября 1918 года записывает в дневнике: "Восемь дней, назад полиция произвела обыск у ни в чем не виновного Рубакина. Швейцарцы, потерявшие голову от всеобщей стачки, вбили себе в голову искать и найти большевистский заговор с многочисленными разветвлениями. И, конечно, первые удары приняли на себя самые безобидные интеллигенты! Бравый и замечательный старик Рубакин! Со своими тихими маниями о библиологических науках, о химии языка и пр.". Право же, Рубакин не заслужил такого любящего, но снисходительного отзыва своего великого друга! "Тихого" Рубакина полицейские и их добровольные помощники оценивали более справедливо, нежели Ромен Роллан. То, что он ласково пренебрежительно называл "тихими маниями", в действительности обладало большим революционным зарядом. Об этом можно было судить хотя бы по судьбе рубакинских книг в революционной Советской России. В самые трудные, трагические годы Советской власти, когда в стране не хватало самого необходимого, когда был на учете каждый лист бумаги, а газеты печатались с расчетом, чтобы читатель их видел расклеенными на стенах домов, — в Советской России по постановлению органов Советского правительства огромными тиражами печатались книги Рубакина. В 1918–1922 годах на Родине Рубакина было издано 22 его книги тиражом в 1420000 экземпляров. Это были и рубакинские книги о самообразовании, его "Письма" к читателям, это были и знаменитые рубакинские научно-популярные книги. Вероятно, только через много лет, когда закончилась гражданская война, была сорвана блокада Советской России, пришли в Швейцарию, к автору — его книги, изданные в эти годы в Петрограде, Москве, в самых разных городах молодого Советского государства. И можно себе представить волнение, с которым Рубакин брал в руки эти книги. На их обложках красовался гриф: "Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика" и эпиграф — "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Они были напечатаны на плохой, серой и разномастной бумаге.
 Обложка книги Н. Рубакина "Путешествия на край света".
Обложка книги Н. Рубакина "Путешествия на край света".
Но это не мешало им быть внешне радостными. Можно только удивляться тому, с какой любовью, с какой тщательностью были изданы эти книги! В них было множество иллюстраций, они были снабжены рисунками, сделанными с большим вкусом превосходными художниками. …Десятилетним мальчиком пишущему эти строки пришлось проехать осенью восемнадцатого года через половину России, из Рязанской губернии в Белоруссию. Путь наш лежал через Москву. В ожидании случайного поезда, мы лежали вповалку на полу огромного московского вокзала. Каждый вечер толпа людей — главным образом солдат, возвращающихся с фронта, — устремлялась к каменному сараю около пристанционных путей. Там был агитпункт. Вместе со всеми бежал туда и я. Молоденькая девушка и парень в обязательной кожанке раскладывали на прилавке груду только что привезенной литературы и раздавали ее солдатам. Вместе с новым номером "Правды" каждому давали еще несколько книжечек, только что напечатанных, краска на них мазалась и остро пахла керосином. Это были басни Демьяна Бедного, маленькая брошюрка Густава Арну "Мертвецы Коммуны" и книги Николая Рубакина. Потом, когда нам удалось втиснуться в солдатский эшелон, идущий в сторону Орши, несколько дней мы провели в теплушке, набитой солдатами. Я не знал тогда, что через много лет мне придется профессионально заниматься тем, что называется "изучением читательских интересов". Но в мою ребяческую память навсегда врезалось зрелище людей, впервые для себя раскрывших книгу, рассказывающую о том, как устроен мир, как живут в нем люди. Почти всю дорогу в теплушке вслух читали Рубакина — главу за главой, страницу за страницей. Чаще всего читал я. Когда я уставал и отрывался от книги, я видел перед собой внимательные, задумчивые глаза десятков людей. Они только что вырвались из многолетней кровавой войны и знали, что им еще предстоит воевать. Но впервые почувствовали они себя хозяевами страны, мира, и надо было видеть, как жадно впитывали они простой, незамысловатый рассказ о том, как люди научились строить машины и что эти машины могут для людей сделать. И, выпрыгивая на маленьких станциях, чтобы дальше двигаться пешком домой, каждый солдат, перед этим, бережно укладывал в котомку рубакинские книги. Им предстояла долгая и славная жизнь у сотен тысяч читателей. Всего этого Рубакин не знал. Жилось ему в Швейцарии трудно, очень трудно. Иссякли почти все источники литературных заработков. Даже либеральные европейские издательства, газеты и журналы опасались давать работу человеку, не скрывавшему своих чувств и связей с большевистской Россией. Только железная воля Рубакина, привычка обходиться самым необходимым дали ему возможность выдержать это испытание голодом. А избавиться от голода было так просто, так несложно… Рубакинское собрание книг имело всемирную славу.
 Одна из комнат кларанской библиотеки Н. Рубакина.
Одна из комнат кларанской библиотеки Н. Рубакина.
Как некогда библиотека на Подьяческой, дом в Кларане, в котором жил Рубакин, был местом, куда тянулись все, кто нуждался в книге. Библиотека Рубакина занимала целый этаж большого пятиэтажного здания. Может быть, с точки зрения рафинированного библиофила, в ней было не очень много редкостных книг, дорогих инканабул, уникальных изданий, выпускаемых в нескольких нумерованных экземплярах. Но рубакинская библиотека носила боевой и целенаправленный характер создателя. В ней была полная исчерпывающая коллекция всех русских журналов и газет, начиная с 60-х годов девятнадцатого века, все издания — книги, журналы, газеты, плакаты, брошюры — эпохи первой русской революции, редчайшее и полное собрание нелегальной революционной литературы. Это собрание книг было известно каждому слависту, каждому историку и не было недостатка в заманчивых предложениях от учреждений, желавших эту библиотеку приобрести. Особенно настойчивы были предложения от самой большой американской библиотеки — библиотеки конгресса Соединенных Штатов Америки. Рубакину предлагали огромные деньги за библиотеку, с условием, что она будет до конца его жизни находиться в полном его распоряжении, в любом месте, где только он пожелает. Ему предлагали деньги, положение, ученые звания, неограниченные возможности для пополнения книжного фонда. Все эти предложения Рубакин отверг. Все библиотеки, которые он собирал, предназначались им для его Родины, для русского народа. И кларанская не была исключением. Он и собирал ее для того, чтобы она после его смерти стала частью государственной публичной библиотеки, открытой для всех граждан его страны. Только после окончания гражданской войны, когда стали налаживаться связи с Западом, Рубакин начал вылезать из нужды. Его книги переиздавались в Советском Союзе, статьи его стали публиковаться в многочисленных советских журналах. Но, при всей неиссякаемой работоспособности Николая Александровича, литературных заработков не хватало для того, чтобы постоянно пополнять библиотеку и держать ее на том исключительно высоком уровне, на каком должно было находиться "Рубакинское собрание". Одни лишь расходы на оплату огромной квартиры превышали все литературные заработки Рубакина. Не помогала и купеческая бережливость (вот это было одно из немногих воспитательных достижений его отца!). Рубакину не удавалось сводить концы с концами. Только с 1930 года, когда Советское правительство назначило Рубакину персональную, особую пенсию, он перестал испытывать постоянную, элементарную нужду. Да и на комплектование своей библиотеки ему теперь приходилось тратить гораздо меньше, чем раньше. Авторитет знаменитой библиотеки и ее владельца был так велик, что не иссякал поток книг и других разных изданий, посылаемых ему безвозмездно из самых разных концов света. В его библиотеку перешли, по завещанию их владельцев, многие замечательные собрания книг. Среди них были библиотеки дочери Герцена, Наталии Александровны, и участника Парижской коммуны Густава Броше. Но, конечно, больше всего книг поступало из Советского Союза. Рубакин получал все главнейшие советские периодические издания, множество книг разнообразнейшего характера. Каждый день Рубакина начинался с приемки и разбора огромной почты. Кларанские, а потом лозаннские почтальоны считали, что они работают, главным образом, на этого знаменитого русского чудака, которому уже и жить-то негде из-за книг. Рано утром, в шесть часов Николай Александрович начинал сортировать почту, прибывшую накануне. Вскрывались бесчисленные конверты, письма регистрировались в толстой книжке, покрывались стенографическими значками, обозначающими очередность ответа. Сортировались и раскладывались книги, газеты, журналы. Швейцарские почтальоны были правы — Рубакин и его семья, казалось, снимали угол у настоящих хозяев огромной квартиры — у книг. Они уже заполнили все жилые комнаты, лежали под кроватями, забивали коридоры, высились огромными сугробами на чердаке. Близкие Рубакина комически жаловались, что в этом доме, получавшем ежедневно сотни газет, им приходится бегать в киоск покупать газеты для личных надобностей — хозяин дома не разрешал отрывать ни от одной из газет даже клочка, чтобы записать номер телефона. Все газеты подшивались, все журналы переплетались. В восемьдесят лет Рубакин держал в уме все свое сложнейшее библиотечное хозяйство. Он помнил каждую книгу, знал всегда совершенно точно, в каком углу чердака и под какой кроватью надо искать понадобившийся кому-нибудь номер журнала. Библиотека стала теперь единственной заботой и единственной радостью старого просветителя. В его годы уже трудно было сидеть за столом и писать все новые и новые книги, новые статьи. Но оставалась библиотека, завещанная им Родине, — ее надо было пополнять, держать в таком состоянии, чтобы она долго, вечно могла служить советскому народу.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Последние годы Рубакина были отмечены самыми большими трудностями, горестями и радостями — из всех, какие он знал в жизни. Ему, человеку фанатической веры в силу просвещения, пришлось стать свидетелем такого духовного одичания, какого не было в Европе со времен средневековья. Известия, приходившие из фашистской Германии, вызывали в нем отвращение и гнев. На площадях городов сжигают книги! Содрогаясь, Рубакин смотрел на газетные фотографии: беснующиеся человекоподобные в коричневых мундирах обливают бензином и поджигают самое великое, драгоценное, что создала человеческая мысль! Пылают, корежатся, распадаются в невесомый пепел страницы творений Гейне и Эйнштейна, Манна и Горького… Рубакин был убежден, что люди, способные сжигать книги, способны и убивать детей, женщин, стариков, разрушать музеи, превращать в пепелище города и села. Ему очень скоро пришлось убедиться в своей правоте. Всего лишь через несколько лет Швейцария, где он жил, высилась крошечным островком в Европе, порабощенной и обесчещенной фашистами. Все легче и тоньше становились почтовые сумки, приносимые Рубакину в его дом в Лозанне, куда он переехал из Кларана, обрывались многолетние связи Рубакина с книголюбами европейских стран. Только не иссякал, а все увеличивался поток книг из Советского Союза. Но все тревожнее становилось Рубакину за Родину. Столкновение фашизма с миром социализма становилось все неизбежнее. И вот загремели победные марши, захлебывающиеся от торжества сводки, передаваемые фашистами по всем радиостанциям Европы. Эти сводки были наполнены названиями городов — такими родными и близкими… В этих городах жили люди, с которыми он постоянно переписывался, библиотеки, куда десятки лет посылал запросы, советы. Вот когда знаменитому рубакинскому оптимизму, его вере в обязательную победу духовного начала пришлось выдержать самый большой, самый последний экзамен. В страшные дни, когда фашистское немецкое командование передавало высокомерные реляции о падении Москвы и Ленинграда, о почти полном прекращении сопротивления Красной Армии, Рубакин не переставал верить в победу своего народа. По-прежнему в шесть часов утра он садился за стол и уже непослушными руками вскрывал редкие пакеты почты, приводил в порядок каталог библиотеки, делал новые записи на библиотечных карточках. Именно вера в неизбежность победы, а не многолетняя привычка, заставляла его продолжать работу, проводить целые дни за письменным столом. Все годы, прожитые Рубакиным вдали от Родины, были для него полны тоски по русским лицам, по тем, для кого он жил и работал. Каждый приход свежего человека из Советского Союза был для него праздником. Но так редко заносило советских людей в маленькую Швейцарию. И должно же было случиться, что именно в трагические годы войны Рубакин испытал горькую отраду близости с земляками. Невоюющая, нейтральная Швейцария стала местом, куда стекались советские военнопленные, которым удавалось бежать из страшных немецких лагерей. Они пробирались в леса и горы Франции, где дрались с немцами герои французского Сопротивления, в Италию, где вместе с итальянскими партизанами нападали на немецкие гарнизоны. Они становились бойцами и командирами в дивизиях югославских партизан. А когда это не удавалось, оставалось одно — бежать в нейтральную Швейцарию. Неласково, со смешанным чувством страха и неловкости встречали их швейцарские власти. Они боялись немцев, не скрывавших, что терпят швейцарский нейтралитет только до поры до времени. Но и выдать беглецов было невозможно. Этому препятствовали традиции "вечного нейтралитета", законы Красного креста и всяких международных конвенций, заключенных здесь, в этой самой Швейцарии. Выход швейцарские власти нашли в том, чтобы для советских военнопленных создать условия строжайшей изоляции, запереть их в лагеря с суровым режимом. И если для немногих беглецов из армий англичан, французов и американцев условия их жизни соответствовали правилам конвенций, то меньше всего они распространялись на советских людей. Забота о земляках, запертых в специальные лагеря, — стала главной заботой Рубакина в эти годы. Личное общение с ними было почти исключено. Но он завязал с советскими воинами постоянную переписку. Хлопотал перед Красным крестом и швейцарскими властями об улучшении условий их жизни. Старался через многочисленные рогатки военной Европы дать знать их родным. И полностью взял на себя заботу о духовной пище для советских людей: посылал им тысячи книг из своей библиотеки, организовал сбор книг и журналов среди знакомых, среди всех сочувствующих ему людей. Для многих сотен и тысяч людей, полностью изолированных от Родины, помощь Рубакина, его слова ободрения, полные веры в будущее, были огромной нравственной поддержкой.
 Н. Рубакин на отдыхе. Фото.
Н. Рубакин на отдыхе. Фото.
В сборнике воспоминаний, писем и документов о жизни советских людей в плену — "Сильнее смерти", изданном Госполитиздатом в 1963 году, приводятся некоторые воспоминания об этом последнем этапе рубакинской жизни. Кроме тех библиотек, которые Николай Александрович организовал в самих лагерях, он наладил оживленный обмен книг между лагерями и своей библиотекой. Более двух тысяч советских людей стали читателями рубакинской библиотеки. Сотни писем стали приходить к Рубакину. Его земляки просили выслать им книги Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова, Шолохова, Николая Островского. Книги, возвращавшиеся из лагерей для военнопленных, были исписаны адресами, приветами товарищам, наспех записанными воспоминаниями, стихами… И такое использование книг не вызывало, как прежде, неистового гнева у Рубакина. Он бережно сохранял все эти записи, переписывал адреса, старался выполнять все просьбы и поручения, обращенные к нему. К концу войны в Швейцарии в 88 лагерях скопилось около десяти тысяч советских людей — офицеров и солдат, женщин, девушек и детей. Для многих из них, подростками угнанных в неволю, письмо или книга, присланные Рубакиным, были первой лаской Родины. "Если я получу русские книги, буду самой счастливой женщиной на свете…" — писала Рубакину одна русская девушка. В одном из писем, подписанном десятком офицеров и сержантов, говорится. "Дорогой Николай Александрович! Мы только что получили Ваше письмо от 8 мая. Оно пришло с опозданием, но тем не менее произвело огромное впечатление. Разрешите нам, Николай Александрович, прокричать на всю Швейцарию: "Великое русское спасибо за Вашу трогательную доброту, Ваше участие и драгоценные книги!" Мы не забудем Вас и, вернувшись домой, повсюду будем говорить о Вас и Вашей работе. Какой радостью было бы Вас увидеть в Советском Союзе! Все мы — двухтысячный коллектив — шлем Вам наши наилучшие пожелания". Одна строчка этого письма, наверное, особенно ударила в сердце Рубакина: "Увидеть в Советском Союзе…" Теперь, когда он дожил до победы над фашизмом, когда уже все свершено, когда нет больше сил, чтобы заниматься библиотекой, может быть, действительно наступила пора для встречи с Родиной? Чтобы самому перевезти книжные сокровища туда, где они должны навечно остаться, увидеть подмосковные березы и знакомую Стрельну, умереть на своей земле. Но уже исполнились сроки — и не было для этого ни сил, ни времени. Да и — горько об этом говорить — ничего тогда не было сделано, чтобы помочь одряхлевшему Рубакину в его последнем желании… Оставалось сделать последнее в жизни. Пройти через хитросплетения швейцарской юстиции, чтобы книги могли быть вывезены в Советский Союз; подготовить их для того, чтобы они в Ленинской библиотеке стали компактным "рубакинским фондом"; оставить завещание о том, чтобы прах его был похоронен в родной русской земле. 23 ноября 1946 года Рубакин умер. Через два года все, что осталось после Рубакина, было перевезено на его Родину. Книги его легли на полки Государственной Библиотеки имени В. И. Ленина, прах его был похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.
* * *
Корней Чуковский был прав, называя Рубакина "счастливым человеком". На его долю выпало редкое счастье не только стать зачинателем великой культурной революции, но и увидеть ее победу, ощутить ее плоды. Рубакин прожил жизнь долгую и сложную. Он продирался сквозь дебри увлечений и ошибок, но всегда находил дорогу к народному сердцу. Здоровый инстинкт человека, взращенного еще на славных традициях революционных демократов, не давал ему никогда отрываться от своего народа. Поэтому четыре десятка лет, прожитых вдали от Родины, не сделали его — никогда и ни в какой мере — эмигрантом. Он прошел через все испытания, включая и самое последнее, самое страшное. И в победе советских людей, освободивших Европу от человекоподобных, сжигающих людей и книги, он знал, есть и частица его жизни, его труда. Рубакин любил называть себя "старым ворчуном". В этом было что-то от стариковского кокетства. Сквозь упрямый педантизм привычек в нем всегда светилась юношеская жажда все знать, во всем разобраться, подраться за свои идеи. Мерилом жизни Рубакин считал работу, а работал он всегда по-молодому, взахлеб, с наслаждением. В 1928 году, в письме к своему другу И. И. Лебедеву, он писал: "Думать о своем стариковстве — это значит заниматься крайне вредным и разрушительным самовнушением. Уж лучше Вы, дорогой, бросьте заниматься таким делом, окружите-ка себя молодежью, да и пропитайтесь-ка ее молодым, жизнерадостным настроением. Мне уже 65 лет, но я никогда не считал и не считаю себя стариком, а работаю без воскресений и каникул вот уже 50 лет. Нет, стремления молодости — это и мои стремления, настроение борьбы — это и мое настроение, вера в полную возможность осуществления социального строя на принципах действительно новых, справедливых, трудовых — это и моя вера до сих пор и до конца жизни…" К этой самохарактеристике Рубакина — нечего прибавить…В гигантском каталоге Всесоюзной Государственной библиотеки имени Владимира Ильича Ленина шифр многих тысяч книг начинается с букв "Рб". Это книги руба-кинского фонда. Они одеты в простые, прочные переплеты, и почти каждая хранит следы напряженного труда людей: подчеркнута карандашом фраза, поставлен на полях восклицательный знак, непонятной скорописью набросана только что возникшая мысль. Может быть, карандаш, нанесший эти следы, держал в руках Владимир Ильич, может быть Плеханов, Вера Засулич, Вера Фигнер… А в некоторых книгах самого Рубакина все белые, незаполненные текстом места исписаны мельчайшим бисерным, трудноразбираемым почерком. Карандашные строчки жмутся друг к другу, взбираются наверх, окружают колонцифру, спускаются по книжным полям вниз. Ну, так смело может обращаться с книгой только сам хозяин! И действительно, это следы работы Рубакина над своими книгами. И — над одухотворением нескольких поколений народных масс России, — как сказал о его работе Горький. Это глубокий след, и его не занесет время. Редакторы С. А. Николаева, Н. Ф. Яснопольский Оформление и рисунки С. Ципорина Худож. редактор Т. И. Добровольнова Техн, редактор Е. М. Лопухова Корректор Е. А, Ольховская Сдано в набор 18/XI 1-1965 г. Подписано к печати 22/11-1966 г. Изд., № 302. Формат бум. 84X108732. Бум. л. 2.0. Печ. л. 4,0. Усл. п. л. 6,72. Уч. — изд. л., 5,84. А12245. Цена 17 коп. Тираж 50 000 экз. Опубликовано тем. план 1966 г. № 24. Издательство "Знание". Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4. Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Заказ № 800.

Последние комментарии
4 часов 27 минут назад
8 часов 46 минут назад
10 часов 33 минут назад
11 часов 46 минут назад
12 часов 52 минут назад
14 часов 1 минута назад