Солдаты революции. Десять портретов [Зиновий Савельевич Шейнис] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
ЗИНОВИЙ САВЕЛЬЕВИЧ ШЕЙНИС СОЛДАТЫ РЕВОЛЮЦИИ. Десять портретов
...эти образцы борьбы должны служить нам маяком в деле воспитания новых поколений борцов В.И. ЛЕНИН
Светлой памяти Бориса Николаевича Полевого, писателя, гражданина, воина, посвящаю книгуИздание второе, дополненное
Художник С. И. Сергеев
Москва «Советская Россия» 1981
Шейнис З. С. Солдаты революции: Десять портретов / Худож. С. И. Сергеев. — 2-е изд., доп. — М.: Сов. Россия, 1981. — 352 с., 12 л. ил.
Книга состоит из очерков, посвященных таким деятелям ленинской партии, как Ф. А. Артем-Сергеев, А. Д. Цюрупа, Я. А. Берзин, М. М. Литвинов и др. Автор выступает и как исследователь жизни и деятельности малоизвестных борцов революции — А. К. Чумака. С. М. Мирного, В А. Кугушева. Во 2-е издание включены очерки о Франческо Мизиано — одном из основателей Итальянской коммунистической партии, большом друге Советской страны, Бела Куне — одном из создателей Венгерской коммунистической партии, Сергее Александровском — профессиональном революционере и дипломате. В основе всех работ — интересные изыскания, находки, собранные по крупицам из различных архивов и фондов.
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
В 1978 году издательство «Советская Россия» выпустило в свет книгу З. Шейниса «Солдаты революции. Девять портретов». Большинство вошедших в нее литературных очерков и документальных повестей было в свое время опубликовано в журналах «Юность» и «Москва». Это «Янки из Курской губернии», «Миссия Яна Берзина», «Дипломатическое поручение», «История одного судебного процесса», «Повесть о князе Кугушеве», «Жизнь и гибель Андрея Чумака», «Студент Софийского университета». Кроме названных, издательство включило в первое издание книги еще два очерка: «Комиссар продовольствия», посвященный видному деятелю большевистской партии Александру Дмитриевичу Цюрупе, и «Былое» — о Елене Николаевне Жданович, члене КПСС с 1916 года, человеке большой, интересной судьбы. Книга «Солдаты революции» не залежалась на полках магазинов. Пресса — газеты и журналы — посвятила ей рецензии, особо отмечая патриотический и интернациональный дух книги. Такие отзывы публиковались в органах центральной печати. И не только. Можно, в частности, сослаться на известного латышского писателя Яниса Ниедре, опубликовавшего в литературном журнале «Даугава» обстоятельную статью. Янис Ниедре писал: «Книга З. Шейниса «Солдаты революции» представляет собой яркий рассказ о героях и героизме, и ее, на мой взгляд, следует отнести к лучшим произведениям художественно-документальной прозы последнего времени». Правдист Виктор Молчанов так оценил работу автора: «Герои книги «Солдаты революции» — люди, вся жизнь которых без остатка отдана борьбе за счастье народа, делу Великого Октября. Девять повестей и очерков, но они читаются как неразрывное целое. Сильная сторона повествования — в его документальности. З. Шейнис провел кропотливую исследовательскую работу, не раз и не два бывал в семьях ветеранов партии. Разыскал множество бесценных реликвий, дополняющих летопись Коммунистической партии, революционного движения». Необходимо упомянуть и оценку книги, данную журналом «Новый мир». Автор рецензии Юрий Рытов подчеркнул, что она имеет научную ценность и представляет интерес для широких кругов читателей. Следует также обратить внимание еще на ряд важных моментов. Прежде всего на то, как широко и благодарно откликнулись на книгу читатели не только из разных городов нашей Родины, но и из других стран. Не менее важно, что после публикации очерков и документальных повестей З. Шейниса в литературных журналах, а затем и после выхода в свет книги в некоторых городах нашей страны и в братской Болгарии в честь героев очерков были открыты мемориальные центры, сама книга заняла прочное место в научных учреждениях — музеях, учебных заведениях, а ряд очерков перепечатан в Чехословакии, Германской Демократической Республике, Болгарии. Это лишь подтвердило, насколько правильно автор и издательство «Советская Россия» выбрали тему и героев повествований. Все это и послужило основанием для переиздания книги. Издательство сочло также целесообразным включить в нее новые работы автора — очерки «Конец врангелевской авантюры», «Франческо Мизиано ведет бой...» и «Дважды под расстрелом». Пресса и читатели справедливо отметили яркий интернациональный характер книги по составу героев, по содержанию и духу. Ее герои — представители разных национальностей: русские, украинцы, латыши, поляки, немцы и другие. И все они — революционеры, объединенные одной неугасимой идеей, одним стремлением — служить народу. Со страниц книги перед читателем возникает целая галерея революционных борцов и из других стран, например, американец Билл Хейвуд, чей прах покоится на Красной площади в Москве, известный прогрессивный деятель Соединенных Штатов Америки Юджин Дебс, знаменитый американский писатель Джек Лондон, о котором автор привел важные факты, характеризующие его интерес к России, к русскому революционному движению. В книге показана взаимосвязь революционеров России с мировым революционным движением, жгучий интерес и сочувствие, которое вызвал Октябрь в других странах. В «Миссии Яна Берзина» представлены такие яркие личности, как Аллан Валлениус, швед по национальности, ставший русским коммунистом, швейцарский революционер Фриц Платтен, горячий и самоотверженный друг Советской России. В «Студенте Софийского университета» перед читателями прошла плеяда болгарских революционеров. Это и основатель Болгарской коммунистической партии Димитр Благоев, и его выдающиеся соратники Георгий Димитров и Васил Коларов, и рядовые солдаты революции. В книге приведены интересные, ранее неведомые факты о связи русского и болгарского революционного движения, о дружбе русских революционных эмигрантов с австралийским рабочим классом, о датских рабочих, охранявших российского дипломата и его сотрудников в Дании от белогвардейцев. Множество подобных фактов особенно важны, потому что они иллюстрируют интернациональный характер Великой Октябрьской социалистической революции, ее притягательную силу, влияние на трудящихся многих стран, на мировое революционное движение. Новые очерки, вошедшие в книгу, придают ей еще более интернациональный характер, раздвигают ее рамки, делают ярче палитру красок, которыми пользуется автор. Очерк «Франческо Мизиано ведет бой...» посвящен одному из создателей Итальянской коммунистической партии. Автор дал портрет замечательной личности, беззаветно смелого революционера, истинного интернационалиста, живо, эмоционально описал наиболее интересные, напряженные моменты его жизни и деятельности. Сосредоточил свое внимание на событиях и фактах, показывающих беспредельную преданность Франческо Мизиано делу международного пролетариата, стойкость революционера перед атаками классового врага, его мужество в борьбе с фашистскими бандами, для которых он был одной из главных мишеней. С особой силой в очерке показаны симпатия и преданность Мизиано делу русской революции, Советскому Союзу, где он провел многие годы своей жизни. Непосредственно к очерку «Франческо Мизиано ведет бой...» примыкает и как бы является его логическим продолжением очерк «Дважды под расстрелом» — о жизни и революционной деятельности Сергея Александровского, русского революционера и впоследствии советского дипломата. Очерк значительно расширяет диапазон всей книги. События разворачиваются в России и Германии, перед читателями проходит галерея интереснейших личностей, всплывают факты истории, дотоле просто неизвестные. И наконец об очерке «Конец врангелевской авантюры». Он посвящен одному из создателей Венгерской компартии Бела Куну. Автор рассказал об интереснейшей странице его жизни и деятельности, когда после возвращения из Венгрии в 1920 году он был по предложению В. И. Ленина и ЦК РКП(б) назначен членом Военного совета Южного фронта, оказался рядом с Михаилом Васильевичем Фрунзе и сыграл большую роль при разгроме последнего оплота контрреволюции на юге России — армии барона Врангеля. В новом издании книги «Солдаты революции» еще ярче прослеживается роль Владимира Ильича Ленина, расширяется наше представление о титанической деятельности создателя первого в мире социалистического государства. Все это дает основание полагать, что и второе издание книги «Солдаты революции», включившей в себя десять портретов революционеров — представителей русского и международного рабочего движения, написанной живо, публицистично и ставшей еще более остросюжетной, найдет своих новых читателей в нашей стране и за ее рубежами. Ростислав ЛавровЯнки из Курской губернии
Этот чистый, чаровавший все сердца образ должен жить, чтобы и после смерти служить великому делу коммунизма — надежде угнетенного человечества. (Из воспоминаний современника)
В июле 1921 года в городах Южной Австралии происходили какие-то странные и непонятные события. Королевская семья в своем Букингемском дворце в Лондоне пребывала в полном здравии, никто из некоронованных королей величайшей в те времена Британской империи не отправился в мир иной, а в Австралии, доминионе империи, был траур. Не в правительственной резиденции, не в особняках знати. Траур был в рабочих кварталах Брисбена, Сиднея, Мельбурна, в городках Новой Зеландии и в лесах Тасмании: лесорубы, грузчики, горняки, трамвайщики — простой люд надел нарукавные траурные повязки. Полиция не могла понять, в чем дело. А по всему континенту из уст в уста летела печальная весть: наш русский друг погиб! И люди повторяли: Фреди погиб! А иные, с трудом выговаривая русское имя, передавали друг другу: Федор погиб! Кто же был этот Фреди — Федор? По ком был траур в далекой Австралии зимними июльскими днями 1921 года, когда в Южном полушарии наступает пора муссонных дождей? ...Поздней осенью 1910 года на улице Ян-Ие-Пу в Шанхае к китайцу — торговцу жареными лепешками подошел европейского вида мужчина, вежливо улыбнулся, купил лепешку и тут же начал ее есть, приговаривая: «Шибко шанго!» На следующий день утром этого человека встретил русский эмигрант. Вот что он писал: «Проведя ночь в китайской шлюпке, я еле плелся по Бродвею (так европейцы называли одну из улиц Шанхая. — З.Ш.). На углу я заметил человека — по всему было видно, что он русский, который разглядывал вывеску английского магазина. В руках у него был карманный словарь в красном переплете. Он не обращал никакого внимания на глазевших на него прохожих и перелистывал словарь, ища необходимые слова. Я был обрадован этой встречей. Чутье меня влекло к нему, и я старался припомнить, где я видел этого человека раньше. На нем было дешевое демисезонное пальто с бархатным воротником, синяя сатиновая косоворотка, на голове серая английская кепка. Он был среднего роста и крепкого сложения. Меня поразило это умное доброе лицо с большой силой воли. Он был брит, и на вид ему было не более 26 лет. Настолько было сильно у меня чувство радости при этой встрече, что я тут же вступил с ним в разговор. — Вы русский? — обратился я к нему. Он, загадочно улыбнувшись, окинул меня быстрым взглядом с ног до головы. Как видно, мы были оба довольны этой встречей и, не расспрашивая друг друга о прошлом, пошли вместе. Мой новый приятель назвался Андреевым, а я Любимовым». Настоящая фамилия Любимова была Наседкин. В указателе участников первой русской революции, опубликованном в Москве в конце двадцатых годов, ему уделено несколько строк: «Наседкин, Владимир Николаевич, русский, сын музыканта. Родился в 1884 году в Харькове. Прошел 5 классов реального училища. С 1903 г. по 1904 г. работал в подпольной типографии и состоял членом боевой дружины РСДРП в Харькове под кличкой «Владек»... В 1908 году бежал в Австралию. Сейчас беспартийный, работает в Харькове на производстве». Наседкин, конечно, видел своего нового знакомого в Харькове. В 1905 году они оба находились в этом городе и принимали участие в революции. Но только фамилия человека, повстречавшегося ему в Шанхае, была не Андреев, а Сергеев, Федор Андреевич Сергеев. В рабочих кварталах Харькова, Петербурга, Перми — всюду, где он появлялся, его называли Артем. ...Он родился 7 марта 1883 года в селе Глебове Фатежского уезда Курской губернии в крестьянской семье. Родители Сергеева переселились в Екатеринослав (ныне Днепропетровск), где отец занялся подрядными строительными работами, и крестьянский сын попал в атмосферу промышленного города с развивающимся и крепнущим рабочим классом. В 1901 году Сергеев уже в Москве — студент Высшего технического училища. Впереди карьера инженера, обеспеченное будущее. В ту пору в России инженеры — на вес золота, своих было мало, приглашали из Франции, Бельгии, других стран. Это было время после Первого съезда Российской социал-демократической партии. О съезде Сергеев был наслышан, о том, что скоро соберется второй, — понятия не имел. А вокруг Москва: булыжные мостовые, сорок сороков церквей, кабаки, охотнорядские купцы и городовые на каждом углу. Все, казалось, построено прочно, на века, незыблемо. Но это только так казалось. Петербургский пролетариат идет впереди, но и Москва уже заявляет о себе все громче: за три года до нового века в первопрестольной начал действовать московский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». На «Гужоне», на «Трехгорке», в паровозных депо — всюду, где есть рабочий класс, уже живет, формируется, растет новая сила. Но и власти не дремлют. В московской охранке служит опытнейший и хитрейший слуга: Сергей Васильевич Зубатов. В молодости он сам баловался революционными идеями, потом предал, пошел в услужение к жандармам. Когда в феврале 1917 года скинут царя, Зубатов застрелится, страшась кары народной. Но до того времени еще далеко, и начальник московской охранки Зубатов — хозяин положения, вводит новые методы в полицейскую науку: создает полицейские «рабочие союзы», пытаясь изнутри подорвать рабочее движение, разложить его. Сергеев приехал в Москву, когда там начался подъем студенческого движения. Высшее техническое училище не стояло в стороне. Им было над чем задуматься, этим юношам, вступившим в жизнь в начале двадцатого века. Сергеев собрал друзей, сказал, что решил создать социал-демократическую организацию. Цель — свергнуть царя, установить в России демократический строй. Он, конечно, не знал, как будет выглядеть этот строй, но действовал решительно: — Трусливые должны уйти, а кто выдаст Зубатову студенческую организацию — пусть пеняет на себя. Никто не ушел, никто не выдал. Год в Высшем техническом училище под носом у Зубатова действовала социал-демократическая группа: были сходки, тайные собрания, читки ленинских произведений, беседы в рабочих кружках. Начальство не сразу разобралось, кто вожак. Но в конце 1902 года Сергеева арестовали. В следственной тюрьме продержали несколько недель, ничего от него не добились и отправили в воронежский острог, подальше от древней столицы. В тюрьме Артем много читает, изучает английский язык. В России учиться больше не придется, надо бежать за границу, накопить знаний, а потом снова сюда на подпольную работу. После тюрьмы он оказался во Франции, в парижской Высшей русской вольной школе — туда послала его партия. Высшая русская вольная школа, или, как она иначе называлась, Высшая русская школа общественных наук, была основана на рубеже нашего века для русских политических эмигрантов. Незадолго до приезда Федора Сергеева в Париж был утвержден новый Распорядительный комитет школы во главе с известным ученым Ильей Ильичом Мечниковым, который уже много лет находился в Париже и работал в Пастеровском институте. Преподавание в Высшей русской вольной школе согласно статье 2 устава Русской группы международного союза для развития наук, искусства и образования в Париже велось преимущественно на русском языке, а лекции читали известные русские и французские писатели, ученые, юристы. Профессорское созвездие там было весьма яркое: Климент Аркадьевич Тимирязев, Константин Дмитриевич Бальмонт, Петр Дмитриевич Боборыкин, Федор Федорович Эрисман, Анатоль Франс, Георг Брандес. В феврале 1903 года в Высшей русской вольной школе В. И. Ленин прочел курс лекций по аграрному вопросу. Школа помещалась на улице Сорбонны, дом 16. Сергеев снял дешевую комнатку в мансарде близлежащего дома и начал «грызть гранит науки». Большим успехом у слушателей пользовались лекции Тимирязева о дарвинизме. Читал он великолепно, увлекая слушателей, после каждой лекции его награждали шумными аплодисментами, а когда он уезжал в Петербург, все с нетерпением ждали его возвращения. Успехом пользовался и поэт Константин Бальмонт. Высокий, очень красивый, с копной рыжих волос, Бальмонт был тогда в зените своей вскоре поблекшей славы. Еще в конце прошлого века он выпустил сборник стихов против монархии, был вынужден эмигрировать и вошел в профессорское созвездие Высшей русской вольной школы. Его звучные, напевные стихи привлекали слушателей, выступал Бальмонт и на вечерах, которые устраивала русская революционная колония. Сергеев настолько освоил французский, что начал посещать лекции Анатоля Франса, прослушал курс французской литературы. Еще не был написан «Остров пингвинов» — острая сатира на современное ему буржуазное общество, но уже тогда Анатоль Франс завоевал широкие симпатии и литературными произведениями и своей мужественной позицией во время нашумевшего дела Дрейфуса, когда вся прогрессивная Франция поднялась против клерикальной шовинистической реакции и знаменосец этого движения Эмиль Золя написал президенту Феликсу Фору свое бичующее письмо «Я обвиняю», начинавшееся словами: «Кто нагло торжествует сейчас, когда поругана безукоризненная честность и человеческие права? Вся парижская сволочь». Сергеев с жаром и неиссякаемым любопытством листал старые газеты, расспрашивал о деталях этой борьбы. Как-то вечером, после лекции Анатоля Франса, он попросил разрешения проводить профессора. Анатоль Франс любил вечерние прогулки, и они ушли к «потухшему очагу», на набережную Малаке, где когда-то находилась книжная лавка и крошечная типография отца писателя Франсуа Тибо и где юный Анатоль Тибо впервые познакомился с братьями Гонкурами и другими знаменитостями Парижа. Они долго шли вдоль Сены — высокий грузный Анатоль Франс в своей неизменной академической шапочке и молодой русский парень из Фатежского уезда Курской губернии — и говорили о том, что было, что должно быть, — о будущем человеческом обществе. И кто знает, быть может, именно в те годы тесного общения с русской революционной колонией, во время задушевных бесед с российскими революционерами и возникли мысли и чувства, которые с такой несокрушимой логикой и ясностью выразил семидесятишестилетний Анатоль Франс в 1920 году, заявив всей Франции: «Я большевик» — и вступив в Коммунистическую партию... Недолго прожил Федор Сергеев в Париже. Уже близилась революционная буря; партия отозвала его в Россию. Несколько дней он провел с родителями в Екатеринославе, а затем по поручению ЦК РСДРП выехал в Харьков. Харьков — начало нового этапа революционной деятельности Федора Сергеева, который отныне в целях конспирации получает партийный псевдоним «Артем» и остается в России надолго для подпольной борьбы, становясь профессиональным революционером, признанным вожаком харьковского пролетариата. Народ присваивает ему почетнейший «титул», не предусмотренный никакими указами: апостол рабочего дела. Благодаря каким же человеческим качествам его так называют? Современники, знавшие Артема в те годы, так определили черты его характера: он честен, неподкупен, стоически выдерживает любые трудности, беспредельно предан рабочему классу. Вот одна из характеристик того времени: «Он и по внешности живет, как апостол, как «птица небесная». Он не имеет ни денег, ни свободной одежды, ни крова. У него нет угла, где он мог бы остаться один и отдохнуть. Он ночует в чужих квартирах и постоянно их меняет, потому что за ним неустанно охотятся жандармы и полиция. Преследуемый охранкой, он иногда уходит от нее ночью и ночует под открытым небом. После одной такой бесприютной ночи он явился в простреленном пальто. Другой раз, уходя от погони, он провел ночь в камышах и, явившись с рассветом на квартиру товарища, по свойственной ему скромности и нетребовательности, промокший и усталый, заснул на дворе, чтобы не потревожить других». Когда Артем в 1904 году приехал в Харьков, там не было большевистской организации. Он сыграл большую роль в ее создании, руководствуясь указаниями В. И. Ленина. Начал Артем с молодежи. Рабочий Бондаренко свидетельствовал: «Артем вел среди молодежи работу, не считаясь ни с какими препятствиями, не останавливаясь ни перед какими преградами». Артем организовал большевистскую группу на паровозостроительном заводе и других предприятиях, пропагандировал идею вооруженного восстания. Полиция и жандармы назначили за его поимку огромную сумму. Рабочий Подлесный, работавший вместе с Артемом, рассказывал: «За Артемом охотилась вся харьковская жандармская и полицейская свора, но поймать его ей не удавалось. Артему было предоставлено достаточно конспиративных квартир, где он работал не покладая рук». И вот один из эпизодов той поры. В Харькове на так называемой Сабуровой даче находился конспиративный центр большевиков. Там некоторое время скрывался Артем. Подпольный центр обнаружила полиция, и Артему приходилось ютиться на частных квартирах. В те дни в здании земской управы проходили собрания интеллигенции, сочувствовавшей большевикам. Артем решил выступить на собрании. Только он там появился, как пешая и конная полиция оцепила здание. Жандармы знали Артема в лицо, и поимка его казалась неизбежной, вспоминал рабочий Бассалыго. Все выходящие из здания проходили сквозь шеренгу полицейских. Уйти было некуда. Но был на собрании прапорщик, сочувствовавший большевикам. Он поменялся с Артемом платьем, и Артем, надев на голову башлык, прошел через шеренгу козырявших ему жандармов и городовых. В 1905 году в Харьков приехал Милюков, позднее ставший лидером кадетов, а в феврале семнадцатого года — первым министром иностранных дел Временного правительства. Опытный оратор, приват-доцент Московского университета, Милюков выступил при большом стечении народа. Он утверждал, что главной силой русской революции является крестьянство, а метод революции — террор. Это была речь буржуазного краснобая, который знал, как завлекать массы красноречием и туманными лозунгами. После Милюкова на импровизированную трибуну поднялся двадцатидвухлетний Артем. Огромная толпа притихла, ждала, что он скажет, как ответит всероссийски известному политику, члену Государственной думы. Милюков сквозь пенсне рассматривал коренастого парня в рабочей куртке. Спросил, кто таков? Чиновник из канцелярии губернатора, сопровождающий Милюкова, прошептал на ухо: — Не извольте беспокоиться. Полагаю, местный вожак. Их тут как собак нерезаных развелось. Что-то, видимо, насторожило Милюкова, возможно, то внимание, с которым встретили Артема. Милюков покосился на чиновника, еще раз смерил Артема взглядом, ожидая, что тот скажет. Артем волновался, но довольно быстро овладел собой. В огромном цехе наступила та тишина, которая в мгновение ока может обернуться грозой. Артем повернулся к Милюкову, улыбнулся своей подкупающей улыбкой, спросил: — Уважаемый профессор, разрешите задать вопрос? Милюков не ожидал такого поворота, снял пенсне, снова надел, вежливо ответил: — Прошу вас. — Вы утверждаете, что крестьяне — главная сила революции. — Да, конечно. Поскольку Россия преимущественно крестьянская страна. Так или не так? — Допустим. Но я хочу спросить: кто разрушил Бастилию и отправил на гильотину Людовика? — И, повернувшись к рабочим, пояснил: — Это я про французского царя спрашиваю. — Видите ли, — начал Милюков, улыбаясь той снисходительной улыбкой, какой ученый муж одаривает незадачливого студента. — Прошу ответить на вопрос, — прервал Милюкова Артем. — Извольте. Парижане. — Парижские крестьяне? — наступал Артем. — Рабочие, ремесленники, люмпен-пролетарии. — Вот это верно. Рабочие и ремесленники. Артем, резко повернувшись к рабочим, запрудившим цех, горячо начал говорить о рабочем классе как ведущей силе революции, о том, что большевики против террора. О том, что крестьяне, о которых здесь говорил господин Милюков, пойдут за рабочим классом. Но не все. Мужик разный есть. У кого амбар каменный, а у кого хата на курьих ножках... Когда в Харьков пришло известие, что в Стокгольме соберется IV съезд РСДРП и туда надо выделить делегата, решение было принято сразу: послать Артема. Ему только что исполнилось двадцать три года. Перед отъездом рабочие устроили складчину, купили новое пальто и кепку своему делегату; Артем отрастил усы, чтобы жандармы не узнали, и отправился в дальнюю дорогу. IV съезд РСДРП открылся в Стокгольме 23 апреля 1906 года по старому стилю. Артем пробирался в Стокгольм через Финляндию и прибыл туда накануне открытия съезда. После Парижа Стокгольм был второй западноевропейской столицей, которую он увидел; устроившись в небольшой гостиничке, снятой для делегатов с съезда, Артем пошел осматривать Северную Венецию с ее бесчисленными озерами и прудами. На берегу озера Артем издали увидел Ленина. Владимир Ильич приехал в Стокгольм накануне вечером. Ленин шел с близкими друзьями Красиным, Луначарским и Воровским, что-то оживленно рассказывал своим спутникам, потом расхохотался, указывая рукой на озеро, где обычно спокойные лебеди неожиданно подрались: черный, изогнув длинную шею, кинулся на белого лебедя и начал его бить клювом, а тот, величественно взмахнув крыльями, начал делать круги, как бы дразня забияку... — Драчуны точь-в-точь наши меньшевики, — донеслось до Артема. Он хотел было подойти к Ленину, но решил не мешать беседе. Съезд обещал быть сложным. Впервые после двухлетнего перерыва обе фракции РСДРП — большевиков и меньшевиков — собрались для совместной работы и восстановления единства партии, но удастся ли это сделать, еще никто не знал. После революции 1905 года и ожесточенных баррикадных боев перед партией возник ряд сложных вопросов: о роли пролетариата в буржуазно-демократической революции, вооруженном восстании и временном революционном правительстве, об отношении к крестьянству. «Искра», находившаяся последние годы в руках меньшевиков, и большевистская газета «Вперед», издававшаяся в эмиграции, вели еще до революции по этим вопросам дискуссию. На следующее утро после приезда Артема в небольшом зале собрались все сто пятьдесят делегатов, и уже с первых минут он понял, какие предстоят баталии, ибо даже выборы в президиум съезда, в который вошли Ленин, Плеханов и Дан, сопровождались спорами. Артем не спускал глаз с Ленина. В эти дни Владимиру Ильичу исполнилось тридцать шесть лет. Артему Владимир Ильич представлялся немолодым уже человеком, и он ловил себя на том, что то и дело сравнивал его с Плехановым. Пятидесятилетний Георгий Валентинович выглядел патриархом, это впечатление углублялось еще и подчеркнутым, почти подобострастным отношением его сторонников, которые тучей вились вокруг него. А он, весь погруженный в себя, высказывал в кулуарах и с трибуны съезда мысли, безоговорочно поддерживаемые меньшевистской фракцией. На второй день съезда вышла неприятность. Меньшевики, игравшие решающую роль в Мандатной комиссии, воспользовались этим и объявили неправомочными несколько большевистских мандатов. Кассировали они и мандат Артема, придравшись к какой-то мелочи. Артем сначала опешил, потом, накаляясь, сжав на всякий случай кулаки в карманах, подступил к председателю комиссии: — Вот так да! Тысячи верст проехал, от жандармов скрылся, а вы меня объявляете недействительным. Что же я скажу своим в Харькове? Председатель Мандатной комиссии был непреклонен: — Товарищ, вопрос не дискутабелен. Артем ушел бродить по городу. У пруда, где он позавчера встретил Ленина, сел на скамейку. Вдоль дорожки высокие дородные шведки в длинных платьях катили детские коляски с толстыми розовощекими малышами. Было тихо и скучно. Воровский нашел Артема на бульваре, увел на заседание, сказал, что большевистская фракция заявила резкий протест и настаивает на утверждении его мандата. Но даже если ничего не выйдет, Артем должен присутствовать на съезде. Вместе с Вацлавом Вацлавовичем он вошел в зал в тот момент, когда Ленин поднялся на трибуну. Присев на первый попавшийся стул, Артем стал слушать Ленина. Владимир Ильич говорил об уроках революции и нынешнем положении в России, говорил спокойно, увязывая одну мысль с другой, подкрепляя их фактами, аргументами, которые, как плиты, ложились в фундамент, создавая прочную основу доказательства и разрушая доводы противников. Артем со жгучим интересом слушал речь Ленина, изредка бросая взгляды на Плеханова. Тот, чуть подавшись вперед, приложив ладонь к уху, наблюдал за Лениным, делал заметки, изредка обменивался словами с рядом сидящим Даном, но лицо его оставалось по-прежнему непроницаемым. Воровский шепнул Артему, что Ленин выступает второй раз и в ближайшие дни произнесет, по поручению большевистской фракции, большую речь о возможности вооруженного восстания. Вечером Артем встретился с Владимиром Ильичем. Ленин расспрашивал о настроениях в Харькове, хотел знать, что там думают о вооруженном восстании, если эта задача окажется неотложной и создадутся благоприятные условия для выступления рабочего класса. Артем сказал, что за Харьковом остановки не будет. На паровозостроительном давно уже к этому готовы. Рассказал и о своем споре с Милюковым. Артем все дни был на заседаниях. За несколько дней до окончания съезда снова встретился с Лениным в столовке, где обедали делегаты. Владимир Ильич оказался с ним за одним столом, принес из буфета две кружки пива, и весь обед они проговорили о тактике большевиков, о России, о Волге, и чувствовалось, что Ленин очень тоскует по родным местам. В начале мая съезд закончился. Артем вместе с другими делегатами выехал через финский город Або в Петербург и, не задерживаясь в столице ни одного дня, отправился в Харьков, чтобы отчитаться перед тамошней большевистской организацией. Весть о возвращении Артема сразу же разнеслась по городу. Вечером на Нетеченской улице в мастерских собрался рабочий народ Харькова, чтобы послушать своего делегата. Артем рассказал о решениях съезда и позиции большевиков по всем вопросам. И конечно, о встречах с Владимиром Ильичем. После доклада задали много вопросов, но наружный рабочий пост сообщил, что к мастерским мчится наряд конной полиции, и собрание пришлось закрыть. Артем попытался скрыться, но на него и сопровождавшего его рабочего Бассалыго бросились шпики и городовые. Бассалыго рассказывал: «Загремели выстрелы, пуля попала в развевающуюся полу пальто Артема. Федор споткнулся и едва не упал. Но тут мы вскочили во двор, закрыли ворота на засов и по заборам и крышам стали уходить. Городовые начали погоню по крышам, гнались и стреляли. С крыши двухэтажного дома Артем прыгнул во двор военного лазарета, где были солдаты. Он сказал им, что за ним гонится полиция, что он социал-демократ. Солдаты дали ему шапку, кепку во время погони Артем потерял, и вывели его через лазарет на улицу, откуда он скрылся. Во время прыжка Артем повредил ногу, и ему пришлось несколько дней отлеживаться». Вооруженная борьба против царизма, на которой настаивали большевики на Стокгольмском съезде, разгоралась то в одном, то в другом конце России. Начались бои и в Харькове, во главе восстания был Артем. Но провокатор выдал его, и Артем снова оказался за решеткой. Артем и в тюрьме размышляет о причинах поражения, передает на волю друзьям через верных людей письма, в которых излагает свои мысли об ошибках и о планах борьбы на будущее. И учится, старается использовать каждую свободную минуту, ругает себя за «безделье». В письме к Екатерине Феликсовне Мечниковой, жене брата И. И. Мечникова, с которой он познакомился в Париже и вел оживленную переписку в годы эмиграции, Артем признавался: «Ленив я стал ужасно. Вот уж третий день, как не беру английской книжки в руки. Прошел 26 уроков и стал».
НА УРАЛЕ
В этот горнозаводской район Артем прибыл после очередного побега из тюрьмы. Революция 1905— 1907 годов пошла на убыль, организации большевиков были разгромлены. По поручению Пермского комитета целый год Артем провел на Урале. Он и здесь становится популярнейшей фигурой, любимцем рабочих. Современник Артема, свидетель его деятельности на Урале, И. Н. Мошинский писал: «Артем свыше полугода странствует пешком с котомкой за плечами, без гроша в кармане — от завода к заводу, от поселка к поселку. Алапаиха, Надеждинские, Тагильские заводы — это были главные вехи задуманного им путешествия. Всюду он вносит дух революционной бодрости, товарищеской спайки, сознательной классовой солидарности. Все для него здесь было ново. И люди, и природа, и горные заводы — все здесь было особенное. Но Артем быстро освоился с окружающей обстановкой, применился к ней, слился со средой, которая еще вчера казалась ему чуждой. Приходя на новое место, не имея ни партийных явок, ни старых связей, Артем умудрялся очень скоро находить нужных ему людей, хороших, отзывчивых товарищей... Ему были рады везде и всюду. Умное, прекрасное лицо симпатичного пришельца, приветливая улыбка и веселый задор, никогда не покидавшие нашего бродячего организатора, располагали к нему всех посетителей лачужки, в которой останавливался Артем, и, как всегда, открывали ему сердца рабочих». После спада революции обстановка на Урале становилась все более сложной. Пессимизм и неверие в успех проникли в сердца наименее устойчивых революционеров. Артем столкнулся с так называемой «лобовщиной». А. Лобов, рабочий завода Мотовилиха, был активным участником революции 1905 года, но в последующие годы сколотил эсеро-анархистский отряд и стал террористом. Артем решительно выступил против действий Лобова. Позже он писал Е. Ф. Мечниковой: «В этой борьбе я столкнулся с группой авантюристов, таких же беспринципных, как и наглых. Авантюризм везде по существу одинаков и различается лишь по внешности, одевая иной костюм для дворца, иной для игорного дома и иной для рабочего квартала... Я никогда, я так думаю, не стану изменником движению, которого я стал частью. Никогда не буду терпелив к тем, кто мешает успехам этого движения. Я был, есть и буду членом своей партии, в каком бы уголке земного шара я ни находился. Не потому, что я дал аннибалову клятву, а потому лишь, что я не могу не быть мной. Но я всегда был и не могу не быть искренним». В марте 1907 года полиция, давно выслеживавшая Артема, нагрянула во время заседания Пермского комитета партии, арестовала весь руководящий большевистский центр во главе с Артемом. Его избили до полусмерти и бросили за решетку. В тюрьме Артем заболел тифом. Когда же могучий организм справился с тяжким недугом, его перевели в Николаевские арестантские роты. Там забивали насмерть. После каторжного года в Николаевских ротах его судили дважды: за подпольную работу на Урале и за организацию вооруженного восстания в Харькове. Приговор — вечная ссылка и лишение всех прав. На поселение определена Иркутская губерния. Из тюрьмы Артем тайно пишет друзьям: «Меня в Иркутскую губернию привезут, выпустят где-нибудь при волости, припишут к ней, выдадут паспорт «крестьянину из поселенцев» — и «иди, Федя, на все четыре стороны», а где придется остановиться — не скажу, потому что и сам этого не знаю. Знаю только, что на месте не буду жить...» Это был сигнал друзьям о готовящемся побеге. Он и в ссылке не мог усидеть на месте. Потребность быть с людьми, обсуждать с ними практические вопросы, связанные с судьбой России, была у Артема настолько велика, что, не обращая внимания на запрет жандармов, он уходит в дальнее село, чтобы встретиться с ссыльными. 21 августа 1910 года он писал своей харьковской знакомой Ефросинье Ивашкевич: «На днях уходил в Нижне-Ильинск, думая, что дорога рассеет немного, да и новое общество поможет. Все же тут есть и товарищи, есть и просто интересные люди, вроде Брешковской[1]. Как-никак — моцион, с заходом по пути в села, 200 верст, новые лица, разговоры, впечатления. Ничего». Действительно, ничего! Прошел двести верст по нехоженым тропам Сибири, чтобы увидеть людей, поговорить с ними. Вот как он отправился в путь: «Я повесил сапоги через плечо и пошел пешком. Была прескверная погода, шел дождь, мелкий, холодный, отвратительный; дорога шла вдоль берега Ильима каменистая, неровная. До ближайшего пункта, где жили товарищи, надо было прошагать 33 версты. Там я взял коты (арестантская обувь), в них я дошел до Нижне-Ильинска, в них же возвратился обратно». Вечная ссылка, к которой его приговорил царский суд, была прервана Артемом. В сентябре 1910 года он бежит из Сибири в Китай. И вот строки из его письма Ефросинье Ивашкевич от 1 ноября 1910 года: «...Пишу Вам, сидя в вагоне Южно-Маньчжурской ж. д., находясь уже за пределами достигаемости. Вышел я из «дому» с 5-ю рублями в кармане и большими проектами в голове... В Харбин приехал с 70-ю копейками в кармане... Я, что называется, сел на мель. Хорошо, меня выручил частный адрес». Через несколько недель Артем уже был в Шанхае, где и произошла его встреча с Владимиром Наседкиным на улице Ян-Ие-Пу.РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОРЬБЕ
Семь лет продолжались странствия Артема по разным странам. Из Харбина он уехал в Корею, оттуда сразу в Японию. Недолго пробыл он в этой стране, но как пытливо всматривался в окружающий мир, как пристально разглядывал людей, стараясь понять их жизнь, образ мышления, стремления. В сущности, позади крошечный исторический отрезок времени после победоносной для этой страны русско-японской войны, гибели русского флота при Цусиме и русской армии — на сопках Маньчжурии. Чем-то в ту пору Япония напоминала милитаристскую Германию после франко-прусской войны, придавшей прусскому милитаризму открыто вызывающие черты. Глеб Успенский, посетивший в то время Берлин, писал: «Вы только переехали границу — ...хвать, стоит Берлин, с такой солдатчиной, о которой у нас не имеют понятия... Палаши, шпоры, каски, усы, два пальца у козырька, под которым в тугом воротнике сидит самодовольная физиономия победителя... Спросите у любого из этих усов о его враге и полюбуйтесь, какой в нем сидит образцовый, сознательный зверь». Удивительно перекликается эта характеристика с той, которую Артем дает Японии в своем письме к Е. Ф. Мечниковой. Он тонко описывает красоты природы, но она не заслоняет главного. Вот строки из его письма: «...Я видел богатейшую природу. Ночи в Нагасаки были волшебно хороши... Это дивная сказка. Их описать нельзя. По обрыву гор лепятся улицы, скрытые в тени тропических растений. Вдали внизу рейд. Кругом горы. И все это залито матово-серебряным лунным светом... Как мало гармонируют с этим видом забитые и вялые, тщедушные жители японского города и спесивая солдатчина». Прусский солдатский Берлин описал знаменитый писатель, долго наблюдавший тамошнюю жизнь. Заносчивую японскую солдатчину зафиксировал своим острым оком двадцатишестилетний революционер. Наблюдательность была присуща Артему всю его жизнь. Очень ярко проявилась она в Китае, где Артем провел немногим более полугода. На чужбине, еще ярче выкристаллизовываются те черты, которые снискали ему всеобщую любовь и уважение на родине. Думающий, обаятельный, целеустремленный человек, он завоевывает всеобщее признание и в Китае. И вновь проявляет себя как организатор русских рабочих, где бы ни сводила с ними его судьба. Все, кто знал Артема, единодушно отмечали: он ничего не хотел для себя, а только для других. Встретив в Шанхае бездомного Наседкина, он ведет его в свою лачугу, отдает ему последние гроши, собирает вокруг себя русских скитальцев, по разным причинам оказавшихся на чужбине, — Саньку-колбасника, Саньку-кочегара, Евгения- пекаря, еще нескольких русских, потерявших веру в жизнь, в будущее, и организует коммуну. Не без удовольствия он пишет об этом Екатерине Феликсовне Мечниковой: «Теперь у нас есть «коммуна». Теперь русскому беглецу или неудачнику не приходится, если он порядочный человек, скитаться по улицам Шанхая и просить сытых о милости. Теперь он идет на квартиру и живет в ней, как дома». Через несколько недель этих опустившихся людей, которых он подобрал на улицах Шанхая, нельзя было узнать. Они прилично одеты, бриты, вместо водки, в которой эти полубродяги гасили свое горе, они пристрастились к книгам, у них появились и другие, неведомые им дотоле интересы. Наседкин, вступивший в Артемову коммуну, писал: «Артем любил шутку, смех... Никогда я не видел, чтобы он курил или пил, любил шахматы, любил петь; часто затягивал: «На высоких отрогах Алтая стоит холм, и на нем есть могила, совсем забытая». Артем и все члены коммуны работали грузчиками, кули. Английские господа из сетльмента яростно негодовали: русские работают в качестве кули и тем самым подрывают престиж европейцев. В английской газете, издававшейся в Шанхае, появилась статья, автор которой требовал выселить русских из города, дабы «спасти честь джентльменов». Читая ее, Артем посмеивался: перебесятся господа! В свободное время водил коммунаров в музеи, подолгу беседовал с русскими матросами, приходившими в Шанхай на пароходах Добровольного флота, расспрашивал о России. И пристально присматривался ко всему, что его окружало, — к быту, настроениям китайцев, национальным особенностям. Чтобы заработать больше денег для поездки в Австралию, куда Артем твердо решил перебраться, он поступил в булочную. Это была тоже нелегкая работа: «В 7-м часу я в магазине. В 9 1/2 часов ухожу усталый и разбитый и сплю до половины шестого и снова иду в магазин. Походя занимаюсь наблюдениями над окружающим миром».«УДИВИТЕЛЬНО... СПОКОЙНАЯ СТРАНА АВСТРАЛИЯ»
Летом 1911 года Артем окончательно решил переехать в Австралию. Билет на пароход стоил дорого — сто долларов, но эту сумму он уже накопил;собрали деньги и члены Артемовой коммуны, решив все вместе податься на далекий континент. И вот шесть коммунаров, шесть российских эмигрантов, бежавших от царского режима — Федор Сергеев-Артем, Владимир Наседкин-Любимов, Санька-кочегар, Санька-колбасник и вошедшие позже в коммуну огромной физической силы Щербаков и украинский парубок Ермоленко, — взяли билеты на пароход «Ст. Албанс» и двинулись в Австралию. Санька-колбасник, самый младший в коммуне, парень из Рузаевки, не расстававшийся со своим фанерным самодельным чемоданчиком ни в Сибири, ни в Китае, сидел на палубе и, напуганный предстоящим путешествием по морю, обняв чемоданчик, причитал: — Господи, куды едем, на край света. Пропадем ни за полушку, ни за понюх табаку. — Не ной, — успокаивал его Артем. — В Россию вернемся. Очень скоро, может быть. Ну, а если не скоро, то все равно вернемся... В начале второго десятилетия нашего века, когда Артем с друзьями приехал из Китая в Австралию, там уже было много российских эмигрантов. Но именно Артем становится душой этой эмиграции, ее организатором и политическим руководителем. Он создает «Союз русских эмигрантов», переименованный в декабре 1915 года в «Союз российских рабочих», и его избирают председателем правления. В Австралии Артем работал грузчиком, кочегаром, каменщиком, рабочим на бойне и лесорубом. Он испытывал на себе все тяготы эмигрантской жизни. Но как удивительно быстро осваивался он с окружающим миром, познавал его, критически оценивал и находил свое место в этой новой и такой чуждой для него стране! Письма Артема Е. Ф. Мечниковой дают достаточно ясное и точное представление о его жизни, переживаниях, деятельности, планах, еще шире раскрывают его духовный мир. 7 августа 1912 года он пишет Мечниковой: «Мы сейчас расположились лагерем в очень живописном месте. В глубокой котловине, замкнутой со всех сторон горными хребтами, в самом центре почти белеет сбившийся в кучу группой палаток наш лагерь... Угрюмые горы сторожат кругом. Воздух, который не имеет никаких выходов внизу, — очень тяжел. Он колеблется только под напором верхних слоев, которые свободно несутся над горами... Угрюмую тишину долины только изредка прорезывает свист паровозов, шум мчащихся поездов. Кругом зелень, солнце, растительность. Сейчас зима, ночью бывают заморозки... Удивительно хорошая, спокойная страна Австралия...» В этой «спокойной» стране он распознает все — и причины взлета буржуазии, и подчас еле заметные ручейки народного гнева, и методы одурманивания масс. Артем писал: «Высшая, наиболее развитая форма капиталистической эксплуатации служит здесь основанием для созидания богатств буржуазии. Быстрое накопление капитала здесь не стеснено ни безумными тратами милитаризма, ни насыщенностью капиталом отдельных отраслей производства... Но зато у рабочего здесь нет и потребности мыслить... Он не задается общими вопросами и живет сегодняшним днем... Получает в конторе соответствующее количество шиллингов и идет, куда понравится. Прежде всего, конечно, в кабак... Театр, музыка, литература и искусство чужды в большинстве случаев массе населения. Во всем Квинсленде (австралийский штат. — З. Ш.) нигде нет театра, кроме Брисбена (столица штата. — З. Ш.). Здесь на сто верст кругом нет даже иллюзиона (синематографа), нет ничего, кроме лавок, кабаков и публичных домов и, конечно, спортсменских клубов». Однако классовая борьба ворвалась и в «спокойную» Австралию. В городе Брисбене вспыхнула забастовка трамвайщиков. Их поддерживали рабочие всех австралийских штатов. Правительство стало на сторону предпринимателей, жестоко расправилось с забастовщиками. С громадным вниманием и сочувствием Артем следил за борьбой трамвайщиков, поддерживал ее авторитетом правления и всей русской рабочей эмиграции. Забастовка способствовала росту классового самосознания. Успех надо было закрепить, и Артем реализует свой замысел — начинает издавать газету «Эхо Австралии» на русском языке, которая вскоре стала боевым органом русской эмиграции. Нелегко дались Артему те месяцы. 12 апреля 1912 года он писал Мечниковой: «Перед забастовкой я не имел ни гроша, так как истратился, разъезжая с целью организовать русских и подписку на газету. За время забастовки я влез в неоплатные, как казалось, долги. Теперь я уже вполне чист. Много хлопот с кружком англичан, который сформировался под конец стачки для изучения исторического материализма... На днях мне пришлось разъяснить моим приятелям-англичанам разницу между товаром и деньгами (они запутались в этом вопросе). Они меня поняли, но чего мне это стоило и чего им это стоило. Главное, я не имел времени прочесть эту главу заранее. Термины и обороты речи были мне мало известны. Но все же объяснялись словами, а не жестами, и не приходилось прибегать к помощи словаря... Если бы я сумел говорить по-английски, как англичанин!» Он скромничал, английский осилил довольно быстро... Помог ему австралийский друг Альфред Присс. С этим человеком Артем сдружится надолго, до конца. Позже, уже находясь в Москве, Присс оставил воспоминания об Артеме, в которых есть следующие строки: «Русские нашли в нем большого друга. Они приносили ему свои корреспонденции для перевода, он помогал им сноситься с их друзьями и товарищами в России и, несмотря на то что он был беден сам, всегда находил возможность помочь тем, кто был в затруднении и приходил к нему». А впервые Присс увидел Артема, когда тот читал лекцию «Товар — деньги». Пришел туда, не думал задерживаться, но заслушался и остался. Потом разговорились. Присс рассказал, что давно интересуется Россией, но почти ничего о ней не знает. Читал один рассказ Чехова. Вот это, наверно, и есть Россия. Присс стал частым гостем в Русском клубе. Сказал, что, как только в России сбросят царя, поедет туда, очень хочет взглянуть на эту страну. Начал изучать русский язык, старался понять строй русской речи. Вот только никак не мог понять, почему русские при всех случаях жизни, в печали и радости, на вопрос собеседника, как идут дела, отвечают: «Ничего!» Интернационалист до мозга костей, Артем больше всего боялся национальной обособленности, понимал, как это вредит рабочему движению. Иные эмигранты, уставшие от тяжкой жизни на чужбине, замыкались в своей скорлупе, ничего не хотели знать, кроме работы и своего домишка, скрупулезно подсчитывали каждый заработанный шиллинг, складывали в кубышку. Артем высмеивал таких. — Россия не плюшкиными славна, а петрами алексеевыми. Вверх смотрите, на небо, а не в землю, кроты вы эдакие! — поругивал он таких земляков. Любой повод использовал Артем для сближения с рабочими. Австралийцы очень любят спорт. Ирландское землячество, довольно многочисленное в ту пору, часто устраивало спортивные игры, и особенно состязания по перетягиванию каната. Как-то ирландцы пригласили русских принять участие в состязании и выиграли его. Артем несколько дней разъезжал по городам, подбирал команду из молодых крепких русских парней и вызвал ирландцев на соревнование. Головным в русской команде Артем поставил силача Щербакова, который вместе с ним работал грузчиком. Саньку-колбасника — в хвост. Щербаков тянул канат молча, как вепрь, упершись ногами в землю. Санька-колбасник истошным криком подбадривал свою команду: — Не подкачай, Россия, тяни! Рослые ирландцы впервые проиграли состязание. Пощупали бицепсы Щербакова. Молча переглянулись, поздравили с победой и, сказав «О’ кей!», ушли. Артем знал, какую симпатию питают австралийцы к сильным и смелым людям, понимал, что спортивный выигрыш будет способствовать еще большей популярности русских рабочих. И не ошибся. Газеты посвятили успеху русских много статей. Артем всего себя отдавал политической борьбе в Австралии, но не забывал о России, мысли его постоянно там, на родине. Он расспрашивает прибывших русских эмигрантов, ведет переписку с друзьями в Петербурге и других городах. И запоем читает литературу, которую ему регулярно присылает Мечникова. Недавно Россия похоронила величайшего из своих сынов — Льва Николаевича Толстого. Артем перечитывает книги Толстого, которые сопровождали его в скитаниях, просит Мечникову прислать другие книги, и вот его размышления о прочитанном: «...Толстой до конца сохранил свой своеобразный и колоссальный талант. Как тщательно продуманы у Толстого все детали каждого характера, вплоть до самых отдаленных и сложных душевных движений. Он знает старую Россию... Толстой боролся за старое, понимая его. Оттого его образы так рельефны, живы, доступны и почти осязательны... Когда читаешь Толстого (я говорю про себя), становишься таким спокойным, уравновешенным, как тот порядок, в котором жили и умирали герои Толстого». Конечно, эта характеристика Толстого далеко не исчерпывающая. Великий писатель, описывая старое, беспощадно разоблачал его, с огромной силой срывал маску с лицемеров, показывал фальшь, насилие властей, комедию царского суда, остро критикуя государственные, церковные, общественные порядки старой России. Надо полагать, Артем понимал все величие Толстого; в письме же к Мечниковой из Австралии нашли отражение оценки, навеянные настроением на далекой чужбине. Предгрозовая атмосфера, все больше сгущавшаяся в Европе, рост шовинизма перед первой мировой войной сказывались и в Австралии. Артем выступал за братство и дружбу народов, классовую солидарность всех рабочих. Ни одно, даже на первый взгляд малозначительное событие австралийской жизни не ускользает от его взгляда, и всему он дает оценку на митингах и собраниях рабочих в Брисбене. И в письмах на родину. «В Тасмании, — пишет Артем Мечниковой, — погибла в рудниках вся смена, там не позаботились устроить самые элементарные приспособления на случай несчастья... В Новой Зеландии был погром. Хулиганы-скебы (штрейкбрехеры. — З. Ш.), вооруженные полицией и под ее защитой, взяли штурмом Народный дом (помещение профсоюзов), врывались в дома, избивали, громили. Женщины, как и мужчины, бежали из города, разоренные, опозоренные и бесприютные... У нас только что закончились выборы в федеральный парламент. Это было горячее время. Мы боролись за право существования, как социалисты, как сознательные представители рабочего класса, который не знает и не желает знать никаких национальных перегородок, расовых предрассудков, у которого задача — переустройство общественных отношений и уничтожение неизлечимых зол капиталистического общества — безработных масс, кризисов, голодовок и пр.». Вскоре после ленских расстрелов, которые громовым эхом докатились до Австралии, Артем решает, что это трагическое событие даст толчок революционному движению в России, и все чаще подумывает о возвращении на родину. На одном из собраний русской революционной эмиграции он высказал следующие мысли: «Возвращаясь в Россию и применяя не массовую борьбу, а террор, мы ничего не сделаем с мировыми хищниками и палачами. Мы должны развивать борьбу в мировом масштабе. Нам нужна здесь сплоченная организация... Нам нужна теснейшая связь со всеми эмигрантами как Соединенных Штатов, так и Европы, а также самое тесное и дружное сотрудничество с наиболее передовыми рабочими Австралии». 14 октября 1913 года Артем пишет Мечниковой: «Дорогая Екатерина Феликсовна! ...У нас сейчас в самом разгаре файт за фри спич, а по-русски — борьба за свободу слова. Как видите, такая борьба возможна и в Австралии. Уже около дюжины судебных приговоров социалистам вписано в историю квинслендского суда, и еще не одна дюжина будет вписана. И как Вы думаете, за что? За то, что люди осмеливаются говорить, не имея разрешения на это от начальника полиции; при этом на суде неизменно фигурирует циркуляр начальника — не разрешать социалистам говорить в воскресенье. Английская конституция разрешает, а начальник полиции не разрешает. И раз дело идет о социалистах, суд и полиция заодно. Мы решили вести борьбу до конца... тысячи рабочих собираются слушать наших ораторов. И с каждым воскресеньем народу прибывает все больше. Мы ожидаем каждый момент, что полиция от отдельных ораторов перейдет к организаторам этой борьбы и арестует Комитет за свободу слова. Тогда и Вашему покорному слуге придется заняться исследованием сходств и различий пенитенциарных систем (система, признающая тюремное заключение средством кары и исправления преступника. — З. Ш.), учреждений абсолютной монархии и демократической республики... Нам очень многие сочувствуют сейчас. Я суечусь, как всегда. Русская привычка; нас здесь в городе русских какая-нибудь сотня, а шуму и суеты больше, чем от десяти тысяч англичан. Здесь в массе русские трезвы. И если пьют, то рассудок теряют редко. Зато они почти все учатся, почти все сразу примыкают к сознательному рабочему движению. Одиночки, которые живут здесь «по-американски», еще резче подчеркивают основной, сознательно-пролетарский тон русской колонии». В 1914 году Артем собрался было возвратиться в Россию, но разразившаяся мировая война задержала его на чужбине. Потом пришел февраль 1917 года. Русская колония узнала о свержении царя, как и все эмигранты, разбросанные во всех частях света, через газеты. Радостные, возбужденные, они обменивались телеграммами, письмами, ходили как именинники по всем этим брисбенам, аделаидам, мельбурнам, принимали поздравления от австралийских друзей. И начали собираться в путь. Быстро уехать Артему не удалось: он считался «натурализованным» (по формальным причинам его стали считать английским подданным) и его не отпускали в Россию. Он горько улыбался, скрипел тихонько зубами, говорил: «Врете, господа, все равно уеду!» В гавани Артем провожал пароходы с русскими эмигрантами. Прощались шумно: пели, целовались, плакали. Артем старался быть веселым, кричал у трапа: — Ну, давай, ребята, до встречи там... — И ты давай, Артем! Пока! Санька-колбасник, все эти годы не бравший в рот ни капли зелья, на этот раз был очень веселый, хотя тоже плакал. Не выпуская из рук фанерный чемоданчик, он не отходил от Артема и причитал: — На кого ты нас покидаешь, Федя! Артем, разозлившись, цыкнул на него: — Это вы меня покидаете, черти, а не я вас. — Ну, ничего, — успокаивал Артема Санька-колбасник, — я тебе из Рузаевка леттер[2] напишу... А этим сволочам, что тебя не пускают, я им... — и забыв данное еще в Китае Артему обещание не прибегать к «изящной российской словесности», начал так быстро подниматься по ее «этажам», что старший помощник капитана, перебывавший в кабаках всех российских гаваней — и в Одессе, и в Архангельске, и в Риге, и во Владивостоке, а потому хорошо познавший особенности матросского жаргона, от удивления даже рот разинул; трубка, с которой старпом никогда не расставался, упала в воду, и он восторженно воскликнул: — Уондерфулл![3] Присс тоже провожал русских, привел в гавань горняков и трамвайщиков, которых русские поддержали во время знаменитой забастовки. Трамваи в тот день в городе не ходили. Присс кричал: — Пок-а, друза. Гуд бай! — Махал шляпой. Трамвайщики тоже махали шляпами. Кричали: «Гуд лак!» Весь март и пол-апреля Артем ходил по офисам, требовал, чтобы его отпустили. Чиновники отвечали кратко «No!» — нет. И тыкали пальцами в закон, напечатанный на роскошной бумаге. Артем плюнул на офисы, поступил работать в фирму «Миит компани», которая послала его в порт Дарвии на севере Австралии. Там он тайно сел на пароход, идущий в Китай, и был таков. В конце апреля 1917 года Федор Андреевич Сергеев прибыл во Владивосток, а в начале мая он уже был в Луганске. После отъезда Артема из Австралии с далеким континентом распрощалось большинство русских эмигрантов, и к лету русская революционная колония там сильно поредела, а потом и вовсе перестала существовать. Умолкло и детище Артема «Эхо Австралии» — в последние годы газета выходила под названием «Рабочая жизнь». В конце 1917 года австралийские власти и вовсе запретили ее.ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НА РОДИНЕ
В мае семнадцатого года Артем приехал в Харьков. Десять лет он не был в этом городе. Артемова гвардия, подростки, которые шли за ним в огонь и воду, теперь были главной силой на паровозостроительном, электромеханическом и других заводах — повсюду, где был рабочий класс. Они окружили его, подхватили на руки и понесли к трибуне. Это было в том же цехе, где он двенадцать лет назад скрестил шпагу с Милюковым. Теперь этот приват-доцент был министром иностранных дел Временного правительства, Артем — вернувшимся изгнанником. Кто же из них оказался прав? Милюков? Так могли думать те, кто не видел дальше своего носа. Артем смотрел вперед. Теперь, сказал он, на исторической повестке дня, как считает Ленин и партия, стоит вопрос о пролетарской революции. Буржуазно-демократическая революция февраля — это промежуточный этап. Рабочие верили ему, но были и сомневающиеся. В Харькове хозяйничали меньшевики, эсеры, кадеты. Артем начал с ними ожесточенную борьбу. После июльских событий ЦК большевиков вызвал Артема в Петроград. В дни Октября он был рядом с Лениным, руководителями большевистской партии. Его избрали членом ЦК РКП(б) и членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Теперь Милюков вел яростную борьбу против Советов. У власти стал рабочий класс и партия большевиков. Но впереди была длительная борьба за новый мир, за великие идеалы. Артема направили в Харьков. Вечером 27 октября (по старому стилю) в Харькове силами войск, верных большевикам, и рабочих отрядов Красной гвардии были захвачены вокзал, банк, почта, телеграф и правительственные учреждения. Но часть гарнизона перешла на сторону врагов. Артем начал переговоры с мятежниками, контрреволюционными частями. Солдаты, подстрекаемые эсерами, арестовали его, и уже был дан приказ на расстрел. Минуты оставались до его исполнения, когда в расположение гарнизона ворвались красноармейцы. В ленинских томах есть множество телеграмм, писем, заметок и статей, в которых фигурирует Артем. Владимир Ильич говорит о нем в связи с его деятельностью в Харькове, Донбассе, Башкирии, Москве. В 1917 году Временное правительство создало так называемый Монотоп — Совет по делам монополии торговли донецким топливом. После Октября Монотоп начал политику саботажа, не давал топлива для транспорта и промышленных предприятий Центра Советской России. Артему было поручено возглавить борьбу против саботажников. Отвечая на вопросы рабочих Александро-Грушевского района, обеспокоенных создавшимся положением, Ленин сказал им: «По приезде тов. Артема из Харькова будет выяснен вопрос о Монотопе». В суровых и сложных условиях велась эта борьба против саботажа. Летом 1918 года кайзеровская Германия, а затем и Деникин начали наступление на жизненные центры Украины. Особенно трагическое положение сложилось в районе Харькова. Вот один из эпизодов борьбы в те месяцы. Вражеские армии приближаются к Харькову, и город вот-вот будет взят противником. А на железнодорожных путях сорок пять товарных составов, груженных хлебом и другими товарами для голодной Москвы. Ленин шлет телеграмму за телеграммой всем продовольственным отрядам, сообщает, что в Москве нет хлеба. Но как доставить этот хлеб в Москву? Нет паровозов. На путях стоят мертвые эшелоны. Артем принимает единственно правильное, но, казалось, совершенно невыполнимое решение. На паровозостроительном заводе, где его знает каждый рабочий, стоят двенадцать новых паровозов. Эти мощные локомотив вы можно попытаться сдвоить, и если удастся взять составы, то хлеб будет отправлен в Москву. Артем мчится на паровозостроительный завод, чтобы поднять рабочих, но тут происходит непредвиденное. Только он появляется на заводе, как его арестовывают меньшевики. За последние часы они стали хозяевами положения, ввели на завод вооруженные отряды. Что делать? Надо выиграть время, хотя бы один час. Перед уходом на паровозостроительный Артем приказал командиру красногвардейского отряда: — Если через час не дам о себе знать нарочным — рысью веди отряд на завод. Теперь надо выиграть этот час. Один час жизни. В конторку, куда втолкнули Артема, доносятся крики. Неужели пришли красногвардейцы? Нет, это не они. Часовой говорит ему, что на завод ворвался отряд анархистов, сейчас начнется кутерьма. Они ищут Артема, могут и к стенке поставить. Чертовски обидно, осталось двадцать пять минут. Надо действовать. Артем решает начать переговоры, быть может, удастся отыграть у смерти эти минуты до подхода отряда. Под дулами винтовок Артема ведут в цех. Там обманутые солдаты и анархисты. Будь здесь рабочие, они все повернули бы по-другому. Но вокруг враждебные, настороженные лица. Артем начинает говорить. Мертвая тишина, страшная тишина. И вдруг крики, они нарастают, как гром. Что это? Неужели подоспел отряд? В цех врываются рабочие, а за ними красногвардейцы со штыками наперевес... Вечером со станции Харьков один за другим, не оглашая окрестности гудками, эшелоны отошли на Москву. На последней, хвостовой платформе, ощетинившейся пулеметами, из Харькова ушел Артем. После разгрома Деникина и Петлюры, изгнания войск кайзеровской Германии Артема послали восстанавливать Донбасс. Его энергия, талант, опыт, умение поднять массы очень нужны народу, стране, партии большевиков. Артем не мог жить без общения с людьми, был доступен, быстро решал вопросы. Вокруг него все кипело, бурлило, он заражал энергией, оптимизмом, верой в победу. Австралия наложила отпечаток на его привычки и речь: иногда русские слова он перемежал английскими, и, спохватившись, заразительно хохотал, хлопал по спине товарища: извини, друг, забылся! Все, кто был рядом, попадали под его обаяние. Близкие друзья называли его «австралийский янки» или «янки из Брисбена». Он отшучивался: «Янки из Фатежского уезда Курской губернии». Только начал подниматься Донбасс, подоспело новое задание. Под огнем Царицын. Там хлеб. Надо помочь отбить врага и направить эшелоны в Москву, Петроград, голодные губернии России. Как же пробиться туда? Под Прикумском сплошная линия фронта. Надо идти через Прикумские степи. Артем ведет туда отряд, но и здесь уже линия фронта. На броневике, осыпаемом градом пуль и снарядов, он прорывается в Царицын и приводит туда свой отряд. В Царицыне Артем организовал производство оружия для Красной Армии, участвовал в обороне города. В январе 1921 года в Баку был издан сборник, посвященный трехлетней годовщине бакинского комсомола. Есть в нем и небольшая статья Артема — «Былое». Он рассказывает, как вместе с руководителями бакинского комсомола Борисом Бархашовым, Иваном Кравцовым и Ольгой Шатуновской действовал в условиях, когда в Грузии власть захватили меньшевики. Тайно прибыл в Тифлис на объединенное заседание тифлисской и бакинской троек для решения важнейших вопросов. Во время иностранной интервенции и местной контрреволюции он вместе с товарищами выполнил тогда важнейшее задание партии — отправил из Баку нефть в Москву. В те годы от решения продовольственного вопроса зависела судьба революции. Артема направили в Башкирию. Сохранились его письма к другу из Уфы в Москву. «Мы должны, — писал Артем, — изолировать кулака, заставить выступить его в одиночку и задушить его силами... башкирской бедноты. Без этого ни наша хозяйственная, ни наша продовольственная политика здесь не наладится». Столкнувшись в Башкирии с фактами бюрократизма и приспособленчества, он высказал в письме своему другу мысли, его глубоко волновавшие: «Ты знаешь, я уступчив в том, что считаю мелочами. Но в вопросах принципиальных я не знаю терпимости. Я не способен зарезать курицу или застрелить зайца (как я доказал себе на охоте)... Мне было бы неизмеримо трудно в порядке красного террора отправить путем подписи моего имени белогвардейца-незаговорщика на тот свет. Но... авантюриста и шкурника — извините». После окончания гражданской войны Артема снова послали в Донбасс поднимать всесоюзную кочегарку. Почти два года провел он в Луганске, Юзовке, других шахтерских городах, где его знал каждый горняк, каждый мальчишка из рабочего поселка. В 1920 году Центральный Комитет партии отозвал Артема в Москву, его избрали председателем Всероссийского союза горнорабочих. ...Чудовищный, нелепый случай оборвал жизнь Артема. Вот как это произошло. В июле 1921 года в Москве состоялся конгресс Профинтерна, на который прибыли зарубежные делегации горнорабочих. Приехал в Москву из Австралии и Присс. Через несколько дней после открытия конгресса Артем решил показать гостям Подмосковный угольный бассейн, познакомить с жизнью горняков. Группа гостей была небольшая, вошел в нее и австралиец. Для поездки Артем воспользовался аэромотовагоном, который изобрел русский техник Абаковский. Он и вел его. В Подмосковном бассейне делегация пробыла два дня, осмотрела шахты, побывала в гостях у рабочих, на торжественных вечерах и 24 июля выехала в Москву. Вагон, ускоряя бег, мчался к столице. В 6 часов 35 минут в ста километрах от Москвы разразилась катастрофа. Аэромотовагон, шедший со скоростью 80 километров, наскочил на камень, лежавший на рельсах, пошел под откос и превратился в груду искореженного металла. Погиб Артем и четыре делегата конгресса Профинтерна: англичанин Вильям Хьюлетт, немцы Оскар Гельбрих и Отто Струпат, болгарин Иван Константинов, скончался и тяжело раненный во время катастрофы австралиец Этон Фриман. Погиб и Абаковский. Скорбным набатом прозвучала по всей стране весть о гибели Артема. Исполком Коммунистического Интернационала, Центральный Комитет РКП, Московский комитет партии, Всероссийский Центральный Совет Профсоюзов сообщили народу о гибели старого большевика Федора Андреевича Артема-Сергеева. Старому большевику было тридцать восемь лет. Некрологи чернели во всех газетах, «Известия» писали: «Погиб Артем. Ушел молодой, как юноша, полный кипучей энергии, боец с веселыми, вечно улыбающимися глазами, с жизнерадостной верой в свой класс и в лучезарное будущее коммунизма». Присс, переживший роковую катастрофу, писал: «О жестокая судьба! Зачем этот удар в наши сердца? Вместе с другими мертвыми героями рабочего класса под обломками лежал и наш бесстрашный, неутомимый и любимый товарищ — боец». В последний путь на Красную площадь Артема провожали члены Исполкома Коммунистического Интернационала и члены Центрального Комитета большевистской партии, вся пролетарская Москва, делегации рабочих с Украины, Донбасса, Урала, Петрограда, делегаты Всемирного конгресса, рабочие-делегаты из Австралии. Приехал из Рузаевки и Санька, теперь уже Александр Петрович, участник борьбы против белогвардейцев и интервентов. Он затерялся в толпе и молча утирал слезы. Тысячные колонны запрудили и Большую Дмитровку, и Тверскую, и набережную Москвы-реки. И стояли люди с непокрытыми головами, прощаясь с человеком, которого народ называл совестью рабочего класса России.Комиссар продовольствия
Продовольственная политика «выполнила свое историческое задание: спасла пролетарскую диктатуру в разоренной и отсталой стране».В. И. Ленин
Пасмурным февральским днем 1920 года в Кремле шло заседание Совета Народных Комиссаров. Владимир Ильич Ленин внимательно слушал докладчиков и выступавших, то и дело поглядывая на лежавшие перед ним часы, строго следя, чтобы никто не уклонялся от обсуждаемого вопроса. Изредка какой-нибудь заядлый курильщик выходил за дверь и, насладившись плохонькой папиросой, быстро возвращался. Вопросов возникало много; Ленин, экономя время, посылал записки то одному, то другому члену Совнаркома, и тут же получал ответы на небольших клочках бумаги. В разгар заседания Ленину передали записку, в которой шла речь о сотруднике Народного комиссариата по продовольствию Юрьеве — его несправедливо обидели, не включив в состав коллегии. Заканчивалась записка следующими словами: «Я не преувеличиваю его сил. Он не хватает звезд с неба. Но по правде: кто из нас хватает? Волна революции подняла нас высоко, но сами по себе мы люди маленькие. Нельзя ли перерешить вопрос?» Прочитав записку, Владимир Ильич подчеркнул слово «перерешить», приписал «Я за оставление Юрьева» и, нагнувшись к рядом сидящему человеку, попросил: — Передайте, пожалуйста, Александру Дмитриевичу. Александр Дмитриевич Цюрупа, народный комиссар по продовольствию, быстро пробежал ответ Ленина и благодарно взглянул на Владимира Ильича. Он знал, что теперь вопрос будет решен по всей справедливости. И действительно, двадцать четвертого февраля 1920 года Юрьев решением Совнаркома был утвержден членом коллегии Народного комиссариата по продовольствию. И хотя в записке Владимиру Ильичу Цюрупа весьма скромно сказал о способностях Акима Александровича Юрьева (как, впрочем, и о своих), он высоко ценил этого удивительно честного, добросовестного сотрудника, а потому был доволен решением Совнаркома. Вскоре, по настоянию Цюрупы, Пленум ЦК включил в состав коллегии и Артемия Багратовича Халатова, известного партийного деятеля. Возможно, тогда вспомнил Цюрупа февральский день 1918 года, когда в Смольном Ленин пригласил его к себе в комнату и без обиняков спросил: — Ваше отношение к хлебной монополии? — Я не строю из хлебной монополии идола, — ответил Цюрупа. — Но, по-моему, в данный момент она безусловно необходима. Когда вы нам, продовольственникам, скажете, что монополия политически вредна, мы ее не колеблясь выбросим за окошко... Теперь же без хлебной монополии костлявая рука голода задушит революцию. Ленин одобрительно кивнул головой, сказав, что сейчас это единственно правильная точка зрения. Не думал в те дни Цюрупа, что вскоре, по рекомендации Ленина, он получит высокое назначение на пост народного комиссара по продовольствию. Еще совсем недавно, в канун Февральской революции, он, агроном, был управляющим имением князя Вячеслава Александровича Кугушева, богатейшего уральского помещика. И когда он написал Ленину «сами по себе мы люди маленькие», то полагал, что это определение соответствует истине, в его словах не было и намека на самоуничижение. Так оценивал свое место в рядах большевиков не только Цюрупа, но и многие из тех, кого волна революции вынесла на своем гребне в то историческое утро Советской России и кто, оказавшись рядом с Лениным, взвалил на себя титанический труд революционного переустройства страны. Как-то в кругу близких друзей другой соратник Ленина, Леонид Борисович Красин, заметил: «Ну, кто мы, советские дипломаты, такие? Я — инженер, Литвинов — бывший бухгалтер-кассир, работавший на пеньковой фабричке в местечке Клинцы, Крестинский — учитель. Какие мы дипломаты!» А на самом деле он, этот дипломатический штаб, созданный Лениным, заставил отступить изощренных многоопытных дипломатов буржуазии. Так и другой штаб — по борьбе с лютым голодом — совершил невероятное. Невероятное, ибо два самых страшных врага были тогда у Советской России — интервенция и голод, и они, как сиамские близнецы, оказались неразрывно связанными и угрожали самому существованию нового строя. Вспомним, что писал Герберт Уэллс в своей знаменитой книге «Россия во мгле»: «Основное наше впечатление от положения в России — это картина колоссального, непоправимого краха... История не знала еще такой грандиозной катастрофы... Насквозь прогнившая Российская империя — часть старого цивилизованного мира, существовавшая до 1914 года, — не вынесла того напряжения, которого требовал ее агрессивный империализм; она пала, и ее больше нет. Крестьянство, бывшее основанием прежней государственной пирамиды, осталось на своей земле и живет почти так же, как оно жило всегда. Все остальное развалилось или разваливается. Среди этой необъятной разрухи руководство взяло на себя правительство, выдвинутое чрезвычайными обстоятельствами и опирающееся на дисциплинированную партию, насчитывающую примерно 150 000 сторонников, — партию коммунистов... Я сразу же должен сказать, что это единственное правительство, возможное в России в настоящее время». Герберт Уэллс констатировал «колоссальный и непоправимый крах». Россия ему мерещилась во мгле, он до конца не видел и не мог понять весь масштаб и трагическую грандиозность трудностей. Цифры с могильной жестокостью свидетельствовали: до первой мировой войны Россия производила в год один миллиард двести миллионов пудов хлеба. Этот хлеб удовлетворял потребности всей страны. Война все разрушила. С первого августа 1917 года по первое августа 1918 года в России было заготовлено всего тридцать миллионов пудов хлеба. У крестьян в районах России, не подвергшихся нашествию и оккупации, хлеб был, но в неизмеримо меньших масштабах, чем до войны. Но и он осел в тайниках — клунях, амбарах, был зарыт в землю. Его надо было взять во что бы то ни стало для того, чтобы спасти народ и революцию. Разумеется, этот вопрос решала вся партия большевиков.
Но необходимо было создать штаб, который бы непосредственно осуществил задачу, а во главе штаба поставить человека, которому будет под силу этот, в сущности, подвиг. В первые дни после Октября народным комиссаром по продовольствию был назначен Иван Адольфович Теодорович. Владимир Ильич Ленин давно знал этого профессионального революционера, выходца из дворянской семьи, еще в юношеские годы ставшего на путь революционной борьбы и исключенного за это из восьмого класса гимназии. Потом Теодорович учился в Московском университете, мечтал стать естественником, но был арестован как участник студенческих беспорядков. В 1895 году он вступил в московский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», был организатором первого социал- демократического кружка в Смоленске. После создания «Искры» Теодорович пошел вместе с Лениным, был членом Московского комитета РСДРП, но вскоре последовали арест, ссылка в Якутию, откуда Теодорович бежал летом 1905 года в Швейцарию. В Женеве сблизился с Лениным, стал секретарем редакции «Пролетария». После Февральской революции Теодорович — товарищ[4] председателя Петроградской городской думы, занимался продовольственными делами. Меньше двух месяцев возглавлял Иван Адольфович Народный комиссариат по продовольствию. Не выдержал чудовищной нагрузки, заболел, и 31 декабря 1917 года на пост народного комиссара по продовольствию был назначен Александр Григорьевич Шлихтер. В октябрьские дни 1917 года Шлихтер был комиссаром продовольствия Москвы и Московской губернии. После освобождения Теодоровича от обязанностей наркома Центральный Комитет партии счел кандидатуру Шлихтера наиболее подходящей для назначения на этот труднейший пост. Но почти сразу события приняли сложный оборот. 27 января 1918 года в Петрограде был созван Первый Всероссийский продовольственный съезд для обсуждения положения в стране и реорганизации продовольственного дела в центре и на местах. В работе съезда принимали участие делегаты III съезда Советов. Обстановка к этому времени сложилась тяжелая — против большевистского Народного комиссариата по продовольствию выступали Всероссийский продовольственный комитет и Всероссийский продовольственный совет. Борьбу против Народного комиссариата по продовольствию возглавили меньшевик Громан и кадет Розанов, руководители так называемой «десятки» — Всероссийского продовольственного совета, который был создан на Всероссийском продовольственном съезде. Съезд дал директиву занять «нейтральную» позицию по отношению к Советской власти. В то же время чиновники продовольственного ведомства царской России саботировали дело организации сбора и распределения хлебных ресурсов в стране. Не желала признать Наркомпрод и другая организация — Всероссийский продовольственный комитет; он вел борьбу против Советской власти. Шлихтер приказал арестовать некоторых членов «десятки», а чиновникам прекратить саботаж. Ленин с возрастающей тревогой следил за создавшейся ситуацией. 27 января 1918 года был опубликован проект постановления Совнаркома «О мерах по улучшению продовольственного положения», а 29 января — «Проекты постановлений СНК по вопросу об организации продовольственного дела». Цель состояла в том, чтобы незамедлительно привлечь к практической деятельности людей, склонившихся к сотрудничеству с Советской властью. Первый документ был написан Лениным и принят Совнаркомом, он ясно и четко определил: «Совет Народных Комиссаров предлагает Всероссийскому продовольственному Совету и Комиссариату продовольствия усилить посылку не только комиссаров, но и многочисленных вооруженных отрядов для самых революционных мер продвижения грузов, сбора и ссыпки хлеба и т. д., а также для беспощадной борьбы с спекулянтами вплоть до предложения местным Советам расстреливать изобличенных спекулянтов и саботажников на месте». 27 января 1918 года Владимир Ильич выступил на совещании Президиума Петроградского Совета, которое проходило с представителями местных продовольственных органов. На совещании выявились серьезнейшие разногласия по организационным вопросам между президиумом Продовольственного съезда, президиумом Высшего Совета Народного Хозяйства и Шлихтером. 29 января этот вопрос был вынесен на заседание Совнаркома. Тем временем Всероссийский продовольственный съезд все же стал на путь поддержки Советской власти, упразднил существовавшие продовольственные центры и создал единый высший продовольственный орган — Всероссийский совет снабжения. Однако в ближайшие дни выяснилось, что эта организация совершенно безжизненна. Продовольственная катастрофа углублялась с каждым часом. Надо было немедленно принимать революционное решение — предоставить народному комиссару по продовольствию чрезвычайные полномочия, освободив при этом Шлихтера. Сразу возникал и другой вопрос — кого назначить? Кому же теперь поручить эту дьявольски трудную работу? Может быть, члену коллегии Наркомпрода Дмитрию Захаровичу Мануильскому? Владимир Ильич Ленин хорошо знал этого человека по эмиграции, неоднократно встречался с ним. Мануильский умнейший, преданнейший работник партии, человек широких взглядов, образован, гибок. И только что, 11 февраля 1918 года, решением Совнаркома его назначили заместителем народного комиссара по продовольствию с предоставлением ему решающего голоса в Совете Народных Комиссаров в случае отсутствия Шлихтера. Но нет, не подойдет Мануильский на этот пост, не выдержит. Нужен кто-то другой. Но кто? Мысли Ленина все чаще и чаще фокусируются на одном человеке: Цюрупа!
АГРОНОМ ИЗ ГОРОДА АЛЕШКИ
Первая встреча Ленина с Цюрупой произошла в 1900 году и зафиксирована в многотомной «Истории Коммунистической партии Советского Союза»: «В 1900 году после окончания срока ссылки в Шушенском Ленин по дороге из Шушенского в Псков посетил Уфу, где встретился со многими активными деятелями социал-демократической партии: В. И. Засулич, И. В. Бабушкиным, П. Н. Лепешинским, И. X. Лалаянцем, А. Д. Цюрупой». Потом было еще две встречи — одна в 1901 году, другая в 1905 году, состоявшаяся в Петербурге на заседании ЦК РСДРП большевиков. Надежда Константиновна Крупская свидетельствует, что после первого знакомства в Уфе Ленин и Цюрупа обменивались письмами. Несмотря всего на три встречи, Ленин имел ясное представление о жизни и деятельности Цюрупы. Каков же был его жизненный путь, как шло формирование его личности? В 1927 году по просьбе Партийного архива Александр Дмитриевич предоставил материал для биографического очерка партийному журналисту Игнатию Корнильевичу Гудзю, которому поручено было подготовить статью. Со слов Цюрупы он записал: «Мой дед и бабушка по матери по-видимому в 20-х или 30-х гг. (XIX века. — З. Ш.) были крепостные крестьяне и бежали из Владимирской губернии в вольную тогда Новороссию и обосновались в г. Алешках». Предки Цюрупы прочно осели на юге России, пустили корни. Там и родился Александр Цюрупа в 1870 году. Отец его Дмитрий Павлович Цюрупа, секретарь городской управы в Алешках, был человеком свободомыслящим, добрым, отзывчивым на людскую беду. Мать — Александра Николаевна — из крепостных графа Панина, после кончины мужа взяла на себя всю заботу о семье, работала портнихой, старалась, чтобы дети выросли хорошими, честными людьми. Из анкеты, которую Цюрупа заполнил 17 декабря 1925 года как делегат XIV съезда ВКП(б), можно почерпнуть некоторые данные о его революционной деятельности, репрессиях, которым он подвергался со стороны царского режима. На вопрос о народности ответил: русский. В 1887 году Александр Цюрупа уехал в Херсон, поступил в сельскохозяйственное училище, там вошел в подпольную студенческую организацию. Документы департамента полиции «О сыне чиновника Александре Дмитриевиче Цюрупе» проливают свет на деятельность молодого революционера, показывают круг его интересов. Вот справка из дела № 10: «Цюрупа привлекался в 1893 году к дознанию по делу Козаренко, Скадовской и других, об организованном в Херсонском земледельческом училище тайного кружка воспитанников, издававшем рукописный журнал под названием «Пробуждение». Обыском у Цюрупы ничего предосудительного не обнаружено, но незадолго до обыска он, узнавши о произведенных в Херсоне арестах, передал Скадовской на хранение два тюка с 19 тетрадями «Пробуждения» и революционными изданиями, в числе коих находились «Социализм и политическая борьба» Плеханова, «В защиту правды» — речь Либкнехта, «Социализм в Германии» Энгельса, «К молодежи» П. Лаврова, а также «Сущность социализма» Шеффле». Не довелось Цюрупе долго учиться. Его арестовали, бросили за решетку Херсонской тюрьмы. После освобождения нечего было и думать о возвращении в Алешки, а тем более о продолжении учебы. В Херсоне Цюрупа вступил в социал-демократический кружок. Но вскоре последовал новый арест, новая тюрьма. А оказавшись через многие месяцы на свободе, Цюрупа навсегда покинул Херсон. Отныне вся его деятельность с небольшими перерывами будет проходить в глубинных районах России — в Симбирске, Туле, Тамбове, Уфе. В Симбирске Цюрупа работал в губернском статистическом бюро. За ним следили агенты департамента полиции, и, когда он переехал в Уфу, туда поступило тайное донесение жандармов: «Состоящий под негласным надзором полиции сын губернского секретаря Цюрупа Александр Дмитриевич прибыл в конце декабря 1897 года в Уфимскую губернию и поселился в Уфе». Потом партия послала Цюрупу в Харьков. Его избрали членом Харьковского комитета РСДРП. В этом городе Цюрупа работал статистиком, проявил недюжинные способности профессионального революционера: организовал первомайскую демонстрацию, показавшую растущую силу пролетариата, забастовку статистиков, о которой писала ленинская «Искра»: на арену политической борьбы вышел чиновный люд. Это было нечто новое для России. После возвращения в Уфу Цюрупа становится агентом «Искры». Ее сотрудники, по замыслу Ленина, стали ядром партии. А когда в Уфе был создан опорный пункт «Искры», группу искровцев в этом городе возглавили Надежда Константиновна Крупская и Александр Дмитриевич Цюрупа. В Уфе Цюрупа познакомился с князем Вячеславом Александровичем Кугушевым. Князь походил на крестьянина: ходил в холщовых штанах, плисовом пиджачке, простых сапогах. Друзья сказали Цюрупе, что князь сидел в Бутырской тюрьме, личность весьма интересная. Его пытались упрятать в сумасшедший дом. — Блаженный? — спросил Цюрупа. — Или модничает? — Нет. Князь был близким другом Димитра Благоева. Князь и Цюрупа проговорили всю ночь. Расставаясь, Кугушев предложил Александру Дмитриевичу стать управляющим уральскими имениями в Узенском. Цюрупа согласился — сразу понял, что такой оборот дела будет на пользу Уфимской организации большевиков. В деле департамента полиции за номером 1248/1905 появилась справка «Об обер-офицерском сыне Александре Дмитриеве Цюрупе», подписанная уфимским вице- губернатором: «Пункт 9. Занятие, образ жизни и поведение — служит управляющим имением князя Кугушева. За недавним прибытием сведения дать затрудняюсь». Не знал тогда уфимский вице-губернатор, что в имении Кугушева создана социал-демократическая организация, к которой, как позже доносил жандармский чин Изергин, «принадлежит управляющий имением Александр Дмитриевич Цюрупа, крестьянин из села Булгаково Чугунов и ихний объездчик Иван Кондратьевич Шустов». Изергин основательно запоздал со своим доносом: в имении Кугушева уже давно существовала подпольная большевистская организация; в нее входили не только те, кого упомянул полицейский чин, но и многие другие. Все же жандармам при помощи подосланных провокаторов удалось обложить «красное гнездо» в Узенском. Цюрупа был обвинен в государственном преступлении и сослан в Олонецкую губернию. Вскоре туда выслали и князя «на основании высочайшего повеления, за принадлежность к преступному сообществу». Это произошло 23 августа 1903 года. Владимир Ильич, узнав об аресте Цюрупы, обратился к Ивану Ивановичу Радченко, который по поручению Центрального Комитета РСДРП поддерживал связь с провинцией, и просил срочно сообщить, не знает ли он подробностей ареста и известно ли что-либо о дальнейшей судьбе Александра Дмитриевича. Таким образом, еще до Октября у Ленина с Цюрупой были личные встречи и Владимир Ильич знал о деятельности социал-демократической организации в Уфе, Харькове и роли Александра Дмитриевича в крупнейших организациях большевистской партии. Но, в сущности, жизненный путь Цюрупы был обычным для российского революционера. Что же привлекло так Ленина в Цюрупе? Как и все борцы большевистской партии, он отличался честностью, беззаветной преданностью делу революции, бесстрашием. Когда же Цюрупа вскоре после Октября приехал из Уфы в Петроград и встретился там с Лениным, выяснилась еще одна важнейшая деталь, по-новому и очень ярко высветившая его ум, характер и прозорливость. А выяснилось вот что. После Февральской революции Цюрупа был назначен в Уфе руководителем продовольственной управы. В Уфимской губернии были большие запасы хлеба. Но Цюрупа не отправлял его Временному правительству. Он был убежден, что на смену буржуазно-демократической революции неизбежно придет пролетарская, и вот тогда он пошлет хлеб в главные центры страны — Петроград и Москву. Так он и поступил. И когда Цюрупа приехал в Петроград, то там уже разгружали эшелоны с хлебом, посланные им из Уфы. Мог ли Ленин с его чудодейственным даром проникновения в характер человека не оценить действия Цюрупы? Конечно, нет! Обстановка в стране требовала прилива все новых и новых революционных сил, быстрых решений. Ленин, оценив деловые и человеческие качества Цюрупы, предложил ему руководящий пост в республике на сложнейшем плацдарме борьбы, причем в такое время, когда в государстве еще не было единого продовольственного органа, а бывшие руководители продовольственного дела Громан и Розанов, вся контрреволюция срывали дело снабжения. Цюрупа тогда не задержался в Петрограде, сразу же уехал в Уфу, чтобы завершить свои партийные и служебные дела, но заболел и вернулся в Петроград лишь через несколько недель, когда вопрос о работе Народного комиссариата по продовольствию достиг наибольшей остроты. Вот тогда-то и пригласил к себе Ленин Цюрупу, поговорил с ним о хлебной монополии и сказал, что конкретно ему придется делать. 25 февраля 1918 года Александр Дмитриевич Цюрупа решением Совета Народных Комиссаров был утвержден народным комиссаром по продовольствию.ПЕРВЫЕ ШАГИ
Историки нашей эпохи вновь и вновь будут обращаться к первым годам Советской власти, тому утру России, когда началось строительство нового человеческого общества. И прежде всего будут констатировать тот непреложный факт, что правительство Ленина с беспощадной прямотой всегда говорило народу правду о положении дел, ничего от него не утаивая. 9 мая 1918 года Совет Народных Комиссаров принял декрет, в котором была изложена создавшаяся обстановка: «Гибельный процесс развала продовольственного дела страны, как тяжкое последствие четырехлетней войны, продолжает все более расширяться и обостряться. В то время как потребляющие губернии голодают, в производящих губерниях в настоящий момент имеются по-прежнему огромные запасы даже не обмолоченного еще хлеба урожаев [19]16 и [19]17 годов. Хлеб этот находится в руках деревенских кулаков и богатеев, в руках крестьянской буржуазии. Сытая и обеспеченная, скопившая в своих кубышках огромные суммы денег, вырученных от государства за годы войны, крестьянская буржуазия остается упорно глухой и безучастной к стонам голодающих рабочих и крестьянской бедноты, не вывозит хлеба к ссыпным пунктам в расчете принудить государство к новому и новому повышению хлебных цен и продает в то же время хлеб у себя на месте по баснословным ценам хлебным спекулянтам-мешочникам. Этому упорству жадных... деревенских кулаков и богатеев должен быть положен конец. Продовольственная практика предшествующих лет показала, что срыв твердых цен на хлеб и отказ от хлебной монополии, облегчив возможность пиршества для кучки наших капиталистов, сделал бы хлеб совершенно недоступным для многомиллионной массы трудящихся и подверг бы их неминуемой голодной смерти». Декрет Совнаркома был разработан Лениным и Цюрупой и подписан главой правительства. Меньшевик Череванин, злорадствуя, на заседании ВЦИКа заявил: «Чувствуя близкий крах, Советская власть делает последние судорожные попытки спасти себя». А Советская власть продолжала говорить правду. 28 мая 1918 года Совнарком обратился к рабочим и крестьянам со специальным воззванием. Вот строки из этого документа: «С каждым днем продовольственное положение Республики ухудшается. Хлеба в потребляющие районы доставляется все меньше и меньше. Голод уже пришел; его ужасное дыхание чувствуется в городах, фабрично-заводских центрах и потребляющих губерниях. Голодные и истомившиеся рабочие и крестьянская беднота, мужественно переносящие все тягостные последствия преступной империалистической войны, обращаются с мучительными вопросами к власти: Почему нет хлеба? Когда, наконец, прекратятся страдания голодных людей? Что делает власть, чтобы ослабить продовольственный кризис? Что должны делать рабочие и крестьянская беднота, чтобы выйти из создавшегося положения и не дать голоду разрушить завоевания революции?..» Именно теперь, в мае 1918 года, резко ухудшилось продовольственное положение в Петрограде, где в начале весны удалось смягчить кризис. Было известно, что в Сибири имеются огромные запасы нетронутого, даже не обмолоченного хлеба. После освобождения Шлихтера от обязанностей наркома продовольствия Центральный Комитет партии послал Александра Григорьевича туда в качестве чрезвычайного комиссара. В течение февраля—марта из Сибири в Петроград было направлено около миллиона пудов хлеба, и город ожил. Но в мае белоэсеровские банды захватили Сибирь, и эта житница перестала снабжать Центральную Россию. Такова была ситуация в первые месяцы деятельности Цюрупы на посту народного комиссара продовольствия. День, когда он вошел в здание Продовольственного комитета, запомнился ему на всю жизнь. Комитет помещался в Аничковом дворце, а кабинет народного комиссара — в апартаментах, где Александр II принимал сановников. Дородный швейцар с галунами и позументами строго спросил: — Вы кто будете, господин... товарищ? Чиновники бывшего царского ведомства встретили нового народного комиссара гробовым молчанием. Потом раздались выкрики: «Долой», «Работать не будем». Цюрупа, внутренне напрягшись, стараясь сохранить спокойствие, ждал, что будет дальше. Это еще больше разъярило чиновников. Выкрики продолжались. Цюрупа молчал. Но вдруг сквозь толпу чиновничьих пиджаков к Александру Дмитриевичу протиснулся человек с открытым приятным лицом, мягко улыбнулся и сказал, что народный комиссар вполне может на него рассчитывать. И он не одинок здесь. — Кто вы? — спросил Цюрупа. Тот подал руку, назвал себя: — Шмидт Отто Юльевич, социал-демократ-интернационалист... В последние годы был приват-доцентом Киевского университета, а теперь по поручению своей партии... вот здесь. Цюрупа пожал Шмидту руку, дружески ответил: — Очень рад. Значит, работать будем вместе. Через несколько недель решением Совнаркома Отто Юльевич Шмидт, математик и будущий знаменитый полярный исследователь и ученый, был назначен членом коллегии Народного комиссариата по продовольствию. Уже в первые не только дни, но и часы Цюрупа, которому Центральный Комитет партии вверил столь высокий пост, попытался уяснить всеобщее положение с чисто практической точки зрения. Беседы с Владимиром Ильичем, с которым он встречался тогда каждый день, помогли выявить главное направление деятельности продовольственных органов и методы борьбы: прежде всего надо было создать аппарат — собрать бесстрашных и преданных людей, организовать продовольственные отряды из рабочих и послать их за хлебом, начать жесточайшую борьбу со спекуляцией и мешочниками. Согласно решению Совнаркома народному комиссару по продовольствию предоставлены чрезвычайные полномочия. Это значит, что в руках Цюрупы по решению большевистской партии сосредоточивается громадная власть. Но ни он и никто другой из его сотрудников не имеют права злоупотреблять ею, ибо злоупотребление властью — это дискредитация революции и Советского государства. И Цюрупа каждодневно будет напоминать об этом. А когда через некоторое время злоупотребление властью все же произойдет, то этот случай с тамбовским губернским комиссаром продовольствия Гольдиным, как явление исключительно позорное, станет еще одним предупреждением для всей армии продработников. А в Тамбове было вот что. Губернский продкомиссар разослал предписание: «Всем приемщикам, всем контрагентам. Вмените в обязанность заведующим ссыппунктов неуклонно следить за способом хранения, качеством хлеба. При первом случае порчи хлебов заведующий ссыппунктом будет расстрелян, приемщик передан в распоряжение Губчека», Распоряжение ретивого губпродкомиссара вызвало жалобы. Стало ясно, что в Губчека будет передан он сам и строго ответит за превышение власти. Документ этот каким-то образом попал в руки Максима Горького, и тот передал его Владимиру Ильичу, стараясь оправдать распоряжение неопытностью губпродкомиссара. В связи с этим Ленин написал руководству Наркомпрода следующую записку: «Горький передал мне эти бумаги, уверяя, что Гольдин — мальчик неопытный-де. Это-де кулаки злостно кладут в хлеб снег: ни нам, ни вам. Чтобы сгорел. Позвоните мне, пожалуйста, Ваше заключение: что следует сделать и что Вы сделали? С коммунистическим приветом Ленин». Из Наркомпрода полетела телеграмма в Тамбов: «Немедленно сообщите, приводился ли хоть в одном случае этот приказ в исполнение. Издавая его, Вы превысили полномочия... Отвечайте немедленно мне, копией Совобороны Ленину». За превышение власти Гольдин получил соответствующее наказание. К счастью, дело не дошло до того, чтобы расстрелять какого-либо заведующего ссыпным пунктом. Повторяем, что случившееся было явлением исключительным для продработников, ибо законность действий была для них железным правилом. Сразу после назначения Цюрупы ЦК партии и лично Владимир Ильич поручили ему подготовить Декрет о продовольственной диктатуре. Он до деталей продумал все формулировки, а чтобы быть абсолютно уверенным, выехал в подмосковные деревни поближе познакомиться с обстановкой, поговорить с крестьянами. Сведения об этой его поездке весьма скупы, но все же позволяют рассказать, как это было. Поездом Цюрупа доехал до Серпухова, а оттуда на лошади, запряженной в повозку, прибыл в деревню. Мог он, конечно, отправиться и на автомобиле. Но тогда крестьяне сразу поняли бы, что приехало высокое начальство — автомобили в ту пору были редкостью. Цюрупа заехал в первый крестьянский дом у околицы. Дом был не бедняцкий, не покосившаяся избенка с проваливающейся завалинкой, а добротный, крепко сбитый, с резными окнами и ставнями. Хозяин оказался середняком с лошадкой, тремя коровами, кое-каким инвентарем. Принял заезжего настороженно, спросил, кто и откуда, зачем пожаловал. Цюрупа не солгал, сказав, что агроном, интересуется севом, скоро ведь пора и в поле выходить, земля плуга просит. Приезд нового человека в деревню — всегда событие. В избу набились люди, слушали, что скажет приезжий, скупо, с крестьянской осторожностью и хитринкой отвечали на вопросы. Спрашивали, не знает ли агроном, что Советская власть дальше делать думает. В закромах, конечно, кое-что есть, но ведь и самим жить надо, а не все государству отдавать. Были и вопросы с подковыркой, и неопределенные угрозы неизвестно в чей адрес, осторожности ради — кто его знает, этого приезжего, откуда и зачем прибыл. Агроном вроде агроном, а пальто на нем не худое, больно городское... Поездка в деревню дала Цюрупе толчок к новым размышлениям, позволила еще лучше понять настроение крестьянства, которое он и так хорошо знал. 8 мая 1918 года Цюрупа выступил с проектом Декрета о продовольственной диктатуре на заседании Совнаркома. Владимир Ильич одобрил проект и предложил создать особую комиссию для его доработки и представить к 18 часам завтрашнего дня, то есть к вечеру 9 мая. Точно в назначенное время Совнарком снова заслушал доклад Цюрупы. Ленин внес некоторые поправки и после принятия решения Совнаркомом подписал Декрет о продовольственной диктатуре. На следующий день события разворачивались следующим образом. Отметить это очень важно, ибо между наркомом продовольствия и ВЦИКом, в котором довольно широко были представлены левые эсеры, произошел конфликт. Цюрупа заявил об отставке. 10 мая, видимо утром, Ленин написал Цюрупе письмо с просьбой подтвердить решение о создании продовольственных отрядов из рабочих для военного похода на деревенскую буржуазию и взяточников. Александр Дмитриевич выполнил это поручение Владимира Ильича, но в тот же день, 10 мая, Ленин получил записку Цюрупы с сообщением о том, что в Президиуме ВЦИК только что закончилось редактирование декрета о чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию и он не согласен с некоторыми поправками. Вот текст записки: «Только что закончилось рассмотрение декрета о продовольственном деле в президиуме Ц. И. К. Внесен ряд поправок, отмеченных черными чернилами. Есть весьма существенные, меняющие существо полномочий. Скажите вкратце Ваше мнение, а также сообщите формальный порядок его введения в виду того, что перед принятием декрета мной заявлено о сложении полномочий. Цюрупа». Ленин незамедлительно ответил: «Декрет ухудшен (но, по-моему, в мелочах, и не стоит поднимать оттяжки: это возможно — жалобой в Ц. К. — но, по-моему, не стоит). Ваше заявление об отставке, пока она не принята, не имеет юрид[ического] значения». По совету Владимира Ильича Цюрупа к вопросу об отставке больше не возвращался. Не то было время. И не тот он был человек, чтобы прекратить борьбу за хлеб.«ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ПРОШУ... СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ»
Шла весна 1918 года. До революции в кугушевском имении в эту пору уже бывала в разгаре деревенская страда, заканчивали сев, работали на огородах, в садах, и пчелы роем кружились над бесчисленными пасеками. Александр Дмитриевич в Узенском вставал раньше всех — и в поле. Любил он бескрайние просторы Приуралья, вековые дубравы, напоенные ароматом хвои, сказочные поляны, на которых можно было увидеть и лису, и зайца, стремглав улепетывающего от своего вековечного врага. Оставив лошадь где-нибудь у межи, Цюрупа часами без устали обходил поля, беседовал с крестьянами, смотрел, все ли сделано, как положено по агрономической науке. Любил он порядок — не тот педантичный скучный порядок, от которого душу воротит, а мощную гармонию, созданную природой, общение с ней, дающее радость и дарующее душевный покой. Часто он объезжал поля вместе с Вячеславом Александровичем Кугушевым. Добрая лошадка из знатных конюшен, запряженная в двуколку, быстро несла их от поля к полю, от дубравы к дубраве. Домой возвращались, когда солнце стояло высоко, и вся большая семья садилась обедать. За длинным столом в «едовой», как ее шутя называл Кугушев, рассаживалось много народу, часто приезжали друзья-подпольщики из Уфы, а то и прямо из Петербурга. После обеда Александр Дмитриевич уединялся с ними в своей комнате: обсуждались важные вопросы, задумывались побеги из тюрем, говорили о создании новых организаций партии. Князь Кугушев передавал для этой цели большие суммы денег. Теперь все это было далеким прошлым, отрезано революцией. Ни в тюрьмах, ни в ссылке, где Александр Дмитриевич провел годы, он, конечно, не представлял себе, что путь будет легким, тем более в отсталой России. Но, возможно, и не предвидел всех будущих трудностей и той ломки, которую и ему лично придется пережить. Надо было обладать великой идейной убежденностью и несгибаемым моральным здоровьем, чтобы в бушующем море увидеть главное. Эти качества в полной мере были присущи бывшему студенту провинциального сельскохозяйственного училища, самому избравшему путь революционной борьбы... После переезда Советского правительства из Петрограда в Москву в марте восемнадцатого года Ленин и многие члены Совнаркома поселились в гостинице «Националь», которая стала именоваться Первым домом Советов. Цюрупа занял небольшую комнату, питался кое- как, а больше голодал. Злая болезнь, грудная жаба, все чаще давала себя знать. Александр Дмитриевич осунулся, похудел, но его серые глаза всегда излучали удивительное тепло, придавали всему его облику мягкость, так привлекавшую всех, кто с ним общался. Вероятно, это была одна из тех черт, которые несколько отличали Цюрупу от его предшественников на посту наркомпрода. Теодорович, как пишет Шлихтер, вообще не появился в Аничковом дворце, и сотрудники Наркомпрода с ним даже не познакомились. Шлихтер с его острым характером, видимо, действовал слишком прямолинейно. Цюрупа был неизменно корректен, почти мягок в обращении с людьми, гибок, когда в том была необходимость, предельно принципиален. Ленин сразу разглядел в нем эти качества. Он оценил также его «поразительно большой природный ум» и «величайшую добросовестность в государственной работе». Именно об этом говорил Владимир Ильич в беседе со своим другом со студенческих лет, революционером и государственным деятелем Глебом Максимилиановичем Кржижановским. Эти качества привлекали к Цюрупе всех и подчас обезоруживали врагов. Цюрупе удалось привлечь на сторону Советской власти сотни бывших чиновников — специалистов продовольственного дела. Всю весну Цюрупа вместе с ближайшими помощниками, работниками ЦК РКП большевиков и Московского губкома партии формировали продовольственные отделы и продотряды, сносились с губерниями, где партийные комитеты создавали свои продовольственные отряды, посылали их в глубинки выколачивать хлеб для Москвы и Питера. Положение в столице с каждым днем становилось все более тревожным, да и в Петрограде дело было не лучше. Цюрупа предложил Совету Народных Комиссаров использовать Красную Армию для борьбы за хлеб, превратить отдельные части в трудовую армию. Ленин принял это предложение и посоветовал в каждый местный комиссариат снабжения включить от двадцати до пятидесяти рабочих местных заводов и фабрик. Двадцатого мая на заседании Совнаркома Ленин и Цюрупа, прежде чем вынести вопрос иа утверждение, обменялись записками. Цюрупа предложил, чтобы рабочие были включены не в штат комиссариатов снабжения, а в «технический аппарат». Ленин тут же ответил: «Конечно, не в состав комиссариатов, а в кадры 1) агитаторов, 2) контролеров, 3) исполнителей». Совнарком утвердил это предложение, и на места пошли соответствующие телеграммы. Но где Советское правительство могло взять хлеб, на какие районы страны была надежда и где надо было сосредоточить главные усилия? Основными хлебными районами в ту пору были Северный Кавказ и Приуралье, в частности Уфимская губерния. Украина и Сибирь были заняты интервентами. Но и Северный Кавказ мог оказаться в ближайшее время в руках врага, и надо было спешить. ЦК РКП(б) направил туда максимум партийных сил. Особенно сложным было продовольственное положение в Центральной России. Из подмосковных городов, с верховья Волги, с Брянщины и Полесья — отовсюду в Москву были направлены ходоки с одним заданием: добыть хоть сколько-нибудь хлеба и без него не возвращаться. Ходоки прибывали в столицу поездами, на дребезжащих автомобилях, на лошадях, а то и пешком. И шли прямо в Кремль к Ленину. Он часами беседовал с ними, выспрашивал до мелочей о положении на местах, мучительно размышляя, что и как сделать, чтобы спасти людей от голодной смерти. Вот три записки, переданные Цюрупе от Ленина на протяжении четырех дней 1918 года:7 июня. «Тов. Цюрупа! Посылаю к Вам представителей Вышневолоцкого Совдепа. Голод там мучительный. Надо экстренно помочь всякими мерами и дать хоть что-либо тотчас. Я уже беседовал с этими товарищами об образовании отрядов и о задачах продовольственной работы, но надо, чтобы и Вы с ними объяснились. Ленин».
10 июня. «Тов. Цюрупе... Податели — товарищи от Мальцевских заводов (до 20 000 рабочих, в их округе до 100 000). Продовольственное положение — катастрофическое. Прошу выслушать их и (I) принять экстренные меры, чтобы тотчас помочь хоть в пределах минимума, но помочь немедленно... Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)»
11 июня. «Тов. Цюрупа! Податели — представители Брянского завода. Так как вчера Вы... хорошо столковались с мальцевскими, то, я уверен, столкуетесь и с брянцами. Очень и очень прошу принять их тотчас и сделать все возможное. Привет! Ваш Ленин».
Итак, Владимир Ильич Ленин «очень и очень просит» народного комиссара Цюрупу помочь немедленно голодным городам, тысячам и сотням тысяч рабочих. И идут с записками Ленина делегации из Кремля, пересекают Красную площадь и поднимаются на второй этаж здания, где находился Народный комиссариат по продовольствию (ныне — ГУМ) к Александру Дмитриевичу. Там, в его кабинете, с утра и до утра люди: ходоки, делегации, продовольственники всех степеней, командиры и комиссары продовольственных отрядов. Они докладывают о положении на местах и просят хлеба. Хлеба! Хлеба! Хлеба! Он нужен всем — и детям, и взрослым, и голодным солдатам, отстаивающим революцию, и рабочим у станков. Но Цюрупа знает, что хлеба нет. Склады пусты. Все, что пришло, распределено до последнего фунта. Есть лишь небольшой резерв для московских детей. Об этом крохотном резерве знают только два человека: Ленин и он. Да еще голодные солдаты, с винтовками охраняющие этот единственный заветный склад. Народный комиссар берет в руки карандаш и тут же в присутствии рабочих мальцевских заводов прикидывает на бумажке: там, в округе, продовольственное положение катастрофическое. Владимир Ильич пишет о ста тысячах рабочих, и если в каждой семье по два ребенка, то, страшно подумать, там голодают двести тысяч детей. Да, другого выхода нет. И он делит оставшийся хлеб между мальцевскими и московскими ребятишками. Он выполняет просьбу Ленина: помочь немедленно. Всю ночь Александр Дмитриевич не выходит из кабинета: связывается с «хлебными губерниями», шлет туда новых полпредов продовольственного фронта, рассылает новые рабочие отряды, шлет телеграммы всем губпродкомам, на все узловые железнодорожные станции России в надежде, что хоть где-нибудь застряли хлебные маршруты... А на следующий день к нему приходят ходоки Брянского машиностроительного завода. От усталости и голода они в изнеможении опускаются на стулья, протягивают записку Ленина и молча ждут ответа. И снова наступает тягостное раздумье: что делать? Ведь они не могут уйти отсюда без ясного и точного ответа, что помощь, пусть самая мизерная, будет оказана. Цюрупа мысленно перебирает все возможное, вынимает свою заветную книжечку, в которой отмечены маршруты хлебных эшелонов. И находит выход. Там, на юге, к Москве под охраной пулеметов пробиваются три эшелона. Они уже отбили несколько атак, потеряли до взвода охраны, но продолжают путь к столице. Завтра, если все будет благополучно, эшелон прибудет в Орел. А что, если его повернуть на Карачев, в сторону Брянска. Дорога там еще свободна. Пожалуй, это единственный выход. Один эшелон надо отдать брянцам. Цюрупа советуется со своими ближайшими помощниками. Они согласны: другого выхода нет. Теперь надо посоветоваться с Московским комитетом партии. Цюрупа звонит секретарю МК Владимиру Михайловичу Загорскому, говорит о записке Ленина, о том, что у него находятся ходоки Брянского завода. Загорский уже привык к таким звонкам, знает, что, если Александр Дмитриевич звонит, значит, положение в Брянске еще хуже, чем в Москве. С брянцами надо поделиться последним. И в Орел идет телеграмма: эшелон номер такой-то повернуть на Карачев и направить в Брянск... Вечером Цюрупа снова задержался в комиссариате. Домой идти не хотелось. Из Уфы, где находилась его семья, поступали тревожные вести — колчаковская армия подходила к городу, в любой момент могло поступить сообщение, что вражеские полки ворвались в него. В Уфе застряли также жены и дети старого большевика Брюханова, заместителя Цюрупы, и Юрьева. Николай Павлович Брюханов и Аким Александрович Юрьев, как будто сговорившись, молчат об этом. Но он-то знает, как они тревожатся. Да и сам он не меньше их волнуется. Но сделать ничего нельзя, остается ждать. В последние дни поступили сведения, что 5-я армия, действующая в районе Уфы, нанесла белым удар и отбросила их на восток. Может быть, все обернется лучшим образом, и тогда он сразу заберет семью в Москву... Была уже полночь, когда Александр Дмитриевич вышел из комиссариата. Над Красной площадью висела огромная желтая луна. Он медленно пересек площадь. Вдали чернело здание Первого дома Советов. Цюрупа поднялся к себе в комнату. Принес из кипятильника стакан горячей воды. Заварки не было. И сахару не было. Выпил с куском хлеба и сразу заснул.
НУЖНЫ КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ
После дождливой бурной весны наступило знойное лето. В былые времена теплые дни радовали, сулили богатый урожай. А теперь вокруг лежали незасеянные поля. Земля ждала своего извечного пахаря — мужика, кормильца России, а он все еще держал в руках винтовку, отбиваясь от наседавших врагов. В Москву должен был прийти хлеб с Юга, с Нижней Волги, но положение там оставалось сложное. 7 июня 1918 года Сталин, назначенный вместе с членом коллегии Наркомпрода Якубовым комиссаром продовольственного дела Юга России, телеграфировал Владимиру Ильичу: «В Царицыне, Астрахани, в Саратове хлебная монополия и твердые цены отменены Советами, идет вакханалия и спекуляция... Железнодорожный транспорт совершенно разрушен стараниями множества коллегий и ревкомов. Я принужден поставить специальных комиссаров, которые уже наводят порядок, несмотря на протесты коллегий... Комиссары открывают кучу паровозов в местах, о существовании которых коллегии не подозревают. Исследование показало, что в день можно пустить по линии Царицын — Поворино — Балашов — Козлов — Рязань — Москва восемь и более маршрутных поездов. Сейчас занят накоплением поездов в Царицыне. Через неделю объявим «хлебную неделю» и отправим в Москву сразу миллион пудов со специальными сопровождающими из железнодорожников, о чем предварительно сообщу». Ленин, получив телеграмму, сразу же передал ее Цюрупе, спросив, что он думает по существу дела и предложений, изложенных в ней. Александр Дмитриевич в ту же ночь направил в Царицын группу опытных специалистов из старого ведомства продовольствия, но уже через несколько дней получил сообщение, что приняли их недружелюбно и более того — с недоверием и подозрительностью. Цюрупа решил дать на имя Сталина и Якубова телеграмму, в которой выразил свое возмущение, потребовал, чтобы посланные им люди немедленно были использованы по назначению. Перед отправкой телеграммы Александр Дмитриевич показал ее Владимиру Ильичу, рассказал о создавшемся положении. Ленин дополнил телеграмму следующими словами: «Настоятельно советую принять и поставить на работу посылаемых Цюрупой людей, раз он ручается за них. Крайне важно использовать опытных честных практиков. Предсовнаркома Ленин». 11 июня эта телеграмма была отправлена в Царицын. Сразу после телеграммы в Царицын выехала еще одна группа специалистов, которая должна была наладить отправку хлеба по железной дороге и волжским путям. Цюрупа ясно сознавал истинное положение дел и, не теряя времени, опираясь на помощь партийных организаций Москвы, разослал новые группы заготовителей, особенно в ближайшие к Москве губернии — Тульскую, Воронежскую, Ярославскую. В Тульскую губернию на должность комиссара военно-продовольственного отряда был назначен В. Л. Панюшкин. Владимир Ильич внимательно следил за работой комиссаров, просил Цюрупу передавать ему их донесения о положении на местах. Ознакомившись с одним из докладов Панюшкина, Владимир Ильич написал письмо Цюрупе, а копию послал Панюшкину: «Из доклада Панюшкина видно, что он прекрасно работает, но неимоверно разбрасывается, берется за 100 дел. Это недопустимо. Надо дать Панюшкину строго определенное, точное, письменно зафиксированное поручение: (1) обобрать и отобрать все излишки хлеба у кулаков и богатеев всей Тульской губернии, (2) свезти весь этот хлеб тотчас в Москву, (3) ни за какое иное дело до полного выполнения этого поручения не браться. Для выполнения дела взять побольше грузовых автомобилей». 17 июня пришло обнадеживающее сообщение из Царицына, где уже работали специалисты, посланные Цюрупой. Чрезвычайные комиссары продовольственного дела на Юге России сообщили, что отправили в Москву полмиллиона пудов хлеба и полторы тысячи голов скота. И полмиллиона (вместо обещанного ранее миллиона) были хорошим подспорьем для Москвы. Однако возникли новые сложности. Железнодорожное сообщение между Царицыном и Москвой было прервано наступлением белогвардейских армий, оставалась надежда на Волгу. Цюрупа дал указание всем губпродкомам в волжских городах мобилизовать баржи, отправить их немедленно в Царицын и обеспечить ускоренное продвижение хлеба по водной магистрали. Но откуда бы ни поступал теперь хлеб, ясно было, что надо искать новые пути, новые методы, которые ускорили бы решение продовольственной проблемы. Революция дала крестьянству землю, но не так-то легко было поднять эту землю. И совсем уже нелегко было вот так, сразу перестроить крестьянскую психологию, сделать даже бедного крестьянина своим безоговорочным союзником и убедить его отдать хлеб для дела революции. Цюрупа не раз высказывал эти мысли Владимиру Ильичу и на совещаниях в Совете Народных Комиссаров, все время размышляя над тем, как лучше и быстрее сделать крестьянина своим подлинным союзником во всех важнейших начинаниях Советской власти. Так возникло предложение, которое Александр Дмитриевич изложил Ленину: надо временно создать в деревнях комитеты бедноты. Это будет лучший и преданнейший союзник Советской власти. Революционная часть крестьян находилась в армии, а разрозненному беднейшему крестьянству трудно в одиночку бороться с кулачеством. Политическая организация поможет ему укрепить свое положение. Середняка же ни в коем случае нельзя оттолкнуть от себя, он был и еще долго будет в Советской России крупнейшим производителем хлеба. В начале июня 1918 года Цюрупа представил набросок декрета. Владимир Ильич попросил несколько дней для обдумывания, а затем, встретившись с Александром Дмитриевичем, сказал, что полностью поддерживает идею о комитетах бедноты, и поручил подготовить окончательный проект декрета для утверждения его в Совнаркоме и ВЦИКе. Цюрупа, не упуская текущие дела Наркомпрода, все вечера работал над декретом. По разработанному им проекту Совнарком и ВЦИК утвердили «Декрет об организации и снабжении деревенской бедноты», и по всей стране начали организовываться комитеты бедноты. Они помогали собирать хлеб, раскрывали запасы, скрытые кулачеством, и, что особенно важно, в определенной степени свели на нет власть кулачества в деревне. Пройдет девять месяцев, и на VIII съезде РКП(б), в марте 1919 года, Ленин в своем докладе даст политическую оценку комбедам, укажет, что только после их организации «наша революция не по прокламациям, не по обещаниям и заявлениям, а на деле стала пролетарской». Но в те дни, когда Цюрупа работал над декретом, революция подверглась новому тягчайшему испытанию. 6 июля начался контрреволюционный эсеровский мятеж. Все последние недели руководители левых эсеров активизировали работу против Советской власти. Ленин, Центральный Комитет партии и Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией знали о действиях эсеров против налаживания продовольственного дела в стране. Как идеологи зажиточного крестьянства, они все больше сползали вправо. Но все же нелегко было предположить, что Мария Спиридонова и ее единомышленники пойдут на провокацию, которая поставит под угрозу дело революции и самое существование Советской власти. Ведь и в Совнаркоме, и во ВЦИКе, и в самом ЧК находились руководящие деятели левых эсеров. 6 июля вспыхнул мятеж; левые эсеры стали на путь откровенной контрреволюции. Брестский мир, добытый огромными усилиями Ленина, был поставлен под угрозу. Убийство германского посла Мирбаха левым эсером дало повод продолжить наступление кайзеровской армии, перед которой, в сущности, лежала безоружная, истекающая кровью, голодающая страна, истерзанная четырехлетней империалистической войной. Первые выступления эсеров были разгромлены, но в последующие дни, во время заседания V съезда Советов, проходившего в Большом театре, взорвались две бомбы. Александр Дмитриевич — участник съезда как член ВЦИК — был свидетелем этих событий. Предотвратили панику железная выдержка и хладнокровие Якова Михайловича Свердлова. Все члены съезда — коммунисты должны были немедленно направляться на Малую Дмитровку в дом № 6 для получения инструктивных указаний о ближайших мерах борьбы, а руководящие деятели были распределены по районам Москвы. В соответствующий район должен был выехать и Цюрупа. О том, что произошло в памятный день, свидетельствует Александр Григорьевич Шлихтер: «Собрание на Малой Дмитровке затянулось до вечера. Уже вечером я и несколько других членов коллегии Наркомпрода вместе с Цюрупой направились по своим районам. Наш путь лежал через Покровку. Недалеко от въезда на Покровку наш автомобиль был задержан каким-то стоявшим на посту часовым-красноармейцем. — Стой! Вылезай из автомобиля! Цюрупа, видя, что заявления шофера не помогают, говорит: — Автомобиль наркома продовольствия, не задерживайте! Но часовой открыл дверцу автомобиля и потребовал: — У кого есть револьвер? Давайте... Оказалось, мы попали в район, находившийся уже в фактическом распоряжении начальника восставшего гарнизона левого эсера Попова, размещавшегося в районе Покровки, в ныне им. Дзержинского казармах... — Вылезай все! Автомобиль вместе с шофером отправится в штаб Попова. Так мы остались без средств передвижения». Трудной была та ночь для Цюрупы. Шлихтер, живший на Покровке, переулками, минуя эсеровские посты, дошел до Московского Совета, а потом — в Кремль, где сообщил Владимиру Ильичу о случившемся. Ленин был очень обеспокоен отсутствием Цюрупы. В Кремль Александр Дмитриевич добрался поздно. В Москву ранним июльским утром въезжали революционные латышские стрелки, рабочие отряды подавляли последние очажки контрреволюции. Следующим утром началось очередное заседание Совета Народных Комиссаров. Александр Дмитриевич дописывал последние строки Декрета о Комитетах бедноты. Ленин то и дело бросал взгляд в сторону Цюрупы. После прошедшей ночи они еще не успели поговорить. Не только эту, но все последние недели Цюрупа спал лишь несколько часов, плохо питался, вид у него был крайне утомленный. Владимир Ильич не раз, в те редкие минуты, когда Цюрупа, уступая настоятельным просьбам его и Надежды Константиновны, заходил на чашку чаю, говорил Александру Дмитриевичу, что он не бережет себя, безобразно обращается с «казенным имуществом»[5], требовал, чтобы Цюрупа отдохнул и, передав хоть на две недельки дела Брюханову и Шлихтеру, поехал куда-либо за город. Александр Дмитриевич все отнекивался, говорил, что успеется. Вот, дескать, поступит хлеб из Тулы, из Тамбова, из Воронежа, и тогда он, может быть, и впрямь выберется. Но хлеб хоть и поступал, однако заботы, одна тягостнее другой, крепко держали его, и он гнал мысль об отдыхе. Москва то и дело совсем оставалась без хлеба, а у пустых лавок стояли безмолвные очереди женщин с голодными детьми на руках. Цюрупа выехал на юг. Трудно вообразить, как ему тогда удалось вырвать хлеб, растолкать всех и вся на железных дорогах и привезти в Москву эшелон с мукой. До Кремля он добрался еле держась на ногах, и тут же, в кабинете Владимира Ильича, потерял сознание. Врач констатировал: голодный обморок. Ленин опять потребовал, чтобы Цюрупа уехал на отдых. Через несколько дней он написал Александру Дмитриевичу записку: «т. Цюрупа! Вид больной. Не теряя времени, — на двухмесячный отдых. Если не обещаете точно, буду жаловаться в ЦК. Ленин».Но о каком отдыхе можно было думать в ту тревожную пору! Жаркое лето шло к закату. После решения Совнаркома о создании комитетов бедноты в безлошадных деревнях неимущие мужики не сразу почуяли свою силу. С опаской поглядывали на богатеев, у которых десятилетиями были в долгу, делали первые трудные шажки к новой жизни. Но даже в самой бедняцкой российской деревушке жизнь брала свое, каждодневно убеждая вчерашнего подневольного пахаря, что будущее принадлежит ему. Но еще много времени должно было пройти, много крови и слез пролиться, чтобы этот вчерашний, вконец обнищавший, до последней степени обобранный царизмом мужичок засыпал в общегосударственные закрома свой хлеб. А кулак по-прежнему прятал добро, отдавал его лишь под нажимом, часто отстреливаясь из обрезов, а то и поджигая хлеб, добытый потом его батраков, убивал продработников. Не было дня или ночи спокойной, одно за другим поступали сообщения от губернских продовольственных комиссаров вроде того, что пришло из Саратова: «Зверски замучен кулаками руководитель продовольственного отряда рабочих Замоскворечья из города Москвы Петр Апаков»[6]. Только несколько недель назад Цюрупа сам провожал его отряд в Саратовскую губернию. А теперь погиб этот сильный, по-юношески добрый человек, рабочий, солдат хлебного фронта. Бесконечен был мартиролог тех лет. Вот несколько строк из него: «Руководитель продотряда Иван Григорьевич Коняшин и его жена зверски замучены белогвардейцами на Дону. В Ванавинском уезде Вятской губернии вооруженной шайкой убиты 19 человек из продотряда». Из сообщения газеты «Красный Север» Вологодской губернии: «Пали жертвой от рук бандитов работники продотряда, посланные на юг России: Левашов Дм., Гончаров Ив., Тимофеев Ив., Данилов А., Кабанов В., Новожилов Хр., Головин В., Гришин А., Шипицин П., Брызгалов В., Малант Сам. Помните, товарищи, что красные герои грудью защищали там, на юге, вашу жизнь и вашу свободу и жизнь ваших детей от голодной смерти!» После эсеровского мятежа были сформированы новые продовольственные отряды для похода на деревенскую буржуазию и взяточников, как того требовал Ленин. Цюрупа в начале августа выехал в дальние губернии, чтобы участвовать в формировании этих отрядов, а главное — подтолкнуть хлебозаготовки и двинуть маршруты по железным дорогам. В Москву Александр Дмитриевич возвратился лишь через две недели. Его ждало тяжкое известие: колчаковцы ворвались в Уфу, бросили в тюрьму его жену и детей, вместе с ними за решеткой оказались семьи Брюханова и Юрьева. Колчаковское командование заявило, что семьи Цюрупы и других большевиков будут расстреляны.
УФИМСКАЯ ТРАГЕДИЯ
После приезда из Уфы в Петроград в январе 1918 года, а затем уже находясь в Москве, Александр Дмитриевич подумывал о том, чтобы забрать из Уфы свою семью. Но каждый раз, когда он уже почти приходил к окончательному решению, его начинали одолевать сомнения, правильно ли он поступит. И дело было вовсе не в том, что они должны были переехать в голодную столицу. И там, в Уфе, им жилось несладко. Узенское, бывшее имение князя Кугушева, где Александр Дмитриевич был управляющим, стало народным достоянием, а сам Вячеслав Александрович допоследнего времени работал в Уфимской продовольственной управе и мог бы помочь семье Цюрупы, с которой он после женитьбы на Анне Дмитриевне Цюрупе, родной сестре Александра Дмитриевича, породнился. Но не такие это были люди, чтобы о себе подумать в первую очередь, а потому семья Цюрупы, как и семья бывшего князя Кугушева, терпела лишения. Александра Дмитриевича беспокоило другое. Он безгранично любил свою семью, понимал, что ее приезд заставит его меньше времени уделять Наркомпроду, а это считал совершенно невозможным. И хотя он знал, что кольцо интервенции сжимается вокруг Москвы, что контрреволюционные армии повсюду наступают и Уфа в их планах занимает весьма важное место, как ключ к Уралу и как плацдарм для наступления на Москву из Сибири, в глубине души он все же надеялся, что Уфа выстоит. Теперь он понял, насколько беспочвенны, призрачны и даже эгоистичны были его надежды, но он также хорошо сознавал, что помочь семье ничем не может. В Наркомпроде уже все знали о том, что произошло в Уфе. Еще накануне Брюханов связался по телефону с тамошним комиссаром продовольствия, успел сказать только несколько слов, как связь прервалась. Вскоре она так же неожиданно восстановилась, и сквозь треск на другом конце провода кто-то прокричал: «Разговор прекращаем. Здание окружает отряд колчаковцев». В трубке раздались револьверные выстрелы, потом наступила тишина. В ту же ночь радиостанция в городке Яранске приняла радиограмму из Казани, немедленно передала ее в Москву Ленину и Свердлову, и страшная правда о том, что произошло в Уфе, подтвердилась. Радиограмма гласила: «Всем! Всем! Всем! ...В Уфе арестованы жены видных большевиков и некоторых комиссаров, в их числе находятся жены комиссаров продовольствия Цюрупы, Брюханова, Юрьева, жена и сын председателя железнодорожного комитета Михина, секретарь Ленина Пориш и комиссар Кодолещев, кроме них много известных советских деятелей и комиссаров». Через несколько часов была перехвачена еще одна радиограмма, сообщавшая то, что уже было известно: жены и дети Цюрупы, Брюханова и других комиссаров будут расстреляны... Утром Цюрупа собрал коллегию, доложил об итогах поездки. Из юго-восточных районов направлены эшелоны с хлебом. Был в Нижнем Новгороде. Баржи отправлены вниз по Волге, но неизвестно, удастся ли им дойти до Царицына. В Саратове хлеб перегружают на железную дорогу, это единственный путь, которым его можно доставить в Москву и Петроград. И вот сидят члены коллегии Наркомпрода и обдумывают каждый маршрут, подсчитывают эшелоны и прикидывают, что еще можно сделать, кому и куда завтра выехать, чтобы добыть, протолкнуть, вырвать из-под земли хлеб. А в Уфе их жены и дети на краю гибели. Но никто из них об этом и звука не проронит. Нельзя и виду подать, что у них сейчас на сердце, какие муки терзают их. А поздно вечером секретарь скажет Цюрупе, что только что прибыл комиссар продовольствия из Вологды с важным сообщением. Он привез четыре вагона масла. Недалеко от Ярославля эшелон с маслом обстреляли, но все обошлось благополучно, никто не убит. Вологодский комиссар докладывает о положении на севере, он еще что-то хочет сказать, но не может, кладет голову на спинку стула и засыпает. Он уже не слышит, как коллегия обсуждает, куда и как распределить этот драгоценный груз из Вологды. Четыре вагона масла! Это целое богатство. Цюрупа и его помощники сейчас должны решить, как поступить с ним. Задача труднейшая. Ведь надо помочь всем. Народный комиссар здравоохранения Семашко не одну записку прислал Цюрупе, просил масло для раненых красноармейцев. Им, конечно, это жизненно необходимо. А рабочим на московских окраинах — им разве не нужно масло? И еще одна из тысяч забот — хорошо бы в кремлевскую столовку дать хоть малую толику. Это столовка была организована по просьбе Владимира Ильича, после того как у него в кабинете Цюрупа упал в обморок от голода. В столовке питаются все члены Совнаркома, многие из них больны, еле на ногах держатся. Но есть и другие претенденты. Эти никогда не попросят, не накричат, не потребуют, как хозяйки у пустых магазинов. Эти только молчат и смотрят широко раскрытыми глазами. Мысль о них не дает Цюрупе покоя ни днем ни ночью. И народный комиссар с молчаливого согласия своих помощников принимает решение и подкрепляет его короткой запиской: «Все четыре вагона масла до последней унции — детским приютам и госпиталям. Наркомпрод А. Цюрупа». Это закон сердца. Так поступает и Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин, когда в его адрес прибывает продовольствие, присланное из далеких мест. Цюрупа еще не раз получит записки секретаря Ленина, такие, как эту: «В приемной ждут двое товарищей, привезших из Азербайджана, с мандатом от Нариманова, в Ваше распоряжение 6 вагонов икры. Ждут Ваших распоряжений». Наискосок на записке будет начертано рукой Владимира Ильича: «В Компрод для детей».Поздно вечером Цюрупа пришел в гостиницу. Еще на лестнице услышал, как трещит телефон. Еле добежал до аппарата. Звонили из Наркоминдела, сообщили, что удалось договориться с иностранными дипломатами о том, что они заявят протест против намерения колчаковцев расстрелять семьи комиссаров в Уфе. По просьбе представителей нейтральных стран протест белогвардейскому командованию подготовил французский консул. Цюрупа поблагодарил за сообщение, тяжело опустился на стул. Сон не шел. Ныло сердце. Надо бы полечиться. Но когда? Не теперь же. Одна мысль продолжала буравить мозг: что будет с семьей? Неужели не удастся ее спасти?.. Утром, только проснувшись, Александр Дмитриевич позвонил в Наркоминдел, спросил, нет ли каких новостей. Дежурный сообщил, что из Уфы через Самарскую радиостанцию принята радиограмма, но она очень путаная, ничего точно установить нельзя. Как будто поступило какое-то предложение по поводу обмена, но что за обмен — никто не знает. Все радиограммы переданы Ленину и Свердлову. — И никаких новых сведений нет? — спросил Цюрупа. — Никаких. Александр Дмитриевич связался с дежурным по Совнаркому и получил такой же неопределенный ответ: ничего точного сказать не можем. Двадцать третьего августа в Совнаркоме был назначен доклад Цюрупы, и Александр Дмитриевич рано утром решил идти в Наркомпрод, чтобы посмотреть еще кое-какие документы, обдумать свое выступление, но не дошел, на лестнице с ним опять случился обморок. Александр Дмитриевич хотел все скрыть, но об обмороке узнала Фотиева, позвонила по телефону, спросила: — Да что же это такое? Когда вы в последний раз нормально обедали? Цюрупа ушел от ответа, сказал Фотиевой: — Пустяки, пройдет. Только никому ни слова. Договорились? Через два часа обморок повторился, пришлось вызвать врача, и тот приказал лежать, так что о докладе в Совнаркоме не могло быть и речи. Приказу врача пришлось подчиниться, но днем Цюрупе стало лучше, и он все же решил идти в Кремль, но тут вмешалась Фотиева. Опасаясь, что состояние Цюрупы может ухудшиться, Лидия Александровна написала записку Владимиру Ильичу: «Я спрашивала разрешения у Цюрупы донести Вам, что у него сегодня был 2 раза припадок и что он доклад делать не может. Он не разрешил, а потому меня не выдавайте». Получив записку, Владимир Ильич встревожился, тотчас же послал Фотиевой ответ: «Не ... разумно было у него брать разрешение. Вызовите Свидерского или Брюханова». Доклад Цюрупы был перенесен, и 24 августа Александр Дмитриевич пришел на заседание Совнаркома. Но Владимир Ильич потребовал, чтобы Цюрупа немедленно ушел домой. Еще за несколько недель до этого Владимир Ильич послал Цюрупе записку: «Дорогой А. Д.! Вы становитесь совершенно невозможны в обращении с казенным имуществом. Предписание: три недели лечиться! И слушаться Лидию Александровну, которая Вас направит в санаторий. Ей-ей, непростительно зря швыряться слабым здоровьем. Надо выправиться! Привет! Ваш Ленин». Владимир Ильич вынужден был решительно потребовать от Цюрупы, чтобы тот начал лечиться, и написал ему официальное «Предписание. 13. VII. 1918 г. Наркому тов. Цюрупе предписывается выехать для отдыха и лечения в Кунцево в санаторию. Предс. СНК В. Ульянов (Ленин)».
Цюрупа и тогда не внял предостережениям врачей и просьбе Владимира Ильича. Да и обстановка была такая, что все никак не мог он урвать хотя бы несколько дней для отдыха. В Подмосковье выдался хороший урожай картофеля, и надо было создать хотя бы минимальные запасы на зиму. Владимир Ильич сам вынужден был заниматься этими делами и все время сносился то записками, то по телефону с Александром Дмитриевичем. А в двадцатых числах августа Ленин писал Цюрупе: «Мне упорно сообщают, что с картошкой (не нормирована) происходит (в областном продовольственном комитете и инде[7]) тьма злоупотреблений. По 20 рублей за пуд-де предлагают купцы завалить Москву. Продают-де из рук в руки по 28 рублей (мелочная торговля) и т. д. Как Вы относитесь к назначению ревизии?..»
О каком же отдыхе могла идти речь, когда нельзя было и на день отлучиться из Москвы? Но теперь, в конце августа, он так себя отвратительно чувствовал, что готов был даже слушаться врачей, тем более что Ленин ему вручил еще одно «Предписание 24 августа 1918 г. За неосторожное отношение к казенному имуществу (2 припадка) объявляется А. Д. Цюрупе 1-ое предостережение и предписывается немедленно ехать домой... Ленин».
Цюрупа выехал в Кунцево, мучился там от безвестности о судьбе семьи. И хотя ему было запрещено говорить по телефону, он тайком от врача ночью звонил в Наркоминдел в надежде узнать, есть ли обнадеживающие новости. Но ничего хорошего ему сообщить не могли, и он до утра не смыкал глаз. И еще он беспокоился, что не знает, поступает ли хлеб с Тамбовщины и Тулы и сколько картофеля заготовлено для голодной Москвы... Несмотря на запреты врачей и просьбы Ленина не отлучаться из санатория, Цюрупа все же через несколько дней бежал из Кунцева в город и, добравшись до Кремля, передал Ленину следующую записку: «Владимир Ильич, я приехал с разрешения врача и в сопровождении его для разговора с Вами в течение 10 м. Очень прошу не отказать; буду ждать до бесконечности в соседней комнате. А. Цюрупа».
Лидия Александровна Фотиева возмутилась приездом Александра Дмитриевича, сказала, что не передаст записку, а скажет Владимиру Ильичу, что Цюрупа грубо нарушил предписание. Но Александр Дмитриевич вынужден был объяснить, какие чрезвычайные обстоятельства заставили его покинуть санаторий, и тогда Фотиева все же передала записку и возвратилась с ответом Ленина: «Тогда ждите дома у себя (или у меня). Я постараюсь».
БОРЬБА С МЕШОЧНИКАМИ. ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ
Обстоятельства, заставившие Цюрупу бежать из Кунцева для немедленной встречи с Владимиром Ильичем, были действительно крайне важные. Его волновало, что на волжских пристанях кое-где задержалась погрузка хлеба на баржи и теперь надо было, чтобы речники, и без того выбивавшиеся из сил, и армия, которая помогала, как могла, действовали вместе еще энергичнее. Была и еще одна причина срочного отъезда Цюрупы из санатория... Владимир Ильич не заставил долго ждать, пришел к Александру Дмитриевичу на квартиру. Взглянув на его измученное лицо, с тревогой спросил, нет ли новых сообщений из Уфы. Цюрупа ответил, что никаких сведений не поступало. Ленин, не желая бередить рану и понимая, что сам сейчас, в данную минуту, он ничем помочь не может, без обиняков спросил, зачем Цюрупа приехал в Москву. Причина была вот в чем. В те дни, когда Цюрупа находился в Кунцеве, было принято постановление о так называемом полуторапудничестве. Крайне тяжелое продовольственное положение в столице заставило Московский Совет поставить вопрос перед Совнаркомом, чтобы рабочим разрешили заготавливать хлеб, выезжать в районы и привозить оттуда до полутора пудов муки. Заградительные отряды получили указание пропускать рабочих-заготовителей. Ленин, дав согласие на полуторапудничество, пошел на этот шаг как на крайнюю и временную меру. Деникинские армии захватили Северный Кавказ, и оттуда перестал поступать хлеб, прекратился подвоз хлеба из Южного Поволжья. В этой тяжелой ситуации учтено было и то, что многие рабочие в промышленных и других городах родственными узами связаны с деревней и им легче будет оттуда получать хлеб и другие продукты. Записка Ленина в Московский продсовдеп поможет лучше понять обстановку, которая была в то время в стране. Вот этот документ: «Прошу дать удостоверение Аксинье Емельяновой Кузнецовой, живущей в г. Москве, по Цветному бульвару, в д. № 25 (Морозова), кв. 12, — в том, что Московский продсовдеп не имеет ничего против разрешения ей провезти в Москву собственный (не покупной) хлеб, в количестве от 2 до 4 пудов, от братьев Кузнецовой, Дворецких, живущих в дер. Озерки, Веневского уезда, Тульской губ. Прошу уведомить меня об исполнении. Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)».Конечно, Совнарком и Центральный Комитет РКП большевиков понимали, что полуторапудничеством воспользуются спекулянты-мешочники в целях собственной наживы. Но другого выхода не было. Это прекрасно понимал и народный комиссар продовольствия. Однако, находясь на командной вышке продовольственного фронта, он наиболее ясно понял, что, кроме пользы, полуторапудничество приносит все больше вреда. Потому он и приехал из Кунцева для встречи с Лениным. Трудный разговор был в те полчаса. Цюрупа сказал, что полуторапудничество подорвет хлебную монополию. В образовавшуюся брешь ринутся десятки тысяч спекулянтов. Он сообщил, что и член коллегии Наркомпрода Л. И. Рузер, ведавший всеми заградительными отрядами, считает создавшееся положение нетерпимым и подаст в отставку, если полуторапудничество не будет отменено. Владимир Ильич сказал Цюрупе, что знает о критическом положении и они к этому вопросу вернутся в ближайшие дни, а пока потребовал, чтобы Цюрупа немедленно возвратился в Кунцево. Тем временем все эти дни августа между Москвой и Уфой продолжался обмен радиограммами и появился слабый проблеск надежды на спасение обреченных. Что же происходило в Уфе? В те дни, когда в Уфу ворвались колчаковские войска, там находилась Нина Григорьевна Цюрупа, жена брата Цюрупы Виктора Дмитриевича. Ей удалось скрыться. Но, оценив создавшееся положение, она решилась на отчаянный шаг — явилась к белым властям, рискуя быть арестованной, и предложила им начать переговоры об освобождении жен и детей большевиков. Замысел Нины Григорьевны был до дерзости прост, она учла все возможные последствия и решила, что у нее есть некоторые шансы на успех. Гражданскими делами в Уфе заправлял бывший министр правительства Керенского Веденяпин, его ближайшими сотрудниками были губернский уполномоченный Гиневский и городской голова Берниковский. Вот на него-то и была у Нины Григорьевны Цюрупы надежда, хотя и весьма призрачная. Дело в том, что жена Брюханова, Софья Николаевна, была родной сестрой жены Берниковского. Еще 8 августа Нина Григорьевна явилась к Берниковскому и предложила, чтобы ей дали возможность выехать в Москву. Она полагает, что белогвардейское командование не прочь обменять большевиков на заложников, арестованных советскими властями. Так вот, она поедет в Москву, где встретится с Александром Дмитриевичем Цюрупой и изложит ему условия белых по поводу возможного обмена. Берниковский тянул, хотя и заинтересованно отнесся к предложению Нины Григорьевны. После нескольких встреч с ним ей было выдано удостоверение для проезда через линию фронта белых войск. До Самары Нину Григорьевну сопровождал в качестве соглядатая врач Мизеров, агент белых властей. В Самаре ей предстояло выдержать еще одно испытание. Колчаковский комендант, вынужденный по приказу своего начальства оформить ей пропуск для дальнейшего проезда, процедил сквозь зубы: «Цюрупа! Какое искушение расстрелять на месте». Нина Григорьевна приехала в Москву, и Ленину было доложено о ее переговорах с уфимскими властями. Радиограммы из Уфы подтвердили готовность белогвардейского командования пойти на обмен. В тот же день Совет Народных Комиссаров принял решение немедленно приступить к обмену. Но кому поручить эту миссию? Три человека обсуждали вопрос, который надо было решить без промедления: Ленин, Свердлов и Цюрупа, уже вернувшийся из Кунцева. — Кого вы предлагаете, товарищи, для посылки в Уфу через линию фронта белых, кому мы можем доверить эту трудную, сложную и опасную миссию? — спросил Ленин. — Вячеславу Александровичу Кугушеву. Вы его знаете, Владимир Ильич, — ответил Цюрупа. Владимир Ильич действительно давно знал Кугушева, слышал о нем немало отзывов от Александра Дмитриевича и сразу же дал согласие. Нина Григорьевна Цюрупа подтвердила, что Кугушев находится если не в самой Уфе, то недалеко от города. В тот же день Александр Дмитриевич снарядил в Уфу нарочного с поручением разыскать Кугушева, чтобы тот любой ценой немедленно выехал в Москву для получения инструкций и мандата от Советского правительства. Надо было спешить. Через Уфимскую радиостанцию белогвардейцы снова заявили, что все заложники будут уничтожены, если Советское правительство не освободит колчаковцев, арестованных также в Бирске и Мензелинске, и не передаст их белым. Но тут возникло опасение, что весь план обмена может рухнуть. Из-за несовершенства радиосвязи радиограммы между Москвой и Уфой передавались с большим опозданием. Ненадежной была и связь Москвы с командованием частей Красной Армии, в руках которого находились белогвардейцы из Уфы. Это могло привести к тому, что белогвардейцев-заложников могли расстрелять. Чтобы это предотвратить, в Сарапульский Совдеп была отправлена срочная телеграмма. В ней предписывалось ввиду предлагаемого обмена содержащихся в Сарапуле уфимских заложников на большевиков, арестованных в Уфе, принять меры к ограждению жизни арестованных. Опасаясь, что телеграмма в Сарапул из-за всеобщей неразберихи может попасть с опозданием, Владимир Ильич попросил Якова Михайловича Свердлова связаться со штабом 5-й армии. Свердлов по прямому проводу предписал принять «строжайшие меры их (белых заложников. — З. Ш.) безопасности ввиду предполагающегося ближайшее время обмена». Вмешательство Ленина и Свердлова дало ход всему делу. Белогвардейцы были собраны в одном месте, обмен произойдет не сегодня-завтра, появилась серьезная надежда, что семьи большевиков в Уфе будут спасены. 10 октября председателю Вятского губисполкома была направлена следующая телеграмма: «В связи с переговорами об обмене немедленно вышлите Москву распоряжение Ц. И. К. надежной охраной всех заложников, вывезенных из Уфы заключенных Вятской тюрьме точка Примите все меры их безопасности пути точка... За их безопасность и неприкосновенность возлагаю личную ответственность начальника конвоя точка Исполнение телеграфируйте. Председатель ВЦИК Свердлов». Пока по радио шли переговоры, которые должны были оттянуть трагическую развязку в Уфе, Александр Дмитриевич связался с Кугушевым через специально посланного человека и сообщил о поручении Ленина. Кугушев, пробираясь через линию фронта, прибыл в Москву, а 28 ноября выехал в Уфу. Накануне была отправлена следующая телеграмма: «Симбирск Штабу Пятой армии. Завтра выезжает Симбирск Кугушев, уполномоченный Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета для обмена заложников с Уфой». Далее в телеграмме предлагалось оказать ему всяческое содействие, выдать надлежащие документы для беспрепятственного переезда через фронт совместно с сопровождающим его гражданином Шубиным. В тот же день, 28 ноября, по поручению Владимира Ильича Кугушев отправляет в Уфу радиограмму, которая должна сыграть большую роль. Имя Кугушева было широко известно в Уфе, авторитет его должен был оказать давление па белогвардейское командование. И вот радиостанции Москвы и других городов передают открытым текстом следующее сообщение:
«Радиотелеграмма Уфа Комитету учредительного собрания Находившиеся Вятской тюрьме шестнадцать заложников из Бирска и Мензелинска все освобождены точка Также освобождены заложники вывезенные из Уфы и находившиеся в Москве двоеточие Зеленцов Шубин Аугазин Конщин трое Маркиных Вусов Белобородов и Насонов точка Завтра двадцать девятого ноября выезжаю вместе с Шубиным настоятельно прошу немедленно освободить всех находящихся Уфе под арестом уфимских заложниц и предоставить им если они пожелают полную возможность отъезда из Уфы. Делегат Международной Комиссии Красного Креста Кугушев».
Приближалась зима 1918 года. Северный Кавказ был захвачен Деникиным. Не было надежды и на хлеб из Южного Поволжья. Москву, Петроград и другие промышленные центры могли кормить только старые русские губернии. Они никогда не считались особо хлебными, но другого выхода не было. Наркомпрод сосредоточил свои усилия в центральной полосе России и в районах Предуралья. Надо было любой ценой еще решительнее пресечь мешочничество и спекуляцию, охватившие целые области. Цюрупа выехал в юго-восточном направлении от Москвы. Раньше там заготовки хлеба шли лучше, чем в других местах. Теперь мешочники все захватили в свои руки — торговали не только хлебом, но и всякой всячиной, крайне необходимыми крестьянину товарами. Резко взлетели цены на хлеб и другие продукты. Газета «Известия» выступила со статьей «Полуторапудовая вакханалия». «Мешочники, — писала газета, — закупили почти всю имеющуюся муку: заняли в селах все пекарни, выпекли массу хлеба и вывезли. Села по линии Ртищево — Балашов в течение шести дней очистили совершенно не только от хлеба, но и от картошки, масла, фруктов, мяса, колбасы...» Цюрупа ознакомился с положением дел в главных районах мешочничества, вернулся в Москву, сразу же встретился с Лениным, рассказал о виденном и слышанном: мешочничество необходимо взять за горло, немедленно отменить полуторапудничество. Владимир Ильич дал согласие. За последние недели Москва получила некоторое облегчение, можно было вернуться к порядкам, установленным Наркомпродом. Ноябрь принес ветры надежды. В Киле восстали матросы — началась революция в Германии. Кайзер бежал в Голландию. В Берлине и других немецких городах возникли Советы рабочих и солдатских депутатов. В голодной Москве и других городах, в бесчисленных рабочих поселках России сушили сухари для немецких пролетариев, для германской революции. Цюрупа на станции сам провожал уходящие в Берлин эшелоны с хлебом. Просил передать привет немецкому пролетариату. И когда последний вагон скрывался в дымке, Александр Дмитриевич еще долго с мягкой улыбкой смотрел ему вслед...
В середине декабря к Александру Дмитриевичу пришло долгожданное известие. Вячеслав Александрович Кугушев в лютый мороз перешел линию колчаковского фронта и успешно провел переговоры с белогвардейским командованием. Семья Цюрупы и семьи других большевиков были спасены. Радостная весть застала Цюрупу в постели: грудная жаба все чаще и чаще давала о себе знать, и снова пришлось подчиниться врачам. Но теперь дни летели быстро, приближая встречу с семьей. Предполагалось, что Мария Петровна приедет в Москву с детьми к новому году, но до прихода Красной Армии, освободившей город 1 января 1919 года, выбраться из Уфы не удалось. Пришлось прятаться по разным квартирам, и получилось так, что младшие дети оказались у чужих людей. Старшие сыновья Митя и Петя воевали против белогвардейских банд. Отчаявшись найти младших детей, Мария Петровна выехала в Москву, прибыв туда в середине января 1919 года. Розыски пропавших детей народного комиссара продовольствия продолжались. А они тем временем бродили из одного детского приюта в другой. Наконец, в апреле их разыскали и привезли в Москву. Только теперь после всего пережитого семья собралась под одним кровом, в небольшой квартире в Кремле, куда переехал Цюрупа. Владимир Ильич, урывая минуту-другую, заходил к Цюрупе. Как-то заглянул во время обеда, увидел, как Мария Петровна делит один обед на двоих детей. Ничего не сказал, ушел.
15 мая 1919 года Владимир Ильич обратился с запиской к членам Президиума Центрального Исполнительного Комитета. Вот текст этого документа: «Цюрупа получает 2 000 руб., семья 7 чел., обеды по 12 руб. (и ужин), в день 84×30=2 520 рублей. Не доедают! Берут 4 обеда, этого мало. Дети — подростки, нужно больше, чем взрослому. Прошу увеличить жалованье ему до 4 000 руб. и дать сверх того пособие 5000 руб. единовременно семье, приехавшей из Уфы без платья. Прошу ответить. Ленин».
После приезда Марии Петровны здоровье Цюрупы пошло на поправку, но приступы грудной жабы все же повторялись. Однако Цюрупа настоял, чтобы врачи отменили предписанный ему постельный режим, и сбежал в Наркомпрод; снова потянулись дни и ночи тяжкого труда, выезды в губернии и т. д. Владимир Ильич, обеспокоенный состоянием Цюрупы, 19 февраля 1919 года направил Александру Дмитриевичу предписание: «Предписывается Наркому А. Д. Цюрупе, ввиду приступа его к работе и необходимости охраны казенного имущества, строго соблюдать предосторожности, больше двух часов без перерыва не работать. Позже 10 1/2 час. вечера не работать. Приема публике не давать. Ограничительные предписания Лидии Александровны Фотиевой исполнять беспрекословно. Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)», Возвратившись в Наркомпрод после нескольких недель вынужденного отсутствия, Цюрупа снова окунулся в работу. И с большой радостью, с каким-то особенным волнением ощутил, увидел, как вырос, сложился, повзрослел созданный им продовольственный штаб, которому партия, Ленин поручили труднейшее дело. Все так же гудели коридоры от массы приезжающих и отъезжающих комиссаров продовольствия, солдат из заградительных отрядов, представителей Совдепов, но уже четче, слаженнее был стиль работы, полнее и ритмичнее пульс этого организма, который вся страна называла кратким и звучным словом: «Компрод». Еще в начале зимы восемнадцатого года Центральный Комитет РКП(б) счел функции комитетов бедноты выполненными. Основная масса крестьянства начала укреплять свои позиции в деревне. Но битва за хлеб продолжалась, надо было готовиться к новому урожаю.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА
Летом девятнадцатого года Врангель продолжал хозяйничать в Крыму, Юденич шел на Петроград, а Деникин рвался к Москве. Еще была впереди страшная засуха в Поволжье, и Совнарком обратится с письмом «К товарищам рабочим, ловцам Аральского моря». И каждое слово его будет звучать как набат: «Вся надежда казанских, уфимских, самарских, астраханских голодающих на великую пролетарскую солидарность (согласие) таких же, как они сами, трудовых людей, с мозолистыми руками, собственным горбом добывающих свое пропитание...» Еще будут и другие трудности, кровавые бои с интервентами и белогвардейскими бандами, борьба с тифом, поджогами, битва за каждый пуд хлеба, за каждый фунт масла. Но все-таки первый шаг был сделан, к июлю 1919 года подсчитали количество заготовленного хлеба: за предыдущий год и начало этого — по первое мая было собрано сто тридцать миллионов пудов. 3 июля Ленин написал Цюрупе записку: «Созвонимся завтра, надо будет урвать от заседания Цека... теперь трудно, но лучше 1918». Они встретились на следующий день. Владимир Ильич любил беседы с Александром Дмитриевичем у себя или у него дома, когда за чашкой чаю, не отвлекаясь на непрерывные телефонные звонки, можно было обмениваться мыслями, советоваться, спорить, шутить. В тот июльский вечер они говорили о том, что сделано и предстоит еще сделать завтра, в ближайшее время. Машинально помешивая чай ложечкой, Ленин повторил: «Будет трудно, но лучше, чем в восемнадцатом...» Прошло почти четыре года после Октября. Весной 1921 года собрался X съезд Российской Коммунистической партии большевиков. По предложению Ленина на нем была обсуждена и провозглашена новая экономическая политика. Необходимость перехода на рельсы нэпа была продиктована всем ходом развития страны, интересами революции: надо было поднять крестьянство, дать ему товары, это было в интересах всего народа. Продовольственную разверстку заменили продовольственным налогом. В конце 1921 года, когда голод в основном был побежден и даже в засушливом Поволжье удалось накормить людей, Ленин счел миссию Цюрупы на продовольственном фронте выполненной. По предложению Ленина его назначили заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров, и в отсутствие Владимира Ильича на заседаниях Совнаркома председательствовал по его просьбе не кто иной, как Александр Дмитриевич Цюрупа. А в Наркомате продовольствия Цюрупу сменил Николай Павлович Брюханов. Партия поручала Александру Дмитриевичу все новые и новые важнейшие государственные посты — народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции, председателя Госплана, неизменно оставляя его заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР. Популярность Цюрупы в народе была широкой и заслуженной. По всей справедливости назвав Александра Дмитриевича одним из ближайших соратников и друзей Владимира Ильича, Глеб Максимилианович Кржижановский писал: «Именно по воле Владимира Ильича был брошен этот человек в первые ряды борцов труднейшего советского строительства в самую критическую полосу его существования, в полосу борьбы за самое право бытия. И сразу на плечи Александра Дмитриевича выпала едва ли не самая трудная задача тех решающих судьбы пролетарской революции лет». Роль Цюрупы в строительстве Советского государства признавалась и за рубежами нашей страны. Когда его назначили народным комиссаром внутренней и внешней торговли, парижская газета «Информасьон» писала: «Г-н Цюрупа старый друг Ленина, одно из видных лиц настоящего правительства... После революции г-н Цюрупа берет на себя трудную обязанность народного комиссара по продовольствию. В то время была полная дезорганизация транспорта, когда сам Ленин следил за движением поездов, прибытие которых являлось событием. Г-н Цюрупа знает, что значит трудное положение». Так шли годы. Александр Дмитриевич помогал формировать государственный аппарат в новых условиях, создавал общегосударственную систему внутренней и внешней торговли, ведал вопросами транспорта, обороны. 7 марта 1924 года в «Продовольственной газете», выходившей в ту пору в Москве, было опубликовано объявление: «Образованная при НКПроде приказом за № 151 от 18 декабря 1923 г. Комиссия под председательством народного комиссара по продовольствию СССР тов. Н. П. Брюханова по вопросу о награждении сотрудников НКПрода юбилейным знаком (жетоном) Народного Комиссариата по Продовольствию, учрежденным 18 декабря 1923 г. в ознаменование 6-летней работы НКПрода, служившей одним из крупнейших факторов закрепления завоевания пролетарской революции, 6 февраля 1924 г. постановила: Наградить юбилейным знаком продработников и бывших продработников по следующему списку № 1...» Список № 1 включал 207 фамилий, 207 солдат хлебного фронта — тех, кто в лютый мороз, в распутицу, в зной и вьюгу под пулями врага шел по дорогам России, чтобы добыть хлеб для голодных людей. Хлеб для спасения революции. Первым в списке значился Александр Дмитриевич Цюрупа. Вошли в список награжденных командиры и комиссары продовольственных отрядов, губернские и районные продкомиссары, солдаты заградительных отрядов, боровшиеся с пагубным мешочничеством, партийные работники и, конечно, ближайшие помощники Цюрупы: Александр Григорьевич Шлихтер, Николай Павлович Брюханов, Алексей Иванович Свидерский, Дмитрий Захарович Мануильский, Отто Юльевич Шмидт, Артемий Багратович Халатов, Роберт Индрикович Эйхе, Моисей Ильич Фрумкин, Владимир Леонидович Панюшкин, Леонид Исаакович Рузер, Семен Захарович Розовский, Аким Александрович Юрьев. Через несколько дней после опубликования приказа Наркомпрода награжденным вручали юбилейные знаки. Первым награду получил Цюрупа. Он сказал Брюханову: — Первый знак принадлежит ЕМУ. — Но ЕГО уже нет с нами, — ответил Николай Павлович. И они молча посмотрели друг другу в глаза... После вручения памятных знаков Александр Дмитриевич выступил с краткой речью. Он сказал то, чего не мог не сказать: «Все продовольственные работники, ныне разбросанные по всему лицу Союза Социалистических Республик, работающие во всех ведомствах и на всех поприщах, работающие в области хозяйственной жизни страны и в области партийной жизни, все они должны знать, что именно Владимир Ильич был творцом и создателем продовольственной политики. Все они должны знать и помнить, что именно он на своих могучих плечах вынес эту колоссальную работу. Только благодаря ему усилия продовольственников, усилия многих тысяч партийных работников и многих десятков тысяч беспартийных рабочих увенчались успехом». Вечером был товарищеский чай с лимоном. Чтобы всем хватило, его нарезали тоненькими дольками. А когда ужин закончился, Цюрупа предложил почтить память погибших на продовольственном фронте, тех, кто был забит кулаками, утоплен в прорубях, застрелен из-за угла, зарублен шашками, заживо сожжен. Наступила минута молчания, все стояли с поникшими головами. Это были простые люди, кто в старых солдатских гимнастерках, оставшихся от гражданской войны, а кто в цивильных костюмах. Они не были титанами из древних мифов, а родились, жили и боролись на нашей земле за будущее своего народа.Миссия Яна Берзина
Среди первых советских дипломатов находились Г. В. Чичерин, Л. Б. Красин, В. В. Воровский, Я. А. Берзин, М. М. Литвинов, А. М. Коллонтай, В. Р. Менжинский, Д. 3. Мануильский и другие видные партийные и советские работники. Советские дипломаты, как бойцы на фронтах гражданской войны, с революционной самоотверженностью боролись за наше великое дело и подчас, как бойцы, погибали на своих постах. (Из доклада А. А. Громыко на торжественном собрании, посвященном 50-летию советской дипломатической службы)
22 октября 1918 года около двух часов дня к пароходной пристани курортного города Лугано в Южной Швейцарии подошел средних лет мужчина в темном пальто и такого же цвета шляпе. Вместе с ним была женщина и семилетний мальчик. Не задерживаясь на пристани, все трое направились в сторону мостков, к которым были привязаны прогулочные лодки. Мужчина взял на руки мальчика и шагнул в лодку. Вслед за ними прошла женщина и села за руль. В это время к пристани причалил небольшой пароходик и начал медленно швартоваться. Пристально вглядываясь в лицо человека, стоявшего на палубе и наблюдавшего за швартовкой, мужчина в лодке все не садился на весла. — Месье Доманский, почему мы не отчаливаем? — спросила по-французски женщина в лодке. Словно не слыша обращенного к нему вопроса, Доманский продолжал разглядывать человека на палубе. Тот поймал его взгляд, пожал плечами, как бы уверяя себя в нелепости промелькнувшей мысли, сошел на пристань и исчез в толпе. — Что с вами? — спросила женщина, понизив голос; в ее глазах показалась тревога. Не отвечая, Доманский налег на весла. Лодка понеслась вперед. — Что случилось? — повторила свой вопрос женщина. — Кто этот человек? Доманский, помолчав, сказал: — Это мой старый знакомый. — Но кто он? — Локкарт. — Локкарт? Не может быть. Вы не ошиблись? — Нет. Ошибка исключается. — Что же вы намерены делать? — спросила женщина. — Что делать? А вот что: когда отходит из Лугано вечерний поезд в Берн? — Двадцать минут восьмого. — Прекрасно. — Вы хотите сказать, что мы уезжаем сегодня, а не завтра? Так я вас поняла? — Да, Софи, именно сегодня... но у нас еще есть время, и мы славно покатаемся. После прогулки пообедаем, отправимся в отель, я соберу вещи, а вы пойдете на почту и отправите телеграмму. Когда наш поезд должен прийти в Берн? — В семь утра. — Очень хорошо. Так и сообщите: «Берн, Шваненгассе, 4, Русскому послу Яну Берзину. Буду первым утренним поездом». И подпишите свое имя... Тот, с кем месье Доманский едва не столкнулся на пристани озера Лугано, действительно был Локкарт, английский дипломат, один из главных организаторов заговора иностранных послов, пытавшихся уничтожить правительство Ленина и покончить с Советской властью. Заговор был раскрыт, Локкарт арестован, и его допрашивал Феликс Эдмундович Дзержинский. Локкарта должны были судить. Но тотчас после его разоблачения и ареста советскими органами английские власти, не прикрываясь никакими доводами, арестовали народного посла Советской России в Лондоне Максима Максимовича Литвинова. Его бросили за решетку тюрьмы Брикстон и на двери камеры повесили табличку: «Пленник Его Величества». Тогдашним и без того слабым связям Советской России с внешним миром арест Литвинова наносил серьезный ущерб. Ленин предложил обменять Локкарта на Литвинова. Английское правительство согласилось. Было договорено: Локкарта отправят на границу, и пересечет он ее лишь тогда, когда в Москву поступит сообщение, что Литвинов выехал из Англии и находится уже в Норвегии, откуда направится в Советскую Россию. Однако в Москве не знали, что Локкарт после отъезда из России окажется не в Лондоне, а в Лугано. Но кто такой месье Доманский? Перенесемся мысленно в первые месяцы революционной России. Одним из первых шагов Советской власти после победы Великой Октябрьской социалистической революции был Декрет о мире. В этом декрете правительство рабочих и крестьян России обратилось к народам и правительствам всех воюющих стран с предложением немедленно начать переговоры о справедливом демократическом мире — мире без аннексий и контрибуций. Однако империалистические державы не желали и думать о прекращении мировой бойни. Лишь Германия, зажатая между двумя фронтами, пошла на мирные переговоры с Россией. Переговоры начались в Брест-Литовске. Троцкисты и прочие сторонники так называемой «революционной войны» сорвали установившееся было перемирие. Немцы продолжали военные действия, захватили Двинск и начали наступать на Украину. Перед кайзеровскими дивизиями лежала, в сущности, безоружная страна. Бывшие союзники царской России готовили заговоры против молодой Советской власти. В один из дней февраля, поздно вечером, к особняку американского посольства в Петрограде подъехали грузовики. На них спешно погрузили имущество. Весь состав американского посольства во главе с послом Фрэнсисом выехал в Вологду. Вслед за ними демонстративно оставили Петроград посольства Англии, Франции и других «союзных» стран. Отъезд иностранных дипломатов из Петрограда означал, что внешнеполитическая изоляция Советской России стала еще большей. Со дня на день ожидалась фронтальная интервенция империалистических держав. Положение осложнялось еще и тем, что были полностью прерваны связи с революционными социалистами Запада, а в то же время правые социалисты ряда стран готовили свою конференцию. В противовес ей была предпринята попытка срочно созвать международную конференцию левых социалистов — за ее созыв высказались представители ряда левых партий Запада. В качестве одного из условий предстоящего совещания было выставлено требование поддержки Великой Октябрьской социалистической революции. И вот тогда, в феврале 1918 года, было решено направить в Швецию для участия в этой конференции делегацию ВЦИК, с тем чтобы она потом отправилась в Англию и Францию. Это позволило бы рассказать народам правду о России и об Октябрьской революции. Главой советской делегации Ленин предложил назначить Коллонтай. Александра Михайловна была хорошо известна всей партии и пользовалась большой популярностью за границей. Позже она писала в журнале «Пролетарская революция»: «В феврале 1918 года в качестве члена русской делегации ВЦИК вместе с товарищами Натансоном, Берзиным и др. пытались проникнуть в Швецию...» Марк Андреевич Натансон (партийный псевдоним Бобров) принадлежал к старой когорте русских революционеров. Он родился в середине прошлого века, был участником Первого Интернационала. В девятнадцатилетнем возрасте вместе с молодым помещиком Николаем Чайковским организовал революционный кружок, но вскоре был арестован и выслан в Архангельскую губернию, где провел пять лет. В 1876 году он создал новую конспиративную организацию и с группой ближайших друзей совершил налет на тюрьму, где томился его друг и соратник по кружку «чайковцев» князь Петр Алексеевич Кропоткин. Кропоткина удалось освободить. Натансон помог ему бежать за границу. Сам же, оставшись в России, стал одним из основателей «Земли и воли», а после раскола этой организации — народовольцем. Был арестован, отправлен на каторгу в Восточную Сибирь, где провел десять лет. Вернулся, продолжил борьбу, был заключен в Петропавловскую крепость и затем снова сослан в Сибирь. После революции Натансон был избран членом Президиума ВЦИК. А теперь познакомимся с Яном Антоновичем Берзиным, которому месье Доманский направил телеграмму в Берн. 4 июня 1929 года по просьбе Института Ленина Ян Берзин (Зиемелис) написал свою автобиографию: «Я родился в 1881 году в Фегенской волости... Родители — латышские крестьяне-середняки. Рано, в возрасте 6 или 7 лет начал работать в отцовском хозяйстве, сначала пастухом, потом фактически батраком. Учился (в зимние месяцы) в Цирстенской волости, потом в Старо-Пебальском приходском училище. Впоследствии удалось поступить в учительскую семинарию в Риге. По окончании последней два года был сельским учителем». В тот же июньский день Ян Берзин заполнил анкету для старых большевиков. Было ему тогда сорок восемь лет, из которых двадцать семь он находился в рядах большевистской партии, вступив в нее в 1902 году. Ответы Берзина кратки. — Какова ваша основная профессия, заработок, средства существования? Ответ. Дипломат, журналист, получаю партмаксимум. — Были ли в тюрьмах и ссылке? Ответ. В тюрьме три раза (в 1903, 1904, 1905— 1906 годах). В административной ссылке в Олонецкой губернии в 1904—1905 годах. — Были ли в эмиграции? Ответ. С 1908-го по 1917-й в Цюрихе, Париже, Брюсселе, Лондоне, Бостоне, Нью-Йорке. — Работаете ли вы и теперь в интересах Советского государства? Ответ. Член ЦК КП(б) Украины. — Чем можно улучшить не тольковаше здоровье, но и ваши способности к борьбе за наши идеалы? На этот вопрос Ян Берзин не ответил: о своем здоровье он не любил говорить. Данные анкеты кратки, мы попытаемся их дополнить. В 1905 году Латышский комитет РСДРП поднял восстание в Риге. Ян Берзин сражался на баррикадах у моста возле Даугавы. Генерал-губернатор вызвал из Петербурга отборные карательные войска. Бои были жаркие. Берзин был в первых рядах сражавшихся, но стрелял, закрыв глаза: не мог убивать людей. Его схватил карательный отряд, жестоко избили. Но каратели не знали, что у них в руках Ян Берзин. Они отправили его в ссылку, хотя царский суд заочно приговорил Яна Антоновича к смертной казни. Так Берзин в 1905 году оказался в Олонецкой губернии, в поселке Вытегра. Поздним летом туда прибыла молодая социалистка Роза Гармиза. Политический ссыльный князь Кугушев, также находившийся в Вытегре, и Ян Берзин познакомились с ней и вместе разработали план побега. Решили бежать на каком-нибудь суденышке, добраться на нем до Петербурга, а оттуда махнуть за границу[8]. Князь бежал из столицы в пограничный городок Гольдап. Берзин остался в Петербурге, где работал в большевистской организации, и был послан делегатом на Лондонский съезд РСДРП, возвратился обратно на подпольную работу, а в 1908 году вынужден был эмигрировать в Цюрих. Там, за границей, судьба навсегда соединила его с Розой Гармиза. Вот как это произошло. В 1907 году Гармиза была арестована за революционную деятельность и сослана в Туруханский край. В 1908 году бежала в Париж. Узнав, что Берзин в Цюрихе, написала ему. Ян сообщил товарищам в Заграничном бюро ЦК РСДРП, что любимая девушка во Франции, и просил перевести его туда на работу. Берзина направили редактором Бюллетеня Загранбюро ЦК. Он приехал в Париж и пришел к Розе в ее мансарду в Латинском квартале. Они навсегда связали свою судьбу. Но трудна эмигрантская жизнь. В префектуре потребовали брачный контракт с подписями родителей. А где возьмешь его да еще с подписями родителей, которые находятся за тысячи верст и понятия не имеют о том, что где-то там, в далеком Париже, их дети решили пожениться. Брак не был зарегистрирован, но жизнь есть жизнь, и в 1910 году у Берзиных родилась дочь. Война заставила их уехать в нейтральную Бельгию, но туда вторглись немецкие армии, и пришлось переселиться в Лондон. И там было не легко и не просто. Хозяйка квартиры — пуританка, узнав — о боже! — что ее новые постояльцы состоят в гражданском браке, потребовала, чтобы и духу их не было в ее благочестивом доме. Пришлось вновь подумать о регистрации брака. В местной мэрии Берзиных встретили без цветов и гимна. Не поднимая на них глаз, клерк сказал, что нужны свидетели, которые могут подтвердить, что присутствовали на свадьбе. Потом добавил ледяным тоном: — Здесь у дома на улице прохаживаются джентльмены. Поговорите с ними. У подъезда мэрии на самом деле околачивались какие-то шалопаи, искавшие случая заработать. Хором, перебивая друг друга, они закричали: — О, сэр! Мы вас давно знаем, были на вашей свадьбе и готовы поклясться в этом на библии. Свидетельство «джентльменов» обошлось в четыре шиллинга — сумму, достаточную для уплаты за несколько кварт превосходного английского эля. Брак Берзиных был зарегистрирован по всем правилам и законам Английского королевства. Недолго Берзины пробыли в английской столице, но этот период был важен для формирования Яна Антоновича как крупного политического деятеля ленинского типа. Берзин был делегатом большевиков на Циммервальдской конференции. Но вырваться из Англии было нелегко. Берзин болел туберкулезом и заявил властям, что едет на лечение, поэтому ему и выдали выездную и въездную визы. Жизнь в Англии становилась все более трудной, полиция вызывала русских эмигрантов на регистрационные пункты. Берзин решил уехать в Америку. Ленин интересовался судьбой Яна Антоновича, переписывался с ним. Но шла война, и почта приходила нерегулярно. Владимир Ильич потерял с ним связь и в одном из писем просил секретаря большевистской русской колонии в Лондоне М. М. Литвинова узнать, почему Берзин молчит. 14 сентября 1916 года Литвинов сообщил в Цюрих Ленину: «Берзины в Америке и оттуда напишут Вам». Сразу же по приезде в Америку Берзин направился в Бостон — центр латышской большевистской эмиграции. Там издавалась латышская газета «Страдникс» («Рабочий»), и Ян Антонович стал одним из ее активнейших сотрудников. В газете «Новый мир», выходившей в Америке на русском языке, Берзин опубликовал серию статей о Циммервальдской конференции и роли Ленина в борьбе против милитаризма. Февральская революция застала Яна Антоновича в Бостоне. Он хотел сразу же выехать в Россию, но смог сделать это лишь позднее. 10 июня 1917 года он выбыл из Сан-Франциско на пароходе с группой в 35 эмигрантов, а затем еще три недели добирался из Владивостока до Петрограда. Там он встретился с Лениным. Был избран членом Центрального Комитета РСДРП большевиков. Потом членом ВЦИКа. В 1918 году в феврале ему было поручено вместе с Коллонтай и Натансоном выполнить важную политическую акцию. В состав делегации, возглавляемой А. М. Коллонтай, входили также два финских коммуниста. Одним из них был Аллан Валлениус. Фамилия другого, к сожалению, осталась неизвестной. Аллан Валлениус, швед по национальности, родился в 1890 году на острове Чимито. Окончил классический шведский лицей в Або, ныне Турку, учился в Гельсингфорсском университете и там вступил в социал-демократический молодежный союз. Сотрудничал в рабочей печати, писал стихи. После завершения образования работал в городской библиотеке. После Октября 1917 года Валлениуса назначили комиссаром почт и телеграфа города Або. В январе 1918 года финские коммунисты послали его в Скандинавию — он должен был рассказать там о русском Октябре. Валлениус приехал в Стокгольм, оттуда пробрался в Северную Норвегию. Здесь он выступал на митингах, и его выслали. На шхуне Аллан добрался до Мурманска, приехал в Петроград. ЦК большевистской партии предложил ему отправиться с делегацией ВЦИК в Западную Европу. Аллан молча кивнул головой, написал в тот же вечер своей невесте Алисе, что, возможно, по дороге в Швецию сделает остановку на Аландских островах, где она живет, и тогда они увидятся. 17 февраля делегация ВЦИК на небольшом пароходе выехала из Петрограда. Ледокол пробил дорогу, вывел судно на просторы Финского залива, и оно взяло курс на Швецию. Днем делегация собралась в каюте Александры Михайловны. «Старый каторжник» Натансон взял на себя обязанности каптенармуса — поровну разделил буханку хлеба, каждому дал по тараньке. Чай удалось раздобыть на матросской кухне. К вечеру второго дня плавания ударил сильный мороз. Разводья покрылись слоем льда. Несколько лет спустя Коллонтай писала в журнале «Пролетарская революция»: «Пароход наш попал на ледяное поле, был затерт льдинами, дал течь. Пришлось искать спасения на Аландских островах, где чуть не попали в руки финских белогвардейцев и немцев и оттуда бежали. Попавшийся им в руки член нашей делегации, финский товарищ, был тут же расстрелян...» Делегация решила пробиваться дальше, но сделать это можно было только через несколько дней, если судовой команде удастся своими силами заделать пробоину. До 2 марта 1918 года, когда на Аландские острова прибыл шведский батальон, в порту Марненхамин хозяйничали белогвардейцы. Это крайне осложняло положение делегации. Формально пароход пользовался своеобразной экстерриториальностью. Пока члены делегации находились на пароходе, их не трогали. Как только они спустятся на берег, их арестуют. Время тянулось медленно и тоскливо. В один из вечеров с борта парохода на берег тайно спустился Аллан Валлениус: он решил отправиться к Алисе, жившей неподалеку в небольшом городке. Нелегко было разыскать возницу, который согласился бы отвезти его за два десятка верст. Крестьянин с лошадью и санями, которого он все же нашел, не отвечал на уговоры, сосредоточенно сосал трубку, сопел. Потом ткнул кнутовищем в сани: дескать, садись. Когда проехали верст пять, молчаливый швед вынул трубку изо рта, сказал: «Хорошо», а еще через три версты закончил фразу: «Я тебя отвезу». В это же время к побережью летели другие сани. До города, где жила Алиса, дошел слух, что в Мариенхамине стоит какой-то пароход с русскими. Решив, что это и есть тот пароход, о котором писал ей Аллан, она направилась в гавань. Навстречу ей приближались сани. В них сидело двое — возница и еще кто-то, закутанный с головой в тулуп. Она громко крикнула: «Остановитесь!» Но сани лишь обдали ее снежной пылью и, превратившись в еле заметную точку, скрылись за горизонтом. Пароход стоял у причала. На палубе прогуливался матрос. Умоляюще приложив руки к груди, Алиса спросила, есть ли на борту иностранцы, кажется, они русские. Матрос пожал плечами: если девушке это очень важно, он может позвать кого-нибудь из пассажиров. На палубу вышел Ян Берзин, увидел у причала девушку, молча ушел и позвал Коллонтай. Александра Михайловна подошла к борту, пристально посмотрела на Алису, спросила: — Что вам нужно? — Вы шведка? — спросила Алиса, услышав родную речь. — Нет, милая. — Нет ли у вас на борту Аллана Валлениуса? — Кто вы, девушка? — спросила Коллонтай. — Я Алиса, невеста Аллана... Может быть, он здесь. Александре Михайловне очень хотелось сказать, что Аллан Валлениус мчится сейчас на санях к ней, может быть, уже ждет ее. Но она не имела права сказать это. И, еще раз взглянув на Алису, ответила: — Милая девушка, вы что-то напутали, не там, где надо, ищете своего жениха. Нет здесь никакого Валлениуса. — Но он должен быть здесь. Возвратившись домой, Алиса узнала, что к ней приезжал какой-то парень в тулупе, но себя не назвал... Лишь через два года, когда Валлениус уже работал в Стокгольме в коммунистической газете «Фолькетс дагблад политикен», Алиса приехала к нему с Аландских островов, и они поженились. В последних числах февраля делегация ВЦИК покинула судно. На рыбачьей лодке удалось пройти несколько километров. Дальше кончались разводья. Лед казался прочным, морозы сковали море. Решили продолжить путь пешком. До Стокгольма оставалось около 150 верст, а до ближайшего пункта на побережье, города Харгсхамна, около 100. И они пошли. Пурга рвала с них одежду, сбивала с ног, леденила кровь. А они все шли. Кончились продукты. Обессиленные путешественники вернулись в Мариенхамин. К этому времени после прибытия шведского батальона положение изменилось. Теперь можно было переждать до окончания ремонта парохода, поселиться в гостинице Мариенхамина. Но и здесь покоя не было. Шведские солдаты получили приказ «ревизовать» чемоданы некоторых членов делегации. Об этом пишет в своей книге, вышедшей в 1965 году в Стокгольме, бывший начальник штаба обороны Швеции Карл-Август Эренсверд (он в марте 1918 года командовал шведским батальоном, прибывшим на Аландские острова): «Уходя с чемоданами, стуча сапогами, солдаты подняли шум. Мадам Коллонтай, красивая и рассерженная, открыла дверь в своей комнате гостиницы. Полагая, что мы хотим забрать дипломатический багаж делегации, она запротестовала, закончив свой протест следующими словами: «Как это понять? Это война между Швецией и Россией? Если еще нет войны, то она может начаться...» ...Много лет спустя, когда мадам Коллонтай была послом в Стокгольме, а я начальником штаба обороны, я был приглашен в Советское посольство на прием и оказался за столом рядом с Коллонтай. Я напомнил об эпизоде на Аландских островах. Коллонтай от души посмеялась над своей угрозой по поводу войны». В начале марта ремонт парохода был закончен. Делегация ВЦИК покинула Аландские острова и 10 марта возвратилась в Петроград. Ян Антонович позже констатировал: «Делегации ВЦИК... не удалось проехать за границу, и конференция не была созвана». Прямо из гавани Александра Михайловна и ее друзья направились в Смольный. Там шли последние приготовления к отъезду: на Николаевский вокзал увозили ящики с документами. В ночь на 11 марта 1918 года Советское правительство выехало из Петрограда в Москву.
«НУЖНЫ КРЕПКИЕ ПАРНИ»
Тем временем положение Советской России оставалось крайне сложным. Необходимо было наладить контакты с Западной Европой, хотя не было серьезных надежд, что империалистические государства признают правительство большевиков. Значит, надо было, добиваясь признания де-факто, послать в какую-либо из стран Европы официальную государственную миссию. Вопрос этот обсуждался в ЦК и Совнаркоме, и 10 апреля 1918 года Председатель Совнаркома В. И. Ленин (Ульянов) подписал решение о назначении Яна Антоновича. Берзина полномочным представителем Советской России в Швейцарской республике. Разумеется, Ленин не случайно остановил свой выбор на Швейцарии. 21 января 1925 года, в первую годовщину кончины Владимира Ильича, Ян Антонович поделился на страницах «Правды» своими воспоминаниями о Ленине в связи с работой в Швейцарии. Он писал: «Перед отъездом в Швейцарию я имел много разговоров о предстоящей там работе, и от Ленина я получил все инструкции по поводу нее... Владимир Ильич... придавал чрезвычайное значение работе информационного характера и был уверен, что именно Швейцария является тем местом, откуда можно будет знакомить страны Запада со всем, что происходит у нас, в России. Все его советы относились, главным образом, к этой стороне нашей работы. «Нужно работать так, чтобы вас не могли обвинить в пропаганде. В Швейцарии как-никак свобода и демократия, там мы всегда находили приют, будучи эмигрантами, и свободно издавали свои органы. Там не может быть легальных препятствий для интервью в газеты, для статей, для издания брошюр о России и т. д.». Еще до официального решения Совнаркома Берзин начал готовиться к отъезду. Посоветовался со Свердловым о будущем составе миссии. — Ваши предложения? — спросил Яков Михайлович. — Нужны крепкие парни. Аллана Валлениуса прошу включить в состав миссии. Помогите подобрать смелых ребят. Фактическим заместителем Берзина был Григорий Львович Шкловский. Член РСДРП с 1898 года, политэмигрант с 1909 года, Шкловский жил в Швейцарии, входил в Бернскую секцию большевиков. Вернулся в Россию после Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года и был участником Октября. Одним из ближайших сотрудников Берзина стал Алексей Сергеевич Черных. Он родился в 1892 году в Сибири, в Селенгинске, где находились в ссылке его родители. Учился в Московском университете на юридическом факультете, принимал участие в студенческой революционной организации, был исключен из университета, потом снова возвратился туда. Но так и не окончил его: революция захватила молодого большевика, а о дипломах тогда не думали. Самый молодой сотрудник Берзина Морис Лейтейзен родился в семье профессионального революционера-большевика Гавриила Лейтейзена (Линдова), которого близко знал Ленин. После февраля 1917 года студент-медик Морис Лейтейзен, по поручению Московского окружного комитета партии большевиков, выступал на рабочих собраниях в Туле, разъяснял позицию ленинской партии. В апреле на митинге в Петровском парке в Туле он закончил свою речь призывом: «Долой войну!» Проходивший в это время полк был по приказу офицеров остановлен, и солдаты набросились на большевистского оратора. Его спасли рабочие патронного завода. Митинг продолжался. После Октября Мориса направили на дипломатическую работу. Секретарем-машинисткой миссии назначили Любовь Николаевну Покровскую, жену известного историка Михаила Николаевича Покровского. Берзин понимал, что в Швейцарии он столкнется с чрезвычайными трудностями. Понадобится величайшее терпение и такт, чтобы их преодолеть, и тут не обойтись без помощи швейцарских друзей-интернационалистов. Особенно будет необходима помощь и опыт человека, который уже в те годы стал искренним и бесстрашным другом революционной России. Но прежде чем назвать его имя, необходимо обратиться к событиям, предшествовавшим поездке Берзина в Швейцарию. 14 января 1918 года Ленин выступал в здании Михайловского манежа в Петрограде перед первым батальоном Красной Армии, который отправлялся на фронт. Машина, в которой Ленин возвращался в Смольный, была обстреляна. Пуля, посланная бывшим царским офицером Ушаковым, не попала в Ленина, его прикрыл своим телом находившийся в машине человек. Это был Фриц Платтен, швейцарский коммунист, незадолго до этого приехавший в Петроград. Сын столяра-краснодеревщика из кантона Сант- Галлен, Фриц Платтен уже в начале нашего века связал свою судьбу с революционным движением России. В дни революции 1905 года он находился в Риге, где принимал участие в боях против царского режима. Человек яркой индивидуальности, он стал одним из популярнейших лидеров швейцарской социал-демократии, близко сошелся с русской большевистской эмиграцией в Швейцарии, участвовал в Циммервальдской конференции, где без колебаний поддержал большевиков. Платтен организовал переезд «Ленина и всей первой группы большевиков-эмигрантов из Швейцарии в Россию в апреле 1917 года. А в апреле 1918 года, находясь в Швейцарии, начал готовить почву для прибытия советской миссии. Фриц Платтен хорошо знал о симпатиях своего народа к русским. Швейцарцы много лет наблюдали жизнь русской революционной эмиграции. Высокие моральные качества этих людей, их любовь к угнетенной России, их борьба за социальную справедливость и равноправие всех народов, скромность и бескорыстие, разносторонняя образованность, интеллигентность снискали глубокое уважение швейцарцев. И для них эти качества с особой силой и яркостью фокусировались в личности Владимира Ильича Ленина, долгие годы жившего в Швейцарии. Именно тогда Владимир Ильич познакомился с Фрицем Платтеном и другими крупными деятелями швейцарской социал-демократии, с руководящими социал-демократами других стран, наезжавшими в Швейцарию. На этих людей опирался Фриц Платтен, готовя приезд советской миссии. На этих людей должен был опираться и Берзин во время своей деятельности в Швейцарии. Швейцарское правительство отказывалось признать Советскую Россию, пока это не сделают великие державы. Тем не менее в начале мая Берзин и его сотрудники выехали в Швейцарию. На перроне Белорусского вокзала собрались участники этой еще не признанной миссии, которой предстояло проехать там, где шла война, и их друзья. Михаил Николаевич Покровский, провожавший жену, бодрился, шутил, кричал ей через окно: — Выпей там за меня чашечку кофе. Я забыл, какой у него вкус. Наконец, поезд тронулся и, набирая скорость, скрылся между заржавленными, разбитыми вагонами, заполнявшими станционные пути. 17 мая, после краткой остановки в Берлине, Берзин и его сотрудники прибыли в Берн. Перрон был пуст, но невдалеке стояла группа людей, и Берзин сразу узнал среди них Фрица Платтена. Он издали делал успокоительные жесты: дескать, все в порядке, не волнуйтесь. Платтен тепло приветствовал Берзина и его сотрудников. Ян Антонович передал ему привет от Ленина. Все уже хотели садиться в такси, заботливо заказанное Платтеном, но прибежал сапожник Каммерер, на квартире которого в 1915 году жил Ленин, и снова начались приветствия и расспросы. — Как там живет господин Ульянов? — И все уговаривал: — Вы приедете ко мне, и я вам покажу комнату, которую он занимал. А теперь он живет в Кремле. Полицейский молча наблюдал сцену встречи, всем своим видом давая понять, что не следует задерживаться. Наконец все расселись по машинам, и через несколько минут комнаты гостиницы «Лёвен» на одной из тихих улиц Берна огласились русской речью.В БЕРНЕ
Владимир Ильич с нетерпением ждал вестей от Берзина. 2 июня 1918 года Ленин послал с курьером в Швейцарию свою первую записку: «Тов. Берзину или Шкловскому. Дорогие друзья! Удивляюсь, что от Вас до сих пор ни звука. ...Жду вестей. Ваш Ленин».Ян Антонович передал с курьером ответную записку Ленину, но подробного письма пока не писал. Он хотел осмотреться, ознакомиться с обстановкой в Швейцарии, попристальнее взглянуть из «швейцарского окошечка» на Европу, почерпнуть побольше информации, а затем уже написать Ленину. Постепенно, шаг за шагом, первое советское полномочное представительство в Швейцарии расширяло свою деятельность. Берзин, как и советовал Владимир Ильич, создал «Русское информационное бюро», поручив ему издавать ежедневный бюллетень на немецком, французском и итальянском языках и публиковать в нем сообщения о положении в Советской России, декреты Советской власти и другие материалы. Положение русского полномочного представителя резко отличалось от положения дипломатов буржуазных стран. В сущности, Берзин подвергался бойкоту. После приезда он был сухо и полуофициально принят президентом. Его не приглашали на приемы и встречи. Буржуазные дипломаты разъезжали на автомобилях, у Берзина же автомобиля не было, а это немало значило для престижа. Берзин ходил пешком и лишь иногда пользовался извозчиком. И все же он стал одной из самых популярных фигур в швейцарской столице. Его называли по-разному: «большевистский посол», «красный дипломат». Журналисты пытались добыть компрометирующие материалы о нем, но безуспешно. Всегда подтянутый, худощавый, отчего казался выше ростом, в недорогом, но очень ладно сидевшем на нем костюме, он производил благоприятное впечатление даже на мещан, которых было хоть отбавляй в мелкобуржуазном Берне. Он появлялся в книжных магазинах, куда другие дипломаты не заглядывали, подолгу рылся в развалах букинистов; его можно было встретить в дешевом кафе за чашкой кофе, в театре и на художественной выставке. Его родным языком был латышский, он горячо любил песни своего народа, его литературу, историю. Русским он владел безукоризненно, но говорил с легким акцентом. Немецкий знал в совершенстве, английский и французский — хорошо, немного — итальянский. В многоязычной Швейцарии все это особо ценилось, и бывший пастух из Фегенской волости и в этом смысле выглядел куда лучше иных буржуазных дипломатов княжеских и графских кровей. И в умении постоять за интересы своей страны он им тоже не уступал. Регулярно появлялся в политическом департаменте, вел деловые переговоры, предлагал наладить торговые отношения. Очень скоро он заставил уступить в одном вопросе, весьма престижном. В центре Берна, на Шваненгассе, 4, много лет помещалось царское посольство, и к лету 1918 года там все еще находились царские чиновники, теперь именовавшиеся «представителями Временного правительства»; они надеялись, что колесо истории повернется вспять. Уже в мае Берзин начал добиваться выселения царских чиновников из здания русского посольства. С этой целью он официально ввел должность советского консула в Берне, назначил консула и это решение опубликовал в газете миссии «Нувель де Рюсси» («Русские новости»). В Берне оказалось два консула: царский, он же представитель Керенского, которого народ сверг, и советский, представлявший правительство, официально еще не признанное швейцарскими властями. Швейцарское министерство иностранных дел встало перед необходимостью решать вопрос. Победил реализм: царскому чиновнику пришлось освободить помещение. В конце 1918 года, уже возвратившись в Советскую Россию, Берзин в своем докладе сессии ВЦИК сказал по этому поводу: «Это была наша первая и наиболее крупная победа». Вскоре после приезда в Берн Ян Антонович и его сотрудники приступили к выполнению важнейшего задания Советского правительства. В упомянутом докладе сессии ВЦИК Берзин следующим образом скажет об этом задании: «В Швейцарии еще осталась часть русских революционеров-эмигрантов, потом в Швейцарию направлялись наши солдаты пленные из Австрии и Франции, и наша задача была — защита их интересов. Тех эмигрантов и солдат, которых могли, отправляли в Россию, и в дальнейшем принимали меры, чтобы отправить солдат, находящихся во Франции». Невероятно трудным было это поручение Москвы. С революционными эмигрантами было сравнительно просто. Они сами всей душой стремились на Родину. Но и им нужны были официальные документы, визы, материальная помощь. А денег у Берзина было крайне мало. Из Москвы поступали мизерные средства на содержание миссии и на информационную работу. И все же Берзин, проводя жесточайший режим экономии, сумел отправить много революционеров-эмигрантов в Россию, а несколько человек оставил работать в миссии. Кстати сказать, этим обстоятельством воспользовалась разведка Антанты, и, как читатель увидит дальше, в штат миссии был заслан провокатор. Труднее было с отправкой солдат. Иные из них, бежавшие из лагерей, прибывали к Берзину голодные, оборванные, напуганные антибольшевистской пропагандой. Их надо было одеть, накормить, успокоить, разъяснить, что произошло в России в Октябре 1917 года. В дальнейшем будут приведены документы, имеющие прямое отношение к описываемым событиям. Они помогут читателю понять, как действовал в Швейцарии Ян Берзин, как жила, работала горстка коммунистов, оторванная от центра революции. Это письма из Швейцарии в Россию. Листочки, вернее, обрывки листочков, пережившие десятилетия, сохранились. Автор их Любовь Николаевна Покровская. Дочь богатых родителей, выросшая в обстановке полного благополучия, Любовь Николаевна в двадцатилетнем возрасте, в 1898 году, ушла в революцию. Вскоре судьба свела ее с приват-доцентом Московского университета Михаилом Николаевичем Покровским, ученым-историком, профессиональным революционером-большевиком. Несколько лет спустя, в 1905 году, Покровский принял активное участие в Московском вооруженном восстании, был избран членом Московского комитета большевиков и делегатом на V съезд партии. После возвращения в Москву Михаил Николаевич был выдан провокатором, перешел на нелегальное положение и вынужден был эмигрировать из России вместе с женой и маленьким сыном Юрием. Любовь Николаевна прекрасно владела тремя иностранными языками. Была еще одна причина, по которой Берзин предложил ей поехать в Швейцарию. В августе 1917 года Михаил Николаевич и Любовь Николаевна после десятилетнего изгнания возвратились в Россию, но сына Юрия были вынуждена оставить в Швейцарии: он был тяжело болен. Берзин знал об этом и предложил Любови Николаевне место секретаря-машинистки. И вот ее письма, отправленные из Берна в Москву Михаилу Николаевичу Покровскому. «Мишенька, милый. Вот как проходит мой день. Утром к 9 часам прихожу в посольство, распечатываю и распределяю корреспонденцию до 12. В 12 лезу на 4 этаж в нашу столовую... Тов. Соловьев (дипкурьер. — З.Ш.) тебе расскажет, если увидит тебя, а после, с 2-х до 5-ти, редактирую французские переводы и сама перевожу. В 6 часов вечера опять обедаем, а потом иду домой в отель «Левен» и вскоре ложусь спать, так как вставать приходится в 7 часов, а работаю я очень напряженно...»
В 1918 году началась интервенция, о вероятности которой предупреждал Ленин. 9 марта 1918 года в Мурманске высадился английский десант и оккупировал северные районы республики. В Архангельске было вскоре создано белогвардейское «верховное управление Северной области». Его главарем стал Николай Чайковский, тот самый Чайковский, который когда-то вместе с Марком Натансоном создал революционный кружок «чайковцев». Ухудшилось положение и на востоке республики. Сорокатысячный корпус военнопленных чехословаков занял Самару, Симбирск, Казань. Зарубежные газеты утверждали, что правительство Ленина пало. Страницы их пестрели дикими вымыслами. И здесь во весь рост встала задача, о которой Ян Антонович сказал на сессии ВЦИК: «Более важной работой нашей была работа информационная. Мы обязались от пропаганды политической воздерживаться и это условие выполнили... Но то, что мы имели право делать — информировать через Швейцарию другие страны о положении в России, о большевистской политике, — это мы делали и не могли отказаться от этого, потому что в этом был прямой смысл нашего представительства в Швейцарии».
Уже вскоре после приезда миссии в Швейцарию в Берне, Цюрихе, Лозанне и других городах начала выходить упоминавшаяся нами газета советской миссии «Нувель де Рюсси» на французском, а затем на немецком и итальянском языках. Здесь публиковались материалы о России. Печатались статьи Ленина, декреты Советской власти. Главными темами были мир и хозяйственное строительство. Встречались и заметки о буднях, как например: «В Москве скоро откроются дешевые рестораны. В частных ресторанах обед стоит пятнадцать франков. В дешевых ресторанах для народа обед из двух блюд будет стоить 3—4 франка. Там можно будет получить традиционные блюда русской кухни. Продукты для народных ресторанов будет поставлять Отдел продовольствия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов». «Нувель де Рюсси» рассказывала также о солдатах Советской России (заметка перепечатана из газеты «Красная Армия», доставленной курьером из Москвы): «При абсолютистском режиме палка и кнут были в армии основой воспитания. В рабоче-крестьянской стране эти атрибуты — пережиток. Солдаты революционной армии преисполнены чувства ответственности перед каждым гражданином Республики, ими движет высокая сознательность».
Одной из важнейших своих задач Берзин считал организацию европейского и мирового общественного мнения в пользу Советской России, разоблачение клеветы. И здесь он многое сделал. В одном из номеров газеты был опубликован знаменательный документ — письмо руководителя французской военной миссии в России Жака Садуля писателю Ромену Роллану. Через некоторое время Жак Садуль станет борцом против интервенции в России. Вот этот документ: «Гражданину Ромену Роллану! В тот самый час, когда республиканцы всего мира, празднуя годовщину взятия Бастилии, выражают свою признательность Французской Революции и провозглашают свою твердую веру в близкое наступление эры братства, телеграф приносит нам известие о том, что правительства Согласия решили раздавить русскую революцию. Обессиленному войной против гнусной аристократии, против буржуазии, жаждущей прежде всего вернуть себе свои преимущества и свои капиталы, более чем наполовину удушенному немецким империализмом, Советскому правительству грозит ныне смертью наступление, затеянное союзниками. Безрассудны те, которые не видят, что это вооруженное вмешательство не может не вызвать негодующего протеста подвергшегося нашествию народа. Вы, люди, в буре сохранившие свободу духа, Вы, знающие или догадывающиеся об огромной общечеловеческой ценности коммунистического опыта, предпринятого русским пролетариатом, допустите ли Вы, чтобы свершилось это возмутительное преступление... Такие люди, как Олар, Габриель, Сей, Метерлинк и другие, узнав правду, сумеют осветить ее на нашей родине. Они помешают сынам Великой Французской революции покрыть себя несмываемым позором, взяв на себя роль палачей Великой Русской Революции, которая таит в себе значительный запас идеализма и прогресса... Беда будет непоправима. Новые развалины не восстановят старых. Такие люди, как Вы, которые столько сделали для интеллектуального и морального развития моего поколения, в состоянии этому помешать. Это ИХ обязанность. Примите, гражданин Ромен Роллан, искренние уверения моих дружеских чувств. Капитан Жак Садуль».
«Русское информационное бюро» и газета «Нувель де Рюсси» использовали любую возможность, чтобы показать рост симпатий к Советской России. Видимо, Людвиг Карлович Мартенс, неофициальный посол Советского правительства в Соединенных Штатах Америки, прислал в Берн из Нью-Йорка номер газеты «Уикли пиплз» — орган Социалистической партии Америки, и вот строки из этой газеты, опубликованные в «Русских новостях»: «Русская революция настолько напугала капиталистов, что они теперь объединяются с целью удушить революцию. Но сознательные рабочие всего мира с гордостью следят за Советской Россией, видят в ней величайшую надежду для всех трудящихся... Залы, в которых прошли митинги солидарности с Советской Россией, были переполнены, и все единодушно протестовали против интервенции. Публицист Джон Рид выступал на многих митингах и призывал народ к солидарности с Советской Россией».
Берзин и его сотрудники выпустили в свет отдельным изданием ленинское «Письмо к американским рабочим» и другие важные исторические документы. Все это помогало разоблачать ложь и клевету об Октябре. «Дорогой товарищ Ленин! — написано было в одном из писем. — Большую радость мне доставила здесь встреча с товарищем Берзиным. Теперь западные европейцы могут, по крайней мере, получать информацию о положении в России. Она поможет и нашей газете «Трибуна», которую мы издаем в Голландии, а эта информация нам так необходима». При помощи левых социалистов Берзин и его сотрудники организовали публикацию статей о Советской России в швейцарских газетах и добились распространения этих материалов в сопредельных с Швейцарией странах — Франции, Италии, Австрии, Германии. «Русское информационное бюро» выполнило еще одну важную задачу. В Москву не поступали иностранные газеты, радио не было источником информации. Литвинов, арестованный в Лондоне, уже не мог сообщать о настроениях в Англии. Советское правительство не знало, как европейский пролетариат реагирует на интервенцию. А знать это было крайне важно. Берзин и его сотрудники стали ежедневно передавать по телеграфу в Москву обзоры европейской печати, и в первую очередь то, что касалось настроений трудящихся ведущих государств Запада. Так Москва узнала, что в Англии, а затем и в других странах началось вошедшее в историю движение под девизом «Руки прочь от Советской России!». Июль был особенно тревожным. Ждали курьера, но он все не приезжал. Утром просыпались с одной мыслью: что в Москве? Предполагалось, что в Берн приедет Покровский и, возможно, привезет письмо русских ученых — обращение к людям науки в Европе с призывом выступить против интервенции в России. Покровский не приехал, но в начале августа, наконец, прибыл курьер. Все собрались в кабинете Берзина. Ян Антонович вскрыл конверт, волнуясь, прочитал: «За письма спасибо. Работаете Вы, видимо, энергично. Привет!.. Здесь критический момент: борьба с англичанами и чехословаками, и кулаками. Решается судьба революции. Ваш Ленин».
А через несколько дней пришло письмо Михаила Николаевича Покровского. И вот ответные письма Любови Николаевны: «Берн, 20 августа 1918 г. Мишенька, родной мой, как ты мог видеть из моих писем от 12—13—14 августа, я уже поняла, что ты сейчас не можешь уехать — что это было бы дезертирством; всего тебе хорошего. Мишенька, сейчас, когда я пишу это, положение уже улучшилось; как-то дальше пойдет? Как было с Казанью — была ли она действительно в руках белых и... как же тогда? А Пермь как? Ответь на все это хотя бы намеками...» И сразу же Покровская посылает письмо сыну, пусть знает, что происходит на его родине, хоть мал еще сам. После эсеровского мятежа 6 июля она ему писала: «От папы пришло еще одно письмо, уже после борьбы против людей, которые недавно хотели снова пойти против большевиков; это им не удалось».
И вот теперь, в августе, она шлет весточку сыну в больницу: «Вчера послала папе письмо с курьером. От него тоже скоро жду письма... А приехать он может только после того, как будет побеждено буржуазное войско, которое все еще пытается нападать на социалистическое правительство. Папа хоть сам не сражается пока, но помогает своим умом и добротой; и был бы дурной пример другим, если бы он в момент, когда много дела, вдруг бы уехал. А когда все обойдется и будет благополучно, он приедет. Так-то, сынок».
В те дни Ленин еще не знал, что его новые книги и статьи уже увидели свет в Швейцарии. Курьер отвез их Владимиру Ильичу, а вскоре пришел ответ: «Дорогой тов. Берзин! Пользуюсь оказией, чтобы черкнуть пару слов привета. Благодарю за издания от всей души. Ваш Ленин. Р. S. Шлите по экземплярчику интересных газет... и новые брошюры, все и всякие: английские, французские, немецкие и итальянские».
Через неделю в короткой записке от 20 августа Владимир Ильич после всяких приветов и некоторых указаний о работе просит прислать вышедшую во Франции книгу Анри Барбюса «Огонь» и ряд других изданий. Ян Антонович писал в «Правде»: «Все эти письма и записочки написаны рукой самого Владимира Ильича, им же написаны и адреса на конвертах (обыкновенно так: «Тов. Берзину, Русскому послу в Берне»). Все они испещрены постскриптумами, подчеркиваниями — одной, двумя, тремя чертами, по большей части пером, иногда еще красным или синим карандашом. Каждая строчка в них дышит энергией и силой. Каждая страничка свидетельствует о том, какими пронизывающими, проницательными глазами он следит за всем, что творится на Западе, и с каким нетерпением он ждет и призывает помощь оттуда...»
Еще весной, вскоре после приезда в Швейцарию, туберкулез, мучивший Берзина с давних лет, резко обострился. Ян Антонович старался не обращать внимания на болезнь, писал Владимиру Ильичу, что не так уж плохо себя чувствует. Но к лету совсем разболелся, и пришлось выехать за город в курортное местечко Зигрисвиль, неподалеку от Берна. Покровская получила весточку из Москвы, от Михаила Николаевича. И хотя его письмо было несколько запоздалым и уже произошли другие, более радостные события, оно раскрывало правду: «Теперь, когда англичане идут на Вологду, а чехословаки уже в Казани, более чем естественно, что «они выжидают», и только настоятельные напоминания... о том, что мы все-таки ближе англичан и чехословаков, могут заставить «их» слушаться. Взять обратно Казань и Екатеринбург — самое лучшее средство провести быстро и успешно нашу школьную реформу...»
В августе журнал «Социалистише Аусландсполитик» опубликовал статью Карла Каутского «Демократия или диктатура». «Правда» привела выдержки из этой статьи. В тот же день Ленин, еще не оправившийся после ранения, впервые диктует машинистке письмо для Берзина, Воровского и Иоффе. Ян Антонович замечает по этому поводу: «Оно написано на машинке — должно быть, рука Владимира Ильича после покушения еще плохо работала. Только подпись и дата от руки, а также две вставки иностранными словами в тексте».
Письмо Ленина гневное, возмущенное: «Позорный вздор, детский лепет и пошлейший оппортунизм Каутского возбуждают вопрос: почему мы ничего не делаем для борьбы с теоретическим опошлением марксизма Каутским?.. Надо бы принять такие меры: 1) поговорить обстоятельно с левыми (спартаковцами и проч.), побудив их выступить в печати с принципиальным, теоретическим заявлением, что по вопросу о диктатуре Каутский дает пошлую бернштейниаду, а не марксизм; 2) издать поскорее по-немецки мое «Государство и революция»; 3) снабдить его хотя бы издательским предисловием... 4) Если нельзя быстро издать брошюры, то в газетах (левых) пустить заметку, подобную «издательскому предисловию». Очень просил бы прислать (для меня особо) брошюру Каутского (о большевиках, диктатуре и проч.), как только она выйдет...»
Берзин выполнил просьбу Владимира Ильича. В Берне вышла в свет на немецком языке книга Ленина «Государство и революция» с предисловием, написанным в духе просьбы Ленина. Она была распространена в Швейцарии, Германии, Австрии и других странах. А Берзин и его сотрудники сразу же начали готовить это издание на французском языке, и в своем письме от 25 октября Владимир Ильич уже спрашивает Яна Антоновича: «Когда выйдет французское издание «Государство и революция? Успею ли написать предисловие против Вандервельде?»
В конце лета Ян Антонович попытался средствами кинохроники рассказать широкой публике о положении в Советской России, привлечь ее внимание к нуждам и проблемам революции. Задумал он это еще перед отъездом из Москвы и кое-какие фильмы захватил с собой, показал их бернской публике, а потом написал в Москву, просил прислать новые. Но замысел выполнить не удалось. Приведем еще одно письмо Л. Н. Покровской из Берна 15 сентября 1918 года. «Родненький мой Мишенька, пишу тебе дома, так как сейчас воскресенье. Хочу сообщить тебе вот о чем: вчера в здешнем «Фольксхаузе» («Народном доме») в самом интиме, то есть в присутствии Миссии, Бюро печати и администрации этого самого фольксхауза, произведена была проба половины фильмов, переправленных сюда из России... Получилось следующее: за исключением первомайского (фильма)... и снятия памятника Александру III, фильмы заставили нас руками развести. Суди сам: первый фильм «Борьба с холерой в России» — показана только процедура предохранительной прививки и затем две руки, обливающие из крана самовара огурцы и еще какие-то ягоды; все остальное состоит из русских надписей с правилами «холерной» гигиены. Это для швейцарской публики. Второй, тщательно, видимо, изготовленный фильм крестного хода: громадная крестьянская толпа, хоругви, отдельно патриарх и т. д. Интересно, кто счел нужным снять это и послать за границу? Третий фильм — 5-й Всероссийский съезд Советов — показаны лишь низы колонн Большого театра, броневики и патрули охраны и спины входящей публики. Самого съезда, т. е. залы заседаний, не показали. Четвертый фильм — «Похороны разбившегося летчика»; опять отдельно священник над гробом... С точки зрения содержания: попы, крестный ход, упавшая от голода лошадь на улице Петрограда, пожар, уничтожающий склад съестных припасов. Ни одного митинга, ни одного рабочего собрания... Недурны детские игры. Общее же впечатление таково, что невольно приходит в голову, что тут форменный сознательный саботаж...»
В общем, намечавшийся просмотр кинофильмов пришлось отменить, подыскав пристойную причину. Описываемые события относятся к сентябрю 1918 года, и теперь из Берна перенесемся в Москву. Именно тогда —это произошло в начале сентября — вечером в дом номер 11 на улице Лубянке, где помещалась Чрезвычайная комиссия, пришел Яков Михайлович Свердлов.
КТО ТАКОЙ МЕСЬЕ ДОМАНСКИЙ?
Председатель ВЦИКа знал, что Дзержинский болен. Он и сам еле держался на ногах. Но Феликс Эдмундович был так бледен и худ, что Яков Михайлович опешил. Питался Дзержинский отвратительно, спал урывками, тут же в кабинете, на железной кровати, покрытой простым солдатским одеялом. Свердлов рассказалЛенину о состоянии Дзержинского, предложил немедленно отправить его за границу, в Берн, на лечение: о русских курортах говорить не приходилось — они были оккупированы белогвардейскими войсками. Владимир Ильич поддержал предложение Свердлова, и вопрос о поездке был решен. Дзержинский был официально направлен как дипкурьер. Но почему в Берн? Еще в начале сентября 1918 года в Берн из Цюриха прибыла жена Дзержинского Софья Сигизмундовна. Февральская революция застала ее с сыном за границей, в Цюрихе, где она тесно сблизилась с семьей Стефана Братмана-Бродовского, который был тогда секретарем русских эмигрантских касс. После отъезда Стефана в Берн для работы в советской миссии Софья Дзержинская заняла его место. Летом 1918 года в Цюрихе разразилась сильная эпидемия гриппа, унесшая много жизней. Заболел и малолетний сын Дзержинского Ясик. После его выздоровления Дзержинская решила переехать в Берн, где ей предложили должность секретаря советской миссии. Через Берзина Феликс Эдмундович установил регулярную переписку с женой. О встрече с семьей Дзержинский тогда не мог и мечтать. Но 24 сентября, после того как вопрос о его поездке был решен, он пишет Софье Сигизмундовне: «Итак, может быть, мы встретимся скоро, вдали от водоворота жизни после стольких лет, после стольких переживаний. Найдет ли наша тоска то, к чему стремилась? А здесь танец жизни и смерти — момент поистине кровавой борьбы, титанических усилий...»Поездка Председателя ВЧК за границу была делом чрезвычайной сложности. Было решено, что Феликс Эдмундович сбреет бороду, волосы, изменит до неузнаваемости свой облик и так выедет в Швейцарию. Вместе с ним отправится его близкий друг и сотрудник, член коллегии ВЧК Варлаам Аванесов. О предстоящей поездке Дзержинского известили Берзина. В начале октября Берзин под большим секретом сообщил Софье Сигизмундовне, что ее муж уже находится в пути. Софья Сигизмундовна свидетельствует: «А на следующий день или через день после 10 часов вечера, когда двери подъезда были уже заперты, а мы с Братманами сидели за ужином, вдруг под нашими окнами мы услышали насвистывание нескольких тактов мелодии из оперы Гуно «Фауст». Это был наш условный эмигрантский сигнал, которым мы давали знать о себе друг другу, когда приходили вечером после закрытия ворот. Феликс знал этот сигнал еще со времен своего пребывания в Швейцарии — в Цюрихе и Берне в 1910 году. Пользовались мы им и в Кракове. В Швейцарии был обычай, что жильцы после 10 часов вечера сами отпирали ворота или двери подъезда. Мы сразу догадались, что это Феликс, и бегом помчались, чтобы впустить его в дом. Мы бросились друг другу в объятия, я не могла удержаться от радостных слез... Он приехал... под другой фамилией (Феликс Доманский) и, чтобы не быть узнанным, перед отъездом из Москвы сбрил волосы, усы и бороду. Но я его, разумеется, узнала сразу, хотя был он страшно худой и выглядел очень плохо».
В Берне Дзержинский заболел тяжелой формой гриппа. Берзин дал Софье Сигизмундовне отпуск и предложил ей вместе с мужем выехать в Лугано, славящееся своим очень здоровым климатом. Вот там, на причале озера Лугано, и произошла встреча Дзержинского с Локкартом... Как и было предусмотрено расписанием, поезд из Лугано пришел в Берн 23 октября ровно в семь утра. Ян Антонович не должен был ехать на вокзал, послал Лейтейзена. Вид у Мориса был радостно-взволнованный. Дзержинский это сразу заметил: — Что с вами, Морис? Вы похожи на подгулявшего шляхтича в день свадьбы. — Вы читали газеты? — спросил Морис. — Вчера в Лугано читал, но там все старое. — В Германии события. Газеты сообщают: то ли гарнизон в Киле бунтует, то ли матросы — телеграммы противоречивые. Но одна газета пишет, что матросы не хотят воевать против России. — Какая газета? — спросил Дзержинский. — «Бернер тагвахт». — Эта и соврать может. — И «Цюрхер цайтунг» пишет то же самое. — Этой можно верить. Какие новости из Москвы? — Как всегда, ждем курьера. — Где Ян Антонович? — На Шваненгассе... Как стемнеет, придет к вам домой. А у меня новость — еду в Лугано. Там на днях открывается съезд левых социалистов. — Знаю, наслышан, — рассмеялся Дзержинский. — Съезд считается чуть ли не закрытым, но об этом уже все воробьи на крышах Лугано чирикают, все газеты пишут и песню в честь съезда сочинили. И, взяв в руки один чемодан, а другой передав Морису, двинулся к вокзальной площади, где стояли извозчики... Вечером к Дзержинским приехал Ян Антонович с женой. Феликс Эдмундович выглядел пополневшим и посвежевшим, исчезли синяки под глазами и желтизна на бледном лице. И это с радостью отметил про себя Берзин. Дзержинский рассказал об отдыхе, поездках в горы и лишь потом упомянул о встрече с Локкартом. Берзин насторожился. Газеты, падкие на всякую сенсацию, ничего не сообщали о том, что Локкарт в Швейцарии. — А он здесь, вероятно, инкогнито, как и я; не хочется ему отвечать на вопросы корреспондентов. Ведь они его облепят, как мухи, а рассказывать о своем провале кому охота, — заметил Дзержинский. — Ты уверен, что он тебя не узнал? — спросил Берзин. — Конечно, уверен. Иначе он бы мне на шею бросился от радости, — усмехнулся Дзержинский. — Ну, а как бы ты поступил, если бы Локкарт все же узнал тебя? Полицию ты не стал бы звать на помощь, подними он крик? — Локкарт действовал бы без крика. — Ну, а все же? Дзержинский отшутился: — Позвал бы тебя на помощь. Ты, как посол, обязан защищать граждан своей страны... А если признаться, то сам не знаю, как действовал бы. Решения в таких случаях приходят в самый последний момент и бывают весьма неожиданные. Ну, бог с ним, с Локкартом. Скажи, как тебе здесь живется, как чувствуешь себя? — Как чувствую? Непризнанный посол непризнанной страны. Пока терпят. А дальше видно будет... А что касается тебя, то я хотел бы знать, что ты уже в Москве... Аванесов отвел опасения Берзина: — Слушай, дорогой Ян Антонович, как его можно узнать? Феликса Эдмундовича родная мама не узнает. Все сделано, как следует. Я бы с ним иначе не поехал. Я ведь головой за него отвечаю, а мне моя голова дорога. Она тоже не две копейки стоит... И вообще, полагается отметить такую счастливую встречу. Возражений нет и быть не может, — закончил он категорически. Пока Софья Сигизмундовна накрывала на стол, Берзин рассказал Дзержинскому о последних событиях. Газеты сообщали самые противоречивые новости и опровергали одна другую, но сквозь этот поток прорывалось главное: в Германии нарастают важные события, что-то происходит и в Австро-Венгрии, как будто бы начались волнения в Будапеште. — От Владимира Ильича есть новости? — спросил Дзержинский. — Москва молчит. Курьера жду каждую минуту. — А мы ждать не будем, завтра же едем домой, — сказал Феликс Эдмундович. Он подошел к окну. Через опущенные жалюзи взглянул на тускло освещенную улицу. Острым глазом сразу заметил человека, прижимавшегося к стенке у подъезда дома на другой стороне улицы. По застывшей фигуре Дзержинского Аванесов понял, в чем дело, приблизился к окну, тихо сказал: — Шпик! — Очевидно. Но кто послал? — как бы про себя заметил Дзержинский. В комнате наступила тишина. Ее нарушил Берзин. — А не рук ли Локкарта сие дело? — спросил он. — Не думаю, — ответил Феликс Эдмундович. — Местная работа. Демократия демократией, а полиция полицией. Софья Сигизмундовна разволновалась, хотела погасить свет. Дзержинский остановил ее: — Не надо, Соня! Она подошла к окну, разглядела человека, прижавшегося к стене у подъезда, сказала: — А этот шпик не первый раз торчит здесь. — Почему вы мне не сказали? — спросил Берзин. — Я не придала этому значения. Торчит и пусть торчит. Как у нас в России было: вроде «горохового пальто» или переодетого жандарма. Ведь у них служба такая. — Вы решили ехать завтра? — спросил Берзин у Дзержинского. — Да. — Ни в коем случае. Прошу отложить поездку на два дня, — решительно сказал Ян Антонович. — А что это даст? — ответил Дзержинский. — В подобных ситуациях решает внезапность. — Постараюсь выяснить, куда тянется нитка. Аванесов поддержал Берзина, и отъезд было решено отложить на два дня. Вечером следующего дня на наблюдательном пункте у дома наискосок от квартиры Дзержинской не появился никто. Это, конечно, не значило, что там больше никто не появится, а тем более не было никакой уверенности, что за домом нет слежки. Неужели стало известно, что здесь находится Дзержинский? Эта мысль не давала покоя Берзину. Как и Феликс Эдмундович, он был убежден, что Локкарт не имеет отношения к слежке. Но в чем же тогда дело? О приезде Дзержинского на лечение знало только несколько ближайших сотрудников. В этих людях Ян Антонович был уверен так же, как и в себе. Однако Берзин не знал, что в здании миссии работает провокатор и что он был внедрен сюда разведкой Антанты. Кто же он? Берзин писал Владимиру Ильичу, что в канцелярии миссии «работают главным образом бывшие латышские стрелки». Это было именно так. Но, кроме латышских стрелков, прибывших вместе с Берзиным, людей бесконечно преданных революции, самоотверженно защищавших ее, в качестве обслуживающего персонала на работу в миссию в Берне было взято еще несколько человек. Одним из них был человек, назвавшийся латышом, политэмигрантом, якобы бежавшим в 1914 году от царского произвола. Он заверял, что собирается возвратиться на родину. Его взяли на техническую работу в канцелярию. Предательство его выяснилось позже. Отъезд Дзержинского нельзя было больше откладывать. Ян Антонович поручил Морису взять два билета на экспресс Берн—Берлин и в этот же вагон, но в другое купе — еще один билет, чтобы Морис сопровождал гостей до германской границы. 25 октября 1918 года Дзержинский и Аванесов выехали из Берна в Советскую Россию.
ТРУДНЫЕ ДНИ
После отъезда Дзержинского Берзин с волнением ждал вестей. Морис возвратился в Берн через два дня и сообщил, что гости благополучно пересекли границу. Берзин, помолчав, сказал: — Отправляйтесь в Лугано. Теперь в советской колонии ждали других вестей — из Германии и с Балкан. Вести приходили хорошие, ободряющие, и это вызывало радостное оживление. Покровская писала в Москву: «...Итак, Мишенька, родной мой, в Болгарии началось. Ты, вероятно, уже знаешь, как это шло: когда началась революция, Фердинанд (болгарский король. — З. Ш.) возопил о помощи к Вильгельму; ему сказали: «пошел к черту! Не до тебя». Тогда Фердинанд, чтобы еще раз извернуться, пошел к... Антанте — на все условия. Здешние газеты перепечатали из «Кельнише цайтунг» одну такую телеграмму: «На юге от Софии — сражение — но неизвестно, кто с кем». Вот как пошло! В Германии пока только министерские отставки, — но я уверена, что каждый ближайший день будет приносить крупные новости. Бундесрат решил нас не признавать. Не слишком ли они поспешили? Не вышло бы наоборот. С нетерпением жду завтрашнего утра, чтобы по дороге на работу прочитать, что бундесрат вывесит на столбе. Удивительно приятно видеть, когда публика толпится вокруг газетного столба, на котором что-нибудь эдакое важное...»Революционная ситуация в Европе и впрямь бурно назревала, но далеко не во всех странах. Еще до отъезда Дзержинского Берзин отправил в Москву Алексея Черных, чтобы тот рассказал Владимиру Ильичу о работе миссии. Курьерская почта работала очень плохо, и Берзин надеялся, что Черных сумеет обернуться скорее, чем это сделает курьер, привезет Ленину новые материалы. Ян Антонович знал, что Владимир Ильич сидит в Горках и пишет книгу «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Ян Антонович отмечал: «Ленина волновало и удручало, что мы не только не получаем прямой практической помощи в нашей борьбе от европейского пролетариата, но не встречаем даже сколько-нибудь действенной теоретической поддержки со стороны левых марксистов Запада в борьбе против оппортунизма. И тщетно он взывал к «левым» друзьям Европы: по моим личным наблюдениям даже лучшие среди них в то время не были психологически в состоянии полностью осмыслить пролетарскую революцию в России и дать решительный отпор дряхлому каутскианству». Алексей Черных привез Ленину газеты и журналы. 15 октября Ленин писал Берзину: «Дорогой товарищ! Получил от Вас разрозненные, как всегда, иностранные газеты (нельзя ли заказывать кому-либо делать вырезки: (а) все о России; (б) все о социалистических партиях всех стран). ...Только что получил от Свердлова комплект ваших изданий (не грех бы и мне послать этот комплект)... Ваш Ленин. NВ: Если больны, лечитесь серьезно и не выезжайте из санатории. Сношения по телефону, а на визиты заместителя посылайте».
В этом письме Владимир Ильич поручает Берзину: «Надо тотчас заказать (хоть Лейтейзену) компиляцию из «Правды» и «Известий» против лганья левых с.-р.». А через несколько дней в Берн прибывает курьер с письмом Ленина от 18 октября. Оказывается, Владимир Ильич с «пристрастием» допросил Черных, тот признался, что Берзин тяжело болен, и Ленин пишет: «Дорогой тов. Берзин! Выслушал я Черных и вижу, что дела у Вас плохи. Во-первых, Вам надо серьезно лечиться. NВ. Если доктора сказали лежать, ни шагу из санатория. NВ. Если доктора сказали «2 часа работать», ни минуты более. Свободно можете отказаться от приемов, 1/4 часа уделять на доклады по «делам» и беседы о «делах», 3/4 на руководство всем прочим... Посылать сюда выдержки, а не выписки, как... делали до сих пор... А то у вас нет ответственных. Статьи из «Volksrecht’a» и др. газет, кои писали, что де Советы не для Европы (по словам Черных) не прислали сюда. Кого за это пороть? Вы должны назначить ответственных... Привет! Ваш Ленин».
Приближалась первая годовщина Октябрьской революции. По настоянию Фрица Платтена и его ближайших друзей Правление Социал-демократической партии Швейцарии торжественно отметило это событие, как «имеющее всемирно-историческое значение», выпустило праздничный номер газеты. Особый пункт постановления гласил: направить приветствие советскому народу и «неутомимому труженику вождю русской революции товарищу Ленину», ознаменовать первую годовщину Октября митингами и собраниями в знак солидарности с революционным пролетариатом России. Берзин и Платтен сообщили в Москву об этом решении. Исполком Московского губернского Совета сразу же направил швейцарским социалистам приветственное письмо, пригласил делегацию на празднование Октября. В послании Москвы говорилось: «Наши друзья — швейцарские пролетарии тем более будут для нас дорогими гостями, что их прекрасная родина давала приют нашим товарищам, вынужденным под гнетом самодержавия жить в изгнании». Настроение в советской колонии было приподнятое. Валлениус и Лейтейзен поехали в горы, привезли пихтовых и еловых ветвей, украсили большую комнату, где решили провести торжественное собрание. Урывками, во время редких пикников, на которые все вместе уезжали из Берна в горы, Аллан продолжал писать стихи, намеревался издать их после возвращения в Москву. Как раз в канун праздника он закончил книгу стихов, написал посвящение Алисе:
Эта небольшая книжечка в бордовой обложке, выпущенная в Стокгольме в 1919 году издательством «Фрам», была обнаружена лишь летом 1974 года сыном Аллана Валлениуса Свеном. В ней чистый голос революции, эпоха и связь времен. После «сердитого» письма Владимира Ильича Валлениус и Лейтейзен каждую неделю отправляли в Москву обзор европейских газет и журналов, комплекты газет и книги. Первого ноября Владимир Ильич писал Яну Антоновичу: «Дорогой Берзин! Получил много книг от Вас. Большое спасибо... Лежите и лечитесь строго: жить Вы должны не в Берне, а в горах, на солнце, где есть и телефон, и железная дорога, а в Берн посылать секретаря и ездить должны к Вам... Крепко жму руку Ваш Ленин».
Это было последнее письмо Владимира Ильича Берзину в Швейцарию. Курьер привез и записку от Дзержинского: Феликс Эдмундович сообщал, что вместе с Аванесовым благополучно добрались до Москвы. Но теперь уже не за горами был отъезд Берзина из Швейцарии. 2 ноября Шкловского вызвали к шефу политического департамента для переговоров. Шеф департамента извинился, что ему придется «беседовать на неприятную тему», и предъявил категорическое требование, чтобы некоторые сотрудники миссии оставили пределы Швейцарии. Все это не было неожиданным. Сразу же после решения Правления Социал-демократической партии Швейцарии отметить первую годовщину Октября союзники начали поход против солидарной акции швейцарских трудящихся с Советской Россией. Бундесрат объявил, что в отношении лиц, которые примут участие в революционных выступлениях, будут приняты самые решительные меры. В Цюрих были введены войска. Слух о преследовании советской миссии дошел до других городов, и там вспыхнули демонстрации солидарности. А на Шваненгассе, 4 жизнь шла своим чередом. По-прежнему почти каждый день в Москву передавались сводки о положении в Западной Европе. В начале ноября Берзин отправил Ленину новую партию книг и газет, очень хотелось получить весточку от Владимира Ильича. Но курьера ждать не приходилось — в Москве и без того было много дел. 7 ноября утром все собрались в кабинете Яна Антоновича. Он пожелал веры в будущее и воли к победе до конца. Днем пришел Фриц Платтен с большим ворохом красных гвоздик. Из его глаз струился какой-то особенно мягкий свет. Он пожал всем руки, одарил цветами. А большой букет поставил в вазу, все уселись вокруг стола и долго говорили о том, что всех волновало, — о Москве, о семьях, там оставленных, о будущем. Потом пришли какие-то неизвестные люди, тоже принесли гвоздики и ворох газет со статьями, посвященными Советской России: в них было много теплых слов, братских приветов и пожеланий выстоять и создать новое общество, которое будет примером для всех людей на земле. Конечно, пришел и сапожник Каммерер. Он был в новом костюме с гвоздикой в петлице, просил передать привет «герр Ленин и фрау Крупская» и уже уходя не удержался, чтобы еще раз не спросить, кто шьет Ленину ботинки на толстой подошве и вообще, нужны ли ему там, в Москве, такие ботинки для прогулок в горы. Его успокоили, сказав, что ботинки у Ленина есть. К вечеру пошел холодный дождь, погода испортилась, но в здание миссии приходили еще какие-то люди, поздравляли и приносили цветы. А кое-кто не решался войти и цветы оставлял у входа. Вечером все собрались как одна семья. Зажгли свечи, и в их мерцающем свете пылали гвоздики. Яна Антоновича попросили рассказать о скитаниях по свету. Он отшучивался, но все же согласился. Он говорил о тех, кого уже не было в живых, кто остался в казематах Сибири. Потом Аллан Валлениус читал свои новые стихи. Ему хлопали, просили читать еще. А Морис Лейтейзен прочитал рассказ Короленко «Огоньки» — о человеке, который темным осенним вечером плыл по угрюмой сибирской реке и вдруг, на повороте, впереди у темных скалистых гор увидал огонек, то исчезающий, то манящий своей обманчивой близостью. И когда прозвучали последние слова этой маленькой поэмы в прозе: «Но все-таки... все-таки впереди огни!», в комнате стало совсем тихо, и еще долго никто не хотел нарушать тишину. А гвоздики все пылали в мерцающем свете, как огромные звезды... Утром 8 ноября на Шваненгассе прибыл чиновник. Об этом в «Правде» сообщено в следующих словах: «Тов. Берзин был приглашен к президенту республики, который холодно и сухо передал ему, что Швейцария, к сожалению, должна прервать деловые сношения (официально Советская Республика не признана Швейцарией, существуют, следовательно, только деловые отношения), и предложил нам всем покинуть Швейцарию», — писал Г. Л. Шкловский. Как молния разнеслась весть по всей Швейцарии о высылке советской миссии из страны. Первым возвысил свой могучий голос Фриц Платтен. Он произнес в парламенте пламенную речь в защиту Берзина и его сотрудников, в защиту Советской России. Вместе с ним кампанию начали другие интернационалисты. Это был сигнал для всех трудящихся страны. На призыв ответили граждане города Цюриха. В бундесрат — союзный совет — была направлена депутация социалистов в защиту миссии. Бундесрат не принял предложение Платтена отменить высылку Берзина, и тогда в Цюрихе 9 ноября была объявлена всеобщая забастовка. За Цюрихом последовали другие города. Забастовала даже консервативная Женева. В Цюрих были введены шесть пехотных и шесть кавалерийских полков. В ответ рабочие воздвигали баррикады, начались бои, в которых были убитые и раненые. Напуганное размахом событий, правительство ввело в стране военное положение. 11 ноября представитель политического департамента Петравичини позвонил в половине восьмого утра Шкловскому на квартиру и передал Берзину, чтобы миссия немедленно оставила пределы Швейцарии. На сборы были даны одни сутки. Дети всех сотрудников были в Берне, а за Юрой Покровским пришлось снарядить нарочного, и тот привез его больного из Лезье. 12 ноября рано утром сотрудники советской миссии выехали из Берна. Берзин, как моряк, ведущий лайнер сквозь бурное море, до последнего момента оставался на капитанском мостике и, покидая здание миссии, дал телеграмму Ленину: «Нас высылают!» Ленин немедленно откликнулся на это сообщение, и в «Правде» появилось заявление основателя Советского государства: «Вчера нашего представителя в Швейцарии швейцарское правительство выслало из Швейцарии, и мы знаем, чем это вызвано. Мы знаем, что французские и английские империалисты боятся того, что он посылал нам каждый день телеграммы и рассказы о митингах в Лондоне, где рабочие Англии провозглашали: «Долой британские войска из России!» Он сообщал сведения и о Франции...»
А Берзин и его сотрудники под конвоем уже эскортировались к германской границе. Но не все сотрудники миссии выехали в тот день из Берна. Накануне исчез провокатор. Он еще должен был отработать свои сребреники. Об этом впоследствии рассказала Софья Сигизмундовна Дзержинская, которая вместе с Марией Братман еще несколько месяцев оставалась в Швейцарии: «С болью в сердце попрощалась я с уезжавшими товарищами. Той же ночью полиция произвела у меня и Марии Братман обыск, во время которого у меня взяли все дорогие мне письма Феликса... Вскоре после обыска меня вызвали в полицейское управление на допрос. Меня обвинили в том, что вечером и ночью накануне высылки Миссии я жгла «компрометирующие» бумаги Миссии. Я действительно по поручению своего начальника Шкловского отобрала все секретные документы и сожгла их в печке в комнате, где работала. Как потом оказалось, один из технических работников Миссии, политэмигрант латыш, был провокатором и после высылки Миссии сообщил швейцарским властям разные данные о работниках Миссии, оставшихся в Берне. Он знал, видимо, и то, что я уничтожила документы Миссии. К счастью, он не знал, что я жена председателя ВЧК, не знал он и о приезде Феликса в октябре в Берн».
Пусто и тоскливо стало в ту ночь на Шваненгассе, 4. А кортеж из черных лимузинов и грузовиков медленно продвигался на север к германской границе. Вот как об этом рассказывает Майя Яновна — дочь Яна Антоновича: «В жизни бывают впечатления, которые почему-то навсегда сохраняются в памяти с удивительной отчетливостью и подробностью. Так мне запомнился наш выезд из Берна... Был холодный промозглый день. Нас подняли очень рано, мы вышли во двор. Всех сотрудников Миссии, жен и детей разместили на одиннадцати черных легковых машинах, а вещи положили на два грузовика. Я находилась в машине вместе с родителями. Нас повезли к германской границе, тщательно объезжая города. А один небольшой городок не удалось объехать. Помню, что все лавки там были закрыты. Даже мелкие торговцы объявили забастовку в знак протеста против высылки советской Миссии. Улица, по которой мы проезжали, заполнилась грохотом — это демонстративно гремели и стучали опускаемыми шторами. Нам приветственно махали руками. Потом мы свернули на проселочные дороги, чтобы не вызывать протеста в других городах. Нашу колонну сопровождал конный отряд драгун во главе с офицером. Так мы и ехали окольными дорогами, сбились с пути и оказались в каком-то болоте. Машины застряли. Помню, как отец сказал: «Сейчас пойду и устрою скандал офицеру». Он так и сделал. Мы кое-как вылезли из болота и направились к германской границе, куда приехали вечером. Нас разместили в каком-то доме, мужчин в одной комнате, женщин — в другой. Спать пришлось на соломе. Под окнами всю ночь слышались пьяные голоса: «Завтра этих большевиков поведем на расстрел». Мама всю ночь не спала, подбадривала приунывших женщин». После трехсуточного ареста сотрудников советской миссии переправили в Германию, оттуда они выехали к советской границе, где встретились с советским полпредом Иоффе. Его также выслали из Германии. На границе всех разместили в одном вагоне, но немецкие власти все не хотели выпустить русских «пленников»... Наконец, после долгих проволочек, переговоров, задержек поезд отправился в Москву и в конце ноября подошел к перрону Александровского (ныне Белорусского) вокзала столицы. Пробиваясь сквозь толпу, к вагону пробрались Михаил Николаевич Покровский, Александра Михайловна Коллонтай. Приехал встречать старых друзей и Марк Андреевич Натансон. Он уже был тяжело болен, опирался на палку, с трудом дышал, но радостно всех приветствовал: «Как хорошо, что вы дома и вернулись с победой: Швейцария бурлит, там поднялся рабочий класс! Весь мир уже знает об этом». А вот что писал сам Берзин о возвращении миссии: «В Москве к приходу поезда на вокзал был послан товарищ, который передал мне, что Владимир Ильич просит меня приехать к нему прямо с вокзала, если только мое здоровье это позволяет. Он меня встретил чрезвычайно радушно, помню, мы опять с ним расцеловались. Отмечаю это потому, что, по моим наблюдениям, Владимир Ильич не любил подобных изъявлений чувств, и я не видел, чтобы он когда-либо с кем-либо поцеловался... Но в его отношениях ко мне я всегда чувствовал не только товарищеское, но и какое-то отцовское чувство. В другой комнате шло заседание, куда должен был пойти и Владимир Ильич, но он просил меня подождать его, долго не отпускал меня. Он подробнейшим образом расспрашивал о нашей швейцарской работе, о росте революционного движения в странах союзников и т. д. А когда я его как-то в разговоре спросил о его ране, где именно у него застряла пуля, он заявил с какой-то застенчивостью: «Это все пустяки, легко сошло. Рукой двигать только не очень удобно...»
И снова вернулся к разговорам о мировой революции». 25 ноября 1918 года открылось заседание Всероссийского Центрального Комитета. В зале сидели Ленин, Свердлов, многие большевики, недавно возвратившиеся из эмиграции. Здесь же были рабочие и солдаты из окопов гражданской войны. И крестьяне в домотканых свитках, лаптях, пробравшиеся в столицу через фронты, кто в теплушках, а кто на их крышах. Ян Антонович выступил с отчетом. Это был первый отчет советского посланца о деятельности за рубежами нашей страны. Он рассказал обо всем, что произошло за шесть месяцев, и передал привет швейцарского пролетариата русским рабочим.
Дипломатическое поручение
В Западной Европе после первой мировой войны томилась масса русских военнопленных, положение которых ухудшалось с каждым днем. В начале 1919 года страны Антанты и Германия договорились, что немцы не будут отпускать русских без согласия Англии и Франции. Это была коварная сделка: военнопленных начали вербовать в белогвардейские армии. 21 января 1919 года Народный комиссариат по иностранным делам послал правительству стран Согласия ноту, в которой заявил: «Правительство Российской Советской Республики клеймит перед всеми народами поведение тех, кто, издеваясь над самыми элементарными человеческими чувствами, хотят заставить военнопленных, вышедших из рядов русского народа, к участию в борьбе против русских народных масс, из рядов которых они вышли, причем это нарушение основных принципов международных отношений переносит нас к самым варварским эпохам истории человечества». Положение русских солдат в Германии и в других странах стало поистине отчаянным. Долгие годы они были оторваны от родины, жили в нечеловеческих условиях. Их ждали семьи, ждала революция. Военнопленные бежали из лагерей, пытались пробиться через линию фронта, погибали от голода и морозов. Но, даже оторванные от России, они не теряли веры в нее, всеми своими помыслами были с ней. В феврале 1919 года в Берне проходила международная конференция партий II Интернационала. Узнав об этом, русские военнопленные из немецкого лагеря Гарделеген направили туда письмо с просьбой о помощи. Этот документ молчал более полстолетия. Пусть он заговорит теперь[9]. «Господину Председателю социалистической интернациональной конференции в г. Берне. Мы, русские военнопленные лагеря Гарделеген, в числе четырех с половиной тысяч (4500) человек, обращаемся к Вам, господин Председатель, и всем представителям Бернской конференции с покорнейшей просьбой об оказании содействия в скорейшей отправке нас на Родину. Мы не знаем, по какой причине задержаны и даже на какое время. Все те доводы, которые нам сейчас сообщают, как-то: голод, расстройство железнодорожного сообщения и беспорядки в России, по нашему убеждению, не могут служить причиной нашей задержки, потому что большая часть из нашей военнопленной среды была уже отправлена при тех же условиях, какие существуют и сейчас. Что же касается голода и других лишений, то мы готовы переносить их вместе со своими родными и теми 175 миллионами русских граждан, которые находятся на дорогой и близкой сердцу нашему Родине. Дальнейшую же задержку нашу мы считаем по отношению к нам насилием, с какой бы стороны это ни исходило. А потому мы еще раз обращаемся к Вам — не оставить нашей просьбы гласом вопиющего в пустыне... За время пребывания в плену мы, русские военнопленные, больше других перенесли лишений и страданий. И теперь, когда уже кончилась война и бывшие наши союзники по оружию и товарищи по плену находятся на Родине, в кругу своих родных и семей, нас, несчастных страдальцев и мучеников произвола старой России и Германии, — каких-нибудь полмиллиона, оставляют еще на неопределенное время и обрекают на новые страдания при тех же условиях, какие были во время войны, в тех же четырех стенах за целой сетью выставленных ружей и штыков. Помощь продуктами и улучшение нашей жизни в лагере нисколько не облегчат нашего страдания и тоски по родине, не уменьшат и не залечат тех ран, которые нанесли нам за время нашего пребывания в плену. Оторванные от дорогой нам Родины уже целые годы, мы лишены связи со своими родными и семьями и не знаем о их судьбе, а также и они о нашей. Все это приводит нас в отчаяние. Пусть нас ожидают на Родине лишения, пусть ожидает смерть, мы все готовы это принять, чем оставаться здесь, в чужой нам стране, хотя бы один лишний день. Мы надеемся, что представители Бернской интернациональной конференции придут нам на помощь со своим веским словом и избавят нас от дальнейших страданий. Председательствующий — П. Кузубый (?) Секретарь — В. Башилов Февраля 16 дня 1919 года № 2 Лагерь Гарделеген».Письмо это было подшито к бумагам Бернской конференции и действительно осталось гласом вопиющего в пустыне. К 1919 году русские пленные находились уже не только в лагерях Тройственного союза. Четырнадцать государств вели интервенцию против Советской Республики. Много мирных граждан угнали англичане и другие интервенты из Архангельска и Вологды. Немало русских попало в английский плен. 13 августа 1919 года народный комиссар по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин послал для сведения всех правительств мира радиотелеграмму о зверском обращении с русскими военнопленными, находившимися в английском плену. «С негодованием и отвращением, — говорилось в ней, — Советское правительство узнало об ужасном, бесчеловечном обращении, которому подвергаются русские военнопленные со стороны английского командования в Архангельске... Красноармейцы, бежавшие из британского плена, сообщали, что многие из их товарищей были расстреляны немедленно после взятия их в плен... Им постоянно грозили расстрелом за отказ от вступления в славянско-британский контрреволюционный легион и нежелание изменять своим прежним товарищам по оружию...» А Красная Армия наступала, отбрасывая интервентов, вышвыривая их из России. В русском плену оказалось много англичан. Советское правительство не раз заявляло, что по-разному будут в России относиться к пленным английским солдатам — к тем, которых насильно послали свергать Советскую власть, и тем, кто добровольно пошел сюда воевать против рабоче-крестьянского государства. К английским пленным были допущены представитель британского Красного Креста полковник Паркер и мисс Адамс; они имели возможность убедиться, насколько гуманна пролетарская Россия. В те же дни 1919 года английские пленные через Наркоминдел обратились к британскому правительству с просьбой провести с Советской Россией общий обмен военнопленными. Английский министр иностранных дел лорд Керзон долго тянул, вилял, и только 7 ноября правительство Великобритании дало окончательное согласие на приезд советского делегата для переговоров в нейтральную Данию. Советское правительство назвало своего делегата: Максим Максимович Литвинов. Из Лондона сообщили, что переговоры с Литвиновым в Копенгагене будет вести Джеймс О’Греди, член парламента. Всего год назад, в конце 1918 года, Литвинов был выпущен из лондонской тюрьмы Брикстон и смог оставить Англию, где провел последние десять лет своей эмигрантской жизни, — его обменяли на английского разведчика Брюса Локкарта. Максим Максимович собирался было ехать с первым рейсовым пароходом, но в стране свирепствовала инфлюэнца, заболел ею и маленький Миша — первенец Максима Максимовича. Пришлось повременить с отъездом. Это спасло Литвинову жизнь: пароход, которым он должен был ехать, подорвался на немецкой мине, и все пассажиры погибли. После возвращения в Россию Литвинов был назначен членом коллегии Народного комиссариата по иностранным делам и сразу же по поручению Ленина выехал в Стокгольм. Советским представителем в Швеции был тогда Вацлав Вацлавович Воровский. Полпредство стремилось установить хорошие отношения с шведскими деловыми кругами, подготовить почву для размещения заказов на паровозы, турбины для гидростанций и другое оборудование. Дело продвигалось туго. Отношения со Швецией висели на волоске, каждый день из-за происков Антанты можно было ожидать полного разрыва с этой нейтральной страной. А тут еще вокруг посольства вертелись какие-то подозрительные личности. Царский генерал Иванов, темный делец Митька Рубинштейн, родственник сахарозаводчика Бродского, пытались выступать в роли посредников между полпредством и деловыми кругами, чтобы крупно заработать на этом. Литвинов помог Воровскому избавиться от этой публики. Лишние люди были и в самом полпредстве — например, несколько месяцев там находился представитель морского флота, невесть зачем приехавший из Москвы. Он бездельничал, но аккуратно получал суточные. На новогоднем вечере Литвинов предложил тост за «сухопутного морского офицера», и тот сразу же уехал. Литвинов должен был из Стокгольма обратиться ко всем странам Антанты с предложением о мире. 23 декабря он выполнил это поручение Владимира Ильича. Обращение получило большой отклик, но тем большую ярость оно вызвало в Лондоне и Париже. Там понимали, что каждый миролюбивый шаг Советской Республики привлекает к ней симпатии многомиллионных народных масс, уставших от войны. Провокации против советских дипломатов в Стокгольме стали еще более злобными. 30 января 1919 года Литвинов, Воровский и другие советские дипломаты покинули Стокгольм и в запломбированном вагоне выехали на Родину. В Москве Литвинову пришлось заняться не только дипломатическими делами. Совнарком назначил его членом коллегии Народного комиссариата государственного контроля. Владимир Ильич знал Максима Максимовича по годам эмигрантской жизни в Женеве, в Цюрихе, когда тот заведовал хозяйством «Искры», а затем — всеми транспортными делами партии и в значительной степени ее финансами. В начале 1919 года Литвинов участвовал в заседаниях Совнаркома, на которых часто председательствовал Владимир Ильич. Вопросы решались Советом Народных Комиссаров самые разные — о кооперации, о мерах борьбы с хищениями проволоки на улицах Москвы, о помощи русским военнопленным и их семьям, о засыпке семян в Кунгуре и причинах недовольства крестьян в этом районе, о борьбе со спекуляцией и сыпным тифом. Все это касалось государственного контроля, и Литвинов погрузился в круговорот событий и забот. Наступила осень 1919 года. Деникин захватил Харьков, Орел и грозил Туле. Над Петроградом сгущались тучи. И вдруг появилась надежда, что хоть на каком-то клочке земли удастся достигнуть мира: эстонское правительство заявило о своей готовности начать мирные переговоры с Советской Россией. Совнарком назначил Литвинова главой делегации. Переговоры намечались в Пскове и Тарту, и Максим Максимович собирался выехать туда вместе с Воровским, но Вацлав Вацлавович неожиданно заболел. Накануне отъезда Литвинов написал Ленину записку: «Владимир Ильич, Воровский занемог и ехать не может... Вместо него поедет Красин, изъявивший на это свое полное согласие. Выезжаем завтра в 7 ч. вечера. Я счел нужным включить в мандат полномочие на подписание договора. Пусть знают, что у нас были серьезные намерения. Ваш М. Литвинов». Однако у правительства буржуазной Эстонии «серьезных намерений» не было. Советская делегация прибыла в Псков, но началось наступление Юденича, и эстонцы прервали переговоры. Литвинов и Красин возвратились в Москву. Как раз в это время завершились переговоры с Керзоном, и Литвинову сообщили, что в ближайшее время он выедет со специальной миссией в Данию, где находились русские военнопленные. Отъезд из Москвы был намечен на середину ноября. Пребывание в Дании могло затянуться, и Литвинов тщательно готовился, обсуждал с Чичериным все могущие возникнуть ситуации. Решено было, что в Данию с Литвиновым отправятся сотрудницы Наркоминдела: Зарецкая, владевшая несколькими иностранными языками, имевшая большой опыт секретарской работы и общения с иностранцами, и Миланова, молодая женщина с большим партийным стажем, прекрасно показавшая себя во время октябрьских боев в Ревеле, где она была членом ревкома. До Дерпта — так тогда называли Тарту — Литвинова должен был сопровождать Август Гансович Умблия, старый питерский рабочий, участник революции. Умблия был стрелком в охране Наркоминдела и секретарем бюро партийной ячейки Наркоминдела. Накануне отъезда Литвинов вызвал к себе Миланову и Зарецкую. Внимательно оглядев их, спросил, в чем они поедут за границу. Женщины, пожав плечами, ответили, что весь их гардероб на них: на Милановой была кожаная куртка полувоенного образца, на Зарецкой — теплый жакет. Предупреждая вопросы, Литвинов сказал, что денег нет и придется обойтись без пальто, а вот платья надо надеть широкие, с воланами. — Почему широкие и почему с воланами? — Так надо, — в обычной для него манере коротко сказал Литвинов. — Какое отношение имеют воланы к революции? — Это вы увидите. Через два часа я жду вас в этой комнате. Если нет платьев с воланами, попросите у кого-нибудь. Хотя бы одно. Через два часа Миланова и Зарецкая снова были в кабинете Литвинова. Женщины стояли у окна, ожидая, что будет дальше. В это время в кабинет Литвинова вошел бухгалтер Наркоминдела. В его руках была тарелка. Он шел, осторожно ступая, как бы боясь расплескать ее содержимое. Тарелка была прикрыта салфеткой. Бухгалтер подошел к столу, поставил свою тарелку и сказал: — Ну вот я и принес. Женщины думали, что он принес что-нибудь вкусное, может быть тараньку. Словно завороженные, смотрели они на тарелку. Бухгалтер взял двумя пальцами салфетку и осторожно приподнял ее. И они разочарованно вскрикнули: в тарелке, сверкая острыми иглами лучей, лежали бриллианты. Литвинов скупо пояснил: — Денег у нас нет, а пленных выручать надо. За эти камушки из царской казны мы получим наших людей. В Копенгагене через банк обменяем на валюту. Камушки зашьете в подол своих платьев и в воланы. В тот же день вечером Максим Максимович отправился к Владимиру Ильичу.
В первые дни ноября над Россией нависли новые грозные события. Юденич продолжал наступать на Петроград, а Деникин все еще пытался прорваться к Туле. Но Владимир Ильич делал все возможное, чтобы отметить двухлетний юбилей революции, — выступил с большой речью на торжественном заседании, писал статьи. Ленин председательствовал на заседаниях Совнаркома, занимался вопросами снабжения уральских рабочих, решал множество других проблем. А тут еще Ленину сказали, что ценные картины под угрозой гибели. Он поставил этот вопрос на очередное заседание Совнаркома, написал проект постановления об обеспечении топливом Третьяковской галереи, библиотек и других культурно-просветительных учреждений. И в этом огромном круговороте дел Владимир Ильич помнил о предстоящем отъезде Литвинова и вызвал его к себе. Каждый раз, когда они виделись, в памяти возникали многочисленные встречи их в Женеве, Берне, Цюрихе, Лондоне, на съездах партии и на конгрессе II Интернационала в Штутгарте, где Ленин был главой, а Литвинов — секретарем делегации российских социал- демократов. Особенно знаменательной для Литвинова была встреча в библиотеке Куклина в предвоенном 1913 году, когда Ленин пригласил его из Лондона в Женеву, чтобы выслушать мнение о положении в английском рабочем движении и доклад о политической обстановке в Европе. Вскоре Литвинов был назначен представителем Российской социал-демократической рабочей партии во II Интернационале, и между ним и Лениным завязалась переписка, уже не ослабевавшая до самой революции. После возвращения Литвинова в Россию Владимир Ильич все собирался поподробнее расспросить его,выяснить вопросы, на которые не успел получить ответа в письмах, но так и не выдавалось свободного времени. Ленин и на этот раз только улыбнулся, давая этим понять, что нет, мол, времени и сегодня, но что они обязательно еще как-нибудь поговорят обо всем недоговоренном, и сразу же приступил к предстоящей поездке в Данию. — Как только приедете в Копенгаген, разошлите мирные предложения Советского правительства во все посольства, аккредитованные в датской столице. Продолжайте ту же линию, какую вы проводили в Стокгольме. Пусть все знают, что мы хотим мира. А пленных выручите обязательно. Обязательно! Это будет наша внешняя и внутренняя победа. После беседы с Владимиром Ильичем Литвинову передали два мандата: на ведение переговоров с государствами, отделившимися от России после Великой Октябрьской социалистической революции, и на переговоры об обмене военнопленными. На следующий день утром народный комиссар торговли Красин вручал Литвинову еще один мандат — на ведение торговых переговоров со всеми Скандинавскими странами. Вечером группа Литвинова выехала в Ревель. На границе его должен был встретить секретарь министерства иностранных дел Эстонии Томискас. Эстонское правительство предупредило, что, как только Литвинов приедет в Ревель, оно передаст советского дипломата английским властям и снимет с себя ответственность за его жизнь. Старый вагон, дребезжа всеми винтиками, катил по Виндавской дороге. Из-за неисправного пути поезд часто останавливался. До Пскова тащились долго. Там делегатов из Москвы встретили эстонцы. Антанта блокировала западную границу Советской России, и буржуазная Эстония принимала участие в блокаде. Теперь предстояло пересечь фронт. К дому, где остановился Литвинов, подъехал крытый грузовичок, напоминавший санитарную карету. Окна кузова были замазаны краской и заклеены темной бумагой. Литвинова и его спутников посадили в кузов, в шоферскую кабину сели военные. Дверь наглухо закрыли, и машина тронулась. Ехали по каким-то дорогам, через ухабы, рытвины. В Дерпте «узников» выпустили. Буржуазная пресса растрезвонила, что в Эстонию приезжает известный большевик Литвинов, который направляется через Ревель в Данию. На городской площади собралась толпа любопытных. По этому живому коридору Литвинов проехал в гостиницу. В Дерпте Умблия попрощался со своими спутниками и уехал в Псков. Литвинов уточнил с представителями эстонского министерства иностранных дел вопрос обо всех дальнейших формальностях и в сопровождении дипломатов и жандармов отправился в Ревель. Жандармы вели себя назойливо, не пускали Литвинова без присмотра даже в туалет. Пытались они так же «опекать» и сотрудниц Литвинова, но после устроенного ими скандала, недовольно ворча, отстали. ...Эстонская столица встретила Литвинова усиленным жандармским конвоем. В городе чувствовалась фронтовая обстановка. На внешнем рейде ощетинились пушками военные корабли. Невдалеке чернел стальными боками английский крейсер, на котором Литвинов должен был уехать в Копенгаген. Переговоры с министерством иностранных дел о прекращении военных действий продолжались несколько дней. Министр и его чиновники все время напоминали, что не отвечают за жизнь советского дипломата. Каждую минуту можно было ожидать провокаций со стороны белогвардейцев, которыми кишела эстонская столица. Миланова выехала из Москвы с паспортом на имя Коробовкиной, но в Ревеле ее многие знали в лицо как члена ревкома, и это еще более осложняло ситуацию. Как всегда, Литвинов придерживался строгого распорядка дня: вовремя завтракал, обедал и ужинал, попросил секретаря министерства иностранных дел, чтобы тот показал его сотрудницам город, осмотрел Ревель сам. Через три дня группу Литвинова переправили на крейсер и передали английскому командованию. Встречавший советских дипломатов офицер был сух и официален. Показал отведенную Литвинову каюту, сказал, что женщины будут находиться в другом конце крейсера. Предупредил, что с командой разговаривать запрещено. И ушел. Крейсер развернулся, прошел сквозь строй блокирующих кораблей и взял курс на Копенгаген. Шел дождь. Балтика гнала волны. Сумрачный осенний день опрокинулся над морем. Крейсер казался вымершим. На палубе ни души. Матросов загнали в кубрики. Вечером к Литвинову зашел офицер, увел Миланову и Зарецкую в другой конец крейсера. Они шли по качающейся палубе мимо орудий, ящиков, путаясь в закоулках, с ужасом думая, что какой-нибудь бриллиант протрет ткань и покатится по палубе. Каюта показалась им чуть ли не камерой смертников. Они сидели молча, не выдержали, вернулись к Литвинову. Потом все-таки пришлось идти к себе. Прошла ночь. И снова настал день. Палуба по-прежнему казалась вымершей. Лишь по углам маячили офицеры, бдительно следя за тем, чтобы матросы не выходили из кубриков. К вечеру показались огни Мальме. Это была Швеция. На третьи сутки крейсер прибыл в Копенгаген. Тихий, чинный, благополучный Копенгаген дышал покоем. Война бушевала где-то там, в Европе. Нейтральная Дания торговала беконом, продавала его и странам Антанты и Германии, тихонько наживалась на этом. Правда, ландшафт Дании несколько портили своим убогим видом русские пленные, но ведь они были не в Копенгагене, а на фермах, в лагерях, пересыльных пунктах... На пристани Литвинова уже поджидали шпики. Их было семеро, все мордастые, розовощекие, в одинаковых костюмах и шляпах, со стеками и без стеков. Эта «великолепная семерка», словно тень, двигалась за Литвиновым и его сотрудницами все десять месяцев их пребывания в Дании. Поселился Литвинов в гостинице на пятом этаже, куда лифт не ходил. Это стоило дешевле. Литвинов поручил Зарецкой вести книгу расходов, ежедневно записывать, сколько и на что истрачено. Первый же час на датской земле ознаменовался скандалом. В отеле распространился слух, что из России прибыли большевики. Богатые фермеры-свиноводы, приехавшие вместе со своими дородными подругами в столицу повеселиться, немедленно покинули свои номера. Хозяин отеля был в панике, сказал, что его разорили, но выселить советского дипломата не решился. Литвинов все же находился под опекой министерства иностранных дел. Неприятности первого дня на этом не кончились. Перед гостиницей появились пикеты хулиганствующих белогвардейцев. Они горланили, пытались ворваться в отель. Датские коммунисты установили здесь дежурство, взяли на себя охрану жизни и неприкосновенности группы Литвинова. Постепенно к «семерке» привыкли. Литвинов смотрел на них с иронической улыбкой. Они совсем не были похожи на тех, кто до того двадцать лет подряд охотился за ним по всей Европе. Литвинов начал «приручать» их. Как-то ему срочно понадобился автомобиль. Он повернулся к одному из шпиков и приказал ему вызвать такси. Тот моментально выполнил поручение. Миланова и Зарецкая имели «своих» шпиков. Те не надоедали им, следовали на почтительном расстоянии. Женщины впервые попали в Копенгаген, не знали города. Миланова как-то подозвала шпика и сказала ему: — Чем следовать за нами без дела, лучше покажите город. Тот охотно согласился, водил своих «подопечных» по Копенгагену. Когда вернулись к гостинице — отстал. Литвинов не заявлял протеста по поводу усиленной слежки. Но полицей-президент сам приехал к советскому дипломату, извинился, стал уверять, что его сотрудники, мол, отнюдь не следят за Литвиновым, а... охраняют его от белогвардейцев. Пребывание Литвинова в Копенгагене вызвало большие отклики в прессе. Датские газеты печатали разные небылицы, явно инспирируемые из Лондона, распускали дикие слухи о положении в Советской России. В ресторан при гостинице, где бывал Литвинов и его сотрудницы, зачастили посетители, которые лорнировали советских женщин, о чем-то оживленно переговаривались. К официанту, обслуживавшему соседние столики, то и дело подходили какие-то люди, и тот, указывая на русских, охотно пояснял: — Да, да, это и есть две национализированные женщины... Официант на этом подрабатывал. Миланова решила проучить его: в очередные «смотрины» публично отчитала его. Притом на хорошем датском языке. «Экскурсии» прекратились. А в недрах датского общества уже зрели симпатии к Советской России. Под влиянием Октябрьской революции в стране все громче заявляла о своей деятельности Социалистическая рабочая партия Дании. Один из ее представителей особенно настойчиво искал встречи с Литвиновым. Этим человеком был не кто иной, как... Мартин Андерсен Нексе. Еще 27 ноября 1919 года датская газета «Политике» сообщила, что большевистский дипломат и политический деятель Максим Литвинов прибыл в Данию вести переговоры о возобновлении нормальных дипломатических отношений. Передавали, как утверждала газета, что Мартин Андерсен Нексе напрасно прождал несколько часов в ожидании приема у Литвинова. Но от Мартина Андерсена Нексе не так легко отделаться, отметила газета. Он вернулся к себе домой в Эспергерде и написал следующее письмо, которое приводится по сохранившемуся рукописному черновику: «Гриет Эспергерде, четверг, 27 ноября 1919 года. Дорогой и многоуважаемый господин Литвинов! Я был вчера после обеда между 3 и 4 часами у Вас в Туристотеле, чтобы приветствовать Вас, но мне сказали, что Вас нет дома. Я хочу навестить Вас по двум причинам. Во-первых, хочу от своего имени и от имени революционных датских рабочих выразить глубокое восхищение тем, что... товарищи в России совершили для всех нас... Затем я хочу предоставить свои творческие труды в распоряжение Советской России. Мне это доставит большую радость, если Советская Россия, которую я люблю, как свою подлинную родину, в своей замечательной деятельности для всего человечества сможет воспользоваться и моими какими-нибудь работами. Если Вы найдете это возможным, то я охотно навещу Вас в любой день. В таком случае, прошу указать день и час. Если это невозможно, то прошу передать братский привет русским рабочим. С глубоким уважением Мартин Андерсен Нексе».
Лишь через много лет стали известны подробности всей этой истории. Мартин Андерсен Нексе явился к Литвинову в тот день, когда вновь под окном гостиницы, в которой жил Литвинов, бушевала группа белогвардейцев. Литвинов сказал сотрудникам, чтобы они никого не принимали, а если к нему кто-либо явится и это будет не представитель датского министерства иностранных дел, то не принимать и сказать, что его, Литвинова, нет в отеле. А кто такой Мартин Андерсен Нексе, сотрудницы Литвинова просто не знали. Писатель отправился домой. Через два дня Литвинов получил письмо Нексе, сразу же ответил ему, а затем состоялась их встреча в «Туристотеле». Литвинов не оставил записи об этой встрече, но рассказал о ней Милановой и Зарецкой. Известно доподлинно и следующее: в те дни Социалистическая рабочая партия Дании была признана Коммунистическим Интернационалом и реально стала существовать как член Коминтерна. Методично и настойчиво Литвинов шел к цели, ради которой приехал в Данию: по совету Владимира Ильича он разослал во все посольства, аккредитованные в датской столице, предложения Советского правительства о мире. В Копенгагене эти послания также старались замолчать, но теперь высылки, как это было в Стокгольме, не последовало, а слух о мирной акции Советов все же начал распространяться по стране. Первыми зашевелились представители торговых кругов... Литвинов изучал обстановку в стране и соседних скандинавских столицах, искал контактов с промышленниками и дипломатами, собирал информацию о русских пленных. Газеты давали богатый материал. Миланова и Зарецкая помогали составлять для Москвы ежедневные обзоры прессы. Отношения с датским министерством иностранных дел на первых порах установились корректные. Но вопрос решали не датчане, а англичане. В Копенгаген прибыл О’Греди, лейборист, член парламента, старый опытный профсоюзный босс, и 25 ноября начались переговоры. О’Греди считался знатоком России. Вероятно, на том основании, что сразу же после Февральской революции вместе с Артуром Гендерсоном, секретарем лейбористской партии, прибыл в Петроград подбодрить Керенского и заставить истекающую кровью Россию продолжать войну. Внешне О’Греди являл собой тип чрезвычайно добродушного человека. Выше среднего роста, необычайно полный, он был неизменно любезен, подчеркивал стремление к взаимопониманию. Только один раз скороговоркой заметил, что трудно найти общий язык со страной, которая-де уничтожила венценосную особу. Литвинов ответил, что, если ему память не изменяет, в Англии дважды катились с плахи головы венценосных особ... О’Греди переменил тему разговора, потонул в клубах сигарного дыма. На переговорах вместе с О’Греди почти все время присутствовал маленький плюгавый человек, сотрудник Скотланд-ярда. Числился он секретарем ирландца. Никогда не улыбался.
Переговоры шли медленно, О’Греди то и дело предлагал новый вариант обмена. Англия продолжала задерживать угнанных гражданских лиц и военнопленных. Литвинов с железным терпением повторял советские требования: все военнопленные и гражданские лица должны быть освобождены и отправлены в Россию, Антанта должна снять свой запрет на отправку их из Германии. Каждые день-два ирландец прерывал переговоры. Запрашивал инструкции из Лондона. Литвинов выжидал. Поступался мелочами, настаивал на главном: все военнопленные и гражданские лица должны быть освобождены. О’Греди торговался: — Вы нам даете двоих, мы вам — одного. — Почему? — Не все ваши хотят возвратиться в Россию. Литвинов требовал встречи с теми, кто не хочет возвратиться. О’Греди говорил, что разрешение на свободное свидание он якобы не может дать: это, мол, выходит за рамки его компетенции. В начале декабря О’Греди, предъявив жесткие требования, крайне невыгодные России, прозрачно намекнул, что, если Литвинов не подпишет соглашения, переговоры будут прерваны. Литвинов знал, в чем дело. Судьба военнопленных решалась под Петроградом. Там решалась в те дни судьба Великой Октябрьской социалистической революции. Под Петроградом шли ожесточенные бои с армией Юденича, появились английские танки, стреляли английские пушки. Литвинов ответил, что должен все взвесить, запросить свое правительство. Все его шифровки отправлялись через датскую радиостанцию. И тогда Литвинову неожиданно сообщили, что радиостанцией он дальше пользоваться не сможет. О’Греди продолжал настаивать на немедленном подписании соглашения. Литвинов начал заново обсуждать все пункты соглашения: первый, второй, третий; неизменно возвращался к первому пункту, доказывал, что он неприемлем для Советской России. О’Греди все больше нервничал, требовал немедленно подписать соглашение. Литвинов вручил ему заготовленный пакет. — Что это? — спросил удивленный ирландец. — Предложения Советской России о торговле с Англией, — ответил Литвинов. — Мы готовы покупать у вас товары. Платить будем золотом. О’Греди растерялся, сказал, что должен изучить эти предложения. Через три дня состоялась очередная встреча. О’Греди возвратил пакет нераспечатанным — таков был приказ Керзона. Он сказал, что прерывает переговоры и уезжает в Англию. Но Литвинов выиграл еще семьдесят два часа. В один из декабрьских вечеров маленькая советская колония, как обычно, ужинала в ресторане. Шведский бизнесмен, вежливо раскланивавшийся с Литвиновым, принес сенсационную новость: красные разгромили Юденича под Петроградом. На следующий день бульварная копенгагенская газета поместила заметку. Утверждалось, что Коробовкина подписала на фронте под Петроградом так много смертных приговоров, что у нее отнялась рука. Автором заметки был шведский журналист, сидевший накануне вечером за соседним столиком. Победа красных под Петроградом громом отозвалась во всей Европе. О’Греди не уехал в Англию, возобновил переговоры. Больше того, стал сверх всякой меры вежлив. О, он не сомневался в том, что нельзя столь долго не считаться с такой великой страной, как Россия, даже если она называется Советской Республикой. Секретарь ирландца отсутствовал — заболел. Датское министерство иностранных дел сообщило Литвинову, что он может по-прежнему пользоваться радиостанцией — запрета, оказывается, вообще не было, а чиновник, повинный в этой «ошибке», наказан. После разгрома Юденича лопнула блокада. Верховный совет Антанты начал выказывать признаки благоразумия, признал желательным начать торговлю с Россией. Даже Керзон стал понимать, что другие страны могут опередить Англию. Окончательный разгром Деникина и изгнание англичан с Кавказа еще больше отрезвило «твердолобых», а успешное наступление армии Михаила Васильевича Фрунзе на Врангеля и вовсе вызвало в английском министерстве иностранных дел панику. Керзон, совершенно потеряв голову, радировал в Москву Чичерину, что требует прекращения операций против барона. Чичерин ответил, что не может вмешиваться в деятельность Фрунзе, в свою очередь предложил, чтобы в Лондоне лучше подумали о том, как поспособствовать освобождению венгерских революционеров, которых убивает венгерская реакция. Москва предложила немедленно послать Литвинова в Лондон для ведения переговоров по всем основным проблемам, возникшим между Советской Россией и Англией. В Лондоне отказались принять Литвинова. Дело заключалось не столько в том, что он был вчерашним арестантом, ведь на дверях его камеры в тюрьме Брикстон висела многозначительная табличка: «Пленник Его Величества». Но на Даунинг-стрит не могли забыть, что в 1918 году в Лондоне двумя изданиями вышла книга Литвинова «Большевистская революция», которую он закончил словами: «Да здравствует триумфальное шествие социализма и славный Красный Флаг, поднятый Лениным 7 ноября!» — Кого же вы желаете принять, если отказываетесь от Литвинова? — запросила Москва. Ответ Лондона был кратким: с большевиками дела иметь не желаем, однако торговать с Россией готовы. Когда Чичерин доложил об этом Ленину, Владимир Ильич усмехнулся, посоветовал запросить Лондон, готовы ли там вести переговоры с неправительственной делегацией России. Ответ пришел быстро: Англия согласна вести переговоры с неправительственной делегацией России, например с русскими кооперативами. В тот день в Кремле и в здании Наркоминдела в «Метрополе» формировалась делегация Центросоюза во главе с Л. Б. Красиным. Литвинову телеграфировали в Копенгаген, что он назначен членом делегации и может начать переговоры с представителями Верховного совета Антанты, которые находятся в датской столице. Литвинов был связан с Москвой тоненькой ниточкой — телеграммами, которые примитивным цифровым шифром кодировала Миланова. Он знал, как трудно там, в Кремле, какие титанические усилия предпринимают Владимир Ильич и его соратники, вчерашние подпольщики и большевики-эмигранты, вошедшие теперь в Советское правительство, в сущности, не имеющие за плечами никакого опыта государственной деятельности. И тем не менее из Копенгагена Литвинов особенно ясно видел, как гениальные ходы Ленина путают карты мощных и сильных противников, заставляют отступать и Лондон, и Париж, и всю Европу с ее умудренными опытом столетий дипломатами и министрами. Но Литвинов понимал, что борьба только-только начинается, что она будет идти всюду и везде, что предстоят еще долгие и жестокие битвы — теперь уже не на одних лишь полях сражений, но и в кабинетах дипломатов. И впереди не только победы, но много трудностей и, может быть, поражений. После победы красных под Питером Англия не отказалась от мысли задержать отправку военнопленных в Россию. О’Греди вдруг снова прервал переговоры, но тем энергичнее продолжал действовать представитель Скотланд-ярда. К Литвинову стали подсылать провокаторов. Как-то днем к нему в гостиницу пришел купец, назвался представителем мебельной фирмы, просил сообщить интересующие его сведения о Советской России. Потом появился человек в матросской форме. Этот требовал снабдить его революционной литературой, действовал и вовсе примитивно, нагло. Литвинов не стал с ним разговаривать, попросил убраться. Потом из Стокгольма пришла телеграмма весьма загадочного свойства. В ней было всего два слова: «Еппе коммен». Литвинов никак не мог понять, почему к нему из Стокгольма едет какой-то Еппе. А через несколько дней в гостиницу ввалился человек в балахоне и отрекомендовался шведским журналистом. Сказал, что по дороге с вокзала в гостиницу три раза переодевался, чтобы сбить с толку полицейских шпиков. Литвинов прогнал и этого. Секретарь О’Греди был тесно связан с датской полицией. «Великолепная семерка» получила пополнение, в вестибюле и на этаже появились новые филеры. Хозяин отеля пришел в ярость, сказал, что Литвинов подрывает уважение к его гостинице и порядочные люди перестанут здесь останавливаться, возвратил внесенный Литвиновым аванс и потребовал немедленного выезда. О’Греди демонстрировал возмущение — конечно, он попытается помочь Литвинову! По соглашению с ирландцем Литвинов снял помещение в загородном отеле, но датское правительство запретило там расположиться. Пришлось Литвинову и его сотрудницам поселиться в захудалой гостинице. Но и там мельтешили какие-то подозрительные личности. Литвинов опасался провокаций и даже открытого нападения. Снова помогли датские коммунисты. На этаже, где жил Литвинов, они установили круглосуточное дежурство. Наконец, датские власти разрешили Литвинову поселиться в загородном отеле. Ирландец выразил надежду, что не позже 30 января соглашение будет подписано; договорились на следующий день встретиться для обсуждения некоторых формальностей. Однако встреча не состоялась. Секретарь сообщил Литвинову, что О’Греди внезапно выехал в Лондон. У него неладно с печенью, и возникла срочная необходимость посоветоваться с личным врачом. Переговоры грозили затянуться. Литвинов распутывал интриги английской дипломатии, искал выхода. Хотел немедленно связаться с Москвой, но Миланова молча протянула ему шифрованную телеграмму от Дзержинского из Москвы. Феликс Эдмундович сообщал, что советский шифр между Копенгагеном, Берлином, еще одной европейской столицей и Москвой раскрыт. Просил подтвердить, что Литвинов ручается за своих сотрудниц. Прочитав телеграмму, Литвинов побагровел, потом кровь отхлынула, и лицо его стало пепельно-серым. Молча написал на листке бумаги одно слово: «Ручаюсь!» Сказал Милановой: — Немедленно передайте Феликсу Эдмундовичу. Позже сообщил Дзержинскому свое мнение о провале шифра: в Лондоне находился царский генерал, бывший начальник шифровального отдела министерства иностранных дел. Возможно, это его работа. Через две недели из Лондона вернулся О’Греди. В любезном тоне заявил, что английское правительство не может принять советские условия обмена военнопленными и выдвигает новые требования. «В затяжке переговоров, — заявил О’Греди, — виновато Советское правительство». Литвинов шифрованной телеграммой попросил у Чичерина немедленного демарша перед английским правительством. 10 февраля Чичерин передал в Лондон Керзону радиотелеграмму: «Советское правительство... энергично протестует против утверждения, что переговоры затянулись по вине Советского правительства. В действительности условия Советского правительства были формулированы нашим делегатом с самого начала, и в течение всех переговоров он не предъявлял новых требований. Напротив, многие первоначальные требования Советского правительства были взяты обратно или сокращены... С другой стороны, полномочия г. О’Греди были настолько ограничены, что он должен был обращаться по поводу всякой мелочи в Лондон и ждал ответов и новых инструкций иногда в течение нескольких недель... Таким образом, вся ответственность за замедление соглашения падает на английское правительство». Телеграмма Чичерина произвела впечатление. О’Греди уже больше не жаловался на печень и не покидал Копенгагена. 12 февраля 1920 года Литвинов и О’Греди подписали соглашение об обмене военнопленными. Литвинов заставил О’Греди принять условие, что Англия перевезет их в Петроград на своих судах. В марте 1920 года из Англии был отправлен первый пароход с военнопленными, которых английское командование захватило в Архангельской, Вологодской и других губерниях на севере России. Англия спешила вызволить своих летчиков и старших офицеров, выходцев из аристократических семей, оказавшихся в советском плену, и обменять их на заложников. О том, что пережили эти люди в Англии и как их отправили на Родину, через десятилетия рассказал Иван Степанович Кривенко, бывший командир Вашко-Мезенского полка, член КПСС с апреля 1917 года. Вот его рассказ: «Продержали нас что-то около восьми месяцев. За все это время только один раз нам всем выдали по одной открытке и разрешили написать домой. Я написал отцу с матерью, что нахожусь в Англии, в плену, что жив и здоров. Газет нам не давали никаких. Мы ничего не знали о своей стране, о нашей Советской власти и тяжело переносили эту оторванность. Обсудив наше положение, мы решили объявить голодовку, если нам не будут давать газеты и не улучшат питание. Голодали день, два, три и четыре. Лежали, не вставая. Начальство на уступки не шло. На четвертый день пришел в барак сержант из охраны, немного говоривший по-русски: — Вас, господин Кривенко, вызывает комендант лагеря по срочному делу. Помог мне встать и выйти из барака. — Ну что, голодать перестанете? — спросил меня комендант. — Дайте газеты, улучшите питание. — Вам всем сегодня выдадут паек, причитающийся за все дни голодовки, но посмотрите, чтобы ваши люди не объелись. Завтра утром вы поедете в Россию. Происходит обмен заложниками. При такой вести у меня откуда и силы взялись! Побежал в барак и объявил товарищам: — Товарищи! Друзья! Скоро домой! Радости не было предела, кричали без конца: — Ура! Домой! Нас не забыли! Домой! Домой! Собрали партбюро. Партийцев обязали следить, чтобы после голодания ослабевшие не ели сразу помногу, не заболели. Через два дня мы шагали в Ньюкасл. Оттуда по железной дороге нас вывезли в Портсмут. Был март 1920 года. В английских газетах «Таймс» и «Дейли мейл» за 11 и 12 марта были помещены фотографии отправки на родину заложников. Эти снимки мы видели, когда ждали корабль в Портсмуте. — В Портсмуте нас погрузили в трюм парохода и повезли в Данию. По прибытии в Копенгаген пароход стал на рейд. Нам всем хотелось посмотреть хотя бы издали на город, но из трюма ничего не было видно, а выход из него был строго воспрещен. Двое наших товарищей, все же осмелившихся подняться на палубу, были за это посажены в карцер. На рейде Копенгагена простояли несколько часов. Потом меня вызвали наверх, в салон-каюту. За столом сидели двое: один плотный, лет сорока с небольшим, с простым рабочим лицом, другой — несколько старше. Первый мужчина встал, отрекомендовался: — Литвинов. Другой кивнул головой. Это был англичанин О’Греди. Максим Максимович Литвинов предложил мне сесть и спросил: — Как вас содержали? Я ответил коротко. Жаловаться не стал. — Будет обмен заложниками, — сообщил Максим Максимович. — Мы уже договорились по всем вопросам с мистером О’Греди. Меня пригласили к столу. На тарелках лежали бананы. Я, признаться, не знал тогда, что это такое и как их едят. Чтобы не попасть в неудобное положение, я поблагодарил и отказался, сославшись на то, что только позавтракал. Всем заложникам разрешили выйти на палубу. Перед нами выступил с речью Литвинов. Он сказал, что Советская Россия жива, крепнет и ждет своих сынов. Выступил с ответом и я. Поблагодарил Советскую власть за заботу о нас. После этого М. М. Литвинов уехал, оставив нам по моей просьбе пять долларов на сигареты. Пароход с заложниками из Копенгагена отправился в Либаву (ныне Лиепая). Из Либавы мы проследовали поездом в Ригу, а оттуда в Себеж».
Весна была в разгаре. На бульварах Копенгагена распустилась сирень. Город выглядел еще более мирным, чистым, благополучным. Литвинов снова жил в центре города. Дни были заполнены заботами, поездками, встречами с О’Греди и другими дипломатами. Соглашение уже подписали, уже отбыл в Россию первый пароход, но до массовой отправки военнопленных в Россию было еще далеко. Предстояло еще разрешить много формальностей, собрать пленных близ Копенгагена, накормить их, снабдить продовольствием на дорогу. В остальном жизнь текла по-прежнему. Зарецкая вела книгу расходов, записывала в нее каждый истраченный эре. Питались скромно. Как-то Литвинов опоздал к обеду. Зарецкая в его отсутствие позволила себе неслыханную роскошь — заказала устрицы, что грозило серьезным нарушением дневного бюджета. В это время пришел Литвинов. Молча сел за стол, к концу обеда сказал: — Между прочим, соленые огурцы вкуснее. Миланова и Зарецкая решили взять «реванш». Ужин иногда заказывали заранее. Как-то вечером, когда все трое сели за стол, женщинам подали две порции устриц. Литвинову на изящном блюдце принесли соленый огурец. Женщины ели молча. Литвинов, наклонившись над тарелкой, что-то тихонько пробормотал, взял нож, нарезал тонкими ломтиками огурец. Ужин прошел в молчании. Потом все трое переглянулись и захохотали. Публика за соседними столиками с изумлением посмотрела на «этих русских». Какая-то дама громко сказала: — Шокинг! Изредка Литвинов разрешал нарушать бюджет, не мог устоять перед желанием побывать в концерте, на балете. Договорились, что ходить будут по очереди, чтобы не оставлять чемоданы без присмотра. Как-то Миланова и Зарецкая отпросились на концерт симфонической музыки. «Дежурить» должен был Литвинов, но не выдержал, приехал в театр, сидел как на иголках, ворчал: «Мы здесь наслаждаемся музыкой, а там роются в наших чемоданах...» В середине апреля 1920 года из Москвы в Копенгаген приехала делегация Центросоюза. Л. Б. Красин прибыл с женой и детьми. Предполагалось, что из Копенгагена он отправится в Лондон, продолжит переговоры с Англией и, если обстановка будет благоприятствовать, останется на длительное время. Вместе с Красиным приехал Виктор Павлович Ногин, советники и технический персонал. Делегация выглядела внушительно. Красин вместе с Литвиновым начали переговоры с представителями Верховного совета Антанты. Чувствовалось, что Литвинов подготовил хорошую почву для диалога по дипломатическим и экономическим вопросам. Это очень радовало Красина. Делегация Центросоюза поселилась в том же отеле, что и Литвинов. Красин с присущей его натуре широтой занял самые дорогие апартаменты на втором этаже. Литвинов был недоволен, но сдерживал себя, а оставшись с Красиным наедине, все же зло спросил его: — На какие деньги, Леонид Борисович, изволите жить в дорогих номерах? Красин онемел от неожиданности, а потом пробормотал что-то по поводу необходимости поддержать престиж Советской России, но обиду затаил и пожаловался Зарецкой: — Ну и жила ваш Литвинов. Жалоба Красина попала на благодатную почву. Уже полгода находился Литвинов со своими сотрудницами в Копенгагене. В его распоряжении были сотни тысяч, но он и его сотрудницы заработной платы не получали. Он предупредил их об этом перед отъездом из Москвы, сказал, что питание и оплата гостиницы — это все, на что они могут рассчитывать. Когда наступила весна, Зарецкая робко намекнула Литвинову, что недурно, дескать, купить ей и Милановой макинтоши, одеты они так, что совестно перед людьми, да и внимание на них все обращают. Литвинов, пресекая дальнейшие разговоры, спросил, сколько стоит макинтош. Узнав цену, нахмурился, что-то пробурчал себе под нос, сказал, что подумает. Он говорил часто: экономить надо. На заре своей революционной деятельности, в 1903 году, в письме к болгарскому писателю Георгию Бакалову в Варну он гневался, что представитель «Искры» на Балканах Георгиев не переслал в редакцию «Искры» деньги за пятнадцать экземпляров газеты. Это не по-коммерчески и не по-товарищески, писал Литвинов и просил Бакалова воздействовать на неаккуратного плательщика. Делегация в Копенгагене жила экономно, учитывая каждый эре. А женщины были молоды, красивы, им хотелось получше одеться, купить себе какую-нибудь безделицу. Еще до приезда Красина в Копенгаген женщинам надоело жить «в кабале». Посоветовавшись с Зарецкой, Миланова послала телеграмму Чичерину, рассказала, что Литвинов не дает им ни гроша на личные расходы. Георгий Васильевич собрал специальное совещание, чтобы решить вопрос, как помочь «несчастным девушкам». Зная Литвинова, Чичерин понимал, что никакие приказы не заставят его раскошелиться, и решил прибегнуть к хитрости: дал телеграмму, в которой просил Литвинова выделить деньги на покупку ботинок для него, Чичерина, а Милановой сообщил, чтобы они израсходовали эти деньги на себя. Когда Миланова прочитала первую часть телеграммы, предусмотрительно скрыв от Литвинова ее последние строки, тот подозрительно посмотрел на нее, что-то пробурчал себе под нос и сказал, что... купит ботинки Чичерину сам. Переговоры с представителями Антанты в Копенгагене шли успешно. Красин еще до приезда в датскую столицу обсудил со шведскими деловыми кругами вопросы экономического сотрудничества Швеции и Советской России. Шведы трезво оценили создавшуюся в мире ситуацию, поняли, что новый политический режим в России прочен, а торговля с ним — выгодна. Советская Республика внесла в шведский банк двадцать пять миллионов крон золотом. Банк открыл кредит на сто миллионов крон, и на эту сумму Россия начала закупать в Швеции необходимые товары. Красин подписал договор о поставке России тысячи паровозов, в которых крайне нуждался ее разрушенный железнодорожный транспорт. Подписан был в Копенгагене и договор со Шведским торгово-промышленным синдикатом, и в конце мая 1920 года Красин вместе со всеми своими сотрудниками уехал в Лондон. Незадолго до этого из английской столицы в Копенгаген прибыла жена Литвинова с маленьким Мишей (а затем привезли Таню). В документах значилось, что подательница сего «жена политического эмигранта, с сыном и дочерью отправляется в Россию, к месту постоянного жительства». О приезде семьи Литвинова, разумеется, узнал О’Греди. Был поражен, спросил Максима Максимовича, верно ли, что его жена покинула Англию и едет с детьми в Россию. Литвинов ответил утвердительно. — Надолго? — спросил О’Греди. — Навсегда, — ответил Литвинов. Приезд семьи не изменил образа жизни Максима Максимовича. На пятом этаже не было семейных номеров, и пришлось переселиться на четвертый, куда по крайней мере доходил лифт. А остальное все осталось по-прежнему. Зарецкая так же вела книгу расходов: столько-то эре заплачено за фунт селедки и столько-то за обед в столовой или ресторане. Наконец, с О’Греди договорились, что с начала осени будут отправлять в Россию русских солдат из континентальной Европы. После подписания соглашения с О’Греди Скандинавские страны, Австрия, Венгрия, Швейцария. Бельгия, Италия, Франция согласились отпустить всех русских военнопленных.
Но дел было еще много. Литвинов как уполномоченный Совета Народных Комиссаров продолжал переговоры с представителями Верховного совета Антанты по политическим и экономическим вопросам. За все эти месяцы Максим Максимович установил контакты с датскими и другими европейскими фирмами, покупал и отправлял в Россию все, что мог, искал, где что подешевле и повыгоднее. 26 августа 1920 года Литвинов послал в Москву Чичерину следующую телеграмму: «Я до сих пор отклонял предложения на обувь приходится вновь запрашивать. Средняя цена тридцать-сорок крон. Из Италии предлагают сто тысяч военных ботинок по сорок лир. Оттуда же предлагают фланелевые рубахи по девятнадцать лир, рабочие костюмы по шестнадцать и штаны по четырнадцать, шинели по шестьдесят пять лир. Далее можно иметь там же сравнительно невысокой цене несколько сот аэропланов, до четырех сот грузовиков, пять бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. Нельзя ли предлагать Италии нефть в Батуме. В Триесте нам удалось захватить полторы тысячи тонн меди, отправленные Центросоюзом из Владивостока. Литвинов». Эту телеграмму Г. В. Чичерин доложил В. И. Ленину. Владимир Ильич подчеркнул слова «сто тысяч военных ботинок», «шинели», «несколько сот аэропланов, до четырех сот грузовиков». Отметил, что все это «архиважно», что предложения Литвинова надо немедленно обсудить с заместителем наркома внешней торговли Лежавой и ни в коем случае не прозевать товары. Все закупленное Литвиновым пароходами и поездами доставлялось в Советскую Россию. Забот все прибавлялось и прибавлялось. Надо было обсудить вопросы будущего торгового обмена с французами. Добиться от датской фирмы «Г. Иенсен и К0» выполнения договора о поставке семян, заключенного советскими организациями еще в ноябре 1918 года. Представители шведских кругов в Копенгагене интересовались, будет ли установлена линия воздушного сообщения между Стокгольмом и Москвой через Петроград. Норвежцы допытывались, намерена ли Россия покупать сельдь; заезжие дипломаты зондировали почву насчет концессий в России. Все надо было согласовать, на все вопросы ответить. Литвинов целые дни проводил в разъездах, сопровождаемый шпиками. Похудевшие и осунувшиеся, они носились за ним, проклиная свою беспокойную службу, моля всевышнего, чтобы советский дипломат, наконец, оставил тихий и благополучный Копенгаген. В сентябре из Англии пришел первый пароход за военнопленными в Данию. Литвинов вместе с представителями датского и немецкого Красного Креста выехал в лагерь под Копенгагеном, где находились русские солдаты. Немец доктор Биттнер руководил отправкой военнопленных в гавань. Изможденные, исхудалые, оборванные, но счастливые от предстоящего отъезда на Родину, они ринулись на пароход, заполнили каюты, трюм. На палубу поднялись Литвинов, Миланова, Зарецкая, члены датской и германской миссии Красного Креста, дипломаты. Слева на борту расположился Л. Шацкин, генеральный секретарь КИМ, вынужденный уехать из Германии, где начался разгул белого террора. Корреспондент копенгагенской газеты сфотографировал всю эту группу. Наступила минута отплытия. Солдаты высыпали на палубу, прильнули к иллюминаторам. Они не знали тонкостей битвы, которая десять месяцев шла за «круглым столом» дипломатов. Но они понимали, что эту битву выиграла их страна, еще неведомая им Советская Россия. Наконец, пароход дал сигнал, оторвался от причала, развернулся и взял курс на Петроград, на Россию.
Жизнь и гибель Андрея Чумака
— То, о чем вы сообщили мне, очень интересно. Если нетрудно, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с генералом Грейвсом. ...За окном бурная московская весна, на улицах толпы людей. Все сверкает и радует глаз, а мы все дальше уходим в прошлое, погружаемся в мир поразительных и сложных событий. С биографией американского генерала Грейвса я знаком. Он командовал экспедиционным корпусом, который в 1918 году был послан президентом Вудро Вильсоном на Дальний Восток, чтобы задушить русскую революцию. Разгадав подлинные цели интервенции, Грейвс рекомендовал вывести американские войска из Сибири и Дальнего Востока. Это вызвало переполох в реакционных кругах Америки, и генералу не сразу разрешили вернуться на родину; его долго «выдерживали» на Филиппинах. В 1931 году Грейвс издал книгу «Американская авантюра в Сибири». Она была с интересом и сочувствием встречена прогрессивными кругами США, которые всегда считали, что обеим сторонам необходимо сотрудничество, а не конфронтация. В 1940 году Грейвс скончался. Мой собеседник задумался, и я снова спросил его: — Вы хорошо знали генерала Вильяма Грейвса? — Да, — ответил он. — Сколько лет вам было тогда? — Семнадцать. — А долго вы находились на Дальнем Востоке? — Около двух лет. — Генерал Грейвс знал, кто вы? — Нет. Но мы с ним оба жили в Чикаго. — Как же вы там оказались? По лицу моего собеседника прошла легкая тень, оно посуровело, и чуть изменившимся, глуховатым голосом он сказал: — На этот вопрос ответит история жизни моего отца, Андрея Кондратьевича Чумака. С Александром Андреевичем Чумаком я знаком давно: он был в свое время на дипломатической работе, выполнял поручения Чичерина и Литвинова. Его жизнь изобиловала сложными перипетиями. Но то, что я узнал теперь, во время многочасовых бесед с ним, меня не просто удивило, а глубоко заинтересовало. То и дело всплывали самые неожиданные имена: Джек Лондон, Павел Петрович Постышев, Тим Бак, Александра Михайловна Коллонтай, Билл Хейвуд... — Ваш отец был знаком с Джеком Лондоном? — Да, они часто встречались. — И с Тимом Баком? — Да. — Хейвуд... Ведь он похоронен у Кремлевской стены на Красной площади. — Да, его могила рядом с могилой Джона Рида... Большой Билл — так звали его рабочие Америки. Он был похож на Дыбенко, так же крепко скроенный, сильный, решительный... Я рассматриваю фотографии, перечитываю документы. День за днем текут наши беседы, «белые пятна» человеческой биографии окрашиваются в пластически ясные тона, и передо мной возникает еще одна удивительно яркая история жизни, не отделимой от истории нашей Родины.ПАРЕНЬ ИЗ ВЕЛИКИХ СОРОЧИНЕЦ
Среди роскошной украинской природы, воспетой Николаем Васильевичем Гоголем, в Великих Сорочинцах, близ усадьбы писателя, в хате бедного казака Кондрата 26 августа 1877 года увидел свет Андрей Чумак. Детство его было коротким. После окончания приходской школы надо было зарабатывать на жизнь. Андрей уезжает на завод братьев Иловайских в Макеевку. После Великих Сорочинец с кипенью их вишневых садов, раскидистыми дубами, подпирающими небо, Макеевка показалась дурным сном. Приземистые лачуги тонули в грязи и дыму, бараки с нарами совсем ушли в землю. Но нет, он не вернется в Сорочинцы! Он останется здесь, среди русских рабочих, в центре еще только нарождающегося Донбасса. Здесь начнет свою рабочую жизнь этот удивительно красивый украинский парубок с приветливым, веселым лицом и не устающими улыбаться черными глазами. Четыре года слесарит Андрей Чумак в Макеевке. Все настороженнее всматривается он в окружающий мир. Почему вокруг нищета? Разве так вечно должны жить люди? Где найти ответы на вопросы, не дающие покоя? Уходил в историю XIX век... На смену экипажам и почтовым станциям,парусным судам пришли экспрессы, земной шар уже опутала густая сеть проводов, крупные пароходы бороздили океаны, и фантастический «Наутилус» Жюля Верна стал ошеломляющей явью. Через всю Европу прошла революционная буря. Россия дала уже блистательных революционеров. В канун нового века из Минска докатились в Донецкий бассейн важные вести: создана Российская социал- демократическая рабочая партия. Донбасс ответил на эту весть организацией марксистских кружков. Андрей Чумак, уже помощник машиниста на железной дороге в Горловке, вступил в кружок. На одном из занятий руководитель вынул из бокового кармана брошюру, посоветовал, чтобы все прочитали. На обложке значилось незнакомое имя: «Н. Ленин» и заглавие: «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» Андрей Чумак прочитал книгу. Потом еще одну. Нелегко было пробираться сквозь строй новых мыслей и еще непонятных слов. Но главное он усвоил: книги звали к новой достойной жизни, к борьбе. Помощника машиниста перевели из Горловки на станцию Харцызск. Туда он поехал с молодой женой Пашей — Прасковьей Тимофеевной — и своим первенцем Василием. На дне металлического сундучка лежали книги. В Харцызске Чумак связывается с марксистским кружком, но в Российскую социал-демократическую рабочую партию пока не вступает. На железной дороге между Тифлисом и Баку лежит город Елисаветполь. Переименованный в Гянджу, а затем в Кировобад, он стал теперь большим промышленным центром. Но в 1902 году, когда сюда переехал Андрей Чумак, это был окруженный малярийными болотами небольшой городишко. Хозяйничали там урядники и муллы. Чумак, получивший права машиниста, поселился в пяти верстах от Елисаветполя. Водил поезда до Тифлиса и Баку. Как-то после рейса к нему подошел деповский слесарь и сказал: — Тут тебя спрашивали. — Кто? — Сам увидишь, — уклончиво ответил тот. — Как вернешься из следующего рейса, задержись в депо. Он к тебе подойдет. Через три дня к Чумаку подошел невысокий смуглый человек с аккуратно подстриженной бородкой, улыбнулся, протянул руку, представился: — Джапаридзе. Учитель из Баку. Не сразу Андрей Чумак узнал, что этот умный и добрый грузин является одним из руководителей революционных организаций Закавказья и что партийная кличка Прокофия Апрасионовича Джапаридзе «Алеша». Джапаридзе было двадцать пять лет, Чумаку — двадцать шесть. Учитель из Баку зачастил в Елисаветполь, приглядывался к Чумаку. Они быстро сошлись характерами, но о главном Джапаридзе не заговаривал. Привозил иногда бутылку грузинского вина. Прасковья Тимофеевна ставила на стол нехитрую закуску. Чумак не пил, приличия ради пригубит, ждет, что скажет новый друг. Тот начинал издалека, спрашивал о кружке в Горловке, о жизни, давал книги читать. Потом дело пошло быстрее. После одного случая. В Елисаветполь Джапаридзе обычно приезжал вместе с Чумаком: машинист на локомотиве, учитель в вагоне. Как-то, приехав, они отправились из депо на квартиру к Чумаку. В те дни полицейские провокаторы разожгли в городе тюркско-армянскую вражду. В городе началась резня. На базаре Джапаридзе и смуглого остроносого Чумака приняли за армян. В воздухе сверкнули ножи. Раздались вопли: «Смерть неверным! Да благословит нас аллах!» Чумак кинул Джапаридзе на землю, прикрыл своим телом. Еще мгновение, и кривые клинки вонзятся в спину Чумака. Но следом за Чумаком и Джапаридзе со станции шел помощник Чумака на паровозе азербайджанец Джафар-оглы. Невысокого роста, но сильный, он разбросал убийц, спас украинца и грузина. В 1903 году Чумак вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Имя его внесли в партийный список под условным названием «Кузнец». Джапаридзе обнял его, сказал: — Теперь до конца вместе. Будь осторожен, как серна, и храбр, как сокол! Семья у тебя растет. За перегородкой плакал ребенок, второй сын. Джапаридзе спросил, как назвали мальчика. — Александром, — ответил Чумак. В начале августа 1903 года из Баку снова приехал Джапаридзе. Он рассказал о расколе партии на II съезде РСДРП, объяснил суть разногласий. Андрей Чумак стал большевиком; его избрали казначеем комитета РСДРП на станций Елисаветполь. Наступил 1905 год. Кровавое воскресенье отозвалось по всей России гулом восстаний и забастовок, заревом пожарищ. Закавказская социал-демократическая организация готовилась к восстанию. В Тифлисе открылась конференция РСДРП. Елисаветпольская организация послала делегатом Андрея Чумака. Здесь он понял, как много у него единомышленников. Джапаридзе представил Чумака своим друзьям: Михе Цхакая, Филиппу Махарадзе, Авелю Енукидзе, Серго Орджоникидзе. Орджоникидзе радостно улыбался: — Ты из Елисаветполя? Это великолепно. Будем друзьями навечно. Зови меня Серго. Как мои друзья. Орджоникидзе было девятнадцать лет. В октябре большевики начали всеобщую политическую забастовку. Железнодорожники Елисаветполя присоединились к ней, решили взять под контроль железную дорогу, и власть от Тифлиса до Евлаха перешла в руки комитета социал-демократической партии, в который был избран Чумак. Перенеситесь мысленно в те годы, представьте себе небольшую станцию в степи, маленький городок. Оттуда изгнаны жандармы, полицейские, царские чиновники. Теперь власть в руках восставших. Надо обеспечить перевозку грузов, порядок в городе и на железной дороге. Большевики Елисаветполя вооружили железнодорожников, поручили им охрану грузов и всех сооружений. Революционный комитет конфисковал товары, принадлежавшие царской администрации и богатым компаниям, и роздал беднейшему населению. В городе и на станции круглые сутки дежурила рабочая гвардия, бдительно следя, чтобы не допускались бесчинства. 11 декабря о событиях в Елисаветполе доложили наместнику царя на Кавказе князю Воронцову-Дашкову. Сиятельный вельможа не поверил: — Елисаветполь, эта глухая провинция, взбунтовалась, установила свою власть? Да вы с ума сошли! Чернь правит городом! — вопил князь. — Высечь всех! Рассвирепевший наместник приказал ввести военное положение по всему Кавказу. На этот приказ Елисаветполь ответил созданием новых вооруженных отрядов, а окрестные крестьяне — поджогами дворянских поместий. Елисаветполь стал одним из революционных островков поднявшегося Кавказа. Царские власти начали операции по подавлению восстания в главных центрах Кавказа — в Тифлисе, Батуме, Баку. В Елисаветполь был направлен карательный отряд под командованием полковника Редрова. Отряд подошел к Елисаветполю. Схватки с восставшими рабочими были жаркими, но недолгими. Андрей Чумак и еще семьдесят участников восстания были схвачены и отправлены в Тифлис, брошены в Метехский замок. За решеткой уже находились руководители восстания в главных центрах Кавказа: Филипп Махарадзе, Авель Енукидзе, Нариман Нариманов, Серго Орджоникидзе. В Тифлисе готовился процесс, о котором шумели газеты: «О преступном сообществе, организованном в Елисаветполе с целью низвержения государственного строя». 21 марта 1906 года начальнику департамента полиции на Кавказе донесли: «Чумак Андрей, жел. дор. машинист, арестован по приказу военного начальника Закавказской дороги генерала Снарского. Чумак самый энергичный деятель по забастовке... Принимал и отправлял поезда вместе с Рымкевичем, контролировал отправление телеграмм, руководил митингами, сохранял фонды партийной кассы и т. д.». Положение Андрея Чумака было отчаянным. Незадолго до восстания у него родился третий сын. Что будет с семьей? Закавказский комитет РСДРП решил во что бы то ни стало спасти Чумака. В России всегда были люди, сочувствовавшие тем, кто боролся против деспотизма и царского произвола. Владелец крупнейших мануфактур Савва Морозов снабжал деньгами большевиков и прятал революционеров. Жена князя Барятинского, знаменитая певица Яворская, не раз отдавала свои гонорары в фонд большевистской партии. Крупнейший уральский помещик князь Кугушев продал свои имения и деньги отдал большевикам. Надо найти таких же людей в Тифлисе и других городах Закавказья. План дерзок, но реален. Большевики предложат выкуп за Андрея Чумака. Выкуп временный, до суда. Сколько? Пять тысяч рублей золотом — по тем временам сумма огромная. В прокуратуре мнутся, но в конце концов соглашаются. Найдены и сочувствующие люди — профессура, врачи. Миха Цхакая ведет переговоры с либерально настроенным тифлисским домовладельцем Сосиным. Тот соглашается помочь. Деньги уже в подпольной кассе. Но кому же поручить внести залог? Жене. Прасковья Тимофеевна отправляется к властям, вносит деньги, и прокурор подписывает разрешение временно выпустить Андрея Чумака на свободу под внесенный залог, до суда, который назначен через три недели. Теперь медлить нельзя. Царский наместник еще не знает, что вожак елисаветпольского восстания на свободе. Если ему это станет известно, то впереди у Чумака сибирский этап и каменный мешок Акатуйского каторжного централа, а то и хуже: ведь министр внутренних дел Столыпин грозит повесить на фонарях всех революционеров, и повсюду свирепствуют военно-полевые суды. И тогда закавказские большевики принимают решение: Андрей Чумак должен немедленно эмигрировать за границу. Осенью 1906 года Андрей Чумак с женой и тремя малолетними детьми тайно покидает Тифлис и, загримированный под респектабельного чиновника, направляется через Одессу на север. Его перебросят за границу по старым, испытанным транспортным путям ленинской «Искры». Не останавливаясь ни в одном городе, делая пересадку за пересадкой, он прибывает в местечко Вержболово на границе Германии. Там о его приезде уже оповещены верные люди. Ночевка в старой корчме. Последняя ночь в России. На рассвете всю семью доставляют в приграничный лесок. Чумак берет старших мальчиков за руки. Прасковья Тимофеевна поднимает младшего, он обхватывает ручонками ее шею, и семья гуськом — впереди контрабандист, которому хорошо заплатили, — идет через пограничную полосу. Только бы не заплакал младший, только бы не наткнуться на конную жандармскую стражу — тогда все пропало. Впереди спасительный просвет. Кончился лес, и они уже в Германии... Чумак не задерживается здесь, знает, что царские и кайзеровские власти договорились о выдаче революционеров. В Гамбурге Чумак садится на пароход и высаживается в Лондоне. Здесь крупные американские фирмы вербуют рабочих за океан для работы на шахтах и автомобильных заводах. Чумак подписывает контракт и через две недели выезжает в Америку. Он еще не знает, что царский суд заочно приговорил его к «заключению в крепости». В 1946 году Центральное архивное управление Грузии разыскало любопытный документ: определение Тифлисской судебной палаты от 27 марта 1908 года, в котором указывается, что «за недоставление к отбытию наказания Андрея Чумака залогодательница Прасковья Чумак оштрафована на 500 рублей».В АМЕРИКЕ
Уже в начале нашего века русская революционная эмигрантская колония в Соединенных Штатах была довольно многочисленной. Ее главными центрами стали Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Кливленд и некоторые другие города. Передовое американское общество сочувствовало борьбе русских революционеров против царской деспотии. Это диктовалось историческими традициями Америки. Война за независимость, война Севера против рабовладельческого Юга оставили глубокий след в сознании американского народа. В конце XIX века рабочее движение в Соединенных Штатах начало бурно развиваться. В нем принимали участие эмигранты из всех стран мира, и русская революционная эмиграция вместе с другими группами переселенцев стала органической частью американского рабочего движения. В этом гигантском тигле оказался Андрей Чумак. Поселились Чумаки впятером в крохотной комнате. Денег, полученных в вербовочной конторе в Лондоне, еле хватало на хлеб насущный. Меньше месяца провел Чумак в Нью-Йорке, познакомился с городом, побывал у земляков, приехавших до него с Украины и Кавказа, а затем уехал в городок Бернсборо, что в штате Пенсильвания, и поступил работать на шахту. Посулы вербовщиков, что он получит работу механика, лопнули. Мешало незнание языка, да и общая техническая подготовка оказалась недостаточной. Шахты в округе Бернсборо кормили город и прилегающие поселки, но и выматывали человека до основания. Предприниматели гнались за прибылью, охраны труда не было, а плохая вентиляция в шахтах несла гибель. В тридцать лет человеку кажется, что он может своротить горы. Так думал и Чумак, но не выдержал. Как-то в забое упал в обморок, его вынесли наверх. Приговор врача был краток: запрещается работать под землей. Незадолго до этого события у Чумаков родилась дочь Антонина. Шесть ртов — не шутка. Чумак остался на шахте. Потом пришла новая беда. В шахте взрывали угольные пласты — и отлетевший лом ударил Чумака по лицу. Он потерял сознание. Домой его принесли на носилках. Очнулся он в больнице. Семья оказалась без кормильца, да и за лечение надо было платить — не за неделю, за три месяца. В больницу Бернсборо в те дни приехал новый врач. Ходил по палатам, осматривал больных, остановился у койки Чумака, спросил, кто такой. — Русский, — ответила сестра. — По-английски еле- еле. Врач подсел к Чумаку, на чистом русском языке спросил, откуда, как попал в Америку, где семья? Когда врач уехал, Чумак спросил у сестры, кто это. — О, это знаменитый доктор Бенджамен Соукс, — многозначительно ответила сестра и почти заговорщически, понизив голос, добавила: — Социалист. Доктор Бенджамен Соукс оказался доктором Борисом Заксом, главным врачом города Чикаго, выходцем из России. Три месяца провел Чумак в больнице. Доктор Бенджамен лечил его, опекал семью. С этим человеком, другом русских революционных эмигрантов, у Чумака установится на долгие годы тесная дружба и духовная близость. Оправившись от болезни, Чумак уехал в Кливленд. В этом миллионном городе у берегов озера Эри Чумак устроился на завод, к нему переехала семья. Пора было посылать сыновей в школу, а твердой уверенности в завтрашнем дне не было. Безработица, поражавшая промышленные районы, обрушилась и на Кливленд... И Чумак, оставив семью в Кливленде, на попутных машинах и в товарных вагонах колесил из города в город в поисках работы. Прасковья Тимофеевна мыкала горе: нечем было платить за квартиру, кормить детей. Как-то днем пришел полисмен и, не говоря ни слова, выставил вещи на тротуар. Семья ночевала на улице. На помощь пришли друзья из русской колонии. А Чумак добрался до Среднего Запада. Иногда попадалась работа: грузил уголь, тяжелые бидоны с молоком, лес. Деньги отправлял жене, оставляя себе самую малость, только бы не потерять силы. Перед ним все шире открывался огромный, причудливый мир Америки; он познавал думы рабочих, бродяг, обнищавших фермеров. Друзья из российской колонии посоветовали Чумаку осесть в городе Кеноша: там построили автомобильный завод, и многие русские революционные эмигранты получили работу; да и Чикаго под носом: от Кеноша до Чикаго — города у Великих Озер — два часа езды на электричке. Летом 1912 года Чумак вместе с семьей переехал в Кеноша. Уже в середине XIX века Чикаго стал одним из крупнейших промышленных центров Северо-Американских Соединенных Штатов, как тогда официально называлась эта страна. Славу городу создали не только потомки тех, кто высадился столетия назад с корабля «Мэй флауэр» на американскую землю, но и сотни тысяч эмигрантов из всех стран. Они вместе с американцами строили заводы, фабрики, знаменитые бойни, громады кварталов, разбивали парки и сады. 1 мая 1886 года в Чикаго произошли события, вошедшие в историю как «Чикагская драма», — в этот день расстреляли рабочую демонстрацию. Руководители демонстрации были казнены. Через три года, в 1889 году, Парижский конгресс Второго Интернационала решил установить в память героического выступления чикагских рабочих Первое мая как праздник международной пролетарской солидарности. В начале нашего века Чикаго был уже более чем двухмиллионным городом, крупнейшим интернациональным центром. Здесь жило много русских эмигрантов. Две рабочие партии действовали на политической арене Америки с конца прошлого века: Социалистическая партия и сформировавшаяся несколько позже Социалистическая рабочая партия. В партиях шла борьба между интернационалистами и социал-патриотами. Лидером левых сил Америки стал Юджин Дебс. Ленин охарактеризовал его так: «Революционер, но без ясной теории, не марксист». При Социалистической партии Америки действовали федерации разных национальных групп. Одной из крупнейших стал Русский отдел Социалистической партии Америки. Его организации были и в Чикаго и в Кеноша, где после долгих мытарств осел Андрей Чумак, русский рабочий, окончивший несколько классов церковноприходской школы. Об этом необходимо напомнить еще раз для того, чтобы оценить талант Чумака, четче определить его путь в русском революционном движении. Он пришел в революционное движение не через университеты, где формировалась общественная мысль. Он не принимал участия в столичных подпольных кружках, где жарко спорили по вопросам теории, о том, что такое прибавочная стоимость, и о сущности философских воззрений Гегеля. Подпольный рабочий кружок в захолустных тогда Горловке и Харцызске и в еще более захолустном Елисаветполе — вот политическая школа Чумака. Но как ясно он видел задачу революционера! Русская колония в Кеноша и ее политическое ядро — Русский отдел Социалистической партии — пассивны, раздроблены. Формально все как будто в порядке. Здесь есть Русский клуб, председатель открывает собрания, все встают, и в зале звучит торжественный гимн американской Социалистической партии «Я бунтарь». После гимна объявляется повестка дня, развертываются разнообразные дискуссии. Все вертится вокруг одного вопроса: как бы улучшить экономическое положение рабочих? Но будущее России и ее революции — здесь на втором плане. Андрей Чумак определяет главную свою задачу: объединить всех российских эмигрантов и привлечь их к активной политической деятельности. Он создает в Кеноша Общество российских рабочих. Газета «Новый мир», орган русских эмигрантов, сообщила об этом важном событии, и эту заметку стоит воспроизвести полностью: «В воскресенье в «Татра-Холл» состоялся первый массовый митинг вновь организовавшейся группы российских рабочих в г. Кеноша. Кроме членов Общества российских рабочих (так именуется новая организация), ораторами выступали (по приглашению) и другие социалисты. Темой были: «Манифест 19 февраля 1861 года» и «Манифест 17 октября 1905 года». В связи с манифестами был дан короткий очерк русской истории — от переселения славян на Руси до наших дней. Кроме того, говорилось «О задачах российских рабочих в Америке» и о безработице. С моральной стороны присутствовавшие остались удовлетворены. Записалось 11 новых членов партии. Секретарь — А. Чумак».Не вдруг Общество российских рабочих стало на социалистические позиции. Среди русских эмигрантов были и такие, которые считали, что оно должно быть организацией беспартийной. Уставшие от тюрем и ссылок в России, от неустроенной эмигрантской жизни, многие русские были не согласны с программой политической борьбы, утверждали, что общество, оставаясь вне политики, должно радеть только за экономические интересы. Русский социал-демократ Лев Дейч организовал в Нью-Йорке секцию РСДРП, которая стояла на меньшевистских позициях. Это был сектантский акт. Но Нью- Йорк был близко, и его влияние сказывалось на организациях в Чикаго и Кеноша. Чумак создал воскресную школу и библиотеку русской классической и современной литературы. Написал о нуждах русской колонии Владимиру Ильичу. В Русском клубе был организован драматический коллектив, с подмостков зазвучали монологи героев Чехова и Горького. Не была забыта и американская драматургия. Это позволяло лучше понять внутренний мир американцев. Чумак выступает на собраниях, публикует статьи в газете «Новый мир», объясняет, что рабочий класс, борющийся только за повышение заработной платы, скатывается на позиции экономизма, лишает себя главного своего назначения — гегемона борьбы за переустройство человеческого общества. Русская революционная эмиграция должна готовить себя для выполнения исторической миссии на родине, в России. Первое время Чумак жил в Кеноша на тихой Нью- уэлс-стрит в крошечной квартире. Пожар уничтожил дом. По русскому обычаю, эмигранты собрали деньги погорельцам, помогли подыскать новую квартиру. Чумак переехал на Парк-стрит, 808 в небольшой коттедж. При коттедже был небольшой участок земли. Андрей Кондратьевич вскопал огород, разбил маленький сад, приучал и детей любить и понимать природу. Дом на Парк-стрит стал центром русской колонии. Там собиралось то ядро Русского отдела, которое направляло всю политическую жизнь колонии и влияло на политические настроения в Кеноша. Вместе с Чумаком и большевиком Рабизо в руководящую группу входили Раев, Столяр, Иванов, люди молодые, но имевшие за плечами опыт революционной работы в России; почти все они эмигрировали в Америку, спасаясь от каторги и тюрем после революции 1905 года. Григорий Раев, например, до эмиграции работал слесарем на автомобильном заводе. Не только Чумак и Раев, но и все русские революционеры, образовавшие ядро колонии, после II съезда партии стали большевиками. Дом на Парк-стрит притягивал и американцев. Они знали, что с Эндрю можно откровенно обо всем поговорить, получить дельный совет. За короткий срок Чумак овладел английским языком. Вечерами после работы занимался на курсах английского языка и государственного устройства Соединенных Штатов. С уважением относился он к обычаям страны. Очень внимательно готовился к своим выступлениям на собраниях и митингах. На трибуну поднимался в черном костюме, белой сорочке с галстуком, по обычаю тех лет заколотым красивой булавкой. От всей его высокой фигуры, располагающей внешности веяло добротой. Американцы говорили о нем: «Э гуд фелло!» (Хороший парень). Это было высшей похвалой. О Чумаке заговорили в социалистических кругах Чикаго. В Кеноша приехал Юджин Дебс, он пришел на собрание в Русский клуб послушать выступления, сам выступил с докладом о политическом положении в США. Это было признанием деятельности Русского отдела социалистической партии Америки. Другом Чумака и частым гостем на Парк-стрит стал Вильям Хейвуд. Огромного роста, шумливый, Хейвуд в те годы был лидером профсоюза горняков Америки. В 1905 году под его руководством американские горняки откололись от соглашательской Американской федерации труда и создали свою революционную профсоюзную организацию — «Индустриальные рабочие мира». Это еще больше увеличило и без того огромную популярность Хейвуда. За несколько лет до знакомства с Чумаком он вышел из тюрьмы. По провокаторскому доносу его судили и пытались отправить на виселицу. На защиту Хейвуда поднялась вся рабочая Америка. Большой Билл — так звали Хейвуда американские рабочие — зачастил к Чумаку, приходил с кучей леденцов в кармане и с мороженым для маленьких Чумаков, заполнял собой всю квартиру, и раскаты его громового голоса покрывали все звуки. В Кеноша у Чумаков родилась дочь Лидия. Прасковья Тимофеевна с трудом управлялась с большой семьей. Знакомые американки дружески хвалили: «Это по-нашему. Дети — к счастью». Мальчики уже учились в школе. После занятий Саша продавал газеты Русского отдела Социалистической партии «Новый мир» и «Коммунист»: нагружал полную сумку и отправлялся сначала на автомобильный завод в Кеноша, затем — в Чикаго, на заводы, где было много русских. Возвращался в Кеноша поздно вечером, усталый, но довольный, что помогает семье. Часто отправлялся в Русский клуб, где отец читал лекции об интернационализме.
НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
Поздним летом 1912 года Андрей Чумак, приехав в Чикаго, отправился в «Холл-хауз», где всегда собирались социалисты и другие прогрессивные деятели города. Там к нему подошел моложавый, очень красивый человек с бронзовым загаром на лице, с оголенными до локтя руками, сверкнул белозубой улыбкой, дружески протянул руку, назвал себя: — Джек Лондон. Не дав Чумаку опомниться, Джек Лондон увел его в одну из комнат клуба. Сказал, что приехал из-под Сан-Франциско, читал статьи Андрея Чумака в газетах Социалистической партии и будет рад поговорить с ним. Слегка опешив, Чумак спросил, почему именно с ним решил поговорить писатель. — Вы были организатором восстания на Кавказе? — спросил Лондон. — Я писал в Нью-Йорк вашим землякам. Они мне сообщили, что вы активный участник русской революции. Чумак рассказал Лондону о восстании в Елисаветполе, о своих товарищах, о заключении в Метехский замок и бегстве от тюремщиков. Джек Лондон слушал внимательно, задавал много вопросов. — Почему вы не выдержали натиска отряда царских властей? У вас было мало оружия? Надо было взять оружие у врага... Расскажите о Кавказе. Там горы. Это как наши Кордильеры... Опишите мне ваших горцев. Ведь в горах живут сильные, смелые люди... И все спрашивал, снова возвращался к вопросам, которые уже задавал, с нетерпением ждал ответа. Что же привело знаменитого писателя к русскому революционеру? И почему именно на Андрее Чумаке остановил свой выбор Джек Лондон? Писатель искал встречи с русским революционером из рабочих, чтобы лучше понять, осмыслить, прочувствовать причины поражения первой русской революции. Произведения Джека Лондона, с огромной силой разоблачавшие ненавистный писателю мир насилия, чистогана, бессердечность богатых, коррупцию, ложь высокопоставленных джентльменов, пренебрежение к человеку труда, принесли ему всемирную славу. В начале XX века его творчество достигло наивысшего расцвета. Миллионы людей прочитали его «Железную пяту», «Мартина Идена», а также такие публицистические произведения, как «Гниль завелась в штате Айдахо», «Революция» и другие, показывающие, что писатель понимал историческую обреченность капиталистической системы. Он сблизился с рабочим движением, вступил в Социалистическую партию, горячо приветствовал русскую революцию 1905 года, восторженно отзывался о горьковском «Фоме Гордееве»: «Это целительная книга... Эта книга — действительно средство, чтобы пробудить дремлющую совесть людей и вовлечь их в борьбу за человечество». Но в последующие годы Джек Лондон отошел от социалистических идей. Причиной этому был и общий спад рабочего движения в Америке. Писатель видел, как некоторые лидеры рабочего класса Америки, те, кто вчера проповедовал братство людей труда, пошли на сделку с совестью, стали слугами концернов, предали рабочий класс. Он еще призывает рабочих к борьбе с насилием, но в сознании его происходит внутренний надлом, и в его произведениях уже начинают звучать другие мотивы: отказ от былых идеалов, уход из городов на лоно природы. И все же и в эти годы Джек Лондон, прошедший суровую школу жизни, снова и снова возвращается к теме борьбы рабочего класса. В 1911 году появляется его знаменитый, полный революционного пафоса рассказ «Мексиканец». Его герой готов идти даже на смерть, чтобы добыть оружие для революции. Тема борьбы рабочего класса, взятия им власти не оставляет писателя. Именно в это время Джек Лондон отправляется к Чумаку. Остро ненавидя любой деспотизм и считая царское самодержавие одной из самых отвратительных форм деспотизма и рабства, Джек Лондон надеялся увидеть в Андрее Чумаке представителя русской революции, рабочего и потому, оставив свою дачу в Сан-Франциско, примчался в Чикаго. Его интересовало все: и как добывали оружие, и как прогоняли царских чиновников и жандармов, и строили баррикады, и не раз подробно допытывался, почему не смогли удержать власть. Прощаясь, Джек Лондон сказал, что рад знакомству с русским революционером и будет наезжать в Чикаго и Кеноша, чтобы о многом поговорить. Вскоре Джек Лондон снова приехал в Чикаго и снова, заранее предупредив Чумака, встретился с ним. Встречи эти продолжались до 1915 года. В Европе уже шла война. Джек Лондон задавал вопросы и с еще большей жадностью слушал ответы. Его интересовало, что делает, о чем думает рабочий класс России. Чумак сожалел, что не может в полной мере удовлетворить интерес писателя. А Джек Лондон все расспрашивал. Чувствовалось, что он мучительно размышляет о событиях, происходящих в мире, и, быть может, в России, в ее народе, ее революционерах видит будущее...ВОЙНА
В Кеноша Чумак получал письма от Джапаридзе редко, но с подробным рассказом о том, что происходит в России. Последнее письмо пришло незадолго до выстрела в Сараеве. Алеша сообщал, что царское правительство разжигает шовинизм и что дело, видимо, идет к войне. Разразившаяся мировая война прервала связи эмигрантов-большевиков с Россией и Европой, перестала поступать газета «Социал-демократ», которую так регулярно посылала Надежда Константиновна. Нелегким выдался для Чумака тот год. Ориентироваться в обстановке становилось все труднее. А меньшевики, «оборонцы» подняли голову, их наскоки на позиции большевиков становились все более крикливыми. Чумак и его товарищи часто выступали в газетах «Новый мир» и «Коммунист», отстаивали ленинскую точку зрения: война приносит прибыли монополиям и гибельна для народов. Газеты Русского отдела позволяют понять трудности, которые испытывал Чумак. Теперь еще чаще появляются заметки о его выступлениях на митингах и собраниях в Кеноша и Чикаго на автомобильном заводе и других предприятиях, где работали русские. Росли и заботы о семье. Квартиру на Парк-стрит пришлось оставить, и Чумаки переехали на Сюпирио-стрит, 570. Новый коттедж был чуть побольше, и семья разместилась просторнее. Но вскоре заболела Прасковья Тимофеевна. Врачи нашли у нее легочную болезнь, грозившую осложнениями. Снова помог испытанный друг доктор Борис Закс. Он бесплатно провел необходимые исследования, поместил жену Чумака в санаторий. На Чумака свалились все заботы по дому. Он сам готовил пищу. Раз в неделю мальчики пешком уходили проведать мать за шесть километров. Чумак все чаще задумывался о будущем своих детей. Что ждет их? Не вечно же быть им на чужбине: настанет день, когда политические эмигранты вернутся в Россию. Чумак готовил детей к этому, старался, чтобы они знали историю своей родины, культуру, язык. На семейном совете было решено, что между собой сыновья и дочери будут говорить по-английски, а с родителями — только по-русски. Когда же дети, забыв уговор, обращались к родителям по-английски, те делали вид, что не слышат, не отвечали. Часто вечерами Чумак усаживал вокруг стола детей, рассказывал им эпизоды из истории России и Украины, читал «Вечера на хуторе близ Диканьки», народные сказки, старших приучал к русской литературе. Поздно вечером, когда семья засыпала, Чумак спускался в подвал коттеджа. Там он устроил слесарную мастерскую. Его неудержимо тянуло к верстаку и тискам. Сказывались рабочая закваска да и стремление к изобретательству, которое привлекало его с юношеских лет. Купил за гроши старый, развалившийся «кадиллак». На станке выточил новые подшипники, заменил негодные детали, заново перебрал автомобиль. И вскоре Чумаки по воскресеньям стали выезжать на озеро Мичиган. На Сюпирио-стрит Чумак начал работать над изобретением, которое долго вынашивал: моделью оригинальной для того времени машины, представляющей собой комбинацию полотера и пылесоса. Сделал чертежи, представил их крупной чикагской фирме. Фирма подписала договор. Трудился Чумак ночами, упорно, настойчиво, а утром — на завод. В сентябре 1915 года в швейцарской деревне Циммервальд собралась конференция нескольких социал- демократических партий европейских стран. Русскую делегацию возглавлял Владимир Ильич. По предложению Ленина социал-демократы должны были выразить свое принципиальное отношение к войне. Большинство лидеров социал-демократических партий не стало на путь решительного осуждения мировой бойни, как на этом настаивал Ленин. И все же Циммервальдская конференция принесла пользу: принятый ею манифест отражал растущий международный протест против социал-шовинизма. Американская Социалистическая партия и ее Русский отдел понимали, что произошло важное событие, но подробностей о Циммервальде не знали. Помогла Александра Михайловна Коллонтай. В Христианию, где она тогда жила, было послано приглашение от имени немецкой левой секции Социалистической партии с просьбой приехать в США. Коллонтай запросила мнение Ленина, изложила цель поездки: «В основе моей поездки в Америку лежит стремление возможно шире распространить те взгляды, которые с особенной выпуклостью и яркостью сумели оформить Вы, и которые охватывают собой основу позиций революционеров-интернационалистов». Владимир Ильич одобрил поездку, послал Александре Михайловне из Берна свою брошюру «Социализм и война», попросил перевести эту работу с немецкого на английский и издать в Соединенных Штатах. В сентябре 1915 года пароход «Бергенсфиорд» отплыл из Норвегии в Америку. На его борту среди других немногочисленных пассажиров находилась Александра Михайловна. Ей было сорок три года. Позади остались десятилетия революционной борьбы, теперь она прочно и до конца своих дней связала себя с большевистской партией, с Лениным. Опасен был Атлантический океан в ту осеннюю пору 1915 года не столько бурями, сколько немецкими подводными лодками, но через две недели после отплытия из Европы «Бергенсфиорд» пришвартовался в нью-йоркской гавани. Началась почти двухмесячная поездка Коллонтай с востока на запад через все крупнейшие промышленные центры Соединенных Штатов. На обратном пути в Нью-Йорк, 5 декабря, Коллонтай снова приехала в Чикаго. Чумак был ею заранее извещен о приезде, и вместе с Рабизо и Раевым поехали на вокзал встречать ее. Ждали ее на перроне с букетами, в лучших костюмах, взволнованные и радостные. Раньше из России приезжали посланцы, но первой с прямым заданием Ленина была Коллонтай. В тот же день Александра Михайловна выступала с докладом в Чикаго, а вечером все вместе уехали в Кеноша. Здесь на Сюпирио-стрит Александра Михайловна рассказала о беседах с Лениным, о письмах, которые он ей прислал, о Европе, где вот уже второй год шла война, подробно интересовалась жизнью русской колонии, положением в Социалистической партии, деятельностью Юджина Дебса, настроениями простых американцев. Сказала, что Владимир Ильич и сам подумывает о поездке в Америку. Последнее время он говорил об этом ближайшим друзьям. Сейчас прихворнула Надежда Константиновна; как выздоровеет, так, возможно, они вместе и приедут. Потом ей задавали вопросы, перебивая друг друга. Коллонтай, смеясь, останавливала: — Ради бога, не все сразу. Было шумно, весело, уютно. На плите урчал чайник, в который то и дело Прасковья Тимофеевна подливала воду, и Чумак, перемежая русские слова с английскими, напоминал жене: «Пут дзи чайник он дзи печка». В углу, прижавшись друг к другу, сидели младшие Чумаки, во все глаза смотрели на гостью, приехавшую из неведомого им мира... В феврале 1916 года Коллонтай уехала в Европу. Война, бушевавшая там, все больше ощущалась в Америке. Фабриканты оружия ждали, что вот-вот Америка вступит в войну и можно будет нажить на поставках новые миллиарды. В газетах развертывалась шовинистическая кампания. Руководители левого крыла Социалистической партии пытались противопоставить этой кампании свои взгляды, говорили о том, что рабочий класс не заинтересован в империалистической войне. Но делали это робко, не сумели ясно выразить свою программу, отстоять ее. Жертвой шовинистической кампании оказался доктор Борис Закс. На него давно уже злобно косились за его прогрессивные идеи. Он устраивал бесплатные приемы больных в рабочих районах Чикаго, открыл два санатория для рабочих, больных туберкулезом. Закса стали травить. Чумак поддерживал Закса, уговаривал не обращать внимания на провокационные выдумки. Но нервы у Закса не выдержали. Он покончил с собой, оставив записку друзьям: «Я просто устал. С любовью ко всем вам Б. Закс». 10 апреля потрясенный Андрей Чумак опубликовал в «Новом мире» статью на смерть друга. Он писал: «Доктора Закса замучили, его убили буржуазные политиканы, инквизиторы нашего века... За его честность, за его преданность своему делу враги его не любили, преследовали, мучили — замучили... В наших сердцах, в сердцах твоих друзей, ты всегда будешь жить!» В последний путь доктора Бориса Закса провожали тысячи рабочих Чикаго. Большевики из русской колонии опустили гроб в могилу, молча постояв, простились с другом. Русский отдел Социалистической партии Америки делал все, чтобы распространить среди сотен тысяч русских рабочих в Америке цели Циммервальда, изложенные в его манифесте. Это и была пропаганда ленинских идей. В июле 1916 года в Чикаго состоялся грандиозный митинг в честь русской социалистической печати. Перед стотысячной массой людей — американцами, русскими, украинцами, поляками, немцами, итальянцами — выступил Андрей Чумак. В газете «Новый мир» об этой речи была опубликована статья. Чумак изложил взгляды ленинской партии на империалистическую войну, и даже те, кто знал его многие годы, были поражены широтой его знаний, умением ясно и четко формулировать мысли, доносить их до рабочих. После митинга участвовавшие в нем большевики собрались в помещении Русского отдела. Там было принято решение пригласить Андрея Чумака переехать в Чикаго. Это было необходимо для укрепления чикагской организации Социалистической партии Америки. Осенью 1916 года Чумак с семьей переехал в город у Великих Озер. Поселился в небольшой квартире на Всстдивижн-стрит. Дом был старый, как все доходные дома, с газовыми рожками вместо электричества. Около дома нельзя было развести огород. Не было и гаража, старый «кадиллак» пришлось продать. Вот только с мастерской Чумак не мог расстаться. Договорился с владельцем дома, что тот уступит ему часть подвала: привез из Кеноша верстак, тиски и весь инструмент, продолжил работу над изобретением. Весь темп политической борьбы в Чикаго был бурным, напряженным. Квартира Чумака, как и в Кеноша, стала популярным центром русской эмиграции. Находилась она недалеко от социалистического клуба, созданного осенью 1916 года по его инициативе. Часто бывали там Юджин Дебс и Вильям Хейвуд, приезжал организатор американской Социалистической партии в Кеноша Гудмэн. По воскресеньям с утра до позднего вечера в квартире Чумака не закрывались двери. В Чикаго действовали четыре русские секции Социалистической партии Америки; Чумак предложил объединить их. Предложение было принято, хотя и не без борьбы, и в Чикаго создается единый Русский социалистический клуб. Теснее стали контакты и с Социалистической партией Америки. Юджин Дебс начал в печати дискуссию по поводу устава партии, доказывал, что в нем слабо отражена классовая сущность социалистического движения в Америке. 22 декабря 1916 года в Русском отделе состоялось обсуждение этого вопроса. 30 декабря американские и русские социалисты собрали городскую конференцию и создали специальную комиссию для разработки нового устава партии. Русские настояли, чтобы принцип классовой борьбы был четко сформулирован в уставе. Предложение приняли и решили окончательно обсудить его в апреле 1917 года на съезде партии.ГРОМ ИЗ РОССИИ
Это было 14 марта 1917 года по новому стилю. Чумак накануне поздно вернулся с работы. Утром, как обычно, пришли друзья. Только сели завтракать, как за окном раздались крики. Мальчишки — продавцы газет на этот раз кричали громче обычного, и даже через закрытые окна с улицы доносилось слово, которое они то и дело повторяли: «Петроград!» Андрей Кондратьевич послал сыновей за газетами. Те мигом вернулись, размахивая свежим номером «Чикаго трибюн» с аншлагом через всю первую полосу: «В Петрограде революция! Царь свергнут!» Спустя семнадцать лет, 26 марта 1934 года, М. Столяр, активный деятель кеношско-чикагской группы большевиков, рассказал на страницах газеты «Москоу ньюс», где он заведовал отделом, о незабываемых часах, пережитых в тот день в Чикаго. В статье, озаглавленной «Андрей Чумак — герой Революции», М. Столяр писал: «Когда появились первые сообщения о Февральской революции, мы созвали митинг на квартире Чумака. Радость пьянила людей, многие от волнения не могли говорить, мы обнимались, кричали «Ура!», поздравляли друг друга». Тут же, на квартире Чумака, начали обсуждать планы возвращения в Россию, послали поздравительные телеграммы в Нью-Йорк и другие центры русской эмиграции. Февральская революция подтолкнула рабочий класс Америки к активным действиям. Специальная комиссия по подготовке нового устава, в которую от Русского отдела входил Чумак, закончила свою работу, и 7 апреля 1917 года, на следующий день после вступления Америки в войну, в Сан-Луи открылся Чрезвычайный съезд Социалистической партии Америки. Повестка дня съезда включала два пункта: 1. Об отношении партии к мировой войне. 2. Утверждение новой программы и устава. На съезде левые силы дали бой правым, ратовавшим за половинчатую политику в вопросе о войне и мире, заставили их отступить. Спустя два года, характеризуя решения съезда, Джон Рид напишет Владимиру Ильичу, что там «была принята знаменитая Декларация о войне — самый революционный призыв к массовым действиям за всю историю социалистического движения в Америке». И до съезда и после него Чумак вместе с Юджином Дебсом, Вильямом Хейвудом и другими лидерами рабочего движения Америки выступал на интернациональных митингах и собраниях с докладами о борьбе рабочего класса против империалистической войны и о значении Февральской революции. Когда читаешь в «Новом мире» и других газетах Америки отчеты о выступлениях Чумака, поражаешься зрелости этого бойца ленинской партии. Февральская революция вызвала в широких кругах Америки еще больший интерес к России. В социалистическом клубе на Блюайленд-авеню, где с утра до поздней ночи толпится рабочий люд, эта тема была главной. Русские стали популярнейшими гражданами Чикаго, к ним обращались сотни людей с самыми разнообразными вопросами. Многие приходили на квартиру Чумака. Росло стремление понять Россию, происходившие там события и ее роль в мировой истории. Сразу же после Чрезвычайного съезда Социалистической партии Америки, по предложению Чумака, в Чикаго собраласьконференция русских эмигрантов-большевиков, живших в разных городах Соединенных Штатов. На конференции Чумак впервые встретился с Тимом Баком. Они уже давно переписывались, знали друг друга по партийной работе. В один из своих последних приездов в Москву Тим Бак, Председатель Коммунистической партии Канады, скончавшийся несколько лет назад, рассказал друзьям о своей встрече с Андреем Чумаком: «Мы говорили о наших общих задачах, о том, что связывает рабочих всех стран, о борьбе за социалистические идеи. Чумак не только был организатором этой конференции, но ее душой, основным докладчиком». На конференции в Чикаго Тим Бак сфотографировался с Чумаком, собирался эту фотографию прислать в Москву как еще одно напоминание о тех днях, когда передовое общество Америки с глубоким пониманием и с симпатией встретило известие об избавлении русского народа от гнета царского деспотизма. Первая группа русских политических эмигрантов выехала из Соединенных Штатов в Россию в конце апреля 1917 года. Чумака избрали председателем Комитета по возвращению на родину. С каждым днем таяла русская колония в Чикаго, Нью-Йорке, Бостоне, Кливленде, Милуоки и других городах. Чумак проводил в Россию ближайших друзей — Рабизо, Раева, Иванова. Тихо стало в квартире на Вестдивижн-стрит, Чумак сутками пропадал в комитете, отправлял эмигрантов: надо было всех обеспечить паспортами, деньгами, зафрахтовать пароходы. Путь был дальний: из Чикаго поездом в Канаду — в Ванкувер, а оттуда пароходом до Владивостока. Через Атлантику путь в Европу был опасен: немецкие подводные лодки топили пассажирские пароходы, на Тихом океане все же было спокойнее. Вечерами, когда Чумак возвращался домой, Прасковья Тимофеевна спрашивала: — Когда же мы поедем, Андрюша? Чумак отмалчивался или отшучивался. Лишь в конце мая сказал жене: — Скоро поедем, собирайся. Готовясь к дальнему путешествию, Чумак не забыл и о своем изобретении. Незадолго до отъезда он завершил работу над машиной для уборки квартир. Фирма приняла ее к производству. Гонорар — весьма крупная сумма — был использован для отправки русских эмигрантов в Россию. В начале июня 1917 года из канадского порта Ванкувер пароход «Царица России» увез из американской эмиграции на родину 85 большевиков во главе с Андреем Чумаком. Уезжали с детьми повзрослевшими и совсем крошечными, никогда не видевшими России. После морского, а затем железнодорожного путешествия добрались, наконец, до станции Харбин. Здесь власти задержали эмигрантов-большевиков, поселили их временно в вагонах на станции, запретили выезд из города. Русский генеральный консул запросил Временное правительство, кому из эмигрантов можно разрешить въезд в Россию. Вскоре консул передал Андрею Чумаку ответ Керенского: въезд в Россию ему запрещен. Чумак направляется к властям Китайско-Восточной железной дороги и предлагает свои услуги. Ему отвечают, что работу машиниста он получит, но только не в Харбине, а на станции Ханьдаохэцзы. Чумак соглашается. Он готов водить поезда от Ханьдаохэцзы до Харбина. Хозяином положения на КВЖД все еще остается бывший царский наместник генерал Хорват. В его руках не только огромный аппарат вышколенных служащих, но и войска, которые в любой момент можно использовать для подавления революционных выступлений. Значит, Чумаку надо найти друзей-единомышленников, установить связи, явки. К осени 1917 года Чумак создает в Харбине подпольную большевистскую организацию. Ее ядром становятся рабочие Главных механических мастерских. Поочередно на их квартирах происходят собрания. Большевики стараются привлечь на свою сторону рабочих и служащих КВЖД. Это нелегко. В Харбине открыто действуют меньшевики, эсеры и анархисты. Чумак тайно уезжает во Владивосток, где уже находятся Раев, Рабизо, договаривается с ними о координации действий, получает информацию о положении в Петрограде, возвращается в Харбин и делает следующий шаг для усиления большевистского подполья. Опытный интернационалист, Чумак обращается с листовкой к китайским и корейским рабочим, призывает их действовать совместно с русскими рабочими против администрации генерала Хорвата и всей харбинской буржуазии. Поздно вечером 7 ноября (по новому стилю) приходит из Петрограда сообщение о том, что большевики взяли власть в свои руки. Через несколько дней и в Харбине создается Совет рабочих и солдатских депутатов. Председателем становится Рютин. Но генерал Хорват не думает сдаваться. Харбинский Совет медлит, ведет ненужные переговоры с Хорватом, вместо того чтобы вырвать власть из рук генерала. 21 ноября из Петрограда приходит телеграмма Ленина. Владимир Ильич требует от Харбинского Совета, чтобы вся власть перешла в его руки, а генерал Хорват и вся белогвардейская администрация были арестованы. Приказ о переходе власти в руки Советов Рютин издает, по не подкрепляет его практическими действиями. Чумак предлагает Рютину вооружить рабочих мастерских и взять власть в свои руки, как это однажды уже было сделано и как того теперь требует Ленин. Однако Рютин колеблется. Хорват использует бездействие председателя Харбинского Совета и срочно вызывает на помощь войска китайского генерала Чжан Цзолина. Русские охранные дружины вынуждены отступить перед превосходящими силами противника. Харбинский Совет пал... И снова вспомним, что происходило в те месяцы в молодой Стране Советов, вспомним гражданскую войну, поход четырнадцати государств Антанты, заговоры контрреволюции, следовавшие один за другим. Вспомним, как Советское правительство во главе с Лениным делало нечеловеческие усилия, чтобы организовать отпор врагу, отстоять независимость Родины, нормализовать экономическую жизнь, вконец нарушенную четырехлетней войной. Революционный опыт подсказал большевикам Харбина: надо сохранить большевистские кадры, действовать через организации, находящиеся пока на легальном положении. Чумака избирают членом Главного исполнительного комитета рабочих и служащих КВЖД. Через профсоюзные организации он добивается связи с китайскими рабочими и 1 мая 1918 года организует демонстрацию на улицах Харбина в поддержку Советской власти. Но в это время в действие вступает еще одна контрреволюционная сила — атаман Семенов. Через двадцать семь лет, в конце второй мировой войны, этот палач будет схвачен и понесет заслуженную кару — военный трибунал присудит его к смертной казни через повешение. Но описываемые события происходили в 1918 году. Атаман Семенов начал свой карательный поход. После первомайской демонстрации события развертываются с калейдоскопической быстротой. Главный исполнительный комитет рабочих и служащих КВЖД начинает подготовку к забастовке протеста против карательных действий атамана Семенова и войск генерала Хорвата. Город бурлит. 16 мая по всей линии Китайско-Восточной железной дороги всеобщая забастовка началась. Инициатор ее — Чумак. В то утро, когда паровозы по всей линии оповестили начало забастовки, Чумак выступал в железнодорожном клубе станции Ханьдаохэцзы. Небольшой зал заполнен до отказа. Рядом с Андреем Кондратьевичем у трибуны Прасковья Тимофеевна и сын Саша. В эти часы генерал Хорват передает по телеграфу приказ жандармерии о немедленном аресте Чумака. В Ханьдаохэцзы дежурит телеграфист — большевик-подпольщик. Приняв телеграмму, он мчится в клуб. Чумак тут же зачитывает приказ Хорвата. В ответ раздаются крики протеста. Полицейские понимают, что взять Чумака в клубе не удастся, и окружают дом, в котором он живет. Но Чумак возвращается с митинга не один, а с отрядом рабочих и солдат. Полицейские отступают. Поздно ночью жандармы пытаются ворваться в дом, но Чумаку удается скрыться. Через двое суток он тайно на паровозе выезжает из Харбина в Приморье. И снова жена с детьми остается одна, как тогда в Елисаветполе, как в Америке, когда он бродил по дорогам в поисках куска хлеба.УССУРИЙСКИЙ ФРОНТ
В начале июня 1918 года Андрей Чумак был направлен Приморским комитетом РКП(б) в Никольск-Уссурийск для усиления партийного руководства в этом городе. Здесь он сразу оказался в центре событий. Чумака избирают председателем Совета рабочих и солдатских депутатов. Программа действий Совета — телеграмма Ленина, направленная 7 апреля 1918 года. Владимир Ильич требовал готовиться к борьбе и возможной интервенции, «готовиться без малейшего промедления и готовиться серьезно, готовиться изо всех сил». Действовать в духе ленинских указаний — это значит создать оборонительные сооружения, укрепить вооруженные силы города — рабочие дружины, обеспечить на случай интервенции переброску стратегических грузов в глубь страны. Так и поступают большевики Никольск- Уссурийска. Вокруг города создаются укрепления. События не заставили себя ждать. В июне белочешские легионеры из бывших чехословацких военнопленных, возвращающихся на родину через Владивосток, подняли мятеж. В этом ключевом городе Приморья они арестовали руководителей Совета, объединились с белогвардейскими частями атамана Калмыкова и двинули полки на Никольск-Уссурийск. Пять дней шли ожесточенные бои. Красногвардейские полки под командованием революционного штаба, в который входил и Чумак, не отдавали без боя ни пяди земли. Это позволило другим городам Дальнего Востока перебросить войска в помощь Никольск-Уссурийску. 21 июля 1918 года «Рабочая газета» писала о тех днях: «При обороне города особенно отличился Председатель Горисполкома Совета А. Чумак. Он лично водил красноармейцев в штыковую атаку, и его отряд, как и сам командир, отличался большой храбростью. Далькрайком партии талантливого организатора-большевика назначил членом Военного Совета фронта и комиссаром передвижения войск. Когда белые и иностранные интервенты, применив тяжелую артиллерию, подожгли город и прорвали укрепление красных, заставив оставить занимаемые позиции, А. К. Чумак, командуя бронепоездом «Освободитель», отступил последним, прикрывая отход красногвардейцев и эвакуируемых госпиталей и учреждений в гор. Спасск».Медленно, с боями отступали красные отряды в сторону Хабаровска, готовясь к решительному бою. Чумак все время с войсками, делит с ними все лишения. Пошел вот уже третий месяц, как он оставил семью на станции Ханьдаохэцзы. Там теперь свирепствуют белогвардейцы. Что с женой и детьми, живы ли они? Ни писем, ни весточки от них, да жена и не знает, где он. А дни бегут, и дел все больше. Со всех уголков Приморья и Амурской области к Уссурийскому фронту пробирались большевики, ведя за собой людей, вливаясь в армию, набиравшую силу, чтобы нанести удар по врагу. 1 августа 1918 года Военный совет Уссурийского фронта отдал приказ о переходе в наступление в районе Каульских высот. Враг, бросая оружие и неся огромные потери, начал беспорядочное отступление к Никольск- Уссурийску. Но против рабочего класса, взявшего в свои руки власть на Дальнем Востоке, уже выступили силы крупнейших капиталистических стран мира. 24 августа интервенты начали фронтальное наступление на Уссурийском фронте. Из городов и сел, из таежных лесов в Хабаровск выехали делегаты на открывшийся 25 августа V съезд Советов Дальнего Востока, чтобы оценить обстановку и выработать меры спасения Советской власти. Делегатом от Амурской области на съезд прибыл Андрей Чумак. Приехали в Хабаровск и руководители сибирских большевиков во главе с Павлом Петровичем Постышевым. Здесь произошла их первая встреча с Андреем Чумаком. Съезд заслушал доклад о международном положении и о текущем моменте. Потом на трибуну поднялись делегаты. Одним из первых выступил Андрей Чумак. Как всегда, он был краток: — Не время было уезжать с фронта, но хлопцы настояли, поручили выступить от имени фронта и во весь голос сказать, чтобы слышали за Уралом, слышал большевистский Центральный Комитет, слышал сам Ленин, слышал весь русский народ, слышали наши братья украинцы, белорусы, грузины, латыши, татары, слышали народы Америки, Японии, Англии, Франции, Чехословакии, как войска чужеземных захватчиков вторглись в наш край и нарушили нашу мирную жизнь. Красноармейцы и красногвардейцы Уссурийского фронта просили меня сказать, что мы не позволим вмешиваться в наши дела. Дальневосточный съезд, веря в пролетарскую солидарность, обратился к народам Америки, Англии, Японии и Франции, призвал их требовать немедленного вывода интервентов и заявил, что «Дальний Восток является нераздельной частью великой Российской Федеративной Советской Республики, управляется выборными органами трудового народа, именуемыми Советами, и никому вмешиваться в наши дела не позволим...». Съезд постановил распустить Уссурийский фронт, перейти к партизанской борьбе, избрал Дальневосточный Совет Народных Комиссаров. Андрей Чумак вошел в состав Совнаркома, и вскоре он и Постышев отбыли туда, где разгоралась партизанская война. Чумак вместе со своими ближайшими помощниками двинулся в район Архары Амурской области. Павел Постышев выехал по реке Тунгуске в район Приамурья. Всего лишь год прошел, как Чумак вернулся из Америки. Чикаго, Нью-Йорк, выступления на съезде Социалистической партии Америки, встречи с Дебсом, Хейвудом, Джеком Лондоном... Неужели это было? И эти бурные споры в социалистическом клубе на митингах! Иногда он думает, что это мираж, исчезнувший в песках. На Чумаке военная куртка, через плечо карабин, а на поясе «кольт». Во время коротких привалов он дает команду всем отдыхать, выставляет сторожевые посты и лишь тогда опускается на землю, чтобы забыться в коротком сне. И снова в поход, через тайгу, непроходимую чащу, в жару и ливень. Неподалеку от золотых приисков, в районе Архары Чумак создает партизанскую базу, объезжает села, беседует с крестьянами; готовые до конца биться за Советскую власть, они оставляют свои избы и уходят в партизаны. В сумрачный осенний день крестьяне сообщили, что в окрестностях появился отряд японских интервентов. Чумак мог послать в разведку партизан из местных жителей, но решил пойти сам. Белогвардейские каратели, интервенты подкараулили его, навалились, связали и отправили в тюрьму города Благовещенска. В тюрьме Чумак свалился: тиф. Несколько недель он был между жизнью и смертью. Победили сильный организм и неукротимая воля борца. Подпольная организация большевиков Благовещенска под руководством Федора Мухина начала готовить побег Чумака. На должность надзирателя в тюрьму был послан надежный коммунист Зелинский, не раз выполнявший опаснейшие поручения. Когда Мухин узнал, что Чумак выкарабкивается из болезни, он по просьбе Чумака вызвал из Харбина Прасковью Тимофеевну. Она немедленно приехала в Благовещенск. Встреча состоялась в тюрьме. ...В конце октября 1918 года Андрей Чумак снова в подполье. К концу февраля 1919 года партизанская борьба в Амурской области так разрослась, что казачьи атаманы решили послать туда новые части. В начале марта в засаду карателей попал Федор Мухин. На допросе его пытали. Все выдержал амурский комиссар. Федора Мухина застрелили. Теснее и теснее сжималось смертельное кольцо вокруг Андрея Чумака и его боевых товарищей. Через несколько дней после убийства Мухина на конспиративной квартире в Благовещенске собрался подпольный штаб борьбы против интервентов. Совещанием руководил Чумак. За комиссарами давно была установлена слежка. На этот раз ищейки напали на след руководителей амурских большевиков. Интервенты и белобандиты окружили дом, ворвались с ручными пулеметами, карабинами. Комиссаров упрятали в благовещенскую тюрьму. Андрея Чумака допрашивал палач из казачьей контрразведки князь Чочуа. Бил, пытал, требовал, чтобы Чумак раскрыл планы партизанских отрядов. Приставлял к виску дуло револьвера. Нажимал спуск: «шутил». В других камерах допрашивали остальных комиссаров. Никто не дрогнул, не выдал. Так повторялось каждый день. Палачи поняли, что допросы ничего не дадут. Ночью 26 марта 1919 года полураздетых комиссаров вывели из тюрьмы под усиленным конвоем и увезли за город. У глиняного карьера интервенты и белогвардейцы остановили их перед большой ямой, кололи штыками, били шомполами, все ближе подталкивая к могиле. Наступили последние минуты перед казнью. Комиссары попрощались друг с другом. Андрей Чумак шагнул к могиле, пожал руки друзьям. Поднял голову, взглянул на небо. Мысленно попрощался с женой и детьми. Залп. Он уже не видел, как из рядов обреченных вырвался Петр Зубок, а затем Прокопий Вшивков. Озверевшие белобандиты шашками рубили комиссаров по голове, лицу, рукам, ногам. Через год партизаны изгнали врага и освободили Благовещенск. С непокрытыми головами долго стояли боевые друзья у ямы, где убийцы сделали свое черное дело. Трагически окончилась и жизнь Петра Зубка: у стен Благовещенска он напоролся на вражеский патруль и был застрелен. Прокопию Вшивкову после бегства удалось спастись. Раненного и обмороженного, его приютил крестьянин, живший в деревне близ Благовещенска, и выходил его. Комиссар здравоохранения Амурской республики вернулся в партизанский отряд. В живых остался еще один комиссар — Василий Повилихин: он очнулся через несколько часов после казни, выполз из-под стынущих трупов. Окровавленный, обессиленный, он добрался до избушки сторожа, и тот спрятал его. Василий Повилихин и рассказал о последних минутах амурских комиссаров. Как и Вшивков, он вернулся в партизанский отряд и сражался с врагами до их полного разгрома. Солдат революции Андрей Чумак остался навсегда в памяти благодарных потомков. Его имя носят клубы, школы, улицы. И часто в городах и таежных поселках можно услышать, как народ поет «Балладу об Андрее Чумаке» композитора Алексея Муравлева на слова поэта Ефима Черных:
...Замолкли последние звуки песни, записанной на пленку, мы сидим с Александром Андреевичем, погрузившись в раздумья. Потом я спрашиваю, как сложилась судьба семьи. — Со станции Ханьдаохэцзы мы уехали, оказались в Харбине. Мне пришлось взять на себя заботу о семье. — Сколько лет вам было тогда? — Шел семнадцатый год. — И вы поступили на работу в штаб генерала Грейвса? — Не сразу. Первое время я был переводчиком на КВЖД в так называемом Межсоюзном техническом совете, где работали русские и американские инженеры. А потом меня представили генералу Грейвсу. Сделал это один американский инженер. Он знал о моей работе в Межсоюзном техническом совете и привел меня к нему. Штаб Грейвса находился тогда на железнодорожных путях станции Харбин и размещался в трех классных вагонах. Генерал строго посмотрел на меня. Услышав чистую английскую речь, несколько смягчился, начал задавать вопросы, спросил, каким образом я попал в «этот богом проклятый край». Я ответил, что приехал с родителями, что получил среднее образование в США. Грейвс спросил, в каком городе я жил. «В Чикаго. Учился, а по вечерам торговал газетами». — «Тогда вы должны хорошо знать Чикаго. А помните ли вы универмаг Уайбольца на берегу реки Чикаго?» — «Магазин Уайбольца я хорошо знаю, но он находится в центральной части города, рядом с табачным магазином, перед которым стоит раскрашенная фигура индейца». Грейвс громко рассмеялся, хлопнул меня по плечу, сказал: «Ну, молодец! Я вижу, ты хорошо знаешь Чикаго. Теперь я вспоминаю, что не раз у тебя покупал газеты. Ведь я жил там, в угловом доме, возле которого ты продавал газеты...» Подошел к концу 1919 год. Из главных центров революции в Харбин докатились вести о разгроме Юденича под Петроградом. Врангель и Деникин под ударами Красной Армии все дальше откатывались на юг России. В конце декабря пришла еще одна радостная весть: Красная Армия разгромила Колчака, именовавшего себя «верховным правителем России», а сам царский адмирал оказался в руках Иркутского военно-революционного комитета. Харбин тревожно гудел. С разгромленных фронтов туда хлынули белые офицеры. Напуганные событиями, местные тузы спешно распродавали недвижимое и движимое имущество, собирались бежать из города. Семья Андрея Кондратьевича все еще оставалась в Харбине. Подпольный комитет большевиков взял на себя заботу о ней. Александр Чумак продолжал работать в Межсоюзном техническом совете. Это помогло ему получить доступ в штаб бывшего царского генерала Хорвата, выполнять поручения подпольного комитета большевиков и командования Красной Армии. Весной 1920 года под давлением широких кругов американского народа экспедиционный корпус США был выведен из пределов Советской России. Красная Армия и партизаны продолжали успешное наступление против других интервентов и белогвардейских частей, и во всем Приморье победила Советская власть. Когда об этом стало известно в Харбине, Александр Чумак выехал в Никольск-Уссурийск в надежде разыскать отца или узнать что-либо о нем. Там он встретился с Николаем Павловичем Михайловым, старым другом Андрея Кондратьевича. В 1918 году Чумак и Михайлов были избраны в Главный исполнительный комитет рабочих и служащих КВЖД. В Никольск-Уссурийске Михайлов был председателем следственной комиссии ЧК. Он рассказал Александру о трагической гибели Андрея Кондратьевича и всех амурских комиссаров. Александр остался работать в ЧК, чтобы продолжать дело, за которое боролся его отец. Несколько месяцев он пробыл в Никольск-Уссурийске, а потом в составе партизанского отряда под командованием Гавриила Шевченко сражался под Гродеково против интервентов и белогвардейцев. Когда же в отряд пришли вести о том, что Александр нужен в Харбине, он возвратился в город. В это время армия Блюхера и партизаны уже вели последние бои против интервентов и белогвардейских банд. В ноябре 1922 года на всем Дальнем Востоке навсегда установилась Советская власть. Командование Народно-революционной армии Дальневосточной республики награждало бойцов и командиров. Не был забыт и сын амурского комиссара. Ему вручили часы с надписью «От благодарных товарищей». А в 1923 году подпольный комитет большевиков отправил из Харбина в Москву семью Андрея Кондратьевича Чумака. Ее разместили в теплушке. Поезд отошел от перрона и повез их по нескончаемому сибирскому пути на вновь обретенную ими Советскую Родину.
Студент Софийского университета
...Мы все грешим тем, что не оставляем для истории даже переписку между членами партии нашего времени, а она часто дает свежую картину происходящего... Через сто лет это будут читать с увлечением и по-новому и поймут наши трудности и наши победы и достижения. Горячий привет Вам, дорогой друг! (Из письма Александры Михайловны Коллонтай Семену Максимовичу Мирному. 17 ноября 1950 г.)
Познакомился я с ним до войны, в начале 1940 года. Он пришел в иностранный отдел редакции газеты «Труд» и предложил написать статью об одном известном шведском миллиардере, связанном с гитлеровскими военными концернами. Через несколько дней статья появилась в газете. Отличало статью поразительное знание закулисных интриг магнатов индустрии. Как-то незаметно он стал необходим редакции. В одной из комнат на полках лежала иностранная пресса. Он брал лондонскую газету «Таймс», парижскую «Тан», немецкую «Франкфуртер цайтунг», находил важные факты, делал выписки. Однажды я обратил внимание на то, что он читает венгерскую газету. «Вы знаете венгерский язык?» — спросил я. Он застенчиво улыбнулся и ответил утвердительно. «А еще какие?» Пробормотав что- то невразумительное, он перевел разговор на другую тему. Тогда мы попытались выяснить, какие европейские языки он не знает. В римской газете появилась статья журналиста Гайды, который в те годы был известен как рупор фашистского диктатора Муссолини. Среди нас не было сотрудника, знающего итальянский, и мы обратились к нашему новому автору с просьбой порекомендовать переводчика. Он молча взял газету, и через час статья была переведена. Потом он переводил статьи с датского, шведского, норвежского, болгарского, испанского. Закончив работу, говорил: «Вот, готово». После того как он перевел статью из турецкой газеты, мы его больше не спрашивали о знакомых ему языках. Война разлучила нас. Я знал, что он ушел на фронт рядовым солдатом, хотя ему было далеко за сорок. Снова встретились после войны. Уже был 1956 год. Настроение у него было приподнятое. Он сказал мне: — Галилей был прав: она вертится, и вертится в правильном направлении. — Где трудитесь? — спросил я. — В Ленинской библиотеке, комплектую иностранную литературу. Однажды я навестил его на Каляевской улице, где он жил долгие годы. Мы говорили о всякой всячине, вспоминали общих друзей и знакомых. Потом его жена сказала: — Сеня, может быть, мы все же отметим? Ведь такое в жизни бывает не каждый день. — А что собираетесь отмечать? — спросил я. Он улыбнулся: — Ничего особенного... Но я видел, что он чем-то очень обрадован. — Да не слушайте вы его. Он получил высшую награду Болгарии — орден Георгия Димитрова. Я не мог тогда выяснить, за что именно он, советский гражданин, получил высшую награду братской страны. Он часто бывал у меня дома, я кое-что знал о его жизни, о чем-то догадывался, но на все мои вопросы он отвечал односложно: ничего особенного, все норма... Последние годы он боролся с тяжким, неизлечимым недугом, но работал до последнего дня... Хоронили его в холодный зимний день. Позвонили из болгарского посольства, сказали, что из Софии вылетел самолет с друзьями. Они приехали в последний момент, возложили на гроб теплые розы и гвоздики. Выступил представитель посольства, и в тишине прозвучали слова: — Мне поручено сказать в этот траурный час, что Центральный Комитет Болгарской коммунистической партии, болгарское правительство и болгарский народ выражают глубокую скорбь по случаю кончины нашего незабвенного друга и товарища, нашего брата Семена Максимовича Мирного. Я знал его много лет. Знал о том, что он был близким другом Александры Михайловны Коллонтай, советником посольства в Швеции, Норвегии, Венгрии, консулом в Турции, но лишь когда его не стало, понял, что почти ничего о нем не знаю. Я вспомнил слова Расула Гамзатова: «Берегите друзей!» — и мысленно добавил: «И знайте друзей!» Я позвонил в землячество старых большевиков-подпольщиков. Ответ был краток: — Он мог рассказывать о подвигах друзей, а о себе всегда молчал. Тогда я обратился к архивным документам, к сохранившимся записям Мирного, написал болгарским друзьям и попросил их помощи. Болгары ответили: «Да будет рассказана правда о нем!» Повествование о большевике-интернационалисте Семене Мирном начнем с того, что перенесемся на юг России, в Одессу первых лет революции.
НА ДУБКЕ ЧЕРЕЗ ЧЕРНОЕ МОРЕ
Революция докатилась до Одессы через несколько недель после Октября — весна шла тогда с севера на юг. В январе 1918 года одесские рабочие взяли власть в свои руки. Но вскоре Одессу оккупировала армия кайзеровской Германии, а в декабре в город пришли англо-французские интервенты. Одесский областной комитет партии большевиков ушел в подполье. Секретарем областного комитета была тогда Софья Ивановна Соколовская, известная большевикам под партийной кличкой «Елена» или «Елена Кирилловна». Родившаяся в Чернигове в дворянской семье, Соколовская в юные годы уехала на Бестужевские курсы в Петербург. Там она вошла в революционный кружок, принимала участие в Октябрьской революции, затем была послана на подпольную работу в Киев, а оттуда в Одессу. Было ей тогда двадцать четыре года. Эта худенькая, невысокого роста, больная туберкулезом женщина была умна, изящна, прекрасно воспитана, владела несколькими иностранными языками. Необычайно привлекательным было ее лицо, на котором блестели лукавые и смешливые темные глаза. На ее тонкую миниатюрную фигурку с копной каштановых волос женщины оборачивались, биндюжники с Молдаванки приосанивались, чмокали губами и говорили: «Вот это да!», щеголи с Дерибасовской закатывали глаза. О ее смелости и бесстрашии ходили легенды. В дни оккупации за ней охотилась вражеская контрразведка, а она появлялась на улицах Одессы, одетая в гимназическую форму с передником, чуть-чуть изменив свой облик, и никто не мог себе представить, что это и есть один из руководителей подпольного обкома большевистской партии. ...Москва внимательно следила за тем, что происходит в Одессе. Из Центра туда были направлены для работы среди иностранных солдат коммунисты: дочь парижского коммунара Жанна Лябурб, Драган Вальмаж, Стойко Ратков, Живанко Степанович и английский эмигрант под фамилией Кузнецов. Эта группа коммунистов стала ядром Иностранной коллегии обкома партии. Вместе с ними действовали члены обкома Елин, Деготь, Залик, Штиливкер, Дубинский, Вапельник и другие руководящие коммунисты. Елена Соколовская, прибывший из Москвы представитель Коминтерна Жак Садуль и Жанна Лябурб развернули агитационную работу среди французских войск, где было много марокканцев, алжирцев, сенегальцев, вьетнамцев, насильно включенных колонизаторами в свою армию. Иностранная коллегия обкома партии издавала газету на французском языке «Коммунист», которая печаталась вместе с русской газетой «Коммунист» в подпольной типографии. Во вражеском стане началось брожение. 16 апреля революционные французские матросы пытались захватить миноносец «Протей»; уже готовилось восстание на судне «Вальдек-Руссо». Агентам иностранной контрразведки удалось схватить Жанну Лябурб и других членов Иностранной коллегии. Их расстреляли. Елена Соколовская говорила о Жанне Лябурб: «Таких пламенных, таких чистых энтузиастов... я не встречала. Безусловно хорошая коммунистка, опытная пропагандистка, товарищ Лябурб вся горела, всей душой была предана делу революции, и ее сильная красивая речь была полна захватывающего чувства революционной борьбы».После казни Жанны Лябурб положение в оккупированной Одессе стало еще более напряженным. На Пересыпи в рабочих кварталах не утихал возмущенный ропот. Подпольный обком партии собирал силы, готовил восстание против интервентов и белогвардейцев. Ждали удобного момента, и этот момент приближался. В первых числах апреля 1919 года с северо-востока от станции Сербка в сторону Одессы стали отступать французы, и вместе с ними, поднимая пыль на дорогах, протянулась греческая кавалерия на мулах. В Одессе поползли слухи, их разнесли по городу всезнающие мальчишки и базарные торговки: — Вы знаете последнюю новость? Нет, не знаете, так вы ничего не знаете. К нам идут красные. Вы не верите? Провалиться мне на этом месте, если я вру... Слухи подтвердились, к городу приближалась какая- то армия, но лишь в областном комитете партии знали, что в ближайшие дни в город должна ворваться Заднестровская дивизия под командованием бывшего царского офицера Григорьева, о котором в народе ходили самые разноречивые слухи. А тем временем Заднестровская дивизия, наступавшая со стороны Харькова, подошла к станции Сербка, и войска, как вода в половодье, струйками растеклись по домам обывателей, стали на постой перед последним прыжком на Одессу. Вечером близ железнодорожной станции командир дивизии Григорьев приказал созвать бойцов на митинг. Ему донесли о последней новости, появившейся в газетах: глава французского правительства Клемансо подал в отставку. Григорьев решил сообщить об этом дивизии. Речь командира дивизии была краткой. Закончил он се следующими словами: — Мы выбили кресло из-под Клемансо. — И, повернувшись к оркестру, состоявшему из скрипки, баяна и барабана, который сопровождал дивизию во всех ее походах, громовым голосом приказал скрипачу-капельмейстеру: — Капельдудник! «Яблочко». Капельмейстер взмахнул смычком, за ним грохнул барабан, растянул мехи баянист, и гимн Заднестровской дивизии «Эх, яблочко, куда катишься!» поплыл над нестройными солдатскими рядами. Григорьев, которого в народе называли атаманом, сорокалетний офицер царской армии, прошедший всю первую мировую войну, не был близок к большевикам. Солдаты его дивизии, в большинстве своем крестьяне, четыре года провели в окопах, не хотели расставаться с винтовками, мечтали о своей земле и семьях. Григорьев сказал им, что вместе с Симоном Петлюрой он разобьет царское войско генерала Деникина, который захватил Украину, и солдаты поверили своему командиру. Полюбовная сделка оказалась недолгой. Григорьев вскоре понял, что народ Украины не поддержит Петлюру, прибыл в Харьков, обратился к командованию Красной Армии с просьбой принять его дивизию в регулярные войска. Время было трудное: иностранные интервенты и белые армии наступали на Петроград и Москву. Украина была оккупирована кайзеровскими войсками и их союзниками — войсками гетмана Скоропадского. Предложение Григорьева приняли. Ему придали комиссара-большевика и поручили двинуть Заднестровскую дивизию на Одессу, помочь изгнанию врага из этого города. Подпольный обком большевиков Одессы нанес интервентам удар в городе, а со стороны Пересыпи в город ворвалась Заднестровская дивизия. Одесса стала свободной. Через десять дней Григорьев вывел свои войска на станцию Раздельная, поднял восстание против Советской власти, но был разгромлен частями Красной Армии и рабочими отрядами, бежал в штаб батьки Махно и там получил пулю в лоб. Но к лету 1919 года Одесса была свободной, и через этот порт поддерживалась связь с внешним миром, где назревали революционные события, особенно на Балканах. И все же положение Одессы оставалось чрезвычайно трудным и сложным. Крым был оккупирован белыми армиями, на Украине хозяйничали деникинцы, петлюровцы, кайзеровские войска и гайдамаки, а на Одесском рейде стоял флот интервентов, заперевший выход из гавани. Пестрой была жизнь города. Буржуазия прожигала жизнь в кафе, где можно было получить любое лакомство за баснословные деньги, работали кинотеатры, или, как их тогда называли, иллюзионы, в которых демонстрировались фильмы с участием популярной актрисы Веры Холодной, а рабочий люд голодал, и одесские гавроши, готовые на любой подвиг ради дела революции, с горечью распевали:
Одесский обком партии знал, что в любой день с севера в город вновь могут ворваться белые армии. И теперь, как никогда, надо было спешить использовать Одессу для связи с внешним миром, рассказать народам Европы, какие цели преследует Октябрьская революция. В конце июня Елена Соколовская получила сообщение, что из Крыма в Одессу направляются три большевика: Семен Максимович Мирный, Ян Карлович Страуян и болгарин Георгий Портнов. Семена Мирного Елена Соколовская знала. Он уже был в Одессе во время оккупации. Знала она и Яна Страуяна, члена большевистской партии с 1903 года, литератора, автора книг «Лесные братья» и «Былое», в которых он рассказывал о своих скитаниях в годы эмиграции и подпольной борьбы в Латвии, в Москве и Петербурге. В конце июня 1919 года Страуян, Мирный и Портнов прибыли в Одессу. В крошечной комнатке Соколовской в обкоме партии Мирный сообщил о задачах, которые поставила Москва: группа отправится в Болгарию, там встретится с Димитром Благоевым, Василом Коларовым и другими болгарскими коммунистическими деятелями и ознакомит их с опытом легальной и нелегальной работы русских большевиков. Ян Страуян сказал Елене, что в Болгарии пробудет недолго, оттуда отправится в другие Балканские страны. Времени мало, и надо спешить. На далеком рейде мерцали огни вражеской эскадры. Как бы угадывая мысли друзей, Соколовская сказала: — Выбраться в открытое море трудно, но мы уже не раз обводили оккупантов вокруг пальца. Ты, Семен, пойдешь на арбузную пристань, там биржа контрабандистов. Эти молодцы не трусливого десятка, но бесшабашные. Попытайся договориться с рыбаками. Местные колумбы уже давно освоили трассу Одесса — Варна, но только... среди них есть всякие. Будь осторожен... Платить им будем солью и мукой. У нас есть кое-какие запасы для таких дел... Литературу привезли? Мирный извлек из-под подкладки пиджака тонкую пачку папиросной бумаги, положил на стол. Соколовская пробежала заголовки, радостно улыбаясь: — Это здорово, а мы здесь совсем без литературы. Аккуратными тоненькими пачками разложила на столе листки книги Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский», первые декреты Советской власти, доклад Ленина на Первом конгрессе Коммунистического Интернационала о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата и решения конгресса. — Перепечатать придется, — сказала Соколовская, — не в каюте поедете — на лодке. Попадет вода, и бумага расползется. У нас поплотнее есть. Весь июль Мирный и его товарищи находились в Одессе. Положение становилось все более тревожным и неустойчивым. По городу ползли слухи, что вот-вот в Одессе будет высажен с моря десант. Притаившаяся контрреволюция готовилась взять власть в свои руки и устроить резню. В квартиры большевиков подкидывали подметные письма: скоро будете висеть на фонарях. По ночам то тут, то там раздавалась стрельба. Мирный все дни был занят до полуночи; на сон оставалось два-три часа. В Одессе в ту пору было немало болгарских коммунистов, бежавших от преследования царских властей. Георгий Портнов собрал их в обкоме партии. Мирный и Страуян подробно расспрашивали о положении в Болгарии, уточняли адреса в Софии и Варне. На арбузной пристани Мирный сговорил человека, который согласился перебросить группу в Болгарию. Старик Амвросий, из старообрядцев, хозяин дубка — рыбачьей парусной лодки — запросил дорого: два пуда соли и пять пудов муки-крупчатки. Но когда Мирный наотрез отказался платить грабительскую цену, старик согласился на пуд соли и три пуда крупчатки. Не отпускал Мирного, крутил пуговицу на пиджаке, укоризненно качал головой, ругал себя, что продешевил, и все спрашивал: «Ты какого сословия, милый, будешь?» Заканчивалось и печатание ленинских работ. Брошюры Ленина и материалы Коминтерна набрали нонпарелью, чтобы меньше места занимали. Бумага была не ахти какая — желтая, оберточная, но тонкая и даже с глянцем. Соколовская и Мирный правили корректуру. Уже в обкоме партии, в комнатке у Соколовской, литературу обернули ситцем и вшили аккуратно в подкладку пиджаков Мирного, Страуяна и Портнова. В начале августа все было готово к отплытию. Решили отчалить девятого. Накануне поздно вечером вся группа собралась в обкоме. Видно было, что Соколовская тревожится за судьбу друзей, но старается спрятать волнение за улыбкой и шуткой. Лишь перед самым отъездом, уже прощаясь, сказала: — Болгарских друзей отправляла в путь-дорогу, а вот с заданием Москвы, прямо к Димитру Благоеву — вас первых. Ну, ни пуха ни пера, товарищи! 9 августа 1919 года, поздно ночью, когда Одесса спала тревожным сном, Семен Мирный, Ян Страуян и Георгий Портнов на рыбачьей лодке Амвросия отчалили из порта. Дубок тихо проскользнул мимо вражеской эскадры и вышел в открытое море. Редкие огни Одессы остались позади и гасли один за другим. Амвросий, глянув на небо, в котором мерцали звезды, перекрестился и сказал: «Ну, с богом, апостолы!» — и подтянул парус. Попутного ветра, друзья! А пока лодка плывет через Черное море, познакомимся поближе с Семеном Мирным. Чтобы узнать о юношеских годах Мирного, я обратился не к архивам маленького латышского городка Грива, где он родился в 1896 году, а в Софийский университет. Там я почерпнул сведения о студенте Семене Мирном, оттуда потянулась ниточка в Ригу и Петроград. Семен рано оставил отчий дом. Отец, служащий лесничества, умер в начале века, мать работала страховым агентом в обществе «Россия», взяв на себя заботу о четверых детях. Семен уехал в Ригу, где поступил в частную гимназию Ривоша. Учился средне, но зато баллы, выведенные в «свидетельстве» после испытания, проведенного «под наблюдением депутатов от Рижского учебного округа», говорят о недюжинных лингвистических способностях: латышский, греческий, латинский, немецкий и французский языки он сдал хорошо и получил «право на поступление без испытаний в соответствующий класс правительственных мужских гимназий». В 1915 году Семен Мирный уже в Петрограде, студент университета. Там он оказался в гуще бунтующей молодежи и определил свой путь. В его крохотной комнатушке в доме на Екатерининском канале собираются ближайшие друзья, бурно обсуждают события на фронте. Изредка к нему заглянет прислуга из господской квартиры, молодая украинка Фроська, попавшая в Петроград из тихого села под Киевом. Постирает белье, выгладит, тихо скажет: — Паныч, годи тую мудрость учиты, идить погуляйте... В феврале семнадцатого Семен надел красный бант и вместе со всеми вышел на демонстрацию. В партию большевиков он вступил через год. Но в октябре он штурмовал Зимний дворец и принимал участие в аресте Временного правительства. Его узкое, интеллигентное лицо с очками, прикрывающими близорукие глаза, хорошо запомнил царский министр Щегловитов. Через некоторое время они встретятся в доме Чрезвычайной комиссии в Москве. Семен Мирный выйдет из кабинета Дзержинского и в коридоре лицом к лицу столкнется с Щегловитовым, которого ведут на допрос. «Товарищ, вы меня не узнаете?» — неожиданно обратится «бывший» к Семену Мирному. «Я вам не товарищ», — ответит Мирный, и они разойдутся. Осенью 1918 года Семена Мирного послали на подпольную работу в Крым. Позднее, в январе 1961 года, он напишет в своей автобиографии: «В 1918 году в условиях деникинщины был одним из организаторов и участников нелегального областного съезда Таврической партийной организации в Симферополе I декабря 1918 года. Был избран в обком... По поручению съезда я отправился в Центр для переговоров о нашей дальнейшей тактике в Крыму и образовании Таврической Советской Республики после выхода из подполья. Через Одессу, где у нас была постоянная связь и явка к секретарю Одесского подпольного обкома партии Елене Соколовской, я получил партийную явку в Киев (там были петлюровцы), а оттуда — вХарьков и затем в Москву».
* * * Конец 1918 года. Армии генерала Деникина, банды Симона Петлюры, батьки Махно, атамана Тютюника, атаманши Маруськи жгут города и села. Стон от погромов и истязаний идет по всей Украине. Через это пекло пробирался Семен Мирный в Москву. Бюро областного комитета партии направило в Москву еще одного человека — члена обкома Шульмана. Он направился через Джанкой. Если провалится Шульман, то, может быть, Мирному удастся добраться до Москвы. Там должен быть решен вопрос о совместных действиях по освобождению Крыма от белых армий и об образовании Крымской Автономной Советской Республики. Из Симферополя Мирный выехал на лошадях — трое суток мчали его кони к Сивашу; теперь вдоль побережья надо пробраться в Одессу, захваченную белыми. В кармане бумага, удостоверяющая, что «Семен Мирный является студентом Таврического университета», а в голове «легенда», которую он расскажет, если будет арестован беляками: папу, владельца мукомольни, убили большевики, а сам он бежал от террора. И вот он на Украине. Может быть, удастся найти какого-нибудь извозчика. За деньги теперь ничего не достанешь, да и какие деньги на Украине — керенки, оккупационные марки — кайзеровские бумажки и метелики — валюта ясновельможного пана гетмана Скоропадского. За миллион коробку спичек не купишь. Но в Крымском обкоме партии все предусмотрели. В заплечном мешке у Мирного лежит то, что дороже золота, — пять фунтов соли. За фунт соли его везут через Николаев в Одессу. Там его ждет Елена Соколовская. Они никогда нс виделись, но по приметам она должна его узнать: связные партии подробно описали его внешний вид, и он должен сообщить пароль. Из записей Мирного можно безошибочно установить, что в эту свою первую поездку в Москву через Одессу, где впервые встретился с Еленой Соколовской, он два месяца пробирался сквозь строй врагов, и лишь одна деталь его одиссеи известна благодаря записи, сохраненной родными. Это произошло на узловой станции между Киевом и Харьковом. Его задержали гайдамаки, избили и повели на расстрел. У железнодорожного перехода пожилой усатый гайдамак, который вел его за околицу, наткнулся на молодую, красивую женщину с пронзительно черными глазами, всю одетую в меха. Она пристально посмотрела на Мирного, подбежала к нему и вскрикнула: — Паныч, да шо вы тут робите? Мирный посмотрел на нее своими близорукими глазами. Что-то знакомое мелькнуло в памяти, но он ее не узнал. К счастью, она его узнала: — Да я ж Фроська, прислуга с Екатерининского канала в Петербурге. Неужто не признаете? Поняв, какая опасность грозит Мирному, Фроська, как тигрица, накинулась на гайдамака: — Ты шо, не узнаешь меня, боров? — Да это ж коммунист, приказано в расход, — завопил гайдамак. — Вон! — закричала Фроська и добавила к своему приказанию пощечину. Гайдамак побежал докладывать начальству. А Фроська рассказала Мирному, что бежала из Петрограда к себе на Украину, вышла замуж за начальника гайдамаков и теперь она первая дама во всей округе. Муж старше на сорок лет, да ей плевать, зато живет она как королева. Не теряя времени, Фроська повела Мирного к себе домой и спрятала в каморку, где лежал всякий хлам. Муж не заставил себя долго ждать, примчался домой, накинулся на Фроську: — Ты тут коммуниста отбила? Фроська знала, как обращаться со своим муженьком: — Да врет все твой старый дурак. С пьяных глаз брешет, а ты на жену кидаешься. Он было не поверил, да Фроська накрыла на стол, поставила всякой снеди, графин с горилкой, в рюмку сама подливала, и тот свалился: спи, старый черт! Вечером вывела Мирного за околицу, сказала, как идти, чтобы миновать гайдамацкие посты. Долго он блуждал по дорогам. Под напором Красной Армии белые полки откатывались на юг, оставляя на своем пути виселицы и сожженные города. Когда Мирный добрался до Харькова, там уже установилась Советская власть. В небольшом здании в центре города размещался Центральный Комитет Коммунистической партии Украины. Мирный ходил из комнаты в комнату, искал секретаря ЦК. В коридоре встретил Шульмана. Тот радостно бросился к нему на шею. В воинском эшелоне, забравшись в теплушку, они выехали в Москву. Эшелон останавливался на каждом полустанке, не хватало дров для топки, местами был взорван путь. Через неделю в морозной дымке показалась Москва. Белокаменная дымила «буржуйками», трубы торчали из всех окон и гляделись из всех этажей. У пустых магазинов вились очереди за хлебом и пшеном. На Курском вокзале было черным-черно от мешочников, среди них шныряли карманники, беспризорники. В Кремль посланцы Крымского обкома добрались пешком — трамваи ходили редко, и брать их надо было штурмом. В тот же день начали выполнять порученное им дело. 10 декабря 1918 года газета «Жизнь национальностей» опубликовала сообщение: «Приехавшая в Центр группа членов подпольного О. К. (Мирный, Шульман и др.) получила от Наркомнаца и ЦК РКП согласие на образование Крымской Советской Республики...»
Выдержка из автобиографии Мирного: «По окончании переговоров в Москве мы отправились в Крым и прибыли туда в первый день выхода Ревкома из подполья в начале апреля 1919 года. Я был назначен редактором областного органа партии «Таврический коммунист» и одновременно вел работу с группой Субхи[10], прибывшей через некоторое время в Симферополь. Крым был нами оставлен в конце июня 1919 года. Я с частью членов обкома, Совнаркома и Яном Страуяном эвакуировались в Одессу...»
Так Семен Мирный летом 1919 года оказался снова в Одессе, чтобы оттуда направиться в Болгарию. ...Берег уходил все дальше. Мелькнули последние огоньки вражеской эскадры. Далеко на юго-западе лежала Варна. Что ждет их там, что принесет им монархическая Болгария? Революционеры во главе с Димитром Благоевым ведут там борьбу, но полиция куда сильнее, заодно с нею действует разведка стран Антанты. Конечно, русским в Болгарии легче, чем где бы то ни было: ведь меньше полустолетия прошло с тех пор, как Россия спасла эту страну от оттоманского ига, и еще многие помнят бои на Шипке, но болгарский царь приютил белых эмигрантов, а большевиков он отправляет в тюрьмы... К утру море забелело барашками. Амвросий привстал, из-под руки оглядывая горизонт. С севера шли тучи. Лодку бросало с волны на волну. «Море было, — записал Мирный, — особенно бурным в течение двух дней. Нас заливало водой. Хозяин лодки, пожилой старообрядец, встал, перекрестился и сказал: «Дети мои, молитесь каждый своему богу, кто как умеет». Хозяин дубка Амвросий принадлежал к секте, обжившей юг России и румынские берега. Высоченный, с окладистой бородой и глубоко сидящими глазами на иссеченном ветром лице, он был похож на пророков, какими их рисуют на иконах. До империалистической войны Амвросий промышлял рыбу на здоровенном баркасе, продавал улов в Одессе, сбывал перекупщикам. В конце лета, когда на бахчах Румынии дозревали арбузы, гнал шаланду в Констанцу, по дешевке скупал урожай в прибрежных деревнях и сбывал его в Одессе с выгодой. В войну Амвросий стал зашибать большую деньгу: возил контрабанду, сбагривал дезертиров к болгарским берегам. Осенью шестнадцатого года он возвращался из Румынии с ценным грузом — вез каракулевые шкурки, спрятанные в мешках. Был старик на шаланде не один — с верным слугой Федором, сорокалетним мужиком, тоже старообрядцем, которого еще в молодые годы приставил к себе на службу. Поднялась буря, и шаланда стала тонуть. Амвросий спустил лодку, кинул туда мешки со шкурками. Хотел Федора прихватить, да места не было. Стукнул он его железным ломиком по темени, за борт скинул, перекрестил двумя перстами, как положено: «Иди, милый, с богом. Иди. Бог дал, бог и взял...» ...На четвертые сутки путешествия Мирного, Страуяна и Портнова море утихло. Дубок легко шел под парусом, переваливаясь с волны на волну. Страуян и Портнов, измученные бурей, заснули на носу лодки. Семен прикорнул на корме, подложив под голову пиджак и уткнувшись в ноги Амвросия. Старик не спал, не выпуская из рук длинный плоский шест руля; казалось, ему все нипочем, только лицо его стало еще более морщинистым и суровым. Проснулся Семен под утро. Сильно болела шея. Пиджака под головой не было. Семен резко поднял голову и столкнулся лицом к лицу с Амвросием. Старик в упор смотрел на него, держа в руках короткий железный лом. В голове Семена молнией промелькнуло предупреждение Елены Соколовской: при выборе лодки будь осторожен, среди этих хозяйчиков всякие есть. «Неужели Страуян и Портнов все еще не проснулись?» Страшная догадка осенила Мирного. Перехватив взгляд Семена, повернувшего голову в сторону носа лодки, старик тихо спросил: — Куда ассигнации спрятал и золотишко? Только теперь Семен увидел свой пиджак, лежавший на корме. Подкладка была подпорота. — Что молчишь? — тихо спросил Амвросий. В его глазах светилась недобрая усмешка. — Нет у меня ничего, старик. — А тут что? Амвросий поднял пиджак и стал обминать его у воротника. — Рекомендательные письма везу одному фабриканту. — Врешь. Писем что-то больно много. Семен, не вставая и в упор глядя на Амвросия, ответил: — Чертежи важного изобретения везу. Поглядите, если не верите. Старик пошевелил бровями, что-то соображая. — Продавать будешь? — Да... На чужбину еду. Жить как-то надо. — Много дадут? — Постараюсь содрать... На носу лодки зашевелились. Амвросий метнул туда взгляд, бросил Семену пиджак, прошипел: — Цыть, если жить хочешь... Без меня не доплывете, утонете. Семен согласно кивнул головой, Страуян, шумно закашлявшись, приподняв голову, спросил: — Когда в Варне будем, дед? — Да еще дня четыре, а то все пять переть. Как ветер поможет. И снова была ночь. Семен не спал. От напряжения и усталости липкая, холодная испарина покрывала все тело. Страуян понял: что-то произошло, но в море на лодке надо молчать. Не спускал глаз с Амвросия. Ночью предупредил Портнова, что спать будут по очереди. На восьмые сутки на горизонте в сиянии восходящего солнца показалась Варна. Дубок, набирая скорость, пошел к берегу и в стороне от гавани ткнулся носом в песчаную пустынную отмель. Путешественники вышли на берег, бросились на теплый песок, жадно вдыхали запахи земли, острый аромат цветов, увядающих под южным солнцем. Старик закрепил лодку, ушел в город, не сказав ни слова.
В БОЛГАРИИ
К вечеру Георгий Портнов увел друзей на квартиру Григора Чочева, деятеля Варненской организации коммунистов. В озарении солнца Варна казалась красавицей. Но на частной квартире долго нельзя было оставаться: полиция следила за всеми «подозрительными». Ночью к Чочеву пришел секретарь Варненской организации БКП Димитр Кондов. По его совету Мирный и Страуян на следующий день поселились в лучшем отеле города «Сплендид». Документы у них отменные: Мирный значился студентом Таврического университета, а Страуян — литератором. Придумана и «легенда»: оба бежали из Одессы от «террора большевиков». В Болгарии в то время было много белых эмигрантов, и версия, казалось, не вызовет подозрений. Уютный номер в отеле «Сплендид» позволил забыть невзгоды недавнего путешествия, но блаженство длилось недолго. Вечером, когда после конспиративной встречи они шли в отель, их арестовали, и через несколько минут они уже сидели в городском полицейском управлении на допросе, а еще спустя час за ними закрылись двери камеры предварительного заключения. К счастью, секретарь окружного полицейского управления оказался большим любителем ракии — болгарской водки. Решив, что его арестанты — люди состоятельные, он предложил: ночью и весь день они в камере, а вечером идут вместе с ним ужинать в ресторан Приморского парка, конечно, за их счет. Согласие было дано. И вот как только солнце прятало свой диск за горы, камера открывалась, Мирный и Страуян вместе с полицейским чином направлялись в ресторан. Полицейский следовал за ними в полной форме с пистолетом на боку. Выпив две рюмки ракии, он заводил беседу на литературные темы, съедал бифштекс, потом еще один и отводил своих подопечных в камеру. Походы в Приморский парк чуть не кончились трагически. В один из вечеров, когда полицейский, насладившись ракией и бифштексами, кейфовал, к их столику подбежала молодая девушка и, чуть не бросившись Страуяну на шею, вскрикнула: — Дорогой Ян Карлович, какими судьбами вы здесь оказались? Как я рада, как я рада!.. Страуян понял, что они проваливаются окончательно и бесповоротно, если не произойдет чуда. Прелестная девушка — ее звали Мила — оказалась ученицей Страуяна. В годы эмиграции в Париже он преподавал там русскую литературу детям из русской колонии. Мила была одной из его лучших учениц. После Октябрьской революции она вместе с отцом оказалась в Варне — и вот эта встреча с любимым учителем. Ну как не радоваться! Полицейский насторожился. Страуян, молниеносно оценив обстановку, улыбнулся Миле: — Знакомьтесь, это наш друг! Полицейский, крякнув, приложил руку к козырьку. Наступила пауза. — А почему вы в таком... я хочу сказать... сопровождении?.. — Понимаете, Милочка, произошла ошибка, так сказать, недоразумение. Оно выясняется сейчас. Мила, наконец, поняла, что в такой ситуации не следует задавать вопросы. Мирный взял изрядно нагрузившегося полицейского под руку. Страуян шепнул Миле, чтобы она немедленно связалась с секретарем Варненской организации Болгарской компартии Кондовым и сообщила ему, что Мирного и его завтра этапным порядком высылают в Софию — ими заинтересовалась контрразведка. В конце октября Мирного и Страуяна под охраной отправили поездом из Варны в Софию на дополнительный допрос, с тем чтобы потом передать белогвардейцам в Стамбуле. Теперь нельзя медлить, и ЦК БКП принимает решение организовать побег русских большевиков. В вагон, в котором проследуют арестованные, направляют опытного конспиратора. Он связывается с конвоиром-болгарином и предлагает ему такой план: тот «внезапно» заснет, и арестованные смогут бежать. Конечно, он будет наказан, но эти неприятности ему компенсируют. Однако конвоир непреклонен. Тогда в ход пускается ракия. Как все полицейские, он большой любитель спиртного. Возлияние следует за возлиянием, и, когда поезд приходит на Софийский вокзал, конвоир уже пьян. Арестанты покидают вагон и быстро скрываются в толпе. На привокзальной площади они садятся на извозчика и прибывают на квартиру доктора Наима Исакова. Не задерживаясь, направляются к одному из руководителей ЦК БКП Василу Коларову, которому специальный связной сообщил о побеге. Уже в начале нашего века Васил Коларов стал одним из признанных лидеров болгарского рабочего движения, в которое он вступил во второй половине 90-х годов в двадцатилетием возрасте. Еще до первой мировой войны рабочие Болгарии послали его своим депутатом в парламент. Вместе с Димитром Благоевым он понимал и ценил великое значение русского революционного движения, был тесно связан с агентами ленинской «Искры» и Октябрьскую революцию воспринял как поворотный пункт в истории всего человечества. На Третий конгресс Коммунистического Интернационала в Москву он прибыл не только как делегат своей партии, но и как политический секретарь ЦК БКП и был избран членом Президиума Исполкома Коммунистического Интернационала. Через два года он возглавит сентябрьское восстание, будет заочно приговорен к смертной казни и надолго покинет свою родину. Но тогда, в 1919 году, он был в Софии и вместе с Благоевым руководил коммунистической партией. Коларову сорок два года, Мирному — двадцать три. Но перед Коларовым — человек, с которым можно поговорить на равных, к нему прибыл член Крымского подпольного обкома партии. Коларов предложил Мирному легализоваться Лучший способ — поступить в Софийский университет, на филологический факультет. Тем более что у него есть студенческий билет слушателя Таврического университета. Коларов подробно расспросил Страуяна о московских делах, о Владимире Ильиче. Сказал, как о деле решенном, что Мирный и Страуян в целях конспирации будут жить на разных квартирах. Для Мирного уже сняли номер в отеле «Наполеон». Страуян теперь должен забыть на время свое имя. — Получайте, — сказал он Яну Карловичу, передавая ему паспорт. — Отныне вы Юрий Яковлев, русский литератор. Устраивает? — Вполне! — Тогда начинайте новую жизнь. Поселитесь на квартире Симеона Пайчева. Это учитель, коммунист, с ним уже договорились. Из болгарских архивных документов: «Семен Мирный и Ян Страуян оказали большую помощь Центральному Комитету БКП в деле ознакомления с опытом большевиков. Они участвовали в работе редакции «Работнически вестник» и «Ново време», где помогли правильному решению некоторых дискуссионных вопросов, в подготовке материалов, отражающих завоевания Октябрьской революции в России и опыт большевиков».Мирного без особых хлопот зачислили студентом в Софийский университет. Начались регулярные посещения лекций, народной библиотеки. Но как только кончались лекции, «студент» отправлялся в ЦК БКП. В те месяцы буржуазия и ее агентура в рабочем движения усилили атаки на Советскую Россию. Газеты печатали вымыслы о положении в Москве и Петрограде, перепевали злостные выпады печати других стран. Особенно усердствовал А. Цанков, написавший по специальному заказу клеветническую брошюру «Большевизм и социализм». На совещании у Коларова было решено, что ответить Цанкову должен Мирный. 15 декабря 1919 года в газете «Работнически вестник» появилась его статья за подписью «Русский рабочий Миронов» и озаглавленная «Ответ клеветникам на русскую революцию». Поздно вечером, когда Мирный возвращался в гостиницу «Наполеон», портье, давно уже за ним пристально наблюдавший, не раз спрашивал: «Трудно господину студенту учиться?» — и подозрительно оглядывал его толстенный портфель. А в портфеле не только учебники, но и работа Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Литературу, привезенную из Одессы, он передал в ЦК БКП. Некоторые материалы были переведены и напечатаны в «Работнически вестник» и «Ново време», а книгу Ленина поручили переводить Петру Искрову и Семену Мирному. Вскоре она была издана в Софии. Мирный был в гуще событий. На совещаниях в ЦК БКП он выступил с сообщениями о деятельности Крымского и Одесского подпольных комитетов большевиков в условиях вражеской оккупации. На собраниях, где развертывались дискуссии о путях рабочего движения в Болгарии, рассказывал об опыте большевиков, горячо защищал путь, избранный руководством БКП. В тот период в ЦК БКП сложилось руководящее ядро во главе с Димитром Благоевым, Георгием Димитровым, Василом Коларовым; оно твердо вело партию коммунистов по ленинскому пути. Семен Мирный и Ян Страуян стали их бойцами и помощниками в борьбе против левацких уклонов, в защите марксистской линии ЦК БКП. Вскоре после приезда в Софию Васил Коларов привез как-то Мирного на квартиру к Димитру Благоеву — Дядо. Благоеву было около шестидесяти пяти лет. В последнее время он все чаще болел. Только что, в начале 1919 года, под его руководством завершилось дело его жизни: преобразование созданной им партии «тесняков» в Болгарскую коммунистическую партию. В небольшой, забитой книгами квартире встретились патриарх болгарского и русского революционного движения и молодой деятель Российской Коммунистической партии большевиков — оба в прошлом студенты Петербургского университета: Благоев — в начале 80-х годов прошлого века, где он создал свой знаменитый марксистский кружок, а Мирный — в середине второго десятилетия нашего века. В ту, первую, встречу с Мирным Дядо пристально, с глубоким интересом разглядывал своего гостя. С 1885 года, когда жандармы выслали Благоева из России, там он больше никогда не был и мало общался с русскими революционерами. Благоев внимательно изучал труды Ленина, и на его полках стояли ленинские работы, им самим переведенные на болгарский язык. И вот теперь перед ним молодой большевик из новой России. — Расскажи про Петербургский университет, — попросил Благоев. — Тех, кого я знал, давно уже нет, конечно. А аудитории все такие же? Как там наш физико-математический факультет? И наша библиотека?.. Да, много лет прошло, а как будто все это было вчера... — Он долго не мог отогнать нахлынувшие воспоминания и все расспрашивал: — Мне сказали, что ты приехал из Одессы на лодке... а меня в марте 1885 года этапным порядком жандармы отправили из Одессы в Варну на пароходе «Цесаревич»... Мирный сказал Благоеву, что вместе с Искровым переводит на болгарский язык работу Ленина и публикует статьи в газетах. — Я читал твои статьи. Ты понимаешь наши задачи и нашу жизнь. У меня просьба к тебе: напиши статью о роли русской интеллигенции в революции. Это очень важная тема. Семен Мирный выполнил это поручение Благоева. Любопытна еще одна из записей Мирного: «Знаменитое здание у Львовия моста с редакциями газеты «Работнически вестник» и журнала «Ново време» стало моей первой политической академией. Нетрудно понять мое волнение, когда в кабинете Кабакчиева обнаружил подшивку «Искры». Я забросил университет и семинарские занятия, манкировал лекциями уважаемого профессора Милетича, жадно впитывал неиссякаемую мудрость ленинских идей. Под одной статьей на тонкой папиросной бумаге «Искры» была подпись: «Македонец» и рядом расплывшимися чернилами дописано: «Благоев». С подшивкой «Искры» я зашел к Дядо в редакцию «Ново време». Там как раз находился секретарь Софийской партийной организации «тесняков», мой большой друг Антон Иванов. Благоев говорит Иванову, указывая на меня: «Дай русняку билет в Народное собрание. Пусть почувствует буржуазную демократию в действии». Аптон дал мне пропуск, и я направился в Народное собрание. Вахтер в здании парламента виртуозно обшарил мои карманы и пропустил меня на хоры. В это время выступал коммунист Мулетаров. Высокого роста, с густой черной бородой, этот адвокат был темпераментным оратором и вызвал ярость реакционеров в парламенте. Одетые в меховые жилеты, дружбаши бросились к Мулетарову, и вот-вот должно было начаться побоище. Но к трибуне уже шел Димитр Благоев. В зале наступила та редкая тишина, которую обычно называют «мертвой». Все вернулись на свои места. Тихим, спокойным голосом Дядо произнес речь, куда более острую, чем речь Мулетарова. Но никто не посмел выступать против него...»
Благоев все чаще виделся с Мирным. В непринужденной обстановке в редакции «Ново време» и на квартире Дядо долго длились их беседы. В редакции Благоева проходили совещания, обсуждались статьи, наметки будущих выступлений. Дядо выслушивал присутствовавших, потом давал свои замечания, не навязывая своего мнения. «Это был какой-то монолитный сплав глубокой человечности, предельной простоты и проникновенного умения убеждать людей в правоте избранного нами пути», — записал Мирный. Однажды вечером после долгой беседы о литературе и долге человека перед обществом Благоев подарил Мирному свою книгу «История русской революции» и надписал посвящение своему молодому другу. На квартире у Благоева Семен впервые увидел Невяну Генчеву. Она вошла и остановилась у двери. — Проходи, проходи, Невяна, и познакомься, — подбодрил ее Дядо. Невяна подала Мирному маленькую, теплую руку, с интересом посмотрела на парня из России. Так состоялось знакомство, перешедшее в нежную дружбу, промелькнувшую как яркая комета на их небосклоне. «В длинные зимние вечера мы с Невяной гуляли по мокрым туманным улицам Софии. Бесконечно длились наши разговоры, мы спорили, смеялись, шутили. Мы забывали все на свете... Город уже спал, а мы все брели по улицам, и мысли уносили нас все дальше и дальше в будущее, в Государство Солнца, воспетое Томазом Кампанеллой...»
Полиция следила за Мирным и Страуяном. В конце февраля 1920 года тот самый портье гостиницы «Наполеон», подозрительно поглядывавший на разбухший портфель Мирного, спросил сердобольным голосом: — Трудно учиться господину студенту? — и как бы невзначай дотронулся до портфеля: — Что у вас там? — Не пипай, опасно за живота. Тука бомба! — полушутливо ответил Мирный («Не трогай, опасно для жизни. Тут бомба!»). Портье криво улыбнулся и отдернул руку. И надо же, чтобы через несколько дней в театре «Одеон», в центре Софии, произошел взрыв и вслед за тем началась полицейская охота за коммунистами. 3 марта 1920 года софийская полиция арестовала Мирного и выслала из столицы в городок Хасково. Но мог ли он остаться в провинциальной глуши, вдали от Благоева, Димитрова, Коларова, вдали от борьбы! И вдали от Невяны! Через десять дней он бежит из-под надзора полиции и снова в Софии, у Димитра Благоева, у Васила Коларова, вместе с Антоном Ивановым, Христо Кабакчиевым и другими деятелями Болгарской компартии пишет статьи, выступает на диспутах. В апреле 1920 года Мирный навсегда прощается с Димитром Благоевым. Дядо передает ему приветы в Москву, тепло обнимает. Они уже никогда не увидятся. Васил Коларов вручает партийный мандат на полотне, который Мирный зашивает в подкладку костюма. Наступает последний день в Софии. Он уже попрощался co всеми друзьями. В этот вечер он будет только с Невяной. Весна. София в зелени рощ и садов. Они медленно поднимаются на гору Витошу. Внизу, в туманной дымке, будто сказочное видение, распластался город... — Ты вернешься? — спрашивает Невяна. Семен молчит. Он не знает, что ей ответить, потом тихо признается: — Я себе не принадлежу. Он был прав. Ему тогда даже не удалось повидать Родину. Начался новый этап деятельности: Вена, Берлин, Париж. Еще через месяц он уже в Швейцарии. Там его арестовывают и присуждают к нескольким неделям тюрьмы. Об этом строки в автобиографии: «По отбытии наказания меня выслали в Германию. Я убедился, что и в швейцарской полиции берут взятки. Сопровождавший меня для нелегального перехода немецкой границы полицейский горячо поблагодарил за пять франков «чаевых». Теперь Германия была только транзитным плацдармом. В середине 1921 года Мирный уже в Петрограде. С удостоверением, в котором сказано, что «русский коммунист товарищ Мирный командируется в Москву, в ЦК РКП», он отправляется в столицу.
ПОЕЗДКА К КЕМАЛЮ-ПАШЕ
После подполья, арестов, конспиративных квартир жизнь в Москве показалась непривычно безоблачной. Здесь все было новым и необычным. Начиналась бойкая торговля, открывались магазины с яркими витринами. Появился новый тип преуспевающего нэпмана, разъезжающего на рысаке, прожигающего жизнь в ночных ресторанах, на курортах, в злачных местах. Не все и не сразу поняли неизбежность и необходимость перехода к нэпу — новому курсу ленинской политики, провозглашенному во имя укрепления революционных завоеваний. Через год, весной 1922-го, на XI съезде РКП(б) Владимир Ильич скажет партии и народу, что отступление закончено, а в ноябре того же года на IV конгрессе Коминтерна констатирует, что «экзамен выдержан» и страна быстро двинется по пути экономического строительства. Но тогда, в 1921 году, подняли голову троцкисты, меньшевики, заявила о себе и «Рабочая оппозиция». Партию сотрясали диспуты и дискуссии. Да и не все близкие друзья могли сразу понять происходящее. Вскоре после приезда в Москву Мирный встретил на вокзале болгарского друга, бежавшего из Софии. По дороге на квартиру Мирного они проезжали через Охотный ряд. На приземистом одноэтажном здании чернела вывеска: «Торговля братьев Трофимовых». Болгарин разочарованно заметил: «Я думал, что в Москве на каждом шагу библиотеки, а у вас, оказывается, есть частная торговля». Во всем этом надо было разобраться, все пережить, понять. В том же 1921 году ЦК РКП(б) посылает Семена Мирного на учебу в Военную академию (ныне Академия имени М. В. Фрунзе), где он оказывается в гуще политической жизни. В архиве сохранилось удостоверение: «Сим удостоверяется, что предъявитель сего Мирный Семен Максимович общим собранием, состоявшимся 9-го декабря, действительно избран депутатом в Хамовнический районный Совет от Военной академии». Его избирают секретарем партийного бюро Восточного отдела академии и членом Центрального партийного бюро. Программа в академии была сжатой. Стране нужны были образованные люди, а времени было мало: учебный курс был до предела насыщен разными дисциплинами. Сохранился фотодокумент: Георгий Васильевич Чичерин и комиссар академии Ромуальд Адамович Муклевич (будущий начальник Военно-Морских Сил Советского Союза в конце двадцатых — начале тридцатых годов) среди выпускников академии, получивших дипломы с оценкой «очень хорошо». В этой небольшой группе военных дипломатов — двадцатишестилетний Семен Мирный. Академия была для него испытанием и фронтом. Именно тогда он получает свое первое дипломатическое задание — выехать в Турцию, встретиться с Кемалем-пашой, передать ему послание правительства Советской России. Поручение Семену Мирному было эпизодом в борьбе Советской России за мир на земле и освобождение угнетенных народов. Этой борьбой руководил Ленин, создавший сразу же после Октября дипломатический штаб из вчерашних большевиков-подпольщиков. И вот результат усилий молодой советской дипломатии, руководимой В. И. Лениным: внешнеполитическая блокада нашей страны прорвана. Одно государство за другим признали Советскую Россию. Однако в начале 20-х годов обстановка была еще очень сложной. Только что кончилась гражданская война и была разгромлена иностранная интервенция. В стране царили голод и разруха; страшная засуха обрушилась на Поволжье; от истощения погибали тысячи людей. Советскую Россию еще терзала внутренняя контрреволюция. Но и в этих условиях Ленин и партия большевиков делали все возможное, чтобы рассказать всем людям на земле о задачах и целях Советской власти, помочь угнетенным народам освободиться от колониального ярма. Турции, как южному соседу и стране, боровшейся против иностранной интервенции и прогнившего султанского режима, Ленин уделял особое внимание. А обстановка в Турции была сложной и трудной. Еще в 1919 году здесь под руководством Кемаля были созданы революционные «Комитеты защиты прав». Власть султана была подорвана, но на помощь ему пришли иностранные штыки: английские интервенты высадились в Константинополе и разогнали парламент. Значительная часть депутатов была арестована и сослана на остров Мальту, однако группе в шестьдесят человек удалось бежать; они присоединились к Кемалю, 23 апреля 1920 года в Анкаре было открыто Великое национальное собрание Турции. Но Англия и Греция начали наступление против Кемаля и его сторонников. Используя свое превосходство в силе, они захватили ряд населенных пунктов и подошли к Анкаре. И вот тогда-то Советское правительство оказало турецкой революции военную и экономическую помощь, которая сыграла огромную роль в ее борьбе за независимость. 29 ноября 1920 года Кемаль телеграфировал народному комиссару иностранных дел Георгию Васильевичу Чичерину: «Мне доставляет величайшее удовольствие сообщить вам о чувстве восхищения, испытываемом турецким народом по отношению к русскому народу, который, не удовлетворившись тем, что разбил свои собственные цепи, ведет уже более двух лет беспримерную борьбу за освобождение всего мира и с энтузиазмом переносит неслыханные страдания ради того, чтобы навсегда исчезло угнетение с лица земли...»Мирный отправился в Турцию в те дни, когда иностранные интервенты подошли к Анкаре и положение было чрезвычайно грозным. О том, как он добирался туда, о его первой «студенческой практике» свидетельствует уцелевшая запись Семена Максимовича. Привожу ее с небольшими сокращениями.
«МОЕ ПЕРВОЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ» Занятия на первом курсе кончились в июне 1921 года. Мы тогда не знали санаториев, не думали о домах отдыха, даже туристических терминов не было в нашем лексиконе. Каникулы проводили на специфической практике того времени: кто направился на ликвидацию остатков банд на Украине, кто на борьбу с басмачеством в Средней Азии; одни проводили лето в своих частях, другие проходили стажировку. Мне, как слушателю турецкой группы, дали «дипломатическое» поручение: отвезти почту к Кемалю в Турцию и еще напутствие — вернуться с хорошим знанием турецкого языка... По дороге в Трапезунд я подзубрил лексику по каким-то неведомым путям попавшей ко мне книге «Тюркише конверзационсграмматик» Генри Егличка, «императорского и королевского австро-венгерского вице-консула и бывшего доцента императорской и королевской восточной академии в Вене», год издания 1895-й. Из Самсуна на арбах, а кое-где и на собственных апостольских ногах мы 12 дней добирались до Кайсери. Туда из военных соображений эвакуировалась часть правительства и полпредства. Из Кайсери через несколько дней мы приехали в Анкару. В обоих городах помещения советского представительства напоминали боевой штаб: лихорадочная работа сотрудников, стук пишущих машинок, телефонные звонки, отправка почты занимали время персонала. Вечером за бесконечными пиалами чая обсуждали события дня и положение на фронте, военные сводки. В центре внимания на таких летучках были военные Лихтанский и Маликов. Первый — слушатель дополнительного курса Военной академии — был военным атташе. Его помощником был Маликов, слушатель второго курса. Как я завидовал его быстрому чтению турецкой скорописи...»
Штаб Кемаля-паши перед битвой на реке Сакарья находился в горном ущелье, спрятанном в лесах. Туда из Анкары и направился Мирный. Он отметил позже в своих записях, что ему довелось увидеть во время этого путешествия, которое он проделал на телеге: «Вереницы запряженных волами крестьянских повозок с боеприпасами и продовольствием шли для фронта. На поворотах анатолийских дорог я наглядно постигал на практике великую силу национально-освободительного движения». Дорога шла вверх и привела к ущелью. Все чаще попадались заградительные посты. Красная звезда на буденовке красноармейца, который сопровождал Мирного, служила хорошим пропуском. На вопросы командиров застав он отвечал кратко: «Москва, Ленин...» Кемаль принял посланца Советской России в штабном шатре. Было ему тогда сорок три года, за плечами остались ссылки, служба в турецкой султанской армии. Человек сложный, с противоречивыми взглядами на развитие Турции, он в то же время понимал значение для Турции дружбы с Советской Россией. Кемаль с интересом смотрел на посланца Советской страны. Тот стоял перед ним в истрепанном полотняном костюме, в фуражке, в стоптанных солдатских ботинках и в обмотках, спокойно и внимательно разглядывая вождя турецкой революции. После краткого молчания Кемаль пригласил гостя сесть, спросил, как здоровье Ленина. Получив ответ, поинтересовался, как здоровье эффенди Чичерина. «Эффенди Чичерин также здоров», — последовал ответ. Кемаль принял письмо, написанное по-французски, быстро прочитал, изредка бросая взгляды на Мирного, как бы желая что-то спросить, говорил свободно по-французски, слегка грассируя. Мирный тоже перешел на французский язык. Кемаль чему-то улыбнулся, скользнул взглядом по истрепанным ботинкам и обмоткам своего гостя, спросил, где тот учил французский — не в Сорбонне ли в Париже? Гость ответил, что в русской гимназии и в Петербургском университете. Кемаль еще раз пристально посмотрел на гостя, сказал, что Россию надо уметь понять. Просил поблагодарить за послание. Турция никогда не забудет, что Советская Россия помогла ей в самые трудные дни ее истории... Через несколько дней началась битва у реки Сакарьи, закончившаяся разгромом интервентов и изгнанием их из страны. В 1923 году сразу же после окончания академии Мирного снова посылают в Турцию — на сей раз на пост заместителя председателя репатриационной комиссии. Три года находился Мирный в Турции — с 1923-го по 1926-й. Потом еще одиннадцать лет на дипломатическом посту в разных странах — Швеции, Норвегии, Венгрии. Он работает рядом с Александрой Михайловной Коллонтай и другими выдающимися дипломатами первых лет Советской власти. Но те три года в Турции занимают особое место в его биографии коммуниста и борца. Еще причудливее сплелась его судьба с судьбой болгарских революционеров.
ЭТО БЫЛО НА БОСФОРЕ
Трудным был тот, 1923 год для Болгарии. В июне к власти путем военного переворота пришло правительство Цанкова. В стране начался белый террор, тысячи коммунистов были брошены в тюрьмы. В сентябре 1923 года вспыхнуло героическое восстание, охватившее всю страну. Но оно было жестоко подавлено, и палачи начали устанавливать в стране кладбищенскую тишину. Сложным был и политический климат Турции. Президентом страны по-прежнему был Кемаль Ататюрк. Он продолжал укреплять отношения с Советским Союзом, но преследовал прогрессивные силы внутри своей страны. Репатриационная комиссия, в которой Мирный играл главную роль, помогала возвратиться на Родину солдатам, оказавшимся в плену, и другим российским гражданам, попавшим на чужбину. В Турции было немало таких русских, которые потеряли голову в дни революционной грозы и бежали с белой гвардией: мелкие купцы, служащие и прочий люд; многие из них теперь жестоко жалели, что оставили родину, и не знали, как вернуться обратно. Им надо было помочь, спокойно, доказательно вселив уверенность в том, что им дадут возможность начать новую жизнь. В репатриационную комиссию приходили и те, кто давно оставил Россию. Одними из первых появились «некрасовцы»-раскольники. Их предков еще при Екатерине II казачий атаман Некрасов уводил целыми кланами на чужбину. Так они и осели в Турции. Теперь потомки тех казаков пришли в консульство в старых одеждах — мужчины в кафтанах, женщины в киках и душегрейках, прямо-таки выходцы из XVIII века. Мирный помог им уехать в Советскую Россию, где они поселились на Северном Кавказе. Красив и своеобразен Стамбул — город трех эпох. Словно гигантская причудливая птица, раскинулся он по обоим берегам Босфора: голова в Азии, а огромное туловище в Европе. Ступеньками спускается город к Босфору, Сказочными видениями уходят в бездонное, вечно голубое небо шпили минаретов и купол Айя-Софии, великолепный памятник византийской эпохи, превращенный турками в мечеть. Консульство СССР, расположенное в красивом двухэтажном здании на главной улице города — Гран Пере, стало притягательным центром не только для русских, оказавшихся на чужбине, но и для болгар: там можно было укрыться от продажных чиновников вали — турецкого губернатора, готовых за лиру выдать политического эмигранта. Советский вице-консул Семен Мирный отдает весь свой опыт интернационалиста делу спасения болгарских коммунистов. Вот что записал он сам: «Установил связь с болгарским рабочим движением... устройство... надежных документов и т. п. для партийцев и партизан, бежавших из Болгарии, и для партийцев, направляющихся в Болгарию. За все это время не было ни одного провала, ни одного ареста болгарских товарищей». Не правда ли, как все просто. Но за этими строками опасность на каждом шагу, железная выдержка. И острые схватки, в которых побеждает безграничная храбрость, ум, молниеносная изворотливость. И конечно, идейная убежденность. Она движет всеми помыслами и деяниями. В условиях чужой, хотя и дружественной, страны он делал все, чтобы дать возможность болгарским братьям переехать в СССР или предоставить им работу в советских учреждениях в Стамбуле. Незадолго до кончины Мирный писал в «Работническо дело»: «Разве можно забыть первого болгарского революционера, которого в октябре 1923 года удалось переправить в СССР. Это был Цвятко Радойнов, жизнерадостный, крепкий, настоящий болгарский революционер, каким мы представляли этот образ по романам. Он первым явился в наше представительство и заявил: «Я болгарский революционер, я бежал». Его открытое лицо внушало доверие. И через два дня, воспользовавшись прибытием первого советского парохода «Ильич», мы поручили его советскому дипкурьеру Урасову-Чупину. Это тот самый дипкурьер, партиец, участник венгерского революционного движения, который по поручению Ленина в декабре 1918 года перевозил партийные документы болгарским революционерам. Цвятко Радойнов — герой нашей страны и герой Болгарии. Его хорошо знали под именем Цветана Родионова, слушателя Военной академии, потом преподавателя, потом полковника в интербригадах, потом генерала, потом парашютиста в Болгарии во время войны. Когда Цвятко Радойнов умирал, его последние слова были: «Да живее Светска Русия!» Тогда мы спасли жизнь человека, который потом пожертвовал своей жизнью во имя своих обеих родин — Болгарии и России». А теперь о легендарном побеге с острова Святой Анастасии. Если тебе, читатель, доведется побывать в братской Болгарии на Солнечном берегу, постарайся попасть на остров, скалой поднявшийся в море. Это недалеко от Бургаса — полчаса на лодке, и ты окажешься на мрачном скалистом выступе. У монастыря ты увидишь мраморную доску: «29 июня 1925 года в тюрьме острова Святая Анастасия было поднято восстание и совершен побег 43 коммунистов — борцов против фашизма, за свободу нашего народа. В их честь остров называется «Большевик». ...16 апреля 1925 года среди бела дня в центре Софии раздался взрыв огромной силы. Использовав этот факт для своих целей, фашистское правительство ввело в столице военное положение. Расстрелы, пытки, казни сотрясали страну. В те дни в Бургасскую тюрьму были брошены сорок три коммуниста. Их допрашивали, пытали. Забита была до отказа и тюрьма на острове Святая Анастасия. Против узников острова готовился судебный процесс, их надо было перевести на материк, и полицейские власти решили «обменять» заключенных. 5 июля сорок три коммуниста были выведены из Бургасской тюрьмы, посажены на миноносец и заперты в казематы островной тюрьмы. Заключенных «островитян» на этом же миноносце увезли в Бургас. Двадцать четыре дня Теохар Бакырджиев, Борис Симов, Стоян Калоянчев, Василь Новаков, Панайот Ярымов, Стоян Коларов, Васил Карамихов и их товарищи томились на острове-тюрьме. После тщательной подготовки, где каждый шаг был смертельным риском, повстанцы обезоружили и связали охрану. Один из руководителей восстания Бакырджиев обратился к заключенным с краткой речью: «Скоро фашистские власти организуют процесс. Многим из нас грозит смерть. Поэтому руководство партийной организации подготовило бунт. Мы бежим в Турцию, аоттуда — к нашим братьям в Советскую Россию. Те из вас, кто хочет покинуть остров и найдет в себе силы вынести предстоящие испытания, может присоединиться к нам. Побег будет трудным и очень опасным». На лодке беглецы перебрались на материк и двинулись в сторону Турции. Побег вызвал шок в правящих кругах Софии. О нем заговорили во всем мире. Происшедшее казалось невероятным даже Василу Коларову, который уже находился в Москве. Можно было предположить, что фашистские власти убили узников и, чтобы обмануть общественное мнение, сообщили о побеге. Именно эту мысль и высказал Коларов на страницах «Правды». Но побег действительно свершился. Однако смертникам острова Святая Анастасия было еще далеко до свободы. В любую минуту они могли оказаться в руках болгарской полиции — тогда суд и казнь. Или в руках турецкой полиции — тогда экстрадиция — выдача болгарским властям и тоже гибель либо турецкая тюрьма на бесконечно долгие годы. Прежде всего надо было сориентироваться в обстановке. Турецкие газеты писали о побеге «шайки бандитов», строили дикие предположения и догадки, пугали обывателей, сообщали о маршруте беглецов, перестрелках с пограничной стражей. Сопоставив все сообщения, находившийся в Стамбуле 28-летний вице-консул СССР Семен Мирный сделал единственно правильный вывод: с острова Святая Анастасия бежали революционеры. Теперь их судьба, если они доберутся до Турции, зависит от него, от его смелости и находчивости. Мирный немедленно сносится с Москвой, а затем начинает действовать, не дожидаясь, пока беглецы доберутся до Стамбула. Навстречу беглецам надо послать верных людей. Но кого? Только друзей-болгар. Прикинув, где сейчас могут быть смертники, он приходит к выводу, что они в центре Анатолийской долины, где-то у перевалов. Ночью из Стамбула люди уходят навстречу беглецам. А Мирный отправляется к вали — губернатору Стамбула. И никто не знал, как тяжко ему было в тот день. Накануне он получил из Софии через Москву письмо и фотографию Невяны Генчевой. На него смотрело измученное суровое лицо революционерки, недавно вырвавшейся из софийской тюрьмы. На руках у Невяны был годовалый младенец. Мирный не встречался с Невяной с тех пор, как простился с нею апрельским вечером 1920 года на горе Витоше в Софии, и так не увидел ее до конца своих дней. Забегая вперед, скажу, что в марте 1971 года в квартире Мирного на Каляевской улице в Москве раздался звонок. Дверь открыл Мирный. У порога, медля, как бы не решаясь войти, стоял человек средних лет. Он изучающе посмотрел на Мирного, а потом сказал: — Вы Семен Максимович Мирный. Я узнал вас по фотографиям. — Вы не ошиблись. Наступила пауза, потом гость сказал: — Я сын Невяны Генчевой, Георгий Найденов... Главный редактор болгарской газеты «Отечествен фронт» Георгий Найденов приехал в Москву на XXIV съезд партии как специальный корреспондент своей газеты. Он передал Мирному последний привет от Невяны... Какие козыри в руках Мирного? И какие аргументы он может пустить в ход? Только один: между СССР и Турцией отношения неплохие. Но пока неизвестно, действительно ли находятся беглецы на территории Турции. Ведь этой неизвестностью может воспользоваться вали? Ему нет нужды спешить, он скажет: когда беглецы окажутся на турецкой территории, я запрошу Анкару. А что, если там пойдут навстречу требованиям царской Болгарии и выдадут беглецов? Такое развитие событий надо предотвратить. Но как? Надо действовать сейчас, немедленно, не выходя из резиденции вали. И вот начинается сложный и осторожный разговор, прощупывание, намеки. — А что, если решить вопрос полюбовно? — предлагает Мирный. — В компетенции советского консульства предоставить политическое убежище эмигрантам. Зачем вести об этом переговоры с Анкарой, когда здесь рядом губернатор? Он может пойти навстречу просьбе советского консульства... Губернатор — человек опытный, ему немало пришлось иметь дел с иностранными дипломатами. Одних он опасается, других ненавидит, третьих почитает, к четвертым безразличен. Но свое отношение к советскому вице-консулу он сам до конца определить не может: Мирный не совсем обычный дипломат, и это заставляет всегда быть с ним настороже. А вице-консул продолжал: — Вали — мудрый и просвещенный человек; он знает, что даже султанская Турция не выдала царской России русского революционера Камо. Зачем же вали брать на себя грех и пятно противника свободы?.. Ну, а если царская Болгария потребует экстрадиции, то губернатор выразит сожаление, что не может этого сделать, ибо уже дал советскому вице-консулу согласие предоставить политическое убежище этим болгарам. Да и зачем вали брать на себя заботу о большой группе смертельно усталых, голодных и оборванных людей? Эти заботы возьмет на себя советское консульство. Вали все еще размышляет, а время летит, и с минуты на минуту беглецы появятся в Стамбуле. И тогда Мирный бросает на чашу весов еще один веский аргумент: — Ведь мудрый вали не должен ссориться со страной, которую уважает сам Кемаль Ататюрк. А Кемаль Ататюрк хорошо знает советского вице-консула. Кемаль и вице-консул — друзья... В конце концов вали согласился с предложениями Мирного, выдвинув одно условие: он арестует беглецов, но сделает это не совсем обычно. Ночью они будут сидеть в тюрьме, а днем находиться в советском консульстве. И всем будет хорошо... А что касается отправки беглецов в Советскую Россию, то он будет смотреть на это сквозь пальцы. Через горы, реки и лесные чащи беглецы шли на юго- восток. И пробрались на турецкую территорию — голодные, оборванные, израненные, обросшие. В Москве долгие годы живет Лионила Ивановна Островская, в прошлом сотрудница консульства. Участник побега из тюрьмы на острове Святая Анастасия Борис Симов свидетельствует: «Лионила Ивановна была настоящая русская красавица — тоненькая, как березка, с голубыми глазами и русой косой. С ее лица не сходила улыбка. Она вся дышала теплотой и нежным состраданием к нам... Она была инициатором кампании по сбору средств в советской колонии для болгарских политэмигрантов, проезжавших через Стамбул». С тех пор прошло более чем полстолетия. Я прошу Лионилу Ивановну рассказать о тех драматических событиях. «Никогда не забуду этих людей, — говорит она, — то мгновение, когда они пришли в здание нашего консульства. Оборванные, грязные, истощенные, с горящими глазами, они вошли в большой светлый зал, стены которого были обтянуты шелковой материей. Изумленно смотрели они по сторонам, не веря, что позади смерть, побег, невероятные лишения. Их отправили в баню, переодели, побрили, накормили... В консульстве и торгпредстве тогда работали Петр Павленко, будущий писатель, Наташа Красина, племянница Леонида Борисовича Красина, Шавердян, уполномоченный комиссии по репатриации армян, а потом председатель Совнаркома Армении, и много других интересных людей. Мы ни на минуту не отходили от наших болгарских друзей».После первой встречи был торжественный обед и приветствия. Мирный был краток: «Товарищи, дружба между русскими и болгарами имеет старые традиции. Она будет продолжаться и впредь. Желаем вашему народу испытать счастье свободы». Теохар Бакырджиев ответил: «Дорогой товарищ Мирный, позвольте от имени моих товарищей поблагодарить вас и всех сотрудников консульства за теплую, братскую заботу о нас. Мы счастливы, что находимся здесь, на этом маленьком кусочке священной советской земли... У болгарского народа высокий боевой дух. Рано или поздно Болгария будет социалистической!» После ужина все сорок три беглеца, как и было договорено с губернатором, отправились в тюрьму. Там они переночевали, а утром их выпустили, и они явились в советское консульство. И снова были бесконечные рассказы о пережитом в царских тюрьмах, о будущей борьбе. А из Одессы, дымя всеми трубами, на предельной скорости шел к турецким берегам пароход «Ильич». Августовским утром 1925 года смертники острова Святая Анастасия поднялись на палубу советского парохода, и 17 августа их встречала Одесса. Вспоминая то время, болгарский журнал «Исторически преглед» писал: «В сентябре 1923 года — июле 1926 года С. М. Мирный оказал неоценимую помощь нашей Болгарской коммунистической партии в осуществлении связи с Коминтерном и его руководящими органами за границей, в спасении десятков болгарских коммунистов, бежавших из Болгарии от преследования властей».
Прошло еще несколько месяцев, и Москва решила направить Мирного на работу в Норвегию. Семен Мирный должен был оставить Стамбул уже в начале 1926 года. Георгий Димитров направил ему одно за другим несколько писем с просьбой остаться хотя бы еще на несколько месяцев в Турции. Вот одно из этих писем, посланное 1 марта 1926 года: «Дорогой товарищ Мирный, очень обеспокоила Ваша просьба об освобождении Вас из Константинополя. Это может расстроить всю нашу работу. Я уверен, что в данный момент не найдется другого товарища, который с таким умением и усердием смог бы продолжить Вашу работу. Не сможете ли Вы остаться в Константинополе еще на несколько месяцев? Подумайте об этом и, если возможно, сделайте это. Я Вас прошу настоятельно от имени Болгарской Коммунистической Партии».
С согласия Москвы просьба Георгия Димитрова была, разумеется, удовлетворена. Мирный задержался в Стамбуле еще на полгода. Он выехал в Москву в июле 1926 года, а затем был назначен первым советником советского полпредства в Норвегии. Через сорок три года после описанных событий Семен Максимович Мирный по приглашению Народной Республики Болгарии прибыл в Софию. Председатель Президиума Народного собрания Георгий Трайков вручил ему высшую награду страны. После торжественного приема Мирный отправился по памятным местам. В Софийском университете стоял гул от молодых голосов. Хозяевами здесь были внуки тех, кто сидел в тюрьмах и казематах царского режима. Семен Максимович заглянул в аудиторию, где когда-то слушал лекции. В Варне его с объятиями встречали друзья, их дети, внуки и правнуки. Толпа запрудила весь перрон, и наблюдавшие эту встречу тихо спрашивали: кто приехал, министр или кто повыше? Им ответили, что приехал большой и верный друг. И люди понимающе кивали головами. Он, конечно, поехал в Бургас, к турецкой границе, туда, где в море виднеется скалистый остров. Был тихий летний вечер. Легкие волны пели свою вечную песню. Рядом с ним стояли восемь человек. Восемь из сорока трех. Остальных уже не было...
* * * Прах Семена Максимовича Мирного захоронили в колумбарии старых большевиков на Новодевичьем кладбище, а в Москву одна за другой шли телеграммы: «Глубоко скорбим о смерти нашего дорогого товарища Семена Максимовича Мирного. Его интернационалистическая революционная работа всегда жила и будет жить в сердцах коммунистов, которые бежали из тюрьмы острова Святая Анастасия в 1925 году. Поклон перед его светлой памятью».
Центральный комитет борцов против фашизма телеграфировал Советскому комитету ветеранов войны: «Центральный комитет и тысячи участников борьбы против фашизма в Болгарии выражают искреннее соболезнование по случаю смерти Семена Максимовича Мирного. Болгарскому народу он был известен своим отношением революционера и интернационалиста, оказывая большую помощь болгарским антифашистам и особенно болгарским политэмигрантам в 1919—1925 годах... Болгарский народ потерял большого друга. Его жизнь будет служить светлым примером для болгарских трудящихся и борцов против фашизма и капитализма».
Время не властно затмить память о коммунисте-борце. Идут и идут письма в Москву на Каляевскую улицу. Идут письма к его сестре. Из Софии пишет Тодор Чакрой: «Я всегда буду хранить память о Семене Мирном, нашем мужественном брате». Делятся своими воспоминаниями о нем офицеры и солдаты Великой Отечественной войны, говорят о его мужестве, скромности и верности долгу. Вспоминают и те, кто долгие годы работал бок о бок с ним в Ленинской библиотеке в Москве и лишь теперь с почтительным изумлением понял, что именно он собрал там второй в Европе по значимости и масштабу фонд скандинавской литературы. И вот еще одно послание из многих: «С чувством большой любви и уважения я вспоминаю свои встречи с Семеном Максимовичем Мирным и высоко ценю его личный вклад в дело укрепления Советского государства и международного признания выдающейся роли Великой Октябрьской социалистической революции». Это строки из письма Ивана Дмитриевича Папанина. Да, память людская продолжает жизнь человека!
Весной, когда солнце сгоняет снег и над Новодевичьим монастырем в Москве стоит тихий птичий гомон, на дорожках усыпальницы появляется много людей. Они идут к тем, кто всегда остается с нами — ведь память сердца не знает забвения. Часто люди останавливаются у колумбария старых большевиков. Там, за скромной плитой, покоится прах большевика-интернационалиста Семена Максимовича Мирного. У подножия стены всегда живые цветы. Уже не первую весну у колумбария появляется юноша. Он приходит с букетом красных гвоздик. К цветам приколот белоснежный листок, на котором начертаны слова: «Незабвенному другу моего народа, студенту Софийского университета, от болгарина, студента Московского университета». Юноша молча стоит у стены. Потом, поклонившись праху усопшего, оставляет колумбарий и сливается с молчаливым людским потоком.
Повесть о князе Кугушеве, беспартийном большевике
ОТЕЦ И СЫН
На широких просторах Уфимской губернии, своими нагорьями прильнувшей к Уралу, в давние царские времена раскинулись угодья князя Александра Иовича Кугушева. Предки Кугушева еще со времен царя Алексея Михайловича гнездились в Тамбовской губернии и происходили от знатного татарского рода. С веками род обрусел, и Александр Иович считался русским князем. Он принимал участие в Севастопольской обороне, был там ранен, вместе с генералом Скобелевым совершил поход в Коканд, завоевывал Хивинское ханство и Бухару. Вернувшись в родные места, женился на богатой невесте Шахуриной, тоже татарского происхождения, получив в приданое золотые прииски на Урале. В конце прошлого века Александра Иовича потянуло с Тамбовщины на Урал. Земля в Приуралье тогда была мало обжита. Чтобы приобрести землю, дорого платить не приходилось: поставь «миру» ведро водки и бери, сколько хочешь. Так что князь Кугушев за здорово живешь стал одним из крупнейших землевладельцев. В этой семье в первые дни 1863 года и родился Вячеслав. Вячеслав Кугушев прожил долгую жизнь. Он был уже подростком, когда русские солдаты на Шипке и под Плевной добывали свободу болгарам. И дожил до того счастливого дня, когда немецко-фашистские захватчики были изгнаны почти со всей советской земли. В августовский день 1944 года родные и друзья проводили Вячеслава Александровича Кугушева в последний путь на Новодевичье кладбище в Москве. В конце 30-х годов нашего века по просьбе некоторых учреждений Кугушев написал свою автобиографию. Ее, как и множество других документов, сохранила жена и друг Вячеслава Александровича Анна Дмитриевна Цюрупа-Кугушева, родная сестра Александра Дмитриевича Цюрупы. Вспоминая свое детство и отрочество, Кугушев писал: «Мать умерла через неделю после родов. Отец отсутствовал, отдаваясь целиком стяжательству. Я, старший брат и сестра росли одиноко среди чужих, наемных, часто меняющихся людей. В период пробуждения сознательности основной установкой реакционно настроенного отца было оградить детей от передовых течений общественной мысли. Из 4-го класса Уфимской классической гимназии отец отвез меня и брата в Питер, в Первую военную гимназию, где, как он полагал, мы лучше будем ограждены от «превратных мыслей». Четырехлетнее учение в военной гимназии явилось просветом: военные гимназии, особенно столичные, в то время хорошо были обставлены педагогическими силами. Разгар крепостнической борьбы, выстрелы Засулич, убийство Мезенцова, взрыв в Зимнем дворце и другие акты террора будили юную мысль и заставляли искать ответов на «проклятые вопросы». Встретил в Летнем саду Александра II и не снял шапки. Охранники сбили ее и основательно отругали. 1 марта 1881 года я прибежал к месту взрыва, когда оно еще не было оцеплено караулом и любопытные разбирали обломки кареты и лоскутки шинели царя».ВСТРЕЧА С БЛАГОЕВЫМ
В первые дни апреля 1923 года у себя дома, в Софии, тяжело больной 68-летний Димитр Благоев диктовал дочери, Стелле Благоевой, последние страницы воспоминаний о созданной им в 1883 году Петербургской социал-демократической группе. 13 апреля он завершил работу, и в 1924 году первая часть очерков Благоева была напечатана в болгарской коммунистической газете «Звезда». Газету запретили. «Мои воспоминания» распространились в списках и вышли подпольно. В 1928 году они были опубликованы в Москве. Россия породила Благоева как революционера. «Когда я приехал в Россию, — писал он, — во мне уже кипели революционные дрожжи. Здешние политические и общественные отношения дали им условия для развития, помогая мне выработать себе ясное революционное сознание». В 1884 году, когда Благоев разработал свою программу передачи государственной власти в руки народа, ему было 27 лет. Боевые соратники называли его «старик». Им было по 19—20 лет. Юноша, не снявший шапки перед самодержцем всероссийским, пришел к Благоеву и вскоре стал одним из его соратников. В военной гимназии Кугушев тайком читает «Землю и волю» и «Черный передел». Идеи народников ему близки, но их программа все же расплывчата, неконкретна. Молодой Кугушев ищет истину. По окончании курса военной гимназии он отказывается от военной карьеры и поступает в Петербургский лесной институт, знакомится с политической экономией, с произведениями Маркса. Позднее он напишет в своей автобиографии: «Я принял ближайшее участие в создании первой социал-демократической группы, известной в истории партии под именем «Благоевской», окунулся в подпольную революционную работу, отдавая ей в течение трех лет все свободное от институтских занятий время и все средства, остававшиеся от скромной жизни студента». В немногочисленной группе Благоева с первых дней ее организации были распределены функции. Кугушеву была поручена агитационная работа среди рабочих на Выборгской стороне в Петербурге. Кугушев организует четыре кружка. Идеи Благоевской группы начали распространяться по России. Уже в Москве действовал представитель благоевцев Бороздич, в Харькове — Португалов, собиравшийся создавать типографию и печатать газету русских социал-демократов. Волна революционных идей дошла до Казани и Риги. Появились опорные пункты Благоевской группы в Полтаве, Кременчуге, Ростове-на-Дону, Екатеринославе. Скоро в Петербурге будет создан ленинский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Но Кугушев впервые встретится с Владимиром Ильичем Лениным лишь сорок лет спустя, в Кремле, на квартире у Александра Дмитриевича Цюрупы. Представляя Владимиру Ильичу Кугушева, только что приехавшего из Уфы в Москву, Александр Дмитриевич скажет: — Познакомьтесь, Владимир Ильич. Это и есть Вячеслав Александрович Кугушев, о котором вы столько знаете... — Очень рад, — скажет Владимир Ильич и, улыбнувшись, добавит: — А вы знаете, Вячеслав Александрович, ведь в революционном движении вы раньше меня начинали... — О да! — невозмутимо ответит бывший князь, сотрудник Народного комиссариата продовольствия.ЗА РЕШЕТКОЙ
О группе Благоева департамент полиции, разумеется, знал, но не очень верил в ее действенность. После арестов, проведенных в связи с убийством Александра II, жандармы полагали, что в России надолго установится кладбищенская тишина. В департаменте разработали программу борьбы с бунтарями. Когда же вышел первый номер газеты «Рабочий», жандармы переполошились: печатного слова они боялись пуще огня. В группу Благоева заслали провокатора Сюзюмову. Судя по документам, на первых порах благоевцы пользовались портативной типографией, которую добыл Кугушев, ездивший за ней в 1884 году в Западный край. Хозяйкой типографии была бывшая народоволка, сочувствовавшая благоевцам, Дебора Познер. 6 октября 1884 года Дебору Познер арестовали, а типографию изъяли. Начались аресты в Петербурге и других городах. Кугушев в это время находился в пензенском имении отца. Там его схватила полиция и тотчас же отправила в «предварилку». Месяц сидит Кугушев за решеткой. Допрос следует за допросом. Постепенно Вячеслав узнает, что вся организация провалилась, а список Благоевской группы обнаружен у Лопатина, члена организации. В Петербурге вскоре арестовали Благоева. Жандармы ввалились к нему на рассвете, скрутили руки, стали искать книги. Благоев вспоминал об этом: «До сих пор не могу забыть невежества, обнаруженного полицейскими, хотя их руководителем был довольно высокого чина офицер, кажется, майор... Попалось им сочинение Туна на немецком языке «История революционного движения в России». Полицейский офицер развернул книгу и спрашивает меня: — Это книга какая? — История России на немецком языке, — отвечаю. Взял книгу на французском языке, «Историю французской революции» Луи Блана, перевернул ее, перелистал и наконец спросил: — А эта книга? — История Франции, — отвечаю ему. Отдает мне и ее; значит, ничего «преступного» нет в ней. Пришла очередь первого тома «Капитала» Маркса. Я сказал себе: кончилось, пропала моя книга, непременно ее арестуют. Она на русском языке, и он сам поймет, что из «преступных», запрещенных книг. Однако на ней он меньше всего остановился. Прочитал: «Капитал» — и спросил меня быстро: — Что это за «Капитал»? — Это значит, — сказал я ему, — политическая экономия, учебник для изучения экономических вопросов. — Так, так, необходимо изучать экономические вопросы, — ответил жандарм. И вернул книгу». Арест Кугушева вызвал переполох не только в Уфе, Пензе и Тамбове, где раскинулись княжеские угодья, но и в великосветских кругах Петербурга. Высшее общество, пуще огня боявшееся проникновения революционной «заразы» в свою среду, было шокировано. В ход были пущены родственные и деловые связи. Снарядили влиятельных особ к министру внутренних дел, и тот через месяц выпустил Кугушева из тюрьмы и даже разрешил продолжать учебу в Лесном институте, разумеется, учредив за бунтарем негласный надзор. После окончания института его отправили поближе к крепостнику-отцу в Уфу, где назначили помощником лесничего. Пусть там он избавится от тлетворного духа. Однако то ли жандармы не верили, что князь возвратится на стезю благоразумия, то ли им стало известно о его связях с социал-демократами, но его снова упрятали в тюрьму. Произошло это в мае 1887 года в Уфе. После четырехмесячной отсидки Кугушева выпускают под большой денежный залог, запрещают служить на казенной службе и приказывают поселиться в имении отца, под его бдительным оком. Кугушев принимает твердое решение: все свои силы и средства отдать революции. Когда это решение принято, нужна особая тактика. Кугушев скрепя сердце идет навстречу требованию старого князя и подает царю прошение о помиловании. В июне 1888 года его снова допускают на казенную службу. Через много лет он напишет о том времени: «Период с 1888 по 1898 год был самым мрачным и тяжелым и моей жизни: приходилось постоянно лгать, обманывать, лицемерить и нести политику в семье, чтобы не лишиться наследства, чем систематически угрожал отец. У меня же была определенная установка получить средства и отдать их на революцию». В 30-е годы Кугушев с доброй улыбкой говорил родным и друзьям у себя на квартире на Покровском бульваре в Москве: — Я правильно распорядился своим состоянием: вложил его в самое надежное в мире дело — отдал большевикам.ВЛАДЕТЕЛЬ ПОМЕСТЬЯ
Близился конец XIX века. Старый князь решил разделить свои огромные поместья между тремя наследниками, «потопить» сына-бунтаря в хозяйственных заботах. Вячеславу он выделил поместья в разных концах своих владений: на Тамбовщине и на Урале — хутор Узенский. Эти имения расстроены, и надо приложить много сил, чтобы привести их в порядок. После раздела поместий Вячеслав Кугушев еще больше отдалился от семьи. Старик отец редко приезжает из Подлубова. У него есть верные люди в Узенском, и через них он узнает все, что ему надо. Но сын внешне ничем не выдает себя, и старый князь успокаивается. Со старшим братом у Вячеслава никогда не было большой близости, и они видятся редко. Сестра Ольга, женщина деспотичная, не любит Вячеслава за его вольнодумство и почти не общается с ним. Изредка тройка подкатывает к дому на Узенском хуторе. Вячеслав Александрович обязан выйти на крыльцо встречать сестру. Если не выйдет и не отвесит низкий поклон, тройка тут же повернет обратно. Каждый раз Ольга резко выговаривает брату по поводу его простой одежды, презрительно оглядывает Кугушева и сквозь зубы цедит: — Все нигилиствуешь, братец? — Отрицаю, сестрица. Ольга Александровна посидит немного для приличия и ускачет. У нее свои заботы. Дома подрастает красавица дочь Маша. Надо думать о подходящей партии для нее. В уфимской глуши жениха не подберешь. Вокруг все захудалые помещики да отставные офицеры. Придется, видимо, везти дочь в Москву или даже в Петербург — пора вывозить ее в свет. Внешне «мирная» жизнь князя не убедила уфимского губернатора в том, что тот смирился. Когда в 1901 году Кугушева вторично избрали в земскую управу, губернатор Богданович не утвердил это избрание. Кугушев решает уехать за границу. Отцу он сообщает, что едет совершенствоваться в лесном деле. Но, конечно, это только предлог. Кугушев намерен восстановить старые революционные связи за границей, если удастся, свидеться с Благоевым. За свои имения Кугушев спокоен. Некоторое время назад друзья порекомендовали ему хорошего управляющего. Его зовут Александр Дмитриевич Цюрупа. Он молод, но опытен в хозяйственных делах, умен. Они стали близкими друзьями. В сущности, ведь и план поездки за границу для установления связей подсказал князю Цюрупа. Плану этому не суждено сбыться. В марте 1902 года в Москве, когда Кугушев направлялся за границу, полиция арестовала его. Ему предъявили обвинение в попытке ниспровергнуть существующий строй. Вот когда взвыла вся родня Кугушева, все ближние и дальние сиятельства и превосходительства. В Подлубове, у отца, собрался семейный совет. Специально приехавшие уфимские родственники требовали объявить молодого князя сумасшедшим и запереть в психиатрическую лечебницу, только подальше, например в Екатеринбург. Старый князь объявил свою волю: он подает прошение царю и дворянскому собранию об установлении опеки над имуществом бунтаря. Вячеслав Александрович, находясь в тюрьме, узнает об этом. Если опека будет установлена, прощай тогда тайный план передать все деньги на революционную борьбу. И теперь Кугушев уже не по требованию старого князя, а против его воли подает прошение о помиловании: прошению неизбежно будет дан ход, а это снимет вопрос об опеке. Таков единственный выход. И вот начинается борьба. Дознание закончено, и прокурор Московской судебной палаты дает Вячеславу Кугушеву характеристику, которая наверняка должна прочно упрятать его в сибирскую глушь. «Кугушев, — пишет прокурор, — является в политическом отношении не только неблагонадежным, но безусловно опасным в смысле твердого усвоения образа мыслей и действий террористического характера». Начальник Московского губернского жандармского управления написал па Кугушева еще более злобную характеристику. Судебная машина сработала, как того требовал прокурор: Кугушева держали полтора года в тюрьме, а затем отправили на пять лет в ссылку. На северном берегу Онежского озера, врезающегося «губой» в карельскую землю, стоит город Повенец. Собственно, не город, а небольшой деревянный поселок, затерявшийся среди озер и лесов. Глухомань, из которой и впрямь хоть три года скачи — ни до какого государства не доскачешь. Но даже Повенец жандармы сочли опасным для поселения там Кугушева и отправили его в село Паданы Повенецкого уезда. В ту пору Паданы стали одним из центров ссылки. Из Петербурга, Москвы, с Урала туда привозят в кандалах революционеров. Кандалы в Паданах снимают: отсюда все равно не удерешь — в лесах погибнешь, в бесчисленных реках и озерах утонешь, не выберешься. Прошение о помиловании помогло. Попытка старого князя установить опеку над имуществом сына провалилась. Из Падан князь через верных людей пересылает письма в тамбовское имение Александру Дмитриевичу Цюрупе, просит выслать деньги и, кстати сказать, раздает их ссыльным. Однажды Кугушев тайком отправился из Падан в еще более глухие места навестить ссыльных друзей и передать им деньги. Дорого обошлась Кугушеву самовольная отлучка. Паданский урядник и прибывший жандарм ввалились в избу, где он жил, избили его, заковали в наручники и отправили в карцер в деревню Кугановолок. Оттуда через несколько месяцев его перевезли в городок Пудож, а затем — в поселок Вытегру, на противоположном берегу Онежского озера. Ехали туда долго на лошадях, шли пешком, плыли по озеру. Привез жандарм Кугушева, подъехал с ним к дому, сказал: — Здесь жить будешь. Из дома навстречу выбежал человек. Князь взглянул и обмер: перед ним стоял Александр Дмитриевич Цюрупа. Шел 1904 год. Над Вытегрой светились белые июльские ночи. Цюрупу арестовали в 1902 году в тамбовском имении Кугушева, когда князь уже сидел в московской тюрьме, и выслали в Вытегру вместе с семьей. Были там в ссылке и известный латышский революционер Ян Антонович Берзин и другие большевики. В эту колонию сразу же вошел Кугушев. В разгар холодного северного лета в Вытегру приехал брат Цюрупы, Лев Дмитриевич. У Кугушева возникла идея — продать свое тамбовское имение «Отрада», а деньги передать социал-демократам. Так и было сделано. Лев Дмитриевич получил доверенность Кугушева, выехал на Тамбовщину и выполнил поручение. В большевистскую кассу через верных людей отправили 108 тысяч рублей. В тот вечер, когда пришло сообщение, что деньги у большевиков, Цюрупа и Кугушев долго гуляли по Вытегре. Александр Дмитриевич, не скрывая своего волнения, сказал князю: — Настанет день, Вячеслав Александрович, и мы расскажем народу обо всем, что вы сделали для нашего дела.ПОБЕГ
В начале нынешнего века отдельным корпусом жандармов в России ведал князь Святополк-Мирский, товарищ министра внутренних дел. В 1904 году убили министра внутренних дел Плеве. На его место назначили Святополк-Мирского. Началась так называемая «эра либеральной весны». «Либеральная весна» докатилась и до олонецких лесов, до Вытегры. В конце 1904 года оттуда уехал в Уфу Александр Дмитриевич Цюрупа со своей семьей. Перед отъездом Кугушев вновь дал ему доверенность па управление всеми своими имущественными делами. После Кровавого воскресенья Святополк-Мирского убрали, и на его место пришел московский обер-полицмейстер палач Трепов. «Либеральная весна» окончилась. Кугушев решил бежать за границу. Мы знаем уже, что в Вытегре находилась тогда социал-демократка Роза Гармиза, с которой очень быстро сдружилась вся колония. Была она молода, миловидна, никогда не унывала. Кугушев подружился с Розой, посвятил ее в свои планы. Решили, что вместе с Кугушевым побег совершит большевик Ян Берзин. К весне 1905 года план побега окончательно созрел. Кугушев и Берзин часто ходили на рыбалку. Решено было, что они имитируют свою гибель и на каком-нибудь суденышке доберутся до Петербурга, а уж оттуда махнут за границу. Роза добыла одежду для беглецов и через местных жителей узнала, что в Вытегре скоро сделает остановку нефтяная баржа «Клара», которая прямым ходом отправится в Петербург. Решили бежать на этой нефтебарже. Настал день, на который был назначен побег. Кугушев и Берзин с утра отправились на рыбалку близ пристани. Удочки забросили в воду, сидели молча. Вскоре раздался далекий гудок, а затем показалась баржа. Берзин и Кугушев быстро переоделись, оставили свою одежду на берегу и помчались к пристани. Скоро они уже плыли в Петербург. Вечером Роза пошла «искать» своих друзей, разумеется, не нашла их и с мастерством трагической актрисы, плача, сообщила в поселке, что несколько часов прождала на берегу Берзина и Кугушева, но они не пришли и, ясное дело, утонули. Ссыльные горько «оплакивали» своих собратьев. В это время Кугушев из Петербурга пробрался через пограничный городок Гольдап в Берлин, где отпраздновал свое освобождение. Берзин остался в Петербурге.ВОЗВРАЩЕНИЕ
Кугушев возвратился на родину в 1906 году, когда в России была подавлена революция и царские власти создали в стране обстановку всеобщего страха и произвола. После долгих раздумий Кугушев, как он позже писал, решил в «целях защитной окраски» зачислиться в кадетскую партию. Эта партия так называемых конституционных демократов была «вполне благопристойной», в нее входило много зажиточной публики, включая университетских профессоров-консерваторов. Помещики стали присматриваться к Кугушеву — что это он вдруг этаким буржуазным либералом становится? Но они и сами не прочь были поиграть в либералов и даже избрали Кугушева членом так называемого Государственного совета. Совет этот был совещательным органом при царском правительстве и ничего не решал. Зато Кугушеву избрание помогло. В ту пору социал-демократическое издательство «Новый мир» переживало очень трудные времена. Финансовое положение его было отчаянным. Кугушев снова решил помочь социал-демократам. Заложил одно из своих имений, получил пятьдесят тысяч рублей и деньги передал издательству. Надзор полиции не прекратился, но жандармы уже не могли врываться в имение. Кугушев решил воспользоваться правом неприкосновенности личности члена Государственного совета и создал в Узенском «красное гнездо», как его называли помещики в округе. После революции 1905 года многие большевики были высланы в Уфу, Самару и другие волжские города. В Самаре жил тогда видный большевик Алексей Иванович Свидерский, женатый на сестре Цюрупы. С Кугушевым Свидерский познакомился еще в олонецкой ссылке, а когда Кугушев вернулся в свое имение, Свидерский часто приезжал к нему. В праздники, да и в будни в Узенском появлялись и другие революционеры, живали там по месяцу — два. Жандармы рыскали вокруг хутора, засылали туда соглядатаев, но сами появляться не смели: закон есть закон. Особенно взволновались жандармы и присланные агенты охранки летом 1907 года. Разнесся слух, что в Узенском появился Владимир Ильич Ленин. Вокруг Узенского на дорогах были выставлены постовые и дозорные. Не было Владимира Ильича в Узенском. Просто шпики охранки всюду от страха видели Ленина.РЕВОЛЮЦИЯ...
Быстро мчались годы после первой русской революции. «Красное гнездо» в Узенском приняло новых обитателей. По-прежнему туда приезжали семьи Свидерского и Цюрупы, подолгу находились там и другие большевики, сбежав от жандармского глаза и пользуясь гостеприимством хозяина хутора и его правом неприкосновенности. Вспоминая те годы, Вячеслав Александрович скупо записал в своей автобиографии: «В 1909 году ушел из Государственного совета и поступил снова на службу в Донской земельный банк, где работал до Великой Октябрьской революции, совмещая с банковской работой в пяти губерниях широкую общественную работу в земстве Уфимской губернии и городских управлениях Уфы и Самары. В февральском перевороте участвовал в Самаре путем агитации в местном гарнизоне и в качестве комиссара тюрьмы после переворота». ...В доме на Покровском бульваре в Москве, где жил Вячеслав Александрович, его жена Анна Дмитриевна Цюрупа-Кугушева рассказала о последних годах перед революцией. Кугушев много разъезжал по городам Поволжья. Служба в земельном банке позволила ему легализировать свое положение. Он передавал деньги для РСДРП, часто виделся с Александром Дмитриевичем Цюрупой, с которым у него были сердечные отношения. Когда свергли царя, Кугушев жил в Самаре. Накануне Февральской революции он много времени проводил в местном гарнизоне, агитировал солдат выступить против самодержавия, за власть народа. С рабочим отрядом ворвался в здание местной тюрьмы и с криком «Тиран пал! Свобода, товарищи, свобода!» начал сбивать замки с тюремных камер. Кугушева назначили комиссаром тюрьмы. Я спрашивал Анну Дмитриевну, жену Кугушева: — Чем объяснить, что Вячеслав Александрович так и не вступил в партию большевиков? Ведь он до Великой Октябрьской социалистической революции отдал борьбе против царизма тридцать четыре года? — Вячеслав Александрович отвечал на этот вопрос очень просто: «Я и так большевик». И это была правда. Яков Михайлович Свердлов так и называл Кугушева: беспартийный большевик. Александр Дмитриевич Цюрупа тоже так называл его. Но была, конечно, еще одна причина, по которой Вячеслав Александрович формально не вступал в партию. Князь по происхождению, он понимал, что найдутся люди, которые скажут: «Примазался», другие просто будут издеваться над ним. Не поверят, что из идейных соображений. Ведь вот же какие случаи с ним бывали. После Октября Вячеслав Александрович сказал: «Все отдам новой народной власти». Готовил хутор Узенский, чтобы отдать его большевикам «на полном ходу», как он говорил: весь хлеб, скот, все службы. Чтобы люди сразу же могли пользоваться. Но тут пришли какие-то агитаторы- анархисты, ворвались в дом и приняли постановление: князя Кугушева немедленно выселить. И выселили. А хутор разорили. Анна Дмитриевна рассказывает мне, что после Октября Вячеслав Александрович начал работать в управлении Народного комиссариата продовольствия по Уфимской губернии. Уполномоченным комиссариата там был тогда старый большевик, чудеснейший человек, Михаил Васильевич Котомкин — «Котомочка», как его звали друзья. Только Кугушев поступил на работу в управление Наркомпрода, как злые языки слух по городу распустили: князь наживается, хлеб прячет. Ночью из ЧК пришли с обыском. Хлеба, конечно, никакого не нашли. Кугушевы тогда впроголодь жили. Но все остальное забрали из дому. Котомкин сразу же вмешался. Чекисты извинились, все личные вещи вернули. Все это очень ранило Вячеслава Александровича, мешало ему жить. Посоветовались тогда друзья в губернском комитете большевиков, и председатель губернского исполкома вызвал Кугушева и сказал ему: «Вячеслав Александрович, здесь вам все время будут гадости чинить. Можно, конечно, на это никакого внимания не обращать, но знаю, что вы тяжело переживаете сложившуюся ситуацию. Поезжайте в Москву. Там вам легче работать будет». И в столице бывали мелкие неприятности. Но рядом с Владимиром Ильичем и такими большевиками, как Александр Дмитриевич Цюрупа, он чувствовал себя спокойнее, уверенней. Он делал все, что было в его силах, ради победы пролетариата. Анна Дмитриевна вынимает из ящика большую папку с документами и фотографиями, передает ее мне и говорит: — Здесь вы найдете многое, что вам поможет разобраться в жизни Вячеслава Александровича. Вот документы, связанные с выполнением специального задания Владимира Ильича Ленина: спасти семьи большевиков от расстрела колчаковцами. О том, как справился он с этой миссией, мы уже знаем, но некоторые факты повторить небезынтересно.В ТЫЛУ У КОЛЧАКА
Это произошло летом 1918 года, когда Советское правительство только что переехало из Петрограда в Москву. Буржуазный мир начал войну против Советской Республики. В эту войну включились и войска белочехов, которых поддерживал царский адмирал Колчак. Белогвардейцы захватили Уфу. Начались аресты в рабочих кварталах, расстрелы и истязания. В Уфе жили тогда семьи видных работников Советской власти, не успевшие переехать в Петроград. Захватив Уфу, белогвардейцы бросили в тюрьму в качестве заложников семьи Цюрупы, Брюханова и других большевиков. Всем им, в том числе и малолетним детям, грозил расстрел. Злодейский замысел белогвардейцев вызвал протест даже у находившихся в России иностранных дипломатов. «Консульства нейтральных государств в Москве, — телеграфировали дипломаты, — просят заявить кому следует... что подобные действия противоречат международному праву...» Между Москвой и Уфой через Самару и другие города по радио начались переговоры. 20 августа 1918 года в Сарапульский Совдеп из Совнаркома была отправлена срочная телеграмма, которая предписывала: ввиду предполагаемого обмена содержащихся под стражей в Сарапуле уфимских заложников на семьи большевиков, арестованные в Уфе, принять меры к ограждению жизни белогвардейцев-заложников. В конце августа — начале сентября шли переговоры с Уфой о месте обмена. В Уфе эти переговоры вела находившаяся там на свободе Нина Цюрупа. Но колчаковцы затягивали дело. Надо было немедленно послать в Уфу верного человека, который спасет обреченных на гибель. Цюрупа предложил Ленину и Свердлову послать Вячеслава Александровича Кугушева. Кугушев сразу же принял предложение. 28 ноября 1918 года в штаб 5-й армии была послана телеграмма о том, что выезжает уполномоченный Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Кугушев для обмена заложников с Уфой. Предлагалось оказать ему всяческое содействие и выдать надлежащие документы для беспрепятственного переезда через фронт совместно с сопровождающим его гражданином Шубиным. Кугушев, рискуя жизнью, перешел линию колчаковских войск. Озлобленные белогвардейцы могли расстрелять его в Уфе, где переговоры шли в весьма сложной обстановке. Выдержка Кугушева, его дипломатические способности позволили благополучно завершить переговоры. Колчаковцы вот-вот должны были эвакуировать Уфу и потребовали, чтобы Кугушев незамедлительно оставил город. Ночью Кугушев ушел из Уфы. Вскоре после этого Свердлов прислал Кугушеву теплое, дружеское письмо, поблагодарил его за выполнение ленинского задания, за самоотверженную помощь Советской власти.НА СЛУЖБЕ У НАРОДА
Оглядываясь на пройденный путь, Кугушев завершил свою автобиографию следующими словами: «Итоги жизни: трудовой стаж 39 лет, в том числе советский — 11 лет, кроме того, в тюрьме отсидел 2 года, в ссылке и эмиграции — 2 года, под надзорами, гласными и негласными, — с 1883 года до Октябрьской революции». С того дня, когдаКугушев стал комиссаром в Самаре, он открыто переходит на службу народу. Он внимательно прислушивается к биению пульса революции и радуется ее твердым шагам. Он, благоевец, с ней до конца. Да, ради этого он и его друзья собирались на конспиративных квартирах, мечтали вместе с Благоевым о новой России. 7 февраля 1919 года в «Правде» публикуется политическое заявление Вячеслава Кугушева. Вот оно: «Великие исторические бедствия потрясли мир и снова пробудили в трудовых массах вечное стремление к коренной общественной перестройке. Я почитаю долгом искреннего и сознательного общественного работника всеми имеющимися силами поддержать великий почин Российской коммунистической партии в строительстве новой жизни и потому покидаю партию конституционных демократов, не разделяя ее отношения к новой мировой обстановке». Вернувшись в 1919 году из поездки по Уфимской губернии, Кугушев застал дома письмо от Владимира Ильича. Вот что сказано в письме В. И. Ленина: «Уфа Тов. Вячеславу Александровичу Кугушеву Тов. Кугушев! Позвольте обратиться к Вам с одной просьбой. В Уфу едет Лидия Александровна Фотиева, которую я хорошо знаю еще с периода до 1905 года и с которой я работаю долго в СНК. Л. А. Фотиева совсем больна, а нам сие «казенное имущество» (секретаршу СНК) необходимо выправить. Прошу Вас очень принять все меры, чтобы помочь Л. А. Фотиевой устроиться, лечиться и кормиться на убой. Тов. А. Д. Цюрупа сказал мне, что Вы Л. А. Фотиеву знаете и не откажетесь помочь ей. Заранее благодарю Вас, прошу мне черкнуть с оказией (военной, например) о получении этого письма. С товарищеским приветом В. Ульянов (Ленин)».Как же Вячеслав Александрович выполнил поручение Ленина? Я попросил Лидию Александровну Фотиеву рассказать об этом. — На ленинское письмо он отозвался всей душой. Помог мне устроиться с комнатой, все сделал, чтобы после болезни я пришла в себя. Я пробыла в Уфе несколько недель, а затем возвратилась в Москву... И вообще должна сказать, что Кугушев был прекрасный человек, до конца преданный Советской власти. Вскоре после уже известного разговора с председателем Уфимского губернского исполкома Кугушев навсегда переехал в Москву. Быть может, Кугушев не уехал бы из Уфы, но 7 июля из Москвы по прямому проводу была передана телеграмма, подписанная Свидерским. Он сообщил, что в правительственных кругах разрешен в положительном смысле вопрос образования Комитета помощи голодающим неурожайных местностей и что в комитет войдут многие прежние общественные деятели. Свидерский писал, что Кугушев будет включен в комитет, возможно, для сбора средств ему незамедлительно придется отправиться за границу, и просил срочно переехать в Москву. Работа в Комитете помощи голодающим захватила Кугушева. Он часто выезжал в Поволжье, где занимался распределением хлеба, отправлял туда эшелоны, организовывал столовые, раздачу хлеба. А потом Кугушева послали уполномоченным Народного комиссариата продовольствия в Ревель, откуда он отправлял пароходы с хлебом в Россию. Так и шли годы, заполненные трудом ради блага новой России. Радуясь, смотрел он, как поднимается из руин страна, как один за другим вступали в строй заводы, а на улицах становилось все меньше голодных, исчезли беспризорники. В 1923 году Вячеслав Александрович перешел во Всесоюзный кооперативный банк и семь лет проработал там инспектором. Есть много людей, которые помнят Кугушева, доброго, скромного человека. Но мало кто знал о его прошлом. Он никогда ничего никому не рассказывал. Он считал, что место человека в обществе определяется только одним: какую пользу приносит он народу. Два тяжких удара перенес Кугушев в те годы. Кончину Владимира Ильича, которую он воспринял как страшное личное горе. И через четыре года — смерть его друга и товарища Александра Дмитриевича Цюрупы. Ушел из жизни человек, которого с Кугушевым связывали десятилетия светлой дружбы.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
В начале января 1930 года Кугушев решил уйти на пенсию. Ему минуло 67 лет, можно было подумать и о покое. 15 января 1930 года Совет Народных Комиссаров Советского Союза назначил Вячеславу Александровичу Кугушеву за его революционные заслуги перед Советской страной персональную пенсию в размере 225 рублей в месяц. 11 марта 1935 года Совет Народных Комиссаров увеличил эту персональную пенсию до 350 рублей в месяц. В ту пору росли цены, и в связи с этим правительство подтягивало заработную плату рабочих и служащих. Не забыл Совнарком и старого революционера. А когда в сентябре 1938 года какой-то «чин» из ведомства социального обеспечения сообщил семидесятипятилетнему Кугушеву, что за отсутствием революционных заслуг «он лишен персональной пенсии», десятки старых большевиков, и среди них Михаил Иванович Калинин и Надежда Константиновна Крупская, подтвердили, что он имеет серьезные революционные заслуги. Написали все, кто знал Кугушева по казематам, по следственным тюрьмам и олонецкой ссылке, кто лично из его рук принимал тысячи и тысячи рублей для партии большевиков, кто помнил его работу в подпольных изданиях и типографиях российских социал-демократов, кто был в Уфе, когда он спасал семьи большевиков от террора колчаковцев. И много теплых, хороших слов было написано в этих свидетельских показаниях о бывшем князе Вячеславе Александровиче Кугушеве, беспартийном большевике. А слушатель Военной академии Красной Армии майор Дмитрий Цюрупа, член партии с 1920 года, от имени всех своих родных засвидетельствовал, что им известна «революционная работа В. А. Кугушева и его преданность делу пролетарской революции, каковой он содействовал как широкой и систематической денежной помощью, так и путем выполнения поручений Уфимского подпольного комитета РСДРП». Конечно, персональную пенсию Вячеславу Александровичу Кугушеву восстановили. Идеи Великой Октябрьской социалистической революции были кровно близки и понятны широким массам России. Поэтому она победила. Но ее притягательная сила была настолько велика, что она привлекала на свою сторону и таких людей, как Вячеслав Александрович Кугушев — бывший владетельный князь.Франческо Мизиано ведет бой...
...Я неизменно восхищался его боевым духом, бесстрашием, цельностью, благородством его характера. В. Либкнехт
Хмурым выдался в Москве день 11 октября 1918 года. Накрапывал дождь. В Кремлевском дворце шло заседание Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Председательствовал Я. М. Свердлов. Накануне Владимир Ильич Ленин попросил Якова Михайловича Свердлова подготовить директиву Реввоенсовету республики о принятии срочных мер помощи Царицынскому фронту. Там положение донельзя трудное. А где оно легкое? Со всех сторон на Москву и Петроград наступают интервенты и белогвардейские армии. Ночью Свердлов не спал, его клонит ко сну. Но он не подает вида. Сквозь пенсне оглядывает членов Президиума, просит доложить очередной пункт повестки дня. Секретарь сообщает, что в Президиум ВЦИК поступило из-за границы заявление 34-летнего итальянца Франческо Мизиано с просьбой предоставить ему советское гражданство. Секретарь оглашает: «Заявление Мизиано Франческо Нижеподписавшийся Мизиано Франческо, сын Джузеппе и Каролины, родившийся в Ардоре (провинция Реджо Калабрия), итальянский гражданин, желает перейти в русское гражданство по мотивам политическим, служить делу социализма и революции. Франческо Мизиано».
Я. М. Свердлов опрашивает членов Президиума ВЦИК, дают ли они согласие на принятие итальянца в советское гражданство, и в протокол вносится пункт: «СЛУШАЛИ. 2. Заявление Итальянского гражд. Мизиано Франческо о желании перейти в Русское Гражданство. ПОСТАНОВЛЕНО: Заявление удовлетворить».
Кто он, этот итальянец, решивший уехать в Россию, где холод, война, голод? ...11 сентября 1918 года в Берне в дверь здания Советской миссии на улице Шваненгассе, 4 постучался довольно высокий черноволосый человек. Латышский стрелок, дежуривший в вестибюле, позвал технического секретаря миссии Любовь Николаевну Покровскую. Незнакомец сказал, что хочет поговорить с русским послом Яном Антоновичем Берзиным. Л. Н. Покровская ответила, что сейчас же передаст эту просьбу послу, спросила, как доложить Я. А. Берзину. — Передайте, что с ним хочет поговорить Франческо Мизиано. Я только что приехал из Цюриха. И вот он сидит в кабинете посла Советской России, испытующе смотрит в открытые умные глаза Берзина, первого человека новой России, с которым он встретился, быстро оглядывает его ладную фигуру в дешевом, но хорошо сидящем на нем костюме. Я. А. Берзин также рассматривает гостя, рад его приходу. Он много слышал о нем, знает, что Мизиано является руководителем итальянских социалистов, эмигрировавших в Швейцарию, что арестовывался за свою революционную деятельность, а сейчас редактирует газету на итальянском языке «Л’Аввенире дель лавораторе» («Будущее трудящегося»), издающуюся в Цюрихе. Пока Берзин и Мизиано беседуют, я познакомлю читателей с итальянцем. Франческо Мизиано родился 26 июня 1884 года в Калабрии, в горной деревушке, в семье бедного многодетного крестьянина. Отец его рано ослеп, не мог кормить семью, а старший брат стал «благородным разбойником»: он отнимал землю у помещиков и отдавал ее беднякам. Но недолго он «разбойничал»: какой-то негодяй подстрелил его из-за угла. Путь Франческо был другим. Ему единственному в семье посчастливилось получить образование в светской школе при монастыре «Сан Франческо Д’Ассизи», где бесплатно обучали детей бедняков юга Италии. В 1907 году Мизиано вступает в Социалистическую партию. Ораторские способности делают его имя популярным в народе, вскоре его избирают секретарем Социалистической федерации Неаполя и секретарем профсоюза железнодорожников. В 1914 году за руководство забастовкой железнодорожников в Неаполе Мизиано был уволен с работы, переехал в Турин, где его избрали секретарем местного профсоюза железнодорожников. К началу империалистической войны популярность Мизиано еще больше возросла. На митинге в городе Анкона он произнес речь со страстным призывом не отдавать свои жизни за буржуазию и помещиков. За активную антивоенную пропаганду Мизиано был арестован и приговорен к четырем месяцам тюрьмы, а затем к отправке на фронт. Накануне отправки на фронт он вместе с тридцатью пятью другими солдатами оставил ночью казарму якобы для того, чтобы попрощаться с родными. Воспользовавшись этим, реакционные круги немедленно обвинили Мизиано в дезертирстве. Теперь ему грозил военный суд. Мизиано эмигрировал в нейтральную Швейцарию, чтобы оттуда продолжать борьбу против шовинизма, против войны. В те первые часы знакомства Франческо Мизиано рассказал Яну Антоновичу Берзину о своей деятельности в Цюрихе, где он часто видел Владимира Ильича Ленина. — Ленин знал вас тогда, в Цюрихе? — спросил гостя Берзин. — Нет. Но я уже знал о его роли на Циммервальдской конференции. И это дало мне ориентир на будущее... — Мне известно, что вы часто выступаете в «Л’Аввенире дель лавораторе». Ян Антонович подошел к шкафу, извлек оттуда подшивку итальянской газеты, нашел нужный экземпляр, сказал: — Вот газета от первого декабря семнадцатого года. Здесь есть передовая по поводу нежелания западных правительств признать Советскую Россию. В ней говорится: «Правительство Ленина — это правительство народа, основанное на свободе и раскрепощении масс». Яснее не скажешь. Интересно, кто автор этой статьи; очень хотелось бы с ним познакомиться. Мизиано улыбнулся: — Мы с вами уже знакомы. — Вот как! — ответил Ян Антонович и крепко пожал руку итальянскому другу.
Правительство правого либерала Орландо, желая потрафить союзникам, еще в начале 1918 года послало итальянские части воевать против Советской России. Многие солдаты оказались в русском плену, в Уфимской губернии, а потом, когда они были освобождены советскими властями и направились в Швейцарию, им удалось проехать через Москву, где их принял В. И. Ленин. 3 августа 1918 года Владимир Ильич вручил итальянцам письмо для Я. А. Берзина. Вот что в нем говорилось: «Тов. Берзин! Податели — итальянские военнопленные, представившие нам рекомендацию председателя Уфимского Совдепа. Я их видел два раза и очень доволен впечатлением от беседы с ними. Надо соблюсти максимум осторожности и помочь им всячески для организации работы и изданий среди итальянцев, на итальянском языке...»
Через три месяца после приезда Берзина и его миссии в Швейцарию группа итальянских военнопленных прибыла из России в Берн. Я. А. Берзин подробно беседовал с итальянцами, привезшими письмо В. И. Ленина, установил контакт с итальянскими социалистами, находившимися в Берне. Но с Франческо Мизиано он впервые встретился только теперь, на Шваненгассе, 4. В эти дни швейцарское правительство начало кампанию против миссии Берзина. Вместе с Фрицем Платтеном и другими швейцарскими социалистами Франческо Мизиано на страницах «Л’Аввенире дель лавораторе» выступил против преследования советской миссии. В беседе с Берзиным Мизиано высказал давно назревшее решение всеми силами служить делу русской революции. Тогда-то Я. А. Берзин передал Мизиано предложение В. И. Ленина возглавить газету на итальянском языке. Дело в том, что на севере России высадились английские интервенты. Вместе с англичанами на Мурманском фронте действовали уцелевшие итальянские части. Цель газеты — разъяснить итальянским солдатам, что их обрекли на гибель во имя неправого дела. Франческо Мизиано восторженно принял предложение В. И. Ленина. Однако осуществить эту задачу можно было, лишь перейдя в русское гражданство, ибо по Брестскому договору иностранцы, оказавшиеся в России, не могли вести пропаганду в интервенционистских войсках. В кабинете Яна Антоновича Берзина Франческо Мизиано написал официальное заявление в Президиум ВЦИК о приеме его в русское гражданство. Это решение отвечало всей линии его жизни. В конце октября 1918 года Берзину сообщили из Москвы, что Президиум ВЦИК принял Мизиано в русское гражданство. Вызванный в Берн к Яну Антоновичу, Мизиано, обрадованный известием, тут же начал горячо обсуждать, как будут выглядеть первые номера газеты.
НА БАРРИКАДАХ БЕРЛИНА
Редакция «Л’Аввенире дель лавораторе» в номере от 13 ноября 1918 года сообщила своим читателям, что предыдущий номер газеты выпущен без главного редактора, который «продолжает свою деятельность в другом месте». Ходом событий этим «другим местом» оказался восставший Берлин. ...Переезд через немецкую границу прошел благополучно. В Штутгарте Мизиано задержался на два дня, выступил на митингах и через несколько дней уже был в Берлине. Как и было договорено с Яном Антоновичем Берзиным, Франческо Мизиано сразу же явился к советскому полпреду Адольфу Абрамовичу Иоффе. Тот уже знал, что Мизиано получил советское гражданство, спросил, нужна ли помощь, поручил заведующему хозяйством полпредства экипировать его — в Москве уже легла зима, а Франческо приехал в Берлин в легком пальтишке. Завхоз отдал ему свой последний резерв — теплое пальто и высокую смушковую шапку, которую выпросил в штабе Красной Армии перед отъездом из Москвы. Сборы в дорогу у Мизиано были недолгие. Он уже хотел, не мешкая, выехать в Советскую Россию. Но все обернулось иначе. Германское правительство, напуганное размахом революционных событий, выслало сотрудников советского полпредства из Германии. Когда Мизиано пришел на Унтер-ден-Линден, чтобы попрощаться с полпредом, здание уже было оцеплено полицией, а из ворот под эскортом жандармов выезжали последние грузовики с имуществом. Решение было принято мгновенно: Мизиано отправляется на улицу Вильгельмштрассе, 114, в редакцию газеты «Роте фане», один из главных штабов спартаковцев — немецких коммунистов. Мизиано поднялся по лестнице, вошел в комнату и увидел человека, которого никогда не видел, но сразу понял, кто он. На него внимательно смотрели чуть близорукие глаза, прикрытые очками, над которыми возвышался красивый лоб. Франческо Мизиано представился. Пожимая ему руку, тот также назвал себя: — Карл Либкнехт. Они продолжали оживленно разговаривать, мешая немецкие слова с французскими, когда в комнату вошла женщина среднего роста, с аккуратно зачесанными назад волосами, обрамлявшими ее энергичное лицо, на котором выделялись блестящие черные глаза. Она на мгновение остановилась у двери, не желая мешать разговору. Но Карл, повернувшись, улыбнулся: — Познакомьтесь, друзья. Женщина протянула руку, мягким, грудным голосом назвала себя: — Роза... Роза Люксембург. Франческо Мизиано предполагал, что именно здесь, на Вильгельмштрассе, в центре Берлина, он должен увидеть Карла Либкнехта и Розу Люксембург, но эта встреча все же застала его врасплох. Он подыскивал немецкие слова из своего скудного словарного запаса, чтобы выразить горячие чувства этим двум людям, которые провели годы в тюрьме, не страшась, возвысили свой голос против войны, насилия, горя и страданий. Конечно, он прекрасно знал о них, читал их речи, статьи. Но их увидел впервые. Роза перешла на французский, сказала, что уже слышала о Мизиано: друзья рассказали о его выступлении в Штутгарте, где он говорил о значении Октябрьской революции. Будет очень хорошо, если Франческо выступит в Берлине. Вечером того же дня Роза Люксембург увезла Мизиано на митинг. В огромном трамвайном парке собрались тысячи людей. Франческо взобрался на ящик-трибуну. Ему подали рупор. Рядом стояла Роза, переводила фразу за фразой. Она не сбивалась с темпа, даже когда Франческо, потеряв французское слово, переходил на итальянский. Он говорил об Италии, о нуждах и чаяниях людей своей страны, о проклятой войне, которая унесла миллионы жизней, и о тех, кто нажил на ней миллионы лир, марок, долларов, фунтов и франков... После митинга Роза Люксембург попросила Франческо Мизиано написать статью для «Роте фане». Он выполнил ее просьбу. Роза перевела статью с французского на немецкий, и 4 января 1919 года она была опубликована. На моем столе лежит этот номер газеты, прошедший через подполье, кровавые сражения в Берлине, переживший рейх Гитлера, войну, бомбардировки, разруху. Под заголовком «Роте фане» во всю полосу строка: «Центральный орган Коммунистической партии Германии (союз Спартака)», а внизу в центре: «Редакционное руководство: Карл Либкнехт и Роза Люксембург». На первой странице, занимая две трети, статья Франческо Мизиано: «Перспективы революции в Италии». Перед тем как сдать ее в набор, Роза Люксембург выделила шрифтом несколько главных мыслей автора. Одна из них была сформулирована так: «Буржуазия, мечтающая наживаться на войне, сама себе роет яму, в которой она неизбежно окажется».5 января 1919 года положение в Берлине резко обострилось. Это не было неожиданностью. После свержения монархии власть перешла к коалиционному правительству, которое возглавили социал-демократы Шейдеман и Носке, давно переродившиеся в оголтелых шовинистов. В это правительство вошли социал-демократы большинства и члены центристской Независимой социал-демократической партии. В начале 1919 года в Германии развернулась борьба за переход буржуазно-демократической революции в социалистическую. Лидеры социал-демократов большинства пошли на союз с реакционной военщиной, чтобы предотвратить социалистическую революцию. К посту президента они привели Эберта, практически возглавившего контрреволюцию. Шейдеман приказал сместить «красного» полицей-президента Берлина Эйхгорна. Это был сигнал к началу жесточайшего подавления революции, уничтожения Компартии. Берлин покрылся баррикадами, начались уличные бои, особенно сильные в районе «газетного квартала», где размещались здания буржуазных газет. Шестого января революционные отряды взяли штурмом здание социал-демократической газеты «Форвертс» на Линденштрассе, а затем в руках восставших оказался весь «газетный квартал». Отряд, овладевший зданием «Форвертса», состоял из немцев-спартаковцев, группы итальянцев во главе с Мизиано, нескольких швейцарских социалистов, молодой венгерки и одного русского революционера: после Октября он не смог выехать в Россию и теперь решил, что дело русской революции будет защищать в Берлине. Русского приставили к единственному пулемету, который был у спартаковцев. Он его поднял, как игрушку, почистил, смазал все части, поставил рядом тощую коробку с лентами и сказал: «Ладно, ребята, повоюем!» Был он кряжист, с большими сильными руками, любил старинные песни. Слово «ладно» никто не понял, но улыбка русского всех покорила, и его ни о чем не расспрашивали. Когда человек идет на смерть за идею, паспорта у него не требуют... Чтобы помочь защитникам здания газеты «Форвертс», Центральный Комитет КПГ направил на Линденштрассе пополнение во главе с членом ЦК Евгением Левине. Вражеское командование также подтянуло силы и начало ожесточенный штурм. Бои развернулись на крышах многоэтажных зданий. В этом кольце, в самой гуще сражения, был Франческо Мизиано. Через пятнадцать лет после описываемых событий, 26 июня 1934 года, в здании «Межрабпомфильма» в Лиховом переулке в Москве чествовали старого бойца революционной гвардии. С воспоминанием выступил участник берлинских боев, сын Карла Либкнехта Вильгельм Либкнехт. Говорил он по-немецки. Речь его записана, дошла до наших дней. «С Франческо Мизиано, — рассказывал Вильгельм Либкнехт, — я встретился впервые сразу же после того, как группа Левине пробилась в осажденный дом «Форвертса». Это произошло в одной из редакционных комнат, где готовили новую газету «Красный Форвертс», которая должна была выпускаться вместо социал-демократического органа... Наше положение было чрезвычайно трудным. Контрреволюционное командование стянуло в Берлин свои силы. Кольцо вокруг здания «Форвертса» все сжималось. Через несколько дней наша связь с внешним миром практически была полностью прервана... Мизиано и его отряду было поручено перейти на верхний этаж, а затем на крышу здания, взять под обстрел Якобштрассе, ведущую непосредственно к нашей обороне, не допустить туда врага. В первую же ночь я пробрался на верхний этаж. Там был настоящий бивак. Мизиано и его группа имели пулемет и старые ружья. Итальянцы устроились довольно «уютно». Как только выпадала свободная минута между боями, они шутили, пели, дискутировали. Никто не терял присутствия духа... Тем временем бои принимали все более ожесточенный характер. Стало ясно, насколько невыгодно наше положение: мы были в ловушке. Пробиваться через прилегающие улицы было бессмысленно — их заняли вражеские войска. Нас ждало полное уничтожение. Высокие дома мешали нам обстреливать противника, в то же время вражеские минометы пробили бреши в верхних этажах «Форвертса». Группа Мизиано перешла в нижние этажи. Когда Франческо спустился к нам, то мы обратили внимание на то, что его русская меховая шапка прошита пулями в четырех местах. К счастью, шапка не была глубоко надвинута, снайперские пули прошли чуть выше головы...»
К 11 января положение осажденных стало катастрофическим. Надежды на присылку подкрепления растаяли. На прилегающих улицах буйствовали берлинские «версальцы». Как и палачи Парижской коммуны в 1871 году, они жаждали крови. Развязка приближалась. После полудня было решено отправить к врагу парламентеров. Мизиано вызвался начать переговоры, но его предложение отвергли: итальянцы не знают немецкого языка. Из осажденного здания на улицу спустились парламентеры-немцы. ...Тишину взрывают озлобленные вопли, а затем раздаются залпы: один, другой, третий, четвертый, пятый... Парламентеров расстреляли. Пушка прямой наводкой бьет по массивным дверям, и в пролом устремляются контрреволюционеры. Последние ожесточенные схватки на этажах, и под дулами винтовок на улицу выводят на расстрел защитников бастиона па Линденштрассе: немцев, пятерых итальянцев, двух швейцарцев, одну венгерку и одного русского. Их ведут сквозь строй обывателей, алчущих крови. Как тогда в Версале, в них тычут кулаками, зонтиками. И вдруг раздается вопль: «Смотрите, господа, это русский». Десятки злобных глаз устремлены на... Франческо: на нем русская шапка. Офицер командует: «Стоп!» Мизиано выводят из группы пленных и ведут к стенке. Толпа злорадствует: сейчас ненавистного русского казнят. Но в это мгновение немка из отряда спартаковцев закричала: «Он не русский. Он итальянец!» Офицер в замешательстве. И тут прискакавший из штаба вестовой передает приказ: всех пленных немедленно доставить в тюрьму Моабит. Приказ есть приказ. Солдаты, взявшие винтовки на изготовку, опускают их к ноге. И последних защитников революционного бастиона на Линденштрассе под злобное улюлюканье толпы ведут в Моабит.
В ТЮРЬМЕ
Большой куб с зарешеченными окошками на окраине Берлина, квадратный двор, скрытый от человеческих глаз. Это Моабит, одна из главных тюрем бывшего кайзеровского рейха. Туда привели Мизиано и его друзей, втолкнули в одиночные камеры. Каждые три часа выводили на допрос. Тюремщики догадались, что Мизиано — командир боевой группы, но никак не могли понять, что заставило его приехать в Германию, покинуть жену, детей, родной дом. При обыске искали деньги: были уверены, что он хорошо оплаченный наемник-ландскнехт. А в чемодане обнаружили две пары белья, фотографии жены и детей, номер газеты «Роте фане» от 4 января 1919 года с его статьей. Это было хорошей уликой. Искали деньги, награбленные ценности, а нашли простреленную шапку; вспороли подкладку, но и там не обнаружили ничего, кроме тонкого слоя ваты. Мизиано передали опытнейшему следователю. Тот применил испытанный способ запугивания: ночью Мизиано повели на расстрел. Над узким квадратом тюремного двора высветилась пелена хмурого январского неба. Франческо подвели к стенке, повернули лицом к серому шершавому бетону. Он заранее написал прощальное письмо жене и дочерям... 16 января утром в камеру ворвался отдаленный гул. Он становился все яростнее. В стену кто-то настойчиво, методично стучал. Франческо прислушался. Дробь повторилась, смысл ее прояснялся: кого-то убили. Кого? Он отстучал вопрос — дважды, трижды. Сквозь тюремные стены донеслось: «К» и «Р». Гул нарастал. По коридорам бегали тюремщики, где-то хлопали железные двери. Все отчетливее простукивалось: «К» и «Р», «Р» и «К». Франческо подбежал к двери, яростно забарабанил кулаками. Приоткрылся «глазок». На лице тюремщика была растерянность. Он сунул под дверь клочок бумаги, прошептал: «Убили!.. Их убили». — «Кого? Кого?» — «Либкнехта и Люксембург...» Моабит гудел, кричал, плакал. Из конца в конец, нарастая, катились волны бессильного гнева... Мизиано перевели в тюрьму Тегель. Записка, которую ему передал тюремщик, состояла из нескольких коротких фраз, написанных по-французски: «Друзья на страже, семья здорова. Жди письма. Р. Б.». В конце января под железную дверь подбросили конверт с письмом из Италии от жены. Позже Франческо узнал, что таинственные инициалы принадлежали Розе Блок, которой Центральный Комитет Коммунистической партии Германии поручил быть связной с узниками Тегеля. На март 1919 года был назначен военный суд. Сообщение об аресте Мизиано проникло в итальянскую печать. Первыми возвысили голос протеста неаполитанцы. За ними последовали жители Турина и Милана. Кампания в защиту Мизиано перекинулась в Швейцарию, где энергично действовал Фриц Платтен. Газета «Л’Аввенире дель лавораторе» в каждом номере печатала протесты. Франческо узнал об этом, получив письмо, тайно отправленное из Берна. В германской столице его передали Розе Блок, а она переправила в тюрьму. А вскоре в Тегеле Франческо прочитал письмо Платтена и переслал в Берн через Розу Блок ответное послание. Он пишет не о себе, спрашивает, есть ли вести из Москвы, просит усилить кампанию против интервенции в Советской России. Судебный процесс предвещал недоброе: прокурор потребовал многолетнего заключения. Мизиано отвечал, что он боролся за демократическую республику. Если это преступление, то пусть судьи выносят свой приговор. В бой вступил и человек, не побоявшийся пойти против кайзеровских прокуроров: Курт Розенфельд. Через пятнадцать лет он не дрогнет в борьбе против нацистских судей: на Лейпцигском процессе будет защищать Георгия Димитрова. Суд уже готов вынести самый тяжкий приговор. Но снова нарастают протесты, теперь уже не только за границей, но и в самой Германии. С кайзеровской империей покончила Ноябрьская революция. Национальное собрание, заседавшее в городе Веймаре, приняло конституцию, провозгласившую буржуазные свободы. И все же Мизиано приговаривают к десяти годам тюремного заключения. Тоскливо тянулись тюремные дни. Иногда яркими лучами в камеру врывались письма жены, товарищей по партии и Фрица Платтена, записки, которые посылала Роза Блок. Франческо отправлял через нее письма на волю. С одним письмом к итальянскому социалисту Эдмондо Пелузо вышла крупная неприятность. Роза Блок передала это письмо связному. «Цепочка» благополучно доставила его в Италию. Связной на итальянской стороне уже направлялся к Пелузо, но на улице потерял сознание из-за тяжкого приступа болезни печени. За ним следили фашисты. Они обыскали его, изъяли письмо. Для соглядатаев Муссолини оно было кладом. Вот что писал Мизиано: «Для меня обязанность революционера всегда и везде бороться за победу трудящихся. Я для того и вступил в русское гражданство, чтобы сражаться за идеи Октябрьской революции». ...Мария Конти была женщиной решительной и смелой. Настоящая неаполитанка. Родилась она в рабочей семье, рано осталась без матери, сама пробила себе дорогу в жизни — стала школьной учительницей. Мятежник, восставший против несправедливости и безумия войны, Франческо Мизиано встретил Марию Конти в Неаполе и восхитился ее красотой — не зря ее называли Мадонной. Своим женским чутьем она поняла, что легкой жизнь с ним не будет, да и не ждала этого. И еще одно ей сразу стало ясно: с ним надо быть вровень. Интуиция не обманула Марию Конти. Она познала, что значит быть женой революционера. Когда в 1916 году Франческо вынужден был эмигрировать в Швейцарию, она, мать двух крошечных дочерей, приняла на свои хрупкие женские плечи тяжкий груз заботы о семье, одиночество и преследования. И еще больше прозрела как человек: в 1916 году Мария Конти вступила в Социалистическую партию Италии. В октябре 1919 года произошло чрезвычайное событие: когда в Италии начались выборы, два города — Неаполь и Турин — выдвинули в парламент пленника тюрьмы Тегель Франческо Мизиано. Кампанию в Неаполе за избрание Мизиано возглавила социалистическая организация. Мария Конти ходила из квартала в квартал, из дома в дом. Люди слушали ее и не могли оторвать глаз от ее прекрасного лица. Итальянские женщины в ту пору не имели права голоса на выборах в парламент, но они знали, как им поступить, и яростно кричали своим мужьям: «Если ты не последуешь призыву Марии — не возвращайся домой!» На митингах и рабочих собраниях высоко над головами реяли знамена. В один из вечеров на площади у дома, где жила Мария Конти, собралась огромная толпа. Мария вышла на балкон, рядом с ней встали двое мужчин, подняли ее девочек, Каролину и Орнеллу, завернутых в красные знамена. Тысячная толпа замерла. Мария произнесла пламенную речь. ...Франческо избрали в парламент. Сообщение об этом облетело все газеты. Под напором массового движения Италия начала переговоры с германскими властями об освобождении Мизиано. Поначалу они отвечали отказом, а затем вынуждены были уступить. Тут снова вступает в действие Курт Розенфельд. Он подписывает поручительство: Франческо Мизиано по выходе из тюрьмы немедленно покинет Германию. 25 ноября 1919 года Мизиано вышел из Тегеля. В тот же день он под конвоем явился в швейцарскую миссию в Берлине, сообщил, что избран депутатом итальянского парламента, а поскольку он приехал в Германию со швейцарским паспортом, просит дать ему визу. Консул не сразу решает этот вопрос. Конвоиры отвели Франческо в тюремное помещение, где он находился несколько дней. Наконец, получен паспорт, а с ним и предписание о немедленной высылке из пределов Пруссии. Конвой эскортирует Мизиано до границы с Австрией. Едва он успевает покинуть Германию, как там появились опоздавшие агенты берлинской охранки — у них приказ о новом аресте Мизиано. Франческо не задерживается в Вене. Поезд мчит его в Италию. В Вене ему дали важное поручение — передать письмо Владимира Ильича Ленина лидеру итальянских социалистов Джачинто Серрати. В этом письме В. И. Ленин писал: «ТОВАРИЩУ СЕРРАТИ И ИТАЛЬЯНСКИМ КОММУНИСТАМ ВООБЩЕ 28. X. 1919. Дорогой друг! Известия, получаемые нами из Италии, крайне скудны. Только из иностранных газет (не коммунистических) мы узнали о съезде Вашей партии в Болонье и о блестящей победе коммунизма. От всей души приветствую Вас и всех итальянских коммунистов и желаю Вам наилучших успехов. Пример итальянской партии будет иметь огромное значение для всего мира... Нет сомнения, открытые и прикрытые оппортунисты, коих так много в итальянской партии среди парламентариев, постараются обойти решения болоньского съезда, свести их на нет. Борьба с этими течениями далеко не кончена. Но победа в Болонье облегчит дальнейшие победы... С коммунистическим приветом Н. Ленин».В ночь с 7 на 8 декабря 1919 года Мизиано возвратился в Италию. Позади остались три года скитаний, сражений и тюрем. Жена и дети уже знают, что вот- вот он должен прийти. Они не спят всю ночь. На столике у Лины портрет отца. Франческо тихо вошел в дом: дверь была открыта. Мария стояла у стены, причесывая Орнеллу. В зеркале она увидела его лицо, искрящиеся от счастья глаза. Бросилась к нему. Лина взяла руку отца, не выпускала. Орнелла забилась в угол, не понимая, что происходит и кто этот человек, так неожиданно ворвавшийся в ее жизнь. Франческо виновато улыбнулся: «Подарков я вам не привез». Вынул из чемодана простреленную насквозь русскую островерхую шапку. Жена всплеснула руками: «Что это такое?» «Это революция», — ответил он. Вечером следующего дня на берегу Неаполитанского залива был митинг. Луна освещала тысячеголовую толпу. С моря доносилась песня рыбаков. Звенела гитара. Франческо Мизиано, гражданин Италии, гражданин Советской России, еще не видевший своей новой родины, начал первую речь после возвращения: — Там, далеко на севере, зажглись огни нового мира. Неаполитанцы, друзья! Не дадим потухнуть этим огням. Они согреют всех людей на земле...
И СНОВА БОИ
Во многих итальянских газетах появилась фотография. На ней изображен связанный по рукам человек, на его груди висит табличка с надписью, что он отказался воевать за родину. Он — дезертир. Под фотографией имя Франческо Мизиано. Его ведет на расправу озверевшая толпа чернорубашечников. Место действия — Рим, 13 июня 1921 года.К тому времени, когда Мизиано возвратился в Италию, политическая обстановка в стране была сложной. Фашисты активизировались. В Социалистической партии шло размежевание, и к 1920 году в ней образовалось несколько течений. Левую, наиболее зрелую группу возглавили А. Грамши, П. Тольятти, У. Террачини. Одним из видных представителей этих передовых сил был Франческо Мизиано, боровшийся против реформистов в рабочем движении. Напомним, что на своем II конгрессе в июле — августе 1920 года Коминтерн решительно потребовал очищения Социалистической партии от реформизма. Позиция Мизиано в защиту подлинно революционной партии не была случайной. Еще в начале 1920 года он выступил в газете «Аванти!» со статьей, само название которой раскрывало ее сущность: «Раскол и очищение» — раскол с реформизмом, очищение от мелкобуржуазных тенденций. О статье Ф. Мизиано стало известно В. И. Ленину. Владимир Ильич обратился к русскому революционеру, деятелю Коминтерна А. М. Геллеру, проживающему в Италии, с просьбой перевести архиважнейшие материалы из «Аванти!», в том числе и статью Мизиано. В 1921 году на съезде в Ливорно была создана Коммунистическая партия Италии. Это явилось кульминационным пунктом острой классовой борьбы в стране. Антонио Грамши выступил с докладом «За обновление Социалистической партии». Характеризуя накал борьбы, он предвещал: «За настоящим этапом... последует либо завоевание революционным путем политической власти... либо бешеный разгул реакции имущих классов и правящей касты». Созданию Коммунистической партии Италии предшествовала конференция левых групп в Имоле. Открыл ее Мизиано. На конференции была создана объединенная коммунистическая фракция и выработан манифест к предстоящему съезду в Ливорно. На учредительном съезде ИКП Мизиано играл активную роль, он выступил в защиту решений Коминтерна и был избран в Центральный Комитет партии. Естественно, что после образования Коммунистической партии Мизиано обрел еще более широкое поле деятельности. Имя его было окружено ореолом борца. Он не пошел на несправедливую империалистическую войну. Он был узником Моабита и Тегеля, а теперь в Неаполе и Турине избран в парламент. Его выступления привлекали широкое внимание народа, хотя буржуазная пресса всячески пыталась дискредитировать его. Писатель Марио Ла Кава вспоминал: «Я рос под влиянием революционной деятельности Мизиано. Дома, в нашей буржуазной семье, его называли «дезертиром», а я постепенно понял, что Мизиано храбрый человек, не боявшийся отдать свою жизнь за счастье других». Популярность Мизиано пугает Муссолини и его единомышленников...
ВЫСТРЕЛ В РИМЕ
Мизиано не оставляли мысли о России, ее народе, который вел борьбу за свободу и независимость. Иногда вечерами, вспоминая встречи с Берзиным, битву в Берлине, он думал о братстве людей, которые там, далеко, созидают новый мир. Он здесь защищает их идеалы. Это идеалы и его партии. Мизиано говорит об этом везде и всюду, вызывая еще большую ненависть своих врагов. Фашисты не спускают с него глаз. Они в ярости против этого неистового коммуниста, агитатора за Советскую Россию. Они уже готовят против него «бомбу». Скоро она взорвется. А пока — пули в ход! Незадолго до описываемых событий Франческо вывез жену и детей в местечко Торре Аннунциата близ Неаполя. Там жила старшая сестра Марии, Ида. В то утро вся семья собралась за завтраком. Ида, как обычно, раскрыла газету и от неожиданности закричала. Через всю первую полосу чернело сообщение: «Покушение на Франческо Мизиано. Он убит. Убийцы скрылись!» Мария не дослушала последние слова, потеряла сознание. На другое утро пришла свежая газета. На том же месте, где вчера публиковалось известие о гибели Франческо, была небольшая заметка: Франческо Мизиано не убит; в него стреляли, но он остался жив. Мария не уехала в Рим, ждала вестей. Вечером под диктовку соседки, сердобольной старухи, Лина написала отцу короткое письмо: «Ты нас не любишь. Ты думаешь только о товарищах, которые тебя не защитили. Прошу пожалеть нас, подумать о маме и о нас». Через несколько дней Франческо сообщил Марии, что он выехал из Рима в Неаполь и просит ее приехать туда с детьми. После радостной встречи Мизиано обнял Лину, увел ее в комнату и, закрыв за собой дверь, посадил на стул, сел рядом и сказал: — Ты написала мне нехорошее письмо, Лина. Ты говоришь, что я не люблю вас. Нет, я очень люблю вас и люблю всех детей. Ты написала, что я думаю только о товарищах, а они меня не защитили. Это неправда. Когда в меня стреляли фашисты, один из моих друзей заслонил меня своим телом. Пуля, которая предназначалась мне, тяжело ранила этого товарища, и он сейчас в больнице... Теперь ты понимаешь, что ты неправа и почему твое письмо меня огорчило? Эти слова хорошо запомнила дочь Франческо Мизиано. Они на всю жизнь определили ее мышление и поступки.ПРИКАЗ ГАБРИЕЛЕ Д'АННУНЦИО
Писатель Габриеле Д’Аннунцио появился на литературном небосклоне Италии в конце прошлого века. Его первые произведения, написанные в декадентском духе, принесли ему популярность; романы «Наслаждение», «Девы скал», «Триумф смерти» показали жизнь умирающего дворянства. Потом из-под пера Д’Аннунцио вышли пьесы, и одна из них, «Франческа да Римини», неоднократно шла на подмостках русских театров. Еще до первой мировой войны главным мотивом творчества Д’Аннунцио становится национализм. В пьесе «Корабль», написанной в 1912 году, он выступил с призывом воссоздать Римскую империю. Вскоре Д’Аннунцио приходит к откровенному шовинизму, заявив: «Горжусь тем, что я латинянин, и считаю варваром любого человека, в жилах которого не течет латинская кровь». К концу второго десятилетия литературная слава Д’Аннунцио затухает. Его болезненное самолюбие ищет выхода. На первых порах он выступает как соперник Муссолини, создает отряды так называемых ардити (смельчаков), в которые вошли преимущественно те, кто после войны оказался без всяких перспектив на своей родине, переживавшей острый кризис. Желание славы не дает вожаку ардити покоя, и в 1919 году он организует поход на Фиуме — нынешний югославский город Риеку. С воплями «Фиуме — город итальянцев, а не проклятых славян!» — отряды ардити под водительством Д’Аннунцио врываются в Фиуме и захватывают его. На этот «подвиг» острой эпиграммой сразу же откликнулся Владимир Маяковский:Ардити держали город в своих руках. Итальянские революционеры не могли безразлично отнестись к событию, которое потворствовало разжиганию национализма и шовинизма. В это время в Фиуме выехал Франческо Мизиано, чтобы изложить там платформу своей партии по актуальным вопросам политической жизни. Слух о приезде Мизиано мгновенно пронесся по городу и, конечно же, стал известен Габриелю Д’Аннунцио. Вождь ардити пришел в неописуемый гнев и тут же издал приказ в стиле протекторов Древнего Рима. Приказ был расклеен по городу. В архиве сохранился этот документ. Вот его полный текст (в переводе с итальянского): «КОМАНДОВАНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИИ в Фиуме, Италия. Мои ардити, презренный дезертир Мизиано, подлейший хулитель Фиуме и великого Адриатического дела, пытается проникнуть в город, чтобы осуществить свои замыслыподстрекательства и измены. Мы не допустим, чтобы город и наша жизнь были отравлены подобными гнусностями. Я отдаю в ваши руки дезертира и предателя Мизиано, депутата Национального парламента. Изловите его и немедленно покарайте: примените холодное оружие. Это приказ. Вы понимаете его значение, и я смело беру на себя ответственность и выпавшую мне честь. Комендант Габриеле Д’Аннунцио».
Разумеется, Мизиано понимал, что его приезд не обрадует вожака ардити. Но не знал о приказе убить его. Был жаркий день. Мизиано отправился к морю немного отдохнуть. Кто-то донес вооруженным ардити, что видели Мизиано в районе пляжа. Отряд ардити, посаженный на грузовик, помчался к берегу Адриатического моря. Теперь все решали минуты... Оставим пока Мизиано и вернемся к девятнадцатилетней венгерке Маргарите Блу, которая в конце 1918 года вместе с Мизиано и его товарищами защищала здание газеты «Форвертс». Ее привели туда революционные события, охватившие под влиянием Октября всю Западную Европу, в том числе и старую монархическую Австро-Венгрию. Для контакта с революционными движениями в других странах, особенно в Германии, венгерские революционеры послали Маргариту в Берлин в качестве связной, и она, прибыв туда в разгар боев, пошла на баррикады. После выхода из германской тюрьмы Маргарита Блу выехала в Италию. Когда был решен вопрос о поездке Мизиано в Фиуме, Маргарите предложили отправиться туда и подготовить вместе с друзьями митинг, на котором он будет выступать. Первое, что увидела Маргарита в Фиуме, — это мечущихся ардити и расклеенные по городу приказы Д’Аннунцио. Маргарита помчалась к друзьям. Те уже слышали, что Мизиано, возможно, на пляже у хижины рыбака. Но как туда быстро добраться, чтобы предупредить его о грозящей опасности?! Мизиано действительно находился там. Он любил места, где тихо плещут волны, где можно не спеша выслушать жалобы на тяжелую жизнь. В этих беседах он не только узнавал правду жизни, но и черпал силу и уверенность для борьбы за права людей. Эту его близость к народу, умение говорить с ним подмечали все, кто знал Мизиано. Джулио Тревизани, один из старейших деятелей Итальянской компартии, писал: «Он был другом всех, кого знал или не знал лично... Люди из народа, особенно бедные женщины, подходили к нему и без всяких предисловий рассказывали о своих горестях, о трудностях, о несправедливости. И для всех у него находилось доброе слово, совет. «Ты подлинный сын народа», — сказал я ему однажды. Он ответил: «Это самое высокое звание, никакое другое родство не могло бы мне его дать». Я всегда это вспоминаю, ибо в этих словах весь Мизиано». В то жаркое августовское утро 1920 года Франческо задержался на берегу моря, обдумывая все, что скажет людям. Он уже собрался в город, но солнце нещадно жгло, и он решил искупаться. Рассекая сильными движениями рук прохладные струи, доплыл до черневшей невдалеке скалы и, не останавливаясь, поплыл к берегу. И тут он увидел, как вдали из-за поворота вынырнул автомобиль и на огромной скорости стал приближаться к хижине рыбака... Фиуме лежит у залива Кварнер, образуемого Адриатическим морем и широким сужающимся рукавом, омывающим полуостров Истрия с юга. Город Триест находится по другую сторону Истрии, на берегу Венецианского залива. Кратчайший путь из Фиуме в Триест ведет через Истрию, прорезая ее шестидесятикилометровой шоссейной лентой, по обе стороны которой мелькают небольшие городки и деревни. Грузовик с вооруженными ардити в поисках Мизиано направился по главной магистрали, но убийцы не знали, что их опередили, что к побережью мчится другой автомобиль. Маргарите стало ясно, что ардити не остановятся ни перед чем и выполнят злодейский приказ Д’Аннунцио и что спасти Франческо можно, если удастся их опередить. Среди друзей Мизиано в Триесте был Пьетро, шофер владельца фабрики. Кабриолет «линкольн» обычно находился недалеко от хозяйского особняка, в гараже. Пьетро понял Маргариту с полуслова. Вывел машину из гаража и, развив бешеную скорость, помчался на побережье. Взволнованное лицо Маргариты все объяснило Франческо. Не успев переодеться, он как был, в мокром купальном костюме, сел в автомобиль. Пьетро дал газ и помчался в Триест. Когда грузовик с фашистами подъехал к хижине, там уже никого не было. Лишь облачко пыли оседало у перевала. Старик рыбак, наблюдавший эту картину, улыбнулся, продолжая чинить свои снасти. Ардити помчались по дороге к Триесту, но уже было поздно. Депутатский мандат Мизиано заставил пограничную стражу пропустить его, ардити же были задержаны. Франческо не сразу выехал из Триеста. Гонка в мокром купальном костюме дала о себе знать: он заболел воспалением легких. Мария не догадывалась о том, что произошло в Фиуме: она ждала третьего ребенка, и товарищи Франческо по партии щадили ее. Но в Риме стало известно о болезни Мизиано, о ее обострении. Мария выехала в Триест. То, что она увидела там, ввергло ее в ужас. Мизиано лечил врач-фашист. Он сделал инъекцию грязной иглой, и начиналось заражение крови, возникла угроза ампутации ноги. По тревоге Марии из Рима прибыли друзья. Врач был заменен, а вокруг госпиталя установлена охрана, так как ардити пытались прорваться в Триест. Пришлось и Марии лечь в больницу: приближались роды. Вскоре она родила мальчика. Пережитое ею, к сожалению, сказалось на его здоровье. Назвали мальчика Вальтером[11]. В октябре Франческо и Мария вернулись в Неаполь.
СОБЫТИЯ В БОЛОНЬЕ
В конце декабря 1920 года Мизиано уже в Болонье. Там предстоял большой митинг фашистской партии, на котором должен был выступить один из ближайших сподвижников Муссолини. По поручению ЦК Мизиано готовился к другому митингу... Он приехал сюда, в Болонью, в связи с последними арестами товарищей в этом городе. Около двух часов дня он находился в кафе на улице Сан-Стефано, когда к нему подошли два фашиста и спросили, как его зовут. Едва депутат Мизиано назвал себя, эти двое набросились на него и начали избивать. Мизиано сделал вид, что вытаскивает пистолет, но нападавшие сбили его с ног, после чего к ним подбежали еще несколько фашистов. Мизиано передал подоспевшему полицейскому свое оружие, которым не воспользовался, и, предъявив депутатское удостоверение, предложил задержать нападавших. Но, разумеется, блюститель порядка сделал иначе: он решил арестовать самого Мизиано. Сперва его препроводили в полицейскую казарму, а затем в префектуру. Только после вмешательства депутата Репосси, который посетил префекта, чтобы объяснить случившееся, Мизиано был отпущен с приличествующими извинениями и многочисленными синяками... А потом были другие покушения. Об одном из них, случившемся в 1921 году, пишет товарищ Луиджи Лонго в своей книге воспоминаний «Между реакцией и революцией», вышедшей в 1972 году в Италии, а в 1974 году выпущенной Политиздатом на русском языке. «Я состоял в охране, которая должна была сопровождать товарища Мизиано в поездке... Партия организовала группы товарищей, которым поручили охранять его. В этот день я был в составе одной из таких групп. Товарищ Мизиано вышел из туринской Палаты труда и должен был направиться в близлежащую гостиницу на улице Чернайя, где он проживал. Едва собравшиеся поблизости фашистские бандиты увидели его, как тотчас напали на группу людей, сопровождавших Мизиано. Последовало ожесточенное столкновение между нападавшими и охраной товарища-депутата. Последнему удалось невредимым добраться до гостиницы. Но схватка продолжалась на улице, били друг друга палками и стреляли из пистолетов... Я отделался несколькими ударами палкой». «Бомба», которую готовили Муссолини и его чернорубашечники, взорвалась. После неудачного покушения в Риме и попытки покончить с Мизиано в Фиуме фашисты вытащили из своего «запасника» письмо, отправленное из тюрьмы Тегель социалисту Пелузо в Рим. Мизиано объяснял в нем, почему он решил принять русское гражданство. Но, как помнит читатель, до Пелузо письмо не дошло: его перехватили фашисты. В печати началась кампания «разоблачения» Мизиано как «инородца», приверженца Советской России. 18 февраля 1921 года реакционная газета «Иль Маттино», выходившая в Неаполе, выступила против него со злобной статьей. Шовинизм всегда остается шовинизмом; все рассчитано было так, чтобы воздействовать на самые низменные инстинкты обывателя. Мизиано, дескать, теперь уже не итальянец, а русский, фамилия его не Мизиано, а Мизианов (ее переделали на русский лад). А статейку в «Иль Маттино» озаглавили хлестко: «Мизианов — итало-русский депутат». Теперь можно на него спустить всю деклассированную сволочь, готовую за кварту вина продать не то что национального героя, но и родную мать. Короче говоря: ату его! Кампания клеветы росла, распаляя звериные инстинкты. Ночью в начале марта дом Мизиано в Неаполе был окружен беснующейся толпой фашистов, которые пытались ворваться в квартиру и убить Франческо. К счастью, его тогда не было дома — по заданию партии он находился за пределами Неаполя. Через несколько дней все повторилось. Теперь уже не только Франческо, но и всей его семье грозила опасность. Директриса школы имени Мафальды, дочери короля Виктора-Эммануила, где учились Каролина и Орнелла, не решилась отпустить их домой, оставив ночевать у себя. В благодарность за это Мария подарила директрисе семейную реликвию — вазу, доставшуюся ей в наследство от бабушки. А через пятьдесят четыре года после описываемых событий, в 1975 году, из Неаполя в Москву приехала пожилая супружеская пара: она — филолог, ее муж — адвокат. Осторожно поддерживая друг друга, вооружившись справкой из адресного бюро, супружеская пара медленно шла по улице Горького и, наконец, остановилась у большого дома близ площади Маяковского. Муж сказал: — По-моему, мы пришли. Они постояли в прихожей, не зная, с чего начать. Потом он обратился к хозяйке квартиры: — Вы меня, конечно, не помните. А я вас помню... Неаполь... школа имени Мафальды... мы учились в одном классе. Моя мама была директрисой... Ваза, подарок вашей мамы, стоит в нашей квартире в Неаполе. Да, да... Это я, а это моя жена, знакомьтесь... После съезда в Ливорно авторитет Коммунистической партии стал расти. Фашисты нагнетали атмосферу политического психоза, готовились к расправе с лидерами ИКП, не отказывались от намерений убить Мизиано, а если это не удастся, то любым другим путем подорвать его популярность в народе. Май 1921 года привел их в неистовство: подошли новые парламентские выборы, народ Турина снова выдвинул Мизиано в парламент, и он снова стал депутатом. Сообщники Муссолини и раньше не гнушались никакими методами. Теперь они перешли к бандитским вылазкам в парламенте. ...Ждали заседания палаты. Толпа фашистов, вооруженная пистолетами и железными палками, подкараулила Мизиано, чтобы не допустить в зал. Квестор, возглавляющий административную часть парламента, преградил Мизиано дорогу, спросил, не вооружен ли он? Тот, ответив утвердительно, сказал, что не сдаст оружия, если этого не сделают фашисты. Мизиано прошел в здание. Там его окружила толпа беснующихся фашистов. — Ты не Мизиано, — вопили они. — Ты Мизианов! Убирайся вон! Мизиано ответил, что не уйдет: мандат ему дали неаполитанцы и туринцы, он их депутат, депутат своего народа. Фашисты бросились на Мизиано. Подбежали депутаты-коммунисты, началась свалка. Фашистский главарь Финчи, один из ближайших сподвижников Муссолини, закричал: — Довершите то, что не сумели сделать ардити Д’Аннунцио! Социалист Модильяни потребовал прекратить издевательство над депутатом парламента, но фашисты продолжали бесноваться. По совету друзей Мизиано покинул здание, но на следующий день снова пришел. Взбешенный Финчи крикнул: — Этот коммунист опять здесь! Фашисты, где вы? Мизиано прошел к трибуне и, оттолкнув Финчи, громко сказал: — Я действительно коммунист. Да здравствует коммунизм! В Риме стало известно, что предстоит III конгресс Коминтерна. Руководство Итальянской коммунистической партии назначило делегацию, в которую вошел член Центрального Комитета Франческо Мизиано. В конце июня 1921 года, несколько позднее всей делегации, Мизиано выехал в Советскую Россию. ...Поезд из Рима направился в Швейцарию, затем пересек Германию и Польшу и подошел к советской границе. Еще издали, высунувшись в окно, Франческо увидел пограничный столб и красноармейца с винтовкой, помахал ему рукой. Часовой на государственном посту слегка улыбнулся. Отсюда начиналась Советская Россия.КОНГРЕСС КОМИНТЕРНА. ВСТРЕЧА С В. И. ЛЕНИНЫМ
III конгресс Коммунистического Интернационала открылся 22 июня 1921 года в Москве, куда прибыли делегаты от 52 стран. Конгресс сосредоточил внимание на вопросах революционной тактики и стратегии, проанализировал причины временных поражений некоторых партий, еще не полностью способных руководить наступлением масс. Это касалось и итальянских товарищей. Владимир Ильич выступил с докладом по вопросам тактики, а затем и о нэпе. Во время конгресса Мизиано встретился с В. И. Лениным. Через год после кончины Владимира Ильича Мизиано описал эту встречу. Статья была опубликована в газете «Гудок» в 1925 году, а 20 сентября 1967 года перепечатана в «Известиях». Вот что писал Франческо Мизиано: «Вновь я встретился с ним на III конгрессе Коминтерна. Я приехал из Италии, когда конгресс уже был в полном разгаре. Вхожу в Андреевский зал и сейчас же осведомляюсь о Ленине... «Он скоро будет», — отвечают мне. Усаживаюсь за столом, отведенным нашей делегации, принимаю участие в работах конгресса. Вдруг весь зал поднимается — Ленин. Он появляется в задней двери, на 5-й ступеньке к трибуне, занимает место в президиуме. Не спускаю с него глаз. Тот же скромный цюрихский Ленин, потребитель 18-копеечного пролетарского обеда. Ни одной черты, навеянной новым положением. Я не понимаю русского языка. Однако внимательно слежу за оживленным лицом оратора, стоящего на трибуне, за его жестами, веселой и умной мимикой. Перевожу взгляд на Ленина. Из узких щелок полузакрытых глаз сверкает лукавый огонек... Перерыв. Подхожу к Ленину. Принимает меня с улыбкой и сразу засыпает вопросами: — Что происходит в Италии? Каковы последние вести? Что делают товарищи? Как протекает работа? Разговариваем, стоя у стола президиума. Стою спиной к залу и опираюсь на стол. Ленин дает мне ряд советов относительно работы в Италии; смотрю ему прямо в глаза. Их нельзя назвать маленькими, отдают бархатным блеском, полны ума, жизни и движения... Ленин говорит с всевозрастающей быстротой: «Передайте итальянским товарищам, что революция не везде так легко делается, как в России. В России мы имели половину армии с нами и слабую буржуазию. Скажите им, чтобы они не строили воздушных замков и считались бы с действительностью... Необходимо сделать все возможное, чтобы не дать вождям попасть в руки к нашим врагам. Посмотрите, что случилось в Германии. Карл Либкнехт, Роза Люксембург и другие лучшие пали. Германская партия, оставшись без вождей, лишилась на время способности к действию. Берегите вождей, — повторил он, — не обращайте внимания на мнение врагов. Часто нужно иметь больше мужества, чтобы прослыть трусом в глазах врага и даже товарищей, чем бесцельно жертвовать собой...»После конгресса Коминтерна Мизиано намеревался посмотреть города России, проехать на Волгу, чтобы понять душу народа. События, однако, заставили вернуться в Италию. Фашистская партия готовилась к походу на Рим и захвату власти. В Неаполе Франческо не задержался, посетил по поручению партии разные города, где выступал на собраниях с сообщениями о конгрессе Коммунистического Интернационала, о беседах с Лениным. Популярность Мизиано росла. Росла и ярость Муссолини и его приспешников: после нескольких покушений Франческо Мизиано все еще жив. Осенью 1921 года фашистская партия начала новую травлю «итало-русского депутата», делая упор на «дезертирство», «нежелание воевать во имя родины». Фашистов поддержало буржуазное большинство в парламенте. В конце ноября 1921 года военный трибунал судил Мизиано, предъявив ему обвинение в «дезертирстве». Приговор: десять лет тюрьмы. Муссолини ликовал, разразился в газете «Пополо д’Италия» статьей, радостно приветствовал этот приговор, Мизиано подал кассацию в высший суд Итальянского королевства, хотя тут нечего было ждать помощи. Фашисты развернули дикую кампанию за ликвидацию парламентского мандата, а стало быть, и парламентской неприкосновенности Мизиано. К этому времени либералы уже пошли на уступки фашистам. Коммунисты выступили в защиту Мизиано. Антонио Грамши в газете «Иль комуниста», редактором которой был Пальмиро Тольятти, напечатал статью, в которой заявил, что лишение Мизиано мандата — это «первый удар по демократии». Социалист Модильяни напомнил, что и Джузеппе Мадзини был приговорен своими врагами к смертной казни лишь за то, что боролся за освобождение Италии от иностранного владычества и за объединение страны. Но шовинизм слеп. Он убивает душу народа и лишает его способности мыслить. 15 декабря 1921 года был окончательно решен вопрос о лишении Мизиано парламентской неприкосновенности. Теперь, когда над жизнью Франческо Мизиано нависла новая опасность, Коммунистическая партия Италии приняла решение о его выезде в Советскую Россию. Во второй половине декабря 1921 года Мизиано тайно выехал в Берлин.
БЕРЛИНСКИЕ ГОДЫ. ПОЕЗДКА НА ВОЛГУ
Тяжким выдался 1921 год в Советской России: на страну обрушился голод. Жестокий, беспощадный. Меры против него нужны были решительные, действенные, скорые. Движение «Руки прочь от Советской России», родившееся в народных массах за рубежом, давало надежду, что и в эту лихую годину можно рассчитывать на международную рабочую солидарность. В. И. Ленин верил в нее и 2 августа 1921 года писал в своем обращении к пролетариям всех стран: «В России в нескольких губерниях голод, который, по-видимому, лишь немногим меньше, чем бедствие 1891 года... Требуется помощь. Советская республика рабочих и крестьян ждет этой помощи от трудящихся...»Напомним читателю, что в 1891 году недород, как его называли, обернулся неслыханным бедствием. Лев Толстой, Антон Чехов, Владимир Короленко, вся передовая Россия пришли на помощь голодным губерниям. Теперь в беду попала страна, сбросившая ярмо самодержавия и деспотизма. Призыв В. И. Ленина был услышан в рабочих кварталах Парижа, Амстердама, Берлина, русских городах, в домах Бирмингема и Лондона, в Мадриде и в городах Италии, Австралии и Америки — повсюду, где есть трудовой люд. Воззвание В. И. Ленина всколыхнуло и всю передовую интеллигенцию мира. Анатоль Франс, Анри Барбюс, Ромен Роллан, Теодор Драйзер, Альберт Эйнштейн, Кетэ Кольвиц, Бернард Шоу, Мартин Андерсен Нексе, Фритьоф Нансен — все мировое созвездие писателей и ученых отозвалось на призыв В. И. Ленина. И конечно, первыми ринулись на помощь коммунисты, для которых защита Октября стала делом жизни. 12 августа 1921 года в Берлине был создан временный Заграничный комитет по организации рабочей помощи голодающим в России. Через месяц, 12 сентября, на пленарном заседании комитета присутствовало более сорока делегатов из многих стран. А 17 декабря в Берлине состоялась Международная конференция организации помощи Советской России — Межрабпома (Международной рабочей помощи). На ней был избран Центральный комитет. В него вошли Клара Цеткин, Вилли Мюнценберг, Франческо Мизиано. Франческо остается в Берлине. Лишь через год он отправится в Советскую Россию. А пока — за дело здесь. За дело помощи Стране Советов. 26 октября из Берлина он отправляет в Рим прощальное письмо своим друзьям и соратникам по партии: «Итак, я считаю завершенной эту фазу моей жизни, испытывая при этом чувство еще большего уважения к моей партии, к тем, кто ею руководит и ее составляет. Я теперь здесь, освобожденный от мертвого груза депутатского мандата, преисполненный горячего желания работать. Располагайте мною. Привет всем товарищам и до свидания, до дня, когда вы сочтете это свидание возможным. Ваш Франческо».
И еще одно письмо он отправляет семье. Мария с детьми пока осталась в Италии. Нелегко ей, но она не падает духом. Еще в начале 1921 года в Рим прибыла из Москвы торговая делегация Советской России во главе с Вацлавом Вацлавовичем Воровским. Мария предложила реферировать итальянскую прессу для советского дипломата. Воровский с благодарностью принял ее предложение. Межрабпом стал организацией рабочего класса, сплачивающей массы в единый антиимпериалистический фронт. Но главной задачей на том первом этапе была помощь Советской России. Она шла из многих стран. И конечно, из Италии. Фашистские банды при попустительстве реакционных кругов усилили террор, но тогда, в начале 1922 года, клика Муссолини еще не пришла к власти, и революционные рабочие часто давали отпор фашистам, причем весьма успешно. В знак пролетарской солидарности они собрали и отправили в Россию 27 вагонов с продовольствием и подарками голодающим Поволжья. Состав из Италии пришел в Берлин, и Мизиано повел его на Волгу, в Царицын. 26 марта 1922 года царицынская газета «Борьба» сообщила о приезде в город делегации Межрабпома. Вот это сообщение: «В доме Науки и Искусства сегодня в 4 ч. дня состоится грандиозный ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИТИНГ на тему МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ... В митинге примут участие прибывшие в Царицын представители иностранного пролетариата от Италии тов. Мизиано от Венгрии тов. Рот от Румынии тов. Пугаческо На митинг приглашаются все рабочие, служащие и граждане. Для рабочих... будет подан к 3 ч. дня трамвай. После митинга будет поставлен спектакль «Королевский брадобрей»
В газете была опубликована большая беседа корреспондента РОСТА с Мизиано, который рассказал гражданам Царицына и всего Поволжья, что, «несмотря на бойкот и сильное противодействие буржуазии, пролетариат Италии собирал и будет собирать продовольствие, вещи и деньги для голодающих России». Мизиано выступал на заводах, побывал в квартирах граждан, в детских домах. В день отъезда делегации газета «Борьба» опубликовала обращение Мизиано и представителя итальянских кооперативных организаций: «К ПРОЛЕТАРИАТУ ЦАРИЦЫНА. Вам, т. т. рабочим, красноармейцам и крестьянам, много пережившим, посылаем мы свой братский привет».
Два года провел Мизиано в Берлине. В конце 1922 года к нему из Неаполя приехала Мария с детьми. В декабре 1923 года он был назначен председателем представительства Межрабпома в Москве. Декабрь и начало января 1924 года ушли на завершение дел в Берлине. Настроение было радостное, приподнятое. Он обещал детям, что в Москве пойдет с ними к Ленину. Франческо Мизиано, Мария Конти-Мизиано с семьей приехали в Москву 19 января 1924 года. 22 января утром дети не сразу поняли, что произошло. До них донеслись глухие рыдания Марии. Франческо, сжав руки, ходил из угла в угол по комнате. За окном — траурные флаги. Москва, оглушенная страшной вестью, застыла в скорбном молчании. Вечером 24 января Франческо ушел с детьми в Колонный зал. Опустив голову, долго стоял, прислонившись к холодному мрамору колонны. Дочь прошептала: — Ведь ты обещал, что мы пойдем к нему в гости...
МОСКВА. ТРИУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
То было время, когда где-нибудь в Енакиеве или в Горловке раскрасневшиеся мальчишки, постучав в дом на окраине шахтерского поселка, кричали: «Тетя Глаша, а тетя Глаша, скорей на собрание! Все уже гуртом пошли... Там, в этом, как его... в Ланкашире генеральная забастовка». И тетя Глаша, накинув кумачовый платок, шла на собрание, где уже гудели сотни шахтерских жен. И оратор из укома или губкома, в выцветшей от ливней и солнца гимнастерке, поднявшись на трибуну, клеймил акулу капитализма лорда Керзона, а потом рассказывал, что в далеком английском Ланкашире или в Руре вот уже третий месяц бастуют шахтеры, восстав против грошовой зарплаты и нещадной эксплуатации. И дети там, в Ланкашире, голодные. Насупившись, гневно сверкая глазами, слушали шахтерские жены речь оратора, понимающе кивали головами и дружно хлопали ему, а потом, сгрудившись у стола, вынимали завернутые в носовые платочки рублевки, трешницы, полтинники и отдавали в помощь братьям по классу. В то время по Советской стране из края в край катилось всем понятное слово «Межрабпом» — международная рабочая помощь. Представительство Центрального комитета Межрабпома разместилось на Триумфальной площади в Москве (ныне площадь Маяковского). В этом же доме поселился Франческо Мизиано с семьей, сначала в одной комнате, а потом в квартире побольше. Может быть, впервые за всю жизнь Мизиано оказался в среде, где вокруг не было врагов. Он как-то не мог даже привыкнуть к этому удивительно спокойному существованию: никто в него не стрелял, не надо было беспокоиться за жизнь семьи. Его новая родина строила, мечтала, была устремлена в будущее. В тот 1924 год произошло знаменательное событие: Франческо Мизиано вступил в Российскую коммунистическую партию большевиков. А вскоре и Мария стала членом РКП(б). Их сердечно поздравили друзья. ...Дом на Триумфальной стал штабом, откуда шли незримые нити, связывавшие Межрабпом с Италией, с друзьями по партии. Луиджи Лонго, Джованни Джерманетто, Бианко — все, кто приезжал в Москву из Италии, минуя фашистские кордоны, находили приют в доме Франческо Мизиано и Марии Конти-Мизиано, чувствовали себя там, как в родной семье. Межрабпом следил за пульсом жизни, за событиями, происходившими во всех странах. Япония пережила катастрофическое землетрясение. Тяжкий экономический кризис душил германский рабочий класс. Межрабпом начал проводить всемирную акцию солидарности с трудящимися этих стран. Мизиано несколько раз выезжал в Германию для передачи собранных средств в помощь рабочим Рура, Берлина, Саксонского промышленного района, направлял туда подарки для детей, помогал создавать столовые для безработных. В феврале 1924 года по предложению ЦК Межрабпома Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала рассмотрел вопрос об организации национального комитета Межрабпома в Советском Союзе. Его обсуждали старейшины мирового коммунистического движения. Из Берлина приехала Клара Цеткин, из Японии — Сен-Катаяма, болгарских коммунистов представлял Васил Коларов. В заседании принимали участие Иосиф Пятницкий и Франческо Мизиано. Предложение Исполкома Коминтерна было рассмотрено в ЦК РКП(б), и Франческо Мизиано было поручено разработать план организации и состав комитета. А вскоре, 9 апреля 1924 года, был создан Всесоюзный комитет международной рабочей помощи. 20 октября того же года комитет был окончательно сформирован, и в этой важной акции приняли участие ВЦСПС, МОПР, комсомол, Отдел работниц ЦК РКП(б) и Центросоюз. Мизиано было поручено руководить Межрабпомом в СССР. Дел у Мизиано стало бесконечно много: связи со всем миром и, конечно, с Италией. Оттуда идут все более тревожные вести. Фашистская диктатура Муссолини вырывает из рядов одного бойца за другим. Убит Джакомо Маттеотти, секретарь Социалистической партии. По приказу дуче он был схвачен фашистской бандой Думини. Его пытали, а потом застрелили. В тюрьме — Антонио Грамши, одна из светлейших голов Итальянской коммунистической партии, ее выдающийся руководитель. Фашисты схватили Грамши, тяжело больного, и теперь пытают. Трудными путями, подчас с риском для жизни поддерживается связь с Итальянской компартией, но Мизиано делает все, что возможно и невозможно, чтобы помочь своим соратникам. 1926 год ознаменовался новыми классовыми битвами. В Англии началась всеобщая стачка, в которой приняли участие 4 миллиона человек. Дольше всех держались горняки — с 1 мая до конца ноября 1926 года. Тут уже показал себя не только Ланкашир, по и вся Англия. Весь мир труда напряженно следил за этой борьбой. Из всех стран шли в Межрабпом рабочие марки, доллары, франки, гульдены, рупии, иены, кроны, злотые. Но больше всех помог рабочий класс Советской страны. С мая по декабрь 1926 года в фонд помощи английским горнякам поступили 11 538 121 рубль 79 копеек. Да, и 79 копеек! Учитывался каждый грош, каждая копейка. Сбор средств продолжался и после конца забастовки. К марту 1927 года было собрано 16 015 009 рублей 85 копеек — по тому времени сумма громадная. Генеральный секретарь Английской компартии Уильям Галлахер писал: «Замечательная помощь, оказанная рабочим классом СССР, явилась величайшим уроком изумительной солидарности, когда-либо полученным рабочими Англии». Межрабпом всемирный и Межрабпом Советского Союза действовали, являя пример бескорыстия, формируя сознание миллионов людей в духе пролетарского интернационализма. Широко проводились конференции, митинги, осуществлялась издательская деятельность. Популярнейшим стал журнал «АИЦ» (рабочий иллюстрированный журнал), выходивший на немецком, французском, английском и других языках тиражом до миллиона экземпляров. Генрих Манн писал: «АИЦ» богат по содержанию... Он показывает пролетарский мир, который странным образом кажется несуществующим для других иллюстрированных изданий, хотя мир этот огромен». Межрабпом создал «Новое немецкое издательство», «Универсальное издательство для всех», другие издательства и издания. Франческо Мизиано был одним из главнейших моторов всей этой громадной работы. И, оценивая ее, Анри Барбюс напишет 15 июня 1934 года из Парижа в Москву: «Мой дорогой Мизиано... В Межрабпоме Вы работаете уже очень давно, и ни для кого не секрет, что Вы один из самых активных и драгоценных людей из тех, кто вдохновляет это большое дело, эту международную организацию, являющуюся синтезом духа солидарности и революционного духа. Вот несколько слов по существу. Их несет Вам голос друга, и это всего лишь эхо многих других голосов. Братски жму Ваши руки».Франческо Мизиано взял на себя еще одну многотрудную обязанность — политического руководителя созданной тогда киностудии «Межрабпомфильм». Первыми были два документальных фильма: «Вниз по течению голодной Волги» и «Голод в Советской России». Назначение их было предельно ясным — привлечь внимание к России, оказавшейся в бедственном положении после империалистической и гражданской войн, интервенции и неурожая. Фильмы обошли полмира, их посмотрели сотни миллионов людей. Кинокартины способствовали усилению сбора продовольствия и средств во всех странах; был выпущен заем помощи Советской России. Еще в 1915 году из Костромы в Москву приехал купец Михаил Трофимов. Денег у него было много, но принадлежал он не к тому клану российского купечества, которое разгульно пьянствовало, сорило деньгами в ресторане «Яр» и других злачных местах. Жадный до всего нового, одержимый любовью к просвещению, он воспылал страстью к кинематографу и решил на это благое дело употребить свои капиталы. В Москве Трофимов нашел энтузиаста, верного, подходящего, талантливого человека — инженера Алейникова, приобщил его к своему замыслу и создал кинофирму «Русь». Дела у фирмы пошли хорошо, в картинах снимались популярные в те годы актеры. Публика валом валила в «Иллюзион», как тогда называли кинотеатр. В 1919 году «Русь» выпустила на экраны первый советский художественный фильм «Поликушка» по рассказу Льва Николаевича Толстого. Заглавную роль сыграл Иван Михайлович Москвин. Великая Октябрьская социалистическая революция широко открыла двери киноискусству. Назрела необходимость создавать мощные кинообъединения. В 1924 году киноотдел Межрабпома объединился с кинотовариществом «Русь». Бывший купец Трофимов остался работать в киногруппе в новом объединении, которое стало называться «Межрабпом-Русь», а с 1928 года — «Межрабпомфильм». Режиссеры там собрались великолепные — Всеволод Пудовкин, Яков Протазанов, Константин Эггерт, Дзига Вертов, Борис Барнет, Николай Экк. Из Германии позже приехал Эрвин Пискатор, из Голландии — Йорис Ивенс. Удивительно ли, что из павильонов «Межрабпомфильм» вышли такие ленты, как «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингис-хана», «Три песни о Ленине», «Окраина», «Путевка в жизнь», «Восстание рыбаков» и многие другие. В «Межрабпомфильме» Франческо Мизиано был не только официальным политическим руководителем, но и его душой, организатором, советчиком. Он много сделал для того, чтобы продвинуть советские фильмы по всему свету через зарубежные кинообщества, вместе с неутомимым Вилли Мюнценбергом способствовал созданию «Прометеуса» в Германии и общества такого же названия в Швейцарии, «Спартакуса» во Франции, «Аргуса» в Соединенных Штатах Америки. Художественные и документальные фильмы несли в мир правду о Советской России, привлекали друзей. В сборнике «Советское кино на подъеме», вышедшем в свет в 1926 году в Москве, помещена статья Мизиано, озаглавленная «Межрабпом-Русь». Он писал: «За время своей деятельности Межрабпом вывез за границу целый ряд художественных и агитационных картин советского производства... впервые ознакомив с ними широкие рабочие массы Западной Европы и содействуя агитации за Советскую Россию среди мирового пролетариата... Прорывается блокада, загораживающая от нас широкие массы трудящихся за границей». Удивительной была способность Мизиано искать и находить все новых и новых друзей для СССР. В семейном архиве его сохранился и такой снимок: Франческо Мизиано беседует с Мэри Пикфорд и Дугласом Фербенксом, знаменитыми американскими киноактерами. Как и многие другие, они приехали в Москву, чтобы познакомиться с Советской страной, ее людьми, и уехали нашими друзьями. Дом Межрабпома на Триумфальной стал международным клубом. На просмотре фильмов здесь бывали Анатолий Васильевич Луначарский, Максим Максимович Литвинов, Семен Михайлович Буденный, туда приходили Клара Цеткин, Васил Коларов, Отто Куусинен, другие крупнейшие деятели Коминтерна и Центрального Комитета ВКП(б), зарубежные друзья из всех стран мира. И конечно, приходили дети. Франческо их очень любил. В день его 50-летия, отмеченный очень тепло, Пудовкин сделал дружеский шарж: Мизиано ведет в кинозал нескончаемую колонну детей, а Пудовкин с ужасом смотрит на это шествие, понимая, что все места будут заняты и для взрослых не останется ни одного свободного стула. Подошли тридцатые годы. Над капиталистическими странами бушевала гроза затяжного экономического кризиса. В Германии рвалась к власти нацистская партия, 30 января 1933 года Адольф Гитлер стал рейхсканцлером. Межрабпом все свои силы и возможности отдает делу помощи армиям безработных, борьбе против нацизма, принимает участие в формировании антифашистского народного фронта, который создается коммунистическими партиями, возглавившими эту великую и многотрудную борьбу. Межрабпом провел широкую кампанию за освобождение из фашистских застенков Георгия Димитрова и его товарищей, принимал деятельное участие в подготовке и проведении антифашистских конгрессов, Парижского конгресса в защиту культуры. Мизиано весь в этой борьбе как один из руководителей Межрабпома. И как солдат. Фашистская Италия начинает грабительскую войну против Абиссинии. Мизиано обращается в Центральный Комитет Итальянской компартии и Коминтерн, просит отправить его в Восточную Африку для борьбы против агрессора. Но здоровье помешало ему осуществить это намерение. И он остается в Москве до последнего дня, пока тяжкий недуг летом 1936 года не сразил его... Девяти лет не дожил Франческо Мизиано до того времени, когда окончательно рухнул фашистский режим в Италии. Советская Армия, сломавшая хребет фашистским полчищам, завершила освобождение всей Европы. Дуче Бенито Муссолини, пытавшийся бежать в Швейцарию, переодевшись в форму гитлеровского офицера, с любовницей, спрятанной в повозке с сеном, был схвачен в последних числах апреля 1945 года восставшим народом, расстрелян по приговору итальянских партизан, а затем повешен вверх ногами на площади Лорето в Милане. А через неделю, страшась возмездия народов, покончил с собой нацистский фюрер Адольф Гитлер. Шофер Эрих Кемпка облил труп Гитлера бензином и сжег его во дворе имперской канцелярии. Мария Конти-Мизиано со своими дочерьми, сыном и внуком встретила в Москве великий день победы над фашизмом. Семья Франческо Мизиано, как и весь советский народ, делала все, чтобы приблизить его. После Великой Отечественной войны Мария все свои силы продолжала отдавать укреплению интернациональных связей, вела большую педагогическую работу. Мария Конти-Мизиано скончалась в Москве в 1960 году. Как и кончина мужа, ее уход из жизни был большой потерей для всех, кто знал эту удивительную женщину, смелого борца против фашизма. Пальмиро Тольятти писал в телеграмме семье Мизиано: «Выражаю глубокое соболезнование в связи с кончиной дорогого товарища Марии, смелого борца за свободу и прогресс народов». Летом 1976 года прах Франческо Мизиано и Марии Конти-Мизиано был перевезен в Италию и захоронен в усыпальнице коммунистов на кладбище Верано в Риме. Они покоятся под общей мраморной плитой, рядом с соратниками и друзьями. Над ними не высятся монументы. Но имена и деяния их остались в памяти народов: у нас в стране, где Франческо Мизиано и Мария Конти-Мизиано нашли свою вторую родину, и там, в Италии. Говоря словами Луиджи Лонго, «незабвенный товарищ Франческо Мизиано посвятил всю свою жизнь борьбе за торжество идеалов мира, свободы и справедливости, идеалов социализма... Вся партия с глубокой благодарностью и чувством законной гордости думает о тех товарищах, которые, как Мизиано, закладывали основы для создания в Италии коммунистической организации, находясь в первом ряду борцов против империалистической войны, за дело пролетариата и против фашистской реакции. В его деятельности революционного борца выражен и глубокий, последовательный интернационализм, который на протяжении этого полувека неизменно воодушевлял итальянских коммунистов в их политике и борьбе».
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Возможно, читателя интересует судьба некоторых людей, упоминаемых в этом документальном повествовании и встретившихся с Франческо Мизиано на тернистом пути антифашистской борьбы. Я попытаюсь рассказать о них вкратце. Лидер итальянских социалистов, а затем коммунист Джанчинто Серрати, которому В. И. Ленин направил письмо в Италию, трагически погиб в Альпах в 1926 году, выполняя поручение Центрального Комитета Итальянской коммунистической партии. Трагично сложилась судьба и одного из руководителей Коммунистического Интернационала молодежи, а затем генерального секретаря Межрабпома Вилли Мюнценберга. После прихода нацистов к власти он эмигрировал во Францию. Когда в 1940 году нацистские армии вторглись в эту страну и уже приближались к Парижу, Вилли Мюнценберг пешком ушел из города вместе с большой группой антифашистов и вскоре погиб. Сын Карла Либкнехта Вильгельм Либкнехт, сражавшийся вместе с Мизиано в Берлине, большую часть жизни работал в Москве, где скончался в 1975 году. Прах его был перенесен в столицу ГДР Берлин и захоронен на центральном кладбище Берлин-Фридрихсфельде. Венгерка, соратница Франческо Мизиано по баррикадным боям в Берлине, а затем по революционной борьбе в Италии, во время второй мировой войны участвовала в движении Сопротивления, активно действовала в тылу немецко-фашистских армий, а после войны вернулась в родную Венгрию. Что же касается русского революционера, сражавшегося вместе с Мизиано и спартаковцами осенью 1918 года на баррикадах Берлина, то имя и судьба его стали известны лишь позже.Дважды под расстрелом
БЕРЛИН, МАРТ 1920 ГОДА
В него стреляли поздно вечером, в половине двенадцатого... Она на всю жизнь запомнила это время, гулкий удар старинных часов. Один удар. А через минуту тревожно захлебнулся звонок над дверью. Кто-то резко дернул ручку, потом еще и еще раз. Путаясь в пелерине, она быстро открыла дверь. В проеме показалось лицо привратника. Старик был бледен и тяжело дышал. Голос его срывался: — Гнедиге фрау! Гнедиге фрау![12] — выдохнул старик. — Что с вами? Что случилось? — испуганно спросила она. — Несчастье! Большое несчастье, гнедиге фрау. — С кем? Да говорите же, ради бога. — Его убили. — Кого убили? Слышите, кого убили? — почуяв недоброе, она до боли сжала руки и застыла в ожидании ответа. Старик не сразу решился сообщить ей страшную весть. Соболезнуя и не зная, как начать, он еще несколько раз повторил: — Ах, гнедиге фрау! Ах, гнедиге фрау!.. Они убили... вашего мужа, господина Гутенберга. Она не рухнула па пол, подавила готовый вырваться крик и, с трудом преодолевая спазму в горле, почти шепотом спросила: — Где это произошло? Где он? — Он лежит здесь на улице, недалеко от дома... возле фонарного столба, прямо у стенки... Ах, гнедиге фрау... Только теперь ее молнией пронзила мысль, что несколько минут назад с улицы донеслись выстрелы. Сухой треск проник в лифт, когда она поднималась к себе в квартиру. В Берлине часто стреляли. Чуть ли не каждый день газеты сообщали об убийствах. К этому почти привыкли. Она бросилась к ночному столику, схватила ридикюль, не глядя, вынула оттуда купюру и сунула ее привратнику: — Ни слова никому. Слышите, ни слова. Старик, еще раз соболезнуя, произнес «Ах, гнедиге фрау!», привычным жестом опустил ассигнацию в карман, кланяясь, спросил: — Вам помочь? — Не надо. Идите домой, — бросила она на ходу и, перепрыгивая через ступеньки, выбежала на улицу. Моросил дождь. Холодный мартовский дождь. Вдоль пустынной улицы мелькнула одинокая фигура прохожего. Она опустила вуалетку. Никто не должен ее видеть. Ведь здесь ее знает каждый. Она сама выпьет эту горькую чашу до дна. Можно себе представить, какой вой поднимут газеты. Завтра они будут полны кричащих заголовков: «Загадочное убийство господина NN, мужа примадонны Венского, Берлинского и Лейпцигского оперных театров, партнерши знаменитого Энрико Карузо». Они забудут, что все эти годы награждали ее эпитетами «несравненная», «наша звезда», «обворожительная!». Завтра они начнут копаться в грязном белье, лгать. Она сразу увидела его в мерцающем свете газового фонаря. Правая рука была подвернута, остекленевшие глаза обращены к небу. Дождевые капли стекали с помертвевшего лица и западали в полуоткрытый рот. Опустившись на колени, она прижалась губами к его лбу.Потом, озираясь, вскочила и подхватила убитого под руки. — Я должна... у меня хватит сил, — шептала она задыхаясь. Пелерина и подол длинного платья намокли в луже, путались под ногами. Задыхаясь, она потащила тело убитого в подъезд. Только бы ее никто не увидел. — Боже милостивый! — шептала она. — Дай мне силы, помоги! Еще одно усилие. Вот и лифт. Она нажала кнопку. Этаж! Еще этаж! Еще! Автоматический выключатель Сработал точно. Свет погас. Дверь в квартиру была открыта. Оттуда струилась слабая полоска света. Она втащила тело в комнату и, обессиленная, рухнула на пол. Потом подползла к убитому и, припав к его лицу, целовала, повторяя его имя: Сергуня! Часы пробили двенадцать. Наступил новый день. Девятнадцатое марта 1920 года. Фронау, фешенебельный район Берлина, в котором происходили описываемые события, как и вся германская столица, был окутан серой пеленой дождя. Откуда-то издалека доносились редкие выстрелы.КТО ТАКОЙ ГУТЕНБЕРГ?
Седьмого ноября 1918 года в Киле, что находится на северном побережье Германии, восстали матросы. Они потребовали свержения кайзера Вильгельма II и прекращения войны. Началась революция. Восставшие захватили военно-морскую базу, в городе разгорелись бои. Киль оказался в руках восставших. Но один отряд матросов решил идти на Берлин и там принять участие в революции, веря, что их приход явится той искрой, которая еще больше разожжет ее пламя в германской столице. Отряд матросов вел на Берлин человек могучего телосложения. На его открытом добром лице сверкали глаза поразительной голубизны, излучавшие необычайную энергию и решимость. В отряде матроса называли «камрад Гутенберг». А еще к нему обращались попросту: «Ганс». Очевидно, он прибыл в Киль накануне важных событий. Тридцать первого октября в Киль возвратилась с просторов Атлантики 3-я эскадра. Еще перед заходом в порт в ней произошли волнения. Командующий эскадрой адмирал Крафт приказал арестовать мятежных матросов. Это вызвало бурные протесты на кораблях и на военно-морской базе в Киле. Военные власти, опасаясь, что брожение перекинется на воинские части и заводы, запретили солдатам гарнизона оставлять казармы. Морским пехотинцам был отдан приказ выступить против матросов, потребовавших освобождения арестованных товарищей. Но 1-й батальон морской пехоты отказался это сделать. Вот в это время в гуще матросской массы и появился Гутенберг. Кто он и откуда? — Об этом не задумывались. Поговаривали, что он был списан с корабля на берег за какое-то дисциплинарное нарушение, ему грозил кайзеровский трибунал, но тут начались события, и властям уже было не до крамольного матроса. Камрад Гутенберг сразу же сошелся с матросами. Вюртембержцы сочли его своим земляком: им понравился его юмор, а они считали, что юмором в Германии обладают только вюртембержцы. Северяне, гордящиеся своим, лучшим, как они в том были убеждены, немецким языком, который куда красивее языка певучих саксонцев, тоже считали его земляком. И даже медлительные и грубоватые баварцы, говорящие на причудливом наречии, которое не всякий берлинец поймет, решили, что Гутенберг родом если не из самого Мюнхена, то уже наверняка из Верхней Франконии, что почти Бавария. Отряд кильских моряков прибыл в Берлин, когда там шли ожесточенные бои, и начал действовать в районе Алекса[13]. Потом их видели в Потсдаме, где они штурмовали казармы кайзеровской гвардии. К январю 1919 года революция в Германии вступила в сложный период. Правые социал-демократы испугались победы народных масс. Во главе правительства были поставлены шовинисты Шейдеман и Носке. Против восставших были двинуты войска. Шестого января сражения развернулись в центре Берлина, на Линденштрассе. Революционные отряды взяли штурмом здание, в котором находился орган Социал-демократической партии газета «Форвертс». Отряд, овладевший зданием «Форвертса», состоял из немцев-спартаковцев, итальянской группы Мизиано, нескольких швейцарских социалистов, молодой венгерки и одного русского революционера, о котором я упоминал в очерке «Франческо Мизиано ведет бой...». Оплот революции в Берлине пал под ударами кайзеровских солдат. Франческо Мизиано и вся его группа, в том числе и русский революционер, по приказу Носке были приговорены к расстрелу. Их спасла случайность... Судьба русского революционера оставалась для меня тайной. Я рылся в архивах Москвы и Берлина, пытаясь найти следы этого человека, но безуспешно. И все же одна деталь подала надежду. Распутывая клубок событий, происшедших в марте 1920 года во Фронау, где был застрелен Гутенберг, я обратил внимание на имя «Сергуня», промелькнувшее в некоторых документах и письмах. Человек, которого застрелили 19 ноября двадцатого года в Берлине, видимо, русский. Но ведь его фамилия Гутенберг? Значит, он немец. Особенно смущал тот факт, что рядом с ним встречалось имя знаменитой актрисы — примадонны Венского и других оперных театров. Тут все явно не совпадало, клубок запутывался все больше и больше, и у меня не оставалось почти никакой уверенности, что я распутаю его. Однако мне точно было известно, что отряд Гутенберга, сильно поредевший в боях, в те январские дни появился на Линденштрассе, и произошло это перед самым наступлением правительственных войск на здание «Форвертса», где сражались революционеры во главе с Франческо Мизиано. Пополнение, присланное палачом Носке, потеснило кильских матросов с Линденштрассе. Но, когда они отступили, Гутенберга среди них уже не было. И вдруг совершенно неожиданно появилась надежда, что мой поиск когда-нибудь увенчается успехом. После опубликования документального очерка «Франческо Мизиано ведет бой...» в моей квартире раздался телефонный звонок. На другом конце провода я услышал глуховатый, несколько взволнованный голос. Человек назвал себя, сказал, что хотел бы со мной встретиться, рассказать о жизни своего отца. Может быть, его судьба заинтересует меня. Больше он мне ничего не сказал. Я записал его адрес и телефон, мы договорились о встрече в ближайшее время, однако она не состоялась. Другие неотложные дела не дали мне тогда увидеться с ним. Но вот произошло событие, заставившее меня немедленно его разыскать. В 1978 году минуло сорок лет одному из самых трагических событий в истории Европы: гитлеровская Германия растоптала свободу Чехословакии. Лидеры Англии и Франции Чемберлен и Даладье в Мюнхене пали на колени перед нацистским палачом. Вторая мировая война стала неизбежной. Я рылся в архивах и книгохранилищах, надеясь найти новые материалы, разоблачающие политику мюнхенцев. В Государственной библиотеке имени В. И. Ленина мое внимание привлекла книга, вышедшая в Москве в 1938 году и озаглавленная «Угроза Чехословакии — угроза всеобщему миру». Автор с глубоким знанием и страстной убежденностью разоблачал роль фашизма, угрожающего ввергнуть мир в кровавую бойню. На обложке значилось имя автора: С. Сергунов. Подсознательно в моей памяти всплыло почти забытое имя «Сергуня». Я его повторил несколько раз: «Сергуня! Сергуня! Сергунов!» Кто он? В тот же день я позвонил старому знакомому, активно работавшему в нашей международной публицистике в тридцатые годы. — Сергунов? Конечно, знаю. Ведь это литературный псевдоним нашего известного дипломата тридцатых годов. Он назвал мне его настоящую фамилию. Это была фамилия человека, который год назад звонил мне по телефону. — Вы не ошибаетесь? — спросил я. — Нет. Я его хорошо знал. Имя его и сейчас часто фигурирует в наших официальных изданиях. Он оставил по себе очень хорошую память... И знаете что — добавил мой знакомый, — это был человек необычайно интересной биографии. О нем ходили прямо-таки легенды. Я его никогда не расспрашивал о прошлом. Но одно знаю точно: до Великой Октябрьской социалистической революции он находился в Германии... Волнуясь, я набрал номер известного телефона. Тот же чуть глуховатый голос ответил мне. Я напомнил о звонке и нашем давнишнем разговоре, попросил разрешения приехать сейчас же, немедленно. — Пожалуйста, приезжайте, — последовал ответ. Через полчаса я сидел в небольшой двухкомнатной квартире в новом районе Москвы. Первая встреча с незнакомым человеком, да еще в его доме, обязывает по традиции к обмену обычными, дежурными фразами. Но в ту нашу встречу все условности были отброшены, и я сразу же попросил ответить на вопросы, не дававшие мне покоя: — Как звали вашего отца? — Сергей Сергеевич. — Он жил до Октября в Германии? — Да. Он бежал туда от царского произвола. — Ваш отец был членом большевистской партии? — Да. С 1906 года. — В Германии он жил под псевдонимом? — Да. Его партийная кличка была «Гутенберг». — Гутенберг? — переспросил я, не веря своим ушам. — Да, Гутенберг. Я не сразу был в состоянии задать следующий вопрос: — Кто была ваша мама? — Мама?.. — Мой новый знакомый снял с полки толстенный альбом, перевернул несколько тяжелых картонных страниц с фотографиями и, подав мне альбом, сказал: — Вот она. Со старинной фотографии на меня смотрела удивительной красоты женщина. На ее чуть лукавом, улыбающемся лице не светились — сверкали огромные черные глаза. — Вы спросили, кто была моя мама? Она была примадонной Венского оперного театра... А вот ее партнер, с которым она часто выступала. — И, перевернув еще несколько страниц, он сказал: — Энрико Карузо. Это его портрет с дарственной надписью моей маме. — Простите, но еще один вопрос: Гутенберга убили, так ведь? — И это верно. В марте 1920 года произошел путч, который возглавил помещик Вольфганг Капп, монархист, главарь шовинистической организации. Его сообщники долго охотились за моим отцом и в ночь на девятнадцатое марта 1920 года пытались его убить. — Простите... Но книга о фашистской угрозе Чехословакии написана вашим отцом? — Да. — Но ведь она вышла в свет в Москве в 1938 году. — Совершенно верно. — Кем был ваш отец в 1938 году? — Мой отец Сергей Сергеевич Александровский был профессиональным революционером и дипломатом. В тот вечер я не задавал больше вопросов моему гостеприимному хозяину Александру Сергеевичу Александровскому... Теперь предстояло восстановить во всей последовательности жизнь, гибель и воскресение из мертвых человека удивительной судьбы.ИСТОКИ
Начало этой истории восходит к восьмидесятым годам прошлого века и ведет нас в сибирский город Томск. На улице Еланской в доме 47, по соседству с политическими ссыльными и студентами, жил Сергей Васильевич Александровский, следователь царской прокуратуры. У следователя была одна задача — выводить крамолу, преследовать всех, кто выступает против царя. Если дотошный историк составит когда-нибудь список русских дворян от Радищева до князя Кугушева, которого Яков Михайлович Свердлов назвал «беспартийным большевиком», то список этот получится длиннющий, и возникнет весьма яркая картина их славных деяний ради блага народного. Сергей Васильевич Александровский тоже был русским дворянином. Волей судьбы и в силу юридического образования ему суждено было стать следователем прокуратуры, защищать царские устои. Но постепенно Александровский пришел к выводу, что революционеры, которых по царским законам полагалось вешать, сажать в казематы, гноить в тюрьмах, — не зло для России, а ее честь, и будущее принадлежит обществу, за которое они ратуют. Он принял решение, подсказанное ему совестью. Последним толчком для этого была революция 1905 года в России. Именно тогда член Томского окружного суда отказался от должности, дававшей ему более чем обеспеченную жизнь, и принялся за адвокатскую практику. Эта практика была неблагодарной, ибо приносила массу неприятностей, и в глазах властей отныне он стал личностью неблагонадежной. Александровский защищал преследуемых революционеров. В 1908 году бывший следователь царской прокуратуры на процессе Томской организации РСДРП выступил в защиту молодого революционера Валериана Куйбышева. Первая русская революция вывела и сына Сергея Васильевича Александровского на отцовскую дорогу. Впрочем, сын даже раньше отца понял свое назначение в жизни. Пятнадцатилетний гимназист вступил в группу содействия Социал-демократической партии. Так начинали тогда многие молодые люди. Их объединяла горячая заинтересованность в судьбе России. В каждом из них сидел декабрист и у каждого была своя Сенатская площадь. Для молодого Сергея Александровского ареной борьбы стали улицы Томска, где он с отрядом самообороны сражался против черносотенцев. Это была его первая ступень, став на которую, он до конца жизни поднимался к высотам нравственности. В 1906 году семнадцатилетний юноша вступил в РСДРП, и вскоре его избрали в Томский городской комитет. В тот год, когда старший Александровский защищал на судебном процессе Валериана Куйбышева, младший Александровский был заключен в крепость за то, что организовал тайную типографию в гимназии и печатал листовки против самодержавия. После выхода из тюрьмы Сергей-младший ведет подпольную работу в Новониколаевске (ныне Новосибирск), оттуда партия большевиков направляет его в Курск. На этом первый этап его партийной деятельности закончился. В 1911 году Сергей Александровский, спасаясь от царской полиции, эмигрирует в Германию и поселяется в городе Маннгейме на Штамитштрассе, в дешевом пансионе.МАННГЕЙМСКАЯ ГРУППА. ВСТРЕЧА В ВЕНЕ
После северного Томска с его лютыми морозами и долгими зимними ночами Маннгейм казался курортом. Раскинувшийся на берегу причудливой реки Неккар, у впадения ее в Рейн, окруженный холмами, увитыми виноградниками, город и в самом деле выглядел как курорт. В Маннгейме, как и в некоторых других городах Германии, в ту пору обосновались русские революционные эмигранты, была создана группа РСДРП. Сергей Александровский вошел в русскую колонию, поступил в Торговую академию, стал слушателем двух факультетов — экономического и юридического, решил, что после возвращения в Россию будет выступать на процессах революционеров. Маннгеймская группа РСДРП организовалась еще за несколько лет до приезда Александровского. Входили в нее такие же молодые революционеры, как он. Многие из них стали студентами, чтобы потом отдать свои знания будущей новой России. Часто они все вместе ездили в Гейдельберг, в «Пироговку» — библиотеку, названную так в честь знаменитого земляка. Там можно было почитать большевистские газеты, приходившие из России, а также Парижа, Лондона, Цюриха и других центров российской эмиграции, обменяться мнениями, поспорить до хрипоты, а потом, наскребя последние пфенниги, отправиться в локаль выпить кружку пива и поздно вечером — домой, в свои дешевые пансионы, где сердобольные немецкие фрау за сходную цену сдавали комнатенку и поили по утрам жидким кофе. Царская охранка еще в конце прошлого века заключила тайное соглашение с кайзеровской полицией о «сотрудничестве» и засылала в большевистские центры шпиков и провокаторов. Не обошла она своим вниманием и маннгеймскую группу. Теплым июльским летом 1909 года, когда Неккар, словно устав от зноя, замедляет свой бег к Рейну, в Маннгейме появились два лихих молодца. Прямо из Санкт-Петербурга. Но пусть об этом поведает письмо секретаря маннгеймской группы, отправленное 17 декабря того же года в Мюнхен и сохранившееся в архиве: «В Маннгеймской колонии до августа проживали два подозрительных типа. Оба шпики-аферисты. Нагрели публику больше чем на 700 марок и к тому же списались с Варшавской охранкой. Первый — среднего роста. Брюнет, огромные «усищи», тип морского волка. Выдает себя за моряка, анархиста, члена Государственной думы и т. д. Фамилия Альберти или что-то в этом роде. Если возможно, то сообщите об этом в ближайшие колонии». Урон в семьсот марок, нанесенный бедным студентам, еще долго давал себя знать. Вскоре после приезда Александровского избрали секретарем группы РСДРП. Вот его письмо, отправленное из Маннгейма в Париж на Рю де л’Онест, 26, в Бюро заграничных групп партии: «Число членов нашей организации в настоящее время выражается цифрой десять. Оно очень колеблется, в зависимости от семестра. В колонии имеется беспартийная организация «Землячество». При нем недурная читальня и небольшая библиотека. Группа, особенно в последнее время, когда количественно она почти удвоилась, оказывает свое влияние на читальню и библиотеку, входя почти целым составом своим в члены «Землячества», она проводит там свою линию... Вечера обыкновенно устраивает «Землячество», и еще в прошлом году группе удавалось материально использовать эти вечера. В этом году этого не удалось; впрочем, 25 марок в пользу депутатов II Думы получили и передали бывшему здесь недавно одному из редакторов «Правды». Эмигрантской кассы у нас нет. Если бывает проездом нуждающийся, ему оказывают поддержку, просто собирая необходимую ему сумму... Рефераты посещаются сравнительно недурно, на какие темы ни читали, быть может, потому, что они редко здесь бывают... Группа просит извещать ее каждый раз о том или другом референте и об имеющихся в их распоряжении темах. Как нам передали частным образом, вскоре отправляется с рефератом т. Ленин. Если Вам это известно, сообщите время и темы». К рефератам публика в Маннгейме относилась строго. Сергей Александровский в своих письмах в Париж просил: «Тема желательна злободневная или литературная... Больше всего подходит «Искусство и социализм» — «Искусство и революция». Не удалось установить, приезжал ли в Маннгейм Владимир Ильич, но Александра Михайловна Коллонтай и Анатолий Васильевич Луначарский там бывали. Когда секретарь маннгеймской группы настойчиво попросил прислать лектора-литератора, то в Париже решили послать Илью Эренбурга, которому тогда было двадцать лет. И вот ответ, отправленный из Маннгейма в Париж. Письмо от имени секретаря группы подписала «Лиза», видимо, партийная кличка большевички, которая была культоргом группы: «Дорогой друг! Ввиду того, что Эренбург мне и моим знакомым не известен, трудно надеяться на успех... Публика здесь уже собралась. Лектор с именем мог бы иметь успех». Возможно, из Франции прислали обидчивое письмо, и «Лизе» пришлось писать в Париж: «Дорогой друг! Только что получила Ваше письмо. Спешу ответить Эренбургу и Луначарскому, пишу сегодня же, эти письма отправляю с письмом к вам».В Маннгейм Илья Эренбург все же приехал. На нем были обтрепанные штаны с бахромой внизу, какая-то несуразная кофта. Был он бледен, худ и голоден. Маннгеймцы повели его в локаль, напоили пивом, накормили гуляшом и отправились в читальню. Эренбург читал свои стихи из недавно вышедшего сборника, потом выступил с лекцией, которую никто не понял. Маннгеймцы пустили шапку по кругу, собрали марки и пфенниги, купили железнодорожный билет и отправили Эренбурга в Париж. В конце 1911 года маннгеймская колония после летних каникул выросла. Из России приехало много революционных эмигрантов. Александровский стал чаще устраивать рефераты. Приезжие рассказывали о положении в России, о национальном вопросе. Обязательной была тема: «Текущий момент». В эту формулировку входило все — жизнь партии, последние события в мире. А потом начинались нескончаемые диспуты. Вести из России приходили все более тревожные. Вечером 4 апреля 1912 года газеты донесли в Маннгейм сообщения о событиях в далекой Сибири: на золотых приисках расстреляли сотни людей. Русская колония собралась в читальне. Затем, не сговариваясь, отправились на берег Неккара. Сквозь темную листву сверкали огни города. Маннгеймцы стояли молча, думая о тех, кто был далеко, за тысячи верст. Кто-то вспомнил о клятве, данной Герценом и Огаревым на высокой круче у Москвы-реки. И они тихо повторили ее слова. Так шли дни и недели, заполненные будничными делами, тревогой и болью за судьбу России, в которую они все стремились вернуться как можно скорее. Впереди была вся жизнь. И секретарь революционной группы, двадцатитрехлетний парень из Томска, все строил и строил планы на будущее. Он еще не знал тогда, что в его жизнь ворвется любовь. И она придаст ему еще больше сил для борьбы за дело, которому Сергей решил посвятить себя. ...Впервые он увидел ее в Вене, куда поехал во время каникул. Шел 1912 год. В Европе пахло гарью — уже гремела война на Балканах: прелюдия первой мировой войны. Однако Вена жила своей жизнью, заряженная, казалось, навеки музыкой Иоганна Штрауса. В оперном театре давали «Фауста». Она пела партию Маргариты. После каждой арии зал бушевал. Венцы в выражении своих чувств не стесняются. Колоратурное сопрано Маргариты стоило поклонения. Во время антракта Сергей выбежал на площадь, чтобы купить цветы. Площадь была пуста. Дождь разогнал улыбчивых цветочниц. Он вернулся в зал, когда публика столпилась у оркестровой ямы и на сцену обрушился шквал роз. Каникулы кончились, но он не уехал из Вены. Афиши сообщали, что «несравненная Маргарита» осталась в австрийской столице еще на неделю, будет петь в концерте партию Сусанны из «Свадьбы Фигаро», партии Царицы ночи из «Волшебной флейты» и Розины во вновь поставленной опере «Севильский цирюльник». Из дешевой гостиницы пришлось съехать. Сергей заложил в ломбарде золотые часы, подарок деда, переехал в мансарду на окраине Вены, отказался от знаменитого венского шницеля, который доступен даже беднякам, и подсчитал, что денег хватит на жилье, цветы, две порции сосисок в день и на обратный путь до Маннгейма. С трудом достал билет на «Севильского цирюльника», на галерку. А к концу спектакля все же сумел пробраться к сцене и, расталкивая темпераментных венцев, бросил к ее ногам букет роз. Она улыбнулась. Но ведь она улыбалась всем... В последний день гастролей в Вене газеты сообщили, что певица подписала контракт с Берлинским оперным театром и уезжает туда на месяц. Сергей возвратился в Маннгейм. Студенты из Русской секции уже начали съезжаться. Товарищ, замещавший Сергея, сообщил, что из Мюнхена пришло предложение организовать диспут на тему: «Экономизм как препятствие на пути к нашим идеалам». — Тебе, товарищ Сергей, поручено подготовить реферат на эту тему. Возможно, к нам приедут из Штутгартской секции РСДРП. Так что готовься. — Очень сожалею, что не могу принять участия в диспуте. Я прошу тебя выступить с этим рефератом, а сам сделаю это в следующий раз. Я должен уехать. — Куда? — В Берлин. — Зачем, что случилось? Поручение Заграничного бюро нашей партии? — Нет. — Так в чем же дело? — Понимаешь... я влюбился. — Что? — Влюбился. — А как же революция?.. — Революция и любовь совместимы. Любовь помогает революции. — Извини, но это скороспелый вывод. Вопрос еще подлежит обсуждению... Пожалуй, на эту тему можно будет тоже как-нибудь подготовить реферат. — Согласен, — ответил Сергей, — но это мы обсудим позже. А сейчас очень прошу: выступи вместо меня. Идет? — Идет... но я не узнаю тебя, товарищ Сергей... Ты... и любовь...
На фронтоне Берлинского оперного театра на Унтер-ден-Линден висел аншлаг: билеты были распроданы за две недели до приезда певицы. Сергей нашел выход — нанялся рабочим сцены. Теперь можно было стоять у задника декораций и видеть ее то Виолеттой Валери в «Травиате», то Леонорой в «Трубадуре». Газеты сообщали о ее триумфальном успехе, не скупились на эпитеты: «несравненная», «звезда», «обворожительная». Сергей жадно следил за ее успехами и понимал, что его мечты несбыточны, а надежды рушатся, как карточный домик. Кто он для нее? Бедный студент-эмигрант из чужой и неведомой ей страны. Гастроли в Берлинской опере приближались к концу. Газеты уже писали, что «звезда оперы» уезжает в Лейпциг, ее партнером будет великий Энрико Карузо, лично пригласивший ее туда. Сообщали также, что певица училась в Лейпцигской консерватории у знаменитой Корелли, блестяще закончила ее класс, и оттуда пошла ее слава. Накануне ее отъезда из Берлина, после того, как отгремели аплодисменты и она удалилась в свою артистическую уборную, чтобы снять грим, немного отдохнуть, затем тайно уехать, избегая восторженных поклонников, какая-то неведомая сила понесла Сергея к двери. Он постучался, но ответ последовал не сразу. Наконец, послышалось мягкое: — Herein![14] Он не решился войти, несвойственная ему робость сковала его. Она сама открыла дверь и, увидев Сергея, слегка отпрянула, молча ожидая, что он скажет. Растерянность, волнение — он сам потом не мог ответить себе, почему так сделал. Он обратился к ней по-русски: — Извините мое вторжение. Он пытался сказать что-то еще. По-немецки. Но язык не поворачивался, онемел. Сергей хотел уйти, бежать, но и этого не смог. С возрастающим интересом, улыбаясь, певица смотрела на него. Спросила, не по-немецки, по-русски, с легким акцентом: — Вы русский? Вы из России? — Сибиряк я, — ответил Сергей. И, совершенно потеряв способность понимать, что происходит, спросил у нее: — А вы?
ИЗ РОДА ПЛАКСИДИ
Семейный альбом Александровских открывает портрет смуглой женщины. Голова ее повязана платком — так делали в старину, да и теперь еще это можно видеть в южных деревнях и уцелевших цыганских таборах. У женщины задумчивый, почти суровый взгляд. Нос с горбинкой, скулы туго обтянуты кожей. Это Плаксиди, прародительница, — из греческих цыган. Имя ее не установлено. На Украине род Плаксиди появился в середине прошлого века и там пустил корни, покончив с кочевой жизнью. Избранником Плаксиди оказался Лазарь Спивак, человек, каких во время оно называли «безродными». Сын Лазаря Спивака и цыганки Плаксиди Давид поселился в местечке Смела, что на Киевщине, там женился на красавице Раисе, подарившей ему девятерых детей. В царской России не сладко жилось полуеврею-полуцыгану с примесью украинской крови. Давид был талантливым музыкантом. Но кому в Смеле нужна была его музыка — разве что на свадьбах и похоронах. Подрастали дети, будущее казалось мрачным. Надо было что-то придумать. Вечерами, когда никто не мешал, он запирался в каморке и играл на скрипке своего любимого Мендельсона. Скрипка плакала, а он все думал под ее бередившие душу звуки. И придумал: надо ехать в Германию. Там были какие-то дальние родственники. Это случилось в 1904 году, почти сразу после кишиневского погрома, который взбудоражил совесть России. Тогда еще Адольфу Гитлеру-Шикльгруберу было только пятнадцать лет и он пока «забавлялся» тем, что поджигал кошкам хвосты, а немецкие бюргеры казались воплощением порядочности. Давид Спивак поселился в Лейпциге. Там была знаменитая консерватория с еще более знаменитой Корелли. Отец привел свою дочь Клару к профессору. Корелли прослушала девочку и взяла ее в свой класс. В 1910 году Клара закончила консерваторию, а через год Венская опера пригласила ее на ведущие партии. Все влюбленные мужчины чем-то похожи друг на друга. Даже самые умные из них чуточку глупеют в присутствии женщины, которая нравится, а златоусты становятся косноязычными или от растерянности — нахальными. Женщина должна обладать каким-то особым чутьем, большим тактом и проницательностью, чтобы распознать в своем поклоннике его суть, не почувствовать к нему ни неприязни, ни жалости и не прогнать его тут же. Врожденное любопытство, присущее всем женщинам, спасает их от опрометчивых поступков, заставляет не спешить, присмотреться, а потом уже выносить окончательное суждение.... В консерватории, которую Клара с успехом окончила, и потом, когда стала ведущей актрисой оперных театров, перед ней неизменно преклонялись окружавшие ее мужчины. В ней привлекало все — и талант, и внешность, и манера держаться, и удивительная мягкость. Молодую примадонну ждала блестящая партия. Претендентов на ее руку было много. Ей оставалось только выбрать достойного. И вдруг на ее жизненном пути появляется бедный российский эмигрант, в сущности, полунищий студент. Правда, известно немало случаев, когда российские революционные эмигранты пробуждали к себе симпатии выходцев из другой социальной среды, и духовное общение заканчивалось союзом сердец. Пример тому — брак секретаря Лондонской большевистской эмигрантской организации Максима Максимовича Литвинова с английской писательницей Айви Лоу, принадлежавшей к другому социальному слою общества. Положение Литвинова было более чем скромным — мелкий служащий, коммивояжер Лондонской фирмы по продаже сельскохозяйственных машин. В 1916 году Литвинов и Лоу соединили свои судьбы. При этом никак нельзя предположить, что английская писательница могла увидеть в бедном коммивояжере будущего министра иностранных дел Советской России. Здесь, конечно, особо притягательной была сила идей, ставших могучим оружием российских революционеров. И все же встреча сорокалетнего Литвинова и тридцатилетней Лоу была явлением другого порядка, нежели встреча студента Торговой академии и примадонны. Натянутость, присущая первым минутам знакомства, исчезла. Несомненно, сыграло роль то, что Россия была и ее родиной. Возможно, это был и тот счастливый случай, когда она интуитивно почувствовала в невысоком, крепко сбитом русском парне с открытым лицом и подкупающей улыбкой могучую внутреннюю силу, заставлявшую покоряться даже неприступные женские сердца. В тот вечер они недолго пробыли вместе, говорили о музыке, о России, о его будущем, которое было весьма туманным. Прощаясь, Клара спросила, будет ли он в Лейпциге? Это звучало как приглашение к продолжению знакомства...ПЕРЕД БУРЕЙ...
Сергей возвратился в Маннгейм. Стояла осень 1912 года. Газеты сообщали тревожные вести из Берлина, Лондона, Петербурга и Парижа. Германия строила большой флот. Пангерманисты изо дня в день кричали, что другие державы при дележе мира оставили бедную Германию без колоний, и требовали перекроить карту земного шара. Вооружались Англия, Франция, Россия. Обстановка в Европе становилась все более напряженной. В Маннгейме, как и повсюду в Германии, резервистов призывали на учения. Партия российских социал-демократов (большевиков) первой забила тревогу. В. И. Ленин из эмиграции с беспокойством наблюдал за растущими военными приготовлениями держав. По его настоянию в Базеле стал готовиться чрезвычайный международный конгресс социалистов, чтобы предотвратить войну, а если она разразится, добиться свержения буржуазных правительств. Маннгеймская большевистская колония в конце лета начала подготовку к Базельскому конгрессу. Продолжая заниматься в Торговой академии, Сергей одновременно собирал материалы о настроениях рабочего класса в Баден-Вюртемберге и пересылал их в Заграничное бюро ЦК РСДРП (большевиков). С возрастающим волнением он прислушивался к вестям из России. Старший Александровский сетовал на рост шовинизма. Сергей помнил о своих боях с черносотенцами в Томске и понимал, сколько труда и времени понадобится новой России, чтобы разделаться с наследием царизма. Каждый раз, погружаясь в размышления о будущем своей страны, он с радостью ощущал свою неизбывную силу и уверенность в правоте дела, которому посвятил жизнь. К тому же с ним была любимая женщина, и он не мыслил себя без нее. Он поехал за ней в Лейпциг. Для Клары его появление у рампы после первого спектакля было полной неожиданностью. Когда он бросил к ее ногам букет белых гвоздик, она как-то особенно тепло улыбнулась. Весной 1913 года их встречи стали более частыми. Сергей колесил между Веной, Берлином и Мюнхеном. Как-то Клара сказала, что летом приедет в Берлин и до осени пробудет с родителями. Если он окажется в столице, то она познакомит его с ними. Предложение было неожиданным. У Сергея пересохло в горле, и он не ответил. Он не хотел банальных слов и просто кивнул головой. После недолгих гастролей в столице Клара снова приехала в Лейпциг. И снова шумный успех. Ее звезда восходила все выше и выше. Весь сезон 1913 года Клара выступала вместе с Энрико Карузо. В знак признательности и почтения к ее таланту Карузо подарил ей свою фотографию с дружеским посвящением и кольцо с рубином. Когда гастроли подходили к концу, Энрико задал ей вопрос, который давно занимал его: — Кто окажется вашим избранником? Кто будет этим счастливцем? Она обещала ответить. По обычаю, после каждых гастролей артисты устраивали товарищескую вечеринку. Клара пригласила Энрико и своих друзей, сказала, что с ней будет ее новый знакомый. С нескрываемым любопытством разглядывали артисты статного человека с фигурой борца, приветствовавшего всех легким поклоном. — Знакомьтесь, — представила Клара, — это Сергей. — Серж? Француз? — спросил Карузо. — Нет, не Серж. Сергей. Он русский, — уточнила Клара. — О! Браво! Это выбор! — сказал Энрико. Учеба в Маннгеймской торговой академии заканчивалась, и было решено, что к лету 1914 года Сергей переедет в Берлин.Двадцать восьмого июня 1914 года сербский националист Гавриил Принцип в главном городе Боснии Сараеве убил наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда. Это был повод. Первого августа 1914 года в Европе началась мировая война. В Германии и других странах шла всеобщая мобилизация. Истерические толпы кричали «Хох» кайзеру и его генералам. По городам и селам России солдатки, припадая к плечу уходящего на войну мужа, истово крестили его и себя, желая скорейшей победы над супостатом. В Париже генерал Галиени носился с планом мобилизации всех такси, чтобы перебросить войска на Марну. В Лондоне репетировали первые затемнения. Но и в эти трагические дни августа 1914 года машина мирного времени еще делала свои обороты, и это отзывалось в Маннгейме: там готовился международный шахматный турнир. Русская колония ждала этого события с интересом. В Маннгейм должен был приехать Александр Алехин — восходящая звезда на мировом шахматном небосклоне, а с ним русская шахматная делегация — Боголюбов, Вайнштейн, Рабинович, Селезнев, Романовский и другие менее известные шахматисты. Людей оттуда, из России, русские политические эмигранты всегда ждали с нетерпением и интересом. Правда, не было большой надежды на получение важной информации о жизни и настроениях в стране, но встреча с земляками всегда волнующа. У Александровского были еще свои личные причины радоваться. С юношеских лет он увлекался шахматами, следил за специальной прессой. В Петербурге закончился Всероссийский шахматный турнир, на котором двадцатидвухлетний Александр Алехин сражался с крупнейшими шахматистами — Нимцовичем, Фрейманом, Маршалом, Торрашем, Лебедевым, а в Москве вступил в единоборство с тогдашним чемпионом мира Эммануилом Ласкером. Немецкие газеты много писали об успехе Алехина, сообщали, что в Маннгейм приедет Капабланка, предстоит его игра с Ласкером, и это еще больше обостряло интерес к турниру. Русская колония думала-гадала, встречать ли земляков на вокзале? С одной стороны, Алехин — сын губернского предводителя дворянства и купчихи Прохоровой, владелицы прохоровской мануфактуры. Но с другой стороны, он шахматная звезда. И если встречать, то как — с хлебом-солью? Или лучше просто сказать: привет землякам! С Алехиным о делах революции не поговоришь, да и с другими тоже. Полицию также нельзя дразнить. На вокзал ходили даже дважды. Сначала приехала шахматная делегация, а потом, за два часа до начала турнира, — Алехин. Русских немцы встречали с цветами, особо приветили Алехина. Турнир длился недолго, всего несколько дней. Александровский не пропустил ни одной партии Алехина, который сражался с корифеями тогдашнего шахматного мира — Дурасом, Флямбергом, Торрашем, Мизесом, Карльсоном, Фарни, выигрывая одну партию за другой. Это была феерическая победа. Алехин по количеству очков стал победителем турнира и получил первый приз. Но герр полицейский начальник закрыл турнир. Битву вели другие короли. В августе германская полиция приказала всем русским эмигрантам, где бы они ни находились на территории кайзеровского рейха, явиться на регистрационные пункты. Сергей Александровский, как и все русские революционные эмигранты, был отправлен в лагерь за колючую проволоку. На четыре года. Не сладко пришлось и русским шахматистам. Их тоже интернировали. Вырваться в Россию удалось лишь одному Алехину. Он последовал примеру Камо. Легендарный кавказец, арестованный в Берлине после знаменитого «экса», имитировал сумасшествие. Германские врачи так и не сумели распознать, симуляция это или помешательство на самом деле. По этому пути пошел и Алехин. Его пришлось отпустить, и он через Швейцарию выехал в Россию. Шахматисты не были столь опасны для кайзеровского рейха, как русские революционеры, которых перевели в город Триберг, где и поселили на долгие годы. А военный каток утюжил Европу. Впереди был марш германских армий в Париж, взаимное истребление немцев и французов под Верденом. Впереди были Мазурские болота, где погибли сотни тысяч русских солдат, прорыв армий генерала Брусилова и разгром австрийских армий. Впереди было применение газов на реке Ипр, налет «Цеппелинов» на Лондон, разрушение сотен европейских городов, уничтожение тучных нив, садов и виноградников. И как итог безумия — гибель миллионов людей. Впереди были февраль и октябрь 1917 года в России и ноябрь 1918 года в Германии.
В ЛАГЕРЕ
Лагерь для интернированных в Донауэшингене, где оказался Сергей Александровский, стал местом сбора русских из Маннгейма, Гейдельберга и Карлсруэ. Начальник лагеря, отставной майор, призванный из резерва, созвал заключенных на аппельплац — площадь для перекличек — и объявил, что отныне он здесь бог, кайзер и высший судья. Питание — обычное, лагерное, а у кого есть деньги, тот может прикупить продовольствие в кантине — столовке. Началась лагерная жизнь: серая, однообразная, барачная. Русские создали антивоенный комитет. Сергею поручили связаться с французами. Их было немного — эмигранты, застрявшие к началу войны в Германии. Антивоенный комитет разработал программу действий и начал устанавливать связи за пределами лагеря. Об этом свидетельствуют строки из сохранившейся записи Александровского: «Скоро в лагере образовалась группа РСДРП, в которой было 4 большевика. За попытки организационной и агитационной работы ряд интернированных, в том числе и я, был переведен в половине 1915 года в штрафной лагерь Роштадт. Когда началась нужда в рабочих руках, немцы постепенно начали выпускать из Роштадта на работу. Я попал в 1916 году в Наугейм на фабрику искусственных зубов гравировщиком по металлу, потом работал у гладильной машины в паровой прачечной. Здесь я связался с нелегальной организацией военнопленных и дальше двумя путями через эту организацию и прямо на фабрике, где работал, — с союзом «Спартак». Таким образом, в марте 1917 года, вскоре после получения известий о революции в России, я мог бросить Наугейм и поехал в Берлин, будучи уже прочно связан с этими организациями».Записи Александровского очень скупы, и не в последнюю очередь из-за его скромности. Но, к счастью, они, а также сведения, сообщенные жене, а потом сыну, отдельные заметки, фотодокументы позволили по крупицам восстановить важные события той поры, в частности, его деятельность после интернирования. Александровскому удавалось не раз вырываться из лагеря. Под новый, 1915 год Сергея неожиданно вызвал комендант. Был вежлив, даже почти приветлив, сказал, что для Сергея есть очень приятная новость: — Ваша невеста, фройляйн Спиваковски, добилась для вас разрешения на краткосрочный отпуск. На три дня поездом можете выехать в Берлин. Там сразу же зарегистрируйтесь в полицей-президиуме. Сергей хотел было дать телеграмму в Берлин, но из этой затеи ничего не вышло. Телеграфист прочитал текст, подозрительно посмотрел на него, спросил, почему не в армии, где сейчас каждый честный немец воюет за фатерланд и кайзера? Клара ждала Сергея на своей квартире во Фронау. Молча обняла его, радостно улыбаясь, сказала: — Три дня ты мой. Обо всем остальном забудь. Клара и Сергей только теперь перешагнули невидимый барьер, который все же держал их в отдалении друг от друга, и поняли, что отныне, что бы ни случилось, они навсегда вместе. Перед войной Клара не извещала родителей о предстоящем замужестве, а теперь, когда ее жених как иностранец оказался узником лагеря, она постоянно думала о том, как сообщить об этом им, особенно отцу, с его старомодным мышлением. С надеждой и тревогой Давид Спивак наблюдал за своей дочерью. Для него она, примадонна, всегда оставалась его любимой девочкой, его дочуркой, в которую он вложил всю свою душу. Он, конечно, гордился ею. Но тоска, затаившаяся в глубине сердца, не давала покоя, и страх за ее будущее не оставлял его. И, сам с собою рассуждая, он часто говорил себе: с одной стороны, это очень хорошо, что она такая талантливая и имеет такой успех. Но с другой стороны, нам не надо так быть на виду... И это вечное «с одной стороны и с другой стороны» часто заставляло его вздыхать, особенно, когда он читал в газетах статьи о ней и мечтал, чтобы она вышла замуж за единоплеменника-банкира или генерального директора какой-нибудь промышленной компании. Ах, эти звезды! Ведь даже с неба они падают в бездонную пропасть... Три дня вытянулись в одну тонкую короткую нить. Накануне отъезда Сергея они долго гуляли по Аллее победы, увенчанной обелиском, шли мимо памятников фельдмаршалам и генералам — вся прусская история была изваяна в бронзе и камне. Сергей неожиданно вспомнил «Песнь о вещем Олеге», продекламировал последнюю строку: «Так вот где таилась погибель моя...» Перевел Кларе на немецкий смысл пушкинского стиха, высказал давно созревшую мысль: в этой войне сгорит мой царь и твой кайзер. Сразу после отъезда Сергея Клара отправилась в Лейпциг. Весной 1915 года Сергей снова приехал на трехдневную побывку в Берлин. На этот раз столица выглядела сумрачно. Громы победных литавр приумолкли после провала наступления на Париж. На улицах появилось много калек, магазины потускнели, а на окраинах выстраивались очереди у продовольственных лавчонок. Клара по-прежнему жила на старой квартире во Фронау, и Сергей с вокзала приехал туда. Уже по дороге он заметил те неуловимые перемены в Берлине, какие не каждому были понятны с первого взгляда. На улицах и у ворот больших доходных домов собирались группки молодых парней и девушек. Шуцманы в своих высоких полицейских касках настороженносмотрели на них, готовые в любую минуту разогнать, избить их резиновыми дубинками, а в случае необходимости призвать на помощь конную полицию. Клара сказала Сергею, что в Берлине создан и начал действовать какой-то нелегальный Интернационал молодежи и организатором этого Интернационала является Карл Либкнехт, о котором Сергей, возможно, слышал. За все время знакомства с Кларой Сергей не то чтобы избегал, но не считал нужным говорить с ней о политических проблемах и о том, почему он оказался в Германии. Для нее он был студентом Торговой академии. И если они поженятся, он, вероятнее всего, получит, как и стоит того, место в крупной фирме. А может быть, она поедет с ним на его родину, в Россию, в Петербург. Энрико Карузо выступал в Мариинском оперном театре, с похвалой отзывался о тамошних талантах. Почему бы ей в самом деле не отправится в Россию. Ведь это и ее бывшая родина. Сергей сказал, что он хорошо знает, кто такой Карл Либкнехт, хотя лично с ним не знаком и ни разу не видел его. А то, что Карл Либкнехт — единственный депутат рейхстага, голосовавший против войны и предоставления военных кредитов кайзеру, характеризует его с лучшей стороны. — Вот и прекрасно. Тогда я тебя с ним познакомлю, — сказала Клара. — Ведь мы близкие подруги с его женой Соней. Кстати, я завтра обязательно должна быть у нее. Мой отец подарил мне и Соне две русские золотые десятирублевые монетки. Мы заказали у ювелира одинаковые кольца с аквамарином. Соня вчера взяла готовые кольца, и мы договорились, что я навещу ее.
ВСТРЕЧА С ЛИБКНЕХТОМ
На следующий день вечером Клара привела Сергея Александровского на квартиру к своей подруге. Соня открыла дверь гостям и, тепло приветствуя их, расцеловав Клару, подала руку Сергею и на чистом русском языке, с мягким акцентом, присущим южанам России, сказала: — Очень рада, дорогой земляк. Клара мне рассказывала о вас, теперь будем знакомы. — И, заметив недоумение Александровского, продолжала: — Не удивляйтесь. Я же ростовчанка. Из Ростова я. Проходите, пожалуйста. — Взяв Клару и Сергея под руки, она повела их в комнаты. Пока Александровский еще приходит в себя от изумления, а Софья и Клара любуются кольцами с аквамарином, сделанными из золотых русских монеток, познакомимся поближе с Софьей Либкнехт. Первая жена Карла Либкнехта, Юлия Парадиз, умерла в августе 1911 года: скончалась под ножом хирурга во время операции, оставив берлинскому адвокату троих детей — Вильгельма, которого родные и друзья ласково называла Гельми, Роберта и крошечную Веру. Но встреча с Софьей Рысс, его будущей второй женой, произошла много раньше, еще в 1906 году, через два года после приезда девятнадцатилетней девушки из Ростова в Гейдельберг, где она изучала искусство. Впервые она услышала о Карле Либкнехте вскоре после своего прибытия в Германию. Двадцать третьего июля 1904 года в Кенигсберге начался процесс девяти немецких социал-демократов. Их судили по указанию кайзера Вильгельма II за то, что они помогали русским революционерам печатать и переправлять в Россию нелегальную литературу. В защиту подсудимых выступил тогда еще сравнительно мало известный адвокат Карл Либкнехт. Русский юрист, профессор Рейснер, отец будущей писательницы Ларисы Рейснер, принимавший участие в Кенигсбергском процессе в качестве эксперта, писал, что «защита сумела превратить процесс в обвинение политического строя России». И в этом, сказал Рейснер, была заслуга Карла Либкнехта. Имя Карла Либкнехта было тогда на устах молодежи, и Соня читала его речи, опубликованные в газетах. А потом она его увидела в Гейдельберге, куда доктор Либкнехт, блистательный знаток искусств, приехал прочитать курс лекций. Там они встретились: Карл Либкнехт и юная ростовчанка. Видимо, это была любовь с первого взгляда, и она до конца поглотила мысли и чувства Либкнехта: он все искал встречи с ней. Двадцать шестого сентября 1906 года Карл Либкнехт, находившийся в те дни в Маннгейме, писал ей: «Дорогая моя фройляйн Соня! ...Как черт душу грешника, так я ждал Вашего письма, ведь Вы мне обещали писать».В октябре 1912 года Софья Рысс стала женой Карла Либкнехта. Он мечтал о поездке в Ростов. Через много лет, уже находясь в тюрьме за отказ участвовать в империалистической войне, он писал Софье о своей надежде увидеть когда-нибудь этот южный русский город: «Луккау, 7.7.18 Дорогая! Ростов, своей оживленной и веселой суетой, звуками поющих гитар и мандолин, удивительно напоминает Милан и Флоренцию. Я мысленно представляю тебя в этой среде, в дни твоего детства, и мечтаю о том, чтобы как-нибудь все- таки попасть в Россию, увидеть Ростов, прокатиться с тобой и по волшебному Крыму в легких татарских повозках. А потом — пуститься с тобой в парусной лодке по Дону, перевалить через Кавказ, пожить в Москве, Петербурге, Одессе и Киеве — вместе с тобой».
Мечте его не суждено было осуществиться. ...Карл пришел домой несколько возбужденный, сказал Софье, что его вызывал окружной военный начальник и вручил предписание отправиться на фронт. В тот вечер, проведенный с Александровским, Карл все расспрашивал о России. Узнав, что Сергей — сибиряк, Либкнехт сказал: — Вот как, значит, вы из того великого и печального края. Ведь на памяти трех поколений Сибирь удобряется кровью благороднейших русских людей. У вас в России, кто хочет остаться человеком, того отправляют в Сибирь или в Шлиссельбург. В последний день перед отправкой в окопы, когда Карлу Либкнехту по приказу военного начальства было запрещено «принимать участие в публичных и закрытых собраниях, вести какую бы то ни было политическую агитацию устно и печатно в пределах империи и за границей», он и Сергей Александровский почти до утра проговорили о будущем России и Германии. Утром депутат рейхстага Карл Либкнехт стал солдатом рабочего батальона и был отправлен в окопы на русский фронт. В то же утро Сергей Александровский уехал в лагерь, окруженный колючей проволокой. Еще не прошло и года с начала империалистической бойни, но повсюду, где шла война — в России, Франции, Германии и на Балканах, — погибло много людей. И вся эта огромная масса людей, истреблявших и калечивших друг друга, оставивших своих жен и детей вдовами и сиротами, покорно выполняла приказы, родившиеся в тайниках царских опочивален, министерских кабинетах, штабах.
ВЕСТИ ИЗ РОССИИ
Медленно и тоскливо тянулись дни в лагере для интернированных. Окольными путями и через вновь прибывших сюда русских поступали сообщения о событиях в «большом мире». Скудные вести просачивались из России. Лишь во время поездок в Берлин, становившихся более редкими, и из газет Сергей узнавал последние новости. Реже приходили письма через Швейцарию из Томска, от отца. Он писал, что Россия все больше и больше увязает в войне и настроение мрачное. В начале ноября 1915 года Сергею снова удалось приехать в Берлин. Клара сразу же повела его к Либкнехтам. За последнее время Карл часто писал с фронта, и Гельми, получивший письмо от отца, прочитал его друзьям. Он писал: «История этой войны, мой мальчик, будет проще, чем история многих прежних войн, — ее побудительные мотивы ясны, очевидны во всей их грубости. Вспомни о крестовых походах: они считались походом во имя культуры и были окутаны религиозным покровом, насквозь фанатичным, но скрывающим под собой стремления экономического характера — это были широко задуманные торговые экспедиции. Чудовищные размеры нынешней войны, ее средства и цели не только ничем неприкрыты, а, наоборот, раскрыты...»Пришел 1916 год. Война бушевала на всех фронтах — в России, Франции, Австро-Венгрии, на Балканах, в Атлантике, где немецкие подводные лодки беспощадно топили военные и торговые корабли. Казалось, армии так же беспрекословно, как и в первые месяцы шовинистического угара, выполняют свой долг. Но уже давало себя знать недовольство верноподданных. Все чаще свирепствовали военно-полевые суды, и жандармские заставы прочесывали в поисках дезертиров не только прифронтовые полосы, но и дальние тылы. За отказ воевать Карл Либкнехт был предан военно-полевому суду и заточен в Северную военную тюрьму в городе Луккау. Пресса травила бывшего адвоката. Но над его поступком задумались многие, и не только в Германии. На русско-германском фронте были случаи братания солдат. Еще в 1915 году маннгеймская группа русских социал-демократов и большевиков, оказавшихся в одном лагере для интернированных, разработала программу действий. Антивоенная пропаганда среди населения не сулила успеха. Немецкие бюргеры в большинстве своем еще свято верили в кайзера и его генералов. После назначения фельдмаршала Гинденбурга на пост начальника генерального штаба из дерева был вырезан его монумент, и верноподданные, фанатично поверившие в солдафона, собирали средства и обивали этот монумент золотыми гвоздями. Но в германской армии уже усиливаюсь брожение, и маннгеймская группа решила действовать в одном из важнейших пунктов — на военно- морской базе в Киле. Это важное и опасное задание было поручено Сергею Александровскому. Добившись у лагерного начальства отпуска для поездки в Берлин к невесте, Александровский выехал в Киль. В кармане у него был паспорт на имя Ганса Гутенберга и солдатская книжка, в которой была отметка «унабкемлих» — «незаменимый», что означало освобождение от военной службы, на полицейские власти она действовала магически. Сергей поселился в дешевом пансионе фрау Кройцигер на Лютерштрассе, зарегистрировался в полиции. Хозяйка пансиона была довольна веселым общительным гостем и снисходительно относилась к его отлучкам. Он занят важным делом — поставками для военного флота. Слегка кокетничала с ним, ведь у него такие красивые голубые глаза. Через две недели Александровский возвратился в лагерь и сообщил руководству большевистской группы, что установил надежную связь в Кильском морском гарнизоне. В Берлин с фронта все чаще поступали сведения о волнениях в русской армии. Столичные газеты писали, что в России бастуют рабочие, в Петрограде — демонстрации голодных женщин, а полиция и казаки разгоняют недовольных. Слухи эти то усиливались, то ослабевали. Русские в лагере понимали, что вот-вот должен произойти революционный взрыв, который изменит положение в России, изменит и их жизнь, и все они, застрявшие на чужбине, возвратятся на родину, чтобы там участвовать в великой очистительной борьбе. Мартовским вечером немецкие газеты вышли с чрезвычайными сообщениями на первых полосах: русский царь низложен. Александровский узнал об этом в лагере. Новость из Петрограда по радио и телефону облетела весь мир. В Германии и повсюду, где война застала русских политэмигрантов — в Англии, Америке, Франции, Австралии и где бы ни находились изгнанные из России, — они встретили это сообщение радостными криками «Ура!», пением «Варшавянки», плясали, обнимались друг с другом и незнакомыми прохожими на улицах. Вскоре стали создаваться комитеты возвращения на Родину. У кайзера и его правительства русская революция породила двоякое чувство: она была опасным примером для немецкой армии и исстрадавшегося народа. Но с другой стороны, Россия теперь по всем расчетам выходила из игры, а это сулило успех наступления германских армий на Западном фронте. Режим в лагере русских ослабили, и Александровский получил разрешение выехать в Берлин. О России пока не могло быть и речи: германское правительство не собиралось выпускать русских политэмигрантов. Александровский поступил на работу. Диплом об окончании Маннгеймской торговой академии открыл двери в контору Берлинского банка.
«СИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ...»
До войны Клара так и не сообщила родителям, что хочет связать свою судьбу с Александровским. Теперь в их жизнь ворвалась война. Надо было все решать, и Клара отправилась в родительский дом на Фридрихштрассе-экке Кроненштрассе, чтобы поговорить с отцом и матерью, сказать им, что выходит замуж. Давид Спивак кое-что знал о планах дочери, о чем- то догадывался. Считал ее увлечение причудой, свойственной всем актрисам, и по-прежнему видел свою любимицу замужем за солидным, богатым человеком, который введет ее в высшее общество, куда закрыт доступ даже выдающимся артистам. Оставшись наедине с отцом, Клара сказала ему о своем решении. Наступила тягостная тишина. Не глядя на дочь, вышагивая по комнате, он спросил глухим голосом: — Так, значит, этот твой жених — русский и к тому еще каторжник из лагеря. Значит, ты с ним уедешь в эту Россию, откуда я бежал и привез тебя сюда ребенком. Так это или не так? А что будет с твоей карьерой? Кончится твоя карьера! Всю жизнь будешь тянуть жалкую нищенскую лямку. Там ты никому не нужна. А он мне здесь не нужен... Сказав, что ее решение твердо и неизменно, Клара ушла. За стеной, окаменев от горя, ждала мать. В тот вечер Давид Спивак не зажигал в комнатах огня. В доме был траур. Еще много препятствий было на жизненном пути примадонны Венской оперы Клары Спиваковской и изгнанника России. Но ничто не могло остановить их в своем решении навсегда соединить свои жизни. Произошло это в августе 1918 года. Выписка из официального документа магистрата района Берлин-Шарлоттенбург гласит: «Магистрат района Берлин-Шарлоттенбург, 1918 год, 26 августа. Сим удостоверяется, что сего числа, 26 августа 1918 года, зарегистрирован брак Клары Спиваковской, рождения 1893 года, родившейся в местечке Смела Киевской губернии, Российской империи, и Сергея Александровского, рождения 1889 года, родившегося в деревне Геруссы, Закавказье, Российская империя. Свидетели: А. Зубок и П. Ковалев».Новобрачные и их друзья, политические эмигранты Зубок и Ковалев, в тот вечер выпили по бокалу шампанского. Свидетели еще раз поздравили Клару и Сергея и проводили их во Фронау. Через несколько недель Сергей сказал жене, что прерывает службу в банке и ненадолго покидает Берлин. В октябре 1918 года господин Гутенберг снова приехал в Киль и поселился в облюбованном им пансионате фрау Кройцигер на Лютерштрассе. Штамп «унабкемлих», поставленный в солдатской книжке, по-прежнему избавлял от назойливости полицейских властей. Весь октябрь Гутенберг провел в Киле, часто появлялся на военно-морской базе по поручению фирмы, которую представлял, вел переговоры с заместителем командира базы по боепитанию, весьма любезным корветтен-капитаном. С морского театра военных действий в Киль приходили тревожные сведения. Беспощадная подводная война, которую с еще большим ожесточением вела Германия, приносила все новые жертвы не только странам Антанты, но и немцам. Атлантика похоронила десятки тысяч немецких моряков, а просвета не было видно. Молох требовал жертв. Где-то там, в матросских кубриках, на вспомогательных судах у причалов, зрели силы, готовые вот-вот выйти из повиновения. Тридцать первого октября Гутенберг последний раз появился в пансионе, расплатился с любезной хозяйкой, сказал, что уезжает из Киля.
С ноября 1918 года до января 1919 года Александровский не появлялся во Фронау. Оперный театр не работал, Клара почти все время проводила дома, иногда забегала к Либкнехтам в надежде увидеть там Сергея. Но Соня ничего утешительного не могла ей сообщить. В середине ноября Карл вышел на волю из Северной военной тюрьмы, вместе с Розой Люксембург стал во главе революции и тоже почти не появлялся дома. Все дни он проводил в Центральном Комитете только что созданной Коммунистической партии Германии или в редакции газеты «Роте фане». В начале января положение в центре Берлина, особенно на Линденштрассе, осложнилось. Началось наступление правительственных войск. Оценив обстановку, Александровский намеревался помочь восставшим — бросить туда свой отряд, но правительственные войска потеснили матросов. Александровский сумел пробраться в здание ЦК Коммунистической партии, там узнал, что интернационалисты под командованием Франческо Мизиано овладели и крепко удерживают здание «Форвертса», и решил любой ценой пробиться туда. Первым, кого он увидел на верхнем этаже здания, был семнадцатилетний Гельми. Тот бросился к Сергею на шею с криком: «Русские тоже с нами!» Теперь уже не было никакого смысла называть себя Гутенбергом. Сергея подвели к единственному пулемету, который имелся в отряде Мизиано. Он поднял его, почистил, придвинул коробку с лентами и, улыбнувшись окружавшим его итальянцам, по-русски сказал сам себе: — Ну, что ж, друзья, повоюем! Район Линденштрассе с газетным кварталом, где происходили бои между правительственными войсками и интернационалистами, оцепила полиция. Газеты выходили с перебоями, и, как всегда в таких случаях, обыватель кормился слухами, которые распускали и подогревали берлинские «версальцы», развязавшие террор против «красных». Утверждали, будто они хотели взорвать банки, открыть шлюзы канала и затопить город, уничтожить электростанцию. Первую неделю января немцы и отряд Мизиано успешно обороняли здание «Форвертса». Одиннадцатого января солдаты Носке подвезли орудия и начали штурм. В тот день пал последний оплот восставших. Александровский вместе с другими интернационалистами был заточен в тюрьму Моабит. С воли доходили печальные вести, одна страшнее другой. Карла Либкнехта и Розы Люксембург уже не было. Солдаты Носке схватили их на Маннгеймерштрассе в Вильмерсдорфе. Арестовали и Вильгельма Пика, но ему удалось бежать. Карла растерзали в Тиргартене, а Розу, оглушенную прикладом винтовки, окровавленную, еще живую, бросили в Ландверканал... Целые дни напролет Сергей сидел сгорбившись в камере. Перед глазами вереницей проходили встречи с Карлом, казалось, он слышит его голос... Где Гельми? Может быть, он рядом, в соседней камере? Что с Соней, с Робертом и Верой? Мысли не давали покоя. От Клары не было никаких вестей с тех пор, как он уехал в Киль, а в Берлине во время восстания ее не удалось повидать... Двадцать пятого января в камеры Моабита донеслись отзвуки мощной демонстрации. Берлин хоронил Карла Либкнехта. Много позже Сергей прочитает его последнюю статью, опубликованную в «Роте фане» пятнадцатого января 1919 года и написанную за несколько часов до гибели. «Те, кто потерпел поражение сегодня, будут победителями завтра, ибо поражение — урок для них... Не знаю, будем ли мы жить, когда победа будет достигнута. Но жить будет наша программа борьбы, и она завоюет большинство человечества. Несмотря ни на что!»
Александровский тогда, разумеется, не знал и не мог знать, что через четырнадцать лет некий ефрейтор Адольф Гитлер-Шикльгрубер станет рейхсканцлером Германии, страна выбросит за борт и растопчет все моральные ценности, накопленные и сохраненные ее лучшими умами, а затем ввергнет весь мир в катастрофу войны. Он, разумеется, не знал и не мог знать, что убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта было прологом к фашизму, приход которого к власти он сам через четырнадцать лет будет наблюдать в Берлине, находясь там на высоком дипломатическом посту. А тогда, в камере Моабита, он лишь понимал, что произошла беспримерная трагедия, и пятнадцатое марта — день убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург — останется одной из самых мрачных и кровавых страниц в истории Германии. Спустя несколько месяцев, после многократных и трудных переговоров, по настоянию советского полпреда в Берлине Александровский был выпущен из тюрьмы и назначен секретарем Бюро РСФСР по эвакуации русских военнопленных.
КТО СТРЕЛЯЛ В АЛЕКСАНДРОВСКОГО?
Летом 1919 года к пансиону на Лютерштрассе в Киле подъехала машина с двумя пассажирами. Один из них, тот, кто сидел за рулем, был в форме морского офицера, но без знаков различия. Другой, вышедший из автомобиля, высокий, сухопарый, держал в правой руке стек, беспокойно вертя его в руке, и решительным шагом направился к двери, ведущей в пансион. — Припугни старуху как следует, она быстро развяжет язык, — бросил ему вдогонку человек, оставшийся в автомобиле. Это был не кто иной, как Герман Эрхардт, тридцативосьмилетний морской офицер, создавший вскоре в Мюнхене террористическую организацию «Консул», охотившуюся за немецкими революционерами и в первую очередь за активными борцами ноябрьской революции в Германии. Фашистская организация «Консул» была предшественницей гитлеровской нацистской партии. Она развязала террор против коммунистов и буржуазных деятелей либерального толка, а главным образом, против тех, кто был за нормальные отношения с Советской Россией. Националисты из «Консула» убили Маттиасса Эрцбергера, политического деятеля, лидера католической партии Центра. С Эрцбергером у Эрхардта были свои особые счеты: в 1917 году Эрцбергер выступил против беспощадной подводной войны, которую вела кайзеровская Германия. Он считал также, что послевоенный мир должен быть построен без аннексий и контрибуций. От имени Германской республики Эрцбергер подписал перемирие, а затем стал сторонником Версальского мирного договора. По приказу Эрхардта, Маттиасса Эрцбергера застрелили в упор в здании суда, где шел процесс с его участием. Это произошло в 1921 году. Летом 1922 года фашисты из «Консула» совершили другой крупный террористический акт — убили министра иностранных дел Германии Вальтера Ратенау. Произошло это на Кенигсаллее, близ Груневальда, в Берлине. Днем Ратенау имел обыкновение проезжать по тихой зеленой улице. Неожиданно его автомобиль настигла машина. Сидевший в ней убийца бросил в Ратенау бомбу и дважды выстрелил в уже мертвого человека. Вальтер Ратенау был убит за то, что в апреле 1922 года подписал с народным комиссаром иностранных дел Георгием Васильевичем Чичериным знаменитый Рапалльский договор, что позволило Советской России прорвать внешнеполитическую блокаду. После убийства Ратенау Эрхардта арестовали, должны были судить, но националисты организовали ему побег. Оказавшись на свободе, Эрхардт продолжал террор и убийства из-за угла, а затем занялся аферой другого рода — создал шайку, которая подделывала советские червонцы — десятирублевые купюры, первую советскую устойчивую валюту на международном финансовом рынке. Сразу же после разгрома ноябрьской революции Эрхардт и его единомышленники разъехались по городам Германии, чтобы собрать сведения об участниках восстания, в первую очередь — коммунистах: кто, как и что делал, говорил, писал в ноябрьские дни. В проскрипционные списки заносили не только взрослых, но и детей — немецких гаврошей. Записывали номера домов и квартир, выясняли родственные связи. Против фамилий в списках фиксировали приговор, вынесенный фашистскими «тройками»: расстрелять, повесить, утопить. Германия 1919 года переживала свою Варфоломеевскую ночь. В лесах, на окраинах городов, в каналах и на чердаках зданий находили трупы людей. Вот официальная цифра, опубликованная полицейскими органами: десять тысяч жертв фашистского террора! За некоторыми, особо важными участниками революции Эрхардт и его ближайшие друзья охотились сами. С этой целью они и приехали в Киль, чтобы подробнее разузнать о Гутенберге, который останавливался в пансионе на Лютерштрассе. Хозяйка пансиона фрау Кройцигер, как обычно, приветливо встретила гостя. Из окна заметила, что он подъехал на автомобиле, значит, какая-то высокая птица, наверняка уж состоятельный господин. Льстиво улыбаясь, спросила: — Вам комнату, надолго? С питанием, без питания? Плата — умеренная. Но сейчас, извините, уважаемый господин, начинается инфляция. Трудные времена, не знаешь, как дальше будет падать наша марка. Ах, при кайзере... извините, вы не социал-демократ? Нет, прекрасно. При кайзере мы жили лучше. Ох, эта война. Так вам одну комнату или апартаменты? Гость не очень вежливо прервал фрау Кройцигер: — У вас в пансионе жил некий Гутенберг? Опишите его. — Ах, господин Гутенберг. Простите, вы не из полиции? — Неважно. Отвечайте на вопросы: рост, телосложение, цвет глаз, волос. Не оставил ли какие-нибудь бумаги? Не вздумайте скрывать. Он опасный преступник. Испуганно заморгав глазами и всплеснув руками, фрау Кройцигер пролепетала: — Подумать только, преступник! А такой милый человек. Вы знаете, за все время он сюда не привел ни одной дамы... Простите, что я об этом говорю. Но другие... Это же ужасно. Тут у меня жил один, такой высокий господин, очень похож был на вас, извините, так это же ужас, что он вытворял... Нервно перебирая рукой стек, гость рявкнул: — Он оставил бумаги, книги? Нас все интересует. Понятно? — Поняла... Разве что — вот, запись паспортных данных в солдатской книжке. Ведь у него был штамп «незаменимый». Есть роспись в книге гостей. — Тащите книгу. Фрау Кройцигер выплыла из комнаты, сразу же вернулась и, перевернув несколько страниц, подала книгу «господину полицейскому инспектору», как она его уже мысленно окрестила. Тот впился глазами в почерк Гутенберга, приложил к ней стеклянную пластинку с тонким слоем эмульсии и, пробормотав нечто среднее между «ауфвидерзеен» и «альте хексе», что значит «старая ведьма», вылетел из пансиона. Садясь в автомобиль, он сказал нетерпеливо ожидавшему его Эрхардту: — Все совпадает: Гутенберг-Александровский у нас в руках.В начале марта 1920 года в военном лагере Дебериц, что недалеко от Берлина, не спали несколько ночей. Войска, стянутые в Дебериц, были приведены в боевую готовность номер один. Это значило, что в любую минуту они могут получить приказ выступить. Но куда? Это держали в строжайшей тайне. Лишь три человека знали точно, чего они хотят и куда выступят войска. Это были генерал Людендорф, начальник генерального штаба германской армии в мировую войну, а впоследствии друг Адольфа Гитлера и участник Мюнхенского фашистского путча в 1923 году, адмирал Тирпиц и помещик Вильгельм Капп. План военного путча был разработан до деталей: президенту Эберту предъявляют ультиматум. Он уходит в отставку. Под руководством военных в Германии проводят новые выборы в рейхстаг, а затем создают новое правительство. Помещик Вильгельм Капп становится рейхсканцлером. Ультиматум был предъявлен. Эберт, страшась народных масс, тянул с ответом. Двенадцатого марта был предъявлен новый и последний ультиматум. Ответа не последовало. И вот тогда генерал Людендорф отдал приказ Герману Эрхардту приступить к незамедлительным действиям. Так называемая «бригада Эрхардта», сформированная из бывших кайзеровских офицеров и стянутая в лагерь Дебериц, совершила марш-бросок на Берлин. Правительство бежало в Штутгарт. Германская столица оказалась во власти военных заговорщиков, озверевшей кайзеровской солдатни. В ту ночь Александровский был в Берлине арестован и отправлен в штаб генерала Лютцов, одного из главарей фашистского путча. Александровский знал, что убийцы из организации «Консул» разыскивают его. Если не удастся бежать, то гибель неизбежна. В первую ночь убежать он не смог. Медленно тянутся часы перед казнью. Наступает вторая ночь. Утром последний допрос. На рассвете часовой заснул. Теперь вся надежда на свою могучую силу. Он выжимает решетку вместе с рамой и бежит. Об этом лишь несколько строк из его записей: «Я бежал из лагеря генерала Лютцов». И он снова в Берлине, на своем посту. Людендорф и Тирпиц не учли настроения берлинского пролетариата. Столица ответила всеобщей забастовкой и баррикадами. Начались бои. Правительство помещика Каппа продержалось три дня. Бригада Эрхардта, отстреливаясь, отступала на запад. Эрхардт на автомобиле ехал впереди отступающих. Оставляя Берлин, направил трех офицеров в район Фронау, где, как он предполагал, после бегства появится Александровский. Приказ Эрхардта был ясным и кратким: сегодня ночью Гутенберг-Александровский должен быть убит. Все эти тревожные дни капповского путча советское полпредство жило очень напряженно, каждую минуту ожидая провокаций и диверсий. Девятнадцатого марта утром Александровский уехал из Фронау в полпредство. Метро еще не работало, трамваи ходили с большими перебоями. Во Фронау за Александровским приехал старенький, потрепанный полпредовский «рено». Объезжая кварталы с еще неразобранными баррикадами, шофер добрался до Бранденбургских ворот и вырулил на Унтер-ден-Линден к зданию полпредства. Латышские стрелки, охранявшие здание, сказали, что полпред уже у себя и ждет С. С. Александровского. Полпред, с посеревшим от бессонных ночей лицом, расхаживал по кабинету, держа в руках какую-то бумагу. — Вот это для вас, — сказал он, протягивая Сергею листок. — Шифровка из Копенгагена от Литвинова. Максим Максимович сообщает, что первый пароход с нашими военнопленными уже прибыл из сборного лагеря и отправлен в гавань. В ближайшие дни он отплывает в Петроград. Литвинов просит поторопиться с последней партией военнопленных. Завтра прошу вас выехать в Гарделеген. Поезда еще не ходят. Отправитесь на автомобиле. С вами поедет латышский стрелок. На всякий случай. Как только вернетесь, прошу ко мне. Буду ждать. Двенадцатого февраля 1920 года Литвинов и английский представитель О’Греди подписали в Копенгагене соглашение об обмене военнопленными. Советская Россия сразу же отправила в Портсмут англичан, взятых в плен под Архангельском, где они участвовали в интервенции. Теперь надо было торопить бывших союзников с отправкой русских военнопленных. Первая партия уже выехала из Гарделегена в Копенгаген. Но больше тысячи русских там еще томились в бараках. Многие были ослаблены из-за болезней и плохого питания. Советская миссия по репатриации наскребла кое-какие средства, закупила продовольствие. Александровский нанял в частной фирме грузовики, перевез туда все это добро. И вот завтра утром он должен был выехать в Гарделеген, чтобы отправить в Копенгаген еще одну партию русских солдат.
Последние дни Берлинская опера была закрыта, но после бегства «трехдневного правительства» репетиции возобновились, и театр продолжил подготовку «Травиаты» в новой постановке. Клара днем собралась в театр на Унтер-ден-Линден, и Александровский сказал, что постарается заехать за ней вечером, чтобы вместе отправиться домой. Клара просила его не беспокоиться, театральный автобус развезет артистов по домам, но она, конечно, будет рада, если Сергей за ней заедет. Сразу же после беседы с полпредом Александровский уехал в Кепеник, чтобы договориться с торговой фирмой, потом ему пришлось заехать еще в несколько мест. Он освободился только к вечеру и во Фронау выбрался на стареньком трехколесном автомобиле для перевозки продуктов, который ему любезно предоставил хозяин фирмы. До станции надземной железной дороги, откуда рукой подать до Фронау, он добрался довольно быстро. Но тут мотор трехколески неожиданно зафыркал и заглох. Шофер выругался, покопался в моторе и печальным голосом сообщил, что «эта рухлядь, которую давно пора сдать на свалку», дальше не пойдет. До Фронау оставалось не больше двух километров, и Александровский быстрым шагом направился домой. Издали он увидел свет в окнах. Значит, Клара уже дома. Он прибавил шаг, почти бегом пересек наискосок улицу и только успел ступить на тротуар... Выстрелы раздались почти одновременно: один, два, три. Он рухнул на землю. Где-то быстро отворили двери и тут же со стуком захлопнули. Кто-то открыл окно, вскрикнул и мгновенно закрыл его. Убийцы, подосланные Эрхардтом, метили в сердце Александровского. Одна пуля прошла чуть левее. Две другие нанесли легкие ранения. Тяжелое внутреннее кровоизлияние поставило его на грань смерти. Спас могучий организм. Когда Клара примчалась домой с врачом, она услышала легкий стон. Страшно закричав, она потеряла сознание... Спустя месяц Александровский вышел из больницы. Вскоре из Москвы сообщили, что он назначен заведующим отделом по делам военнопленных Миссии РСФСР в Вене. В июле 1920 года Александровские приехали в австрийскую столицу. Через несколько дней после приезда на Пратере, в центре Вены, Александровские встретили Энрико Карузо. Он изумленно посмотрел на Клару, с чисто итальянским темпераментом воскликнул: — Боже мой, Клариссимо, вы вся седая... Что случилось? И, галантно поправившись, добавил: — О, Клариссимо, вам это к лицу. Вы по-прежнему обворожительны. Клара грустно улыбнулась. Александровский учтиво ответил: — Благодарю вас, Энрико, за комплимент. Моя жена действительно самая обворожительная женщина в мире. И самый верный друг. И он поцеловал руку жены. Тогда, в Вене, только начиналась дипломатическая деятельность Сергея Александровского. Впереди была вся жизнь — партийная деятельность на Украине, работа на дипломатических постах на Родине, в Финляндии, Германии, Чехословакии. Впереди была вся жизнь, без остатка отданная революции, партии, народу.
Конец врангелевской авантюры
Одна из самых блестящих страниц в истории Красной Армии — есть та полная, решительная и замечательно быстрая победа, которая одержана над Врангелем. В. И. Ленин
В сердцах советских людей вечно будут живы имена таких выдающихся организаторов и руководителей интернационалистских формирований, как... Бела Кун... «История гражданской войны в СССР»
Он не сразу понял, что там качается на ветру. Длинные черные фигуры, словно чудовищные птицы с опущенными крыльями, под порывами ветра мерно подавались то влево, то вправо. Красноармеец, единственный сопровождающий, которого он взял с собой, приподнялся на цыпочки и слегка дрогнувшим голосом сказал: — Товарищ член Реввоенсовета, гляньте, да ведь это повешенные. Бела Кун еще раз внимательно посмотрел на качающиеся фигуры. Они висели в два ряда, образуя коридор, через который ему сейчас предстояло пройти. Озеров, начальник штаба Нестора Махно, бывший командир кубанской казачьей сотни, шедший рядом, переложил нагайку из правой, изуродованной руки в левую, искоса взглянул на Бела Куна, как бы проверяя, какое впечатление на того произвела эта встреча, но ничего не заметил на его лице. Оно оставалось все таким же спокойным, каким он увидел его вчера утром в Павловграде, куда Озеров прибыл по поручению батьки. Бела Кун шел молча, слегка опустив голову, мысленно готовясь к разговору с Махно, которого он увидит через несколько минут. Договор командования Южного фронта с батькой надо подписать сегодня во что бы то ни стало. Это поручение ЦК РКП(б). Михаил Васильевич Фрунзе уже вел переговоры с Махно 25 сентября, что, несомненно, облегчит задачу. Теперь надо выполнить задание Реввоенсовета Южного фронта и Михаила Васильевича. Армия батьки должна оставаться нейтральной. В ближайшие дни Фрунзе отдаст приказ войскам Южного фронта начать наступление на Северную Таврию и Крым, взять Сиваш и Перекоп и ворваться на полуостров. С Врангелем должно быть покончено. Если не удастся договориться с Махно о нейтралитете, то его хорошо вооруженные отряды в пьяном угаре ударят в тыл войскам Фрунзе, а это может задержать тщательно подготовленную операцию по освобождению Крыма. Бела Кун прошел фронт повешенных. Озеров, все еще искоса поглядывая на спутника, обронил: — Врангелевские офицеры. Батько вчера приказал их повесить. Бела Кун не сразу откликнулся, потом как бы про себя спросил: — К моему приезду, что ли, приказал? Пугает? Озеров пожал плечами: — Тактика. Батько такой. Может, и пугает. Его не сразу поймешь. Озеров, опытный военный, прошедший империалистическую войну, не раз раненный, привыкший к солдатской дисциплине, вот уже год находясь на посту начальника штаба в армии Махно, сам не мог привыкнуть к махновской вольнице с ее диким, пьяным разгулом; он пытался навести в ней элементарный воинский порядок, нещадно хлестал своей нагайкой командиров всех рангов, рискуя получить пулю в затылок, но ничего не добился, как и не научился до конца понимать подлинные замыслы Махно. Озеров не всегда одобрял приказы батьки, но подчинялся, надеясь, что с разгулом будет все же покончено. И вот сейчас, идя вместе с Бела Куном в штаб на переговоры, в которых он вместе с Нестором Махно должен был представлять одну высокую договаривающуюся сторону, а член Революционного военного совета Южного фронта Бела Кун — другую, Озеров с завистью смотрел на своего спутника и на красноармейца в вылинявшей гимнастерке и в ботинках с обмотками, поотставшего на полшага от своего командира, как и полагается дисциплинированному солдату. Озеров повернул направо, к железнодорожному полотну, где стоял штабной вагон Махно, снова переложил нагайку в правую руку, чтобы легче было огреть первого забулдыгу, который попадется ему на пути. Махно был оповещен о предстоящем приезде Бела Куна каблограммой из штаба Фрунзе и особо Озеровым. Был наслышан об этом знаменитом венгерском революционере. Решил встретить его подобающим образом, чтобы большевики знали, кто такой Нестор Махно, враг белых и враг красных. Вечером, накануне приезда венгра, приказал повесить восемь врангелевских офицеров. Конечно, его войско еще официально именуется «бригадой Красной Армии имени батьки Махно». Но это только форма. Придет время, и он, Нестор Махно, повесит красных на всех фонарях и установит по всей Украине анархистскую республику. Штабной вагон Махно стоял на запасных путях станции Ульяновка. Здоровенные парни с маузерами и кольтами за поясами и пазухами окружали штаб. Озеров прошел мимо них вперед. Натренированными движениями махновцы отсекли красноармейца, сопровождавшего Бела Куна, ощупали венгра и, убедившись, что он безоружен, равнодушно сказали: «Иди к батьке». В вагоне было душно, несло перегаром. В едком махорочном дыму Бела Кун не сразу увидел батьку, полулежавшего на медвежьей шкуре. По правую руку от него сидел начальник политотдела армии Волин, анархист, бежавший от царской полиции в Америку и вернувшийся оттуда после Февраля. Слева на кошме пристроилась Маруська Никифорова, сожительница батьки, атаманша небольшой банды, примкнувшей к Махно. Она была пьяна, осоловевшим взглядом уставилась на Бела Куна. Махно молча посмотрел на гостя, медленно поднялся, сделал шажок вперед. Бела Кун подошел ближе, чуть растягивая слова, сказал: — Здравствуй, Нестор. Махно протянул руку, поздоровался, сквозь зубы процедил Маруське: — Убирайся! Будет важный разговор.
ПУТЬ В СОВЕТСКУЮ РОССИЮ
Меньше двух месяцев прошло с того дня, когда Бела Кун, инициатор создания Венгерской коммунистической партии и руководитель Венгерской советской республики, после ее падения вернулся в Россию. Еще в июле 1920 года его освободили из австрийской тюрьмы. Далось это нелегко. В. И. Ленин и Наркоминдел взяли судьбу Бела Куна в свои руки, вели переговоры. При переводе в Петроград Бела Куна сопровождала группа венгров, вступившая в РКП (большевиков), среди них один из его друзей Владимир Юстус, другие соратники по революционной борьбе. По дороге на поезд напали бандиты, искавшие венгерских революционеров. Чтобы спасти жизнь Бела Куна, его спрятали в мешок и положили под нижнюю полку, а когда бандиты обыскивали вагоны, друзья вынесли мешок и положили в кустах. Поезд с Бела Куном ехал через Штеттин, откуда предстояло пароходом направиться в Таллин, а затем в Петроград. Но в Штеттине нельзя было оставаться. По поручению В. И. Ленина советские дипломаты добились отправки поезда в Берлин. Когда Бела Кун прибыл в германскую столицу, венгерское буржуазное правительство потребовало его выдачи. Это означало его гибель. Восемь дней Бела Кун находился в Берлине, и каждый час был чреват тяжкими последствиями. Наконец, в начале августа советское полпредство в Берлине добилось отправки Бела Куна в Россию. ...В Ямбурге и Гатчине были торжественные встречи. Привокзальные площади заполнили тысячные толпы, а у вагона Бела Куна его приветствовали комиссары 7-й армии. Были цветы, объятия и речи. В Петрограде, куда поезд пришел ночью, собралось еще больше людей. На следующий день Бела Кун выступил с докладом в Народном доме имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Он снова чувствовал себя в родной семье, среди близких людей. Два дня он оставался в Петрограде, а 13 августа вечером выехал в Москву. В день его приезда в столицу «Правда» вышла со статьей «Привет старому другу». «Старому» другу было тридцать четыре года. «Правда» нашла ясные и точные слова: «Сегодня к нам в Москву из Петрограда приезжает тов. Бела Кун. Мы приветствуем его в столице пролетарской России как нашего соратника по борьбе и как лучшего бойца венгерского пролетариата... Жестокую, кровавую, деятельную, поистине героическую школу прошел тов. Кун у нас в России. Он не только в совершенстве изучил нашу революцию, он сражался за нее в отряде Дыбенко против немцев, на Восточном фронте против чехословаков, на улицах Москвы против левых эсеров, поднявших мятеж. Перо, винтовка, пулемет, организационная работа, агитация, всем этим тов. Кун научился владеть в совершенстве».К приходу поезда на Николаевский вокзал прибыли руководители Московского комитета РКП(б) и Московского Совета, делегации всех районов Москвы. Каланчевская площадь была полна народа. И снова объятия, цветы, речи. Дни после приезда в Москву были заполнены до последней минуты. Бела Кун выступил в Большом театре на пленуме Московского Совета, участвовал в торжественном выпуске I Московских артиллерийских курсов, и газеты писали, что после выступления Бела Куна «курсанты и красные командиры вынесли вырвавшегося из плена рабочего борца на руках». В редкие свободные часы Бела Кун медленно ходил по улицам города, всматривался в людей, улицы, дома, останавливался у почтамта, на стенах которого еще оставались следы от пуль и гранат, по Мясницкой шел к Лубянке, к Варварской площади, а оттуда — к Покровским казармам. За невысокой оградой строились молодые красноармейцы, направлявшиеся на боевые учения. У магазинов толпились очереди за хлебом, на прилегающих улицах пели песни комсомольцы. Москва 1920 года, разутая, голодная, сражающаяся с уходящим миром насилия, лжи, бесправия, с примазавшимися к революции подонками... Газеты каждый день писали, что люди умирают от сыпного тифа. В Москве началась «банная неделя». «Правда» сообщала, что «в целях личной гигиены и санитарии Московская чрезвычайная санитарная комиссия призывает всех москвичей бесплатно помыться в бане. После трудов по санитарной очистке города каждый получит для этой цели бесплатно кусок мыла». Столицу донималиворы и бандиты. Газетные полосы чернели сообщениями о чайной афере. На Третьей Рогожской улице в доме 49 «из мастерской, работающей на Центрочай, украли сорок мешков кофе на один миллион шестьсот тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска разыскали воров и возвратили городу похищенный кофе». А жизнь шла вперед, сдирая старые болячки, залечивая язвы. Интеллигенция ринулась в клубы на диспуты. В Доме печати Анатолий Васильевич Луначарский устроил публичное чтение своей новой пьесы «Оливер Кромвель», после него свою новую пьесу «Красный шквал» читал В. П. Антонов (Саратовский). В Большом театре публика заполнила все проходы: там шел «Севильский цирюльник». В Колонном зале Дома союзов гремел могучий бас Федора Ивановича Шаляпина. А в Хамовническом тупике, переименованном по решению Московского Совета в улицу Льва Толстого, содрали старые вывески и огромными буквами написали на заборе: «Отныне у нас не будет тупиков!» В заводских корпусах повесили красные полотнища со словами «Владыкой мира будет труд!». Первые красные директора в кургузых пиджачках и кепках, с руками, пропахшими пороховым дымом, еще смущаясь из-за непривычности своего положения, приветливо здоровались с такими же работягами, какими сами были вчера, а «учителки» из гимназисток в красных уголках «ликбезничали» с пожилыми дядями и тетями: «Мы не рабы! Рабы не мы!» Но рабство могло вернуться. Еще продолжались интервенция и гражданская война. На юге России кровоточил контрреволюционный очаг. В Крыму Врангель готовил поход на Харьков и Москву. Это вдохновляло западные правительства. Премьер-министр Англии Дэвид Ллойд-Джордж, начавший было торговые переговоры с Россией, в июне прервал их в надежде, что правительство Ленина все же падет.
КРЫМ, 1920 ГОД
Многое повидал Крым за свою историю, а в 1920 году переживал новую тяжкую полосу. Все понимали, что нереальная, призрачная жизнь, которой жил тогда Крым — бывшая летняя резиденция царей, вожделенная земля знати, жуиров, торгашей и земля отважных рыбаков, — долго продолжаться не может, что перемены неизбежны, как повсюду в России, что разгульные кутежи в ресторациях и нищета на окраинах, в домишках, прилепившихся к скалам, скоро исчезнут: очистительная гроза пройдет и здесь. К началу двадцатого года в Крыму хозяйничал генерал Деникин, изгнанный Красной Армией из Центральной России и Украины. В пору успехов деникинских войск Врангель был у него в подчинении, командовал Кавказской армией... Красная Армия разбила Деникина. Врангель, не поладив со своим «главнокомандующим», в марте уехал в Константинополь. Звезда Деникина закатилась, Антанта перестала благоволить к битому генералу. В самом начале апреля в Константинополь прибыл английский генерал Робек, он вручил Врангелю послание генерала Хольмана — начальника военной миссии при ставке Деникина. Врангелю предложили заменить Деникина. Он сразу же дал согласие, и на борту английского военного корабля «Император Индии» был доставлен в Севастополь. Дальнейшие события развивались быстро: 4 апреля Деникин передал полномочия главнокомандующего Врангелю. Барон объявил себя «правителем России». За столь высокое звание надо было платить. «Правитель» подписал документ, по которому обязался выплатить все царские долги иностранным государствам, предоставил «право на эксплуатацию всех железных дорог Европейской России и на взимание таможенных пошлин во всех портах Черного и Азовского морей», передал в распоряжение капиталистов три четверти всей добычи нефти и бензина в России, четверть добычи угля в Донбассе, все «излишки» хлеба на Украине и Кубани. Вот так — ни больше ни меньше. А еще через пять дней был создан «правительственный кабинет» Врангеля. Главой правительства стал Александр Васильевич Кривошеин, ближайший друг Столыпина-вешателя. Для такого поста это была вполне подходящая фигура. До революции он был главноуправляющим землеустройством и земледелием в России, после Октября — организатором подпольного буржуазно-помещичьего «правого центра». Бежав из Москвы, подался к гетману в Киев, организовал контрреволюционный «Совет государственного объединения России». В «правительственном кабинете» министром иностранных дел стал Петр Бернгардович Струве, человек с многоцветной биографией. В прошлом он был «легальным марксистом», потом членом буржуазной партии кадетов, депутатом 2-й Государственной думы, а после Великой Октябрьской социалистической революции пришвартовался к Деникину и стал членом «Особого совещания» при деникинской армии. Под стать премьеру и министру иностранных дел были и другие члены «правительственного кабинета» — помещики, заводчики, все, конечно, ярые монархисты. Врангеля, как и Деникина, подпирали военные миссии стран Антанты. Францию представлял генерал Манжен. Англию — генерал Перси, Америку — адмирал Мак-Келли. «Правителей России» объединяло одно — ненависть к простому народу, они создали режим вешателей. Но революционный Крым не сдавался, он боролся, обливаясь кровью. 26 января 1920 года газета «Юг», выходившая в Севастополе, сообщала: «В ночь на 21 января чинами контрразведки захвачен городской комитет большевиков. Найдено оружие и вполне оборудованная типография с набором только что набранной прокламации к офицерству, взрывчатые вещества, протокол заседания, печать и т. п. Арестованы: 1) В. В. Макаров (председатель комитета), 2) А. И. Бунаков, 3) бывший поручик И. С. Севастьянов, 4) Л. Шулькина, 5) М. С. Киянченко, 6) И. Ашевский, 7) И. М. Венглят, 8) М. З. Иоффе, 9) С. С. Крючков. Комитет был захвачен в клубе строительных рабочих и располагал еще конспиративной квартирой в д. № 7 по 2-й Цыганской улице, где проживал М. С. Киянченко. При комитете были три секции: подрывная, военная и контрразведывательная... Все вышеуказанные лица были преданы военно-полевому суду и последним приговорены к смертной казни. Приговор приведен в исполнение в ночь на 22 января с. г.».В ту ночь крымскому подполью был нанесен тяжкий удар. Несмотря на это борьба продолжалась... Через несколько месяцев врангелевской контрразведке удалось напасть и на след подпольной Симферопольской комсомольской организации. Ночью взяли всех вместе с секретарем комитета Максимовой. Их ждала участь руководителей большевистского подполья. Помог непредвиденный случай. Об аресте молодых людей узнал Алексей Николаевич Деревицкий, профессор Таврического университета, директор народных училищ. Революционером профессор не был. Но этот настоящий русский интеллигент восставал против любой подлости, несправедливости, угнетения. Деревицкий в вицмундире, со всеми регалиями, явился к губернатору, потребовал освобождения молодых людей. Губернатор от неожиданности опешил и только повторял: «Милостивый государь, милсдарь... я вас не понимаю. Это переходит все границы, милсдарь...» «Милостивый государь», гордо подняв голову, возвысив голос, сказал: — Тогда арестуйте меня... это мои ученики, я их воспитал. Растерявшийся губернатор отдал приказ об освобождении молодых подпольщиков. В ту же ночь они ушли в горы.
В начале 1920 года штаб Юго-Западного фронта готовился к операции по освобождению Крыма. Прорыв на полуостров намечался на апрель. Об этом знала партийная подпольная организация в Симферополе и собиралась нанести удар по врангелевским войскам с тыла. Были подготовлены боевые группы, оружие, взрывчатка, напечатаны прокламации к населению. Но тут подпольщикам был нанесен новый тяжкий удар. В областной комитет большевиков врангелевская контрразведка втиснула провокатора. На заседаниях он часто сидел рядом с председателем областкома Бабаханом. Вовремя вставлял нужное слово, вызывался на самые опасные задания. В марте было решено организовать покушение на начальника врангелевской контрразведки. Две группы подпольщиков на конспиративных квартирах готовили эту важную акцию. Накануне операции контрразведка окружила подпольщиков. В руках врангелевцев оказался и весь оперативный штаб по подготовке восстания. Ночью на окраине Симферополя были казнены члены областного комитета большевиков. На рассвете по тайным тропам в горы уходили уцелевшие коммунисты. «По всем данным, до апреля текущего года в Крыму существовала вполне налаженная подпольная организация, развивавшая весьма интенсивную деятельность: организация насчитывала сотни членов, имела разветвления и связи в воинских частях, во флоте, в военных учреждениях, имела свои отряды с боевыми задачами». Это строки из «Доклада о деятельности Закордонного отдела ЦК КП(б)У по руководству революционной борьбой трудящихся Крыма и Северной Таврии».
Врангель, начальник его контрразведки, избежавший справедливой расплаты, и вся армия «черного барона» полагали, что после расстрела в Севастополе и Симферополе в Крыму наступит кладбищенская тишина. Но тишины не было. Симферополь ответил на казнь всеобщей забастовкой. Закрылись все заводы, фабрики, учреждения и магазины. Бурлил университет. Газета «Южные ведомости» писала: «По распоряжению командира городской стражи были приняты меры к открытию магазинов... Лица, которые будут препятствовать торговле, будут предаваться суду по законам военного времени». Но лавки по-прежнему стояли закрытые, и «на базаре, в связи с отсутствием хлеба и общим нервным настроением, значительно поднялись цены на главнейшие продукты питания». В те годы в Крыму был один военный завод — Портовый, в Севастополе. Врангелевский штаб пытался наладить там выпуск боеприпасов. Не вышло. В Закордонный отдел ЦК КП(б)У пришло донесение: «Завод замер». В Симферопольской тюрьме ждали казни девяносто шесть заключенных. Ночью свершилась акция подпольщиков — налет на тюремную стражу: обреченные были спасены. В Симферопольском первом участке томился 231 человек, и среди них — член ревкома. Еще один налет, и полицейские бежали, а из распахнутых дверей хлынул поток освобожденных людей. В те же весенние дни двадцатого года подпольщики взорвали в Симферопольском депо бронепоезд и выходную стрелку на станции, подожгли Альминский мост, а потом, под стать легендарному Камо, обезоружили врангелевскую береговую охрану у Керчи, сняли замок с орудий и переправили их с артиллеристами в Тамань. Когда о происшествии доложили генералу Врангелю, тот сначала онемел от этой дерзости, потом выругался по-немецки и по-французски и в сердцах сорвал с себя салфетку — дело было за завтраком. В гневе барон не раз еще прибегал к сильным выражениям и, более того, вешал и расстреливал своих же солдат. В разгар лета 1920 года по приказу Врангеля дредноут «Воля», доставшийся ему от добровольческого флота, бомбардировал Очаков. Экипаж корабля, сцепив зубы, выполнил этот дьявольский приказ, но затем поднял бунт. По приказу Врангеля сто мятежных матросов были расстреляны, сообщили «Известия ВЦИК». На эту казнь ответил Севастополь: на Сухарной балке в воздух взлетели двести тысяч снарядов и сотни ящиков со взрывчаткой. Партизаны наносили удар за ударом.
«Я ПРИНИМАЮ ПОРУЧЕНИЕ ЦК»
1 августа Кавказское Бюро ЦК РКП(б) послало из Ростова в Москву телеграмму В. И. Ленину, Центральному Комитету партии и Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, сообщая об оживлении контрреволюции на Кубани: «Кубань вся охвачена восстаниями тчк Действуют отряды зпт руководимые единой рукой — врангелевской агентурой тчк Зеленые отряды растут и значительно расширяются с окончанием горячей поры полевых работ — около 15 августа тчк Отдельные отряды появляются в Ставропольской губернии зпт на границах Кубанской и Астраханской... оживление и усиление деятельности отрядов зпт обрастающих зелеными зпт являются следствием продолжения врангелевского фронта тчк В случае неликвидации Врангеля в течение короткого времени зпт мы рискуем временно лишиться Северного Кавказа тчк Начавшая налаживаться работа дезорганизована зпт гурты скота угоняются бандами тчк Под ударом Черноморское побережье тчк».Телеграмма Кавказского Бюро ЦК РКП(б) пришла из Ростова в Москву в ночь на 2 августа. В. И. Ленину ее доложили рано утром. Через несколько часов под его председательством состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б), на котором было решено принять все меры для скорейшего разгрома армий барона и изгнания его из Крыма, создать самостоятельный фронт. Это решение еще раз подчеркнуло, какое внимание Центральный Комитет партии и Владимир Ильич уделяли делу разгрома контрреволюции на юге России. В. И. Ленин и ЦК вплотную занимались этим вопросом с конца 1919 года. 25 мая 1920 года Политбюро ЦК снова обсуждало вопрос о Крыме. В последующие месяцы и до полного уничтожения контрреволюции на юге России В. И. Ленин значительную часть своего времени, энергии, внимания отдавал решению этой задачи. Практически в руках Владимира Ильича находилось общее руководство важнейшей операцией по разгрому последнего очага контрреволюции. 11 августа В. И. Ленин телеграфирует командованию Юго-Западного фронта, требует напрячь все силы, «чтобы отобрать весь Крым... во что бы то ни стало». Тогда же он приходит к мысли поручить Михаилу Васильевичу Фрунзе командование Южным фронтом. 19 августа Политбюро с участием В. И. Ленина обсуждает вопрос о положении на врангелевском фронте и принимает решение ускорить направление Михаила Васильевича Фрунзе в Крым. На следующий же день, двадцатого августа, В. И. Ленин пишет предложения о мерах усиления Южного фронта. Фрунзе все еще не переброшен на Южный фронт, это вызывает большое беспокойство Владимира Ильича, и 8 сентября по прямому проводу он ведет переговоры с заместителем председателя Реввоенсовета республики Э. М. Склянским, предлагая ему «без промедления назначить Фрунзе командующим Южным фронтом». Предполагалось, что наступление на Крым начнется в конце сентября. В. И. Ленин не упускает из вида и другую задачу. В белой армии много офицеров, вышедших из низших чинов и получивших звания во время войны. Надо попытаться на них воздействовать, чтобы выиграть операцию малой кровью. 11 сентября В. И. Ленин подписывает «Воззвание к офицерам армии барона Врангеля», вникает во все детали, связанные с предстоящим наступлением, и 17 сентября на заседании Совета Труда и Обороны обсуждает вопрос об обязательной закупке у населения повозок с комплектами упряжи для будущего Южного фронта, о необходимости снабжения красноармейцев обмундированием, обувью и другими предметами. 20 сентября Владимир Ильич принимает Фрунзе, назначенного командующим Южным фронтом, подробно разбирает с ним план предстоящей операции. Видимо, здесь-то и возник сложный и важный вопрос: а как поведет себя Махно? Ведь он может ударить в тыл армии Южного фронта. Как же тогда развернутся события? Один тревожный день сменял другой. Южный фронт напряженно готовился к решающей операции. В конце сентября она еще не началась, и В. И. Ленин выражает Троцкому недовольство отсрочкой наступления, требует форсировать события, а на следующий день, допоздна занятый другими делами, пишет в то же время обращение «К незаможным селянам Украины». Уже сам стиль обращения, применение понятного на юге слова «незаможным», то есть бедным, свидетельствует о тонком психологическом подходе В. И. Ленина к украинским крестьянам, исстрадавшимся от гражданской войны. В. И. Ленин писал: «Товарищи! Царский генерал Врангель усиливает наступление на Украину и Россию. Поддержанный французскими капиталистами, он продвигается вперед, угрожая Донецкому бассейну и Екатеринославу. Опасность велика. Еще раз помещики пытаются вернуть свою власть, пытаются вернуть себе земли и снова закабалить крестьян!.. Товарищи! Пусть же все и каждый встанет грудью на защиту против Врангеля! Пусть все комитеты незаможных селян напрягут, как только можно, свои силы, помогут Красной Армии добить Врангеля. Пусть ни один трудящийся крестьянин не останется в стороне от рабоче-крестьянского дела, не останется бездеятельным или равнодушным. Товарищи! Помните, что дело идет о спасении ваших семей, о защите крестьянской земли и власти. Все на помощь Красной Армии!»
Для крайнего беспокойства за судьбу юга России были все основания. Еще в августе 1920 года Врангель, в который уже раз, выбросил десанты у Бердянска, Ейска и Таганрога. Замысел барона был ясен: он намеревался поднять донских казаков и выдвинуть лозунг отделения Дона от Советской России. В подавляющем большинстве донское казачество не встретило врангелевский десант сочувственно, а в ряде районов дало ему достойный отпор. Но надо было спешить. Антанта подбрасывала барону со стороны Черного моря все больше оружия. Французское правительство официально признало «правительство» барона Врангеля. Белогвардейский журналист Бурцев торжествовал на страницах парижской газеты «Виктуар»: «Сегодня наш праздник... французское правительство будет оказывать барону Врангелю всяческую помощь в борьбе против Советской России».
После назначения Фрунзе командующим Южным фронтом сразу же возник вопрос, кого выдвинуть на пост членов Реввоенсовета. По предложению В. И. Ленина, членами Реввоенсовета фронта были утверждены начальник Политуправления Красной Армии С. И. Гусев, имевший большой партийный опыт, участвовавший в ряде дооктябрьских съездов партии, и В. П. Затонский — крупный партийный деятель. А третий? Во многих странах мира нарастало сочувствие русской революции, действовали комитеты «Руки прочь от Советской России». Дело Великой Октябрьской социалистической революции — это дело трудящихся всех стран. В армиях Южного фронта много интернационалистов. Там венгры, латыши, эстонцы, литовцы, там люди почти всех национальностей России. Так пусть же и членом Военного совета этого интернационального фронта будет иностранный коммунист. И Владимир Ильич останавливает свой выбор на Бела Куне. 27 сентября Лидия Александровна Фотиева сообщила Бела Куну, что В. И. Ленин просит его прийти завтра утром для срочного разговора. Бела Кун ждал этого приглашения, но, конечно, никак не мог предположить, что встреча с Владимиром Ильичем примет такой оборот. Предложение В. И. Ленина быть там, где шла ожесточенная борьба против врагов революции, было неожиданным, но совпало с его стремлением. С Владимиром Ильичем Лениным Бела Кун встречался и раньше. Их знакомство произошло в декабре 1917 года, когда тридцатилетний руководитель венгерских военнопленных приехал в Петроград из Сибири, чтобы установить связь с Центральным Комитетом Российской Коммунистической партии (большевиков). Владимир Ильич удостоверял это в своем «Сообщении о переговорах по радио с Бела Кун», записанном в марте 1919 года на граммофонную пластинку: «Товарищ Бела Кун хорошо знаком был мне еще тогда, когда он был военнопленным в России и не раз приходил ко мне беседовать на темы о коммунизме и коммунистической революции».
В ту первую встречу с В. И. Лениным Бела Кун еще плохо владел русским языком, но пытался говорить по-русски. Владимир Ильич слушал, не пропуская ни одного слова, видел, что гостю не очень легко излагать свои мысли, и предложил перейти на немецкий. Бела Кун охотно это сделал. Они тогда долго беседовали о том, что волновало гостя больше всего, — о будущем его родины, о путях революционного развития России, о войне, которая еще терзала Европу. Потом они встречались снова. В январе 1918 года Владимир Ильич шесть раз беседовал с Бела Куном, расспрашивал его о настроениях военнопленных. Особенно интересовали его венгерская революционная партия, вести из Венгрии. В. И. Ленин узнавал, как себя чувствуют военнопленные в России, не ощущают ли неприязни со стороны местного населения. 28 сентября 1920 года Владимир Ильич Ленин, как обычно, был занят до предела: день его заранее был расписан по минутам. С утра он подготовил телеграмму Тамбовскому губисполкому и губпродкому с распоряжением направить в Москву два маршрута с хлебом. Потом принял работников, приехавших из Сибири, подробно беседовал с полпредом РСФСР в Грузии Сергеем Мироновичем Кировым о положении дел на Кавказе. Вслед за этим состоялась беседа с партийным деятелем Б. З. Шумяцким, приехавшим из Сибири. Когда Шумяцкий вышел из кабинета, Владимир Ильич попросил Фотиеву, чтобы его полчаса не соединяли по телефону, и засел писать замечания к резолюции IX Всероссийской конференции РКП(б). Вечером предстояло заседание Совета Народных Комиссаров. Но перед ним Владимир Ильич нашел «окно» для безотлагательных переговоров с Бела Куном. Первое, что увидел Бела Кун, войдя в кабинет В. И. Ленина, — большую карту на стене. Владимир Ильич стоял у карты, и взор его был обращен к южному флангу России, к Крыму. Поздоровавшись с Бела Куном, Владимир Ильич спросил, как он отдохнул в Подмосковье. После нескольких недель вынужденного безделья в доме отдыха Бела Кун чувствовал себя превосходно. Это обрадовало Ленина. Он подвел Бела Куна к карте и, зная, что тот поймет с полуслова, сказал по-русски: — Вот здесь все надо решить как можно быстрее. Выбросить Врангеля из России. Без этого нам будет трудно продвинуться вперед, заставить другие страны признать нас. Пока там, за границей, питают большую надежду на реставрацию, признания Советской России не будет. В. И. Ленин кратко обрисовал положение в Крыму и после короткой паузы, пристально разглядывая венгра, сказал, что ЦК РКП(б) рекомендует его, Бела Куна, на пост члена Революционного военного совета Южного фронта и что он, Ленин, ждет его согласия. Бела Кун некоторое время молчал, мысленно оценивая всю ответственность поручения. В тишине, наступившей в кабинете, тихо зазумерил телефон, но Владимир Ильич не взял трубку: он ждал ответа. Наконец, Бела Кун, старательно выговаривая по-русски слова, сказал: — Я принимаю поручение ЦК, ваше поручение, Владимир Ильич. Я согласен. 1 октября 1920 года Бела Кун по рекомендации Центрального Комитета большевистской партии и Революционного военного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики был назначен членом Реввоенсовета Южного фронта. Вместе с Михаилом Васильевичем Фрунзе и другими деятелями партии ему было дано важнейшее поручение: завершить разгром последнего оплота русской и международной контрреволюции — армий барона Врангеля. Бела Кун сразу же выехал в Харьков, где с начала осени 1920 года находился Фрунзе. Там и произошла их первая встреча. Как сложились отношения Михаила Васильевича Фрунзе и Бела Куна? На единственной фотографии, дошедшей до нас, Фрунзе и Бела Кун сидят рядом, как близкие и добрые друзья. Этот снимок сделан после разгрома Врангеля. Такими были их отношения в те полтора — всего полтора — месяца совместной работы на Южном фронте. И такими остались они до конца. Сразу же после назначения членом Военного совета Бела Кун вместе с Фрунзе принимает деятельное участие в подготовке армий Южного фронта к решающему наступлению. Четвертого октября, то есть через три дня после назначения, он вместе с Фрунзе шлет телеграмму о довооружении 16-й бригады Южного фронта и практически занимается решением этого вопроса. Сложилось как бы распределение обязанностей между членами Военного совета: С. И. Гусев занимался общим политическим руководством, В. П. Затонский по-прежнему оставался на своем партийном посту, Бела Кун все больше находился в войсках, занимался формированием интернациональных соединений.
КАНУН
Осенью двадцатого года стояли в Крыму тихие, теплые дни. Хотя с севера уже дули холодные ветры — предвестники суровой зимы и в долинах по утрам долго лежала роса, на всей южной гряде полуострова, окаймленного особняками знати и домишками бедняков, все еще палило солнце. Приближался последний акт борьбы, а положение Врангеля пока было прочным. Прорвав линию Волноваха—Мариуполь, он в октябре 1920 года продолжал удерживать инициативу в своих руках. Создалась угроза продвижения белогвардейских армий в Донбасс. Во врангелевскую армию стекались остатки белогвардейских войск, разбитых в Сибири, под Петроградом, на других фронтах, стопятидесятитысячная армия барона все время пополнялась. Ее лучшие дивизии — марковская, дроздовская и корниловская — стояли на подступах к Крыму; они были хорошо оснащены артиллерией, танками, тяжелыми пулеметами, бронетранспортерами, боеприпасами — все это вооружение широким потоком текло через Средиземное и Черное моря в Крым. На Черном море хозяйничал флот Врангеля, его поддерживала авиация. И барон и Антанта были убеждены — и на то были основания, — что Крым сильно укреплен и что если Красной Армии даже удастся потеснить Врангеля из южных районов Украины, то в Крым она не прорвется. На Перекопе, в районе Сальниковского перешейка и Чонгарского полуострова, были созданы сильные укрепления, обеспеченные тяжелыми орудиями. Шестьдесят грузовиков, оснащенных пулеметами, и броневики надежно закрывали доступ на полуостров. Барон щедро расплачивался со своими покровителями. Транспорт, груженный сырьем для промышленности, три миллиона пудов кубанской и ставропольской пшеницы — хлеб, награбленный и отобранный у голодающих рабочих России, — ждали отправления в Западную Европу. В кабаках Севастополя, Ялты, Симферополя, во всех злачных местах продолжала кутить, веселиться, спекулировать и наживаться вся дрянь, скопившаяся на крымской земле, уверенная, что снова вернется в свои поместья, банки, министерские кабинеты. Тем временем армии Южного фронта готовились к решающим боям, и было важно, какую позицию займет Нестор Махно.В СТАВКЕ БАТЬКИ МАХНО
В тот промозглый октябрь 1920 года, когда Бела Кун прибыл в штаб Махно, батьке только-только исполнился тридцать один год. Имя его гремело по всей Украине, а клички ему давали разные: «душегуб», «вешатель», «анархист» и просто «бандит». Фигура это была, однако, не простая. Этого бывшего батрака-пастуха выплеснул на поверхность свергнутый революцией старый мир. Еще юношей в 1905 году он попадает под влияние анархистов, через три года царский суд приговаривает его к каторге. Выйдя из заключения, он становится ярым сторонником безвластия, но сам рвется к личной власти и считает это вполне законным. Из тех, кто близко знал Нестора Махно, пожалуй, наиболее точную характеристику дал ему профессиональный революционер Степан Семенович Дыбец, бывший анархист, задолго до Февральской революции эмигрировавший в Америку, а после Великой Октябрьской социалистической революции ставший большевиком, С. С. Дыбец являлся председателем ревкома в Бердянске, где в 1919 году находились махновские войска, и волей судьбы был вынужден иметь дело с Махно. Позднее он был начальником Главного управления автомобильной и тракторной промышленности, близким другом Серго Орджоникидзе. Вот что Дыбец говорил о Махно: «Был среднего роста, носил длинные волосы, какую-то военную фуражку. Владел прекрасно всеми видами оружия... Хорошо знал винтовку, отлично владел саблей, метко стрелял из маузера и нагана. Из пушки мог стрелять... думается, Махно обладал недюжинными природными задатками. Но не развил их... Пил он несусветно. Пьянствовал день и ночь. Развратничал. Ему, отрицателю власти, досталась почти неограниченная бесконтрольная власть. И туманила, кружила голову».Махно за три года после Октября то и дело менял свои «позиции». В 1918 году, когда кайзеровская армия оккупировала Украину, махновцы вели борьбу против немцев и украинских помещиков, сопровождая ее пьяным разгулом и грабежами. В конце года они примкнули к Красной Армии и приняли участие в изгнании врага украинского народа Симона Петлюры из Екатеринослава. Но закрепиться здесь не сумели из-за тех же грабежей. В начале 1919 года в банды Махно стекались остатки петлюровских войск, авантюристы, сутенеры, всякая деклассированная нечисть. Махно откровенно повернул против Советской власти. Гуляй-Польский район стал главным махновским контрреволюционным центром. Махно организует террор против партийных и продовольственных работников и милиции. Но тут Деникин начинает наступление на Украину и Донбасс, беспощадно грабит население. Из рук батьки, вызывая недовольство его воинства, уплывает добыча. Значит, надо бороться против Деникина. Силенок у одного Махно маловато, и он просит Красную Армию взять его под «свою высокую руку». Дыбец писал: «Может быть, тут была вина и молодой Советской власти, когда ему (Махно. — З. Ш.) создавали популярность... и пошли даже на то, чтобы его войско, уже многотысячное, звалось бригадой имени батьки Махно». Но время было архитрудное для Красной Армии, и каждый союзник был необходим. Вскоре, однако, стало ясно, что в Гуляй-Поле, да и по всей округе Махно продолжает свои старые дела, ведет войну не столько против белогвардейщины, сколько против народной власти. Он открыл фронт Деникину. Тем временем Красная Армия наносит сокрушительные удары по деникинцам. В создавшейся ситуации Махно и его единомышленники опять маневрируют. Дав вынужденное согласие на переговоры с членом Военного совета Бела Куном о совместных действиях против Врангеля, Махно нервничал, пытался оправдаться перед своими единомышленниками. По его указанию газеты поместили заметку, в которой говорилось: «...мы полагаем, что коммунистическая партия не позволила бы вести с нами какие бы то ни было переговоры, если бы сама коммунистическая партия в этих переговорах не была заинтересована... Но мы всегда готовы сговориться с теми, у кого интересы революции стоят выше всего». Вот так! Они готовы «в интересах революции», а конкретно, во имя спасения своей анархистской армии пойти на соглашение с большевиками. Махно временно приостанавливает открытую борьбу против Советов, но готов каждую минуту приняться за старое. В это время в штаб Махно и прибыл Бела Кун. Махно настороженно смотрел на него, ожидая, что он начнет разговор. Бела Кун, глядя в глаза батьке, тоже молчал, рассчитывая, что тот заговорит первым: ведь Махно был заранее извещен штабом Фрунзе о цели приезда члена Военного совета фронта, а Озеров накануне через специального человека сообщил батьке, с чем именно прибыл Бела Кун. Махно оглянулся, как бы собираясь с мыслями, посмотрел в окно вагона. Оттуда доносились площадная брань и шум начинающейся драки. Махно, скосив глаз, бросил начальнику штаба: — Угомонь! Озеров вышел. За окном раздался свист нагайки, удар, вопль, десятиэтажный мат. Потом все стихло. — С чем приехал? Выкладывай. Батька сел, жестом приглашая гостя сесть по другую сторону стола. Озеров, вернувшийся в вагон, устроился недалеко от Махно. Бела Кун, скрестив на столе руки, произнес: — Зачем приехал — тебе известно. — От тебя хочу слышать... Помедлив, растягивая слова, Бела Кун ответил: — С Врангелем кончать будем... Так Москва решила. — Москва решила, — повторил Махно и, наливаясь яростью, с перекошенным от нахлынувшей злобы лицом, выдавил: — А потом со мной кончать будете? Так, что ли? Бела Кун выждал, пока у батьки пройдет пароксизм бешенства, и, четко выговаривая слова, сказал: — Кончать будем со всей контрреволюцией. Народ устал. Голодает. Мир нужен. Хлеб нужен... Ты ведь не считаешь себя контрреволюционером. Так ведь? Махно, несколько опешив и не сразу найдя нужные слова, играл желваками. Встал. Пошел к кошме. Принес засаленную книжонку. Послюнив палец, нашел нужную страницу, торжественно прочитал: «Государство — есть зло...» — Знаешь, кто написал? Не знаешь? Бакунин написал. Гарный был мужик, хотя из дворян. Гэгэля читал? Мы с Бакуниным и есть истинные революционеры, а вы все ренегаты... За окном послышался шум, перебранка. Озеров не успел открыть дверь, как она распахнулась, на пороге появился детина, глаза его были налиты кровью. Он с ходу сообщил: — Батько, мы тут порешили его в расход пустить. — Кого? — спросил Махно. — Та солдата, шо с этим приехал... Винтовку не отдает... Махно быстрым движением выхватил из-под стола стеклянный штоф с горилкой и, сильно размахнувшись, запустил в охранника. Тот не успел отскочить. Бутыль с грохотом раскололась о его голову, и он, обливаясь кровью, начал оседать, телом открыл дверь тамбура и вывалился из вагона. Бела Кун молча наблюдал за этой сценой. Озеров, поигрывая нагайкой, выскочил из вагона, навел «порядок». Наступила тишина. Махно успокоился, перешел к существу дела. — Какие же условия ставят большевики? Мы с вами или вы с нами идем на Врангеля? Махно понадобился, значит, — заметил батька, и самодовольная улыбка осветила его лицо. — Можно на Врангеля пойти вместе с тобой. А можно с ним покончить и без тебя, — ответил Бела Кун. — Почему тогда приехал? — Вместе быстрее решим задачу... да и поручение имею. — От кого? — От Фрунзе. — А еще? — Согласовано с Лениным. Махно зашагал по вагону, выпятив грудь. Потом зло сказал: — Обманете! — Мы тебе предлагаем честный договор: либо всю свою армию отводишь в глубокий тыл и держишь нейтралитет. Либо, как бригаду, включаем в войска Южного фронта. Решай. Время не терпит. Наступило тягостное молчание. Махно вдруг спросил: — Ты кто? Веры какой? — Веры? — переспросил Бела Кун и, помедлив, ответил: — Коммунистической веры. Махно зло посмотрел на него. — А чего тебе здесь надо, что ты тут потерял на моей Украине? Бела вдруг с поразительной и неожиданной для себя ясностью понял, что здесь он пришелец, его пронзило острое и горькое чувство. Там, в Венгрии, в деревне, где он родился, в городах, где он жил, никто не посмеет назвать его чужаком. Врагом — да. Недругом — да. Но только не чужаком. Венгрия — его страна, его родина. А кто он здесь? Может быть, и впрямь чужой? Но только одно мгновенье владело им это чувство и эта горечь, подкатившая к горлу. Резким движением руки, как бы отстраняя от себя недруга, Бела Кун рубанул рукой воздух. Он готов был сорваться на резкость. Но сдержал себя и спокойно ответил, что у истинного революционера родина там, где идет борьба за свободу народа, за новую жизнь. И, уже почти совсем успокоившись, сказал: — Ты вместе с Красной Армией воевал против Симона Петлюры. Он ведь украинец, а погубил тысячи украинцев! Что ему здесь надо было? А мне здесь партия большевиков велела быть. Махно угрюмо молчал. Озеров, застыв на своем стуле, переводил глаза с одного на другого, ожидая взрыва. Батька может начать все крушить, кликнет своих пьяных молодцов, торчащих там, за окном вагона, и рявкнет: «В расход его!» — а может, сам застрелит. Вымученно улыбнувшись, Махно прервал молчание, спросил: — Про тебя говорят — своих буржуев вешал. — Вешать не вешал, а власти лишал... да вот не до конца. — Храбрый ты мужик. Не побоялся ко мне приехать. — Чего бояться? Говоришь, ты — революционер, хотя и анархист. И я революционер. Вот и давай решать. Время не ждет. — Всю армию под ваше командование не отдам, — взвизгнул Махно. И, задыхаясь от ярости, повторил: — Не отдам. — Вот это уже разговор. Сколько штыков отведешь в тыл? — Не знаю. Подумать надо. — Решай. Мы должны подписать договор. За этим приехал... Махно мельком взглянул на сидящего тут же за столом Волина, как бы ища поддержки и совета. Тот, обычно не дававший никому слова сказать, на этот раз молчал и, неохотно подчиняясь Махно, предложил: — В «Набате» обсудить надо. — Это ваше дело, — сказал Бела Кун. — Сейчас подпишем в принципе, а потом утвердите в своем революционном совете «Набат», как вы его называете. Поздно ночью 20 октября 1920 года в вагоне на станции Ульяновка по уполномочию командующего Южным фронтом М. В. Фрунзе член Военного совета Южного фронта Бела Кун и командующий «повстанческой армией» Нестор Махно подписали договор о совместных действиях против армии барона Врангеля. Соглашение состояло из трех пунктов. Пункт 1 гласил: «Все боевые силы армии Махно, сохраняя свои прежние внутренние распорядки, оперативно подчиняются общему командованию Республики». Но не все свои силы Махно подчинил Южному фронту. Три тысячи штыков сам увел в район Гуляй-Поля. Через много дней после поездки в ставку Махно Бела Кун, рассказывая об этом своей жене Ирине, признался, что чувствовал себя там неуютно. Ведь достаточно было одного неосторожного слова — и махновцы тут же, без разговоров прикончили бы его. — Это бы еще пустяки, — смеясь, заключил он. — Но вместе со мной прикончили бы и союз против Врангеля и с тыла напали бы на Южную армию.
«НЕ ВОЕНСПЕЦ, А ПРОСТО КОММУНИСТ»
Долгие и трудные были две недели с той ночи, когда Бела Кун подписал договор с Махно. Готовился окончательный разгром Врангеля. В конце октября 1920 года В. И. Ленин уделял этой задаче еще больше внимания, чем летом. Другие белогвардейские фронты представляли еще немалую опасность для Советской России. Но Ленин, как никто, понимал роль Крыма на шахматной доске истории. И торопил, торопил всех — и военных, и партийных деятелей, требовал от них максимального напряжения сил, чтобы быстрее покончить с Врангелем. Когда 18 октября члены президиума Тульского губкома партии И. Ф. Арсентьев и М. Я. Зеликман в своем письме Владимиру Ильичу выдвинули на первый план хозяйственные и просветительские задачи, В. И. Ленин направил тульским товарищам ответ, в котором каждое слово — боевой заряд: «Пока не побили Врангеля до конца, пока не взяли Крыма всего, до тех пор военные задачи на первом плане. Это абсолютно бесспорно». 24 октября Владимир Ильич Ленин подписал телеграмму Реввоенсовету Первой Конной армии и Сергею Сергеевичу Каменеву с предложением принять самые героические меры по ускорению сосредоточения армии для удара против войск Врангеля. Занятый поистине сложнейшими государственными делами, он вникает во все стороны предстоящей боевой операции. В телеграмме Михаилу Васильевичу Фрунзе просит принять «архиспешные меры» для подвоза тяжелой артиллерии, доставки саперов и прочие шаги, обеспечивающие успех наступления Красной Армии под Перекопом. У внешних врагов Советской России не должно оставаться даже малейшей надежды на реставрацию, на новое разрастание кулацкой Вандеи. Разгром Врангеля откроет путь к миру, приблизит прорыв внешнеполитической блокады, выход страны на европейскую, а затем и на мировую арену... В штабе М. В. Фрунзе уточняют последние детали операции. В разработке ее участвует Бела Кун. М. В. Фрунзе советуется с ним, куда направить венгерских интернационалистов. Командование фронта ждет, что перед самыми ожесточенными боями на Южный фронт прибудут новые интернациональные подразделения. Формирование этих войск возложено на Бела Куна. Через несколько дней после возвращения из ставки Махно Бела Кун выехал из штаба фронта. О целях его поездки знал Фрунзе и еще несколько руководителей фронта. В один из городов центра России направились делегаты от семидесяти шести губерний. Ехали они на Вторую Всероссийскую конференцию венгров — бывших военнопленных. Конференция открылась 26 октября. Ее делегатами были заведующие венгерскими отделами губернских и городских комитетов РКП (большевиков). К тому времени в Советской России насчитывалось три с половиной тысячи венгров — членов РКП(б). Все это бывшие военнопленные, прошедшие через горнило империалистической войны, хлебнувшие горя в окопах, видавшие смерть в глаза. Ленинский лозунг «Мир народам!» они встретили с большой радостью, в Советской России увидели прообраз братства всех народов и теперь готовы были защищать дело Великой Октябрьской революции до последней капли крови. Они знали, что едут на конференцию, чтобы решить для себя и всех венгерских коммунистов в России важнейшую задачу — помочь разгромить армию Врангеля. Доклад на конференции сделал Бела Кун. Время было военное, дорог каждый час. Конференция приняла решение: «Интернационалисты, вступившие в ряды Красной Армии, должны понимать, что их пролетарский долг, который они берут на себя, накалывая на головной убор красную звездочку, состоит в том, чтобы служить делу мирового пролетариата так, как это делает любой другой красноармеец». Конференция избрала новый состав Центрального венгерского Бюро агитации и пропаганды, а председателем Бюро — Бела Куна. Бела Кун объявил конференцию закрытой. Все встали и запели «Интернационал». Пели по-венгерски и по-русски. Потом венгры выехали в расположение войск Южного фронта, где уже находились многие венгерские интернационалисты, бывший народный комиссар по военным делам Венгерской советской республики Йожеф Погань, начальник штаба Заволжской стрелковой бригады Дюла Бошкович, комиссар Отдельного кавалерийского эскадрона Первой Конной армии Янош Месарош, Мате Залка, будущий писатель, будущий генерал Лукач — герой антифашистской войны в Испании. 30 октября Бела Кун выехал в Мелитополь, где находился штаб Михаила Васильевича Фрунзе. Туда же прибыли из Москвы Дмитрий Ильич Ульянов, Розалия Самойловна Землячка. Был там и Юрий Петрович Равен, секретарь подпольного Крымского обкома партии. Сразу же после разгрома Врангеля они должны были создать в Крыму органы Советской власти. На пост председателя Крымского ревкома ЦК рекомендовал Бела Куна. На фронте заканчивались последние приготовления к решающему наступлению. Лицом к лицу оказались две армии. Неравны были их силы. И неравно было их вооружение. 18 ноября 1920 года, уже после разгрома Врангеля, С. И. Гусев выступил в Харькове с докладом на V Конференции Коммунистической партии большевиков Украины. Вот как он охарактеризовал эти две армии: «Врангель, благодаря своему умению, благодаря помощи Антанты, сумел сформировать прекрасные боевые части. Врангель создал сильные укрепления на Перекопе, в районе Сальковского перешейка и Чонгарского полуострова... У них были прекрасные танки, много аэропланов. Мы по сравнению с ними были нищие. У противника были тяжелые орудия, которые стояли на укреплениях. Наша тяжелая артиллерия не успела подойти, авиационные средства остались в тылу. У нас не было броневиков. Против 10-, 8-дюймовых орудий Врангеля наши 3-дюймовые пушки были жалкой игрушкой».А равны ли были по своему опыту командные кадры, те, кто возглавлял эти армии? Врангель по праву считался опытнейшим военным. За спиной сорокадвухлетнего генерал-лейтенанта была знаменитая российская Академия Генерального штаба, русско-японская война, в которой он проявил себя искусным офицером, и империалистическая война — тогда он командовал корпусом. Под стать ему быликомандиры корпусов и дивизий, генералы, также окончившие Академию Генерального штаба и накопившие опыт сражений с самыми стойкими германскими и австровенгерскими дивизиями. Ну, а что собой представляли руководители Южного фронта? На той же V Конференции КП(б) Украины С. И. Гусев так охарактеризовал тридцатипятилетнего командующего Южным фронтом: «Тов. Фрунзе, который проводил эту операцию, не военспец, а просто коммунист». Характеристика — лучше не скажешь. Фрунзе был профессиональным партийным деятелем. Он не участвовал в первой мировой войне — находился на подпольной работе. В 1916—1917 годах вел революционную работу среди солдат Западного фронта. Царский суд приговаривал его к каторге, смертной казни и снова к каторге. После Великой Октябрьской социалистической революции Фрунзе — председатель Иваново-Вознесенского губернского исполкома. Но в тот, 1918 год раскрывается его блистательный талант полководца. Командуя армиями, он громит Колчака и белогвардейцев. И наконец, партия поручает ему командование Южным фронтом и возлагает на него руководство ликвидацией последнего оплота контрреволюции. А кто были командиры его армий и корпусов? Прежде всего двадцатидевятилетний Василий Константинович Блюхер. Этот крестьянский сын из деревни Барщинка Ярославской губернии академий не кончал. За безграничную храбрость солдат Блюхер был награжден в мировую войну двумя Георгиевскими крестами и произведен в младшие унтер-офицеры. В 1916 году после тяжелого ранения от военной службы освобожден. Вот и вся его военная карьера. Революция раскрыла его блистательный талант. Под командованием Блюхера партизанская армия совершила беспримерный рейд по тылам Колчака и вышла в районе Кунгура на соединение с 3-й армией. Отмечая заслуги Блюхера в руководстве войсками, ВЦИК наградил его только что учрежденным орденом Красного Знамени, указав при этом в постановлении от 28 сентября 1918 года: «Первый по времени знак отличия присудить тов. Блюхеру». Не было огромного опыта и у других ближайших сподвижников Михаила Васильевича Фрунзе. Сын литовского крестьянина Иероним Петрович Уборевич, командующий 13-й армией Южного фронта, еще три года назад был подпоручиком царской армии. В январе 1918 года командовал революционным отрядом в боях против австро-германских интервентов. Был ранен. Попал в плен. Бежал. И партия доверяет ему целую армию. Командующему 13-й армией было двадцать четыре года. И еще об одном командующем — Роберте Петровиче Эйдомане. В 1916 году он окончил Киевское военное училище с чином прапорщика. Его возраст тоже не выходил за пределы комсомольского. Ему было двадцать пять лет. Другие командиры соединений и частей были чуть постарше, а иные еще моложе. И всем им предстояло выполнить поручение республики.
ГЕНЕРАЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
27 октября 1920 года войска Южного фронта начали генеральное наступление против армий Врангеля. Первыми в бой пошли 51-я дивизия под командованием Блюхера, латышская дивизия, 15-я дивизия и 13-я армия под командованием Уборевича. Во всех дивизиях, полках, батальонах находились интернационалисты. Многие из них были начальниками штабов, командирами батальонов, эскадронов и рот. В тыл противника на Сальково и Геническ была двинута Вторая Конная армия. Отрезанные с тыла войска барона, неся потери, оставляя боеприпасы и вооружение, ушли на Крымский полуостров. Бела Кун все время находился на передовых позициях, среди красноармейцев. В последний день октября, когда определилось первое поражение противника, он передал по военному проводу статьи в редакции «Правды» и «Известий»: «Красная Армия двигается безостановочно вперед, уничтожая все препятствия на своем пути... Политический и военный развал последнего врага Советской Республики уже определился, причем политический развал идет параллельно военному... Дух нашей Красной Армии, несмотря на непогодь, снежные бураны, холода и недостаток обмундирования, крепнет с каждой новой удачей, и недалеко то время, когда наши красные герои займут последнее в России убежище русской и иностранной контрреволюции — Крым. На Севастополь — через Перекоп! Вот лозунг и путь Красной Армии».К пятому ноября первый этап разгрома Врангеля был закончен. В тот день Михаил Васильевич Фрунзе издал приказ. Вот строки из этого документа: «Противник понес огромные потери, нами захвачено до 20 тыс. пленных, свыше 100 орудий, масса пулеметов, до 100 паровозов и 2 тыс. вагонов, почти все обозы и огромные запасы снабжения с десятками тысяч снарядов и миллионами патронов. Лишь отдельные части армий противника прорвались в Крым по Сальковскому перешейку, да небольшая группа укрылась за Перекопским валом. Все северное побережье Сиваша занято нами... Армиям фронта ставлю задачу: по крымским перешейкам немедленно ворваться в Крым и энергичным наступлением на юг овладеть всем полуостровом, уничтожив последнее убежище контрреволюции. Во исполнение чего приказываю: 1. Командарму 6-й, в оперативное подчинение которого с получением сего передаю повстанческую армию Махно, переправившись не позднее 8 ноября на участке Владимировка, Строгоновка, Малый Курган, ударить в тыл перекопским позициям, одновременно атаковав и с фронта, и не позднее 10 ноября главным силам выйти на линию Копкары—Джелишай—Яланташ. Атаку производить решительно, сосредоточив для удара крупные силы. Иметь дальнейшей задачей наступление на Евпаторию, Симферополь, Севастополь».
В тот же день командарм Уборевич тоже издал приказ. Вот лишь один пункт из этого документа: «...Герои командиры и красноармейцы... Вами вырвано около 3 миллионов пудов хлеба, украденного правительством барона Врангеля у голодающих рабочих и крестьян Советской России и предназначенного к отправлению в Западную Европу в руки наших злейших и коварных врагов».
Наступил последний этап борьбы. Ночь на 11 ноября 1920 года. Ледяной ветер со снежным бураном сбивал людей с ног. В тонких шинелях, в истрепанных ботинках с обмотками, полуголодные, измотанные в предыдущих боях, стояли бойцы Южного фронта перед укреплениями противника. Врангель приказал на грузовиках подвести к узкому перешейку пулеметы, чтобы ураганным огнем скосить атакующих. Перекопский перешеек ощетинился колючей проволокой. Но красные воины пошли на штурм. По колено в ледяной воде они двигались вперед. Они не думали о славе. Потом об этом будут слагать песни, поэмы, легенды. Бойцы Михаила Фрунзе шли на пулеметы, на колючую проволоку, увязая в грязи, падая и вновь поднимаясь. И с ними шли Блюхер и Уборевич, Гусев и Бела Кун, ведя всех за собой. 12 октября. Перекоп взят. Врангель отдает приказ об эвакуации своей армии. Но это уже бесполезный приказ. Началось паническое бегство белой армии. Ее артиллерия и обозы брошены. Врангелевцы бегут к южным портам Крыма, надеясь морем достичь заграницы. 12 ноября ночью М. В. Фрунзе отправил В. И. Ленину телеграмму: «Сейчас вернулся из поездки на фронт. Объехал почти все дивизии армии. Несмотря на величайшее лишение красноармейцев, связанное с теснотой размещения, недостатком обмундирования, вообще снабжения, что связано с полной оторванностью тылов не только армейских, но и дивизионных, всюду находил бодрое и уверенное настроение... На этой почве явилось возможным приступить к форсированию перешейков, опираясь не на нашу технику, безнадежно отставшую, а на живую силу бойцов. Получив приказ о наступлении в Крым, полки ринулись неудержимым потоком и мощным ударом овладели рядом чрезвычайно сильно укрепленных позиций противника. В настоящее время мы прочно занимаем южное побережье Сиваша, и с утра завтрашнего дня наша конница, заканчивающая сегодня свое сосредоточение на указанных ей рубежах, бросается преследовать разбитого противника. Задачей войскам поставил — молниеносным ударом довершить разгром противника и ни в коем случае не допустить его посадки на суда. Надеюсь, что в 7-дневный срок, считая с 13 ноября, мы будем в Севастополе. Для помехи эвакуации морем отдал приказ выйти к Севастополю нашей единственной подводной лодке... Свидетельствую о высочайшей доблести, проявленной героической пехотой при штурмах Сиваша и Перекопа. Части шли по узким проходам под убийственным огнем на проволоку противника. Наши потери чрезвычайно тяжелы. Некоторые дивизии потеряли три четверти своего состава. Общая убыль убитыми и ранеными при штурмах перешейков не менее 10 тыс. человек. Армии фронта свой долг перед республикой выполнили. Последнее гнездо российской контрреволюции разорено, и Крым вновь станет Советским».
Командующий Южным фронтом намеревался завершить всю операцию по разгрому Врангеля и очистке Крыма к 20 ноября. Его армии выполнили эту задачу на четыре дня раньше. 16 ноября М. В. Фрунзе дал телеграмму В. И. Ленину: «Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован».
В Феодосии и Керчи генералитет и другие высокие чины армии Врангеля все же успели погрузиться на пароходы. Еще раньше оттуда бежали уцелевшие «сиятельства» из царского двора, бывшие министры, заводчики и фабриканты, банкиры, спекулянты, разжиревшие на мировой войне. Толчея в черноморских портах походила на панику при пожаре. Все чины и звания полетели в тартарары. Каждый спасал свою шкуру как мог. Врангелевские офицеры, не попавшие на перегруженные пароходы, кляли своего командующего. Он успел улепетнуть, бросив свою армию. Пароход с бароном, его приближенными и бесчисленными чемоданами с награбленным добром спешил к Стамбулу. Остатки белой армии разбежались кто куда. Врангелевская армия, на которую возлагали такую надежду последние царедворцы России и западные правительства, была окончательно разгромлена. В конце ноября пришлось решать вопрос о Махно. Сразу же после первых успехов на врангелевском фронте он нарушил договор, подписанный с Бела Куном. Возобновились нападения на красноармейцев, убийства, грабежи, террор против мирного населения. Фрунзе приказал 51-й дивизии Блюхера ликвидировать распоясавшуюся банду. В дело были введены интернациональные отряды. В районе Гуляй-Поля они окружили последние остатки анархистских банд, а в 1921 году Нестор Махно бежал за границу. Как и предвидел Ленин, разгром последнего белогвардейского оплота на юге России открыл путь к прорыву внешнеполитической блокады. Премьер-министр Англии Дэвид Ллойд-Джордж сразу же после победы над Врангелем предложил Москве продолжить переговоры о торговом соглашении, прерванные в июне 1920 года. 16 марта 1921 года Англия подписала торговое соглашение с Москвой. Не заставили себя ждать и другие страны. 6 мая 1921 года торгово-политический договор с Советской Россией подписала Германия, 2 сентября — Норвегия, 7 декабря — Австрия, 26 декабря — Италия. За ними последовали другие большие и малые государства. Советской России предстояли новые трудные сражения. Но не на полях страны, истерзанной империалистической и гражданской войнами, а за «круглым столом» дипломатов.
 Федор Артем-Сергеев, студент Московского Высшего технического училища.
Федор Артем-Сергеев, студент Московского Высшего технического училища.
 Федор Артем-Сергеев, член рабоче-крестьянского правительства России.
Федор Артем-Сергеев, член рабоче-крестьянского правительства России.
 Федор Артем-Сергеев среди группы подпольщиков — членов Уральского обкома большевиков. Снято в 1920 году.
Федор Артем-Сергеев среди группы подпольщиков — членов Уральского обкома большевиков. Снято в 1920 году.
 Похороны Федора Артема-Сергеева.
Похороны Федора Артема-Сергеева.
 Александр Дмитриевич Цюрупа.
Александр Дмитриевич Цюрупа.
 Александр Дмитриевич Цюрупа среди членов коллегии Наркомпрода.
Александр Дмитриевич Цюрупа среди членов коллегии Наркомпрода.
 Встреча Александра Дмитриевича Цюрупы с актерами МХАТа.
Встреча Александра Дмитриевича Цюрупы с актерами МХАТа.
 Ян Антонович Берзин.
Ян Антонович Берзин.
 Письмо Фрица Платтена В. И. Ленину.
Письмо Фрица Платтена В. И. Ленину.
 Проводы делегации Советской России в Швецию. В центре — А. М. Коллонтай.
Проводы делегации Советской России в Швецию. В центре — А. М. Коллонтай.
 Феликс Эдмундович Дзержинский с женой и сыном в Швейцарии.
Феликс Эдмундович Дзержинский с женой и сыном в Швейцарии.
 Письмо В. И. Ленина к американским рабочим, опубликованное советской миссией в Швейцарии отдельным изданием.
Письмо В. И. Ленина к американским рабочим, опубликованное советской миссией в Швейцарии отдельным изданием.
 Письмо Жака Садуля Ромену Роллану.
Письмо Жака Садуля Ромену Роллану.
 Андрей Кондратьевич Чумак с семьей в Америке.
Андрей Кондратьевич Чумак с семьей в Америке.
 Русский отдел Социалистической партии Америки. В центре — А. К. Чумак.
Русский отдел Социалистической партии Америки. В центре — А. К. Чумак.
 Красная площадь. Первая годовщина Октября. В центре — В. И. Ленин. Первый справа — М. М. Литвинов.
Красная площадь. Первая годовщина Октября. В центре — В. И. Ленин. Первый справа — М. М. Литвинов.
 Александра Михайловна Коллонтай и Семен Максимович Мирный в Стокгольме.
Александра Михайловна Коллонтай и Семен Максимович Мирный в Стокгольме.
 У мавзолея Г. Димитрова после вручения С. М. Мирному ордена Георгия Димитрова.
У мавзолея Г. Димитрова после вручения С. М. Мирному ордена Георгия Димитрова.
 Группа Димитра Благоева. Слева — Благоев. В овале на переднем плане — Вячеслав Александрович Кугушев.
Группа Димитра Благоева. Слева — Благоев. В овале на переднем плане — Вячеслав Александрович Кугушев.
 Франческо Мизиано. Москва, 1935 г.
Франческо Мизиано. Москва, 1935 г.
 Франческо Мизиано с американскими киноактерами Дугласом Фербенксом и Мэри Пикфорд.
Франческо Мизиано с американскими киноактерами Дугласом Фербенксом и Мэри Пикфорд.
 Франческо Мизиано и Ромен Роллан (первый слева).
Франческо Мизиано и Ромен Роллан (первый слева).
 Франческо Мизиано и Анри Барбюс.
Франческо Мизиано и Анри Барбюс.
 Мариям Конти-Мизиано (слева) в Москве с женами итальянских политэмигрантов. Публикуется впервые.
Мариям Конти-Мизиано (слева) в Москве с женами итальянских политэмигрантов. Публикуется впервые.
 Дружеский шарж Всеволода Пудовкина.
Дружеский шарж Всеволода Пудовкина.
 Сергей Сергеевич Александровский. Прага, 1935 г.
Сергей Сергеевич Александровский. Прага, 1935 г.
 Примадонна Венской оперы Клара Давыдовна Спиваковская — будущая жена С. С. Александровского.
Примадонна Венской оперы Клара Давыдовна Спиваковская — будущая жена С. С. Александровского.
 Энрико Карузо. Портрет с дарственной надписью Кларе Спиваковской. Берлин, 1913 г.
Энрико Карузо. Портрет с дарственной надписью Кларе Спиваковской. Берлин, 1913 г.
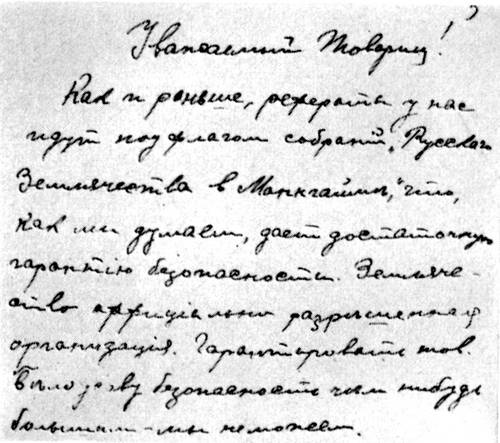
 Письмо С. С. Александровского в Бюро заграничных организаций РСДРП, 1912 г. Публикуется впервые.
Письмо С. С. Александровского в Бюро заграничных организаций РСДРП, 1912 г. Публикуется впервые.
 Писатели Александр Безыменский, Илья Сельвинский, Семен Кирсанов, Владимир Луговской в гостях у Сергея Александровского. Прага, 1935 г.
Писатели Александр Безыменский, Илья Сельвинский, Семен Кирсанов, Владимир Луговской в гостях у Сергея Александровского. Прага, 1935 г.
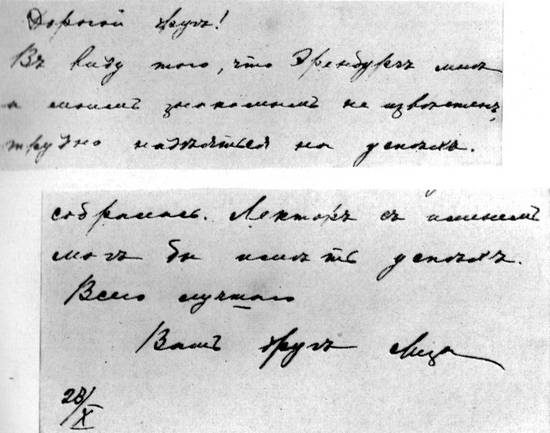 Письмо маннгеймской группы РСДРП по поводу Ильи Эренбурга, 1911 г. Публикуется впервые.
Письмо маннгеймской группы РСДРП по поводу Ильи Эренбурга, 1911 г. Публикуется впервые.
 Сергей Сергеевич Александровский и Александр Александрович Фадеев с чешскими писателями. Прага, 1935 г. Публикуется впервые.
Сергей Сергеевич Александровский и Александр Александрович Фадеев с чешскими писателями. Прага, 1935 г. Публикуется впервые.
 Бела Кун и Михаил Васильевич Фрунзе.
Бела Кун и Михаил Васильевич Фрунзе.
 Иероним Петрович Уборевич.
Иероним Петрович Уборевич.
 Василий Константинович Блюхер.
Василий Константинович Блюхер.
 Приезд Бела Куна в Россию, 1920 г.
Приезд Бела Куна в Россию, 1920 г.
 Приказ В. К. Блюхера по 51-й дивизии. 21 августа 1920 г.
Приказ В. К. Блюхера по 51-й дивизии. 21 августа 1920 г.
Последние комментарии
53 минут 37 секунд назад
1 час 59 минут назад
3 часов 8 минут назад
15 часов 6 минут назад
15 часов 19 минут назад
18 часов 45 минут назад