«Песняры» и Ольга [Леонид Леонидович Борткевич] (fb2) читать онлайн
Книга 519706 устарела и заменена на исправленную
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
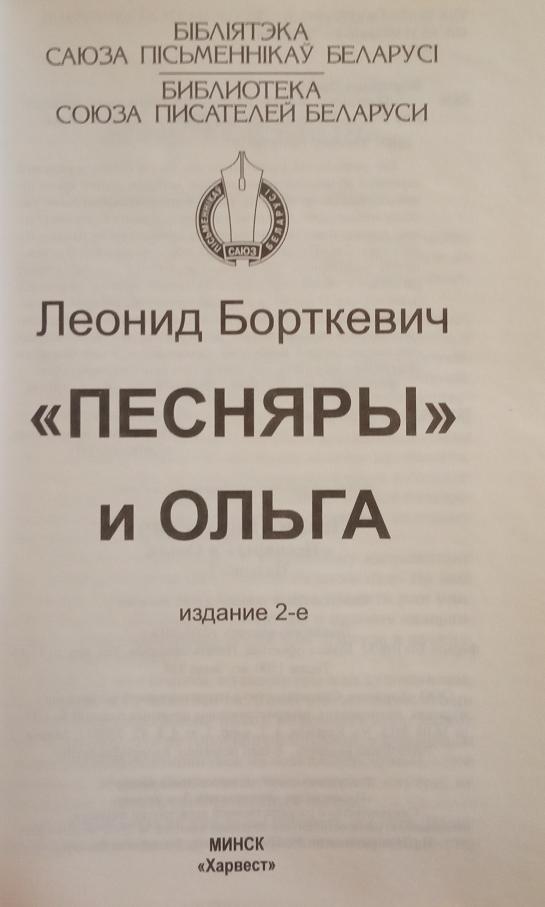
ДО «ПЕСНЯРОВ»
ЧИЖИК ВЫСКОЧИЛ НА СЦЕНУ
Книга моей жизни началась за два месяца до моего рождения. Родился я 25 мая 1949 года, а отец умер от ран, полученных на фронтах Великой Отечественной, 18 марта 1949 года.
Смерть отца стала для мамы таким потрясением, что она не смогла нормально доходить беременность, и я появился на свет с воробьиным весом два килограмма двести граммов, весь в прыщах и очень слабенький. Детский врач, профессор Кацман, который работал тогда в Первой минской клинической больнице, сказал, что это дитя жить не будет. Но мама выхаживала меня так самоотверженно, что его предсказание не сбылось. И когда она через три месяца принесла меня в больницу, доктор не мог поверить, что симпатичный большелобый бутуз - тот самый хилый младенчик, которому он вынес приговор - «не жилец».
По отцу я принадлежу к старинному дворянскому роду польско-литовских князей Радзивиллов. Но мой дедушка Ричард в свое время велел продать или уничтожить все, что имело отношение к нашему «дворянству», - благодаря этому семья и не сгинула в проклятом Богом ГУЛАГе.
Родился ли я певцом, музыкантом или художником, сказать не могу даже сейчас. Такое впечатление, что ни одна из этих профессий никак не возьмет верх. Может быть, потому, что по гороскопу я Близнец, а Близнецам очень сложно остановиться на чем-нибудь одном, - мое второе я, второй Борткевич, находящийся внутри, не позволяет сделать окончательный выбор.
В детстве меня не учили ни рисовать, ни петь. Но однажды в детском саду через красивую старинную стеклянную дверь я увидел лежащие на столе цветные карандаши и белый, чистый лист рядом и вдруг понял - сейчас произойдет что-то необыкновенное, волшебное. Я подошел к столу, взял карандаш... Цветные лошади, звери, люди появились на бумаге - они не существовали в действительности, я рисовал не по памяти, а повинуясь воображению.
Я любил ездить с тетей Аней и двоюродными сестричками в костел, в местечко Красное под Минском. Сказочная готическая красота собора, иконы, мерцание свечей и органная музыка производили неизгладимое впечатление. Я вглядывался в иконы так же, как впоследствии рассматривал картины старинных мастеров, замечая и впитывая каждую мелочь, каждую деталь. Я могу рассматривать одну картину часами, а потом падать от усталости и не понимаю, как за одну экскурсию можно пройти весь «Эрмитаж» или «Лувр».
А еще меня влекла в костел любовь к незнакомой девочке-католичке Зойке, которую я видел только во время службы.
Читать я научился рано. Перед моей кроватью на стене висела большая «Азбука» в картинках, и я очень быстро выучил наизусть весь «детский» набор: Маршак, Чуковский, Михалков. А став постарше, увлекся фантастикой и уже не мог обходиться без Александра Беляева, Герберта Уэллса, Станислава Лема. Но в особенности я любил Жюля Верна, и под впечатлением от его романов мне тоже хотелось путешествовать, открывать новые миры и совершать героические поступки.
Но еще больше, чем книги, меня захватывало кино. Мы с мамой не пропускали ни одного фильма. Лемешев, Утесов, Георг Отс, музыка советских композиторов того времени - пускай теперь говорят, что это было искусство социалистического реализма - меня покоряли своим волшебством и безграничным оптимизмом.
Голос я, можно сказать, получил по наследству. У матери был прекрасный голос, она знала наизусть много песен и, как рассказывали, раньше часто пела, когда в дом приходили гости. Но после смерти отца перестала петь. Она его очень любила и так больше замуж не вышла.
Я рано осознал, что у меня тоже хороший голос, но в детстве петь стеснялся - пел, только когда на меня не смотрели. Двоюродные сестры, которым мое пение очень нравилось, закрывали меня в ванной - там я в одиночестве «распевался» вовсю. Репертуар составляли песни, услышанные по радио, причем я изо всех сил старался подражать голосам и манере исполнителей.
Мое первое публичное выступление состоялось в школе, когда нас принимали в пионеры. К этому дню готовили концерт художественной самодеятельности, и одним из номеров была такая песенка:
По зеленой травке
чижик-пыжик скачет,
а в саду на лавке
ученица плачет...
Ученицу из песенки звали Зоя, и ее действительно пела девочка по имени Зоя. А мне доверили роль чижика, я пел:
Что ты, что ты, Зойка,
двойка ведь не дело,
у тебя, наверно,
голова болела.
Наш дуэт выступал во втором отделении концерта. В перерыве мы играли во дворе школы в прятки, и я, когда прыгал в кусты, случайно столкнулся лбом с одним мальчиком. Естественно, у меня тут же вскочила громадная шишка. Так я и вышел на сцену - со слезами на глазах и шишкой на лбу. Герой! Чуть не плачу от боли, но пою. А у меня еще и голос лирический, так что получилось очень проникновенно.
На том концерте присутствовал Андрей Васильевич Мамонтов - очень известный хоровик-дирижер, руководитель хора мальчиков Дворца пионеров. Ему понравилось, как я спел (шишка помогла мне войти в образ), и меня сразу взяли в хор солистом.
Потом был хоровой ансамбль «Юность» при консерватории, куда меня привела троюродная сестра Людмила (она уже там пела, великолепная была певица). В этом ансамбле я тоже стал солистом. В ансамбле занимались в основном студенты старших курсов консерватории, и мне предложили принять участие в их занятиях по педпрактике. И хотя дыхание у меня было у меня поставлено (к тому времени я окончил музыкальную школу по классу трубы), все равно эти занятия мне очень много дали - я начал учиться «держать верх», управлять голосом, филировать и многому другому.
АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕБЮТ - ОН ЖЕ ФИНАЛ
Мама работала на тракторном заводе в кузнечном цехе «распредом» - выписывала наряды - много лет, с самого основания завода. Ей приходилось много работать, чтобы дать мне образование.
Я окончил восемь классов средней школы и - как уже упоминал - пять классов музыкальной школы по классу трубы. Учиться я не очень любил, мне довольно быстро все надоедало, зато обожал футбол, занимался боксом и пропадал во дворе - детство мое было обычным мальчишеским детством. И битье окон у нехороших соседей, и воровство яблок, и пари, кто перепрыгнет высокий забор, и прочие выходки - все это в нем присутствовало.
Но в восьмом классе надо было что-то решать насчет будущей профессии. Я, конечно, не сомневался, что буду либо художником, либо музыкантом. Но мы с мамой жили очень бедно, и выбор пал на архитектурный техникум, потому что там платили стипендию.
Мое самое большое достижение на архитектурном поприще - кинотеатр «Октябрь», и по сей день украшающий главную магистраль Минска, проспект Франциска Скорины. «Октябрь» - мой дипломный проект.
Раньше на месте кинотеатра «Октябрь» находился кинотеатр «Зорька», куда мы с мамой ходили смотреть кино (песни на музыку Дунаевского и Богословского, на которых я воспитывался и рос, были услышаны там). И то, что именно мой проект лег в основу нового кинотеатра «Октябрь», - удивительная шутка судьбы.
Первое, что я сделал в планировке, - стадионные входы и ряды амфитеатром, поскольку в «Зорьке» меня всегда раздражало, что из-за голов впереди сидящих людей ничего не видно.
Сам проект я сделал красочным: не просто тушью, как это было принято, а типографской краской в цвете. Он оказался настолько ярким, что, когда мне нужно было нарисовать людей для масштаба, они просто терялись и пропадала перспектива. Тогда из журнала «Архитектура США» я вырезал фигурку полицейского на коне и поместил ее спереди. Получилось очень здорово, но совершенно не похоже на то, что сделали мои сокурсники. Я посомневался, а потом сказал себе: «Будь что будет» - и оставил все как есть.
Любой проект перед дипломом сначала смотрит консультант. Моим консультантом был преподаватель по рисунку Василий Илларионович Зайцев - хороший человек, но большой консерватор. Мы с моим другом Толей Волком закрыли проект в оркестровке, чтобы Зайцев его не увидел раньше времени, и показали только перед защитой. Зайцев схватился за голову: «Это слишком ярко, вычурно, надо завуалировать... И почему здесь полицейский?» Но в рецензии написал: «Ярко, вычурно» - и поставил предварительную оценку «хорошо».
На защиту дипломов в архитектурный техникум приехал сам председатель Госстроя БССР - Король. Перед этим он был на защите дипломных проектов в Политехническом институте.
Защита - дело долгое, Король все время сидел за столом и уже, видимо, устал. Мой проект показывали последним. Король, когда его увидел, поднялся из-за стола, взял очки и подошел поближе. «Чем это сделано?» - спросил он. Я с испугу вскочил и заикаясь ответил:
- Ти-ти-типографской краской.
- Интересно, - сказал Король.
В этот момент ему зачитали рецензию.
- Нет, - сказал Король, - «отлично», только «отлично» надо поставить.
И в своей заключительной речи отметил, что очень доволен дипломными работами и что некоторые проекты (взгляд в мою сторону) лучше, чем в Политехническом институте.
Как мне потом рассказывали, мой проект висел в техникуме еще очень долго - как образец, откуда его и украли.
Так вот, когда построили кинотеатр «Октябрь», я понял, что это - плагиат, повторение моего проекта, причем даже в деталях. В 2001 году секретарь Союза архитекторов Александр Корбут пригласил меня на очередной съезд. Там я вручал награды и грамоты за лучшие проекты и тогда-то и узнал, кто содрал мой проект. Справедливость восторжествовала - на том съезде мой вклад в архитектуру подтвердили официально.
ГЛАВНОЕ - ВОВРЕМЯ ВСТУПИТЬ
Именно в техникуме я первый раз в жизни взял в руки микрофон. Было это так. Первого сентября мы пришли в техникум на второй курс. Я захожу в пустую аудиторию, смотрю - сидит на столе парень и играет на гитаре. Да как играет! Классику, с красивым тремоло. Я был поражен. Посмотрел на него и сказал себе: «Все - это друг на всю твою жизнь».
Так оно и случилось.
Парня звали Анатолий Волк. Как оказалось потом, Толя играл на гитаре в оркестре техникума под руководством Владимира Скороходова (будущего заместителя министра культуры БССР).
Однажды я ждал Толика в зале, где проходила репетиция оркестра. На следующий день должен был состояться праздничный концерт, посвященный 7 Ноября, и мальчик-солист пел популярную тогда песню Полада Бюль-бюль оглы:
Ты мне вчера сказала,
Что позвонишь сегодня.
Он никак не мог правильно вступить. Музыканты уже устали играть вступление, и Скороходов объявил перерыв. Расстроенный Толик подошел ко мне:
- Ну подожди еще минут пятнадцать. Этот вступит, и мы сразу пойдем.
(У нас было какое-то совместное дело.)
- Да что тут вступать? - говорю я.
- А ты что думаешь, это легко? - говорит Толя. - Давай, я тебе сыграю, сам попробуешь.
Мы пошли к сцене, и он сыграл мне вступление на гитаре. Я тут же вступил и спел целый куплет, подражая голосу Полада Бюль-бюль оглы. И вдруг в дверях появился Скороходов:
- Ну-ка, ну-ка, мальчик, давай-ка еще раз.
Сыграли вступление всем оркестром, и я снова правильно вступил, и спел уже всю песню до конца.
- Чей это мальчик? - спрашивает Скороходов.
- Наш, техннкумовский, - отвечает Толя, - в моей группе учится. Мой друг!
- Все, - сказал Скороходов. - Завтра будешь петь на концерте.
Вот так я попал в оркестр.
Потом Скороходов ушел, и руководителем стал Толя Волк. Тогда уже вошли в моду «Битлз», появились гитарные ансамбли, и мы тоже создали вокально-инструментальный ансамбль. Придумали ему название «Золотые яблоки» - мы все любили фантастику Рэя Брэдбери, а у него есть рассказ «Золотые яблоки Солнца».
(Я, кстати, видел Рэя Брэдбери в 1997 году в Атланте. Он был совсем старенький. Я не поверил глазам своим, не думал, что он еще жив.)
Мы играли свои песни, Анатолий Волк и Саша Сорокин сочиняли музыку и стихи. У нас уже была и собственная манера исполнения. Параллельно мы пели белорусские народные песни, песни «Битлз» и «Роллинг-стоунз». Так, например, аранжировки всем теперь известных белорусских народных песен «Скрипят мои лапти» и «Косил Ясь конюшину» были сделаны сперва в «Золотых яблоках». Уже позже я предложил ее Мулявину, и они стали одними из хитов в репертуаре «Песняров».
Мы устраивали концерты, играли на капустниках в Оперном театре, играли на танцах. Барабанщик Игорь Коростылёв, не зная ни одного английского слова, но ничуть не смущаясь, пел песни наших кумиров на английской фене.
И, надо сказать, у него это очень здорово получалось Успех «Битлз» и «Роллинг-стоунз» кружил нам головы.
ПРОЩАНИЕ С «БЕЛГИПРОСЕЛЬСТРОЕМ»
После окончания техникума мы с Толей Волком paботали в «Белгипросельстрое». И однажды в отделе, где я работал, раздался звонок. Я поднял трубку и услышал голос, который показался мне очень знакомым:
- Это звонит Владимир Мулявин. Мы ищем солиста в ансамбль «Песняры», не могли бы вы прийти на прослушивание?
Пауза. Я, естественно, не поверил, подумал, все это шуточки Толи Волка. И говорю:
- Да не пошел-ка бы ты... - и положил трубку. Направился к своему рабочему столу и думаю: «А что если это не он, не Толик? Надо проверить».
Волк работал этажом ниже. Я спустился к нему - стоит Толик за кульманом, весь в трудах праведных:
- Ленечка, - говорит, - не мешай, давай позже поговорим.
Тут я понял - это был не Толик. Ох, как неудобно все получилось!
Поднялся я к себе и размышляю: «Позвонят еще раз или нет?» Снова звонок. Это уже звонил Даник, мой хороший друг, который работал в постановочной группе «Песняров». Он говорит:
- Тебе Мулявин звонил, хочет тебя прослушать. Приходи завтра утром, он будет ждать.
На следующий день провожали меня всей оркестровкой. Пошел я к Володе Мулявину домой (а жил он тогда в том доме, где находится кинотеатр «Центральный», на последнем этаже). Меня встретила Лида Кармальская - его первая жена. Володя еще спал. Лида отправилась его будить:
- Вставай, к тебе мальчик какой-то пришел, наверно, на прослушивание.
- Я не пришел, меня пригласили, - поправил я ее С гордостью поправил.
Володя встал, протер глаза, накинул рубашку и говорит мне:
- Бери гитару и пой.
А я ведь тоже не лыком шит, потому отвечаю:
- Я и на гитаре не очень хорошо играю, да и не место здесь. Тут консерватория рядом, может быть, вы там меня послушаете.
А для меня консерватория уже была как дом родной. Там в музыкальных классах была хорошая акустика и рояль стоял, чтобы распеваться.
- Пошли, - сказал Мулявин.
Приходим мы в один из классов, и я начинаю ему показывать все, что умею. Распелся во весь голос. Спел песню «Ах ты степь широкая» из репертуара Лемешева. Мулявин послушал и наиграл мне песню «Белая Русь ты моя». Написал текст на газетке:
- Спой, но так, чтобы слиться со мной.
Я один раз послушал и сразу сфотографировал его манеру исполнения. И мы идеально слились в великолепный унисон.
- Боже мой, - сказал Володя, - сколько я вокалистов профессиональных перепробовал, а тут такая находка. Завтра приходи на репетицию в филармонию.
- Но я же работаю, - говорю я.
- Где?
- В «Белгипросельстрое» архитектором.
На следующий день стою на работе с утра за своим кульманом. Все как обычно, вчерашние события кажутся какими-то нереальными. Подымаю голову, смотрю - мулявинские усы мелькнули. Все вокруг сразу его узнали. Мулявин подошел к начальнику нашего отдела и стал о чем-то с ним разговаривать. Я сразу понял - по мою душу. Зовут меня. И наш начальник говорит:
- Ну что, Леонид, за тобой пришли очень известные люди, хотят тебя забрать. Ты как, свою работу сделал?
- Да.
- Ну тогда иди.
Я ушел. И в «Белгипросельстрой» больше никогда не возвращался.
«ПЕСНЯРЫ» ДО МЕНЯ
СОВЕТСКИЙ «КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ»
Сейчас, когда прошло уже столько лет, имеет смысл напомнить читателям, что представлял собой советский «культурный ландшафт» конца шестидесятых-начала семидесятых... Только что разгромлена «Пражская весна», идет «закручивание гаек» в области идеологии, а искусство - составная часть этой идеологии.
Исчез КВН - единственный живой росток на советском телевидении. Прекращено проведение джазовых фестивалей, в течение нескольких лет до этого проходивших ежегодно. Разогнан коллектив мирового класса - Концертный эстрадный оркестр телевидения и радио под управлением Вадима Людвиковского, вместо него организован Ансамбль советской песни. Из страны начали уезжать музыканты и певцы не только академические, но и эстрадные: Эмиль Горовец, Лариса Мондрус, Аида Ведищева, Леонид Бергер, Вилли Токарев, Михаил Шуфутинский. Очень актуальным и отражающим обстановку был популярный анекдот тех лет:
« - Что такое малый камерный оркестр? - Это большой симфонический оркестр после гастролей на Западе».
На эстраде царили несколько исполнителей, певших, в зависимости от типа голоса и амплуа, «гражданские» либо «лирические» песни советских композиторов. Идейная выверенность и тех и других песен обеспечивалась целым арсеналом средств, от комиссий Союза композиторов и концертных организаций до государственного цензурного органа - Главлита. Существовали уже несколько вокально-инструментальных ансамблей, с которыми власти вынуждены были мириться из-за «их популярности среди молодежи, но «проверенность» их репертуара контролировалась самым жестким образом. Исполнение песен зарубежных авторов допускалось, но изредка и только в переводе на русский язык.
Творчество молодых талантливых исполнителей и авторов подвергалось унизительным разносам: Юрия Антонова тогдашние газеты обличали в «незрелости и безыдейности», а Валерия Ободзинского - в «манерности и подражании Западу». Эти обвинения, в особенности насчет подражания Западу, автоматически отодвигали исполнителей на задворки. И если Антонов оказался более склонным к компромиссам и одновременно более целеустремленным и уже к середине семидесятых прочно завоевал место на эстраде, то судьба Ободзинского, как личная, так и творческая, оказалась трагичной.
Регулярно доставалось и ВИА - выступать они могли, только включив в свой репертуар положенную долю песен членов Союза композиторов. Надзор был пристальным, а наказания - быстрыми и жесткими. По недосмотру на фирме «Мелодия» записали и выпустили пластинки ансамбля «Веселые ребята» с песней «Битлз» «Obladi-Oblada» на английском языке - какой поднялся скандал! Виновные тут же получили взыскания по партийной линии.
Впрочем, что говорить о вокально-инструментальных ансамблях и молодых исполнителях - даже всесоюзного кумира Муслима Магомаева за мелкую провинность на год лишали права выступать в Москве! А на телевидении и радио по понятным причинам нравы царили еще круче, чем в звукозаписи и в концертных организациях.
И вот на этом фоне вспыхнула и засияла звезда белорусского ВИА с «фольклорным» названием «Песняры». Надо ли говорить, что этот фон оказывал влияние на творчество ансамбля на протяжении многих лет!
ЕЩЕ «ЛЯВОНЫ»
Я как-то прочитал в одной газетной статье, что подлинная история музыки шестидесятых-семидесятых, подлинная история тех групп не написана и уже вряд ли когда-нибудь будет написана. Потому что от тех времен не осталось ничего - ни мемуаров музыкантов, ни записей, только названия групп: «Сокол», «Ветер перемен»... Те группы играли на самодельной аппаратуре и пели на дурном английском. А потом автор статьи с некоторым удивлением замечает, что лауреат премии Ленинского комсомола государственный ансамбль Белоруссии «Песняры», как ни странно, достоин стоять в героическом ряду первопроходцев - основанная Владимиром Мулявиным группа входила в число первых рок-н-ролльных команд в СССР. Они возникли раньше «Машины времени», раньше «Аквариума».
Звезда «Песняров» вспыхнула после победного выступления на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в 1970 году. Там же родилось название «Песняры».
А началось все в 1967 году. Именно тогда собрались вместе те, кто потом станет «Песнярами», но тогда они еще никак не назывались, просто аккомпанировали певице Нелли Богуславской. Проработали аккомпанирующим составом год и поняли - хочется большего, гораздо большего. По всему миру гремела слава «Битлз», именно пример «Битлз» показал, что музыканты могут быть еще и вокалистами. Если есть талант, овладеть вокальным мастерством не так уж сложно. И еще - нужно, пробуя себя в пении, брать не только горлом, но и душой.
Так образовался коллектив под названием «Лявоны».
«Лявоны» стали аккомпанировать заслуженному артисту Эдуарду Мицулю, одному из немногих белорусских эстрадных певцов, более-менее известных в Советском Союзе. Характер у Мицуля был мягкий, и он позволял аккомпаниаторам петь самостоятельно. Ребята попробовали раз, другой... И самим интересно, и публике понравилось. Они позаимствовали некоторые песни у «Битлз»... Публика в восторге!
Репертуар у «Лявонов» был смешанный - и «Битлз», и наша военная песня «Темная ночь», и шлягер «Ты мне весною приснилась» - на белорусском языке.
Как у настоящих групп, на барабанах написали «Лявоны». И вот однажды эта надпись на барабане попала в кадр телесъемки. Чиновники соответствующего ведомства заинтересовались и устроили ансамблю прослушивание.
Но ничего страшного не произошло. Наоборот. Дали право называться вокально-инструментальным ансамблем и зарплату прибавили на рубль. Правда, попросили сменить репертуар: «Чтоб никакого английского языка!»
И вот «Лявоны» - уже профессиональный ВИА - стали петь белорусские народные песни, а еще песни «Ореры» и «Гайи». Так было до 1970 года.
За все время советской власти конкурсы артистов эстрады проводились четыре раза с огромными перерывами в соответствии с очередными волнами гонений на эстраду. Музыкальных передач тогда было очень мало, по радио транслировали только признанных певцов, так что победа в конкурсе - фактически один из немногих способов выдвинуться, сделать так, чтобы тебя заметили. Победа в конкурсе обеспечивала музыканту сольные концерты и повышение зарплаты. В 1970 году должен был состояться IV Всероссийский конкурс артистов эстрады, тогда со времени проведения предыдущего конкурса прошло четырнадцать лет.
Первая жена Владимира Мулявина Лида Кармальская была профессиональной артисткой. Она работала в редком сейчас жанре художественного свиста, имела свою ставку в филармонии и большой стаж. Лида, естественно, захотела участвовать в конкурсе.
Первый тур - отборочный - проходил в Минске. Кармальскую «отобрали» сразу, а ее мужу Мулявину и «Лявонам» кисло сказали: «Ну поезжайте как аккомпаниаторы». Потому что песни у «Лявонов» были какие-то подозрительные, не советские, да и внешний вид стиляжий: длинные волосы, длинные усы... В общем, те, кто отбирал участников, понадеялись на московское начальство: дескать, глядишь, в Москве «Лявонов» и окоротят. А может, и сам жанр вокально-инструментальных ансамблей похоронят.
На IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады «Лявоны» заняли второе место, поделив его со Львом Лещенко (первое место жюри решило не присуждать). В жюри входили Леонид Утесов и другие мэтры эстрады. Член жюри конкурса, народная артистка РСФСР Ирма Петровна Яунзем потом писала: «Этот ансамбль остался в памяти как яркая творческая индивидуальность». А Оскар Борисович Фельцман, тоже член жюри, подошел к Мулявину и сказал: «Владимир, если они (то есть жюри) не дадут вам премии, они будут настоящими дураками».
Мулявин тогда сказал своим ребятам: «Друзья мои, смотрите отныне на себя со стороны, чтобы слава не выбросила вас в кювет на крутых поворотах судьбы». Что греха таить, многие такой славы не вынесли...
Пели ребята на конкурсе «Хатынь», «Темную ночь» по-русски и «Ой, рано на Ивана» по-белорусски.
Все хорошо, но вот название ансамбля не понравилось. Пробовали варианты «Полесские зубры», «Молодые голоса». Наконец Леонид Тышко предложил удивительно точное белорусское народное определение людей истино творческих - «Песняры». (Это слово взяли у Янки Купалы, белорусского классика.) И все сразу согласились.
В общем в Москву приехали «Лявоны», а из Москвы уехали уже знаменитые «Песняры». И как мне потом рассказывали, в одном вагоне с «Песнярами» в Минск возвращались совершенно обескураженные чиновники министерства культуры БССР: они никак не ожидали такого успеха ВИА. Не могли понять, как теперь действовать. Что ж, этим длинноволосым шить костюмы, покупать аппаратуру?..
Я так же, как и многие другие, увидел «Песняров» благодаря этому конкурсу. Накануне мы с мамой купили новый телевизор. Совершенно случайно я смотрел концерт лауреатов и был потрясен. Почему-то почувствовал, что буду у них петь. До этого мне очень нравились «Орера», «Гайя» - великолепные были ансамбли, но «Песняры» меня сразу покорили.
В состав «Песняров» тогда входили Владимир Мулявин - руководитель ансамбля, человек, который играл практически на всех инструментах; Валерий Мулявин, его брат - вокал, гитара, труба; Владислав Мисевич - вокал, саксофон и флейта; Леонид Тышко - вокал, бас- гитара; Александр Демешко - вокал, барабаны.
В самом названии «Песняры» было заложено не только предощущение фолк-рока, но и ясное понимание характера Мулявина, которого мы любовно звали Мулей.
ВЛАДИМИР МУЛЯВИН
Если бы меня спросили, есть ли в нашей эстрадной музыке человек, которого можно назвать гениальным, то я бы назвал только одно имя. И назвал бы его, не задумываясь, и двадцать пять лет назад, и сейчас: Владимир Мулявин, руководитель ансамбля «Песняры».
Вообще, гений на эстраде - событие не из рядовых. Талант такого масштаба, который можно назвать гениальным, обычно проявляется в более серьезных и авторитетных сферах. В джазе - это Армстронг, Гершвин, Эллингтон и Паркер, в рок-музыке - «Битлз».
Подняться над общепринятым, побороть банальное и стандартное, видеть то, мимо чего все проходят не оглянувшись, - веские приметы гениальности. Это талант, которому нельзя научиться ни в каких консерваториях и академиях. Там обычно учат профессионализму, профессионализм не связан с размером дарования и всегда - результат обучения. Даже самые лучшие профессионалы - это еще не гении, хотя без профессионализма и самое большое дарование не сможет реализовать себя.
Гения возможно выявить исключительно по количеству и качеству того нового, что он привнес в искусство: насколько много этого нового и насколько оно новое, насколько оторвалось от стандартов своего времени и открыло новые горизонты.
Гениальность Мулявина не в том, что он придумал объединить фольклор с элементами рок-музыки, - кто только и до и после «Песняров» не пытался соединять фольклор самых разных народов с роком. Кое-что получилось. Но не более того. По-моему, талант гения - не столько в том, что делается, а в том, как делается.
Кто раньше слушал белорусскую народную музыку, все эти хоры, ансамбли песни и танца, даже в самой Беларуси? И особенно среди молодежи? Да никто! И вдруг известные песни начинают звучать совершенно по-новому. Только истинный талант мог увидеть в этом материале вероятность подобного перевоплощения. А ведь в русской эстрадной музыке, во многом схожей с белорусской, нет и не было ничего, что можно было бы поставить рядом с «Песнярами». Русский фольклор ничуть не хуже белорусского, но у Беларуси был русский Мулявин, а в России белоруса Мулявина не случилось. Мулявин был один на все славянские народы.
О детстве и юности Мулявина я знаю по его рассказам. Шутка судьбы: Владимир Мулявин, русский человек, вернувший популярность белорусской народной песне, родился не в Беларуси, а очень далеко от нее, в Свердловске, в 1941 году. В двенадцать лет он начал играть на гитаре и этим зарабатывать себе на хлеб. Играл дома, на улице, около подъездов, в лесу у костра. И не только на гитаре - играл на самых разных инструментах... В Свердловске же в детстве Мулявин в первый раз услышал оперу - «Травиату» Верди. Тогда его, маленького, очень долго после спектакля не отпускала одна-единственная мысль: где же такая страна, где так живут люди?
Может быть, в поисках той далекой страны, а может быть, повинуясь присущей всем детям тяге к путешествиям, еще совсем юным Володя Мулявин уехал из Свердловска. Уехал поездом, в нижнем ящике вагона, потому что денег на билет не было. И судьба забросила его в Калининград, в военно-морской флот, где он стал «воспитоном» в училище...
Потом снова Свердловск. Мулявин всегда говорил. как ему повезло с первым настоящим учителем.
Это был Александр Иванович Навроцкий, выпускник Харьковского института культуры, замечательный музыкант-педагог. Он открыл талант юного Мулявина, занимался с ним по шесть-семь часов в сутки, благодаря ему в 1956 году Мулявин поступил в Свердловское музыкальное училище. Но уже тогда он безумно увлекся джазом и вскоре «за преклонение перед западной музыкой» был с треском выставлен из «храма музыки».
Но он был очень талантлив. Это понимали и педагоги училища - вскоре Владимира Мулявина в училище восстановили... В восемнадцать лет он стал профессиональным музыкантом.
Именно тогда он получил приглашение от Белорусской филармонии. Приехал в Минск. Первое, что его потрясло на вокзале, это слово «МIНСК». Второе потрясение: он оставил свой чемодан на остановке такси, и, вернувшись, нашел его на том же месте!
Мулявин немного поработал в филармонии, а потом его призвали на службу в армию. Служил под Минскрм, создал в роте вокальный квартет. Потом вместе е Юрой Веденеевым и Мишей Здановичем принял участие в организации ансамбля Белорусского военного округа. Но по своей природе он всегда был поклонником фольклора, любил народную музыку, в особенности славянскую. Начал собирать фольклорные мелодии Беларуси, Украины, России, Болгарии...
Позже в биографии Володи Мулявина был музыкальный взвод в Уручье Белорусского военного округа, где он играл в оркестре. И там же, в оркестре, познакомился с будущими «Песнярами» - Яшкиным, Тышко, Демешко и Мисевичем.
Кумиром Мулявина был Джо Кокер. Он считал его профессионалом экстра-класса, владеющим космической анергией. Володе как-то случилось быть на его концерте в Дортмунде, и он рассказывал, как двадцать тысяч зрителей, и он в том числе, полностью были во власти Кокера, во власти музыки!
Он любил Стравинского, Скрябина, Рахманинова, Моцарта. Еще Паркера и Гершвина. Любил Утесова, Ланца, Сметанкину - и жалел, что так быстро мы забыли эту замечательную певицу.
Сам Мулявин был музыкантом, что называется, от Бога. Помню такой случай. «Песняры» принимали участие в сборном концерте вместе с симфоническим оркестром. На сцене стояла арфа, Мулявин подошел к ней. я никогда не видел, чтобы он где-нибудь играл на арфе. Володя провел пальцем по всем струнам. Сказал сам себе: «Здесь так, тут так». Попробовал пару нот и прямо с ходу начал играть какую-то мелодию. Стоящая рядом арфистка удивленно спросила:
- А почему вы именно здесь извлекаете звук, а не в другом месте?
- Просто здесь лучше звучит, - сказал Володя.
Еще больше меня поразил другой случай. Я уже писал, что окончил музыкальную школу по классу трубы. Мой преподаватель мне подарил флюгель-горн. И как-то на репетиции Володя Мулявин подходит ко мне:
- Дай-ка мне, Леня, трубу. Какая тут пальцовка, какие ноты?
- Вот ре - первый и третий палец, - говорю я, - вот соль.
Володя взял трубу сразу начал играть, причем отличным звуком. А чтобы звук был хорошим, нужно много заниматься и иметь, грубо говоря, мозоль на губах. Не зная трубы, играть на ней хорошим звуком просто нельзя. А Мулявин «выучил» инструмент за пару минут.
Музыкальное чутье у него было безусловным, а вот в людях Мулявин мог ошибаться. И не раз ошибался, и сам это признавал. Он оправдывался тем, что даже такой большой знаток психологии людей, как Бальзак, тоже часто ошибался в людях (об этом Мулявин прочел в дневнике братьев Гонкур). И если уж Бальзак, который работал за письменным столом и имел возможность сосредоточиться, разобраться, не всегда мог понять натуру человека и поддавался первому впечатлению, то что же спрашивать с него, с музыканта! Ведь музыкант сосредоточен на поисках нужной мелодим, ноты, ритма и абсолютно не воспринимает мелочи. А люди проявляются как раз в мелочах.
В женщинах Володя ценил щедрость и открытость. Он не выносил обмана, обман доводил его до бешенства, независимо от того, от кого он исходил, от женщины ли, от мужчины. Его слишком часто обманывали в жизни, и он знал, что это такое...
Лучшее Володино время- утренний рассвет. Еще день впереди, а ты не спишь, думаешь, вглядываешься в недоступное, загадочное. Подчас мучительно и тревожно, но чаще - с надеждой. Возможно, в глубине утреннего одиночества он более остро чувствовал силу жизни. И сам говорил, что лучше всего ему работается с пяти до девяти часов утра. Именно в это время лучше всего пишется музыка. А дорабатывать, исправлять, переделывать - это он делал уже потом, в любое время.
Володя и в шумных компаниях, и в застольях иногда как бы уходил в себя, словно хотел побыть наедине со своими мыслями. Это понимали далеко не все.
В отличие от многих деятелей искусства, поддавшихся магии власти, Мулявин никогда не хотел и не собирался заниматься политикой. Он считал, что политика, в отличие от музыки, - дело недолговечное. Суетливое. Только музыка - вечная! Он говаривал, что видел вокруг себя немало политиков, но честных людей среди них встречал редко. И еще. Политики, дорвавшись до власти, на глазах меняются. Не в лучшую сторону, к сожалению, и исключений практически нет. Там столько злобы, корысти, политиканства, ненависти к более талантливым и успешным... А Мулявин этого не переносил. В творческой среде он этого тоже не терпел. Как-то Володя припомнил в этом смысле картину художника Сальвадора Дали «Осеннее каннибальство»: там два персонажа с удовольствием пожирают друг друга...
Мулявин, кстати, очень любил Дали - за загадочность его полотен, за своеобразную поэзию и точность...
Мулявин, не белорус по рождению, боготворил белорусского классика Янку Купалу и сделал несколько программ на основе его творчества. И вообще, когда ему становилось тоскливо и грустно, он брал томик Купалы и искал в его стихах ответы на тревожащие вопросы.
А еще помню, как он цитировал строки Максимилиана Волошина:
Дверь отперта.
Переступи порог.
Мой дом открыт
навстречу всех дорог.
Мулявин хорошо вписывался в предлагаемые ему советской властью обстоятельства - участвовал со своей группой во всевозможных комсомольских песенных конкурсах, пел песни советских композиторов и ездил на гастроли за рубеж в те годы, когда другие рок-группы в лучшем случае ездили играть на танцы в соседнюю школу. Говорили, что Мулявин вполне лояльно играл по советским правилам. Но если бы в нем - да и во всех нас, в «Песнярах», - было только это, то говорить было бы не о чем.
Людей, деливших музыку на подпольный и поэтому подлинный рок-н-ролл и на разрешенный и поэтому фальшивый, песни Мулявина в те годы часто ставили в тупик. А те, кто просто любил и понимал музыку, не связывая ее с политикой (и поклонники рок-н-ролла тоже), слушали и «Led Zeppelin», и «Uriah Неер» и... «Песняров». И таких людей было достаточно много. Кстати, наш Толя Кашепаров тоже любил «Led Zeppelin».
Уже после смерти Володи я прочитал в «Новой газете»:
«Владимир Мулявин каким-то образом умел оказаться шире рамок, которые добровольно принимал, выше потолка, под которым добродушно соглашался существовать. Более того - теперь, когда Советского Союза уже нет и можно оценивать не героизм рок-н-ролльного подполья, а просто музыку, - теперь уже всем ясно, что в композициях Мулявина было больше музыки, чем во многих немудреных творениях подпольных рок-н-ролльщиков, которые плохо играли на гитарах и писали наивно-патетические тексты к своим неумелым песням. Мулявин четко знал, что делал. Он был профессионалом - это становилось понятно каждому, кто хоть раз побывал на его репетиции. Он властно руководил своей командой, добиваясь чистоты и прозрачности звука, столь присущих «Песнярам». Он очень хорошо слышал плавную, мягкую мелодику русской и белорусской речи, очень тонко чувствовал здешний ритм и звук, не совпадавший с ритмом и звуком всемирного музыкального потока. В электрический звук группы он вплетал лиру, найденную им в одном из музеев. Он пытался привить к западному рок-н-роллу славянский побег».
А вот еще одна оценка жизни и творчества Мулявина - оценка профессионала, главного редактора журнала «Звукорежиссер» Анатолия Вейценфельда:
«Невозможно выяснить тип творческого дарования Владимира Мулявина. Я все больше склоняюсь к мысли, что единственным аналогом для него в музыке XX столетия являлся Дюк Эллингтон. И для одного, и для другого инструментом для творчества являлись не рояль, не гитара, даже не лист нотной бумаги, а реальные живые люди, коллектив исполнителей: джаз-оркестр - для Эллингтона, вокально-инструментальный ансамбль - для Мулявина. Именно через коллектив конкретных исполнителей они реализовали свои творческие идеи.
У Эллингтона и у Мулявина менялись участники коллектива - процесс непростой и болезненный. Это всегда отражалось на звучании, но звук Эллингтона не спутать со звучанием любого другого оркестра. Тем более спутать «Песняров» с кем-то просто невозможно!
В результате оба музыканта создали уникальные коллективы, своеобразные живые организмы. Но есть и принципиальное различие между Эллингтоном и Мулявиным и их типами творчества. Эллингтон - не только бэнд-лидер, но и композитор в обычном значении этого слова, автор песен, которые исполняют сотни певцов и музыкантов всего мира. Мулявин - также композитор, но своеобразный, который пишет исключительно для себя и своего коллектива. Невозможно представить репертуар «Песняров» в исполнении любого другого, пусть даже самого талантливого коллектива. Разница в классе и в профессиональных требованиях очевидна. Это подтвердило и время: в телевизионном шоу о лучших песнях двадцатою столетия никто не исполнил песни «Песняров». Слава богу, что современные безголосые и глухие поп-звезды не пытались изувечить «Александрину» или «Беловежскую пущу».
Володя Мулявин был не только гениальным музыкантом, он еще и человеком был великолепным и очень хорошим другом. Я всегда старался походить на него. Можно сказать, что Володя мой кумир. У меня было два кумира: Мулявин и Сергей Яковлевич Лемешев. Я очень любил пение Лемешева и абсолютно согласен с его позицией: нужно любить песню в себе, а не себя в песне. Этого же правила всю жизнь придерживался и Мулявин - он не терпел, если кто-либо из солистов задирал нос.
Кстати, Мулявин называл Лемешева богом русского вокала.
Мулявин всегда удачно шутил. Его шутки это что-то потрясающее. Вот одна из них: «Если они думают, что они нам платят деньги, то пусть думают, что мы работаем».
Чувство юмора у Володи проявлялось в любых ситуациях. К примеру, на съемках песни «Заболела ты, моя головонька» какой-то телевизионщик, желая выпендриться, с умным видом спросил у Мулявина, сколько квадратов своего соло на барабанах сыграет Шура Демешко (квадратом называется ритмически законченная музыкальная фраза). «Да он не квадратами, он у нас кругами играет», - не моргнув глазом, oтветил Мулявин. Или, корчась от боли в почках, Володя выжимал из себя: «Это Лученок про меня написал песню "Если б камни могли говорить..."»
Как-то под Новый год мы работали в Ташкенте. Концерты уже закончились, и мы на автобусе поехали в аэропорт. Директором у нас в то время был Леонид Знак, любивший повторять, если кто-нибудь ему надоедал: «Купите гуся и трахайте ему мозги, но только не мне!» И вот по дороге в аэропорт мы остановились на базаре - каждому хотелось что-то привезти домой к Новому году. Помню, что купили большущие дыни и, когда шли к автобусу, Мулявин неожиданно предложил купить нашему директору гуся. Сказано - сделано. Купив за пять рублей живого гуся, мы завернули его в мою шубу. Приходим. Директор аж красный от злости - потому что мы опоздали - и уже собирался ругать нас, но в этот момент я разворачиваю шубу и преподношу ему гуся. Директор начинает хохотать, инцидент исчерпан.
Володя Мулявин запрещал объявлять свои звания и регалии на концертах, а когда их все-таки объявляли, он кривился и настроение у него портилось. Он говорил, что Песняр - высшее звание, Песняр - это поэт, музыкант, это Янка Купала. И что сам еще не достоин быть Песняром, только учится.
Когда человек умирает, понимаешь, каким он был значительным при жизни. Как водится, только после смерти его начинают ценить. И я утверждаю: Владимир Мулявин - Песняр.
ВАЛЕРИЙ ЯШКИН
Яркой фигурой в ансамбле «Песняры» был Валерий Яшкин, очень талантливый баянист и клавишник. Родом он из Речицы, приехал в Минск и поступил на композиторское отделение. Он был, конечно, личностьюнеординарной: красавец-брюнет с пышными усами и черными глазами, разбившими не одно женское сердце. Яшкин познакомился с Мулявиным, когда тот еще служил в Уручье. Валера - ровесник Володи Мулявина, тоже 1941 года рождения, может быть, поэтому они очень быстро нашли общий язык. Они вместе ходили играть в футбол на озеро, вместе играли на всевозможных вечеринках, танцах и «огоньках». Именно по примеру Валеры Яшкина Мулявин отрастил себе усы, которые потом стали так знамениты и были чуть ли не визитной карточкой ансамбля.
На мой взгляд, настоящим другом у Володи был только один человек - Валера Яшкин. Их называли «не разлей вода». А ведь дружить с Мулявиным было точно тяжело из-за его одержимости музыкой. Мулявин, как мне сказали, к сожалению, был единственными «Песняров», кто приехал на похороны Яшкина в Москву.
Валера был самым раскрепощенным среди нас. Он рано уехал из дому. Работал баянистом в цирке лилипутов, с цыганкой Лялей Чёрной и уже успел поездить по стране. Потом окончил Гомельский пединститута получил диплом преподавателя физкультуры, но по специальности никогда не работал.
С весельчаком и балагуром Яншиным всегда было весело.
Володя Мулявин - гитарист от Бога. Он мог сыграть все что угодно, начиная от классики Крамского и заканчивая модным тогда твистом. Таким же замечательным музыкантом был и Валера Яшкин. Об их дуэте слагались легенды. Они брали любую тему и очень здорово из нее делали танцевальную музыку, импровизируя по очереди. На Камвольном комбинате, в новом Дворце культуры, они часто играли на танцах, и люди на танцы приходили скорее как на концерт, - не танцевать, а слушать музыку.
Миша Сиязов и Даник Демин рассказывали, как однажды они играли на школьном вечере. Школа находилась на проспекте Ленина (теперь это проспект Франциска Скорины - главная артерия города, а в здании школы сейчас находится магазин «Антиквар»). Ребята играли свою обычную программу из популярных в то время шлягеров. У Миши Сиязова была очень хорошая гитара «Эл Гита», для Минска большая редкость. Она досталась ему благодаря знакомым отца-генерала - ее завезли в минский ЦУМ в единственном экземпляре. Миша своей гитарой очень гордился. Для сравнения, у Яши Левина, с которым Миша играл, гитара была самодельная, с виолончельным грифом и струнами, сбоку к ней приделали ручку от двери.
В общем, Даник тогда попросил Володю и Валеру прийти посмотреть на Мишин «диковинный инструмент». Те пришли к середине вечера. Володя взял гитару, Валера - баян... И полилась сначала одна джазовая мелодия, потом вторая... Танцы приостановились, все повернулись к сцене. Летом окна актового зала на первом этаже были открыты настежь, в них заглядывали молодые люди. Народ все прибывал, и скоро образовалась такая толпа, что приехала милиция - разбираться, кто устроил несанкционированный митинг возле школы.
Аскольд Сухин (наш известный бас, он был знаком с Мулявиным еще в армии, а я с ним подружился, когда мы работали солистами Гостелерадио БССР) любил вспоминать время, когда они вместе с Яшкиным и Мулявиным играли на вечеринках. Это были так называемые «халтуры», репертуар для них подбирался в основном из твистов, от предложений «поиграть» не было отбоя - по Минску ходила молва о чудо-музыкантах. Зарабатывали они тогда неплохо, хорошая вечеринка могла стоить пятьдесят-шестьдесят рублей (для сравнения - средние минские «халтурщики» получали пятнадцать-двадцать рублей). Однако деньги расходились так же быстро, как и приходили: шампанское девчонкам и через два-три дня в меню уже снова только картошка «в мундире».
А вот еще история, рассказанная мне Даником о Валере Яшкине. Когда кончались деньги, Валера садился за фортепьяно и сочинял песню. Двумя пальцами наигрывая разные темы, он что-то записывал. После того как у него все склеивалось, он тут же бежал к автомату и звонил Валере Прищепёнку. Тот был солистом эстрадно-симфонического оркестра под управлением Райского на радио и телевидении. Договорившись, Валера и Володя хватали инструменты и отправлялись на запись. Таким образом можно было получить двадцать пять-тридцать рублей за запись. Негусто, но на хлеб хватало.
Так зарабатывались деньги на жизнь и рождались первые музыкальные проекты, которые легли в основу легендарного ансамбля «Песняры».
ВАЛЕРА, БЭДЯ И ДРУГИЕ
Но настоящими Песнярами стали далеко не все.
За двадцать лет через ансамбль «Песняры» прошло много людей.
Настоящим Песняром был Валера Мулявин.
Валера - старший брат Володи - очень справедливый и малоразговорчивый парень - тем не менее казался более простым и доступным, чем Володя. С Валерой было легко говорить «по душам».
Валера был очень талантлив. Он обладал прекрасным тенором, и еще до «Песняров» ему предлагали петь в Уральском хоре. Валера играл на трубе, но по настоянию Володи начал углубленно заниматься гитарой - она стала его вторым инструментом. Хотя Валера и был старше Володи, но тем не менее во всем, что касалось творчества, слушал его. Володя вызвал брата из Читы, когда ансамбль «Лявоны» стал уже достаточно известным. Валера приехал не один, а с молодой женой.
Валерка очень любил париться и как-то раз в Москве чуть не насильно затащил меня в «Сандуны». До этого я в бане никогда не был...
Со слов Валеры я знаю, что они с Володей крупно поссорились всего раз в жизни, да и то в раннем детстве. Володя полез на антресоль и случайно разбил последнюю литровую банку варенья, тогда Валерка его поколотил. Но на улице братья всегда были горой друг за друга, а во дворе бороться за авторитет приходилось чуть ли не каждый день.
Валера был очень спортивным, любил футбол и занимался акробатикой.
Еще один настоящий Песняр - Валентин Бадьяров, или Бэдя, музыкант от Бога, музыкант-холерик. Он все время играл на каком-то инструменте. Если заканчивал играть на скрипке, то немедленно хватал гитару.
Валентин, как и Володя Мулявин, жил музыкой. Он окончил консерваторию по классу скрипки и владел почти всеми пластинками западных групп. Не знаю, откуда он их брал, в то время купить пластинки было практически невозможно. У Бадьярова был друг Прокл, они вместе когда-то учились в музыкальной школе имени Германа при консерватории. Прокл считался ярым антисоветчиком, Бэдя тоже слыл у нас в коллективе главным диссидентом.
Валентин познакомился с какой-то девчонкой из Канады, эмигранткой из Западной Украины. То ли их разговоры подслушали, то ли попала в руки КГБ переписка, но Мулявина перед очередными наклевывавшимися гастролями «вызвали на ковер» и строго спросили:
- О каких поездках может идти речь, если в вашем коллективе есть такие музыканты, как Бадьяров!
И Бэде пришлось увольняться. Он уехал в Ленинград, проработал какое-то время с «Поющими гитарами», с Понаровской и Асадулиным, участвовал в создании одной из первых рок-опер «Орфей и Эвридика». Где-то на гастролях его творческий путь пересекся с тогда еще никому не известным гомельским ансамблем «Сябры». Ему предложили стать художественным руководителем этого коллектива. Именно с Бадьярова и началась популярность «Сябров».
Валик не любил хамства, был обидчивым человеком и всегда хотел уехать за границу, что в конце концов и сделал. Теперь он живет в Германии, в Аахене у него свой дом. Прекрасный скрипач, он дает концерты с симфоническим оркестром Франкфурта и Кёльна, ездит по Европе со своим камерным составом.
Толя Кашепаров - знаменитый солист «Песняров». Анатолий пришел в ансамбль уже после меня. Он певец с уникальным голосом и очень характерным, своеобразным тембром. До «Песняров» Толя работал солистом в ресторане гостиницы «Юбилейная», а параллельно учился в Молодечненском музыкальном училище. В этом ресторане мы его впервые услышали, сразу пригласили к себе в ансамбль - и не ошиблись.
В профессиональном плане Толя был просто безупречен. Запомнился он по таким «знаковым» песням, как «Спадчына», «Я не могу иначе» и «Вологда». Красавцем Толю назвать нельзя, и по натуре он был довольно застенчив, - но все равно девушки его очень любили.
Толя обожал автомобили. Автомобили были его коньком. Великолепный водитель, он проводил с автомобилем массу времени (в ущерб, разумеется, семье).
А еще у Толи было очень много родственников И когда случались заграничные гастроли, Толя экономил, чтобы привозить родственникам подарки. Помню, во время первой поездки по Америке суточные у нас составляли всего девять долларов, и Толя почти ничего не ел. А я на обед покупал себе пиво и сэндвичи с ветчиной - и иногда обнаруживал, что ветчину кто-то аккуратно подъел. Но такое мелкое жульничество Толю не спасло, и на одном из концертов он упал в голодный обморок. И тогда Мулявин обязал меня водить Толю Кашепарова несколько раз в неделю в ресторан.
Теперь Толя живет в Америке, музыкой почти не занимается, имеет свой небольшой бизнес. Мы с ним изредка перезваниваемся, и я всегда искренне рад его слышать.
Владислав Мисевич - тоже один из тех, кто был с Мулявиным с самого начала, еще с «Лявонов». Этот очень гибкий музыкант мог петь фальцетом, мог играть на любом инструменте.
Он честный человек и нежадный. Но у него была очень сложная роль в ансамбле.
Владимир Мулявин никогда не срывался, не «выговаривал» музыкантам (кстати, и я сейчас, оказавшись на его месте, стараюсь поступать так же - это хороший опыт) и все свои упреки и замечания доводил до сведения музыкантов через Мисевича. И так получилось, что Влад стал змеем - у него и прозвище было «Змей». Хотя сам он прямой и незаурядный человек.
А вообще из «Песняров» выросло очень много достойных музыкантов: Бернштейн, Гилевич, Молчан, Эскин, Тышко, Поливода... Каждый из них - личность, и каждый из них внес немалый вклад в развитие как белорусской, так и общемировой музыкальной культуры.
Еще я хочу сказать несколько слов о Юре Денисове — солисте ансамбля «Песняры» и моем замечательном друге. Юра впервые появился на одной из наших репетиций - мы тогда гастролировали в Киеве, наши концерты проходили в концертном зале «Украина». Интеллигентный на вид парень, в костюме и галстуке. Представился: «Денисов», - и спел песню: «Снег, до чего красивый снег, я по снегу как во сне...»
Это было потрясающе! Настолько проникновенно и с такими лиричными интонациями, что я сразу сказал Мулявину: «Надо брать мальчика». Хотя, к примеру, Толя Кашепаров был против. Он воспринял это с прагматической точки зрения: раз больше солистов, значит, меньше будет сольных песен исполняться каждым из нас. Но Юру взяли в состав ансамбля, и он стал первым исполнителем песни «Беловежская пуща».
Грустно получилось с Юрой, когда «Песняры» в первый раз собрались ехать в Америку. Мама Юры была первым секретарем Минского района в Киеве, а отец - главный военпред авиационного завода имени Антонова. И когда мы стали оформлять документы, выяснилось, что Юра категорически невыездной. Нас это просто поразило: он же сын людей, которые сами являются олицетворением советской власти, почему же эта власть им не доверяет? Логика мне была совершенно непонятна тогда, непонятна она и сейчас. И я помню расстроенного Володю Мулявина, помню, как он подошел к Юре и сказал: «Извини, Юра, что так получилось».
Как будто Мулявин чувствовал вину за всю эту систему.
Я В «ПЕСНЯРАХ»
РАДОСТИ ДЕБЮТАНТА
После того как Мулявин выдернул меня из «Белгипросельстроя», мы приехали в филармонию. Я знакомлюсь с ребятами - Мисевичем, Валерой Мулявиным, Тышко, Демешко, Бадьяровым, а Володя Мулявин говорит:
- Вчера я под впечатлением от твоего голоса написал песню. Давайте репетировать.
Сел за рояль. Это была «Александрина».
Через пару дней состоялся мой дебют на творческом вечере белорусского поэта Аркадия Кулешова. Концерт проходил в Москве, в Колонном зале Дома союзов. На меня надели костюм Влада Мисевича, который мне был великоват, и выпихнули на сцену. В этом зале и - акустика не очень, и зрители сидят слишком близко, практически перед тобой. И ты - будто под рентгеном.
Я поначалу сильно волновался, но как только запел, то забыл обо всем. Голос полился, все прошло очень хорошо. Я спел прекрасно - ребята даже качали меня на руках после выступления.
К слову, на том концерте присутствовал Король - председатель Белгосстроя, который мне потом сказал: «Может, ты и стал бы замечательным архитектором, но тогда в Беларуси не было бы такого замечательного певца - Борткевича».
После этого выступления у нас сразу начались гастроли по Дальнему Востоку - в течение полутора месяцев мы давали по нескольку концертов в ден.
Ставки в филармонии тогда были небольшие, но если филармония «горела» (то есть не выполняла план), то приглашала известные коллективы, - чтобы был гарантированный стопроцентный аншлаг. А платили таким коллективам из фондов филармонии по ставкам в два раза выше.
Аншлаг «Песняры» обеспечивали, поэтому нас всюду приглашали. Это была фантастическая популярность: публика брала кассы с боем, огромные очереди за билетами, конная милиция, девочки, бегущие за автобусом...
Слава «Песняров» росла, как снежный ком.
После гастролей по Дальнему Востоку я получил свою первую зарплату в «Песнярах», что-то около пяти тысяч рублей. По тем временам огромная сумма - примерно столько стоила новая «Волга». Мы с мамой никогда таких денег и в руках не держали.
Чтобы удивить маму, я разменял всю зарплату на «трешки» и высыпал грудой на диван. Получился здоровенный курган. Когда моя мама пришла с работы и увидела этот курган, ей стало плохо.
- Сынок, - говорит, а сама рукой за сердце держится, в глазах слезы стоят, - сынок, с кем ты связался? Откуда эти деньги? Ты же никогда ни у кого копейки не взял, как ты мог?
- Мамочка, я их заработал.
Не верит. Я попытался ей все объяснить и успокоить - напрасно. И только после того как я позвонил Володе Мулявину и тот приехал и подтвердил; да, это действительно мои деньги, я их заработал,- мама успокоилась. И мы с мамой купили мебель и цветной телевизор - тогда это было еще в диковинку.
КАК Я НЕ СЛУЖИЛ В АРМИИ
Когда я учился на втором курсе техникума, мне при шла повестка из военкомата - вызов для прохождение медкомиссии. Признаюсь честно, служить я не хотел. Я только начал жить самостоятельно, у меня появилась любимая девочка, надо было закончить учебу. Поэтому уезжать на два, а то и на три года неизвестно куда никак в мои планы не входило. Да и рассказы моих уже отслуживших друзей о службе совершенно меня не вдохновляли.
Еще когда я учился в школе, в моем классе была девочка Эльвира - круглая отличница, и мы с ней дружили. Мама Эльвиры работала невропатологом в поликлинике Заводского района (прекрасная была женщина). Так вот, прихожу я на медкомиссию. Прошел одного врача, другого. Захожу к невропатологу - мама Эльвиры. Она меня узнала:
- Ну, Ленечка, проходи, садись. Как дела у бойца, готов ли он служить?
И улыбается мне. Я понял - это мой шанс.
- Да не боец я вовсе, - говорю, - а студент, который учиться хочет.
Мы с ней поговорили. Она расспросила о маме, об учебе, о здоровье и в конце сказала, что попробует что-нибудь придумать. Я до сих пор не знаю, что же она придумала, но в течение двух лет меня больше в военкомат не вызывали.
За это время моя жизнь круто поменялась, я попал в ансамбль «Песняры», исполненная мною «Александрина» зазвучала по радио и телевидению.
«Песняры» должны были поехать в Сопот на фестиваль. И вдруг мне опять приходит повестка из военкомата. Что делать, надо идти. Я сразу пошел к начальнику - им оказался лысый майор с выпученными глазами - и с ходу стал ему объяснять, что работаю солистом в «Песнярах», что мы едем в Сопот представлять нашу страну за рубежом и т. д. Но результат оказался совершенно неожиданным. Глаза майора еще больше выпучились, он встал и заорал, что здесь куда ни плюнь, кругом артисты, а Родину защищать некому. Я пытался ему что-то ответить, но он позвал дежурного, они отвели меня в Ленинскую комнату, заперли, пообещав завтра же «забрить».
Ну все, думаю, попал, будет тебе Сопот, будут тебе и «Песняры». А дом мой находился рядом с военкоматом, даже из окна Ленинской комнаты его видно. Сижу я возле окна и грущу. Вдруг слышу - открывается дверь. Парень, который был дневальным, меня узнал и спросил: «Может, чего-нибудь нужно?» Я тут же написал на клочке бумаги записку для мамы и попросил, чтобы она позвонила Мулявину и сообщила ему о том, что меня отправляют служить. Дневальный сказал, что передаст, и закрыл дверь.
Прошло несколько часов, хотя тогда они показались мне вечностью.
Открылась дверь, и в комнату вошел представительный мужчина в генеральской форме. Позади виднеются мулявинские усы и лысая голова военкома. Как потом мне сказали, представительный мужчина был командующим войсками Белорусского военного округа по фамилии Арико.
- Ну показывайте вашего Борткевича, - сказал Арико.
Я встал. Он посмотрел на меня:
- Да, я тебя помню! Ну будет тебе отсрочка. Надеюсь, на фестивале в Сопоте ты нас не подведешь? - и повернулся к побледневшему военкому: - Такие люди нам сейчас больше в тылу нужны, чем в армии!
Кстати, в Сопоте после опроса английской прессы именно «Песняры», к удивлению музыкального мира, по популярности заняли среди эстрадных ансамблей второе после «АББА» место. И тогда на ансамбль посыпались, как из рога изобилия, зарубежные приглашения - Европа, США, Африка, Азия, Латинская Америка... Но все они застревали у чиновников...
Итак, один раз я от армии открутился. Но вопрос, как говорится, оставался открытым. Каждый раз проходить медкомиссию в военкомате с командующим я, безусловно, не смогу. Надо было срочно что-то придумать.
И как-то после одного из концертов разговорились мы с Владимиром Николаевым, нашим музыкантом-многостаночником. Он играл у нас и на духовых инструментах, и на электрооргане, и даже свой сольный номер с пантомимой у него был, этот номер с большим успехом шел в перерывах между отделениями.
- Я могу менять свое давление, как хочу, - сказал мне Володя. - Причем я могу сделать так, что оно будет в разных частях тела разным.
Я не поверил:
- Не может быть, - говорю, - а что для этого нужно?
- Ничего, только желание и тренировка. Хочешь тебя научу?
- Идет, будем заниматься, - сказал я.
Суть способа состояла в том, чтобы, к примеру, расслабленные ноги напрягать потихоньку, начиная от кончиков пальцев, все выше и все сильнее. И так можно напрягать мышцы одной руки или одной ноги. Давление в этом случае скачет. После занятий с Володей у меня все стало получаться, более того, я и сейчас могу это сделать на удивление врачам.
А потом я пошел в Ленинскую библиотеку и набрал медицинской литературы. Кто-то подсказал, что невозможно доказать существование болезни, связанной с психикой человека. Или, к примеру, никакой аппарат не сможет показать, болит у тебя голова или нет. В библиотеке я нашел научный трактат (вернее, докторскую диссертацию двух врачей) о деинцефальном синдроме. Это такая болезнь, для которой характерны кратковременные приступы. Они начинаются с головокружения, потом тебя охватывает страх, одновременно поднимаются температура и давление, после приступа - частое мочеиспускание. Я проштудировал эту книжку от начала до конца несколько раз.
В конечном итоге меня - такого подготовленного - положили в военный госпиталь на предмет выявления симуляции. Там давление мне измеряли каждый день и составили карту показаний. Причем могли прийти и ночью и, измеряя давление, проверяли, напрягаю я мышцы или нет. К счастью, все это они делали без должной бдительности. Поэтому мне все удавалось. К примеру, поднять температуру на пару градусов я научился еще в школе, потирая пальцами кончик градусника. Но нужно было симулировать главное - деинцефальный синдром. В этой болезни приступы цикличны и должны обязательно повторяться хотя бы один раз в две недели. Я выбрал момент накануне первомайских праздников, в госпитале оставался только дежурный врач, который в этом ничего не понимал. Я напился воды на неделю вперед, подговорил всех ребят, которые находились в палате. Они взяли меня под руки и вызвали дежурного врача. Я вовсю симулировал, как мне страшно и плохо. Прибежал врач. Меня положили на кровать, измерили давление. Как я уже говорил, этот врач в таких болезнях не разбирался. Он снял показания, записал все симптомы и, когда мне ввели успокоительное, ушел. А наутро уже заходит завотделением. Она прочитала написанное дежурным врачом, опросила ребят, которые лежали со мной в палате...
- Так у него самый настоящий деинцефальный синдром, - говорит. - Готовьте мальчика к выписке.
Через несколько дней меня выписали, и я получил белый билет. Вот так мне удалось ввести в заблуждение наших маститых врачей и уйти от воинской службы, о чем я сейчас нисколько не жалею. Ведь на карту была поставлена моя судьба: или «Песняры», или армейский плац.
РЕПЕРТУАР
«Песняры», в отличие от почти всех других тогдашних ансамблей, сразу были профессиональным коллективом и числились в штате концертной организации. Понятно, что официально работающая группа не могла заниматься только своими концептуальными произведениями и избежать исполнения того, что на журналистском сленге тех лет называлось «паровозиками», то есть проходных вещей, которые тянут за собой «настоящий груз». Определенную часть репертуара «Песняров» составляли сочинения на обязательную тему, то есть песни советских композиторов, в том числе и весьма не новые.
Мулявин - да и мы все - прекрасно понимали, что русскоязычный репертуар нужен нам не только для популярности. Многие из нас воспитывались на русской народной песне. Мы понимали также, что из-за этого имидж ансамбля как бы раздваивался. Хотя даже хорошо известные песни в исполнении «Песняров» все равно звучали необычно, преобразованные волшебной рукой Мастера. Так, запетые-перепетые «Московские окна» Хренникова стали легкой и изящной лирической босановой. А качественные, но ничем особенным не выделяющиеся песни «За полчаса до весны» Фельцмана и «Наши любимые» Тухманова прозвучали как эмоциональные любовные монологи, страстность которых была немыслима для обычной советской эстрады тех лет. И ту и другую пел сам Мулявин, и он умудрялся удерживать внутреннюю эмоциональную раскованность и музыкальную свободу в рамках тонкого вкуса.
Конечно, все эти песни пелись высокопрофессионально, красиво, и все же на деле искажали истинное творческое лицо коллектива. К сожалению, именно массовый имидж «Песняров» и запомнился рядовому слушателю, вызывая в памяти прежде всего пресловутую «Вологду».
Надо сказать, что в советское время нам впрямую не диктовали, что мы должны петь, а что не должны. Никто из «Песняров» никогда не состоял в партии, и в нашем репертуаре не было песен, восхваляющих партию и революцию. Наверное, статус государственного ансамбля и то, что мы исполняли народную музыку и песни, написанные на стихи классиков, давали нам определенную свободу творчества. Но иногда все-таки приходилось считаться с чутким руководством КПСС.
Интересна история песни «Белоруссия». Ее авторы Пахмутова и Добронравов, и изначально текст первого куплета был таким:
Все земля приняла: и заботу, и ласку, и пламя,
Самой первой тебе приходилось встречаться с врагами.
Не нужно глубоко знать историю, чтобы правильно понять эту строчку: к сожалению, огромное количество войн прошло через территорию нашей многострадальной Беларуси.
Но когда эта песня была записана и пошла в народ, из ЦК партии позвонили Добронравову и велели переписать слова первого куплета. Потому что существуют другие страны, другие народы, и там могут обидеться на то, что именно Беларусь является первой в этом печальном списке. Добронравов поменял слова и получилось так:
Все земля приняла: и заботу,и ласку, и пламя,
Полыхал над землей небосвод, как багровое знамя.
Интересная история произошла с песней «Березовый сок». Композитор Вениамин Баснер пригласил «Песняров» на киностудию «Беларусьфильм». Мы встретились, и он рассказал, что написал две песни: одну к кинофильму «Щит и меч», а другую к кинофильму «Мировой парень». Он думал, что обе исполнит Марк Бернес, но так случилось, что Бернес успел записать только песню «С чего начинается Родина». Баснер попросил меня, чтобы я спел «Березовый сок».
- Ты любишь Бернеса? - спросил Баснер.
- Конечно.
- Попробуй спеть так, как спел бы эту песню Бернес.
Мы ее записали с двух дублей и уехали.
По прошествии некоторого времени жена моего дяди, работавшая на «Беларусьфильме», сказала, что песня «Березовый сок», которую я записал, очень популярна у них. Но я тогда не обратил внимания на эти слова.
Прошел примерно год. На концертах мы получали записки с просьбой исполнить «Березовый сок». Песня стала шлягером, и ее крутили по радио, а мы все еще говорили, что это не наша песня.
Кинулись искать - ни нот, ни партитуры, ничего нет. Тогда мы пошли в кинотеатр и записали ее на магнитофон. Мулявин снова написал партии, и после этого мы стали исполнять ее на концертах.
Потом мы с «Беларусьфильмом» часто сотрудничали. В фильме «Улица без конца» я спел песню «Журавли» («Мне кажется порою, что солдаты...»). В фильме Добролюбова «Белые росы» я пел песню о свадьбе. Музыку к фильму тогда тоже записали «Песняры».
Вообще надо сказать, что песни «Песняров» своим содержанием выгодно отличались от песен-однодневок, от тогдашней молодежной лирики. Как потом писали, за нашими песнями «действительно чувствовалось дыхание истории».
Но, к сожалению, повторяю, массовый имидж «Песняров» сложился лишь по песням, которые постоянно крутили по радио, например, по «Вологде». На концертах же репертуар был совершенно иной, прежде всего белорусский, мы показывали песни, шансы которых появиться на телевидении в то время были нулевыми.
Кстати, если уж на то пошло, расскажу, как родилась «Вологда».
Осенью 1976 года в Москве, в Колонном зале Домаа союзов, планировался юбилейный творческий вечер знаменитого поэта-песенника Михаила Матусовского. Естественно, что без «Песняров» такое мероприятие обойтись не могло.
Нам выдали сборник песен на стихи Матусовского, чтобы мы на свое усмотрение выбрали три песни для концерта. Пролистывая этот сборник, Володя Николаев увидел в нем песню «Вологда», а он был оттуда родом.
О существовании этой песни мы, как и все жители СССР, до этого даже не подозревали. Это уже потом я узнал, что она была написана вскоре после войны на музыку Бориса Мокроусова для какого-то спектакля. Спектакль, видно, не стал событием в театральной жизни и быстро сошел со сцены, а песню тут же забыли все, даже ее авторы.
Ну а Володя Николаев никак не мог упустить возможности прославить свой родной город. И, пробежав ноты глазами, предложил Владимиру Мулявину сделать песню «Вологда» для концерта.
Не скажу, что его сразу послали. Вначале мы песню разок проиграли, а уж потом вместе с ней и послали его по короткому, но далекому адресу. Однако до концерта оставалось еще несколько дней.
На одной из репетиций Володя снова предложил попробовать «Вологду-гду». На этот раз сразу посылать его по тому же адресу почему-то не стали. Но когда он сказал, что в этой песне нужен еще и баян (который до этого «Песняры» никогда не использовали), на него посмотрели, как на умалишенного. Чтобы в современном вокально-инструментальном ансамбле - да на гармошке играть!.. Но все-таки я уговорил ребят попробовать, у нас был портативный профессиональный магнитофон шведского производства. Он записывал на пленку несколько дорожек, и можно было сначала записать инструментальную музыку, а потом наложить вокал.
Сделали пробную запись музыки «Вологды». Прослушали. Решили, что петь ее должен Толя Кашепаров.
Жили мы в гостинице «Россия». Валера Яшкин и Володя Николаев засели в номере за работу над аранжировкой. Набросали несколько вариантов, но остановились на одном. Он и по сию пору звучит у «Песняров». Это был вариант с баяном.
Главное - убедить Владимира Мулявина. Договорились, что баян на репетицию как бы случайно принесет Яшкин.
Когда Яшкин припер баян, Мулявин, улыбнувшись и не сказав худого слова, отечески произнес: «Ну-ну... А вот интересно, где это Валерка в Москве баян нашел?»
«Вологду» записали и прослушали. Все согласились, что баян не только не испортил песню, но придал ей своеобразную и совершенно непривычную для эстрады окраску.
Мы прикинули, что концерт будет записываться, и если песня не понравится, то ее попросту вырежут.
Но оказалось, что трансляция будет прямая и по телевидению, и по радио одновременно. Это-то и принесло песне «Вологда» мгновенный всесоюзный успех.
На концертах в Колонном зале была строгая традиция - номера никогда не «бисировались». Публика там была официальная, проверенная, лишнего шума не устраивала. Но на этот раз после первого исполнения «Вологды» разразилась такая овация, что организаторы концерта даже растерялись. Что делать? Народ аплодирует, кричит «бис». И все это безобразие - в прямом эфире! Микрофоны не выключишь, телекамеры не отключишь... Поступила команда: «Пусть поют еще раз».
После концерта мы должны были уезжать и до поезда оставалось всего ничего, и, спев «Вологду», мы побежали в гримерки переодеваться. Уже переоделись, как вдруг прибегает Светлана Моргунова:
- Ребята, на сцену! Зал аплодирует стоя, никто не расходится!
И мы уже не в концертных костюмах, а в джинсах и свитерах вышли на сцену «бисировать». Спели. А публика все не унимается!
Михаил Матусовский расцеловал нас и поблагодарил Мулявина за такой неожиданный подарок.
После этого все и началось. Со всего Союза на телевидение и радио посыпались заявки, просьбы, требования: народ хотел слушать «Вологду-гду» практически беспрерывно. Песня про русский город стала своеобразной визитной карточкой белорусского коллектива!
А Володя Николаев, который предложил эту песню и сделал к ней аранжировку, был уже сам не рад ее успеху, потому что из-за одной-единственной песни все следующие годы работы ему приходилось таскать тяжеленный концертный баян...
У «Песняров» было много песен, которые по всем параметрам должны, казалось, стать шлягерами, но таковыми не становились. Володя Мулявин все песни проверял на зрителе, после первого исполнения ему уже было ясно, шлягер это или нет. Я удивлялся: ну сегодня песня не пошла, завтра пойдет. Ведь публика меняется: на одном концерте в зале сидят в основном рабочие, на другом - интеллигенция... Здесь не приняли - в другом месте примут. Но для Мулявина не было никаких завтра, он предсказывал судьбу песни сразу же. Если сразу не пошла - все, сто процентов, она нигде не пойдет.
Как это ни печально, но сейчас я понимаю: серьезные вещи народу не запоминаются, а запоминается то, что попроще. То, что можно петь, сидя за столом. Вроде «Вологды».
«ГУСЛЯР» И «ПЕСНЯ О ДОЛЕ»
В какой-то момент песенная лирика стала поднадоедать, да и Владимир Мулявин всегда тяготел к крупным формам. Было решено попробовать новый жанр - этим проектом стал «Гусляр». Сценарий был придуман Валерием Яшкиным, музыку написал Игорь Лученок, аранжировка Владимира Мулявина. Лученок позже сказал в одном интервью, что он уже не различает, где его ноты, а где то, что добавили «Песняры».
«Гусляра» часто называли рок-оперой. Ну что ж, видимо, для тех, кто так считает, любое произведение дольше трех минут - уже опера. На самом деле в «Гусляре» нет арий и дуэтов, которые развивали бы сюжет (там только две сольные вокальные партии), тем более нет речитативов, нет сценического движения. Музыковеды определяли нашего «Гусляра» как ораторию. Основная роль в этом произведении принадлежит хору, рассказывающему о происходящих событиях, и оркестру.
Но и рок-ораторией назвать «Гусляра» будет неверно - в нем есть приемы арт-рока, джаз-рока, классической и современной академической музыки.
Те же музыковеды, анализируя «Гусляра», признали, что это - типичное произведение европейского симфонизма с противопоставлением Добра и Зла, Гусляра и Князя, народа и княжеской челяди. Темы Добра - лирические, распевные, а темы Зла - резкие, угловатые, жесткие. Очень много хоровых сцен, которые в зависимости от поворота сюжета меняют свой музыкально-образный характер.
Профессионалы, слышавшие «Гусляра», говорили, что он явно требует мощного оркестрового и хорового звучания. Дескать, в том, что играет инструментальная группа ансамбля, угадывается большой состав, и «Песнярам» надо было бы записывать это произведение с симфоническим оркестром. Но это сейчас каждая уважающая себя рок-группа или поп-певец считают, что выступить с оркестром - это круто. А тогда, в конце семидесятых, кроме эксперимента нескольких западных групп, других примеров совместной записи эстрадного состава и симфонического opкестра не было.
В работе над «Гусляром» Мулявин хотел, чтобы мы уходили от эстрадного типа музыкального мышления к сугубо классическому. Этого требовал характер музыки, и в этом «Песняры» вновь оказались новаторами. Но вынужденная ограниченность исполнительских возможностей - все-таки «Гусляр» слишком масштабное произведение для ансамбля - сказалась.
Например, партию Князя в записи «Гусляра» пел Толя Кашепаров (в концертах ее исполнял Владислав Мисевич). У Кашепарова - характерный тенор с несколько «народным» оттенком, а партия - «злодейская», ее должны петь низкие голоса: басы, баритоны. Но мы не использовали низкие голоса соло - только в аккорде, и то очень редко. В результате злодей получился в «Гусляре» не столько зловещим (а именно таким он должен быть), сколько не вполне убедительным.
«Гусляр», на мой взгляд, - одно из высших творческих достижений «Песняров». Говорят, что публика недооценила эту работу, потому что «Гусляр» опередил свое время, что нет «пророка в своем Отечестве», что для рядовых поклонников «Песняров» произведение оказалось сложным, а «консерваторская» публика оказалась не готовой к тому, что в исполнении ВИА может прозвучать сложное симфоническое сочинение...
Но «Гусляр» - не единственное произведение крупной музыкальной формы, освоенное «Песнярами».
«Песня о доле» - так называлась вызвавшая много споров и нареканий притча по мотивам драматическое поэмы «Извечная песня» Янки Купалы.
Глеб Скороходов писал: «Новую работу они не стали называть ни бит-, ни рок-, ни зонг-оперой. Они использовали известные приемы построения опер... но дали произведение, носящее неповторимую печать». «Песню о доле» называли и оперой-притчей, но это ни в коем случае не была опера в традиционном понимании. Это был первый песенный эстрадный спектакль на фольклорной основе, рассказывающий о нелегкой судьбе народа.
Вот отзыв о «Песне» композитора Ермишева:
«Как-то странно, что музыкальная поэма о мужицкой жизни в столь современном «наряде» не режет ухо, хотя перед спектаклем я опасался: «лягут ли» стихи Я. Купалы на музыку В. Мулявина? Стихи слились с музыкальной тканью, с игрой актеров (да-да, это были именно актеры!). И все вместе не вызывало протеста, но захватывало и волновало. Я чувствовал, как три тысячи зрителей напряженно и внимательно следили за драматическими коллизиями спектакля, придирчиво сверяя свои привычные уже представления о «Песнярах» с этими новыми. «Песняры» были те же, с теми же гитарами, лирами, и так же эмоционально насыщенно и ярко звучали голоса солистов и ансамбль. И все же они уже не те. Никогда зритель не видел, да, пожалуй, и не мог представить белорусских музыкантов в спектакле.
Сегодня «Песняры» - действующие лица в спектакле. Они любят и страдают. Перед нами проходит большая человеческая жизнь. Жизнь, доходящая порой до трагизма, полная отчаянной борьбы людей со злой судьбой-недолей».
«Песня о доле» вышла, родилась из белорусского фольклора. Мы играли традиционные женские образы Лета, Весны, Зимы, Осени, а также символические персонажи: Счастье, Горе, Голод, Холод... На женскую роль - Жены мужика - была приглашена дебютировавшая в ансамбле Людмила Исупова. Владимир Мулявин был автором и комментатором в роли Янки Купалы. В «Песне о доле» зрители впервые услышали голос Мулявина-чтеца - то задушевный и ласковый, то грозный и обличительный. Мастерство Владимира Мулявина позволило сделать так, что переходы от чтения к пению были почти неразличимы, не заметны зрителю.
Музыка Мулявина для «Песни о доле» близка по духу народным песням и в то же время современна, поскольку Мулявин впрямую не цитировал музыкальный фольклор. Он заранее учитывал все возможности и ресурсы будущих исполнителей. В его музыке есть все: лирика, народый юмор, драматизм и трогательная нежность.
Музыкальный сюжетный спектакль выглядел одновременно концертным, он был нами не столько сыгран, сколько спет, не столько прожит на сцене, сколько представлен.
Что касается психологических актерских планов, то их роль, по замыслу Мулявина, была сознательно сведена к минимуму. Ведь это не оперный спектакль, а его эстрадная версия, и условность эстрады постоянно давала о себе знать: аппаратура, колонки динамиков инструменты, микрофонные стойки, микрофоны в руках героев.
Тем не менее Мулявин требовал естественности, требовал, чтобы мы выглядели органично в предлагаемых обстоятельствах притчи.
Декорации «Песни о доле» художника Бартлова вполне отвечали эстрадному стилю исполнения. Все действие было сконцентрировано на крестообразном деревянном помосте - подиуме, трансформирующемся то в дорогу, то в пашню, то в свадебный стол, то в Голгофу. Мы были одеты в серые рубахи, на ногах - опорки.
Любопытным по тем временам было привлечение цвета в движении, цветодинамики. На огромном холсте, висящем за подиумом, пучки света то полыхали алыми языками пожарища, то хлестали зелено-серым дождем, то вихрились в пляске снежной метели. Динамический цвет не только дополнял оркестр, но был одним из солирующих инструментов нашего ансамбля...
...Как-то я прочитал в одной статье, что такие эксперименты с крупной формой, как «Песня о доле» и «Гусляр», не прибавили ансамблю популярности и вообще были чуть ли не неудачными. Как участник этих экспериментов заявляю: это неправда. В основном выступления проходили «на ура».
А вот еще случай. Помню, как нам позвонил директор одной филармонии и, узнав, что мы выступаем с «Гусляром», сказал:
- Никаких опер! Только песни!
Мы, для виду согласившись, привезли с собой декорации «Гусляра» и спели его. На следующий год нам звонил тот же директор:
- Песни? Не надо песен. Только рок-оперу.
После «Гусляра» нам казалось невозможным исполнять обычный репертуар. Но это было малореально - шедевров много не бывает!
ПРЕВРАТНОСТИ ЖИЗНИ ЗВЕЗД СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ
Но вернемся к бытовой жизни «Песняров» начала семидесятых.
Костюмы нам шили вначале в Оперном театре. Вроде бы и размеры с нас снимали, но все висело мешком. Потом одевать нас стал Белорусский дом моделей - костюмы их пошива и сидели лучше, и материал стал побогаче. В основном это были белорусские народные костюмы, но как-то раз нам сшили смокинги с бабочками. Смокинги не прижились - зрители шутили, что в них мы похожи на официантов.
А концертную аппаратуру мы покупали сами, потому что все, на что могла расщедриться родная филармония, это венгерский «Биг». «Биг», может быть, и неплохая аппаратура, но для самодеятельности, а не для профессионального ансамбля. И поэтому Мулявин сказал: «Если ты барабанщик, должен купить барабаны, если гитарист - гитару». А на голосовую аппаратуру скидывались все - с гастрольных денег. И надо сказать, что аппаратура у нас всегда была на хорошем уровне. Но бывали и проколы. Как-то Юрий Антонов, занимавшийся тогда этим бизнесом, предложил нам комплект западногерманской аппаратуры «Эхолет». И мы купили его за шесть тысяч рублей. Буквально на следующий день она не выдержала нагрузки и вышла из строя. В усилителях перегорели лампы, аппаратура оказалась старого образца, без гарантии, подходящих ламп в мастерских тоже уже давно не было...
Гастрольная жизнь - это жизнь на колесах. Иногда приходилось работать по три-четыре концерта в день, а случалось и по пять. И никаких фонограмм, все исполнялось вживую. Много сольных песен, страшное напряжение голосовых связок, да еще и между концертами умудрялись репетировать. Мулявин писал новые песни, и мы старались их сразу вводить в концертную программу. Песни обычно писались в поездках между концертами, но лучшие песни - такие, как «Алеся» «Вероника», «Мой родны кут», - написаны, когда Владимир Мулявин вместе с Игорем Лученком ездили на лечение в Трускавец.
Какое это было замечательное время! Конечно, работали на износ, но зрители платили нам сторицей. Когда чувствуешь успех, отдачу зала, испытываешь такое удовлетворение, такой эмоциональный подъем, что забываешь о тяжком труде, которым это оплачено.
Мы много работали, но никогда и мысли не возникало, что мы перерабатываем. Мулявин сказал - и мы пошли. Перед концертомраспевались песней «Ой, реченька-реченька» - а капелла.
День наш складывался примерно так: концерт, обед и репетиция. Снова концерт - и снова репетиция, У кого-то хватало сил, чтобы вечером посидеть, поболтать, выпить пива, а я так трупом валился спать после такого сумасшедшего дня. Но я благодарен Господу: ведь работа была в удовольствие, а мы были молоды и отдавались ей полностью.
Новые песни, новые записи. Записывались мы тогда на единственной у нас в стране фирме «Мелодия», и судьба этих записей была достаточно курьезной. Так, два первых альбома мы записали в 1971 году в одно время, а вышли они с разницей аж в целых пять лет.
За запись пластинки каждому участнику ансамбля платили повременно сто рублей. К 1975 году было выпущено около 45 миллионов экземпляров пластинок «Песняров» - они мгновенно раскупались. Никаких других денег, кроме тех ста рублей, за эти пластинки мы не получали. Не получаем и сейчас, когда количество пластинок, вероятней всего, перевалило за 100 миллионов.
На Западе каждый миллион пластинок - это Золотой диск, большой успех и хорошие деньги. Спустя много лет в Америке на студии я сказал, что тираж наших пластинок перевалил за 50 миллионов, и тут же почувствовал, как изменилось отношение ко мне. На Западе певец, чьи диски так тиражируются, - суперзвезда и очень богатый человек.
Кстати, из-за некачественных записей концертов у нас возникали серьезные неприятности. Был один грустный эпизод в гастрольной жизни «Песняров»...
...Концерт проходил в городе Волжске, недалеко от Волгограда. Местное телевидение, не спрашивая и не предупреждая нас, решило концерт записать. Была установлена камера в зале, и, что самое ужасное, звук писали не с пульта, как это обычно делается, а поставили два микрофона к динамикам колонок на сцене. Поэтому на запись шла сплошная децибельная каша. Мы это, естественно, заметили, в антракте подошли к работникам телевидения и попросили их не делать заведомо некачественной записи.
Владимира Мулявина тогда заверили, что ограничатся записью первого отделения. После перерыва концерт продолжился, открылся занавес, я вышел петь песню «Дрозды» и обнаружил, что вся съемочная аппаратура осталась на том же самом месте. Глазок камеры горит, значит идет запись. Тогда после песни Мулявин приостановил концерт и еще раз попросил не снимать, объяснив при этом публике, что запись идет некачественная. Концерт, конечно, продолжился - зрители же ни в чем не виноваты.
Телевизионная группа сняла второе отделение и уехала. А через два дня в газете «Комсомольская правда» вышла разгромная статья. В ней говорилось о том, что «Песняры» устроили дебош на сцене, сорвали концерт, ломали микрофоны, требовали денег за съемки концерта. Подписали к этому фарсу и ветеранов войны, как тогда было принято. В общем, началась настоящая травля. Это сейчас любая реклама, плохая или хорошая, притягивает публику. Тогда было другое время. Негативная статья в центральной газете объявляла тебя вне закона и могла поставить крест на творческой карьере. На полгода нам запретили любую гастрольную деятельность.
Кстати говоря, после нашего случая в той же самой «Комсомольской правде» появилась такого же плана статья о MXАТе.
Театр проводил серию бесплатных спектаклей для школьников. На одном из спектаклей было так шумно что его пришлось приостановить. Школьникам объяснили, что перед ними выступают известные и заслуженные люди искусства и если кому-то спектакль не нравится, то он может покинуть зал. А в газетной статье все происшедшее снова было вывернуто наизнанку.
Но с МХАТом шутки плохи, МХАТ - это не гонимый ВИА. Народный артист Советского Союза Михаил Михайлович Яншин ответил на статью по радио, и сразу пошла обратная реакция. Сняли редактора, коллектив «Комсомольской правды» обвинили в погоне за сенсациями...
У «Песняров» же после статьи было много неприятностей. И мы еще долго объезжали Волгоград стороной, хотя нас приглашали и извинялись много раз.
СМЕРТЬ ВАЛЕРЫ
Рассказывая о «Песнярах», нельзя не сказать о том, что явилось потрясением для всего коллектива в самом начале нашего успеха.
Мы были на гастролях в Ялте, где проходил фестиваль «Крымские зори». В гостинице нам должны были предоставить два номера «люкс», один Володе, второй - его старшему брату Валере Мулявину. Но свободным к нашему приезду оказался только один номер «люкс». Устроители гастролей пообещали решить этот вопрос.
Вечером в ресторане нашей гостиницы мы устроили небольшой банкет по случаю дня рождения нашего звукорежиссера - Коли Пучинского. Все было чинно-благородно, почти никто не пил. Банкет уже подходил к концу, когда представители администрации сообщили Валере, что ему предоставлен номер «люкс», но в другой гостинице. Чтобы попасть туда, нужно было пройти всю ялтинскую набережную. Валера взял чемоданчик с личными вещами и пошел.
Меня поселили с Толей Кашепаровым. В четыре часа утра в дверь нашего номера постучали. Я открыл дверь - на пороге стоял милиционер:
- Там убили парня, кого-то из ваших. Некоего Мулявина. Вам нужно пойти на опознание.
Мы с Толей быстро оделись и спустились вниз, все еще не веря. Нас повели к месту происшествия.
Валера лежал ничком на парапете, лицо - в ссадинах, а под головой - кровь. Эта ужасная картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Но осознание происшедшего и весь ужас от того, что случилось, пришли позднее.
Нам в этот день нужно было работать два концерта. Из Москвы позвонила Фурцева, министр культуры, и сказала, чтобы обязательно хоть один концерт отработали, потому что по городу идет молва, будто мы напились и чуть ли не поножовщину устроили. Мне до сих пор непонятно, почему многие детали этого дела замалчивались и почему оно стало обрастать нелепыми слухами. Хотя были свидетели. Последним видел сидящего на скамейке Валеру живым водитель поливочной машины, которая проезжала по набережной. Рядом стоял чемоданчик, а недалеко от скамейки кучковалась группа молодых людей. Когда поливальщик ехал обратно, их уже не было. Чемоданчик стоял там же, а Валера лежал рядом мертвый.
Потом мы узнали - какие-то подонки проиграли одного из «Песняров» в карты, и на месте Валеры могли оказаться хоть я, хоть Толя Кашепаров... Так что получилось, Валера прикрыл собой кого-то из нас. И почему-то все это пытались замять - может, боялись сорвать фестиваль...
Но весь город знал, что убили одного из «Песняров». А концерт-то надо работать. И я помню этот битком набитый зал. Обычно мы завершали концерт песней «Березовый сок», предпоследней была «Хатынь». И в ней я выходил вместе с Валерой, чтобы сыграть проигрыш на трубе. Он с одной стороны, я с другой. Когда работаешь концерт, как-то забываешь про все. А тут машинально выхожу и смотрю - нет Валерки. Он же должен выходить... И потом вдруг понимаю, что его уже никогда не будет. Все.
С большим трудом я тогда доиграл этот проигрыш на трубе. Песню «Березовый сок» я пел, глотая слезы. Весь зал нам хлопал стоя, но мы этого не слышали. Выдержав весь концерт, мы сразу уехали.
Потом были похороны в филармонии и цинковый гроб. У Валеры остались двое маленьких детей.
Володя Мулявин был в шоке. Он замкнулся и долгое время просто не мог говорить.
Вдове Валеры Раисе было всего двадцать три года, Володя ей всегда помогал, а позже взял в «Песняры» костюмером. Раиса Мулявина проработала в ансамбле с 1982 по 1991 год. На гастролях Володя частенько звал ее к себе в номер поговорить по душам - ему очень не хватало Валеры, и время не сделало эту потерю менее болезненной. Раиса вспоминала потом его слова: «Остался я совсем один...»
ГАСТРОЛИ
ШУБА ДЛЯ ЛИДЫ
Первую мою поездку по Дальнему Востоку я запомнил еще и потому, что из Владивостока мы привезли настоящие дубленки. В Минске в дубленках тогда ходили только жены больших чиновников. Дубленки были страшным дефицитом, а тут заходим в магазин - висят монгольские дубленки, и цена у них, как сейчас помню, сто сорок - сто семьдесят рублей, в зависимости от размера. Это была не овечья шкура, а дархан, из горной козы.
Накупили дубленок. А до этого мы были почти месяц на Сахалине и затоварились рыбой и японскими товарами.
Так вот, груженные рыбой, японской техникой и монгольскими дубленками, прилетели в Москву и, как маленькая наполеоновская армия, двинулись в сторону Белорусского вокзала. До поезда оставалось несколько часов: отправлялся он вечером с 30 на 31 декабря, и если бы мы опоздали, то Новый год встретили бы в дороге. А дома ждут родные... В общем, загрузили несколько такси и поехали. Я, Коля Пучинский и Даник сели в последнюю машину. Проехали примерно километр, и тут Коля Пучинский, расслабившись, возьми и скажи:
- Ну, теперь мы опоздаем, если только колесо лопнет.
Не успел договорить - слышим хлопок. Машина остановилась, водитель повернулся к Коле:
- Выходи, волшебник, будешь вместо домкрата.
Колесо мы поменяли так быстро, что нам позавидовала бы техническая команда «Формулы-1». Но сумки все равно пришлось забрасывать в уже уходящий поезд, а потом еще с полчаса, утирая пот в тамбуре, нервно курить и сортировать трофеи.
Когда мы в Минске похвастались своей добычей, многие знакомые и друзья попросили привезти им такие же дубленки, если будем на Дальнем Востоке еще раз. Но больше всех на Дальний Восток хотела поехав Лида Кармальская.
У Лиды была мечта - купить шубу из норки. Не знаю, где она могла такую видеть, думаю, что в Минске подобных шуб никто не носил. Да и норку ту в Беларуси никто не видел, она у нас не водится. Но Лида загорелась, она мечтала о норковой шубе, только об этом и думала. Лида Кармальская была красивой женщиной, они с Володей Мулявиным поженились еще в ранней юности, и она во многом ему помогала: могла пойти, когда необходимо, к начальству, что-то попросить, что-то выбить. Мулявина это не интересовало, он жил только музыкой.
По прошествии года еще одна поездка на Дальний Восток все-таки состоялась.
Помню, прилетели мы на Камчатку. В Петропавловске-Камчатском на каком-то складе Даник Демин нашел дубленки. В то время волшебная фраза «ансамбль "Песняры"» открывала дорогу на любой склад. Вопросами закупок у нас занимался Даник, он не работал непосредственно на сцене и имел возможность выйти в город. У нас же вся жизнь в полном смысле этого слова проходила на сцене. Первый концерт на той же Камчатке начинался в двенадцать утра, последний, четвертый - в девять вечера. В перерывах мы перекусывали прямо на сцене - ели то, что нам принесут из местного кафе или ресторана.
Так вот, Даник нашел-таки эти дубленки, и мы отправили к себе на родину, в Минск, около ста пятидесяти штук. Для этого нам пришлось раздобывать для складских работников контрамарки на собственные концерты. И еще они побывали на концерте, а некоторые и не один раз. А ведь это было не так просто: на концерт «Пеняров», где бы мы ни выступали, за километр до концертного зала спрашивали лишний билетик. Попасть на концерт, тем более бесплатно, было практически невозможно.
Был тогда такой хозяин Камчатки - Маграчев, он и распоряжался билетами и контрамарками. Турне по Камчатке у нас должно было закончиться, нас ждали в других городах. Но мы перелетали с места на место военно-транспортной авиацией, и Маграчев устроил для самолетов нелетную погоду. Тогда же Маграчев продал абонементы на разные самодеятельные хоры и коллективы - все, что у него было, - на год вперед, потому что эти абонементы шли в довесок к билетам на ансамбль «Песняры».
Из-за того что мы задержались на Камчатке, весь график гастролей полетел к чертям, слетели концерты, которые должны были проходить в Хабаровске. Больше всего из-за этого расстроилась Лида Кармальская. Лида договорилась с директором какого-то зверосовхоза, чтобы ей оставили набор палевых норок на шубу, и получить их она должна была именно в Хабаровске. Мечты о норковой шубе становились все более призрачными.
Прилетели мы во Владивосток, и у нас образовалась небольшая «форточка» между концертами. Мы с Даником отправились в город, зашли в первый попавшийся магазин - это был военторг, с виду мрачное, довоенное здание. Я бегло глянул на прилавки и вдруг заметил, что на стене, высоко, в полиэтиленовом пакете висит белая шуба. Причем настолько белая, что стало больно глазам. Я сначала подумал, что это кролик. Но Даник, подойдя поближе, сказал, что это норка. И тут мы увидели ценник. По количеству цифр он больше напоминал артикул - шуба стоила более пяти тысяч рублей. Для обычного человека - целое состояние. Но какая это была шуба! Ее сшили специально для какой-то выставки, авторская работа. Воротник - апаш - на полспины, другой такой шубы во всей стране нет. И вот висит эта белая как снег шуба для королевы среди вешалок с унылым «совдепом»...
Мы с Даником пришли на репетицию. И я как бы между прочим сказал, что мы видели красивую шубу в магазине. Вот-вот должен был начаться концерт, Лида готовила кому-то бутерброды и сперва никак не отреагировала. Но все-таки интрига уже закрутилась, и через минут десять она словно невзначай спросила:
- А какой размер?
- Сорок восьмой, - говорит Даник.
- Ай, - говорит Лида, - это не мой, мой - пятьдесят второй.
А Даник - так, словно между прочим:
- Кстати, Лида, шуба мне показалась какой-то большой. И такая красивая шуба!
После этих слов Лида уже не смогла ничего делать и побросала бутерброды:
- Так, все выворачиваем карманы.
Мы стали скидываться, у кого что есть. Деньги за переработку мы должны были получить только в Минске, поэтому, чтобы собрать нужную сумму, пришлось раскошелиться всем, кроме Володи Мулявина. (Его деньги и так всегда находились у Лиды, что в общем-то нормально. Мулявин был непрактичным человеком. Как-то одолжив у него 100 рублей на пару дней, я смог вернуть долг только через месяц. Когда я ему возвращал долг, он был очень сильно удивлен, так как забыл об этом напрочь.)
Деньги мы сгрузили в полиэтиленовый пакет - там были и трешки, и мятые рубли - все, что нашли в кошельках. Лида и Даник забрали пакет и двинулись в сторону магазина, а мы остались работать.
Потом Даник рассказывал, что происходило в магазине. Когда они с Лидой пришли, в отдел, где висела эта шуба, стояла очередь. Попросили продавца снять, чтобы померить. Шуба оказалась Лиде как раз, впору, сшита как будто на нее. Она крутилась перед зеркалом, глаза сияли. Еe сразу окружили со всех сторон покупатели, тут же позвали завсекцией. Как оказалось, два года висела эта шуба в магазине и уже стала частью интерьера, потому как цена была сумасшедшая.
- Мы ее берем! - сказала Лида.
Сколько денег в пакете, ни Лида, ни Даник не знали. Не пересчитывать же их вот так, на виду у всех покупателей! Прошли в кабинет директора, завсекцией стала считать мятые трешки и рубли. Даник и Лида пытались за счетом уследить, но это было бесполезно - сразу же сбились, купюры так и мелькали у нее в руках. К счастью, денег хватило. Шубу тут же упаковали, и Даник вместе с Лидой пошли к выходу. Толпа двинулась за ними и проводила их до самого концертного зала. Даник взмок от страха. Он чуть ли не бежал, за ним пыталась поспевать Лида - она немного прихрамывала, идти быстро ей было тяжело. А за Лидой шла небольшая демонстрация зевак.
Когда Даник и Лида добрались до концертного зала, рука, в которой Даник нес пакет с шубой, так онемела, что он ее еле разжал. Но в конечном итоге счастье было неимоверное. Впоследствии Лида все время подкармливала нас с Даником бутербродами с красной икрой - в благодарность за шубу.
Так мы не только решили «шубный» вопрос, но и приодели себя и всех своих родственников в дубленочную униформу.
Вообще, на гастролях бывало всякое, и опыт приобретался подчас самый неожиданный. Я могу, например, поделиться способом лечения простуды, которым сам пользовался неоднократно. А научила меня ему певица Нелли Богуславская, когда мы были вместе на гастролях.
После двухмесячных поездок по Союзу мы приехали в Барнаул, где должны были участвовать в Днях белорусской культуры. Этот город расположен рядом с китайской границей, а в то время у Советского Союза с Китаем были очень напряженные отношения. И мы в бинокль видели, как на другом берегу Амура (это была уже китайская территория) стояли китайские солдаты и держали лозунги с ругательствами на русском языке.
Так вот, приехали мы в Барнаул, а у меня опухли связки. Я не то что петь, разговаривать не мог. Нужна была как минимум неделя, чтобы как-то подлечиться. А завтра концерт - что делать?
- Не волнуйся, - говорит мне Нелли, - я тебя вылечу.
Напоили меня вечером чаем с медом, на плитке нагрели кирпич, завернули его в полотенце и привязали к моим ногам. Я помню, что хорошенько пропотел за ночь, и наутро встал как ни в чем не бывало, и голос звучал великолепно. Болезнь как рукой сняло.
КАК МЫ ВПЕРВЫЕ ЖИЛИ В КАПИТАЛИЗМЕ
Впервые нам довелось побывать в капиталистической стране, когда «Песняры» приняли участие в культурной программе промышленной выставки Советского Союза. Это была Федеративная Республика Германия.
В Дюссельдорфе нас поселили в шикарном отеле, хозяин которого в свое время работал представителем немецкой фирмы «Сименс» в Москве и хорошо говорил по-русски. Поэтому он доброжелательно относился к нам и разрешил пользоваться отельным сервисом на халяву. А пользоваться было чем...
Во-первых, большой бассейн с морской водой, с вышкой для прыжков и подводным массажем. Там же, не выходя из воды, можно было заказать из бара пиво или чего покрепче. Во-вторых, сауна. В-третьих, спортивный зал с тренажерами и солярием. В общем, нормальные капиталистические блага для состоятельных людей.
И мы тут же отправились с дороги в сауну и бассейн. Понравилось. Потом посетили бар. Отлично...
Наутро - завтрак за счет отеля, шведский стол, с которого можно было брать любой закуски, сколько хочешь. На этой халяве лопухнулся один из представителей белорусской делегации - заслуженный артист республики, музыкант-цимбалист. Он появился, когда мы уже сидели за столами в отличном расположение духа, уже поправив с утра свое здоровье. Набрав закуски, заслуженный артист с видом победителя прихватил и единственный кокосовый орех, возвышавшийся на полке, думая, что всех перехитрил. Очень наш цимбалист был похож на довольного Савелия Крамарова фильме «Джентльмены удачи», когда тот захотел oпохмелиться одеколоном. Но во флаконе у крамаровского героя, напомню, оказался шампунь...
Наш цимбалист сел со своим кокосом за соседний столик и стал ковырять трофей. Но орех оказался твердым, чего цимбалист, видевший диковинный плод первый раз в жизни, никак не предполагал. Тогда заслуженный артист решил кокос разрезать. Но и острый нож не справился с лохматой скорлупой. После этого он стукнул кокосом по столу. Безрезультатно.
Мы перестали есть и с интересом ждали развязки. На стук появился официант, забрал кокос у цимбалиста и вернул на витрину. Оказалось, что кокос в меню не значился и служил украшением шведского стола. Сконфуженный цимбалист не стал завтракать и ушел к себе. Правда, к обеду его настроение вновь улучшилось, а запах русской водки, исходивший от любителя кокосов, стал еще ощутимее...
Но зря мы потешались над приключением цимбалиста, потому что вечером сами крепко оконфузились.
Решили мы вновь посетить на халяву сауну и бассейн. Сказано - сделано. Сидим, как ласточки по полочкам, в сауне, температура приличная, пора бы остудиться в бассейне. Только собрались выйти, как заходят к нам в сауну две немецкие фемины. Мы так и остолбенели: они-то в простынях, а мы - в чем мать родила! Однако фемины, не обращая на нас внимания, скидывают простыни, забираются на полок и, обнажив свои заграничные прелести, располагаются греться.
Мы в остолбенении молча перегреваемся, но фемины и не думают уходить. Сидим. Кажется, что от жары сейчас кожа треснет. Первым не выдержал Саша Демешко. Мысленно плюнув на славянскую стеснительность, встал и спокойно, как бы невзначай прикрывая ладошкой причинное место, вышел из дверей. Немедленно бултыхнувшись в бассейн, смелый Саша торпедой поплыл к другому берегу - за плавками. По-моему, он в тот раз побил рекорд Дюссельдорфа по заплыву на короткие дистанции...
Следом за Сашей помчались и мы. Натянув плавки и степенно плескаясь в прохладной морской водичке, ждем явления фемин народу: все-таки приятное предполагается зрелище - в простынях-то они плавать не будут... Но вышли женщины в купальниках, а откуда в сауне их взяли, до сих пор для меня остается тайной. Эти купальники больше походили на набедрные повязочки.
Пока слегка одетые фемины плескались в бассейне, мы решили быстренько погреться в сауне и до их прихода смыться вообще. На всякий случай плавки снимать не стали. И правильно. Не успели мы как следует нагреться, как в сауне вновь объявились обе нимфы. Они вошли уже в простынях, разговаривая и посмеиваясь, но увидели нас - и тут же повернули обратно. Мы с облегчением вздохнули, прогрелись, искупались и ушли.
На следующий день руководитель нашей группы сделал нам выговор. Оказалось, что дюссельдорфские русалки все-таки нажаловались на нас хозяину отеля. И знаете за что? За то что мы зашли в сауну в сырых плавках и повысили тем самым влажность! Нет, не понять нам было тогда этот капитализм...
Но вернемся к творчеству. Ведь в Дюссельдорф мы приехали не париться и плавать, а участвовать в культурной программе промышленной выставки Советского Союза. Каждый раз, когда подобная выставка проводилась где-нибудь за рубежом, одна из союзных республик получала на ней павильон и представляла там свою продукцию. На этот раз честь представлять СССР выпала Белоруссии. Мы же должны были выступать перед посетителями белорусского павильона. Кроме «Песняров», в концертах участвовали несколько пар из Белорусского ансамбля танцев и музыканты из оркестра народных инструментов (оттуда был и цимбалист - любитель кокосов).
Посетителей на выставке с утра до вечера было много, так что зрителей у нас хватало. Выступали на импровизированной сцене, сидячих мест в павильоне не было. Одни зрители по ходу концертов приходили, другие уходили. И так - весь день.
Выставка чрезвычайно впечатляла. Даже мы, граждане СССР, и то ходили по павильонам с раскрытыми от удивления ртами. О многих производимых в Союзе товарах мы и не слышали. Оказывается, даже в родном Минске в середине семидесятых годов уже наладили выпуск цветных телевизоров «Горизонт» с пультами дистанционного управления! Другое дело, что в магазинах ни тогда, ни значительно позже этой диковины было не купить. Но на выставке такой телевизор был!
То, что было в диковинку нам, не впечатляло иностранцев. Они толпились вокруг знаменитых суперсамосвалов БелАЗ. У самого большого из трех, представленных на выставке, колеса были с одноэтажный дом, а кабина располагалась где-то на высоте между вторым и третьим этажами. Мы-то видели такой на ВДНХ, а немцам - потрясение...
В один из дней выставку посетил канцлер ФРГ Вилли Брандт. За час до этого все вокруг оцепила охрана. Брандт прилетел на вертолете, приземлившемся прямо на территории выставки. Тоже диковина для нас: Брежнев-то на вертолете сроду не летал. Однако еще диковиннее нам показалась толпа молодежи с плакатами, орущая: «Долой Вилли!» Мы обалдели: ну, думаем, сейчас их разгонят дубинками, как это любили показывать на советском телевидении, повяжут и посадят, а кого-то, может, и расстреляют.
Но ничего подобного не произошло! Полиция решительно, но вежливо остановила демонстрантов, отобрала у них плакаты, переписала фамилии с документов (у кого они были) и... отпустила восвояси. Молодежь двинулась дальше по территории выставки следом за канцлером и вновь принялась орать: «Долой Вилли!» Но канцлер не обращал на протестующих никакого внимания.
А я представил, что было бы, если бы такое случилось в Москве при посещении ВДНХ уважаемым Леонидом Ильичом...
Мы, как гости, принимали участие во многих фестивалях. Были у нас гастроли в Югославии, Чехословакии, Германии. Многие детали, к сожалению, стерлись из памяти. Помню, как мы приехали в Дрезден на фестиваль «Золотой лев», совершенно не зная, как этот фестиваль называется и что за премию там вручают. Выступили, и уже на банкете нам вручили «Золотого льва». А Марыле Радович тогда же подарили необычный подарок: двух маленьких пантерят, только что родившихся в Дрезденском зоопарке.
КАК «ПЕСНЯРЫ» УЧИЛИ «ДА» И «НЕТ» ПО-БОЛГАРСКИ
Первые гастроли «Песняров» в Болгарии состоялись в столице Софии. Поселили нас в гостинице с дорогим для каждого советского человека названием «Плиска», которое ассоциировалось с пузатой бутылкой популярного в СССР одноименного коньяка. А через площадь от гостиницы находился магазин с тем же названием. Вполне понятно, что он и стал первым объектом нашего знакомства с Софией.
У нас в то время «Плиска» стоила восемь рублей, а в Болгарии - три с половиной лева, то есть намного дешевле. Сначала мы только визуально ознакомились с ассортиментом (суточные в местной валюте нам, как всегда, выдали не сразу), а затем мы почти каждый день посещали это заведение и уходили оттуда, естественно, с образцами продукции. После первого концерта суточные нам все же выдали. Но магазин уже был закрыт, и мы отправились в гостиничный ресторан. Хотя у каждого в запасе были продукты, привезенные с родины (которые мы и хотели размочить «Плиской»), попробовать болгарскую кухню мы тоже были не прочь.
Ресторан оказался закрытым, но из-за дверей звучала музыка. Постучав в дверь, мы жестами продемонстрировали швейцару, что хотим «ням-ням», и, позвенев ключами, показали, что мы не с улицы, а проживаем в гостинице. Швейцар поднял руку и покивал вверх-вниз. Мы поняли: подождите, мол, сейчас открою.
Стоим, ждем. А швейцар повернулся к нам спиной и тоже стоит. Снова постучали. Он обернулся, покивал и опять отвернулся. Вот бестолочь! Мы, ничего не понимая, стояли под дверью, пока не подошла администратор и по-русски не объяснила, что ресторан уже закрыт. Мы спрашиваем: а почему, дескать, швейцар нам показывает, чтобы мы подождали? Она-то нам и объяснила, что по-болгарски надо все понимать наоборот. Если тебе кивают сверху вниз, то это означает не «да», как в России, а «нет». А если качают головой справа- налево, то это не «нет», как по-русски, а «да».
Ознакомившись с болгарским языком жестов, мы разошлись по номерам - без ужина и без «Плиски».
На следующее утро мы с Володей Николаевым решили съездить в центр Софии - посмотреть кое-какие товары и прикинуть, что можно приобрести на наши «миллионы». Мы увлеклись походом по магазинам, взглянули на часы и поняли, что к началу концерта не успеваем. Что делать? Ехать на такси, тратя драгоценные левы?
Однако такси в Софии поймать оказалось так же сложно, как и в Москве. Наконец один таксист остановился. Мы садимся в машину и объясняем, куда ехать, водитель замахал рукой, повертел головой сверху вниз и что-то сказал про «Плиску». Мы, конечно, не поняли, что он говорит, но тоже закивали и сказали: «Да-да, отель «Плиска!» Он замахал уже двумя руками и снова - про «Плиску». Мы еще сильнее закивали «братушке»: мол, да-да, нам очень срочно нужно именно туда, в «Плиску»! Он плюнул, махнул рукой и поехал. Позже оказалось, что таксист ехал по вызову совсем в другую сторону, но пришлось ему отвезти непонятливых русских в отель. Это нам объяснила переводчица. Никак не могли мы привыкнуть к болгарским жестам наоборот...
Концерты «Песняров» в Болгарии прошли с большим успехом, и нас пригласили на съемку телевизионной новогодней программы. Там мы познакомились с популярными болгарскими исполнителями Лили Ивановой и Эмилом Димитровым. Нас попросили поздравить болгар с Новым годом на болгарском языке. С трудом обшими усилиями это удалось сделать.
Уезжали мы из Болгарии с приятными впечатлениями, твердыми познаниями, что такое «да» и «нет» по-болгарски, и, конечно же, с пузатыми бутылками «Плиски»...
КАК МЫ НЕ ПОЕХАЛИ В ЯПОНИЮ, НО ПОБЫВАЛИ НА БАЙКОНУРЕ
После Дюссельдорфа «Песняры» должны были в мае 1974 года ехать в Японию - на международный фестиваль фольклорной музыки. Но поехали не мы.
В то время министром культуры СССР была Екатерина Фурцева, а зарубежными гастролями заправлял Госконцерт, от которого зависели все артисты. Но и Госконцерт, и Госцирк были не главными в этом деле. Кого пустить за рубеж, а кого «зажать», решала дочь Леонида Ильича Брежнева - Галина, подруга Фурцевой. У министра культуры была еще одна подруга - Людмила Зыкина. Вот это спаянное трио и вершило наши судьбы. Хочешь отправиться с концертами за рубеж - неси подарки или денежки...
«Песняры» на зарубежные гастроли никогда не на прашивались - приглашений и запросов на нас из разных стран и так хватало. Поэтому посылать «Песняров» туда чиновникам было невыгодно: отдачи от нас - как от козла молока.
В общем, вместо нас в Японию отправился белорусский дуэт - певец Виктор Вуячич и композитор Игорь Лученок. Понятное дело, Игорь - талантливый композитор и прекрасный человек, его песни в СССР исполняли многие, в том числе и «Песняры». А вот какое отношение к фестивалю народных песен имел Вуячич, никто не понимал: репертуар - лирически-патриотический, его народным не назовешь.
Кстати, расскажу про Виктора одну байку. Однажды он выступал на концерте в зале филармонии со своей задушевной песней «Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю...» Дошел до слов «что-то с памятью моей...» - и зациклило: забыл, какие слова дальше.
Такое иногда бывает с артистами. Повторяет Вуячич как заезженная пластинка: «Что-то с памятью моей... что-то с памятью моей...» А дальше - никак. И тут из зала какой-то поддатый мужик как рявкнет: «Да стало! Стало, твою мать!» Виктор Лукьянович сразу вспомнил, что петь дальше. Но поздно - зал уже лежал вповалку...
По возвращении из Японии нас повеселил Игорь Лученок. Правда, не прилюдно, а в тесной компании «Песняров». Он похвастался, что купил в Японии пластинку обалденного корейского пианиста, который играет на клавишных синтезаторах. Мы были заинтригованы: вроде бы знаем всех мировых музыкантов, но чувак из Кореи, да еще на синтезаторах... И вот Игорь принес пластинку. Смеху было много: это оказался диск знаменитого американца по имени Чик-Корея, а не какого-то чувака из Кореи! Игорь, конечно, сильно сконфузился, а мы его потом долго подкалывали. Но он не обижался...
Короче, вместо поездки в Японию мы репетировали новую программу, а после отпуска опять отправились на гастроли по нашей необъятной стране.
Первым делом приехали в столицу Киргизии - славный город Фрунзе (или по-киргизски Прунзе, потому что они букву «ф» не выговаривают). Теперь это Бишкек.
Местное министерство культуры решило перед концертами устроить «Песнярам» пикник в горах. Предупредили, чтобы мы не слишком плотно завтракали, потому что будет бешбармак - их фирменное блюдо. Мы подумали: ну и что, ели мы бешбармак в ресторанах - ничего особенного. Не знаю, кто как, но я позавтракал плотно. И зря...
На склоне горы под густой кроной огромного дерева для нас разложили огромный красивый ковер с национальным орнаментом. На ковре - большие блюда с овощами, фруктами. Тут же - десятки бутылок с напитками разной крепости, под деревом - ящики с минеральной водой.
Невдалеке была вырыта яма, а в ней на костре стоял большой котел - казан, в котором что-то булькало.
В чистом прозрачном горном воздухе витал такой аппетитный запах, что слюнки потекли даже у всех позавтракавших.
Нас усадили, как положено, на корточки. Женщины принесли в больших мисках что-то очень вкусное. И грянул первый тост...
Под второй тост принесли следующее блюдо, затем - третье, четвертое... Еда уже стояла где-то на полпуть от желудка к глотке, но - чудо! Аппетит не проходил. Чтобы всего попробовать, не обидев хозяев, пришлось много пить.
Тут нам предложили сделать перерыв и принять родоновые ванны в источниках неподалеку. Мы с удовольствием искупались в какой-то странно приятной холодной воде, и всю тяжесть как рукой сняло.
Снова присели у ковра, чтобы принять «на посошок» (ведь скоро - первый концерт), и вдруг нам объявляют: «А теперь будем есть бешбармак!» Наши вытянувшиеся физиономии немало озадачили хозяев.
На ковер вынесли блюдо невероятных размеров, в котором уместилось все содержимое казана.
Я до сих пор не знаю, из каких компонентов, кроме мяса нежного барашка и лапши, была приготовлена эта вкуснота, но то, что мы раньше считали бешбармаком, походило на оригинал так же, как селедка на молоко.
Уезжать и работать уже не хотелось. Хотелось растянуться на чудесном ковре под шатром векового дерева и подремать этак минут пятьсот. Но впереди были три концерта подряд и десятки тысяч ожидающих «Песняров» зрителей. А это - святое. И через два часа мы уже стояли на сцене - бодрые и отдохнувшие, несмотря на все съеденное и выпитое. Концерты, как всегда, прошли «на ура»...
Кроме концертов мы постоянно репетировали новую программу. Так было и во Фрунзе, и в Алма-Ате. Готовили новую песню «Перепелочка». Сначала хотели петь без инструментов, а капелла, но потом решили сделать серьезную музыкальную композицию.
Из Алма-Аты нам предстояло ехать на Байконур, в город космонавтов Ленинск. Очень хотелось устроить премьеру «Перепелочки» именно там, поэтому репетировали даже ночами. И успели.
Ленинск - город небольшой, но очень красивый и зеленый. Оазис в пустыне. Нас там ждали давно, поэтому и пробыли мы несколько дней. Встречались с ветеранами и теми, кто только готовился к полетам, побывали на космодроме, хотели посмотреть своими глазами на запуск космического корабля, но нас отговорили, потому что после этого мы стали бы невыездными. Самое главное - мы узнали много интересного, о чем простые смертные тогда и не подозревали. Особенно потряс памятник в Ленинске: стела в виде ракеты, а вокруг - фигуры космонавтов, погибших во время первых космических стартов еще до полета Юрия Гагарина. Для нас это был шок...
Из Ленинска мы увозили разные сувениры. Скрипач «Песняров» Чеслав Поплавский решил привезти в подарок своей теще баночку байконурских... скорпионов. Покуда он их вез, одна половина скорпионов сожрала другую. Куда Чеслав потом подевал остальных, неизвестно, но его теща осталась жива.
Из Байконура мы переехали в Душанбе, где нас ожидало непредвиденное ЧП. Во время концерта в композиции «Ванька-встанька» - о борьбе русских с ханом Батыем - в самый кульминационный момент, когда грохнули ударные и шарахнула бас-гитара, сцена вдруг закачалась, а зрители вскочили со своих мест и бросились на выход. «Ничего себе эффект!» - не успел подумать я, как наш администратор замахал из-за кулис руками и заорал: «Бегом! Землетрясение!» В то же мгновение мы увидели, как по стене зала пошли трещины, и ретировались со сцены. Концерты были отменены, но ни аппаратура, ни инструменты, слава Богу, не пострадали.
БЕСПЛАТНЫЕ КАННЫ
К 1975 году ансамбль «Песняры» выпустил около 45 миллионов пластинок. В Каннах ежегодно проводился фестиваль «Медем», на который приглашались исполнители, выпустившие в своей стране наибольшее количество пластинок. Здесь же была биржа артистов - в Канны приезжали менеджеры со всего мира за новыми именами, заключались контракты, организовывались турне.
От Советского Союза на этот фестиваль тогда поехали «Песняры», Алла Пугачева и трио «Ромэн». По каким-то причинам не выпустили аккомпанирующий состав Пугачевой (тогда это были «Веселые ребята») и аккомпанировать ей пришлось «Песнярам».
Из Москвы мы прилетели в Париж, в аэропорт Шарль де Голль. Улетать в Канны предстояло через пять часов из аэропорта Орли.
В Канны добрались по нашим понятиям поздно - около 11 часов вечера. Но там жизнь только начиналась. Нам сразу расхотелось спать. Еще бы! В Москве минус 28 градусов, а здесь плюс 18, прекрасная набережная, Средиземное море плещется под окнами гостиницы! Правда, ни в одно из многочисленных кафе мы зайти не могли: не было денег, суточные выдали только на следующий день. Но, скинув зимнюю одежду, мы все-таки вышли из гостиницы и попали в заграничный мир сверкающих реклам и иллюминации. В настоящем море тоже хотелось искупаться, но решили это дело пока отложить: завтра предстояло много работы...
Однако ожидание затянулось. На следующий день нас привезли в «Сервис-Мидэм» - большой трехэтажный особняк со множеством больших и маленьких залов, с буфетами и игровыми автоматами. В каждом зале стояли цветные телевизоры, по которым крутили музыкальные программы - и джаз, и рок, и поп-музыку... Информация не умещалась в голове. Зато можно было хорошо отдохнуть и развлечься, чем участники фестиваля и занимались.
Оказалось, что нам негде репетировать, и мы днем знакомились с городом, а по вечерам ходили на концерты.
В рамках фестиваля проходили концерты самых больших знаменитостей мировой поп- и рок-музыки. Мы были приглашены на концерт знаменитого музыканта и композитора, бывшего солиста группы «Йес» Рика Уэйкмана.
Приезжаем на огромное поле, где установлена надувная арена для двадцати или тридцати тысяч зрителей. Мы приехали раньше и могли наблюдать за подготовкой к концерту: рабочие сцены, как муравьи, сновали по площадке, по ширине всего зала устанавливались микшерные пульты - тогда уже мало кто из исполнителей возил с собой звуковую аппаратуру, ее заказывали на месте, как это теперь происходит и у нас. Цепочка из пультов вытянулась метров на двести, видимо, концерты проходили по «плотному» графику. По бокам, с обеих сторон сцены, находились портальные колонки высотою с трех-, четырехэтажный дом.
Видеть такое изобилие звуковой техники мне довелось впервые. В Союзе даже в крутых студиях нельзя было увидеть то, что здесь стояло в чистом поле.
Стала собираться публика. Люди старались занять места поудобней, кое-кто даже забрался на опорные столбы, которые поддерживали купол.
Объявили начало концерта. Зазвучали первые гитарные пассажи, вступили ударные и... нас вдавило звуком в кресла, как при перегрузках. Никакой децибельной каши, все очень чисто, слышен каждый инструмент. Но вместе с тем звук такой плотный, что, кажется, ты не можешь встать со своего места. Где-то неподалеку вверх взмыло сигаретное облако, и я почувствовал характерно-сладковатый запах марихуаны. Концерт начался.
Я не большой поклонник Рика Уэйкмана. Но энергетика живого концерта, его динамизм, а также виртуозность самого музыканта меня покорили.
Наша делегация состояла из восьми человек. Кроме меня и Мулявина, на концерте присутствовали зам. министра культуры СССР, руководитель Госконцерта, главный редактор студии «Мелодия» Панченко, композитор Ян Френкель и еще кто-то из дипломатического корпуса.
После окончания концерта мы вышли из зала с двояким чувством - эйфории от всего увиденного и услышанного и внутренней подавленности. Минут десять мы шли и молчали. Наконец Ян Френкель сказал: «да, это настолько здорово, что можно ох...ть». Тогда все посмотрели на Мулявина и тот сказал: «Если у нас нет такой аппаратуры, на хрена мы вообще гитары в руки взяли». А Ян Френкель добавил: «Это ж молодежная музыка. Чем же наша молодежь хуже? Почему ей нельзя слушать лучшую мировую музыку у нас в Союзе?»
Примерно через неделю после возвращения из Канн мы услышали по радио передачу с участием Яна Френкеля, где впервые были прокручены записи «Битлз». После этого для западной музыки на официальные теле- и радиоканалы дверь немного приоткрыли.
Каждый день выходила газета «Дневник Каннского фестиваля», где печатали всевозможные материалы о фестивале и его участниках, а также слухи и сенсации. В том номере, где поместили статью о «Песнярах», были фотографии и статья о Джордже Харрисоне. Он прилетел на фестиваль инкогнито, но вездесущие папарацци сумели сфотографировать, как он спускался со своей девушкой по трапу самолета к машине.
В Каннах - огромная бухта, в которой стоят небольшие яхты и теплоходы. На берегу, при выходе из бухты в море, был построен летний театр, где в основном проходили концерты фестиваля. Однако «Песнярам» отвели элитный и самый престижный зал казино, где в свое время выступали, пожалуй, все мировые звезды эстрады и оперы.
В день нашего выступления мы оккупировали зал с утра - ставили аппаратуру, проверяли акустику и, наконец, прорепетировали собственное выступление.
А потом мы с Толей Кашепаровым сидели во время репетиции в пустом зале и слушали, как Пугачева пела «Не отрекаются любя». Это было настолько здорово, что после репетиции я пошел к ней в гримерку и спросил:
- Алла, откуда столько чувств и эмоций при пустом зале? Как это у тебя получается?
- Мальчик, если здесь нет, — Алла приложила руку к сердцу, - то ничего не будет.
После репетиции нас несколько огорошили французы, работавшие на сцене и в зале, - один из них довольно неплохо говорил по-русски, так как учился в Москве. Он объяснил, что, если нас будут принимать «на два хлопка», мы не должны расстраиваться, ведь зрителей практически не будет, в зале сидят директора, импресарио и менеджеры, и они сразу начнут прикидывать, можно ли на нас заработать и сколько. И, чтобы не набивать нам цену, хлопать они особенно небудут. В общем, не фестиваль, а рынок «купи-продай».
Началось наше выступление. После первой песни действительно раздались жиденькие хлопочки. Мы к такому приему не привыкли, и настроение, естественно, ухудшилось. Но надо работать дальше. Второй была песня «Реченька», которую мы пели а капелла, без инструментов. Спели. В зале вообще мертвая тишина, ни единого хлопка! Тут мы совсем упали духом: все, думаем, приехали... Не знаю, сколько секунд длилась эта тишина, но нам показалось - вечность.
И вдруг произошло то, что уже однажды было в жизни «Песняров», когда они первый раз в 1969 году вышли на сцену в Москве. Чопорная, сверкающая бриллиантами публика не просто взорвалась аплодисментами, а взвыла, завопила и начала колотить ладонями, не жалея холеных пальцев. Мы не верили своим глазам и ушам. Казалось, что это специально нас разыгрывают: мол, давай, Ванька, сбацай еще что-нибудь.
Но сомнения оказались напрасными. Все-таки в зале были профессионалы шоу-бизнеса, и они оценили «Песняров» по достоинству. В конце нашего выступления весь зал встал и стоя нам аплодировал.
У трио «Ромэн», выступавшего в Каннах после «Песняров», был прекрасный репертуар из цыганских песен. Но играли и пели они, как виртуозы, с элементами джаза. Получилось смешение жанров. Сказали, не хватает костра на сцене. Хотя, по моему мнению, было просто здорово! Настал черед Аллы Пугачевой, которой мы аккомпанировали три песни. Алла уверена в успехе «Арлекино», принесшего ей первый международный успех, правда, на «социалистической» сцене. Конечно, нас должно было насторожить начало ее выступления. Когда на сцене вновь появились «Песняры», зал опять взорвался аплодисментами: зрители ожидали продолжения нашей программы. Выход же Аллы Борисовны встретили молчанием.
...В общем, надежды новой примы советской эстрады не оправдались. Каннская публика приняла ее довольно сдержанно. А нам после ее выступления пришлось для удовольствия публики сыграть музыкальную композицию на тему белорусской песни «Перепелочка». Вся почтенная публика вновь встала со своих мест и стоя скандировала: «Браво!»
После концерта, когда мы переоделись, нас пригласили на банкет. Мы по привычке подумали - в какой-нибудь банкетный зальчик или в ресторан. Но «зальчик» оказался метров 60 длиной и 20 шириной. Весь пол покрывал огромный ковер, чуть не сотня столиком для употребления выпивки и закуски стоя, а-ля фуршет. Нас встретили такими бурными аплодисментами, будто мы уже стали мировыми знаменитостями.
На этот банкет пригласили всех участников фестиваля. Выяснилось, что «Песняров» хотели пригласить в Канны еще год назад, но тогда организаторам фестиваля из Министерства культуры сообщили, что мы заняты в правительственных концертах, а потом сразу уезжаем на гастроли по Скандинавии. Естественно, что на самом деле не было у нас никаких концертов, уж о Скандинавии и речи не заходило...
К нам подходили импресарио из разных стран. Но в Канны нас сопровождал дядя в шляпе, который совмещал работу мелкого клерка в Госконцерте со службой в особом отделе. Он ничего не решал никаких контрактов не подписывал, только раздавал визитки.
А уже потом в самом Госконцерте чиновники выдвигали условия.
За каждую поездку нужно было платить. Владимира Мулявина после Канн вызвали в Госконцерт и сообщили, что на «Песняров» есть заявки в несколько стран, но нужно заплатить. Володя обиделся:
- Это ведь нас пригласили, какие еще деньги? За свое искусство я еще и платить должен?
- Не хотите - не надо.
И поехали другие, те, кто платил. Вот почему наша эстрада была представлена за рубежом уровнем Хиля. Но иногда мы все-таки прорывались в заграничные турне. Так было с нашей первой поездкой в США.
ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В США
В жизни и творчестве ансамбля «Песняры» можно выделить некоторые вехи. Самой запомнившейся была наша первая поездка в США. В 1976 году - зенит славы «Песняров». Организовал поездку в Штаты американский продюсер - Сэд Гаррис. Он был менеджером «Нью-Кристи Министрелз» и чернокожего певца Бари Уайта.
В то время, для того чтобы поехать в капиталистическую страну, нужна была характеристика от специальной комиссии, которая подтверждала, что ты морально устойчив и не посрамишь на Западе высокое звание советского человека - то есть попав из страны всеобщего дефицита в магазины, где полки ломятся от товаров, не клюнешь на это изобилие и за рубежом не останешься. И, перед тем как ехать в США, нас пригласили на сдачу экзамена по политической грамотности и моральной устойчивости.
Комиссия состояла из пяти человек, преимущественно ветеранов войны. Нас вызывали по отдельности и задавали разные вопросы. К примеру: сколько раз вы были женаты; как вы живете в семье; какие работы Маркса и Ленина вы читали и знаете; кто такой Гэс Холл (напомню, это был генеральный секретарь коммунистической партии США); кто является секретарем коммунистической партии Белоруссии, других советских республик?
На экзамене нас предупредили, что за границей мы должны ходить только по двое, запрещалось играть в азартные игры, посещать казино и секс-шопы. Мы подписывали бумагу, что с правилами поведения за рубежом ознакомлены.
Еще нам сказали, чтобы мы имели всегда при себе пару долларов в кармане: если к нам на улице кто-нибудь подойдет и попросит денег, нужно обязательно дать. Иначе в нас могут выстрелить, ведь оружие там продается свободно. Пара долларов - как раз та сумма которая нам полагалась на день в качестве командировочных. И буквально на второй день после прилета в США ко мне и Кашепарову на улице подошел негр и попросил денег. Мы сильно перепугались, но свои суточные так и не отдали.
В аэропорту нас никто не встретил. Сэд Гаррис, наш менеджер, человек вообще-то очень пунктуальный, попал в «пробку». Нам пришлось полчаса прождать в аэропорту.
Наконец появился Сэд Гаррис, очень солидный и вежливый. Он извинился, объяснил причину своего опоздания, и мы поехали на брифинг. Там нас ждали представители разных массмедиа - помню, что от «Голоса Америки» была очень эффектная красавица-мулатка. Вопросы задавали самые разные, в том числе и достаточно провокационные. Ребята растерялись, что говорить? Володя Мулявин, быстро сообразив, поднял вверх руки и тихо сказал: «Ой, рано на Ивана».
И мы как дали а капелла! Журналисты от неожиданности открыли рты. Агрессивность сразу куда-то подевалась, после песни нам вяло задали пару вопросов - и брифинг закончился.
Это самый ранний концерт, который когда-либо был у «Песняров», поскольку в Минске в это время было четыре утра.
Вот что написала американская пресса о нас в те годы.
«Вашингтон пост», 25 ноября 1976 года:
«Ансамбль будет выступать вместе с "Нью-Кристи Министрелз", менеджер которых Сэд Гаррис увидел "Песняров" на международном музыкальном конкурсе в Европе годом ранее. Он пришел к выводу, что "Песняры" "не такие, как все", а следовательно, американский поп-маркет может заинтересоваться этой новой музыкой. Гаррис, видимо, готов к серьезным делам - выпустить альбом "Песняров" с помощью компании "Коламбия", которая выделила 8 часов на прослушивание группы в студии в Нэшвилле.
Словом, не удивляйтесь, если Леонид Борткевич, Леонид Тышко, Владимир Мулявин и Александр Демешко скоро станут экстрапопулярными, когда вернутся в Минск (14 декабря).
Эта "красивая мужская группа" молода и талантлива. Они не похожи на типичную рок-команду с двумя гитарами».
«Вашингтон Пост», чуть позже:
«В Харрисонбуре (штат Вирджиния) публика топала ногами и хлопала в ладоши, когда в среду вечером начали свои гастроли по южным штатам "Песняры" - первая группа популярной музыки из Советского Союза, посетившая США.
Фактически слово "поп" - популярная музыка - не совсем правильное определение "Песняров". Группа состоит из девяти мужчин, поющих и играющих на музыкальных инструментах. Коллектив переплетает элементы джаза, народной музыки, рок-н-ролла и кантри в единый рисунок звука, который определенно русский.
Они роскошно одеты в свисающую крестьянскую одежду, но не прибегают к тем рассчитанным на дешевый эффект трюкам и стучанию по гитарам, которые любят использовать некоторые из американских и английских звезд популярной музыки, чтобы прикрыть отсутствие таланта.
Нет, эти товарищи - обходительные по манерам, цветистые в личном плане и даже с оттенком уместного в таком спектакле хвастовства - относятся к своей музыке серьезно, хотя и без напыщенной торжественности. Видимо, они сами получают удовольствие от того, что делают, и это удовольствие заражает публику, причем достигается подобный эффект без принуждения.
"Песняры" (дальше делается попытка объясни этот термин) выступали перед аудиторией из тысячи студентов и более пожилых слушателей в Мэдисон колледже города. Пели свои песни - за некоторым исключением - только по-русски. Но между номерами выступал переводчик, объяснявший, что означала каждая песня.
Наиболее сильное впечатление производили последние квартеты, квинтеты и секстеты: исполненные в сопровождении инструментов, они создавали звук гораздо сильнее хора.
Умение органично использовать элементы американского джаза характерно для пианиста Анатолия Гилевича, а саксофонист-флейтист Владислав Мисевич давал звук, как у Джона Колтрейна.
Временами группа выглядела несколько предсказуемо, временами инструменты глушили голоса, но, в общем, они производили сильное впечатление.
Бурным финалом было совместное выступление "Песняров" с американской группой народной музыки и рок-н-ролла "Нью-Кристи Министрелз", с которой русские совместно совершают свое турне. Фактически именно руководство "Кристи" организовало в сотрудничестве с ВААК (нечто вроде советского АСКАП) поездку "Песняров".
Две эти группы закончили концерт традиционной русской народной песней "То были дни". "Песняры" начали на своем родном языке, затем "Нью-Кристи Министрелз" подхватили ее на английском. Последний куплет они спели вместе под восторженные аплодисменты публики. В общем, удачное начало поездки. Жаль, что они не приезжают в Нью-Йорк. Во всяком случае этого нет в их планах...
Ведутся переговоры продюсера Сэда Гарриса и советского концертного агентства о продлении концертного тура группы "Песняры" по Америке на две недели и организации концертов в Нью-Орлеане, Нью-Йорке и нескольких других больших городах западного побережья».
«Soviet Rock»:
»Если посмотреть со стороны на прическу вокалиста Леонида Борткевича, видно, что его роскошные каштановые волосы убраны назад. И в связи с этим произошел смешной случай после субботнего концерта в Моргантоне. Юная девушка подошла с обратной стороны сцены к Леониду и сказала, что у него ангельский голос и он выглядит как аскетичный монах. На что Александр Демешко (барабанщик) пошутил: "Ему говорили раньше, что у него ангельский голос, но никто еще не обвинил его в том, что он монах"».
В ту поездку мы объездили тринадцать южных штатов, выступали во всех крупных городах. Первое отделение было наше, второе - «Нью-Кристи Министрелз». Но успех «Песняров» был столь велик, что скоро Сэд Гаррис поменял нас местами.
Кстати, обычно на выступления русскоязычных певцов ходят русские эмигранты. А наши концерты собирали в основном англоязычную публику, очень много было в зале молодежи, не эмигрантской, а американской.
Надо отдать должное Сэду Гаррису: рекламная кампания была организована просто блестяще. В какой бы город мы ни приехали - заходим в гостиницу, включаем телевизор и видим себя на экране. Показывают наш приезд и рассказывают, кто мы такие. Известнейший американский журнал «Билбоард» поместил огромную статью о «Песнярах» с нашими фотографиями на обложке и заголовком: «Русское вторжение в западный рок-фронт».
Из Канады специально на вертолете прилетела съемочная группа, и был снят фильм о «Песнярах» в Америке. Причем съемки в основном проводились на концертах, и брали интервью не у нас, а у людей, которые приходили на наши выступления. Как жаль, что я ничего не знаю о судьбе этого фильма!
В конце гастролей была записана пластинка на студии «Кэпитолз рекорда» - наши лучшие песни. Там, кстати говоря, в это время записывалась группа «Чикаго». Мы познакомились с ребятами, и они презентовали нам свой нотный пульт.
В конце наших гастролей Сэд Гаррис поклонился нам чуть ли не в ножки и сказал:
- Спасибо, ребята, я заработал на вас миллион долларов.
Для 1976 года это были очень большие деньги.
ВТОРАЯ ПОЕЗДКА В США
Не прошло и года, как «Песняров» снова пригласил» в Америку. Но менеджер был уже другой, изначально он планировал трехмесячные гастроли. В США была запущена реклама «Песняров», первый месяц концерты предполагалось проводить в известнейшем театре «Маджестик», расположенном в центре Нью-Йорка на Бродвее. В этом театре шли все знаменитые постановки - «Кэтс», «Джизас Крайст Супер Стар» и многие другие.
Это был 1977 год - 60 лет Октябрьской революции. Руководство Госконцерта решило сделать сборный концерт. Поэтому рекламу поменяли, назвали программу «Советская эстрада-77». Слово «эстрада» не переводится на английский язык и не понятно американским обывателям. «Песняры» должны были выступить в финале концерта с четырьмя песнями.
В середине августа в Москву приехал импресарио из Нью-Йорка для отбора участников концерта. В Москву на первый просмотр были приглашены ансамбль «Песняры» и солистка ансамбля «Орера» Нани Брегвадзе. В первых числах сентября в Москве, в ДК Московского авиационного института, собрались семьдесят пять артистов. В эту группу входили артисты оригинального жанра, артисты из театра марионеток, акробаты, эквилибристы, жонглеры, танцевальная группа «Сувенир» под руководством г-жи Головановой. Руководителем группы была назначена народная артистка России г-жа Казанцева. Репетировали две недели в ДК МАИ.
Импресарио приехал ознакомиться с концертной программой перед самым своим отъездом. После окончания генеральной репетиции он поднялся на сцену, высказал одобрение, сфотографировался с артистами и сказал: «Добро пожаловать в Америку!»
Эти гастроли вызвали большой ажиотаж в СССР, поскольку они были первыми официальными гастролями советских артистов эстрады в США. Главный режиссер Госконцерта собрал артистов для напутствия и сказал примерно следующее: «Мы впервые отправляемся в ответственную поездку в США. И пусть у нас нет современной техники, освещения, элегантных костюмов и пышных перьев, зато у нас есть молодость, задор, сила воли и - что самое главное - советский характер!»
После двухнедельных репетиций, напутствий и прочего семьдесят пять артистов из московского аэропорта Шереметьево-2 на самолете Ил-62 вылетели в США.
После четырнадцатичасового перелета, промежуточных посадок в Шенноне (Ирландия) и Гандере (Гренландия), миновав Антильские острова, мы приземлились в Нью-Йорке в аэропорту Джона Кеннеди.
Наш самолет отвезли на специальную стоянку. Из иллюминаторов мы увидели, что нас встречает весь состав советского посольства в США во главе с послом Добрыниным.
Маленький нюанс - почти весь полет многие артисты пили за успех будущих гастролей, а встреча с послом в таком состоянии противопоказана.
Подали трап, в самолет вошли четыре человека и, переговорив о экипажем, удалились. После этого наш самолет отбуксировали на другую стоянку. Артисты же подбежали к стюардессе выяснять, в чем дело. Выяснилось, что вслед за нами в Нью-Йорк, на сессию ООН, летел министр иностранных дел СССР А. А. Громыко, и диспетчер перепутал самолеты.
Пройдя таможенный контроль, мы отправились в гостиницу на автобусах. Едем, а по обеим сторонам дороги - большое кладбище, и конца-краю ему не видно При въезде в пригород Нью-Йорка нас встретила огромная реклама Тома Джонса. Въехали на Медисон-сквер и остановились перед отелем в трвдцать этажей под названием «Рузвельт».
На следующее утро после завтрака мы отправились на репетицию в театр «Маджестик» - он находится на Бродвее между 43-й н 44-й авеню. В течение двух часов репетировали все, кроме «Песняров» и «Ореры», потому что предоставленная нам звуковая аппаратура не соответствовала нашим техническим требованиям.
На следующий день состоялась генеральная репетиция, на которую импресарио пригласил журналистов. Но за день до начала концертов эти журналисты напечатали отрицательные рецензии (как стало известно позже, наш импресарио просто не заплатил полагающийся им гонорар в размере тысячи долларов).
Концерт открывала Нани Брегвадзе «Подмосковными вечерами», потом «Орера» пели несколько песен на английском языке. Вообще, концерт был построен в лучших советских традициях проведения мероприятий правительственного уровня. Для концерта в Москве это было бы очень даже здорово. Но американскую публику вряд ли подобным зрелищем удивишь, тем более что наши костюмы и декорации не шли ни в какое сравнение с бродвейскими мюзиклами. Все было хорошо, музыкально, но не нужно там. Необходимо было нечто самобытное, шоу, которое было бы ни на что не похоже. На мой взгляд, именно сольные концерты ансамблей «Песняры» и «Орера» покорили бы американскую публику.
Но несмотря ни на что, гастроли имели успех. После первого концерта «Нью-Йорк таймс» опубликовала хвалебную рецензию о концерте. Всего в нью-йоркском театре «Маджестик» мы провели пятнадцать концертов, все концерты проходили при полном аншлаге, самые большой успех имели вокальные номера «Песняров» и «Орера».
Однако напряженная политическая ситуация, усугубленная растущей эмиграцией из СССР в США, сыграла с нами злую шутку, В то время правительство СССР заставляло отъезжающих платить по десять тысяч рублей, объясняя это компенсацией денег, затраченных на социальные нужды граждан вo время проживания в СССР. Подобная мера не только не приостановила поток отъезжающих, а, наоборот, увеличила его. В Америке и в Европе начались массовые акции протеста в защиту эмигрантов. Акции проходили и во время наших гастролей. Для обеспечения безопасности во время концерта зрителей тщательно досматривали на предмет взрывоопасных и прочих опасных вещей, во время концерта на каждом четвертом ряду стоял полицейский...
Финальный номер нашего концерта, по замыслу партийных функционеров, выглядел следующим образом. Все участники концерта выстраивались в ряд по восемь человек и, размахивая флажками, под песню «Широка страна моя родная» маршировали по сцене. Естественно, это вызывало раздражение политической прессы. Почти каждый день напротив театра, где проходили гастроли, эмигранты из СССР и соцстран устраивали митинги и акции протеста, рисовали на стенах и дверях театра фашистские свастики. Не пожалели даже известного киноактера Юла Бринера, на его рекламном плакате изобразили свастику на лбу.
Но несмотря на все это, как уже было сказано, концерты проходили с большим успехом. Один из концертов по приглашению нашего импресарио посетил режиссер студии «Коламбиа» и предложил «Песнярам» выступить в шоу Дина Мартина в Лас-Вегасе, а «Орера» в шоу Фрэнка Синатры. Также он предложил обоим ансамблям записать и выпустить альбомы (диски). За все вышеперечисленное режиссер попросил гонорар тридцать тысяч долларов. Конечно, для участия в шоу и для записи дисков «Песнярам» и «Орера» нужно было задержаться в США. Участники ансамблей в данной ситуации были бесправны, решение принимала руководитель делегации Казанцева. Она категорически отвергла предложение, заявив: «Вместе приехали - вместе уедем!»
На западном побережье США, в Лос-Анджелесе, куда по плану гастролей мы должны были вылететь после Нью-Йорка, было намечено проведение конгресса советских эмигрантов, причем в том же зале, где были намечены наши выступления. Советское посольство, вместо того чтобы помочь артистам выпутаться из сложившейся ситуации, постаралось от нас поскорее избавиться и отправить домой.
Тут, кстати, выяснилось, что «Песняры» могли бы продлить свои гастроли благодаря белорусской диаспоре, а «Орера» - в составе Государственного ансамбля песни и танца Грузии, чьи гастроли начинались в СЩА.
Но функционеры и руководство делегации категорически отказывали всем обращавшимся к ним с предложениями о продлении гастролей.
А мы, пока суть да дело, вкушали прелести западной цивилизации. Нам удалось посмотреть бой с участием Мохаммеда Али, прощальный матч Пеле в составе нью-йоркского «Космоса».
Кроме концертов в Лас-Вегасе планировались еще и съемки фильма. Но менеджер понял, что он несет убытки, и обратился к руководству Госконцерта: пусть на два оставшихся месяца оставят «Песняров», чтоб как-то спасти ситуацию. Реакция нашего начальства была соответствующей: нас подняли рано утром, попросили быстро уложить чемоданы и увезли в аэропорт, откуда отправили в Монреаль. В Монреале мы просидели до поздней ночи, а ночью нас забрал специально присланный из Москвы самолет. Потому что - «вместе приехали - вместе и уедем».
Госконцерт заплатил огромную неустойку. Но тогда денег никто не считал, на первом месте была идеология.
Легко представить себе выражение лиц импресарио и тех людей, которые пришли в понедельник утром в гостиницу для проведения очередных переговоров по поводу продления гастролей и никого не обнаружили. Как ни странно, но нашему отъезду также удивились встречающие нас сотрудники Министерства культура и Госконцерта:
- Почему вы вернулись? Вы не должны были возвращаться так рано.
А мы и сами ничего не знали. Утешало только то, что наши концерты в Америке имели большой успех.
Конечно же, из-за срыва гастролей мы потеряли многое, но и приобрели тоже - именно тогда мы подружились с ребятами из «Орера» и дружим с ними до сих пор.
ВСТРЕЧИ
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
За всю жизнь мне доводилось встречаться со многими интересными и знаменитыми людьми. Был я знаком и с Владимиром Высоцким.
Мы встречались несколько раз. Первый раз я его увидел очень давно, когда жил в районе Тракторного завода. Я дружил тогда с Ариком Крупом, у которого собирались молодые поэты, барды-песенники. Было время романтизма, песен у костра, походов в горы. У городской интеллигенции того времени это был чуть ли не единственный способ самовыражения. У Арика собирались такие ребята, как Саша Косенков, Саша Чуланов, который впоследствии был ведущим программы «Ветер странствий» на Белорусском телевидении, приходили барды Озерицкий, Клячкин и другие. Мы пели под гитару свои песни, рассказывали всякие истории из походной жизни...
И вот однажды мы в очередной раз собрались у Арика. Кто-то сказал, что придет Владимир Высоцкий. Он тогда снимался у Виктора Турова в фильме «Я родом из детства». Мы сидели, разговаривали, пели песни. У меня тогда тоже было написано несколько песен, как я их называл, туристических. Одну из них я до сих пор помню. Она начиналась так:
У дельфина спина черная,
У нее глаза были карие.
А морская волна зеленая,
Всю мою печаль унесла волна...
За разговором я и не заметил, как зашел какой-то человек невысокого роста, совсем невыразительный с виду. Он присел, поговорил с кем-то из ребят и ушел. Видимо, у него было мало времени. Я тогда подумал, что это кто-то из соседей. В конце вечера я спросил у Арика:
- А где же Высоцкий? Он уже, видимо, не придет.
- Так он же приходил, - сказал Арик. - Сидел прямо напротив тебя.
Я был поражен. Я ожидал увидеть крупного, высокого мужчину, привлекающего к себе внимание. Когда слышишь на пленке «Лучше гор могут быть только горы», трудно представить, что это поет обычный человек, невысокий и какой-то по-домашнему свой парень, которого ты как будто уже где-то видел. Вот такой была моя первая встреча с Высоцким.
Вторая состоялась в Москве. «Песняры» принимали участие в очередных правительственных концертах. Нам предложили билеты в «Театр на Таганке», который пользовался тогда бешеной популярностью, на спектакль «Десять дней, которые потрясли мир». Мулявин по каким-то причинам не смог пойти, и я пошел вместе с Владом Мисевичем.
При входе в театр нас встретили два красноармейца, которые стояли по обе стороны входа и накалывали на штыки входные билеты. Вы тут же попадали в атмосферу того времени. В фойе была устроена своеобразная ярмарка, где переодетые актеры предлагали отведать бублики, чай и всякую всячину. У входа в буфет висел плакат с известным четверостишием В. Маяковского «Ешь ананасы, рябчиков жуй, час твой последний приходит, буржуй». А в буфете ряженые матросы вместе с Валерием Золотухиным, который играл на гармошке, пели песню «Как родная меня мать провожала...»
Высоцкий в этом спектакле играл Керенского. И то ли он нас узнал, то ли ему сказали, что на спектакле присутствуют «Песняры», в антракте к нам подошел Янклович и попросил нас прийти за кулисы к Высоцкому.
Мы зашли к нему в гримерную, когда он переодевался и стоял в галифе. Поздоровались.
- Я бы хотел записать с вами пластинку, - сказал Высоцкий. - Как вы на это смотрите?
Мисевич ответил, что мы сами не решаем таких вопросов, все решает наш художественный руководитель Мулявин. Тогда Высоцкий нас попросил, чтобы мы пригласили Мулявина на следующий спектакль, а зто был «Гамлет», на который невозможно было достать билеты. Мы договорились встретиться с Высоцким за полчаса до спектакля на углу Таганки.
На следующий день мы сообщили Мулявину о предложении Высоцкого. На мой взгляд, это был грандиозный проект, но Мулявин тогда промолчал и на спектакль с нами не пошел.
В половине седьмого мы с Мисевичем стояли возле театра. К нам подъехала иномарка, из которой вышел Высоцкий и дал нам билеты на спектакль. Спросил:
- Ну что? Мулявин будет?
- Нет
- Ну ладно.
Высоцкий побежал в театр, а мы пошли на спектакль.
Спектакль «Гамлет» тоже начинался неординарно. Когда зрители еще только рассаживались по местам, в полумраке на полу, в глубине сцены, Высоцкий перебирал струны гитары, затем запел: «Зал затих. Я вышел на подмостки...» Мне понравилось все: и режиссерское решение, и игра Высоцкого, и необычные декорации (веревочный занавес, который был своеобразным действующим «лицом» спектакля).
После спектакля я пошел за кулисы и поблагодарил Высоцкого за спектакль.
- Ну что же Мулявин? - спросил он. - Не хочет писать пластинку?
- Не знаю, - честно ответил я. - Он ничего мне не сказал.
- Я понял, - усмехнулся Высоцкий.
Третья встреча с Высоцким произошла в 1980 году, за четыре месяца до его смерти. Ему кто-то сказал, что если он будет в Минске, то пусть обязательно посетит дом Корбут и Борткевича. У нас действительно был очень гостеприимный дом. Высоцкий позвонил нам и около 12 часов вечера приехал. Он привез с собой ящик вина. Помню, мы тогда просидели целую ночь: разговаривали, выпивали, пели песни. Причем Высоцкий пел свои лирические песни нормальным голосом, с хрипотцой, конечно, но без надрыва. Вспоминали песни Вертинского. Владимир тогда сказал, что вся его жизнь теперь - это Марина. Он ее очень любил. Во время разговора он вдруг сказал: «Сидя здесь, я уже придумал две новые песни».
У него была феноменальная память, мне кажется, он мало что изменял, работая над текстом. И когда я просил его о нашей первой с ним встрече у Арика Круза, то он вспомнил и эту встречу, и некоторые детали, и сказал мне, что Арик Круп трагически погиб: его в горах, где-то в Саянах, накрыло лавиной.
ВАДИМ КОЗИН
Эта встреча запомнилась мне на всю жизнь. Произошла она уже после того, как я ушел из «Песняров» и работал в ансамбле Юры Денисова «Мальвы».
Наш очередной концертный марафон заканчивался в Магадане. Мы там задержались на неделю, поскольку в этом городе было несколько концертов. И вот на одном из концертов к нам за кулисы пришла женщина и передала письмо от Вадима Козина. Он приглашал нас к себе домой.
Песни Козина я хорошо знал. Моя мама его творчество очень любила, и у нас дома были его пластинки. Но я понятия не имел о том, что он еще жив и находится в Магадане.
- Мы обязательно приедем, - сказал я ребятам.
После концерта Ольга Корбут, моя жена, Юра Денисов и я поехали по адресу, указанному в письме. По дороге мы зашли в магазин и купили выпивку и закуску. Дверь нам открыл сам хозяин. Жил он в небольшой квартирке со скудной мебелью и несколькими котами. Мы поняли, что коты - страсть, потому что кроме живых, которых он подбирал на улице и выхаживал, у него было много котов игрушечных. Мы с Ольгой, видя весь этот кошачий «рай», тоже пообещали подарить ему игрушечного кота (что потом и сделали, когда появилась возможность передать в Магадан игрушку). Не знаю, как его довез тот человек, поскольку игрушечный кот был размером с Ольгу, она купила его когда-то в американском турне.
Жил Вадим Козин достаточно бедно, на небольшую пенсию. Львиную долю пенсии он тратил на печатные издания. Даже телевизор у него стоял на огромной кипе газет. Я удивился тому, что Козин в курсе абсолютно всех событий в мире искусства. Он нам показывал газетные статьи о «Песнярах» и Ольге. Показал свои песни старые и новые. И в конце подарил целую катушку с записью своих песен и с предисловием, записанным прямо у него дома. Оно начиналось так: «Дорогим моим Ленечке Борткевичу и Олечке Корбут от старенького Козина...» Очень жаль, что та пленка не сохранилась. Перед отъездом в Америку я нашел ее, но она буквально рассыпалась в моих руках. Тогда еще не было возможности перегнать запись на компьютерный диск.
Козин попросил меня передать в Москву письмо, написанное на имя министра культуры. В письме он просил устроить его авторский концерт в Москве.
Жизнь Козина трагична и достойна экранизации. После признания, огромной популярности, охапок цветов и всего того, что может дать известность, он попадает в немилость. Результат - 38-я статья и сталинские лагеря. Потом, уже в лагере, еще одна статья. Я спросил у него, как такой известный творческий человек смог прожить долгое время за решеткой. Он улыбнулся:
- Сначала безумно трудно, но потом привыкаешь. Привыкнуть можно ко всему, даже к нечеловеческим условиям. Так уж мы устроены.
Вся его обида на государство, на людское предательство вылилась в то, что после освобождения, будучи сам из Питера, он остался жить в Магадане, прозябая в безвестности и нищете. Козин показал нам советскую музыкальную энциклшедию, где о нем был написан всего один абзац и даже не было его фотографии.
Я пообещал, что обязательно, когда буду в Москве, постараюсь помочь ему в организации его концерта. И я действительно поговорил с Шароевым и Кобзоном. Они до нашего разговора и не предполагали, что Козин еще жив и живет в Магадане.
По прошествии полугода я встретился с Иосифом Кобзоном снова, это было на концерте в зале «Россия». Он тогда сказал мне, что в Министерстве культуры не готовы организовать концерт Козина, попросту говоря, испугались. Хотя Козину и под восемьдесят, однако мало ли что может выкинуть бывший опальный певец. И если даже выступит, то старые поклонники разорвут зал. Может случиться демонстрация... В Магадан тогда отправили телеграмму, что наверху якобы беспокоятся о его здоровье, что встреча с его поклонниками и сама поездка могут быть небезопасны для него.
По прошествии многих лет я узнал, что в конце жизни Козина все-таки был организован творческий вечер в его честь. Но он на него так и не пошел. Видимо, уже мало кому доверял в этой жизни, да и не ко времени все оказалось.
ОЛЬГА КОРБУТ
«Я НЕ ВЫЙДУ ЗАМУЖ ЗА АРТИСТА...»
Человек, который перевернул не только мир спортивной гимнастики, но и всю мою жизнь, - Ольга Корбут.
С Ольгой я познакомился в самолете, когда «Песняры» первый раз летели на гастроли в Америку. До этого было несколько встреч, предшествовавших нашему знакомству.
В 1972 году по радио шел концерт по заявкам олимпийцев, которые едут на Олимпиаду в Мюнхен. И вдруг я слышу, что по радио передают интервью с белорусской гимнасткой, знаменитой Ольгой Корбут. Ее спрашивают: «Кого из исполнителей вы любите? Какую песню хотели бы услышать?» Она ответила, что любит ансамбль «Песняры» и ей очень нравится песня «Алеся» (которую исполнял я).
Надо сказать, что мне-то тогда из команды гимнасток нравилась не Ольга Корбут, а Люба Бурда, будущая жена Николая Андрианова.
По прошествии времени все мы, конечно, перезнакомились. Но то, что Ольге нравятся «Песняры», безусловно, отложилось в памяти.
После того как Ольга привезла олимпийское золото из Мюнхена, мы вместе работали на правительственном концерте во Дворце спорта. Была большая репетиция, и Ольга на сцене разминалась. Тогда я ее впервые увидел. Прошелся один, второй раз мимо, чтобы ее внимательно рассмотреть. Но она глянула на меня как-то вскользь и вроде не заметила. Я еще подумал: «Маленькая, а гордая какая».
Ну а знакомство, как я уже говорил, произошло в самолете по дороге в Америку. В том самолете летели «Песняры», гимнастическая команда сборной СССР, пара дипломатов и журналисты. Самолет был полупустой, наши ребята - Мулявин, Демешко - пошли к девчонкам. Я слышу шум, смех, разговоры. Позвали меня. А я знал, что если пойду, то дадут гитару, начнут упрашивать спеть. Петь в тот момент мне не хотелось.
В общем, я скромненько сел в уголке и сижу. Напротив недалеко сидела Ольга. Она раз на меня посмотрела, другой. Потом подошла и говорит:
- Что ты сидишь такой грустный? Скучаешь?
- Ты-то тоже не веселишься с девочками, - отвечаю.
- Ну тогда давай скучать вместе, - сказала она и села рядом со мной.
Мы семь часов с ней проговорили: о «Песнярах», о моей семье, о сыне Алексее. Я понятия не имел, что она такая великая звезда на Западе и так популярна.
В конце разговора Ольга сказала:
- Если я когда-нибудь и выйду замуж, то только не за спортсмена и не за артиста.
- Почему?
- Потому что постоянные гастроли или тренировки - никакой личной жизни. Какая же семья может быть?
Ну а дальше было так: подлетаем мы к Нью-Йорку, самолет совершает посадку в аэропорту Кеннеди. Я смотрю, к трапу подъезжают лимузины черного цвета с государственными флажками обеих стран. Девочки-гимнастки притихли: они уже знали, кого так встречают. Мы с Ольгой сидели сзади. Наши ребята не поняли, в чем дело, и потянулись к выходу. Опускается трап, по нему поднимается хорошо одетый человек и, не очень-то вежливо отстранив тех, кто стоял впереди, говорит: «Олга Корбут, плиз!»
Немая сцена. Все повернулись назад, проход освободился, и Ольга, минуя всех, маленькая, с маленькой сумочкой, легкой походкой пошла к выходу. Ее посадили в шикарную машину, всю остальную команду - в автобус. И еще запомнился тот момент, когда ее спросили: «Что бы вы хотели посмотреть в Америке?», а она, улыбаясь, отвечала чуть лукавым голоском: «Не знаю, может быть, Диснейленд». Корбут была похожа на ребенка, который купается в лучах славы.
КАК НАЧИНАЛАСЬ СКАЗКА О ЗОЛУШКЕ
О жизни Ольги до нашей встречи, о ее детстве, юности, победах и поражениях я знаю со слов Ольги. Так с ее слов и расскажу.
Родилась Оля в Гродно, там прошло ее детство, там она начала заниматься гимнастикой. Ольга была четвертой девочкой - младшим и любимым - ребенком в семье (у нее есть три старшие сестры). И дома, и во дворе ее называли Вольба, причем кто первым переделал белорусскую «Вольгу» в «Вольбу», ни сама Ольга, ни ее домашние вспомнить не могли.
Ольга в детстве была - мальчик, сорвиголова. Воровала яблоки, висела на заборах, пропадала в овраге, где собирались мальчишки, играла в футбол. И всегда боролась за лидерство.
Желание побеждать, выигрывать, быть первой, так пригодившееся потом в гимнастике, выросло в ней в пору детских приключений. Самая маленькая по росту и возрасту, Ольга автоматически отстранялась старшими ребятами из авангарда в конец колонны, на самые незавидные роли. И всегда стремилась хоть в чем-то, пусть незначительном, обойти более старших и сильных, настойчиво, хотя и неосознанно, искала точку опоры, с помощью которой можно перевернуть мир, а заодно удивить, ошарашить окружающих.
Жизнь дворовой подростковой компании представляет массу возможностей посоревноваться, выяснить - кто есть кто. По сути это соревнование не прекращается ни на час, ни на минуту. Петька проехал на велосипеде «без рук». Володька по водосточной трубе залез на крышу. Толику родители подарили наручные часы. Вадик умеет плевать сквозь зубы на восемь метров.
Ольга, вспоминая себя маленькую, смеясь, говорила, что яростное честолюбие надувало паруса ее поступков уже в детстве. Вот, например, в жаркий летний полдень, когда двигаться, а тем паче думать неохота, устраивается конкурс камикадзе - «кто больше затолкает в рот слив». После напряженной борьбы выявляется лидер - толстый мальчик, сумевший затолкать за щеки семь ягод. Поражения Ольга стерпеть не могла и попросила вторую попытку. Победитель снисходительно разрешил. Давясь и потея, она ухитрилась добраться до рекордного рубежа в семь слив. И уже почти задохнувшись сливовым кляпом, каким-то невероятным образом загнала в обойму еще один патрон. Болельщики и участники взвыли. Чемпионка, однако, не смогла разделить их радость, ее глаза закатились, лицо приобрело меловой оттенок, а затем болотный. Все забегали, засуетились и даже вылили на героиню неизвестно откуда взявшееся ведро воды. Попробовали выколупывать сливы изо рта, но те словно зацементировались. Наконец самый находчивый догадался крепко сжать щеки и спас рекордсменку от удушья. Не пойму, почему столь выдающееся достижение до сего времени не зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса?
И театр одного актера, который Ольга устраивала, уже занимаясь гимнастикой, он из того же честолюбивого ряда. Она приносила в овраг, где собирались ребята, два байковых одеяла. Одно закреплялось на шестах, воткнутых в землю, - своеобразный занавес, другое расстилалось под ноги. В спортивном костюме под звуки бравурного марша, который она сама же и исполняла, выбегала на «сцену», приветствовала публику и начинала представление. Оно состояло из «кульбитов», «березок», прыжков, всевозможных поворотов, кружений. После каждого номера кланялась и ждала аплодисментов. Делала все так самозабвенно и порой так уходила в себя, что лишь к финалу замечала - зрители давно разошлись.
Семья Корбут жила напротив стадиона, на стадионе имелся спортивный зал, где главным тренером был Ренальд Кныш. Ольга очень хотела заниматься гимнастикой, но ее крепенькая плотная фигурка не вписывалась в рамки тренерских критериев отбора. Вне конкуренции оказались самые тощие - на них накидывались с жадностью, тут же заносили в тетрадку исходные данные и ласковым голосом (не дай бог потеряется талант) непременно просили прийти тогда-то и тогда-то. Эх, и пожалела же Оля, что не села на диету за месяц до турнира. Явилась бы «кожа да кости» - пошла бы первым номером в ДЮСШ.
А так - не взяли.
Она ходила под окнами спортзала, смотрела, что делают те, кому повезло заниматься у Кныша, и тренировалась сама.
Однажды тренер Елена Волчецкая увидела Ольгины самостоятельные занятия. Упорство этой девочки ее поразило, и она произнесла долгожданную фразу: «Ну что, толстушка, хочешь заниматься в спортивной школе?» Толстушка очень хотела.
«Я пытаюсь вспомнить в деталях, как пролетел мой первый год занятий в спортивной школе, и не могу, - потом говорила Ольга. - В душе отпечаталось лишь настроение бесконечной радости, ожидания завтрашнего подарка, которое бывает у детей накануне дня рождения. Представляешь, как проснешься утром, сунешь руку под подушку, а там... Я, будто сластена, которую привели в кондитерский отдел магазина и предложили выбирать все, что пожелаешь, объедалась гимнастикой».
Елене Владимировне перспективы ее подопечной виделись не слишком радужными. Наверное, выражение «гонять как Сидорову козу» кто-то ввел в обиход после того, как подсмотрел одну из Ольгиных тренировок. Девочка не гнушалась никакой черновой работы и по команде «Бегом!» готова была лететь, бежать, мчаться к любому снаряду.
Однажды всесильный Кныш, стоя в сторонке, скрестив на груди руки и хитро сощурив глаза, долго наблюдал, как Ольга штурмует какой-то элемент. Потом подошел и как бы ненароком спросил у Волчецкой: «Послушай, зачем ты держишь этот мячик?» В его голосе не слышалось досады. Волчецкая удивленно вскинула глаза:
- Данный, как вы изволили выразиться, мячик, находится в лидирующей группе и, что бы ему ни показали, все схватывает на оету. Попробуйте, убедитесь сами.
- Ну-ну, не закипай, Ленка, - отвечал Кныш,- я и сам вижу.
Никем не замеченный «мячик» стоял в это время за матами и переваривал полученную информацию, не понимая: хорошо или плохо отзываются о нем взрослые. «В конце концов, - сделала она вывод, - чему быть, того не миновать».
В те далекие и безмятежные времена Ольга еще не одолела дарвиновскую теорию о естественном отборе и потому с легким сердцем глядела вперед. Мысль о том, что девчонки, занимавшиеся с ней в ДЮСШ, являются конкурентками, никогда не приходилаей в голову. Не было тяжких мыслей о том, что не все попадут в группу спортивного совершенствования, что та обогнала тебя на вольных, а эта - на бревне. Была лишь сумасшедшая, бездонная радость, как в первый день летних школьных каникул, когда девяносто ближайших дней обещают море удовольствий. Дай Ольге тогда волю, она бы ночевала в зале, даже если бы пришлось устраиваться с матрацем на разновысоких брусьях. Волчецкая, стесняясь смотреть в ее горящие, голодные глаза, каждый раз со скандалом выпроваживала ее из зала.
Жертвами гимнастики стали домашние Ольги. Она оккупировала значительную часть полезной жилплощади и принималась «качать силу», «растягиваться», «развивать гибкость». Сестры, смотря по настроению, то крутили палец у виска, то хихикали ехидно, а то молча, скептически, с ухмылкой наблюдали с дивана, отпуская убийственные реплики.
Впрочем, словесная шрапнель до цели не долетала и пробоин в Олиной одержимости не оставляла. Очень скоро она почувствовала: ее «толстокожесть» внушает уважение - попытки деморализовать юное дарование прекратились. Ольга смеялась, что произошло это не без маминого вмешательства: «Хотя все познания ее в данном виде спорта сводились к тому, что важнейшим атрибутом здесь является булавка, она житейски мудро рассудила: пусть лучше ее дочка, этот перпетуум-мобиле в штанах, будет под присмотром тренеров, чем под присмотром улицы». Откуда у нее взялись вдруг такой самозабвенный интерес, такое непреходящее желание и упоительное трудолюбие? Ведь девчушки-блесточки, стоявшие когда-то рядом с ней в одной шеренге гимнастического зала гродненской ДЮСШ «Красное знамя», тоже обещали очень многое. Но, едва вспыхнув, они гасли. Года через два-три от всего набора Волчецкой осталась только Ольга Корбут.
После памятного разговора с Волчецкой Кныш стал чаще косить глазом в Ольгину сторону. «Не заговаривал, - рассказывала Ольга, - не глядел в открытую, а как бы приглядывался да примеривался: мол. стоит ли на эту стрекозу расходовать собственную драгоценную энергию или нет. А я хоть и была наивным ребенком, особое расположение начальника гимнастического Олимпа зафиксировала сей же час. Как учую наблюдающий взор, так из шкуры вон лезу - хочу понравиться. Еще бы: попасть в группу Кныша означало войти во врата рая, где гимнастическая элита занимала очередь за нимбами и скипетрами».
«Ну что, толстуха, - сказал Кныш однажды. - а не грянуть ли нам переворот боком на этом симпатичном конике?» От радости у Ольги «в зобу дыхание сперло», как у той вороны, которая в аналогичной ситуации сильно обмишурилась.
Этот переворот боком представлялся девочке делом малореальным и даже более того - как всегда небезопасным. Она пока отодвигала вдаль освоение тех элементов, которые считались уделом избранных, отзанимавшихся четыре-пять-шесть лет в секции, но никак не новичков. А тут вдруг сам Рен (так называл» Кныша за глаза) сказал: «А не грянуть ли?..» И вмиг позабыты старые страхи и сомнения, трусиха приосанилась и направилась к полосе разбега. Осчастливленная вниманием, она находилась на коне в прямом, переносном и всех других возможных смыслах, потому готова была перелететь через него не только на руках, но и без них. По Ольгиным словам, со стороны все это, вероятно, очень смахивало на разминку начинающего каратиста, который головой пытается пробить капитальную стену. В любом случае сдержанный, немногословный и вечно недовольный Рен к концу заметно оттаял: повеселел, заулыбался, разговорился.
Тогда они часа два трудились над прыжком. У Ольги сохранилось до сих пор в памяти маленькое наблюдение из той первой тренировки с Кнышем: кажется, он был удивлен и одновременно обрадован тем, что увидел. Два часа прошли, и Ольга могла писать контрольную по чистописанию на только что усвоенную гимнастическую тему - прыжок исполняла без помарок. Рен произнес в пространство: «Надо же... пластилин. С полуслова, с полувзгляда. Знаешь, толстуха, приходи завтра утром в мою группу...»
«Возможность наблюдать полет HЛO, а равно землетрясение, наводнение, пожары и прочие катаклизмы не могли с большей степенью потрясти мое детское воображение, - говорила Ольга.- За спиной выросли крылья, и я несколько недель явственно слышала шуршание оперения на ветру. Не ела, не пила, не говорила (так мне сейчас помнится), только металась из угла в угол и восторженно скулила на одной радостной ноте».
ТРЕНЕР И ДЕВОЧКА
У Кныша собрались сливки ДЮСШ. Девочки прозанимались по пять-щесть лет, входили в разнообразные сборные, много ездили, часто выступали. Они считали себя бывалыми спортсменками, многое повидавшими на своем веку. Естественно, известие о появлении гадкого утенка, нахально выскочившего из грязи в князи, вызвало у них некоторые субъективные чувства. Они на правах старших взяли за правило постоянно ворчать на Олю и поучать. Но не на тихоню нарвались!
За неполный год в ДЮСШ Ольга научилась кроме вышеназванного прыжка садиться на прямой шпагат, делать мостик и вставать с него, крутить колесо на широком бревне и многому другому. А Кныш особого расположения к ней больше не выказывал, как будто позабыл. Тренироваться разрешил только раз в день утром, а на вечерние занятия не приглашал, хотя Ольга полунамеками, намеками, а отчаявшись, и открытым текстом заявила о своем желании приходить дважды.
Путь от дома до стадиона она одолевала рысью, прибегала, высунув язык, и жаждала серьезной работы. А Кныш невозмутимо заявлял:
- Не торопись, поразминайся сначала с полчасика со всеми, потом и начнем.
Ольга глядела, как девицы, напыжившись, бродили по залу, кривлялись, поднимали ноги, болтали руками, и думала: «На кой черт мне эта дурацкая разминка, я хоть сейчас могу...» Впрочем, начинались занятия, и злость исчезала.
Утренняя тренировка заканчивалась в час. Она уходила с нее, будто вставала из-за скудного обеденного стола - с чувством сильного недоедания, понимая, что на ужин ее не позовут и голодать придется до завтрашнего утра. Она ходила озабоченная, игнорируя и овраг, где собирались друзья, и речку, и «казаков-разбойников», - изыскивала предлог возвратиться в зал. И однажды решила: заявлюсь вечером, пусть меня ругают, режут, мучают - с места не сдвинусь. В конце концов она же ничуть не хуже великовозрастных фифочек, мнящих о себе бог весть что.
И она явилась, пытаясь изобразить несгибаемого борца за справедливость, которому чужды людская молва и превратности судьбы, - он готов гордо и смело снести любые удары. Но, вероятно, получилась скорее идеальная репродукция с картины «Опять двойка», где главное настроение выражается словами «повинную голову меч не сечет». Девицы не упустили случая поехидничать на тему «тебя кто звал сюда, Дуня?» Их пилюлю Оля проглотила - не поморщилась и ждала разноса от Кныша за самоуправство. «Ладно, - сказал Кныш, - раз пришла, иди разминайся».
Дни тянулись чередой, складывались в месяцы и годы. Один, второй. Ольга окунулась в реку черновой ежедневной работы. Что ей запомнилось из этого периода? Она до сих пор помнит свои ощущения, словно до сих пор слышит, чувствует, как упоительно гудят натруженные мышцы, как светло и чисто на сердце, как пронзительно радостно просыпаться утром и знать, что впереди весь день, вся жизнь, и сегодня, завтра, послезавтра непременно случится что-то неожиданное, хорошее, удивительное.
Она называет это ностальгией о счастливых временах, когда еще не свалилась на девочку «державная ответственность». Да и не только одна ответственность...
Примерно с год после триумфального освоения переворота боком и зачисления в основную группу ДЮСШ Кныш не обращал на Ольгу никакого внимания. Общение сводилось к следующему: «Здравствуй, до свидания, завтра тренировка в шесть». А тем временем, словно надев сапоги-скороходы, Оля начала стремительно догонять старших девочек. Кныш же, кажется, ходил, прикрыв глаза руками, и это ее удручало и раздражало попеременно. Она ведь всегда была из тех, на ком шесть дней в неделю можно возить воду, а на седьмой следует сказать «спасибо» и снова запрягать.
Кныш «спасибо» не говорил никогда. Своеобразный человек - угловатый, сильный, неожиданный, колючий.
Из воспоминаний Ольги о том «доисторическом», черновом периоде, когда шла подготовка стартовой площадки для будущего взлета:
- Вот, не сдержавшись, я выкидываю некий фортель, который заканчивается скоропостижным выдворением меня из зала под молча
ливо-ядовитый аккомпанемент мудрых сборниц. И напутственное слово Рена («...Чтоб я тебя больше не видел»), и интонация, с которой оно произносится, не оставляет на сожженном мосту взаимоотношений даже малюсенькой дощечки для возвращения. Прощай, гимнастика!
До сих пор не знаю, был ли это гениальный педагогический эксперимент, где испытывалась на прочность и преданность строптивая ученица, или случилась обычная житейская передряга, в которой уязвленное самолюбие взрослого по недоброй традиции перечеркнуло крест-накрест все иные соображения. Не знаю.
Месяц я тогда хорохорилась, все подбадривала себя. И все выбегала на площадь, хватала за рукав Светлану Семеновну, аккомпаниатора ДЮСШ, спешащую утром на работу, спрашивала: «Как там?» Через месяц вернулась, покаялась: простите, примите. Кныш не обрадовался, не удивился, просто буднично сказал: «Тренировка завтра в шесть».
Гимнастики без Кныша Ольга тогда и представить не могла, даже несмотря на обилие заусениц в их отношениях.
Те соревнования в Лиепае в своей возрастной группе - первый Ольгин турнир за пределами Гродно в 1966 году. Она их выиграла. И даже получила 10 баллов на брусьях, и даже выступала на показательных вместе с мастерами.
Кныш призадумался. Этот обычный, «проходной» турнир стал своеобразным водоразделом между вчера и завтра. То маленькая гимнасточка аккумулировала, аккумулировала в себе что-то, а то вдруг плотина рухнула, и из обладательницы третьего юношеского разряда она скоренько перешагнула в кандидаты. Одолеть с ходу мастерский рубеж к великой досаде мешал пустяк - на разновысоких брусьях Ольга не могла перепрыгнуть с нижней жерди на верхнюю. Не хватало роста.
И снова работа, работа, работа. Кныш никогда не оглядывался, шел вперед напролом, постоянно что-то придумывая, изобретая, импровизируя. Начало освоения новых элементов, которые высыпались из него безостановочно, любимое его время. Сначала он дотошно описывал, как и что ему видится. Убеждал Ольгу: для тебя это пара пустяков. Ей же очередное предложение «попробовать» большей частью казалось безумным. Она признается, что страх вселялся в нее, едва она прикидывала, как будет лететь, кружиться, перемахивать, кувыркаться. «Отчаянно смелая Ольга», - скажет потом кто-то, увидев «петлю Корбут» на брусьях. «Отчаянно трусливая Ольга», - думала она о себе.
Настоящие брусья они пока не трогали. Кныш знал, как подобраться к суперсложному элементу, здесь он никогда не торопился. Установил в зале «стоялки» - те самые разновысокие брусья, только на полу. Укладывалась гора матов, и день за днем Ольга училась улетать спиной в неизвестность и возвращаться в одну точку, училась преодолевать страх.
Постепенно жерди оторвались от пола и потихоньку потянулись вверх. Соответственно им подрастала страховочная перина. Наконец настал день, когда снаряд набрал полагающуюся ему высоту, штабель матов был разобран, Ольга Корбут начала все делать «взаправдышно».
Нетрудно предположить, что кроме всего прочего на тренировках (а они стали двухразовыми) отрабатывалось множество других элементов, комбинаций, связок. Однако неизменно Кныш завершал день заданием: «20 раз безукоризненно выполнить "петлю"». «20 раз безукоризненно» означало, особенно на первых порах, примерно 80-90 черновых подходов. Когда Оля набирала свой обязательный минимум и в последний раз, почти счастливая, ловила ладошками жердь, цепляясь за нее, как можно цепляться только за спасительную соломинку,- в этот финальный момент тренировки она уже в прямом смысле слова рукой не могла пошевелить, ногу от земли оторвать. Не шла в раздевалку - волочилась, скреблась, уползала. И только душ - теплый, прокалывающий струями насквозь - возвращал миру прежние краски.
Порой случались драмы. Кныш мог вдруг разглядеть в бинокль, будто последний, заветный, зачетный двадцатый прыжок имеет «отдельные шероховатости и неточности в некоторых фазах». Так он выражался. И Ольге, опустошенной, мысленно реанимирующейся под душем, перекупившей через финишную ленточку, предлагалось пробежать еще кружок по стадиону. Силы огрызаться, спорить находились, но лезть снова на треклятые брусья она уже не могла.
Для Кныша то был принципиальный воспитательный момент (сейчас, задним числом, Ольга думает, уж не конструировал ли он конфликтные ситуации сознательно), в котором воспитанницу обучали наступать на горло собственной песне.
Порой Кныш, видя, что обстановка накаляется и Ольга подготовила долговременные оборонительные рубежи упрямства, якобы безмятежно скрывался за дверью спортзала: «Посиди, поразмышляй, Ольга, как ты себя ведешь». Щелкал ключ в замке, она оставалась один на один со своей гордыней, тишиной и брусьями. И минут через тридцать-сорок, кляня и презирая себя, Кныша, весь белый свет, она вымучивала, выклянчивала у собственной слабости один чистенький элемент.
А войдя во вкус, и все пять. Кныш возвращался как ни в чем не бывало: «Сделала? Сразу бы так!»
Кныш - гениальный тренер. Он сам был гимнастом, а потом получил травму, после чего ему путь в гимнастику был заказан, и тренер воплощал в Ольге то, что уже не мог сделать сам. В результате получалось нечто среднее между тем, что она могла сделать, и тем, что он придумывал. И эти элементы до сих пор никто не делает - ломаются кости, ломается позвоночник.
Авторитет Кныша долгое время был у Ольги абсолютным. Вот пример - уже не из начала, а из периода расцвета Ольгиной карьеры. Как-то наша гимнастическая команда должна была ехать в Германию. И в самый последний момент выясняется, что ее тренер - Кныш - поехать не сможет, а вместо него должен долететь какой-то спортивный функционер. Так Ольга, не долго думая, зашла тихонечко в женский туалет в аэропорту и спряталась там. Ее всюду искали и раз десять вызывали по громкоговорителю аэропорта, но Корбут так и не поехала. Самое интересное, что на следующий день вернулись обратно домой все, кто полетел. Принимающая сторона сказала: «Раз Ольги Корбут нет - летите обратно».
Конечно, тренер очень много сделал для Ольги. Не будь в ее жизни Кныша - возможно, и не было бы легенды Корбут.
Сейчас уже можно рассказать и то, что стало для Ольги глубокой психологической травмой на всю жизнь.
Рен ее готовил для себя - готовил себе жену, хотя он был на двадцать пять лет ее старше. Он устраивал так, чтобы у нее в жизни никто не появился, никакой мужчина. Оберегал ее девственность - для себя. И в какой-то момент сказал ей об этом открыто. И не только сказал - перешел к действиям. Однажды в Америке телохранитель Ольги, дежуривший у ее двери, даже был вынужден войти в номер, чтобы прекратить домогательства Рена.
Эти личные, глубоко запрятанные, скрытые от газетчиков и от всего мира отношения тренера и его подопечной надолго отравили Ольге жизнь... Она была моей женой, я любил ее, и нам обоим пришлось ее психологическую травму преодолевать. И это было очень тяжело.
Незадолго до нашего отъезда в Америку - Рен уже десять лет с ней не занимался, Ольга и гимнастику уже давно оставила - точно так же Кныш поступил еще с одной своей ученицей (той было лет четырнадцать-пятнадцать). И эта девочка рассказала все маме. На Кныша завели дело. Ольга тогда сказала - если его за это засудят, то тень падет и на нее. Мы с ней пошли к Могилевскому, генеральному прокурору республики, и попросили (Ольга - своим авторитетом, я - своим), чтобы дело закрыли. И его закрыли. Потом у Кныша еще раз произошел подобный случай...
А Ольге он, очевидно, будет мстить всю жизнь.
Ольга хотела бы, чтобы люди об этом узнали, чтобы никто не повторил ее судьбу, чтобы девочки-гимнастки не попадали в такие сети.
Но все-таки повторю - тренер Кныш был гениальный.
«ПЕТЛЯ КОРБУТ»
Столь популярную, столь любимую и общеизвестную «петлю Корбут» Кныш и Ольга готовили для первого показа на официальных соревнованиях без малого пять лет. И каждый день она слышала: «...Двадцать раз безукоризненно».
Из воспоминаний Ольги:
- Однажды - не могу назвать год, день, час, когда это произошло, - я поняла, что умею делать «петлю», понимаю ее, управляю ею, подчиняю своей воле. Мгновение полета в сознании - как описать подобное необыкновенно обостренное восприятие времени и пространства? - неожиданно разложилось на тысячи составляющих, пространство разбилось, расщепилось на молекулы. Я, летящая, не признающая законов гравитации, словно наблюдала себя со стороны в рапидной записи, оценивала, исправляла ошибки. Сотая доля секунды фантастически раздвигалась до размеров столетия, каждая клеточка тела звенела, хронометрируя время и растягивая его, будто резиновый бинт, до нужной величины. И каждый раз потом, когда в меня неожиданно входило это чувство, я обретала уверенность и спокойствие. Но все равно «петли» я всегда боялась. Даже освоив ее до автоматизма, до почти стопроцентной стабильности, я всегда, до самого последнего дня в большом спорте, подходила к брусьям - и сердце мое проваливалось в преисподнюю страха. Ватные ноги, головокружение, тошнотворная слабость. Мысль о побеге, о позорном побеге под улюлюканье, под свист зала всякий раз принимала вполне реальные очертания. Не знаю, как выходило у других, - я стыдилась расспрашивать. Быть может, это искало выход естественное, обыкновенное волнение, посещающее без спроса всех спортсменов. В том числе и тех - я уверена - кому журналисты приклеивают сомнительные ярлыки типа «человек без нервов», «железный имярек». Другое дело, что состояние страха - мимолетное состояние, оно исчезало само по себе, как бы без усилия с моей стороны, стоило только вздохнуть полной грудью, вытянуть вперед ладони и мысленно произнести: «Ну, начали...»
Кныш учил убивать страх. Всякий раз, когда на тренировке случалось падение - пусть самое болезненное, когда разбиты нос или коленка, - он, едва закончив процедуру успокоения, смачивания йодом и бинтования, категорически требовал еще раз сделать то, что не получилось. Никакие слезы, никакие жалобы, никакие уловки не в состоянии были его поколебать, разжалобить, заставить усомниться в своей правоте. «Если не сделаешь сейчас, не сделаешь никогда. Перебори боязнь и боль, ты обязана перебороть, ты увидишь, как это здорово - перебороть себя», - говорил Кныш. И Ольга шла и перебарывала. И еще Кныш говорил: «Если хоть разочек сама, без подстраховки - пусть коряво, неуверенно, примитивно - выполнишь какой-то трудный, ранее не поддающийся элемент, значит, все: худшее позади и страх должен уйти. Значит, ты переступила черту, поймала суть движения и надо торопиться: закреплять, закреплять, закреплять его в сознании и мышцах. Мышцы, мускулы - они обладают памятью, на них, как на пластилине, остается отпечаток твоего усилия. Надо только не разрушить нанесенный узор, сохранить его, дать ему время затвердеть».
Ольга верила в образы Кныша, в его слова и мысли, и для нее это означало работать еще больше, еще осознанней, еще смелей.
Кныш затем поставил «петлю» и другим девочкам из своей группы. Они исполняли элемент вполне складно, квалифицированно, а иные и достаточно стабильно. Но все-таки казалось, что это только механически заученная сумма движений. Так ученик на уроке литературы бодрым голосом, с бодрой физиономией шпарит без запинки, словно считалку: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» Он не чувствует, не догадывается, что скрыто в великих словах. Он не дорос до них. Девочки не летали, не стукались синей пульсирующей жилкой у виска о мчащиеся навстречу атомы и секунды - они произносили считалку. Ольга, уже уйдя из гимнастики, говаривала, что с уходом их плеяды даже самые лучшие гимнасты мира стали все чаще сбиваться на «эники-беники ели вареники».
Впрочем, Ольга всегда была чрезмерно категорична, высказывалась без обиняков, не огибая острые углы. Но факт остается фактом. Сегодня «петлю Корбут» растиражировали, ее осваивают девчушки за год-полтора, а то и быстрее. Но кто из них, оторвавшись от верхней жерди, стал невесом, замер, застыл, завис над снарядом, вырвав тысячеголосое «Ах!» у зрительного зала?
ЕЕ УЛЫБКА
Ростов, 1969 год. В Ростове проходит первенство Советского Союза по спортивной гимнастике.
До того как выйти на помост, предстояло перебраться через одну неожиданную бюрократическую преграду. Много разговоров велось вокруг да около нижнего возрастного ценза участниц. Подискутировав, законодатели прежнюю цифру пятнадцать так и не решились уменьшить. Ольге к тому времени исполнилось четырнадцать - кому объяснять, кому демонстрировать свою готовность, если не положено. Кныш тем не менее куда-то съездил, с кем-то поругался, с кем-то договорился. Словом, Ольга поехала в Ростов, однако на вопрос сколько лет, должна была отвечать «пятнадцать». Но никто так и не подошел, не спросил.
Ответ Ольги на вопрос интервьюера:
- Чем был для меня первый в спортивной биографии взрослый чемпионат Советского Союза? По моему почти детскому разумению - важными соревнованиями, где необходимо выступить хорошо. Не более того. И хоть я тогда уже научилась делить турниры по степени ответственности (главные, необходимые, второстепенные), но каждый раз жила исключительно сегодняшним днем. Ретроспектива и перспектива на первых порах не тревожили. Выступила хорошо - хорошо, выступила плохо - плохо. Обо всем остальном пусть думает Кныш.
Для Кныша же ростовский чемпионат был Рубиконом, который он решился перейти. Он задумал ударить из всех батарей, выплеснуть на тренеров, судей, болельщиков, специалистов отредактированный, отшлифованный итог самозабвенной пятилетней работы. В его планы входило ошеломить, удивить, заставить говорить и, главное, заставить поверить в его новую ученицу, в новое направление.
Кныш и Корбут действительно привезли сложнейшую программу. «Петля» и «перемах-перелет» на брусьях, «сальто назад» на бревне, «вольные» упражнения, нашпигованные акробатикой, в прыжках - уже известный, полюбившийся и по-прежнему неожиданный «сгиб-разгиб». И стиль: не обычный - плавный, лиричный, а резкий, порывистый («как само время» - напишут в газетах), где каждый жест летел в водовороте эмоций и был тем не менее эстетичен, управляем, чист и закончен.
И еще улыбка (вот сюрприз!) стала предметом всеобщего внимания и обсуждения. Как коньковый шаг на чемпионате мира по лыжному спорту в Зеефельде, как в свое время прыжок «фосбюри-флоп». Так бывает: вроде бы область изучена и исхожена вдоль и поперек, какие могут быть открытия? Но вдруг взгляд под другим углом и - откровение.
Ольге потом всерьез журналисты разжевывали, растолковывали ее же собственную улыбку приблизительно так: «Улыбаются на помосте - красиво, ослепительно - многие гимнастки. Перед началом комбинации, после ее окончания. Но на снаряде они большей частью сосредоточены, серьезны. Вы же, Ольга, улыбаетесь непрерывно. И не просто улыбаетесь, а будто подсмеиваетесь, подтруниваете над окружающими и над собой. Это не застывшая, наигранная, отрепетированная, бодряческая улыбка - это живое движение мятущейся души, спроецированное на экран непосредственного светящегося счастьем лица».
Между прочим, эту улыбку Кныш «ставил» Ольге с такой же обязательностью, как и любой серьезный элемент. Любопытно, что «постановка» шла исключительно во время соревнований, на тренировках она вольна была распоряжаться своим лицом как угодно: плачь, смейся, хмурься, выражай безразличие, отчаяние, тревогу или недовольство. А уж на официальном турнире, голубушка, будь любезна, сгони с личика тучки, забудь про горести, прогони скребущихся кошек с души и покажи на что способна. Не просьба - приказ. Уже стоя на помосте, Ольга оглядывалась и видела, как Кныш торопился поймать указательными пальцами уголк губ и растянуть их до невозможных размеров. И она спешила надеть улыбку.
«ОЗОРНИЦА»
Ольге исполнилось шестнадцать лет, и она вполне отчетливо понимала: пришло время отрабатывать выданные авансы. Она чувствовала: стоит лишь приостановиться в этой бешеной гонке за новизной и сложностью, отшлифовать, отточить, отглянцевать уже освоенное - и победы придут.
Но Кныш, крепко держа за руку, шагал вприпрыжку и слушать не хотел о привале. Именно поэтому и находилась Ольга так долго на нейтральной полосе - как бы в сборной и как бы вне ее.
Мюнхенская Олимпиада выплыла из череды дней стремительно, неожиданно. Казалось, столько еще впереди времени, любые ошибки поправить можно, любой элемент освоить. А вот уже и январь позади, февраль закончился, через два месяца чемпионат страны в Киеве - конечно же, отборочный - а у Ольги хандра. У нее случаются такие периоды (наверняка три биоритма разом заклинивает в нижнем, стрессовом положении), когда ничего делать не хочется и все из рук валится.
В такие минуты тоскливо представляется, будто все лучшее и главное в жизни ты уже совершил, и остается незаметно соскользнуть с освещенной сцены и - бегом, бегом, - через черный ход подальше от суеты, шумихи, зрителей в тихий дворик на площади Ленина, в знакомый подъезд со скрипучей лестницей, где в квартире номер 3 стоит справа от двери мягкая обшарпанная кушетка, на которой, укрывшись с головой одеялом, можно безмятежно растянуться и спокойно глядеть на расчерченное дождем в косую полоску окно, слушать тихую и печальную мелодию жести, стекла и воды.
Уныние - недолгий попутчик. И она может однажды утром проснуться беспричинно счастливой. Все, как вчера, только со знаком плюс, и солнечный зайчик, пробравшийся через щелочку штор, уже не метит раздражающе настырно в глаза, а весело прыгает по потолку и по сердцу. Мир снова цветной.
Наверное, тогда, в начале 1972-го, игра в перспективную «звездочку» и всеобщую любимицу кончилась. Ольге захотелось ставить цели и добиваться их, захотелось побеждать.
Два внутрисоюзных соревнования должны были определить тех шестерых, что поедут на Олимпиаду, - апрельский чемпионат страны в Киеве и июльский Кубок СССР в Москве. В очереди же за билетом в Мюнхен стояло никак не меньше 10-12 гимнасток, и лишь двое - Турищева и Лазакович - могли не опасаться превратностей судьбы, так как заказали броню еще в прошлом году.
Еще раньше Ольга почувствовала, как Кныш притормозил, ослабил поводья, перестал вгрызаться в неизведанные пласты. Любовно, методично принялся обрабатывать ранее высеченные глыбы. Теперь в каждом упражнении он безжалостно изымал паузы, заполнял их всевозможными связками (иные из которых казались Оле труднее самых сложных элементов) и повсюду стремился рассыпать изюминки собственного изготовления, старался в каждом номере эффектно преподнести ударное движение, которое, как хотелось думать (и думалось), еще никто в мире не исполнял.
На бревне это было «сальто назад» и «бланш-перекат»; на брусьях - «петля» и серия оригинальных перелетов; в прыжках - «сгиб-разгиб»; в «вольных» - снова «бланш-перекат», исполняемый на ковре, плюс каскад «уникальных», почти из мужской гимнастики, элементов»... Это цитата из «Советского спорта».
Как ни странно, больше всего неприятностей доставляли «вольные». «Полет шмеля» на музыку Римского-Корсакова, поставленный прекрасным, неистощимым на выдумки хореографом из Ленинграда Аидой Селезневой, болельщикам сразу пришелся по душе. Едва первые такты знакомой мелодии взлетали над помостом, зал взрывался аплодисментами и тут же взволнованно умолкал. Под многодецибельное жужжание громкоговорителей на ковер выпархивала быстроногая, резкая, угловато-порывистая девчоночка-шмель, металась от одного воображаемого цветка к другому, баловалась, кокетничала, беспокоилась, играла, радовалась солнечному дню и своему свободному полету. Так понимала Ольга настроение «вольных», и вроде бы постановщик и тренер остались довольны.
А сама Ольга говорила, что «все там - от стартового до до финишного си - про меня и для меня».
К сожалению, арбитры непоколебимо принялись отстаивать несколько иную точку зрения. «Да, - говорили холодно служители гимнастической Фемиды, - в композиции прекрасно схвачено настроение, гимнастка артистична, если хотите, даже блистательна. Но, простите, «вольные» упражнения - это непременно изящество, пластика, грация. Оленька Корбут слишком мала, она, простите, - коротконожка, короткоручка, ей, что называется, не дано. Так что не обессудьте, мы будем безжалостно резать баллы, и пусть трибуны негодуют и беснуются».
Пробить стену этого устоявшегося мнения не удавалось очень долго. До самого Мюнхена. Напрасно было спорить с судьями после окончания соревнований, без толку ругаться с разного рода жюри и апелляционными комиссиями - ответ следовал один и тот же: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда»! 9,5-9,6 - тогдашняя норма Ольги Корбут.
В Киеве на чемпионате страны она впервые за три года нигде не споткнулась, ни разу не упала. Выступала себе в удовольствие, об отборе на Олимпиаду и ответственности вспоминала лишь поздно вечером в номере гостиницы. В итоге выиграла бронзовую медали в многоборье и за все время единственный раз испытала огорчение, когда бригада рефери поставила под негодующие крики болельщиков 9,55 за «вольные».
Однако и этот шрамик в душе скоро зарубцевался. Стоило только подойти Ларисе Семеновне Латыниной, ласково обнять Олю и сказать: «Глупенькая, нашла из-за чего огорчаться. Ведь теперь мы с тобой непременно поедем в Мюнхен. Ты доказала, ты убедила...»
Но на всякий случай - для полной гарантии - Ольге пришлось спустя три месяца выиграть Кубок СССР. Тогда же тренеры назвали пять участниц, которые будут представлять женскую сборную страны по спортивной гимнастике на Олимпийских играх - Турищева, Лазакович, Бурда, Корбут и Саади.
Примерно за месяц до Игр сборная в полном составе перебазировалась в Минск. Дворец спорта в столице Белоруссии был своеобразным талисманом сильнейших гимнастов страны, именно тут проходили последние тренировки перед большинством крупнейших соревнований. Суеверные страхи здесь ни при чем, но добрая примета никому еще не помешала перед дальней и трудной дорогой.
В конце июля, после изнурительных тренировок, доводок и корректировок состоялась генеральная репетиция по полной программе в присутствии огромного числа болельщиков. Все, как на настоящих больших соревнованиях, с той лишь разницей, что оценки арбитров не обнародовались, а инкогнито попадали в блокноты тренеров сборной. Они уж потом между собой судили-рядили - кто есть кто. Так, шестое вакантное место отдали Антонине Кошель. Ольга очень обрадовалась: во-первых, Тоня ей была ближе всех из девочек, во-вторых, она стала третьим представителем Белоруссии в сборной.
Тогда же, в горячке последних тренировок, произошел случай, а точнее ЧП, а еще точнее - скандал, имевший самые неожиданные последствия.
Из воспоминаний Ольги:
- Обедаем мы с Кнышем в ресторане гостиницы «Юбилейная», вяло боремся с антрекотом и в самом невоинственном расположении духа, какое бывает у людей в коротких промежутках отдыха между напряженной работой, обсуждаем вопросы, отстоящие от гиммнастики на миллионы парсек. Такой у нас уговор. И вдруг «Спидола», стоящая на соседнем столике, вздыхает своими электрическими легкими и наполняя окружающее пространство незнакомой мелодией: «Та-да-рам, там-там, та-да-рам, там-там...» Ток высокого напряжения пробегает от Рена ко мне и обратно, я поднимаю глаза, вижу его необычайно взволнованное лицо, и мы одновременно вскрикиваем: «Эврика!» Не знаю, что подтолкнуло Архимеда в известный момент, возможно, он также услышал звуки отдаленной мандолины, но мы - и это не подретушированная правда - делаем открытие: вот она, долгожданная, неуловимая музыка для олимпийских «вольных». Долой «шмеля», да здравствует >«та-да-рам, там-там!» Я и сейчас себя иногда спрашиваю: почему? Почему, имея откатанную, отрепетированную программу, которая к тому же нравилась нам самим, мы в одночасье решили отвергнуть ее, переиначить? Почему решились на этот безумный по всем меркам шаг, когда до главного в жизни старта оставалось две недели и вероятность провала была весьма велика? Не прихоть ли это, не каприз ли, не блажь? Что я могу сказать? Сослаться на наше неугомонное, неистовое желание искать, экспериментировать? Но есть же разумные границы риска, а здесь мы как будто явно перегнули палку, переступили черту серьезных аргументов. Но что же я могу сказать, если именно так все и было, - годы ничего не убавили и не прибавили к нашим доводам.
В «Озорнице» - это она, приятельница мистера Случая, выпорхнула в ресторанном зале гостиницы «Юбилейная» - многое осталось от «Полета шмеля». Те же озорство, лукавство, детское неосознанное кокетство, игра, веселье, стремительность и радость. Те же - только в квадрате, в кубе, в четвертой степени. Движения остались прежними, но новая музыка вдохнула в них новый смысл, иное содержание, другой характер. Так мегафон, поднесенный к губам, превращает шепот в ревущий ураган звуков.
Бой был выдержан, «Озорница» обрела право гражданства, благо через недели полторы самый придирчивый взгляд не мог обнаружить в ней ни одной шероховатости.
ЗОЛОТО МЮНХЕНА
Олимпийские игры в Мюнхене. Прекрасный сон, парение в нереальности, сказочная страна сбывающихся желаний...
Еще в Москве в самый канун отъезда, когда было множество встреч, напутствий, пожеланий,- порой веселых и суетливых, порой торжественных и утомительных, но всегда искренних,- все девушки с необыкновенной остротой ощутили свой долг и свою ответственность. Тогда поселились в Ольге негромкое, неистребимое волнение, какой-то сердечный трепет с налетом тревоги и ожидания. Они усиливались, росли по мере того, как падали день за днем листки отрывного календаря, который Оля Корбут возила повсюду вместе с гимнастической амуницией и школьными учебниками. Она ходила по городу, разговаривала с девочками, тренировалась, а сознание отказывалось фиксировать происходящее, события ударялись о его металлическую оболочку и отскакивали прочь, не оставляя следа. И только тема гимнастики, Олимпиады легко вспарывала болезненно-острым плугом сознание, оставляя там широкие борозды.
Кныш, испробовавший тысячу и один способ оживить ученицу, попал в точку. «Да ты со своими переживаниями проиграешь любой участнице, которая только вчера научилась забираться на бревно», - сказал он однажды. Ольга вскинула брови - шутит? Нет, серьезен. «Может, не поедем?» - продолжал он, не отводя взгляда.
Не поедем? Ольгу прорвало, такого наговорила - в другой раз не сносить бы головы: и про его деспотизм, и про мозоли на руках, и про слезы в подушку, и про интриги судей, и бог знает еще про что безо всякой привязки к существу разговора. Кныш выслушал не перебивая и сказал: «Вот так-то лучше...» И вправду стало лучше, легче, свободней. И она вновь смогла слушать и слышать, смотреть и видеть.
Кныш отправлялся в Мюнхен отдельно с тургруппой и поэтому, находясь рядом, спешил перегрузить в Ольгу свои мысли, наблюдения, опыт. Кроме знакомой тетрадки с подробнейшим планом тренировок она получила такие наставления: «Работай думая, осознанно, ни в коем случае, слышишь, ни в коем случае не механически. Что-то не станет получаться - не пугайся не паникуй, остановись, поразмысли, отыщи причину! Потом попробуй еще раз. Снова не заладится, оставь, перейди к другому снаряду. И думай, думай, Корбут. На разминках и прикидке не скромничай, включись на полную мощь: судьи - ребята ушлые, они заранее присматривают, кто чего стоит, понравься им, обязательно понравься. Еще улыбка - у тебя чудесная улыбка, Оленька, - не забудь про нее. И знай - ты отличная гимнастка, ты самая лучшая гимнастка, которую я знаю».
Ни слова о шансах, о медалях, о местах. Единственное, традиционное: покажи, Ольга, что можешь!
Сборная прилетела в Мюнхен примерно за неделю до старта, и сразу с головой окунулась в гремящий, улюлюкающий, аплодирующий водоворот Олимпиады. Тренеры отражали набеги репортеров, атакующих наперевес с микрофонами. Но перекрыть каналы радиотрансляционной линии было выше их сил, и Ольга не раз, вслушиваясь в иноязычную вязь звуков, выхватывала, вычленяла из потока слов свою фамилию. После прикидки, где она действовала в точности с пожеланиями Кныша, радиодикторы, кажется, стали проявлять к Корбут еще больший интерес.
Бывают соревнования, когда с самой первой минуты - с прихода в зал, с начального касания снаряда, с чьего-то доброго взгляда - все идет свободно, точно, удачно. В Мюнхене будто целиком наша сборная попала в эту счастливую полосу. Девушки без помарок, солидно, с чувством собственного достоинства и превосходства откатали обязательную и произвольную программы и достаточно легко и обыденно обыграли отличную команду ГДР.
Едва Ольга вышла на помост, страхи и тревоги, сидевшие в глубине души, мгновенно улетучились, и она прыгала, танцевала, кувыркалась в упоении, с восторгом ощущая флюиды зрительских симпатий. Зал реагировал на происходящее фантастически. Каждый удачно исполненный кем-либо элемент вызывал на трибунах небольшое землетрясение - овации, свист, крики, аплодисменты. Корбут как будто приметили, выделили из общей массы, и к концу первого дня она услышала, как непроизвольно рождается в недрах трибун скандирующее, режущее иностранным акцентом эхо: «Ол-га! Ол-га!»
Что за удивительные вещи происходили тогда в ревущем, раскалывающемся надвое мюнхенском «Шпортхалле»? Два дня пролетели как мгновение, и вот девушек уже поздравляют со званием олимпийских чемпионок. И Ольга Корбут - олимпийская чемпионка. Зал негодует на арбитров, посмевших поставить смехотворные, по его мнению, 9,6 после великолепного «сальто на бревне». Кончается произвольная программа, и Корбут уносят из зала на руках через бушующий океан болельщиков, плещущий охрипшим прибоем единственного слова: «Ол-га! Ол-га!»
Из воспоминаний Ольги:
- К концу второго дня в голове совершеннейший беспорядок, я уже не в состоянии уследить, какое событие за каким следует. Одна лишь неуправляемая радость, восторг, вдохновение. Засыпаю при пульсе 140 ударов в минуту и перед тем, как сомкнуть веки, успеваю вспомнить: в многоборье иду на третьем месте после Турищевой и Янц, проигрывая им 0,15 балла. Хорошо это или плохо, много или мало - разве время обдумывать такие неинтересные, скучные вещи? Ведь меня любит зал, и я - олимпийская чемпионка! Как, наверное, радуются Кныш в своей тургостинице и родители в Гродно. Это последний угасающий всполох суматошного вечера.
А завтра - как продолжение вчера. Ни страха, ни сомнений, ни тревог по поводу невероятной перспективы - выиграть Олимпиаду в многоборье. Лишь желание: поскорее в зал впорхнуть на помост, услышать, ощутить его обжигающую силу и восхищение, окунуться в клокочущую стихию взглядов - людей, телекамер, прожекторов.
9,8 - кто там утверждал, будто Ольге Корбут в «вольных» не дано»?
Теперь - прыжок. Она разбегается, летит, врастает в маты. Трибуны неистовствуют: «Ол-га!» Это пока разминка, но сейчас она повторит!.. Смотрите, любуйтесь и, пожалуйста, восхищайтесь, как девочка с косичками вычерчивает в пространстве свой «сгиб-разгиб». 9,65 - Ольга вышла в лидеры, обогнала Турищеву и Янц. Следующие - брусья.
Из воспоминаний Ольги:
- Сейчас я выйду к брусьям и... И магнитофонная пленка памяти рвется в клочья. Неуклюжая, растерянная, не помнящая себя сижу в середине огромного здания, заполненного молчаливыми, неподвижными людьми, Кто они, почему смотрят на меня, чего ждут? Сгорбившись, я поднимаюсь с матов. Убежать? Стыд. Страх. Усталость. Убежать? На край света, к черту на кулички. Туда, где зимуют раки и куда Макар телят гонял. Чтоб никого не знать и не видеть. Чтоб выплакаться вволю и забыть обо всем. Навсегда. Убежать?!! Плечо задевает за нижнюю жердь, она бьется током: ах, да Олимпиада, я могла стать абсолютной чемпионкой и упала с брусьев. Вспрыгиваю машинально на снаряд, начинаю двигаться. Сознание отключено, работает только тело. Память вышколенных мышц, как говорил Кныш. Испускаюсь в зал, жизнь кончена...
Ольга плакала, репортеры, сбивая друг друга с ног, окружили ее своими бесстыдными объективами, немецкая гимнастка Эрика Цухольд и наша Астахова обнимали и утешали ее. Зал, оглохший и безголосый, вдруг сорвался в фальцет и устроил овацию, а на табло после тягостных минут ожидания высветился приговор - 7,5. Сама Ольга помнит лишь тишину, гнетущую, необъяснимую, и в ней плывут, возникают и исчезают чужие лица без мимики, лица-маски. И еще раздражающий, заставляющий щуриться свет юпитеров.
А потом она выступила на бревне и получила 9,9.
Следующим утром - разговор с Кнышем, из которого Ольга узнала, что ей дали «заслуженного мастера спорта».
На тренировке кружилась голова, колени тряслись и слабость, слабость во всем теле. Но стиснула зубы, заставила себя собраться. И странное дело - стало получаться.
И вот вечер, четыре решающих выхода, четыре заключительных аккорда Олимпиады. Стрекочут кинокамеры, салютуют блицы фоторепортеров, неистовствуют болельщики. Ольга не высчитывает шансов, но помнит: в зачет пошли оценкиобязательной и произвольной программ, поделенные на два, а злосчастное многоборье к соревнованиям на отдельных снарядах не имеет никакого отношения.
Из воспоминаний Ольги:
- Прыжка, по правде, я совсем не помню. Вполне допускаю, что в финал я вообще не попала. А может быть, и попала, и прыгала - не помню. Мысли, опережая события, скачут хаотично вокруг брусьев. Глаза на них поднять боюсь, гоню прочь навязчивые образы. А они роятся, порхают, жалят меня эти связки, переходы, прыжки, полеты. «Корбут» - не слышу, догадываюсь по реакции Астаховой, что динамик произнес мою фамилию. Кровь стучит в висках: бум, бум.
Выхожу на помост, опускаю руки в баночку с магнезией, облизываю кончики пальцев. Ах, не так облизала правую руку, плохая примета. Иду к снаряду, перелизываю наново пальцы и натужно, почти в панике вспоминаю, с чего начинается комбинация. Забыла напрочь! Да, с виса углом! Это после него я позавчера уткнулась в маты. Надо повыше поднять ноги, не дай бог снова повторюсь. Встряхиваю косичками, растягиваю по науке одеревеневшие мускулы губ и, закрыв глаза, прыгаю в неизвестность.
...Сознание вспыхивает в ту самую десятимиллионную долю секунды, когда стопы касаются шершавой поролоновой поверхности. Ввинчиваюсь в мат, кажется, по колени, вытягиваюсь в струночку, делаю изящные пасы руками и думаю злорадно, восторженно, ехидно: доказала, доказала, доказала. В висках - бум, бум.
Оценка Ольги Корбут - 9,85. Ее тискают, целуют, поздравляют - и она уже считает себя чемпионкой. И лишь спустя десять минут, когда вызывают на на граждение, она заметила, что верхняя ступень пьедестала занята Карин Янц, а у Ольги - серебряная медаль.
Теперь - бревно.
На бревне у Ольги второй предварительный результат. Первая - Тамара Лазакович, разница в оценках всего-то 0,05.
Из воспоминаний Ольги:
- Заскакиваю на бревно и чувствую: пусть накренится земная ось - я не оступлюсь, не упаду. Время разбивается на секунды и каждая - размером в век. Пространство раскладывается на атомы. Наверное, это они врезаются в висок: бум, бум. Я точна, строга, непоколебима, как метроном. Раз-два - чисто, три-четыре - здорово, пять- шесть - отлично. Приземляюсь - примагничиваюсь, бегу - не касаюсь помоста. 9,9 - золотая медаль моя! Рядом на скамейке плачет Тамара Лазакович. Зачем же я так? Может быть, можно как-нибудь разыграть заново? Но объясняться, оправдываться некогда. В беззвучную какофонию звуков, содрогающих спорткомплекс, врывается «та-да-рам-там-там» - «Озорница». Клубок нервов развязывается, плотина эмоций рушится - я танцую в экстазе, ненавидя и любя этот кусочек собственной жизни. Танцую на последнем вздохе. Силы оставляют меня в углу ковра, когда остается исполнить большую диагональ акробатики. Последним усилием я отрываю прилипающие подошвы от пола и мчусь в противоположную сторону. Замираю, кланяюсь, шлю воздушные поцелуи, спускаюсь с помоста.
Это был заключительный олимпийский выход Ольги Корбут. Золотой выход.
Зал скандирует: «Ол-га! Ол-га!»
Ольга Корбут - на первой ступеньке пьедестала почета.
ПЕСНЯ
Потом всех гимнастических героинь - Турищеву, Янц, Лазакович, Корбут - журналисты бесцеремонно взяли в оцепление и под руки привели в конференц-зал на пресс-конференцию. Перекрестный допрос продолжался до глубокого вечера, до тех пор, пока руководитель делегации решительной походкой не вышел на сцену, поднял крест-накрест руки и сказал: «Все, баста, девочкам пора спать».
Но едва гимнастки успели вскочить в автобус, закрыть двери, как людское море разлилось вокруг. Напрасно шофер сигналил и посылал по-немецки проклятия на головы болельщиков. Лишь энергичные действия полиции помогли пробить в кольце блокады узенький коридор, через который удалось улизнуть.
Минут пять ехали молча в сплошном коридоре рекламы, переживали перипетии побега, отключившись, отгородившись от гимнастики. И вдруг с заднего сиденья раздался чей-то тихий, неуверенный, чуть смущенный голос: «Поле, русское поле...» Растерялись: такой неуместной, несуразной показалась на островке покоя эта рождающаяся песня. Но уже в следующее мгновение десять голосов, недовариваясь, грянули дружным хором знакомую мелодию. Потом пели «Голубой вагон бежит, качается...», «Во поле березонька стояла», «А смуглянка-молдаванка отвечала парню так...», какие-то другие мелодичные русские песни.
В номере у Ольги - сплошная стена цветов, писем и телеграмм. Она схватила первый попавшийся листок, пробежала глазами: «Не огорчайтесь, Ольга, Вы все равно сильнее всех!» Другой: «Падение - нелепая случайность, мы гордимся тобой». Третий: «Забудь о неудаче, думай о завтрашнем дне».
Почта опоздала, время утешений прошло, настало время поздравлений.
ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ
Ольгу и других гимнасток пригласили на показательные выступления в Японию.
На любые показательные Ольга всегда потом ездила с удовольствием: ни судей, ни оценок, ни волнений, ни пресловутого груза ответственности - сплошное удовольствие! К тому же, в отличие от соревнований, где все «завинчено» до предела (едва приехал - надо выступать; выступил - пора уезжать), здесь порой можно выкроить массу свободного времени: побродить по городу, сходить в кино, забежать в магазин, покататься на «колесе обозрения», тайком умять в столовой второй бифштекс. Словом, почувствовать себя свободной от неизбежных соревновательных ограничений. Ведь у спортсменов, как и у артистов, обидно иногда получается. Колесит по городам и весям без передышки, а остановит знакомый, спросит: «Как там поживает мой родной Ереван, или Гомель, или Кострома?» - и он ему ничего вразумительного ответить не в состоянии. Потому что знает только этажность гостиницы, в которой проживали, и вместимость местного концертного зала или Дворца спорта.
Далекая, удивительная, экзотическая, таинственная Япония оказалась именно такой, какой Ольга ее себе и представляла, - удивительной, экзотической, таинственной. Если б не утомительные, тягостные десятичасовые перелеты и не казус, происшедший с ней в день приезда, можно было бы сказать, что это - замечательное турне. А случилось вот что. В Нагое Ольга Корбут с Тамарой Лазакович скоренько бросили вещи в номер и, никому ничего не сказав, выскочили поглядеть на вечерний город: на секундочку, одним глазком, около парадного входа. Потом решили заглянуть за один угол, потом за другой... и заблудились. Лазакович показывает в одну сторону, Ольга - в другую. Проверили обе версии и окончательно утратили ориентиры. Куда ни глянь - повсюду магазины и магазинчики, будто с конвейера, да игрушечные дома-кубики, расцвеченные неоновыми огнями. Плюс близнецы-улицы с равнодушно мчащимися белыми (почему-то 90 процентов японских автомобилей выкрашены в белый цвет) «тойотами». Впору зарыдать от отчаяния.
В этой трагической ситуации Ольга выудила из памяти английское «эскьюз ми», достала из кармана гостиничный ключ (какое счастье, он оказался там!) и решительно подошла к стоящему у обочины полисмену. Так, мол, и так, заблудились мы, не будете ли любезны помочь. И показывает ему ключи от гостиницы. Довел доблестный страж порядка девушек до отеля - он оказался в трех шагах от того места, где они заблудились. А Ольга после этого случая стала учить английский.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ОЛЬГА!
Одному корреспонденту центральной газеты Кныш сказал, что Ольга использует свои возможности на 50 процентов. И на практике, без сомнения, руководствовался именно этим тезисом, начав усложнять даже самое сложное. Он не желал останавливаться, заниматься шлифовкой и подгонкой. Его неиссякающая фантазия, удивительное, парадоксальное понимание гимнастики, «нюх» на новый элемент не могли не вызывать восхищения.
Пришла весна 1973 года, Кныш уже думал о соревнованиях в Варне в будущем, 74-м (там предполагалось провести чемпионат мира), и о Монреале-76. Но именно в 1973-м Лариса Семеновна Латынина сказала: «Вас приглашают в турне по Соединенным Штатам Америки. Вылетаем завтра. Непременно требуют, чтобы приехала Корбут...»
В различных турне по Соединенным Штатам Америки Ольге пришлось выступать пять или шесть раз. Многое сегодня стерлось из памяти: события, перетасовавшись, выстроились в произвольной последовательности. Она не может точно сказать, что случилось во второй поездке, что в пятой. Особняком стоит лишь то первое путешествие 1973 года.
Говорят, парфюмерная фирма «Побурже» практически ничем не рисковала, организовывая двадцатидневное турне женской сборной СССР. Популярность гимнастики в США после Олимпиады в Мюнхене росла, подобно лавине, так что даже бейсбол и баскетбол, традиционные виды спорта, вынуждены были почтительно отступить, освобождая место на пьедестале. Секции, клубы, группы создавались везде. Гимнастика вошла в моду, а значит, стала сферой, куда выгодно помещать деньги. Это, как известно, параграф номер один из свода правил американского образа жизни. Неудивительно, что на всех перекрестках Америки разом врубились тысячи громкоговорителей, возвестивших, что гимнастика - «это здоровье, престиж, успех» и так далее по обычным рекламным образчикам.
Как утверждают, в центре тайфуна развевался на ветру огромный мыльный пузырь-миф по имени Ольга Корбут. Образ плачущей мюнхенской неудачницы дорисовали до уровня легенды, сказки по голливудским стереотипам. Пересказывалась она вкратце примерно так. Маленькая, добрая, беззащитная и никому не известная девочка приезжает на свой первый в жизни королевский бал. Случается чудо - принц замечает ее, влюбляется и делает предложение! Но в тот самый благословенный момент, когда растроганный король-отец готов соединить руки и сердца детей, произнеся напутственное родительское слово, злые силы разлучили влюбленных. В страшном темном лесу, наполненном саблезубыми тиграми, горько плачет маленькая и вновь беззащитная девчушка, едва не ставшая принцессой. Плачет, высвеченная юпитерами американской телекомпании Эн-би-си. Она потеряла все. Но... приобрела больше, чем все. Ее, маленькую, беззащитную, плачущую, узнал и полюбил мир, поспешивший на выручку с ватным тампоном, смоченным в нашатыре, и носовым платком, дабы утереть дитяти слезы, утешить, восстановить справедливость. Короче, сюжет Ольгиного мюнхенского выступления пропели на мотив Золушки.
Но, оказавшись в нью-йоркском аэропорту в марте 1973 года, Ольга об этом еще не знала и не думала. У трапа волновалось людское море с транспарантами: «Добро пожаловать, Ольга!», «Корбут и советская сборная впервые в США!», «Мы приветствуем олимпийских чемпионок во главе с блестящей Ольгой!» и т. д. Ольга признавалась, что ей было ужасно неудобно перед Людмилой Турищевой - абсолютная олимпийская-то чемпионка она! Но червячок затаенной радости копошился, копошился-таки в душе: это же надо - «Добро пожаловать, Ольга!» Приятно!
Планировалось в течение восемнадцати дней выступить в шести городах США с двухчасовыми показательными программами. С одной стороны, турне получалось облегченно-разгрузочным, особенно если вспомнить поездки, где на день приходилось по два выступления. А с другой... Чем занять публику в течение двух часов? Ведь их было всего шестеро (Людмила Турищева, Тамара Лазакович, Любовь Богданова, Антонина Кошель, Русудан Сихарулидзе и Ольга), а каждое упражнение длится не более полутора минут. В конце концов они решили действовать, как на соревнованиях, и включить для показа даже разминку.
Спортивно-концертные комплексы на пятнадцать-семнадцать тысячь не могли вместить всех желающих. С момента появления гимнасток на помосте и до самого ухода трибуны аплодировали, топали, свистели, кричали.
А удачное исполнение соскока вызывало едва ли не ликование. Таких восторженных, шумных, сопереживающих болельщиков встречать очень приятно. Приятны были и отзывы-панегирики на первых полосах местных газет, приятно было смотреть на собственные сияющие лица в американских телевизорах, давать бесконечные интервью и автографы.
Но никто не замечал, как тяжело было Ольге. А она сама буквально приходила в ярость от одной лишь мысли, что кто-то станет ее жалеть, - и прятала, прятала, прятала свою неуверенность от чужих глаз.
После очередного выступления группа прилетела в Вашингтон. Вечер, как обычно, ушел на гостинничные хлопоты, а утром... Утром их разбудили ни свет ни заря, собрали в фойе и весьма торжественно объявили: в 11.00 делегацию советских гимнасток примет президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон. Ольгу это не обрадовало: мало того, что поспать не дали, так еще утренняя тренировка срывается.
Без пятнадцати одиннадцать комфортабельный двухэтажный дом-автобус с русскими гимнастками увяз было в автомобильной пробке недалеко от Белого дома, но потом прыгнул влево, вправо, нашел лазейку и ровно без пяти одиннадцать стоял у ворот главного здания США.
Минут двадцать девушек, в сопровождении несметного числа репортеров, водили по Белому дому.
И вдруг откуда-то сбоку, резко и легко разорвав надвое кольцо журналистского окружения, появился высокий, осанистый, величавый человек. Президент! Никсон надвинулся горой, глянул на Ольгу откуда-то со своего высока вниз и иронично, но совсем необидно сказал:
- У-у-у, какая же ты маленькая!
А Оля задрала голову и, сохраняя никсоновские интонации, тут же в ответ указала, как ей казалось, на весьма приличном английском:
- У-у-у, какой же ты большой!..
Американская сторона, включая главу государства, дружно прыснула. Как объяснила Ольге потом переводчица, набор звуков, произнесенных ею в тот намят ный момент, дословно переводился так: «У-у-у» сам ты большой мальчик!..»
Потом Никсон пожал всем руки, сказал персонально в адрес каждого добрые слова (проявив при этом удивительную осведомленность) и сделал маленькие подарки: женщинам - золотые броши с гербом Белого дома, мужчинам - такие же запонки.
Прощальная речь президента была короткой и разной (вероятно, так полагалось по сценарию встречи):
- Вы - гимнасты. Вы прыгаете, вертитесь, летите вниз головой над снарядом. И всегда приземляетесь на ноги. Мне думается, нам, политикам, есть чему у вас поучиться. Особенно вот такому умению - всегда, в любой экстремальной ситуации, твердо становиться на ноги.
Вот и все. Мысленно задним числом Ольга извинилась перед Никсоном за свое утреннее недовольство.
ТРИУМФ В ЧИКАГО
Когда настал последний, восемнадцатый день того первого американского турне, группу ошарашили новостью - летим не в Москву, а... на очередное выступление в Чикаго. Ольга сначала расстроилась, а потом...
Из воспоминаний Ольги:
- Мы провели прелюбопытные, преприятные дни. Даже по меркам той американской влюбленности в Чикаго нас принимали с каким-то невероятным интересом и вниманием.
Словно не «Боинг» приземлился на местном аэродроме, а по меньшей мере звездолет инопланетян. В день нашего приезда первые полосы газет кричали гигантскими заголовками, перевирая на все лады тему «российских пришельцев». Словом, едва спустившись с трапа самолета и выслушав приветственные слова, мы тотчас забыли свои недавние страхи по поводу того, что летим в столицу американской преступности, город гангстеров, антисоветчиков, наркоманов и игроков в рулетку.
Двухчасовое выступление, как и все предыдущие, прошло «на бис». А вечером на торжественном приеме в честь русских спортсменов Ричард Дик Дейли, мэр Чикаго, подводя черту под пышными речами, вдруг совершенно серьезно произнес:
- Отныне и до скончания века 26 марта объявляется в Чикаго Днем Ольги Корбут, а сама она провозглашался почетным гражданином города!
Вот так, ни больше и ни меньше!
Сияющий мэр вручил Оле памятную медаль, расцеловал в точности по русскому обычаю, и они минут двадцать стояли обнявшись, позируя разнокалиберным фотообъективам и кинокамерам. Ольга раздала за вечер тысячи три автографов.
Каждый год потом, до начала восьмидесятых, Ольге в Гродно, а затем в Минск аккуратно в феврале приходили открытки с приглашением посетить Чикаго. «Уважаемая мисс Корбут! Сердечно просим принять участие...» А потом открытки перестали приходить: то ли забыли, то ли обиделись за молчание...
Чикаго запомнился еще двумя событиями, происшедшими позднее. Первое - веселое, второе - грустное. Однажды автобус с гимнастками притормозил на одной из тихих, отдаленных от центра улиц. Девушкам хотелось вдали от людской толчеи побродить по городу, поговорить ни о чем, вспомнить дом, приобрести сувениры. Но и здесь их узнали, налетели любители автографов, окружили, забаррикадировали путь к отступлению. Целый час гимнастки расписывались на тетрадных листках, фотографиях, рекламных проспектах, журнальных вырезках, визитных карточках, а то и на обыкновенных клочках бумаги, пока - бочком, бочком - не сумели просочиться обратно в автобус. Дверь за Любой Богдановой защелкнулась, и все вздохнули с облегчением.
Автобус стал медленно выбираться на простор широченной пустой улицы. И тут девушки увидели мальчишку лет двенадцати, идущего на руках вслед за ними. Автобус набирал скорость, а он упрямо продвигался вдоль обочины вслед. Двадцать метров, пятьдесят, сто! «Остановите, остановите!» - закричали все хором. Водитель отважно дал «задний». Девушки, повыпрыгивали на тротуар, окружили мальчишку, поставили на ноги: «В чем дело?»
Дело было в автографе, который он не сумел получить. Конечно, ему вручили и автографы, и цветы, и значки, оказавшиеся под рукой. Ольга потом смеялась, что, наверное, у нее такого лица, как у этого мальчишки, не было даже после Мюнхена.
Второй случай прямо противоположного свойства, из категории «ложка дегтя на бочку меда». В Чикаго анонимный доброжелатель (а может, подлец) позвонил и полицию и сообщил: «На Корбут готовится покушение». Если это юмор, то черный. «Никогда не думала, - говорила Ольга, - что так плохо жить на свете, когда ждешь выстрела ниоткуда, утром, в полдень или вечером, из окна на двенадцатом (или третьем) этаже дома напротив или из канализационного люка, вон того, незакрытого, справа. Как-то сразу пропадает охота играть в любимицу публики, в маленькую героиню, в осчастливленную Золушку. Тянет запереться в гостиничном номере на два оборота, сидеть там не шелохнувшись, болезненно прислушиваясь к шагам в коридоре, дыханию улицы за гардинами, гулким вздохам водопроводного крана в ванной. Так трудно оторваться от кресла и вместе со всеми куда-то двигаться. И что-то говорить и делать. И идти не оглядываясь. И делать вид, что все хорошо. И ждать, слыша, как звенит внутри нерв».
«Пустое! - говорили американцы, хлопая попеременно то Ольгу, то руководителей делегации по плечу. - Обыкновенная провокация, чтобы испортить вам настроение. Ничего не случится». При этом на встрече с учащимися колледжа вокруг Ольги ненавязчиво расположилась группа джентльменов в штатском. Придирчиво оглядев заслон, она отметила: ребята - профессионалы, откуда бы ни грохнуло в этом помещении, до нее пуле не добраться.
Страхи действительно оказались напрасными. Никто не стрелял, не покушался, не преследовал. Только тихий, почти неуловимый зуммер остался после того внутри.
МОНРЕАЛЬ
К моменту, когда над олимпийским помостом в Монреале зазвучал фрагмент из первого концерта Чайковского, приглашая гимнасток на построение, у Ольги все было сделано «на 100 процентов». Обновлены, усложнены и отрепетированы все старые программы. Варненский прыжок «360 плюс 360» отточен до блеска.
На бревне интереснейшая связка: «фляк» и тут же в темпе «бланш-перекат». И оригинальный соскок - сальто вперед с поворотом на 540 градусов. И так далее, и так далее. Да, все могло быть «на сто процентов». Могло, но не стало.
За несколько дней до старта в очередной раз захандрил голеностоп - старая травма. Травмы всегда случаются некстати, такова уж их природа. Но чтобы так некстати! Ольга щадила себя, практически не выполняла соскоков на последнем этапе подготовки. Врачи колдовали над ногой, кажется, подлатали, заштопали.
Увы, к середине обязательной программы Оля уже не просто хромала - ковыляла. У беды цепная реакция. Личный зачет Олимпиады для нее закончился: пришлось выбросить двойное сальто на «произвольных», изъять «сальто Корбут» из комбинации на брусьях, кое-что урезать в остальных программах. На одной ноге такие элементы не исполнишь. Посмотрели ей в глаза, спросили: «Сможешь выступать?» - «Смогу».
Речь шла о команде. Для Ольги подвести кого-то - трагедия. Себя - пожалуйста, сто раз. Ах, травма, травма...
В Монреале дело было не только в травме. На Ольгу накатило безразличие ко всему - удивительное, непонятное. Непробиваемое. Эмоциональный кризис. Откуда?
Физические кондиции - отличные. Техническая оснащенность - мюнхенская Корбут может позавидовать. Души нет. Полета. Видимо, нахлебалась гимнастики под завязку. Может, оттого и травма проявилась, выползла змеей, почувствовав слабинку.
Ольга понимала: если не сможет себя сломать, расшевелить, разволновать, зажечь - проиграет с треском. Ни зал не помог, ни аплодисменты - не ожила!
Из воспоминаний Ольги:
- Никогда не рассказываю о Монреале. Не потому что проиграла. Не помню, пустота в памяти. Куда ходили, с кем встречались, что видели, как проходила борьба в командном и личном первенстве - ни одного события не запечатлелось. Лишь мощная гранитная стена спокойного безразличия, которую я рублю, кромсаю, режу, сбив в кровь руки и сердце. И желание: чтобы поскорее кончилось это мучение, этот позор. И жгучий стыд: подвела тренеров, рассчитывавших на меня. И недоумение. Через четыре года я проиграла самой себе, будучи сильнее. И обида: у болельщиков новый кумир - Надя Команечи, к ее ногам низвергается мой Ниагарский водопад. Мне же - «доброжелательные» (по шкале) овации, сочувственные взгляды. Лучше бы свистели и топали, чем сочувствовали. Горько, горько... Образ Ольги-обиженной, Ольги-Золушки я играть не могла. Ольга-Мудрая и Холодная болельщикам не понравилась.
Небольшой презент, сувенир по завершении гимнастической карьеры - серебряная медаль на брусьях. И пульсирующая жилка радости у виска на прощание: никто до сих пор не исполняет «сальто Корбут» так размашисто, как она; никто не освоил за два года варненский прыжок; никто не делает на бревне «фляк» и «бланш-перекат» в темпе; никто не...
МЫ ВМЕСТЕ
ВТОРАЯ ВСТРЕЧА И ПЕРВЫЙ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
Удивительное дело - господин Случай. Вся моя жизнь состоит из цепочки случайных событий и встреч, которые ее в конечном итоге меняют кардинально. После знакомства с Ольгой Корбут прошло около года. Я тогда в самолете, когда мы подлетали к Нью-Йорку, записал ей в книжку свой телефон и адрес. И после этого я о ней ничего не слышал.
В моей личной жизни назрел кризис: у Ольги, моей первой жены, появился другой мужчина. Возможно, моя гастрольная жизнь поспособствовала этому. Но я, как обычно в таких случаях, узнал об этом последним. Более того, я достал путевки на юг в санаторий «Беларусь», куда они поехали вместе.
Меня потрясло то, что я узнал. Я запил на три дня. И где-то на четвертый день моих возлияний с друзьями раздается звонок - Ольга Корбут. Она приехала вместе со сборной СССР по гимнастике, они, как всегда, остановились в гостинице «Юбилейная». Тренировка была назначена на вечер, и она скучала одна. Оказывается, у Ольги накануне должна была состояться свадьба, она с нее просто сбежала. Неудачливым женихом был спортсмен из городка под Гродно. Он настаивал, чтобы Ольга взяла его фамилию, но она, как всегда, сделала все по-своему.
В общем, поговорили мы с Ольгой по телефону, и вдруг она спрашивает:
- Можно я к вам приеду?
- Пожалуйста, - говорю.
А в этот момент у меня дома были мои друзья Волк и Яшкин. Через некоторое время - звонок в дверь. Я открываю. Стоит Ольга в элегантном розовом костюмчике. Я как-то замешкался, смотрю на нее во все глаза. Ей это надоело:
- Вы меня, - говорит, - может быть, впустите?
Вот так она и вошла в мою жизнь.
Дальше был серьезный разговор с женой. Я оставил ей все - забрал только личные вещи. Корбут тогда сказала: «Ничего не бери, все сами наживем».
Мы поехали на родину отца Ольги, в Полесье, Калинковичский район, в деревню Дубняки.
Это было потрясающе. Я никогда не жил в деревне, я был городской мальчик. Туда мы еле добрались: Олина «Волга», можно сказать, проползла брюхом по песку через «три леса», который без труда мог преодолеть только трактор.
Я помню, мы спали на сеновале, и один раз под утро я проснулся и обнаружил, что сплю стоя. За ночь я съехал со стога, как с горки.
Мы ходили на речку Тремлю, ловили раков. Ходили за грибами в лес. В лесу я нашел боровик размером со шляпу, причем он был абсолютно целый, не червивый, а однажды встретился там нос к носу с огромным лосем.
А как нас кормили! Представьте себе: вяленое мяско, холодная сметанка из подвала. А парное молоко из-под коровки, а первачок, а малосольные огурчики с медом! Боже, как это было здорово!
Вспоминается случай, когда мы с Олиным дядей Иваном отправились смотреть, как гонят самогонку. С раннего утра, часиков в шесть, мы сели на телегу и поехали по проселочной дороге в сторону леса. Километра через два показалась опушка леса, посреди которой стояла телега, на ней - металлическая бочка литров на двести. Неподалеку трактор, а рядом, под деревьями, валялись мужики. Так весело у них начинался рабочий день.
Такие импровизированные «бистро» в Полесье были практически у каждой деревни.
На следующий день мальчишка - сын Ивана - самодельным самопалом разорвал себе кисть. Я схватил его в охапку, прыгнул в Ольгину «Волгу» и помчался в районную больницу. Мы успели.
НАША СВАДЬБА
После монреальской Олимпиады Ольга решила оставить гимнастику. Последней каплей оказались ее выступления в Сингапуре и Малайзии. Там была ужасная жара, и после выступления Ольга потеряла сознание, ее едва успели спасти, произошло полное обезвоживание организма.
Мы с Ольгой думали о том, когда нам сыграть свадьбу. Нам нужна была свободная неделя в жестком графике гастролей. Ольга решила поездить с «Песнярами». Ей это было интересно, поскольку Советского Союза она практически не видела, все ее выступления проходили за рубежом.
Ольга нам всячески помогала и даже готовила еду. Все любили ее драники. И не задумывались, что это драники от олимпийской чемпионки.
Естественность и непосредственность всегда были присущи характеру Ольги. После Нового года у нас выдалась свободная неделя, и мы решили сыграть свадьбу. Петр Миронович Машеров поручил второму секретарю ЦК заниматься нашей свадьбой. Надо сказать, что Петр Миронович был тем человеком, которому до всего было дело, в хорошем смысле этого слова. Для него Беларусь и все, что с ней связано, были не пустым словом. Он обожал Ольгу и «Песняров».
Свадьбу предложили сыграть или в резиденции Петра Мироновича в Дроздах, или в ресторане «Верас», где только что был открыт новый банкетный зал. Чтобы свадьба не была похожа на официальный прием я все себя чувствовали уютно, остановились на ресторане «Верас». Детали свадьбы, начиная с закуски и кончая цветом ковров в зале, обсуждались с нами. Корреспондентов пригласили только наших, хотя сотни из них хотели приехать из-за рубежа, но фотографии все равно попали в зарубежные газеты. Ольга была в своем знаменитом платье, которое она купила в Америке и которое у нее там вначале украли ради рекламы фирмы, а затем подкинули - вернули.
Дело было так. В Атланте она зашла в очень дорогой магазин, увидев на витрине свадебный наряд: фата из венецианских кружев, а платье - сшитые снежинки вперемежку с лепестками ромашки. Ольга была еще совсем ребенком и не собиралась выходить замуж. Два дня она решала - купить или нет. Пока Ольга считала свои денежки, некая американская фирма заплатила за свадебный наряд и на первых полосах замелькали Олины косички и две огромные коробки, которые ей преподносили улыбающиеся продавцы. Ольгу одолевали расспросами о ее избраннике.
А через неделю покупка исчезла.
Полиция штата кинулась на поиски пропажи. Шумиха поднялась невероятная. И, наконец, коробки нашлись. Ольге их вручили снова перед теле- и фотообъективами. Возможно, фирма, подарившая Оле платье, решила таким образом себя еще раз прорекламировать. Неплохой пиар.
Свадебный наряд по возвращении на родину был надолго заброшен на антресоли. Но 7 января 1979 года он пригодился.
Свадьба была бурной. Как всегда, украли невесту - я тогда понятия не имел, что существует такая традиция, и не на шуткур ругался, ведь Ольга уже сбежала с одной своей свадьбы.
Танцевальную программу у нас играла тогда еще молодая группа «Верасы». В общем, было весело. Ну а в конце свадьбы мы так устали, что сбежали к нашему другу Супоневу, который отвез нас к себе домой, оставил ключи и уехал. Такой была наша первая брачная ночь.
В тот же день, когда мы в Минске ехали в ЗАГС, ограбили квартиру Ольги в Гродно. Воры вынесли из Олиной комнаты все, что выносилось, подчистую. Унесли радиоаппаратуру, иконы, уникальное кольцо, которое затем ювелиры по фотографии оценили в 20 тысяч рублей. Забрали сотни сувениров, пластинок, десятки медалей, кубков. То, что она выиграла за многие годы и привозила из поездок. Для Ольги эти вещи были бесценны. Особенно жалела она о подарке Ричарда Никсона. Слава богу, «Золотой камертон» - знак ЮНЕСКО, не унесли: то ли пожалели, то ли побоялись.
Через года два-три воров нашли. Случайно. Состоялся суд. Вором оказался один из Ольгиных друзей. После него Оле выплачивали ежемесячную компенсацию - по двадцать-тридцать рублей - от тех, кто на лесоповале зарабатывает. Обиднее всего было то, что обокрали Ольгу ее же друзья, бывшие друзья. Гимнасты!
Те, кто в дом был вхож...
СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ И БОЛЬШИЕ НЕСЧАСТЬЯ
Оставив гимнастику, Ольга какое-то время нигде не работала. Решением Совета Министров СССР ей был определен пожизненный оклад в триста рублей. Она отдыхала, постепенно приходила в себя, моталась с «Песнярами» по гастролям. Узнала, что Советский Союз - действительно огромная страна. Как ни странно, путешествия по родной стране были для нее экзотикой: она лучше знала Нью-Йорк, Атланту, Сингапур, Лондон, а не Владивосток, Иркутск, Мурманск, Одессу...
Какие счастливые это были годы! Наверное, самые счастливые в моей жизни. Мы любили друг друга - честно, преданно, безоглядно. И, наверное, этим сказано все.
Мне многие говорили, что Ольга никогда не сможет иметь детей после двенадцати лет на гимнастическом помосте.
Одним словом, мы оба - и Ольга, и я - были убеждены, что нашей семье суждено остаться неполной, и эту тему деликатно обходили. Однажды утром мы прилетели с очередных гастролей из Москвы. Ольга готовила на кухне обед. И вдруг: «Леня, иди сюда. У меня, наверное радикулит. Спина начинает болеть». Ну да ладно, думаю, радикулит как-нибудь переживем. Потом боль начинает ритмично повторяться. Странный радикулит. Я, перепуганный, кидаюсь к телефону:
- Мама, что делать?
- Сынок, а Ольга случаем не беременна?
- Если только второй, самое большее - третий месяц. Рано еще...
Мы с Ольгой не знали, что она уже носит под сердцем сына.
Так, неожиданно для самих себя мы стали счастливыми родителями маленького Ричарда, названного в честь моего прадеда. От волнения я, никогда не куривший, набил табаком трубку и закурил.
Пять лет жизни Ольга отдала семье - готовила, прибирала, стирала, воспитывала малыша. Жить нам тогда было очень трудно: уже за неделю до получки занимали по десятке у соседей.
Обычно на время гастрольных поездок мы отвозили Ричарда, или, как мы его звали дома, Рику, к Олиной матери в Гродно.
В тот раз мы были на Дальнем Востоке. Телефонный звонок:
- Оля? - взволнованный голос сестры Зины.
- Привет, - ее осторожный, напряженный голос испугал Ольгу.
- Немедленно прилетай в Гродно. Случилась беда.
- Отец?
- Приезжай. Расскажу все дома.
Короткие гудки отбоя.
Ольга несколько суток добиралась через всю страну с крайней восточной точки на крайнюю западную.
Беда подстерегала там, где не ждали. Олина мама стирала и кипятила в баке белье. Маленький Рика, который по обыкновению крутился рядом, оступившись, упал в тазик с кипящей водой. Ожог! 25 процентов повреждения поверхности тела. Благо мама отреагировала мгновенно: схватила бутылку облепихового масла и вылила на малыша. Если бы не это...
Пока Ольга добиралась до Белоруссии, врачи боро- Лйсь за жизнь нашего ребенка. Даже когда она прилетела наконец-то, еще не было полной ясности: выживет или нет. Трое суток Рика был в шоке. От того ужасного происшествия остался только рубец в моей душе и маленькие шрамики на теле сына, да еще его удивительный иммунитет к высокой температуре.
Потом, когда мы с Олей запланировали второго ребенка, это уже не было секретом для окружающих. Наверное, ее организм изживал изменения от фанатичных занятий гимнастикой.
Когда пришел срок, мы с женой бродили как тени по квартире, боясь подходить к надрывающему телефону. Звонили со всего света:
- С кем поздравить, Ольга?
- С кем поздравить, Леонид?
Поздравлять было не с кем. По недосмотру врачей ребенок, который еще за сутки до родов был совершенно нормальным, здоровым и живым, родился мертвым. А у нас уже готово было имя: Иванушка...
РИЧАРД В КИНО
В 1985 году мне домой позвонил Юрий Кивалов - один яз наших белорусских режиссеров, который работал на киностудии «Беларусьфильм» - и рассказал, что режиссер Дашук снимает фильм «Двое на острове слёз». Нужен мальчик на главную роль. «Я видел вашего сына - Ричарда, - сказал мне Юра, - он как раз подходят по данным. Мы бы хотели пригласить его на пробы».
Сюжет фильма был достаточно драматичным. Для тех, кто не смотрел этот фильм, я в двух словах расскажу. Деревенская девушка, у которой парень ушел служить в армию, встретила городского юношу, спортсмена. Любовь их была недолгой и в результате этой любви появился ребенок. Когда вернулся из армии бывший парень, он ее простил и ребенка растил как своего. Но вдруг эта девушка случайно встречает того спортсмена, и любовь вспыхивает вновь. В центре этого любовного треугольника оказывается мальчик. Переживая эту ситуацию и страдая, он подымает руку на мать, и мальчика должен был сыграть Рика.
Я сначала засомневался: сможет ли Рика сыграть ребенка из неблагополучной семьи. Не стушуется ли он, потому что опыта работы в кино у него, естественно, не было. Но Кивалов сказал, что каждый ребенок немного актер, поэтому надо попробовать, вдруг получится.
Приезжаем на «Беларусьфильм». Смотрю, возле двери, где проходил конкурсный отбор, толпа народу. Дети красиво одеты: в нарядных костюмчиках и с бабочками. Слышу, как мама одного из детей просит того повторить стихотворение Пушкина. А мы с Рикой ничего специально не готовили. Он как пришел с улицы в джинсах и бейсболке, так и поехал на студию.
Подошла наша очередь. Когда Рика зашел, меня пригласили в соседнюю комнату, где стоял монитор и я мог все видеть и слышать. Дашук спросил у Рики: «Ну, что ты умеешь делать?» Тот ответил: «Я умею анекдоты рассказывать». - «Ну, давай». Рика рассказал, как пришел в поликлинику пациент с одним дефектом речи, а после посещения врачей ушел с многочисленными дефектами, вновь приобретенными. Причем все эти дефекты Рика очень комично изображал. Комиссия грохнулась со смеху. Дашук его поблагодарил, и позвали следующего. Мы с Рикой вышли, и сын меня спросил: «Папа, ну что? Меня приняли?» Я сказал: «Наверное нет, сынок, раз они тебе сразу ничего не сказали». Мы приехали домой, и Рика пошел гулять. Через час - звонок в дверь. Взмыленный администратор и Юра Кивалов говорят, что Рику утвердили и нужно ехать на съемки, сроки поджимают. Так Рика попал на съемки картины, которые проходили в городе Гродно, где, кстати, параллельно снимались «Белые росы».
У нас с Ольгой был отпуск, и мы навещали Рику. К тому же в этом фильме была задействована наша машина. Я помню, как учил актера Колтакова, у которого была роль родного отца мальчика, водить автомобиль, а он до этого никогда за рулем не сидел. Рике по сценарию надо было драться с мальчишкой и по-настоящему расплакаться. А у него это никак не получалось. Дашук не знал, что делать. Пробовали дубль за дублем. Однако после пятого или шестого дубля мальчишки действительно всерьез сцепились. И после стали реветь в камеру в два голоса. Эти кадры и вошли в фильм.
Опыты Рики напоминали о моем детстве. В детское садике нас часто кормили гороховым супом, и я его очень любил, люблю, кстати, и сейчас. Но однажды за обедом произошла ссора и мне плюхнули ложку супа прямо в глаз. После того как воспитательница промыла глаз, он еще долго слезился. С тех пор для того, чтобы заставить себя заплакать, мне не нужно ничего придумывать. Я на минуту представляю себе, что гороховый суп попадает мне в глаза, и слезы тут как тут. Когда я учился в ГИТИСе, на этюдах мне это очень пригодилось.
После фильма «Двое на острове слез» Рику часто приглашали на «Беларусьфильм». А перед поездкой в США его пригласили на киностудию имени Довженко на главную роль в двухсерийной музыкальной сказке, но нам, к сожалению, нужно было ехать.
КАК ОЛЬГА НЕ СТАЛА НАЕЗДНИЦЕЙ
Ольга очень любила и не боялась животных, и те отвечали ей взаимностью. Как-то в одной из концертных поездок в Свердловске мы познакомились с дрессировщиками медведей Уральского цирка. Через некоторое время мы с ними встретились, ребята пригласили нас в гости. Мы заехали в магазин, купили водки - цирковая публика пьет всегда хорошо - и отправились к ним. Время пролетело мгновенно, мы решили сфотографироваться на прощание. Встали полукругом, в центр которого вывели большую медведицу. Нас предупредили, чтобы мы не делали резких движений. Но как только дрессировщик поднял фотоаппарат, Ольга прыгнула медведице на спину и обхватила ее руками за шею. Дрессировщик чуть не выронил фотоаппарат и побледнел, как полотно. Каким-то чужим голосом он сказал Ольге, чтобы та не двигалась. Ольга, однако, тут же спрыгнула и встала рядом с нами. Медведица сама опешила и, слегка повернув голову, осталась стоять на том дае самом месте, так как Ольга ее не боялась.
Дрессировщик, видимо, проиграл в уме последствия такого панибратства с животным, и нам пришлось задержаться еще на час. Мы узнали, что у любого хищника очень развито шестое чувство: он сразу распознает - боится его человек или нет. И если боится, то может наброситься. Кроме того, эта медведица была отловлена в лесу. А когда на медведя кто-то набрасывается сзади, то он расценивает это как нападение. Медведица легко, одной лапой могла содрать скальп, но она стушевалась. Видимо, полное отсутствие со стороны Ольги флюидов страха привело ее в замешательство. Она просто не знала, как ей реагировать.
Любовь к животным и неуемная энергия привели Ольгу Корбут в конный спорт. После изнурительных гимнастических тренировок, бесконечных сборов и соревнований, блистания на помосте, уйдя из спорта, Оля попала в психологический вакуум. Ей нужен был выход для энергии и эмоций, нужно было на что-то нацелить свою «кипучую» натуру. Она для себя решила - будут лошади.
Чемпион по конному спорту Виктор Угрюмов рассказал, что в конном спорте в жанре «выездка» возраста не существует и можно даже в пятьдесят лет быть, что называется, на коне и побеждать, и завоевывать награды. Ольга загорелась. Красота, легкость и изящество конного спорта, с одной стороны, и бесконечные тренировки - с другой. Все это Ольге было уже знакомо. Желание доказать не кому-то, а самой себе, что она сможет, подстегивало ее.
Однако в этом виде спорта многое зависит не только от наездника, но и от животного, с которым работаешь и у которого есть характер, норов. Чтобы достичь результата, ты должен быть с ним одним целым. Угрюмов ей дал Кулона - ахалтекинца, очень норовистую лошадь. На этого коня уже все махнули рукой, и многочисленные попытки его приструнить не дали pезультата. Ольга начала на нем тренироваться. Случилось так, что Кулон ее полюбил и она выездила эту лошадь.
Однажды, когда Ольга делала «принимайте» - поступательные движения лошади в правую или левую стороны, - Кулон заартачился и встал на дыбы. Ольга падая, сломала два пальца на руке, но все же продолжила выездку.
Угрюмов не верил своим глазам. Девицы в его команде, получив незначительные царапины, неделями не появлялись в клубе. Поэтому он утверждал, что Ольга добьется результата, она сможет выиграть золото и в этом виде спорта.
Два года работы Ольги с Кулоном не прошли даром. Кулон начал побеждать, впоследствии став чемпионом Вооруженных Сил СССР. (Подобная ситуация рассказана в старом фильме «Смелые люди».)
Трагическая случайность помешала Ольге быть наездницей. Чтобы получились красивые фотографии, она показывала на Кулоне эффектные элементы выездки. Ольга вышла вместе с Кулоном на встречу с журналистами. Но вдруг Кулон занервничал, закапризничал, почуяв кобыл. Конный завод и клуб разделяли забор и небольшие ворота. Ворота оказались приоткрытыми. Кулон бросился как дикий мустанг,раздувая ноздри, в этот проход, унося наездницу прямо в середину стада.
Мы обнаружили Ольгу лежащей на траве. У нее болела грудь, одна из кобыл ударила ее копытами. Кто-то вызвал «скорую помощь». У Оли открылось внутреннее кровотечение - от удара лопнул сосуд. Ей нельзя было вставать, но она не послушалась, и вечером у нее снова началось кровотечение. К 12 ночи приехали наши «светила» медицины на консилиум. Решили, что нужно срочно делать операцию, иначе, если в третий раз откроется кровотечение, исход будет фатальным - так и сказали. Я говорю: «Оля, так и так, что будем делать?» А она: «Я очень слабая сейчас и могу не выдержать наркоза. Я не хочу умереть на столе».
Я вышел к врачам и сказал, что Оля отказывается от операции. Они обиделись: «Ну, тогда пеняйте на себя», - сели в машину и уехали. Я эасомневался, правильно ли поступил.
Не прошло и пяти минут, как началось третье кровотечение. Кровь шла горлом, со сгустками. Я выбежал в коридор и стал звать на помощь. В больнице был только дежурный врач. Он взял меня за грудки и сказал: «Успокойся, мы сейчас сами все сделаем». - «Так надо же вернуть этих профессоров». - «Они уже не приедут. Мы все сделаем сами. Я пойду в операционную, а ты иди к ней и успокой ее».
Ольга периодически теряла сознание, ее тело синело. Время шло, и тут я не выдержал и бросился в операционную. Вбегаю туда и кричу: «Она умирает, надо что-то делать!» Врач посмотрел на меня и очень спокойно сказал: «Ты мужик или кто? Во-первых, отойди за красную линию, сюда входить нельзя. Во-вторых, успокойся. В-третьих, я решил не делать операцию, сделать только переливание крови. И сейчас я готовлю кровь».
А кровь у Ольги редкая - 1 группа, резус отрицательный. На наше счастье эта кровь у них была. Собрали весь медперсонал. Я тоже помыл руки и надел халат. Вместе со мной было девять человек. Несколько ассистентов держали Олю за руки и за ноги - человек в агонии становится сильным.
Ольга лежала на столе вся синяя. А сестра, как назло, не могла найти вену на руке - вены стали очень тонкими. Мне запретили смотреть на Ольгу, и я смотрел на капельницу. Вот-вот, сейчас начнет капать.
Я изо всех сил держал руку жены, а мой пульс в висках отсчитывал вечность. Наконец, сестра попала в вену возле ладони, и первые капельки крови вместе с моим вздохом облегчения сорвались вниз.
Прошло некоторое время, и Ольга стала розоветь. У нее начался бред. Она кричала: «Ленечка, что они со мной делают? Они хотят меня убить». Я держал ее за руку, и слезы катились из моих глаз.
Не помню, сколько прошло времени, было уже утро, когда я осознал, что стою совсем один в операционной и держу Олину руку. Она уснула, ее лицо было розовым. Ко мне подошел доктор и сказал: «Не надо ее больше держать». - «Уже все?» - спросил я. «Все, - ответил он. - Мы вам сейчас сделаем укол успокоительного».
Через несколько дней Ольге стало лучше и мне сказали, что нужно сделать ей прямое переливание крови. Нашли молодого хирурга с этой группой крови, положили их рядом, и несколько литров его крови, отчего он, бедный, потерял сознание, перелили Ольге. После этого она пошла на поправку.
От профессиональной гимнастики Ольге досталось в наследство 23 перелома всяческих костей, четыре сотрясения мозга, не говоря уже о вывихах и растяжениях. Но после этой травмы врачи категорически запретили ей заниматься каким-либо видом «большого спорта».
НАРОДНЫЕ И ЗАСЛУЖЕННЫЕ
В 1979 году ансамбль «Песняры» справлял свое десятилетие. Концерты проходили во Дворце спорта перед самым Новым годом. К тому времени уже были поданы документы на присвоение звания заслуженного артиста БССР на Мисевича, Тышко и на меня, а также на присвоение звания народного артиста Владимиру Мулявину.
Все концерты прошли с аншлагом, оставался последний. Мы собрались в оркестровке на репетицию, к нам зашла и Ольга Корбут. Заговорили о документах, поданных на звание.
- Ну, если сегодня Петр Миронович не придет на концерт, наверно, никто наши документы рассматривать не будет, - сказал Мулявин.
Петр Миронович - это Машеров, от которого зависело многое, в том числе и присвоение званий. Хочу отметить, что в то время звания имели определенное значение и вес. Да и наш вклад в развитие и популяризацию белорусской культуры был очень существенным. И, конечно, было бы обидно, если бы юбилей остался незамеченным.
- А вы пригласили его на концерт? - спросила Ольга.
- Ну, как это так, - сказал Мулявин, - Первого секретаря КПБ ведь не приглашают. Я не знаю, как это сделать.
- Всех приглашают.
Ольга тут же сняла трубку и набрала номер приемной Машерова.
Ее соединили с Самим. Тот по-отечески поинтересовался:
- Что, Оля?
- Тут вот вокруг меня сидят «Песняры», - невозмутимо сказала Ольга, - у них сегодня последний концерт.
- Так они же меня не пригласили.
- Вот, они вас и приглашают.
Помню, едем мы вечером на концерт и смотрим - у входа уже стоит охрана. Мы немного задержали концерт, поскольку Машеров опоздал. Как только он приехал, концерт начался. Во время концерта за кулисы к нам несколько раз заходил министр культуры.
- Ой, Петр Миронович доволен, очень доволен.
А в конце концерта министр прибежал и сказал:
- Он попросил «Александрину» на «бис».
И в конце я еще раз спел «Александрину». На следующий день, когда мы пришли в филармонию, прибежал начальник отдела кадров: скорее все бумаги на награждение! Как мы узнали потом, Машеров в конце концерта прослезился и сказал: «Всех, кто был на сцене на «Александрине» наградить званием». И звания получили все, даже Демешко. Как мы потом шутили - единственный заслуженный барабанщик Советского Союза. После этого случая меня стали называть «Александринка».
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
ПРОЩАНИЕ С «ПЕСНЯРАМИ»
У меня всегда была тайная мечта окончить ВГИК или ГИТИС. Мир кино и театра привлекал меня не меньше, чем музыка. И в 1980 году я решил подать заявление в ГИТИС на режиссерское отделение. Экспериментальную мастерскую тогда набирал Шароев. Труппа должна была состоять из режиссеров и актеров, чтобы осуществлять творческое взаимодействие между ними. На двенадцать мест претендовали около 5000 человек. Из обязательных условий - не менее десяти лет работы на сцене или звание заслуженного артиста. Можете представить себе, какие это были абитуриенты. Назову, к примеру, Ефима Шифрина, Гену Белова, Бальмонта - известного циркача и потомка великого поэта.
На первый экзамен я приехал с гитарой и очень волновался. Экзамен по специальности состоял из трех частей: актерское мастерство, собеседование по режиссуре и этюд. Так получилось, что один из поступающих попросил у меня гитару. Его фамилия начиналась с буквы А, и его вызвали передо мной. И перед приемной комиссией он перестроил гитару под себя, на тон выше. А когда вышел из аудитории, от волнения забыл мне об этом сказать. Вызывают меня. Я собирался исполнить сто одиннадцатый сонет Шекспира, басню Крылова, прозу Пушкина и спеть песню «Две сестры».
Как только я начал играть, понял, что гитара перестроена на тон выше. А у меня в конце песни одна нота была и так очень высокая. Я с испугу ее ка-а-ак дал! На экзамене сидела профессор по вокалу Института имени Гнесиных, так она аж рот раскрыла, слушая меня. И тогда вышла Катя Филиппова - одна из преподавателей и на ушко сказала, что мне единственному поставили три пятерки. Вот так я поступил в ГИТИС.
Заранее я никому ничего не говорил.
Приезжаю в Минск. И сообщаю Володе Мулявину:
- Володя, я поступил в ГИТИС на режиссуру.
А Мулявин мне тут же без обиняков:
- Мы под тебя подстраиваться не будем. Выбирай - или «Песняры», или ГИТИС.
Я выбрал ГИТИС.
Никто по большому счету не верил, что я уйду. «Песняры» - это и слава, и деньги, а уходить надо в никуда, в самый расцвет популярности.
Предстояли гастроли по Украине, и я твердо сказал - это мои последние гастроли. Володя все понял и, конечно, переживал. Но я не ушел хлопнув дверью, я подыскал себе замену. Это был Игорь Пеня, который работал тогда в Сочи, в ресторане гостиницы «Москва». Я отдал ему все партии, целый месяц готовил его.
Помню последний концерт в Донецке, где я впервые слушал «Песняров» из зрительного зала. И в конце я заплакал - настолько все было здорово! Да и десять лет жизни в «Песнярах» - разве это можно вычеркнуть из сердца?!
НАША РАБОТА В УКРКОНЦЕРТЕ
После ухода из «Песняров» меня пригласил Юра Денисов в ансамбль «Мальвы», который он организовал в Киеве. Солисткой там была Наташа - Юрина жена, она раньше работала в «Мрии». Был очень интересный состав, прекрасные музыканты, уже имевшие опыт работы в фолк-роковых коллективах.
Однако у нас появились проблемы с гастролями. Их мог организовывать только Укрконцерт, а я, живший в Минске и учившийся в Москве, в ГИТИСе, никакого отношения к Укрконцерту не имел.
Вообще хочу сказать, что Укрконцерт тогда отличался ужасной бюрократичностью. Некоторые музыканты уезжали оттуда в Белоруссию, потому что не видели для себя карьерных перспектив. И вот в таких условиях мне нужно было пробить ставку.
Как всегда, проявила инициативу Ольга. Она сказала: «Давайте позвоним Тяжельникову».
С Тяжельниковым я познакомился на фестивале в Берлине в 1973 году. Мы туда ездили делегацией, в ее состав входили также и Тяжельников, и Добронравов с Пахмутовой. В поезде, пока ехали, у кого-нибудь в купе собиралась компания, звали меня и просили спеть. У нас с Толей Кашепаровым даже был небольшой застольный репертуарчик для «пробивания» слезы, вроде песен: «Как девчонок в белых фартушках...», «А мы войны не знали» А. Колкера. В то время Тяжельников занимал должность первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Мы с ним разговорились. Ольгу он уже хорошо знал, поскольку все награды, какие только были от ЦК комсомола, она получила. Кстати, после этого фестиваля ансамбль «Песняры» тоже стал лауреатом премии Ленинского комсомола СССР.
К тому времени, о котором я рассказываю, Тяжельников занимал должность завотделом ЦК КПСС по культуре. Ольга позвонила в Москву, добилась, чтобы ее с ним соединили. Тяжельников, к нашей радости, с большой доброжелательностью сказал: «Ребята, я вас помню, приезжайте ко мне, поговорим».
И мы втроем: Ольга, Юра Денисов и я поехали в Москву на прием. Встретил он нас очень радушно. Расцеловал, усадил, стал спрашивать, как мы живем, какие у нас планы. Я тогда подумал: неужели у нас бывают такие чиновники?
Я рассказал Тяжельникову, в чем проблема. Юра показал ему наши записи. Тяжельников ответил: «Так, я все понял». И стал набирать при нас номер. Он позвонил Капто, который был секретарем по идеологии ЦК партии Украины:
- У меня сейчас сидят замечательные ребята, интересный коллектив, нужно всячески помочь.
Он повесил трубку, повернулся к нам и неожиданно спросил:
- А почему бы вместе с вами не выступить и Ольге? У нее мог бы быть свой номер.
Мы от неожиданности не знали что сказать.
- Вы подумайте, - сказал Тяжельников, - мне кажется, это будет интересно.
Идея действительно была интересной и стала предметом обсуждения на протяжении всей обратной дороги. Мы подготовили видеоролик. Там было запечатлено вручение Ольге «Золотой богини» в США. Придумали, как сделать концертный выход. Ольга показывала медали, рассказывала о спорте, о гимнастике, как она шла к своим победам.
Номер Ольги был подготовлен, концерты наши проходили безумно интересно. И мы все поехали в трехмесячный тур по Дальнему Востоку и Западной Сибири.
На протяжении всех гастролей на концертах - аншлаги. Был большой интерес к Ольге, да и меня уже знали не только как солиста ансамбля «Песняры». К тому времени в программе «Утренняя почта» показали в моем исполнении песню «Домик на окраине» Владимира Мигули, на украинском телевидении был снят ролик с песней «Куда уехал цирк», которую впоследствии спел Валерий Леонтьев.
После длительных гастролей по Сибири и Дальнему Востоку мы приехали в Киев. Нас с Ольгой пригласил к себе секретарь по идеологии ЦК партии Украины. Поинтересовался, как идут дела, может, нужна какая-нибудь помощь. Я сказал, что мы всем довольны. И вдруг он спросил:
- А не хотите ли вы переехать в Киев? Есть очень хорошая квартира в центре Киева на Крещатике.
Немая сцена.
- Спасибо большое за предложение, - сказала Ольга, - но у нас уже есть квартира в Минске, предоставленная Машеровым, и мы пока никуда не хотим переезжать. Будем жить в Минске.
- Ну что ж, смотрите, трудно жить на два дома, - и большой начальник вежливо попрощался с нами.
Мы с Ольгой и Юрой Денисовым сели в машину и поехали в филармонию. Нам нужно было получить зарплату за наше длительное турне. Касса филармонии только что открылась, возле нее - очередь человек десять. Перед нами стояли Тарапунька и Штепсель. Когда подошла наша очередь получать деньги, я увидел, что они о чем-то переговариваются между собой. Причем Штепсель все время смотрит то в ведомость, то на нас. Его явно что-то раздражало. Когда я заглянул в ведомость, то понял, в чем дело: сумма была действительно внушительная. Дело в том, что у нас с Ольгой ставки были, как у народных артистов СССР.
После того как мы получили зарплату, нам нужно было зайти к директору Укрконцерта. Нас попросили подождать в приемной. Открылась дверь, и на пороге показался Штепсель с всклокоченным чубом и покрасневшим лицом. Увидев нас, он отвернулся и быстро прошел мимо. Я услышал брошенную ему вдогонку фразу: «Извините, но за вас Тяжельников не хлопотал». Из кабинета вышел директор и, увидев нас, сказал:
- О, ребята! Давайте, заходите. Может, коньячку? Как вы съездили? Тут у нас юбилей киевского «Динамо». Может, вы примете участие?
Вот так с легкой руки Тяжельникова и на ставке народного артиста СССР я проработал в Укрконцерте полтора года.
«КУДА УЕХАЛ ЦИРК»
В Киеве я познакомился со многими композиторами-песенниками и с некоторыми из них успел поработать. Владимир Быстряков предложил мне спеть песню «Куда уехал цирк». Аранжировки не было, была просто музыка, положенная на стихи. Песня показалась очень удачной, но она была жанровой, а я до этого в основном исполнял лирические песни.
Мы с Владимиром долго работали над фонограммой в студии. Работа над аранжировкой затянулась - не хватало изюминки. И тогда, прослушав мелодию в очередной раз, я предложил в проигрыше наложить «ха-ха-ха» - идея понравилась, и через пару дней фонограмма была готова. Я наложил в студии голос, где в модуляции было верхнее до. Мы сразу же приступили к съемкам видеоклипа. Я уехал в Москву на сессию. Тем временем в Киев прибыла съемочная группа «Песня года-82». Володе Быстрякову нужно было, чтобы эта песня прозвучала в «Песне года». Он знал, что она «выстрелит». Быстряков позвонил мне и сказал, что нужно приехать и устроить банкет, чтобы эту песню записали. Но Ольга настояла, чтобы я ни в коем случае этого не делал. «Мулявин никому ничего не платит», - твердо заявила она.
Я не поехал, и все переиграли - отдали песню Валерию Леонтьеву. Тот ее записал, и записал, нужно отметить, очень хорошо. Песня стала «хитом», и ее еще очень долго крутили по телевидению. Для Валерия Леонтьева она стала трамплином к популярности и его визитной карточкой.
Конечно, я наблюдал за творчеством «Песняров». Так уж совпало, что у ансамбля после моего ухода тоже были не лучшие времена. Менялись участники ансамбля, приходили новые исполнители - и хорошие, и плохие.
Новомодные группы появлялись как грибы после дождя, привлекали ненадолго новизной и также быстро исчезали. И когда слушатель пресытился музыкальной халтурой, «Песняры» опять стали востребованы. Те концерты, которые проходят с переаншлагом, показывают, что слушатель истосковался по хорошей музыке, по музыке, которая заставляет сопереживать.
ПОЕЗДКА В ЧЕРНОБЫЛЬ
Укрконцерт - это, конечно, хорошо, но жить на два дома было тяжело. Надо было работать в Минске, вечно же ездить не будешь. Я решил попробовать себя в качестве солиста Государственного радио и телевидения. Пришел к Геннадию Николаевичу Буравкину, возглавлявшему эту структуру, - умнице, замечательному человеку и поэту. Он меня принял и сказал: «Конечно, я возьму тебя солистом. Но пока нет штатной единицы, поработай музыкальным редактором». Несколько месяцев в редакции я занимался музыкальными фондами, составлением программ. Затем я десять лет был солистом Государственного радио и телевидения. За это время записано много песен.
Когда я работал солистом в Дирекции музыкальных коллективов Белорусского телевидения, директором этой структуры был Колисниченко. Он окончил консерваторию и попал в Оперный театр. Он был неплохим лирическим тенором, но у него возникли какие-то проблемы со здоровьем, и его уволили из театра за профнепригодность. Однако, видимо, зависть к тем, кто работает на сцене, у него осталась. Колисниченко благодаря связям был назначен директором эстрады в филармонию. Там он многим вокалистам изрядно «попортил крови», а когда уволился, в филармонии вздохнули с облегчением. И как у нас принято - за развал на повышение, - его перевели директором музыкальных коллективов на Белорусское телевидение и радио.
Идея послать в Чернобыль белорусских артистов, когда еще не прошло и года после трагедии, родилась в его больной голове. Наверху эту идею, конечно, поддержали. Раз проходят в Чернобыле концерты, значит и радиации нет никакой, людям можно не волноваться.
На собрании спросили, есть ли добровольцы. Поскольку коллектив у нас был в основном женский, вызвались я, Юрий Смирнов, Асик Сухин. Тамара Раевская согласилась разбавить наше мужское трио. Вместе с нами выступал и камерно-инструментальный ансамбль.
Некоторые концерты длились по три часа. Мы жили почти неделю в Хойниках. Познакомились там с Василем - командиром вертолетного звена, работавшего в Чернобыле. Он предложил нам пролететь возле самого реактора. Мы с Юрием Смирновым сдуру согласились. Ни дозиметров, ни специального оборудования у нас, конечно же, не было. Мы сели в вертолет и сделали несколько кругов над четвертым блоком. По прошествии нескольких месяцев Юрию Смирнову сообщили, что Василь скоропостижно скончался. Ну а мы на пятый день, получив книжки о дозах полученной радиации, благополучно уехали.
Позже, будучи в Америке, я, Ольга и Рика обследовались на предмет радиации в Сиэтле, в Фрэд- Хатчинском центре. Нас уверили, что все в порядке. Единственное - у всех троих была увеличена щитовидная железа. Но врач показал нам карту с данными о болезнях. На ней было отмечено, что у всех белорусов увеличена щитовидка по причине отсутствия моря и морепродуктов.
ДАНЧИК
С Данчиком мы познакомились, когда «Песняры» второй раз приезжали в США на гастроли. Он пришел к нам на концерт в театр «Маджестик» и пригласил к себе домой. Мы с Толей Кашепаровым согласились, хотя это было запрещено и нам говорили, чтобы мы воздерживались от встреч с американцами из-за возможных провокаций. Приехали к нему домой, разговорились. Данчик очень хорошо знал репертуар «Песняров».
Пели песни, фотографировались. Я тогда показал Данчику несколько упражнений для голоса, для дыхания. К тому моменту у Данчика уже была записана пластинка, которая называлась «Белорусочка». Его голос меня поразил: мягкий, чистый тенор, он звучал очень проникновенно. Данчик пообещал приехать ко мне в гости В Минск. Но миновало двенадцать лет, прежде чем это осуществилось.
Данчик приехал по моему приглашению вместе с мамой. Они остановились у нас с Ольгой, на улице Комсомольской. Интересно, что, когда он приехал к нам, позвонили из ЦК комсомола и предложили оплатить его расходы за дорогу и поселить в хорошей гостинице. А Данчик на это, сказал: «Я приехал к Леониду Борткевичу в гости. У него и останусь».
Было организовано три концерта с участием Данчика: в Доме литераторов, в университете и во Дворце профсоюзов. В концерте принимали участие Ольга, Сяржук Соколов-Воюш, молодой поэт, с которым я тогда впервые познакомился, но знал о его творчестве по песне «Аксамiтны вечар». Концерты проходили довольно эмоционально. Приезд Данчика совпал с волной национального возрождения, и на концертах присутствовало много молодежи, представителей Народного фронта, моих старых знакомых: поэт Некляев, режиссёр Пташук и другие. Все залы были переполнены, люди стояли в проходах. Я был рад тому, что Данчика услышали и признали на родине. Мы записали две песни: «На вуліцы мокр» с камерно-инструментальным ансамблем радио и телевидения, и «Калыханку», которую потом ещё долго крутили на белорусском телевидении.
У меня в те дни была большая проблема: найти кока-колу, которую Данчик очень любил и которой в Беларуси не было. Я помню, что через знакомых раздобыл пару ящиков пепси.
Мы съездили в Полоцк, на родину Сержука Соколова-Воюша. С мамой Данчика посетили родину Янки Купалы деревню Вязанка. Она не могла поверить. что когда-нибудь увидит Минск, железнодорожный вокзал, откуда уважала во время войны.
На концертах зрители могли не только слушать песни, но и задавать вопросы. Данчик - очень интеллигентный молодой человек, и это наряду с изумительным голосом производило огромное впечатление на аудиторию. Я за все годы творчества не помню подобной доброжелательной атмосферы в зале.
Деньги за концерты я отдал маме Данчика, а она раздала их своим родственникам, живущим в Беларуси.
Позже была еще одна моя поездка в Америку, где я выпустил свою кассету, и мы с Данчиком записали совместный альбом «Мы адной табе належым». Записали его в Нью-Йорке всего за пять дней. Деньги на выпуск этого альбома тогда собрали белорусы в Америке. Для фотографии на обложку специально пригласили дорогого фотографа. На этой фотографии мы стоим, обнявшись, возле камня в нью-йоркском парке.
В Кливленде был большой праздник: открытие дворца белорусской культуры. Приехали туда белорусы со всего мира. Там выступали Данчик, Соколов-Воюш и я.
Прошло еще двенадцать лет, и мы снова встретились с Данчиком. На этот раз - в Праге, на празднике, посвященном Дню независимости Беларуси. Данчик мне сказал, что уже больше трех лет он не поет, что у него сейчас очень ответственная работа на радио «Свобода» и на творчество не хватает времени. Но я очень надеюсь на то, что он все-таки сможет приехать в Минск и мы организуем серию совместных концертов по Беларуси.
НЕВЫЕЗДНЫЕ
Насколько Ольга была популярна в Америке, говорит хотя бы тот факт, что ее именем назвали свыше двухсот гимнастических клубов.
В годовщину мюнхенской Олимпиады Ольгу Корбут пригласили в одну из самых популярных американских телепередач - «Гуд монинг, Америка». Ольгу, которая на Олимпиаде завоевала три золотые медали, отвезли в Мюнхен, и на площади в центре города, при большом скоплении людей, она давала интервью для американского «Доброго утра».
Как-то популярнейший американский спортивный журнал «Спорт иллюетрейтед» праздновал свое сорокалетие. В юбилейном номере были названы лучшие спортсмены мира за последние сорок лет - и не просто лучшие, а те, кто внес какой-либо вклад в спортивное движение или каким-то образом повлиял на его развитие. Там были и Кассиус Клей, и Пеле, и Навратилова, и Пэти Флеминг, и многие другие знаменитые спортсмены. Но на обложке поместили фотографию Ольги с надписью: «Фром рашша уиз шарм». Нас с Ольгой пригласили тогда на этот юбилей. Ольге подарили часы «Ролекс», а мне галстук от знаменитого кутюрье Миллера.
Если бы Ольга уехала в Америку в зените своей славы, она бы сейчас имела огромный счет в банке и сколько домов по всему миру. Ей предлагали грандиозные контракты. Требовалось только одно - остаться там. Но как это было тяжело сделать в то время! Ведь здесь оставались мать, отец, сестры. На них бы обрушился гнев властей, идеологический пресс, который мы на себе каждый день ощущали.
После того как Ольга приняла решение оставить гимнастику и вышла замуж, мы стали невыездными.
Так уж получилось, что мы жили в доме работников КГБ БССР. Машеров предложил нам квартиру на улице Танковой, но она нам не понравилась. Это была четырехкомнатная квартира с очень маленькими комнатами. Ольга позвонила Петру Мироновичу и попросила его дать квартиру, пускай с меньшим числом комнат, но с большим залом, в котором можно было бы принимать прессу и гостей. Нам были предложены три квартиры на выбор из старого жилого фонда. Мы поехали смотреть первую, расположенную на улице Комсомольской, недалеко от стадиона «Динамо», другие даже смотреть не стали. Позже мы узнали, что до нас в этой квартире жил начальник областного управления КГБ.
Соседями были Мастицкие. Они частенько заходили в гости, у нас вообще был гостеприимный дом. И как-то, выпивая, Володя Мастицкий мне признался, что в КГБ люди пять лет получали зарплату только за то, что каждый день следили за нами. В КГБ, кстати, были абсолютно уверены, что я женился на Ольге лишь для того, чтобы сбежать с ней за границу. Ольгу приглашали в Америку часто, но все эти приглашения оседали в Спорткомитете в Москве.
Один раз к нам все-таки дошло приглашение от журнала «Пипл» приехать с семьей в Америку для интервью. Мы отправились в Москву, в АПН. Там нам сказали: «Хотите поехать? Платите деньги- 5 тысяч рублей». И на наши возражения - мол, как же так, вот приглашение, принимающая сторона берет все расходы на себя, нам ответили, что здесь правила устанавливают они. Не заплатите - никуда не поедете. Мы не стали платить, да к тому же были уверены, что даже если найдем деньги, они тут же в ответ отыщут еще десять причин, чтобы нас не выпустить вместе.
Был еще и такой случай. ЦК ВЛКСМ организовывал двухмесячную поездку на Кубу вместе с «Песнярами». Мы должны были отправиться теплоходом через Атлантику. Я написал письмо Тяжельникову с просьбой разрешить нам поехать на Кубу всей семьей. Он тогда был первым секретарем ЦК комсомола, но даже это не помогло, нам так и не разрешили поехать. Да и «Песняров» тогда, по-моему, тоже не пустили.
В Америке Ольгу не раз спрашивали, почему она не приезжала по приглашениям, которые ей высылали. Что можно было ответить? А американской стороне говорили, что Корбут все время болеет. Вот такие были «веселые» времена.
У Ольги дела шли все хуже и хуже. Ее настроение передает интервью, данное в 1989 году нашему другу, журналисту Александру Борисевичу. Я приведу некоторые выдержки.
- Ты как будто не очень счастлива последние годы?
- А с чего бы, скажи, пожалуйста, мне быть счастливой? В 77-м я закончила выступления, и меня пинком отовсюду выгнали.
- По-моему, ты сгущаешь краски. Ту же стипендию в триста рублей тебе продолжали платить.
- О стипендии еще поговорим... Только ведь пойми: деньги - не главное. Я разом, ну просто в одночасье, перестала быть интересна и нужна кому-либо в спорте. Те, кто вчера еще бегали на цыпочках - Оленька, ах, Оленька!», - разве что здороваться не перестали, да и то сквозь зубы. Это очень тяжело - быть выброшенной из вагона: дальше, девушка, ножками, ножками... Я ведь не просила носиться со мной как с писаной торбой, ради бога. Но пригласите на чемпионат и Кубок страны, отправьте в зарубежное турне со сборной (почему бы нет, и не один раз причем), поздравьте с днем рождения наконец. Да мало ли?.. А так: вот тебе триста рублей, милая, будь счастлива и не приставай с глупостями.
- Все же проводы на «Москоу ньюс» весной 78-го тебе устроили пышные.
- Да ты хоть знаешь, какие это были проводы? Может, думаешь, заранее все спланировали, приглашение прислали: так, мол, и так, ждем вас, чтобы чествовать по окончании спортивного пути? Дудки! Я в Москве случайно тогда оказалась, совершенно случайно.
«Песняры» на гастроли отправились в столицу, вот я с Леонидом Борткевичем и поехала. Не удержалась, заглянула на соревнования. А там американки, немки, румынки, все окружили, заохали: «Ты почему так тихо ушла, хотим поздравить тебя и поблагодарить». Инициатива эта на организаторов и накатила. Те уж сориентировались в обстановке и поставили дело соответствующим образом. Такие проводы... Только мне ведь еще больнее от сознания того, что ничего, по сути, не готовилось. И если бы не иностранки...
- Я думал, свадьба, рождение сына помогли тебе встать на ноги.
- Они просто приглушили боль и отчаяние, загнали внутрь страшный вопрос: как жить дальше? Отвечать на него можно было не сразу, а потом, когда-нибудь потом. И я это «потом» все отодвигала, оттягивала, как могла. А у неприятностей, как известно, цепная реакция...
Через некоторое время с Ольги сняли стипендию (те самые триста рублей) и положили сто двадцать рэ как инструктору отдела Госкомспорта БССР: дескать, вы, Корбут, конечно, немало сделали для советского спорта, но достижения ваши в прошлом, и времени на отдых вам дали предостаточно. Пора бы приниматься за дело, хлеб насущный зарабатывать конкретным трудом.
Интересно, какой великий психолог придумал нормативы для «достаточного отдыха»? Ольга и жизнь положила на гимнастику, и здоровье, и душу. В то время она словно тонула, а ей вместо спасательного круга - хладнокровное напутствие: пора, пора, милая, приниматься за работу... Ольга страшно переживала, чувствовала себя словно нищенка, которой кость брезгливо бросают: радуйся, что вообще что-то получаешь, что терпим твое затянувшееся ничегонеделание. В конце концов с Корбут поступили элементарно незаконно. В трудовой книжке у нее было записано: «Установлен персональный оклад в триста рублей». И печать - «Совет Министров СССР». Никто решения Совмина не отменял. Просто в каком-то высоком кабинете некто взял ручку и в левом уголке листа начертал пару слов.
Ольге пришлось ехать в Москву к большим нашим начальникам и демонстрировать им запись в трудовой. Через полгода ей установили оклад в двести рублей и назначили на должность гостренера по гимнастике Спорткомитета СССР в Белоруссии. Полагаю, не без деятельного участия тогдашнего председателя Госкомспорта республики Валентина Петровича Сазановича. Спасибо ему, он один из немногих руководителей, кто относился к Корбут бережно и всерьез.
Ольга никакой работы не боялась, наоборот - жаждала работать, какие-то правильные или неправильные шаги предпринимала. А ее только по рукам били и ни к чему серьезному не подпускали - иди, перекладывай бумаги. Она злилась и говорила мне: «Им же все равно, пришла на работу - хорошо, не пришла - черт с тобой! Лишь бы иностранным корреспондентам сдуру ничего не ляпнула!» Она называла себя «Оленька-дурочка» для внутреннего употребления, а для внешнего, в хрустящей упаковке - «гостренер О. Корбут».
Вот еще один отрывок из того откровенного интервью.
- Я - такая, какая есть! Никогда не притворялась и в игры служебные не играла. И «ура» Леониду Ильичу или кому-то другому не кричала. Да и не смогла бы, наверное, характер - судьба. Вот надела бы фуфайку и сапоги, пошла бы картошку окучивать - из меня бы героя сделали. Или хотя бы на работу в черном строгом костюме приходила, говорила бы осторожно, в рот начальству смотрела, на совещаниях бы чинно сидела, поддакивала; главное - быть управляемой, верноподданной, прогнозируемой - и порядочек, и все довольны. Но - не могу! Я - другая, из другого теста. Я хочу делать то, что по силам, к чему предрасположена, что дается легко и в удовольствие и пользу приносит всем...
- Это что же за должность такая?
- Та, которой нет в штатном расписании, и значит по разумению наших чиновников, нет вообще в природе Подумай, сколько пользы я могла бы принести, пропагандируя спортивную гимнастику у нас в стране и за рубежом. Почему бы, извини за нескромность, не включить меня в дипломатическую миссию, не отправить на переговоры о сокращении ядерных вооружений? Да ведь я же Посол мира, черт возьми, забыл? И глядишь, кое-какие вопросы решились бы проще, человечнее. Конечно, слегка утрирую, только все равно нашему унифицированному мышлению такие повороты тяжко даются.
На худой конец можно было бы элементарно в Америке или Англии, где угодно, открыть Школу Корбут. За двенадцать лет я бы горы валюты государству принесла.
И сама бы богато и счастливо жила. И не было бы моих болячек и стрессов, и безвыходности, и унижений.
- Ты раньше делала эти предложения?
- Тысячу раз! Только от них моих собеседников перекашивало, в озноб бросало. А вдруг останется «за бугром»? А вдруг что-нибудь брякнет антисоветское? А вдруг слишком много заработает, да еще так легко! Ужас! У нас же согласно принципу социальной справедливости так нельзя: лучше все будем нищие, но зато все одинаковые. Меня ведь одиннадцать лет за границу не выпускали, хотя миллион приглашений приходило. От греха подальше. Зато когда иностранные корреспонденты все же ко мне пробивались, тут уж «упаковывали» по высшему классу, лепили картину полного благоденствия: как же, как же, страна не забыла своего кумира.
- В 88-м ты наконец съездила в США.
- И была, возможно, впервые за многие годы счастлива.
- Отчего?
- Оттого, что вспомнила: я - Ольга Корбут! Шейку вытянула, подбородок приподняла, спинку выгнула - выпрямилась!
- Но разве здесь ты не Корбут?!
- Здесь я опальная неумеха, сумасбродка, финтифлюшка. Здесь я рабочая кляча, стоящая в часовой очереди за колбасой. Домохозяйка, обремененная тысячью забот. Замкнутый круг...
- А там?
- Там я почувствовала любовь. Понимаешь - любовь! Это ведь самое важное в жизни. И принятие меня такой, какая я есть. И понимание того, что сделала когда-то эта женщина. Нет, я не хочу сказать, будто американцы - молодцы, а мы сплошь плохие. Но они мыслят иными категориями, на другом уровне. А мы пленники, все еще пленники заскорузлого, «застегнутого», застойного мышления, где главенствует идиотская заповедь: не высовывайся без спецразрешения.
Действительно, за год до того, как Оля дала это интервью, мы в первый раз побывали в США. В 1988 году нас пригласил Данчик.
Но у нас была полная уверенность в том, что мы все равно никуда не поедем.
- А давай попробуем, - сказал я тогда Ольге, - ну что мы теряем?
И мы пошли в ОВИР, который находился возле Оперного театра. Тамошний начальник заулыбался:
- О-о, какие известные люди к нам пришли. Давайте ваши паспорта.
Посмотрел их, посмотрел приглашение от Данчика и сказал:
- Ну что ж, все в порядке, можете ехать.
Я от неожиданности не поверил и переспросил:
- Так что, вы нас пустите?
Он так хитро улыбнулся и сказал:
- Да, пожалуйста. Вы ведь уже были в Америке раньше?
Даже когда мы с Ольгой вышли из ОВИРа, я все еще никак не мог поверить в это. И только после того, как приехали домой, я понял, что в действительности изменилось время. Мы боялись их, они боялись нас. Ведь если бы они нас не выпустили из страны и наши имена попали на страницы газет, был бы международный скандал. И кто-то мог потерять погоны. Так мы после десятилетнего затворничества попали в Америку.
АМЕРИКА
ПОКА ЕЩЕ ЕДЕМ В ГОСТИ
И вот долгожданная встреча в аэропорту Кеннеди. Слезы, корреспонденты. Боже мой! Я даже не думал, что после стольких лет Ольгу здесь помнят и любят. Первое, о чем ее спросили:
- А почему вы не приехали получить приз женской фундации США? Ведь мы вас приглашали еще в 1982 году.
Ольга бормотала что-то невнятное. Ей стыдно было ответить, что сквозь сито официальных инстанций и КГБ это приглашение к нам не пришло. Потом мы узнали от американцев, что нас приглашали каждый год по нескольку раз. Было стыдно и обидно. Не за себя. За свою страну.
Как-то Рик Эпэлман - один из организаторов показательных выступлений сборной СССР в США - сказал нам: «Не заинтересованы были чиновники от гимнастики в Ольгином приезде за рубеж. Ведь она могла узнать о судьбе многих своих подарков, к примеру, новенького «шевроле», не считая валюты...» Вот так. Оказывается, был даже «шевроле»...
Мы приехали с Ольгой в Америку по частному приглашению Данчика и остановились у него. Поскольку мы были очень известной семьей, нас сразу стали приглашать в разные дома наши знакомые и друзья. Богатые и знаменитые американцы все время присылали лимузины за нами.
Этот приезд в Америку стал в основном отдыхом для нас, если не считать нескольких важных событий. В октябре Ольгу пригласили в Калифорнию в город Ошенсайд открыть зал гимнастических знаменитостей. Ей вручили изящный приз: на хрустальном антаблементе стоит Ольга, выполненная в золоте, в той позиции, которой она заканчивала каждое свое выступление. Золотая богиня.
На вручении было много народа, и Ольга все время раздавала автографы. Я был поражен: неужели Ольга после своего многолетнего отсутствия все еще так популярна в Америке? Потом понял: эти люди были благодарны ей за открытие для Америки спортивной гимнастики.
На восхитительном банкете в честь «Ольги Корбут» один американский тренер сказал, что благодарен ей за то, что она своим гениальным мастерством дала тренерам работу: тысячи маленьких девочек пошли в гимнастические залы.
Еще одно событие - вручение Ольге приза женской спортивной фундации Америки. Церемония проходила в Нью-Йорке. Были там и голливудские звезды, и известные комики. Ольга со своей непосредственностью чувствовала себя как рыба в воде. Мне тоже приходилось много шутить - благо запас актерских анекдотов у меня большой еще со времен ГИТИСа.
Ну а свободное время мы в основном проводили в гостях у американских белорусов. Душевная теплота, доброта, дух гостепреимства всегда были характерны для нашей нации. И где бы мы ни жили, мы всегда останемся белорусами.
Тогда же я впервые с Ольгой и Рикой попал в Диснейленд. Увидев эту сказку в реальности, начинаешь задумываться о своем «потерянном» детстве. Ольга уже была там не раз. Но впечатления от поездки были не менее сильными, чем пятнадцать лет назад. Ну а впечатления Рики вообще нельзя передать словами. Еще ему очень понравился стереофильм «Капитан» с Майклом Джексоном в главной роли.
В 1989 году федерация гимнастики Америки пригласила Ольгу на совместные показательные выступления сборных США и СССР. Поездка была запланирована в восьми больших городах США, и Ольга должна была прорекламировать эти выступления.
Ольга страшно волновалась - ведь ей после стольких лет перерыва приходилось выступать практически на помосте в жанре «вольных» упражнений! Помню, она месяц тренировалась упорно и азартно, сбросила лишний вес. И из своих 55 киллограммов в «мокром пальто» она вернулась к весу монреальской кондиции. Но сбросить вес - полдела. Важнее восстановить форму. И это ей удалось. Однако за день до выступления она порвала связку на тренировке (как обычно, «гадкому утенку» всегда «везло»). И до последнего момента, даже когда она давала интервью телерепортерам, не верила сама, что сможет выйти на помост.
Корбут вышла. И вышла не просто помахать ручкой. Когда она остановилась в лучах прожекторов, тишина вдруг раскололась, затрещала и лопнула. Если бы ее приняли хуже, чем тогда, во время первого турне... Не знаю, как бы она пережила это. Но ее приняли так же. Зал содрогнулся. Это были все те же овации все тех же американцев, как и в 1973 году. Роняя слезы, Ольга прижала палец к губам, и под звуки знаменитой «Калинки» пустилась в «вольные»!
Восемь выступлений, восемь штатов. Ольга снова почуствовала себя человеком, который нужен людям. Она ожила. В этой поездке ее жизнь наполнилась новым смыслом!
Нам предложили остаться в Америке, но мы еще не были готовы к этому. И тогда нас попросили оставить нашего сына Ричарда пожить в Штатах, чтобы он и английский выучил, и Америку посмотрел. Да и в Беларуси после чернобыльской трагедии было небезопасно жить. Мы так и сделали.
В конце августа мы поехали в Вашингтон в посольство СССР, для того чтобы узаконить дальнейшее пребывание нашего сына в США. Мы пришли «попросить» заграничный паспорт для него. Нам заявили: «Что вы! В СССР паспорт получают только в шестнадцать лет!» Тогда я сказал, что внучка Шеварднадзе законно учится в США и если Рике не выдадут паспорт, то мы обратимся в прессу. Недолго с кем-то посовещавшись, нам вежливо предложили сфотографировать Ричарда. И где-то через полчаса за двадцать долларов мы получили паспорт.
Ричард остался жить у наших знакомых - Наташи и Гены Гринбергов. У них был большой дом и сын такого возраста, как и Рика. Но Ричард все равно скучал.
Мы понимали, что надо что-то делать. Долго это продолжаться не может. Где-то через полгода мы снова доехали в США, уже думая, что надо жить в Америке.
ПРЕВРАТНОСТИ АМЕРИКАНСКОЙ ЖИЗНИ
Итак, в 1991 году мы с Ольгой и сыном Ричардом уехали в Америку. На это было много причин. Одна из главных - Чернобыльская трагедия. Надо сказать, мы пытались как-то помогать, бороться с ее последствиями! Ольга организовала гуманитарный фонд, по линии которого в Беларусь поступали лекарства. Но вся наша работа натыкалась на административные проволочки. Складывалось впечатление, что это никому не нужно, кроме нас самих.
Однажды по линии фонда привезли партию очень дорогих лекарств. Это были живыегормоны, общей стоимостью триста тысяч долларов, они должны были находиться только в холодильнике. Так вот, лекарства из-за таможенной волокиты выгрузили и поставили возле батареи. После чего, естественно, они сразу испортились. Тогда Ольга сказала: «Все, хватит». Мы уехали в Америку.
Язык мы знали не очень хорошо. Поначалу переводчиком у нас был Данчик, но не могли же мы его эксплуатировать постоянно.
Совершенно случайно я встретил Семена Смолкина, с которым когда-то учился в архитектурном техникуме. Он уехал раньше и жил в Индианаполисе с женой американкой. Дело в том, что в Индианаполисе размещена Федерация гимнастики США, а нам нужно было именно туда ехать, так как Ольга собиралась в большой тур по гимнастическим залам. Мы договорились с Семеном, что он будет нам переводить.
Семен сначала согласился, но в последний момент сказал, что не сможет освободиться от работы, и предложил свою соседку Вику - женщину со страшной фамилией Фарахан, Если кто не в курсе, такую фамилию носит известный в Америке террорист. Вика Фарахан была из Питера, а муж ее иранец торговал коврами.
Вика довольно быстро, что называется, взяла нас в оборот. У нее был знакомый юрист - они работали «на пару», обманывая людей. Мы как раз искали менеджера. Вика сказала, что менеджер не нужен, она сама сделает все самым наилучшим образом, и деньги потекут к нам рекой.
И вот, когда мы оказались в Нью-Йорке, чтобы лететь в Советский Союз, который еще манил друзьями, родственниками и своим привычным укладом прожитой там жизни, Вика настояла, чтобы мы сначала посетили офис каких-то адвокатов. Там Вика со Стивом (так она называла этого «адвоката») и с какими-то свидетелями стали уговаривать меня подписать бумагу, которая в ее переводе показалась мне совершенно безобидной. И она так нам задурила мозги, что мы подписали контракт, который они нам подсунули - «Пауэр-атторни». Это значит, что управление всем нашим имуществом, деньгами, подписанием контрактов и так далее переходит к этой самой Вике Фарахан. Такие вещи практикуются в случаях, если человек смертельно болен или душевнобольной.
Вика коварно воспользовалась нашим незнанием языка. Впоследствии, когда мы уже встали на ноги и могли себе позволить иметь хорошего адвоката, мы аннулировали этот контракт. Правда, до сих пор не знаем, сколько она на нас заработала
Но все дурные поступки наказуемы. Однажды, когда мы уж жили в Атланте, Вика позвонила нам и попросила помочь. У нее появились проблемы с налоговой полицией, и она хотела, чтобы Корбут похлопотала за нее, обещала заплатить за это крупную сумму денег. Ольга на это не пошла.
Не знаю точно, когда и как появилась у нас идея фундацни Ольги, но помню, что когда мы начали ездить в США, к нам домой в Минске стали приходить люди, у которых дети были больны лейкозом и лейкемией. Как-то к нам домой зашел Сергей Чуковский, водитель такси:
- Вы едете в Америку. У моей дочери Ирины лейкемия. Здесь ее не спасут. Там есть клиника, врачи которой могут вернуть мне дочь. Если можете - помогите.
Индианаполисский детский госпиталь согласился помочь. Делать операцию надо было срочно. Но увы! «Железный занавес» у нас на тот момент еще никто не снимал. Пять месяцев оформляли наши власти документы на выезд Ирочки Чуковской в США. Она умерла. В Беларуси такие дети были обречены.
В июле 1990 года мы с Ольгой получили приглашение от Вики приехать на несколько дней в Лондон, чтобы дать интервью и рассказать о чернобыльских проблемах, а потом приехать в США. В очередной раз нас «подставили» с документами и, конечно, две визы - в английском и американском посольствах - нам получить не удалось. Я с неимоверными усилиями получил визы в последний день перед отъездом в английском посольстве в Москве, и вовсе не из-за англичан, а из-за наших порядков и того бардака, что творился у зарубежных посольств в то время. Мне пришлось всеми правдами и неправдами пробраться с того входа, где получают визы по служебным командировкам. Я уже стоял первым, когда в очереди стали кричать, что, мол, я тут делаю, почему я здесь стою. И меня начали оттеснять кагэбэшники, которые работали тогда начальниками отдела кадров на каждом советском предприятии и получали служебные визы для работников, выезжающих за границу.
Вот тут-то мне и пригодилось актерское мастерство. Я сдавленным голосом предупредил орущую толпу, что мне очень плохо и что скоро у меня начнется приступ эпилепсии. То ли из-за сочувствия, а скорее всего, из-за страха, что придется помогать ближнему, они уступили очередь. И после приветливого объявления консула: «Визу в Объединенное Королевство получает Ольга Корбут и ее семья» - я со счастливой миной на лице (если можно было в том положении изобразить таковую) гордо прошел мимо выпучивших на меня глаза кагэбэшников.
В Лондоне нас встретила Вика, нам в течение десяти минут сделали американскую визу, и мы поехали в офис журнала «Ю». Там пробыли почти полдня. Ольга давала интервью журналистке этого популярного английского журнала. Почти весь следующий день нас снимали рекламщики. Вика объясняла, что это для журнала «Ю». Как выяснилось потом, ни одна из этих фотографий в журнале «Ю» не была напечатана. Вика делала деньги для себя. И обещая нам, что организует фундацию Ольги Корбут, организовала свою собственную фундацию в помощь жертвам Чернобыля в Индианаполисе, где стала директором и где нещадно эксплуатировалось имя Ольги Корбут. В журнале «Ю» был напечатан адрес и счет этой фундации, которая успела собрать немалую сумму денег и о которой мы не имели ни малейшего понятия. Вот такими были наши первые встречи с «американцами» и первые впечатления о «деловой» Америке.
Происходили и другие случаи. На одном приеме мы познакомились с владельцем гимнастического зала в Нью-Джерси. Это был Денис Дисковик - начинающий бизнесмен, американец югославского происхождения.
Мы вообще мало себе представляли, что такое деловая Америка. Как вести бизнес, подписывать контракты? Тем более это трудно без знания языка. Югослав предложил Ольге преподавать в его гимнастическом зале и сказал, что хочет заключить с ней контракт. Но гимнастика его не интересовала, интересовал только бизнес. Это подтверждал плохо оборудованный зал.
Дисковик предложил Ольге около трех тысяч долларов в месяц. Для нас, когда мы в Союзе не получали и десятой части этой суммы, это показалось огромными деньгами. К тому же он сказал, что Нью-Джерси - самый лучший штат в Америке, и он нам предоставит дом, где мы будем жить.
Как потом оказалось, город Фолсом, в котором мы поселились, был самым задрипанным городком. Климат ужасный, летом под 40 градусов по Цельсию. Мухи и комары, поскольку кругом был лес, доставали нас с невероятной силой. А дом, за который мы платили более пятисот долларов нашему менеджеру в карман, сдавался местным католическим приходом совершенно бесплатно.
Позже сами американцы нам говорили, что мы не должны связываться здесь с русскими и людьми «мидл». Во многом это действительно так, но и потом нас подстерегали всяческие неудачи.
Как-то Ольгу пригласил на Игры доброй воли Тед Тернер - миллиардер и меценат. Бывший директор этих игр предложил свои услуги в продюсировании Олиной книги. Это был Боб Волш, с которым Ольга познакомилась не без помощи уже известной Вики Фарахан. Позже, при личной встрече Тед Тернер сказал Ольге, что с этим человеком он никаких дел больше не имеет и другим иметь не советует. Но тогда мы ничего еще не знали, жизнь в Союзе была далека от суровых законов рынка, и умению вести дела нас никто не учил. Оттуда Америка виделась только в розовом цвете.
Таким образом заключили мы с этим менеджером контракт на издание Ольгиной книжки, которая к тому времени уже была написана. Он нашел издательство «Рэндом хауз» - одно из самых крупных издательств с филиалами по всему миру и штаб-квартирой в Лондоне. Но появилось издательство-посредник - «Байрон прайс». Контракт был подписан так, что все финансовые права на тираж принадлежали именно этому издательству. В результате Ольга получила около сорока тысяч долларов и больше ни цента.
Книга вышла в Англии невзрачной, без конца и начала, без фотографий, к тому же «поправленная» какой-то Эллен Эмерсон, которая однажды приехала к нам, для того чтобы взять интервью, и потом сумела поставить свою фамилию рядом с фамилией Ольги на титульном листе как соавтор.
С такими неудачными контрактами Ольга ездила по всей Америке. Ее менеджер-югослав сделал нам соушиал-секьюрити, но о рабочей визе или грин-карте речи не шло. Он не был заинтересован в том, чтобы Ольга встала на ноги, и хотел, чтобы мы во всем зависели от него. Этот югослав купил автобус, расписал его яркой краской «Olga Korbut», и они ездили по разным гимнастическим залам и делали так называемые «клиники». Собирали детей, которые занимаются или интересуются гимнастикой, и Ольга в течение нескольких часов рассказывала о себе, показывала элементы и учила их. Это были неплохие деньги. Однажды они попали с этими уроками в Атланту, в гимнастический зал, владельцем которого оказался Дэвид Дэй.
У него был великолепный гимнастический зал, да и Атланту нельзя сравнить с Фолсомом. Он пригласил нас к себе. Но мы никак не могли решиться на переезд. Да и контракт с югославом сдерживал, хотя последний его нарушал десятки раз. Кончилось тем, что Дэвид Дэй пригнал в Фолсом рефрижератор, загрузил все наши вещи, сгреб нас в охапку и увез к себе. Так мы оказались в Атланте.
Ольга была нужна и востребована. А я... В Америке белорусские певцы никому не нужны. Мне так прямо об этом и сказали.
Раз или два в год я выступал перед нашими эмигрантами. Первые два года вообще не работал: подыскивал дом в Атланте, писал картины, учил язык, занимался домом.
В Атланте у нас была целая резиденция с бассейном, баскетбольной площадкой. Красота невозможная - сосны кругом, лес... Этот дом обходился нам в пять тысяч долларов в месяц. Сейчас в нем никто не живет, он сдан в аренду банку.
Потом стало скучно, и я переключился на бизнес: устроился в фирму, занимающуюся изготовлением фотографий, слайдов, постеров. Проработав пять лет, я стал владельцем сорока девяти процентов акций компании. Наше финансовое положение позволяло мне быть свободным художником, и я целиком переключился на живопись.
Вообще-то жизнь у американцев, на мой вкус, очень скучная. Там можно отдыхать, но жить... Мне - трудно. Там нет понятия - друг. Там все связано с деньгами, единственная цель - накопление денег, все оправдывает слова «бизнес есть бизнес».
Между прочим, самые большие деньги мы с Ольгой в Америке платили за телефонные счета. В любой праздник набираешь номер, в далекой Беларуси звенит звонок, и по телефону говоришь и выпиваешь с другом, оставшимся дома. Тогда все эти материальные блага не имеют смысла. Ну есть у нас вилла. И что? Ее же некому показать, все старые друзья остались в Минске! Вот если бы эту виллу можно было забрать из Америки и поставить дома, среди своих! И друзья бы порадовались и подивились, чего я в жизни добился!
Это чисто славянская черта - желание разделить радость со своими, желание сочувствовать и получать сочувствие. Там, в Америке, я понял, почему Гитлер хотел уничтожить славян. Да потому, что считал, что этот наш комлекс добра, сочувствия - плохо, что в гонке за деньгами добро и сочувствие только мешают.
УВЛЕЧЕНИЕ ЖИВОПИСЬЮ
Я с детства любил рисовать и интересовался живописью. Моим кумиром был Сальвадор Дали. И моей первой, по-настоящему большой работой стал его портрет, написанный маслом. Этот портрет висел у нас в гостиной, когда мы с Ольгой жили в Минске на улице Комсомольской.
Меня никто не учил рисованию. Когда я поступал в техникум, на экзамене по рисунку всех попросили взять мольберты, а я к своему стыду даже не знал, что это такое. Но экзамен я тогда сдал на «пять».
Техникум мне во многом помог. Там я набил руку, научился рисунку, видению света и перспективе, у меня не раз рождались замыслы картин, но работа в «Песнярах» отнимала все время.
Когда мы переехали в Атланту, Ольга стала хорошо срабатывать. Мы купили дом. У меня появилось много свободного времени. Я пошел в магазин, купил дорогой мольберт, краски и начал писать картины. Свою первую картину назвал «Слеза Христа». Я над ней работал целый месяц. В центре поместил копию «Мадонны Литты» Леонардо да Винчи. Только в картине Леонардо ребенок смотрит на мать, а в моей картине он смотрит на сюжет, в центре которого находится.
В общей сложности было написано около пятидесяти картин. Я мог долго не рисовать, но потом меня захватывал сюжет или даже несколько сюжетов, и уже невозможно было оторваться от холста.
И Рика, и Ольга знали, что когда я пишу, меня лучше не отвлекать. Во-первых, бесполезно; во-вторых сильно раздражает. Я писал обычно по ночам, когда никто не мешал. Иногда просыпаюсь утром, смотрю на картину и думаю: неужели это я написал? Подражая многим художникам, написал портрет супруги. Портрет Ольги был написан в стиле иконописи на золотом фоне.
Однажды на каком-то приеме мы познакомились с владельцем картинной галереи и пригласили его в гости. У чернокожего американца были галереи в Атланте и в центре Парижа. Ему очень понравились мои картины. Он сказал, что это здорово и необычно, и взял мои картины в свою галерею. Затем еще несколько картин взяли в другую галерею, тоже в Атланте. Несколько картин было продано, кое-что я подарил своим друзьям.
На Гавайях в гостях у Рэя Стивенса познакомились с известным современным голландским художником Лассеном, сюрреалистом и маринистом. Серия открыток с его работами продается во всех киосках Минска. У Лассена замечательный дом на Гавайях и, кроме живописи, у него есть еще одна страсть - виндсерфинг. Лассен подписал и подарил мне альбом со своим работами.
Я две недели провел у него в мастерской, он научил меня работать аэрографом. Впоследствии это повлияло на мои более поздние работы.
ДЖОРДЖ ХАРРИСОН
Я уже писал, что в моей жизни было множество встреч с талантливыми, даже гениальными людьми, за которые я благодарен судьбе. Но об одной из них хотелось бы рассказать отдельно.
Как и многие-многие мои ровесники, я обожал английскую группу «Битлз». Судьба меня свела с Джорджем Харрисоном - человеком, которого знает весь мир и которого я очень люблю как музыканта. Если бы мне в юности кто-нибудь сказал, что пройдет с десяток лет и я буду сидеть рядом и разговаривать с одним из участников этого великого квартета, - никогда бы не поверил.
Это произошло весной 1999 года. Мы с Ольгой отдыхали на Гавайских островах, куда нас пригласил Рэй Стивенс - вице-президент киноакадемии «XX век Фокс» и мультимиллионер.
С Рэем мы познакомились благодаря Ольге. Как-то раз у нас дома в Атланте раздался звонок. Приятный мужской голос сообщил:
- Это звонит Рэй Стивенс. Я хочу поговорить с Ольгой Корбут.
А у нас дома как раз был менеджер Оли. Он как услышал эту фамилию, так за голову схватился... от восторга.
Рэй сказал, что он большой поклонник Ольги и очень хотел бы с ней повидаться. Мы встретились в Индианаполисе и с того момента стали хорошими друзьями.
Так вот, на Гавайях, на острове Мауи, в живописном месте на побережье океана у Рэя есть дом. Не дом, а райский уголок: там и теннисные корты, и поля для гольфа, и потрясающий сад. Сам дом - круглое здание, от которого идет шесть спусков с разных сторон, - построен в перуанском стиле ирвестным архитектором мисс Ван дэр Роэ. Здание не имеет крыши в нашем понимании - на колоннах поддерживается огромный навес. Между навесом и самим домом - пространство, куда льется воздух с побережья. Стоило это чудо тридцать миллионов долларов еще когда-то.
У Рэя великолепная коллекция картин, поэтому тщательно охраняется секьюрити. Между прочим, у него и картины Марка Шагала и Пикассо.
Так вот, были мы у Рэя Стивенса в гостях и как-то днем, во время прогулки, посетили музыкальный магазин. Я подошел с Рэем к стеллажам с компакт-дисками и увидел там мой любимый альбом «Битлз» «Эби Роуд», он стоил 22 доллара. Покрутил его в руках:
- Дороговато.
- Не покупай, - сказал Рэй. - Этот диск подарит тебе один человек.
К вечеру я уже забыл об этом разговоре. Однако после шести часов, когда мы собрались на аперитив (хочу добавить, что Рэй для своих восьмидесяти лет отлично выглядит и не прочь иногда хорошенько выпить), он мне напомнил:
- Ну так что, поедем за диском?
И мы поехали. Ехали минут сорок пять и приехали в тот район островов, который называется Хана.
- Так где твой друг живет? - спрашиваю я у Рэя. Он показывает на красивый белый дом у скалы.
Но вместо того, чтобы подниматься, мы едем по дороге вниз. Я удивленно взглянул на Рэя.
- Там лифт, - пояснил он.
Поднялись мы на лифте, нас встретили две девушки, одетые по-индийски, проводили в дом.
Стены в доме были увешаны портретами «Битлз» и их пластинками - золотыми и платиновыми. «Ну, к продюсеру пришли», - подумал я.
Входим в зал. В кресле сидит человек - очевидно, хозяин дома, обернутый бумажными полотенцами, вероятно, принимает какие-то процедуры.
- Вот это мой друг, Джордж Харрисон, - сказал Рэй. Возникла пауза.
- Это однофамилец Харрисона? - переспросила Ольга.
Рэй и Джордж засмеялись.
Когда Джордж снял с себя полотенца, я увидел, что это действительно он. Я не верил глазам своим. Джордж это заметил. Рэй меня представил как известного певца фром Раша.
Тут же принесли столики с фруктами и выпивкой, атмосфера потеплела. Джордж стал интересоваться, что у меня за группа. Оказалось, он слышал о «Песнярах». В тот момент он собирался продюсировать музыкальный проект под названием «Ву-bу, twenty century», куда собирался пригласить лучших исполнителей из разных стран. Планировалось провести мировое турне, а также выпустить пластинку.
Харрисон очень заинтересовался «Песнярами».
Я оставил ему свои координаты, и он сказал, что обязательно меня найдет.
Попили, поговорили, и вдруг Джордж предложил:
- Пойдем со мной.
Мы подошли к стене. Он нажал ногой клавишу, в один миг стена раздвинулась. За стеной был зал с белым роялем «Steinway» в центре. Немного осмелев от виски, я спел отрывок песни «А ў полі бяроза» а капелла, чтобы проверить акустику. Она была великолепной.
Мы подошли к роялю, и Джордж попросил меня спеть какую-нибудь популярную русскую песню.
Я спел «Ой, цветет калина в поле у ручья». Ему понравилась мелодия.
- У вас все песни такие?
- Да,- говорю.
В этот момент в зал вошел Эрик Клэптон. Они с Харрисоном, оказывается, большие друзья. Харрисон представил меня, и мы пошли обратно, к столикам, где остались Ольга и Рэй. И проговорили еще около часа: о музыке, об Ольге...
Эта встреча запомнилась мне на всю жизнь.
Позже мы были на приеме у Элтона Джона, который он устроил для своих друзей. Элтон Джон купил пентхаус в Атланте и живет теперь там. Он сообщил нам, что проект «Ву-bу, twenty century» отменяется, так как Джордж Харрисон плохо себя вувствует.
Харрисон уже был смертельно болен.
ОЛЬГА И ЭЛТОН ДЖОН
Ольга любила вспоминать один совсем маленький эпизод. Произошел он тогда, когда она еще не оставила гимнастику и с нашими девушками-гимнастками ездила в турне по Штатам.
В Атланте (ох, кто бы тогда сказал Ольге, что она будет жить в этом городе!) гимнасток пригласили на концерт Элтона Джона.
Они сидели в ложе огромного, размером почти со стадион, зала. Элтон Джон был где-то там, далеко внизу. Концерт проходил, как всегда, - певец срывал с себя поочередно пиджак, галстук и рубашку. Ольгу поразило, что перед каждым креслом стоял небольшой цветной телевизор, и зрители в деталях, без театрального бинокля могли видеть происходящее на далекой сцене.
Про голос и репертуар Элтона Джона Ольга ничего определенного сказать не могла - по-моему, ее и то и другое не восхитило. Зато она с восторгом вспоминала его темперамент. Вот это да! По ее словам, в продолжение двух с половиной часов он разве что не взобрался по портьере на бельэтаж, все остальное - пересечение сцены туда и обратно по-пластунски, стойка на голове, прыжки в сторону и через барабан, выбрасывание гитары и микрофона - все было. Конечно, после наших групп, которые чинно стояли на сцене, такой всплеск энергии казался абсолютно фантастическим.
Заведенная певцом публика стонала в неописуемом восторге. Наши гимнастки тоже не скучали, находя в предлагаемом зрелище своеобразное удовольствие. А под занавес, поддавшись общему психозу, они решили похулиганить: стали из программок делать самолетики, ставить на них автографы и пускать в зал. Кто-то, поглядывая наверх, вертел пальцем у виска, кто-то смеялся и отправлял самолетики дальше. Когда же зрители разобрались, что на этих самолетиках (а по Ольге Америка сходила тогда с ума не меньше, чем по Элтону Джону), внизу возникла небольшая куча мала. Ольге понравилось - вот и она внесла свою лепту в создание соответствующей атмосферы на концерте...
И Элтон Джон, кстати, на нее совсем не обиделся. Потом в Атланте мы несколько раз были в гостях у Элтона Джона, в пентхаусе в доме Паркуэй.
МАРИЯ ШРАЙВЕР И ТЕД ТЕРНЕР
Если говорить об Америке, то нельзя не сказать о нашем хорошем друге - Марии Шрайвер - жене Арнольда Шварценеггера и племяннице двух президентов Кеннеди, один из которых Джон Кеннеди. Познакомились мы с ней давно, когда жили в Нью-Джерси. Мария делала на канале NBC шоу с известными людьми. Однажды она приехала в Фолсом, чтобы взять интервью у Ольги и у сына Ричарда, узнать о чернобыльской трагедии. Ольга была в то время президентом фонда «Children Of Chernobyl» («Дети Чернобыля»). Так и состоялась наша первая встреча.
Позже мы приезжали несколько раз в Лос-Анджелес (Мария с Арнольдом живут в Санта-Монике недалеко от Лос-Анджелеса). Мария нас познакомила с Тедом Тернером, американским медиа-магнатом, и с Джейн Фонда, популярной американской киноактрисой. Мы несколько раз были на приемах у Теда Тернера, на его плантациях во Флориде.
Казалось бы, что может объединять столь разных людей? На самом деле все эти люди имеют самое непосредственное отношение к спорту. Арнольд Шварценеггер десять лет подряд был чемпионом по бодибилдингу и являлся первым советником президента США по спорту. Тед Тернер в свое время был чемпионом по парусному спорту. Мария Шрайвер имеет прямое отношение к организации «Special Olympic Games» - олимпийские игры для инвалидов, которые проходят под патронажем ее отца - Сержанта Шрайвера, и в которых, по его просьбе, каждый раз принимала участие и Ольга.
Между прочим, Ольга всегда была рада откликнуться на просьбу, приехать, помочь. Она нацелена на помощь - такой у нее характер. И если бы она почувствовала, что на родине, в Беларуси, в ней нуждаются, то обязательно помогла бы нашей федерации спорта. Не так много у нас спортивных звезд, чтобы ими разбрасываться. Но это так, между прочим.
Как я уже говорил, в первый раз на прием к Тед Тернеру мы попали в Атланте благодаря Марии, на встрече присутствовало много известных людей Америки: мэр Атланты, сенаторы, сын президента СЩА Джорджа Буша-старшего - он являлся тогда губернатором Флориды. Были Барбара Стрейзанд, Пети Лупоун - первая исполнительница Эвиты - и многие другие знаменитости. В центре пентхауса был разбит большой зимний сад с фонтанами и диковинными растениями в тени которых в небольшой вольере резвились два молодых тигренка.
Тед Тернер заметил Ольгу и меня с первой же ветречи. Он потом говорил, что мы не были похожи на типичных американцев: чувствуется пресловутая славянская душа. Ольга вообще человек очень непосредственный, я - тоже, так что мы могли и выпить, и заплакать, и посмеяться, и попеть песни. Не было никакого зажима, поэтому и сам Тед Тернер мог позволить себе расслабиться и отвлечься от всех тех проблем, которые доставляла ему его миллионная медийная корпорация.
Не забуду один случай. Как-то при Теде я сел к роялю, спел несколько наших песен, вдруг он неожиданно покраснел, и из его глаз полились слезы.
- Любовь и счастье за деньги не купишь, - сказал он. - У меня есть все - и деньги, и власть, но я не знаю, для чего мне все это.
Конечно, мы выпили - такие откровения вырываются не на трезвую голову, тем более у американца. Но именно тогда Тернер был абсолютно искренен. Он разводился с Джейн Фонда - и мы стали свидетелями срыва.
Но это было только раз. Обычно мы видели Теда Тернера очень жизнерадостным и всегда подтянутым.
Кстати, немного о причудах миллиардеров: любимый напиток Тернера - виски «Дели», бутылка которого стоила около 1500 долларов, а в самом виски плавали кусочки сусального золота.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
«ВОТ НАКОНЕЦ И ВМЕСТЕ МЫ»
Когда отмечали двадцатипятилетие «Песняров», Володя Мулявин позвонил мне в Америку и пригласил на юбилей. И директор «Песняров» позвонил, и я уже взял билеты...
Но тут случайно в магазине «Марс» (в Америке в магазинах «Марс» продают музыкальную литературу, инструменты) Ольга купила голландский диск «Песняров». На этом диске песня «Александрина» - моя песня! - была исполнена другим человеком. Я очень обиделся. Ведь «Александрина» - это же классика! Конечно, когда меня нет, другой исполнитель может петь ее в концертах... Но записывать!..
Это все равно, как если бы Пол Маккартни позволил записать песню Джона Леннона в другом исполнении.
Мы обиделись, и я не полетел, хотя билеты стоили почти две тысячи долларов.
Прошло несколько лет. Владимир Мулявин приехал в Америку к Анатолию Кашепарову, бывшему солисту «Песняров», тоже обосновавшемуся в Америке.
Толя жил во Флориде, а мы в Атланте. Володя все-таки решил после Толи заехать ко мне. Приехал - и удивился, как мы обеспеченно живем. Володя со своей семьей гостил у нас месяц.
Мулявин переживал не лучший период своей жизни - в коллективе начались раздоры, ансамбль разваливался...
Через некоторое время мы с Володей пригласили в Атланту Толю Кашепарова. Толя приехал, и мы втроем наметили проект возвращения: «Вот наконец и вместе мы». Но Толя Кашепаров из-за некоторых обстоятельств вернуться в Беларусь не мог, а я поехал.
Я летел из Америки вместе с итальянским симфоническим оркестром. Мы смеялись, рассказывали истории. Но когда самолет пошел на посадку и я увидел деревья, белорусскую осень, знакомые очертания аэровокзала, я вдруг заплакал. Они удивились. Я объяснил: «Ребята, я не был на Родине девять лет».
Приехал и попал сразу на «Золотой шлягер».
Я был уверен, что меня забыли. Но спел «Березовый сок» - и каково же было мое удивление когда я запел, публика встала! Меня помнили и приветствовали! У меня - слезы на глазах. Я допел, зашел за кулисы и сказал себе - все, больше никакой Америки у тебя не будет, твоя жизнь здесь.
В первый же день записал сразу пять песен. Я был очень взволнован, потому что не надеялся, что снова буду петь.
Я счастлив, что мой приезд совпал с тридцатилетием «Песняров». К тридцатилетию была дана серия концертов в Минске и Москве с участием оркестра Финберга. Вот только жаль, что телевизионная версия одного из концертов, который проходил в концертном зале «Россия» и длился четыре с половиной часа, была сделана каналом РТР не совсем качественно и профессионально.
Опять я нужен людям. Опять я на сцене, опять я нашел себя.
Сцена для меня - святое. Пусть ты себя плохо чувствуешь, пусть у тебя неприятности, сцена лечит. Ты выходишь на сцену - и все: забываешь о боли, забываешь обо всем и опять себя чувствуешь таким, каков ты есть, настоящим. Насколько это здорово!
Ощущение счастья не заменят никакие виллы, никакие связи, никакое богатство. Гостить у Теда Тернера, конечно, здорово, и здесь жизнь, по сравнению с американской, бедная, но насколько же мне здесь лучше и легче!
Просто третья жизнь началась.
Меня часто спрашивают, какие перемены произош ли в Беларуси за то время, пока меня не было. Мне понравилось, что появилось много магазинов и в этих магазинах есть выбор. Когда я выезжал, ничего подобного не было.
Изменились и люди. Они хотят иметь свой бизнес, хотят зарабатывать деньги. Только жалко, что для этого в Беларуси мало возможностей.
Очень поразила периферия. К сожалению, люди в провинции живут очень бедно и совсем перестали улыбаться.
Но что меня радует, когда я еду на машине по Минску, - это огромное количество красивых девушек, стройных, симпатичных. Уверяю вас, что ни в одной стране мира столько красивых девушек вы не увидите.
«ПЕСНЯРЫ» ПОСЛЕ РАСПАДА СССР
Конечно, меня не было в стране девять лет, а это большой срок. Какое-то время мои друзья здесь продолжили без меня, и я не вправе судить, кто поступал правильно, а кто ошибался. Остались интервью, остались статьи, посвященные «Песнярам», - по ним можно попытаться восстановить ход событий.
В 80-е (еще до моего отъезда в Америку, но уже после моего ухода из группы) «Песняры» активно работали над большими программами, которые (за исключением цикла военных песен »Через всю войну») так и остались незаписанными. После моего ухода вперед выдвинулись вокалисты Валерий Дайнеко и Игорь Пеня. В 1987 году группу покинул Толя Кашепаров, позже перебравшийся в США.
Следующее десятилетие было для «Песняров» чрезвычайно сложным. Прежде всего сказалась неразбериха в финансировании и организации, царившая после распада СССР. Раньше коллектив относился к минской филармонии, а затем отделился, став госансамблем. К концу 90-х назрел раскол. Кто был прав, кто виноват? Повторяю, меня здесь не было и судить, кто прав, кто виноват, я не имею права.
В январе 1998 года Мулявин был смещен с должности директора ансамбля, сохранив должность худрука. На место директора назначили Владислава Мисевича. Точку в истории поставил Президент Республики Беларусь, вернувший основателя коллектива на должность директора, после чего Мисевич и несколько других музыкантов (среди них Дайнеко и Пеня) ушли из группы, создав ансамбль «Белорусские песняры», а Мулявин продолжил работу с новыми музыкантами.
В начале 2001 года группа отпраздновала тридцатилетие большим концертом в концертном зале «Россия», в котором принял участие и я; была презентация звезды Мулявина и «Песняров».
За то время, что я прожил вне «Песняров», изменения произошли и в личной жизни Владимира Мулявина. Вот отрывок из его интервью, где он рассказывает о своей последней любви.
- Какой период был более удачным в жизни - чисто в человеческом плане?
- Наверное, когда я встретился со Светланой Пенкиной: это было романтическое время, мы ютились в общежитии в Минске на улице Белинского. Все было просто здорово. Мне сорок лет, мой предыдущий брак распался, и я жил новыми романтическими надеждами, которые, к счастью, полностью осуществились. Вот уже восемнадцать лет мы вместе. Сын Валерий - самостоятельный человек.
- Как ты познакомился со Светланой?
- Сначала - в Москве. Она как раз закончила сниматься в многосерийной ленте «Хождение по мукам» и уже прочувствовала свою роль Кати. А я, будучи на гастролях в Москве, попал на «Мосфильм», где снималась короткометражка о «Песнярах». Там и познакомились. Потом не встречались три года. Но, очевидно, Богу было угодно, и он нас соединил. И соединил в Гродно. Светлана снималась в картине «Берегите женщин» и в перерывах между съемками прилетела на несколько дней в Гродно увидеть своего отца Александра Павловича. Именно в этот день, 18 ноября, сюда же с концертами приехал и я. Светлана вместе со своей подругой Таней Лукашевич пришли на мой первый концерт. Мы тогда давали свои колядки. Девушкам понравилось, и они решили посмотреть программу еще раз, но билетов, как тогда случалось часто, уже не было. И тогда Светлана, помня наше «шапочное» знакомство в Москве, пришла ко мне в гримерную Дома офицеров и завела речь о билетах. Но мне уже было не до билетов. Ко мне пришла любовь! Так что и здесь нас свела моя музыка.
А вот еще одно интервью, данное Владимиром Мулявиным в 1996 году, когда он находился в больнице. Тогда Владимир Георгиевич переживал, что после операции вынужден был отказаться от своей неразлучной трубки. Корреспондент его, разумеется, о трубке и спросил.
- Насчет моей трубки... Не уверен, что долго выдержу. Грустно без нее, как без моих ребят, кого вырастил, кому дал громкое имя. Правда, не все, кто состоял в ансамбле, являлись настоящими песнярами. Песняр, на мой взгляд, - это не только профессионализм, это образ жизни, образ мысли. Многие приходили и уходили: им было все равно где и что играть. Для меня одного профессионализма мало...
- Так кто же являлся настоящими песнярами?..
- Леонид Тышко, Леонид Борткевич, Анатолий Кашепаров - все в США. Александр Демешко и Олег Мовчан - в Москве. Володя Ткаченко сейчас работает с Финбергом. Игорь Паливода и Валерий Яшкин - светлая им память... Это настоящие мастера своего дела. Фанаты, которые могли репетировать без устали сутками. Порядочные, честные люди, очень талантливые парни.
- За прошедших три десятилетия приходилось слышать самые разные прогнозы о судьбе «Песняров». Опытные рокмены утверждали: следующий шаг мулявинской групппы - это западный шоу-бизнес. А белорусская музыкальная элита, наоборот, утверждала, что утонет Мулявин в стилизованной аутентике, так как только на этом приобрели «Песняры» мировую известность. Третьи - их было немного - никак не могли смириться, что уральский мужик смог поднять белорусскую народную песню, фольклор на такой высокий уровень, который многим и не снился! Еще и сегодня нет-нет да и появятся глубокомудрые размышления о том, что «Песняры» изжили себя, что само их существование нонсенс, день вчерашний.
- Подобные споры меня не волнуют. Меня волнует лишь одно: моя работа. Новые песни. Новая программа, не похожая на предыдущую. И еще люди, которым будет интересно меня слушать.
- Каждому музыканту хотелось бы быть понятым всеми и нравиться всем - как Чарли Чаплин. И вместе с тем оставаться самим собой. Мне кажется, что вам всегда удавалось совмещать эти понятия, эти две формы существования...
- Не всегд. Многим моим почитателям я действительно мил весь, но кому-то я вообще не нравлюсь. Но основной массе людей нравлюсь! И этим я дорожу. Именно для них я живу, сочиняю, играю, пою.
- После распада СССР ваш коллектив стал редким гостем в России. Не пускают?
- Что вы... Нас очень тепло принимают в России. Поступает много предложений по поводу концертов, но я себя не обременяю частыми поездками. Все-таки у нас семьи, и мы, честно говоря, отвыкли от безумного ритма жизни, стали оседлыми и с большим удовольствием погружаемся в студийную работу. Хотя ребята наши рвутся. Они прекрасно могут и без меня обходиться, но организаторы неохотно приглашают коллектив без Мулявина.
- Ну а как же иначе, ведь вы единственный, кто находится в группе с момента ее образования?
- Да, у меня уже четвертый состав.
- Чем же вы, не любитель гастролей, зарабатываете на хлеб с маслом?
- «Песняры» - бюджетный коллектив, государство платит нам ежемесячные минимальные зарплаты - около 3,5 тысячи ваших рублей. За это мы должны отработать определенную норму - шесть концертов в месяц. Если не шиковать, жить можно. К тому же у нас есть кое-какие приработки.
- Зарплату, значит, отрабатываете на правительственных концертах?
- К сожалению. Не всегда это радует, потому что, как правило, поешь не то, что хочешь, а то, что надо. Но, наверное, мы уже стали эмблемой Беларуси и вынуждены нести свой крест.
- Вас не огорчает, что былая популярность коллектива уже в прошлом?
- За последние пятнадцать-двадцать лет я немного устал от примитивных песен. И переключился на серьезные программы, театрализованные миниспектакли, где мы показывали, как проходили обрядовые славянские праздники - колядки, ночь Ивана Купали. В какой-то момент меня это по-настоящему увлекло, и мы наплевали на публику, хотя надо было изредка показываться на телевидении с песнями. Но нет ничего страшного в том, что мы прошли пик популярности, можно сказать, мы ею объелись.
УХОД ВЛАДИМИРА МУЛЯВИНА
14 мая 2002 года, когда белорусы отмечали Радуницу - день поминовения усопших, Владимир Мулявин ехал со своей дачи, что находится на Минском море, к себе домой. На резком повороте его «Мерседес-420» на большой скорости вылетел на встречную полосу и попал в кювет. Машина врезалась в дерево и опрокинулась. После аварии автомобиль выглядел, как груда железа, так что вообще невероятно, что Владимир остался жив.
В клинике на консилиум перед операцией собрались ведущие специалисты Беларуси по нейрохирургии, так как у Мулявина было тяжелейшее повреждение позвоночника. Операция длилась несколько часов и прошла успешно. Мулявин медленно стал оправляться от перенесенной травмы и летом при непосредственном содействии Иосифа Кобзона был переведен московскую клинику. Но травма оказалась серьезной, и в конце концов Владимира Георгиевича Мулявина не стало.
Утром 26 января нам позвонили и сказали, что произошла трагедия... Сердце у Мулявина дважды останавливалось, но его запускали. В третий раз не смогли...
Врачи говорят, что если человек постоянно лежит, то сердце его слабеет. Хотя у нас даже мысли не возникало, что может произойти такое! Мы думали: пусть он не сможет ходить так, как раньше, но... Ему же и гитару в больницу передали. И сам он говорил: «Скоро концерт. Выйду вместе с вами на коляске...» И смеялся рассуждая о том, как будет держаться микрофон: прикрепленным к коляске или как...
К Мулявину пускали только тех, с кем он вместе работал. Кобзона и Лученка, например... Даже жену врачи в последнее время пускали редко. Ему нельзя было волноваться.
Мы в последний раз привезли ему две наши новые работы, чтобы он внес коррективы. Первая вещь - ремикс на старую песню «Ты моя надежда» из фильма «Ясь и Янина». Вторая - «Седина в бороду» - была написана Лорой Квинт специально для Мулявина. Мы записали ее уже без него - каждый спел по куплету. Причем пришлось переписывать три раза, поскольку Мулявин каждый раз говорил: «Это не годится. Переделывайте аранжировку».
Из больницы не было связи с внешним миром, и Владимир Георгиевич купил на свои деньги радиотелефон - он по-прежнему осуществлял руководство «Песнярами».
Еще он попросил принести ему в больницу диктофон. Мулявин говорил: «Мне не всегда удается с кем-то поговорить, поэтому те мысли, которые будут возникать, я могу наговаривать на диктофон, чтобы потом передать их вам». Думаю, что какие-то записи есть, поскольку диктофон постоянно лежал у него на тумбочке рядом с фотографией, где он с Папой Римским, и парой иконок... У него, кстати, еще были четки, которые он постоянно крутил, чтобы разрабатывать пальцы и, как он сам говорил, успокаиваться. Он очень переживал, как мы без него, поскольку наша концертная деятельность продолжалась... Тоже, кстати, по его же желанию. Он сам сказал: «Ребята, работайте».
Пока Мулявин лежал в больнице, многие великие люди нашего времени спешили отдать ему дань уважения.
Евгений Светланов: «Мулявин вписал свою славную страницу в историю искусства...»
Оскар Фельцман: «Мулявин - настоящий талант, самобытный, мощный...»
Валентин Распутин - в больницу Мулявину: «Владимир Георгиевич, поднимайтесь! Сегодня и один в поле воин, а без одного, без такого, как Вы, и воинство не воинство».
Петр Проскурин: «С огромной радостью слушаю Вас и желаю дальнейшего процветания, полного слияния с глубинами народной души, с песней народа, которая всегда была опорой и надеждой на тяжелом пути укрепления и защиты своих национальных корней».
Олег Табаков: «Дорогой Володя! Двадцать лет я слушаю тебя и твоих ребят. Власти были разные и проблемы стояли разные, а голосом Вы говорили всегда человеческим и пели человеческими, реальными голосами. А я слушал с радостью музыку, которая часто трогала меня до слез, и всегда после этого так хотелось работать на всю силу».
Тихон Хренников: «Дорогой Владимир! Всегда восхищался Вашим искусством и той индивидуальностью, которая присуща только Вам! В Вашей индивидуальности есть нечто гипнотическое, что существует только в высших категориях художественности!»
Мулявин на эти лестные отзывы отреагировал репликой:
- Вот это да! Настоящая фантастика! И думать не думал, что все это есть у меня...
На прощание с композитором и музыкантом пришло огромное количество людей. Многие так и не сумели попасть в Дом офицеров, где была организована гражданская панихида. На протяжении всего дня лил дождь, как будто сама природа прощалась с великим музыкантом.
ГЕНИЙ МУЛЯВИНА
«ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ» ЖАНРА
Владимир Мулявин был в курсе всех современных музыкальных стилей и течений. В том, что он делал, многие находили пересечения с приемами «Manhattan Transfer Singers Unlimited Take 6» и многих других групп. Найти их, конечно, можно - но у Мулявина был свой почерк, свой стиль звучания, который и сделал «Песняров» мгновенно узнаваемыми и неповторимыми.
При этом - самое главное - никогда в работах «Песняров» не ощущалось даже намека наэклектику, которой грешили другие наши ансамбли, опиравшиеся на классическую, фольклорную, этническую, старинную и другую нероковую основу.
С первых же песен «Песняров» знатоки поняли, что творческий почерк Мулявина отличается необычайным чувством внутренней свободы, свободы от стилевых рамок и канонов, от стремления быть не хуже других, которое так часто выливается в стремление быть как все. Большинство групп использовали только электрогитары, ударные и орган, а Мулявин вводил в ансамбль скрипку и народные инструменты, не боясь показаться старомодной деревенщиной. Если надо, он вводил и духовую секцию, не боясь показаться теперь уже старомодным джазменом. Он смело шел и на увеличение численного состава ансамбля, хотя восемь (а то и двенадцать!) человек в группе выглядели как-то необычно на фоне других рок-групп, в которых и шесть музыкантов уже считалось много.
Его внутреннее чутье подсказывало ему - надо сделать ТАК, потому что так будет интереснее, ярче, свежее... Не помню случая, когда его необычное решение было ошибочным. Именно этот подход - для каждой новой песни искать свое решение в форме, аранжировке, звуке, фактуре - отличал «Песняров» от других эстрадных коллективов, у которых все песни звучали одинаково.
То, что делал Мулявин в «Песнярах», многие музыковеды относят к жанру фолк-рока. Но если это так, то множество наших песен просто никак не вписываются в наше же творчество. То же самое произойдет, если попытаться втиснуть «Песняров» в любое другое стилевое «прокрустово ложе». Да, основу нашего репертуара составляли белорусские народные песни, но подход к их обработке был совершенно иным. Именно в силу широты музыкального кругозора, внутренней творческой свободы, незашоренности взгляда Мулявин создавал песни, не вписывающиеся ни в рамки фолк-рока, ни в рамки любого другого стиля или направления. Мулявин использовал и арт-рок, и барокко-рок, и прогрессив-рок, и джаз-рок. Иначе говоря, что он считал нужным использовать для раскрытия образа той или иной песни, то и использовал.
Тем не менее западные исследователи, привыкшие непременно все расставлять по жанрово-стилевым полочкам, определили творчество «Песняров» - видимо, по небольшому числу работ - как прогрессив-рок. Известный музыковед Анатолий Вейценфельд рассказывал, что видел «Песняров» в списке музыкантов, работавших в этом стиле. Список составил известный специалист Фред Трефтон, и там же «Гусляр» был отнесен к двадцати лучшим альбомам стиля прогрессив-рок. Статья Трефтона о «Гусляре» завершается словами: «Несмотря на то что я не понимаю языка стихов, у меня осталось ощущение, что я услышал нечто чрезвычайное и глубокое. Этот диск нельзя пропустить! Определенно рекомендую прослушать».
«Гусляр» стал известен на Западе благодаря грамотному продвижению альбома московской звукозаписывающей компанией «Boheme Music», выпустившей «Гусляр» по лицензии «Мелодии» на компакт-диске спустя двадцать лет после выхода грампластинки.
Сам факт попадания в список лучших мировых альбомов произведения, созданного в Беларуси и звучавшего на белорусском языке, то есть относящегося к локальной литературе, уже означает огромное признание! Тем более что большинство в том списке составляют английские и американские альбомы.
Между прочим, сравнивая группу Мулявина с западными группами, многие отмечали, что сложное многоголосие у «Qween» схоже с песняровским, но специалистами уже и тогда было ясно, что многоголосия «Qween» - результат студийных технологий, а «Песняры» всe делали живьeм.
Kстати, о звукорежиссуре. У Мулявина был новаторский подход к звуку. В записях использовали самые современные звукорежиссерские приемы (при этом надо учесть, что оснащение тогдашних московских и тем более минских студий было куда хуже оборудования европейских и американских групп). К примеру, первая пластинка «Песняров» (1971) записывалась на четырехдорожечном магнитофоне, поэтому все инструменты записывались в одну стереопару, а все вокальные партии - в другую. Несмотря на такие ограниченные возможности, запись звучит чисто, прозрачно, темброво достоверно и прекрасно передает эмоциональный строй песен. А в песне «Сережки», вошедшей во вторую пластинку (1973), на сольном вокале Мулявина применена задержка - фирменный прием звукорежиссеров Элвиса Пресли. Первые две пластинки записал звукорежиссер московской студии фирмы «Мелодия» Александр Штильман. Он же записал в середине восьмидесятых и двойной альбом «Через всю войну».
Когда нужно было записать совершенно необычную для советской эстрады песню Мулявина «Крик птицы» - там очень много электронного звучания и шумовых эффектов - для записи в студию «Мелодии» специально пригласили патриарха советской эстрадной звукорежиссуры Виктора Бабушкина, работавшего на «Мосфильме». Только он мог справиться с технологически сложной звуковой партитурой.
А самые, по мнению большинства поклонников ансамбля, удачные пластинки - «Народные песни» и «Гусляр» (1979-1980) - записал ведущий эстрадный звукорежиссер «Мелодии» Рафик Рагимов.
«Песняры» существовали не в безвоздушном пространстве, и их творчество так или иначе сравнивали с тем, что исполняли другие советские ВИА и западные рок-группы. Сразу стало ясно, что «Песняры» - это нечто совершенно иное, непохожее на прочие ансамбли. Музыка «Песняров» всегда в определенной степени противостояла тому, что делали другие. Мулявин, может быть, невольно противопоставил свои собственные эстетические принципы тем, что были повсеместно распространены тогда. Главный его принцип - служение красоте.
В то время, когда мы были на эстраде, само слово «красота» употреблялось иронически. Ведь уже в начале семидесятых на рок-сцене начали разбивать гитары и биться в припадках... А во второй половине семидесятых вошли в моду панки с их непрофессиональной игрой, дурным пением и мутным саундом. У «Песняров» же красота была на первом месте. Мы оправдывали свое название - именно пели, пели поставленными голосами, а не орали, не шептали, не хрипели и не бормотали. И в этом тоже было отличие «Песняров» от многих других групп, причем со временем это отличие все усиливалось, поскольку поющих ансамблей становилось все меньше, а вот орущих... Неоднократно приходилось слышать от поклонников ансамбля, что после «Песняров» невозможно слушать другие наши группы. Что ж, в этом был свой резон...
Приверженность «Песняров» классическому идеалу красоты не всем нравилась - тех, кто вырос на пошлости и уродстве, наше пение не могло не раздражать. Как-то известный джазовый музыковед Леонид Переверзев заметил, что «джаз - музыка всемирная, но не всеобщая». Примерно так же могли сказать и мы о себе - на наши концерты «поклонники безобразного» не ходили.
Мулявин воспитал мой вкус. Он никогда не делал шлягер ради шлягера - то есть песни вроде тех, которые исполнял Добрынин. Кстати, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что Вячеслав Добрынин и потом Алла Пугачева (да простит она меня, я имею в виду только последний период ее творчества!) шлягером увели слушателей от серьезной музыки. А Добрынин вообще безмерно виноват, его песни - пример самого дурного вкуса. И - как следствие введенного дурновкусия - одно время нашу эстраду заполняли певцы, вообще не умеющие петь, все эти мальчики и девочки-однодневки, ломающиеся под «фанеру»...
Между прочим, в Америке сейчас запретили пение в концертах под фонограмму - на концерте должен звучать только живой голос. Рано или поздно это придет и к нам, и, думаю, такой запрет сразу очистит сцену. На компьютере, конечно, можно сделать что угодно, можно поднимать и опускать голос. А вот если песня поется живьем, - сразу слышно, кто чего стоит.
Наверное, сейчас такой период, когда искусство спит, дремлет. Ведь искусство, как и человеческая цивилизация, развивается циклично. И засилие непрофессионализма на сцене - тоже временное. Еще чуть-чуть подождать - и появятся новые таланты. Как в свое время появились «Битлз» и следом - множество вокально-инструментальных ансамблей. И сейчас - тишина перед взрывом. Но никто не знает, что будет, этого предугадать нельзя...
Владимир Мулявин всегда стремился избежать банальности. Фраза «это уже было» означала, что «мы этого делать не будем». И, конечно, заштампованная советская эстрада была ему совершенно чужда. Заштампованная в буквальном смысле - на каждой разрешенной к исполнению песне стояли соответствующие печати органов цензуры. В музыке он ценил не только красоту, но и искренность. И находил их в белорусской народной песне.
Обращение эстрадного музыканта к фольклору в то время было достаточно безопасно, ибо власти приветствовали фольклор. Тем не менее не обошлось без трудностей - система, сутью которой было двуличие, и тут не могла без демагогии. Поэтому на начальном этапе «Песняры» немало наслушались обвинений в «опошлении народной песни» и «извращении истоков». Но Мулявин в ответ выдвигал лозунги «осовременивания», «приближения молодежи к корням» и даже «патриотического воспитания» - конечно, делать это приходилось не от хорошей жизни. Но такое уж было время...
Из-за своего официального, почти привилегированного положения «Песняры» многими в тогдашнем рок-подполье воспринимались как часть советской системы. Думаю, что это мнение возникало либо от незнания, либо от зависти дилетантов к профессионалам.
А насколько «привилегированными» были «Песняры», можно судить сейчас по одному-единственному, но очень характерному показателю - соотношению количества исполненных и записанных вещей: в нормальной студийной звукозаписи осталась четверть нашего репертуара! За первые десять лет, лучших лет ансамбля,- всего четыре пластинки, вместе с «Гусляром» пять. А за следующие двадцать лет - и того меньше! Многое так и осталось на бытовых лентах, записанных любителями на концертах, и теперь уже никогда не прозвучит с профессиональным студийным качеством. А это зачастую лучшие песни «Песняров», те самые, которые не записывали ни телевидение, ни радио, ни государственная фирма «Мелодия».
Сейчас нередко продюсеры жалуются на пресловутую «проблему второго альбома» - когда группа или исполнитель выпустили первый удачный альбом, а вот для второго нет достаточно хорошего материала, или он получился ниже уровнем. У «Песняров» проблемы «что записать» никогда не возникало, напротив, очень многое осталось незафиксированным.
До сих пор нет полной описи фонограмм коллектива, не собраны в единую коллекцию даже официальные студийные и радиотелевизионные записи, не говоря о море частных любительских записей, иногда уникальных по содержанию, но ужасных по качеству. Такое впечатление, что «Песняры» работали не в конце двадцатого века, а в конце девятнадцатого.
Кстати, бытующее сейчас мнение, что «Песняры», помимо обязательного репертуара, для души работали только с фольклорными материалами, тоже неверно. Те, кто был на концертах, слышали не только песенки наивных веселых селян про Яся и Ганульку. Была у нас замечательная лирика - и знаменитые «Вероника», «Девичьи черные очи», и малоизвестные «Магдалина» на стихи Максима Богдановича, «Готика святой Анны» на стихи Максима Танка. «Святая Анна»- это красивейший костел в Вильнюсе, который Наполеон хотел унести в Париж. А «Аве Мария» (стихи Максима Танка) вообще не имеет аналогов ни в белорусской, ни в русской поэзии. К сожалению, эта потрясающая драматическая баллада была записана лишь в девяностых годах, ведь такой текст классика белорусской поэзии, как «стройные ноги, груди тугие - Аве Мария!» был абсолютно непроходим на радио, телевидении и грамзаписи в эпоху глухого застоя.
Впрочем, некоторые песни Мулявина на русском языке, написанные в более традиционном эстрадном стиле, также имели совсем не простую судьбу. Например, «Будочник» на стихи Сергея Крылова лишь однажды прозвучал на телевидении - действительно, песня о сказочном городе, где «ни полиции нету, ни армии, ни тюремшиков нету, ни узников» звучала в середине семидесятых очень странно... А «Крик птицы» на телевидении и радио не звучал вообще. То ли песня была слишком сложная, то ли слишком аполитичная.
Высочайший дар Мулявина проявлялся и в том, что он, не получив специального композиторского образования (на этот счет любили пройтись белорусские и московские композиторы), мастерски владел специфической композиторской техникой письма - гармонией, оркестровкой, формой, полифонией.
Владимир Мулявин всегда умел удивить слушателя - хотя, будучи человеком со вкусом, специально такой цели, конечно, не ставил. Например, очень часто для народных песен и песен других композиторов Мулявин сочинял оригинальное вступление, по мелодии контрастное к основной теме - вспомните вступление песне Д. Тухманова «Наши любимые«, являющееся маленьким шедевром.
Широта музыкального кругозора Мулявина проявлялась в музыке «Песняров» самым необычным образом. «Белая Русь ты моя» - одна из первых песен - включает эпизод а капелла, сознательно стилизованный под «Swingle Singers». В «Крике птицы» в партии медных духовых намек для знатоков на джаз-роковую группу «Чикаго». В веселой фольклорной песенке «В месяце верасне» про злую бабку и хулиганистого деда наш блестящий пианист Толя Гилевич играл превосходноя джазовое фортепианое соло в стиле Оскара Питерсона. В «Веронике» и некоторых других лирических песнях фортепиано ассоциируется с Шопеном... Часть десятиминутной композиции на тему белорусской народной песни «Перепелочка» - академические вариации для скрипки соло в духе этюдов Паганини (это играл Бэдя, Валентин Бадьяров). В той же «Перепелочке» чувствуется влияние Мусоргского. Кстати, скрипка - важнейший в белорусской народной музыке инструмент - всегда звучала у «Песняров» по-разному: классически, как в «Перепелочке» или «Веронике», или народно, прямозвучно, в «На что бабе огород» и «Скажи мне, Ганулька».
В произительно-трагической песне «Миша Каминский» из цикла «Через всю войну» звучат флейта-пикколо и барабанная дробь: здесь Мулявин сознательно отсылает слушателей к теме нашествия из Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича.
В шуточной песне «Добрый вечер, девчиночка» ироничное вступление «суровой меди» напоминает «Марш Черномора» Глинки. В песне «Ой, летели гуси с броду» звучат цимбалы и гитарные флажолеты, инструментальный эпизод (редчайший унисон бас-гитары, скрипки, трубы, тенор-саксофона, тромбона и гитары) угловато-виртуозная «ооновская» тема в стиле Чарли Паркера или Телониуса Монка, а концовка вызывает ассоциации о негритянскими хоровыми спиричуэлс.
Польша, близкая Беларуси и территориально, и по духу, слышится в песне «А в поле верба» - здесь типичные польские мелодико-гармонические обороты. «Девичьи черные очи» - это, по существу, рок-полонез.
Цикл «Через всю войну» начинается потрясающей балладой «Провожала сына мать». Здесь проявилось композиторское мастерство Мулявина высшей пробы. Начало - инструментальное вступление, имитирующее парковый духовой оркестр. Оно написано столь стилистически точно и технически правильно, что можно подумать, будто Мулявин всю жизнь только тем и занимался, что писал для духового оркестра! Затем, после шумовых эффектов, изображающих гул самолетов, звучит хор а капелла, написанный в трехчастной форме в академической хоровой манере. То есть Мулявин был знаком и с хоровой классикой, хотя по образованию он гитарист, а не хормейстер.
Легко и свободно Мулявин применял в песнях сложные размеры: семь четвертей в «Девчине-серденько» (явный привет «соседу»-поляку, выдающемуся джазовому музыканту Збигневу Намысловскому с его пьесой «Семерочка»), продолжительное чередование пяти и четырех четвертей в той же «Перепелочке». Даже в простенькой лирической песенке Э. Ханка «Ты моя отрада» размер - пять четвертей с периодическим вкраплением шести четвертей!
Мулявин очень внимательно относился к мельчайшим деталям в инструментовке, тщательно прорабатывал даже сопровождающие партии второго плана. И, как я уже писал, не боялся применять редкие для эстрады инструменты: клавесин («Девичьи черные очи»), цимбалы («Гусляр», «Ой, летели гуси с броду»), тромбон, духовые и струнные народные, уникальный органиструм («колесную лиру»), который можно услышать, например, в песнях «Стоит верба» и «Скажи мне, Ганулька». В тех редких случаях, когда нам удавалось записаться с большим оркестром, Мулявин использовал его тембровые возможности, - например, ввел гобой и валторны в песню «Ночь купальская». При этом Мулявин очень тонко и аккуратно использовал электронные тембры, удивительно точно сливающиеся с акустическими инструментами...
Однако все эти «посторонние включения» не кажутся неорганичными, напротив - работая на контрасте, они точно вписываются в концепцию песни или аранжировки, дополняют ее новыми гранями и обогащают новыми красками. Не было у Мулявина ни одного случая, когда бы эти отсылы к музыке других жанров, народов и эпох казались бы неестественными и неуместными!
Трудно словами пересказать песню.
Ее надо слушать и видеть ее исполнение на концерте. Валера Яшкин так описывал исполнение «Песнярами» «Перепелочки» и «Сказки».
«Со сцены льется безыскусный, щемяще-грустный мотив. Его выводит одинокая флейта, ей мягко вторит ансамбль мужских голосов - пока это пастораль, ничем не омраченные картины белорусской земли. Но тревога уже появилась в какой-то высокой ноте. Она нарастает, мелодический народный напев теряется в грозных, порой диссонансных музыкальных пассажах. Драматизм кульминации выражен через предельную самоотдачу музыкантов. Но вот тема тревоги постепенно ослабевает и расходится, как круги на воде. (Это о "Перепелочке". - Л. Б.)
Но не только к белорусскому песнетворчеству обращаются "Песняры". В их репертуаре есть и монументальная музыкально-драматическая композиция "Сказка" на стихи Е. Евтушенко, выдержанная в духе русского фольклора.
...После короткого вступления меди стремительно разворачивается экспозиция: тревожный унисон баса с фортепьяно, резкие, диссонирующие аккорды-удары, имитирующие колокола русских церквей, возвещают о нашествии супостатов. Появляется зловещий рефрен и ударных, создающих образ ханской конницы, и почти речитативная вокальная тема повествования: "По разграбленным селам шла орда на рысях..."
Завязка композиции начинается с появлением ”дел игрушечных мастера" Ваньки Сидорова, приведенного к хану на утеху. Тема Ваньки, выраженная в славянском мелосе, - самая светлая и лиричная во всей композиции. В противовес ей тема хана - в верхнем регистре данная почти на одной ноте - напоминает вопль дикого, жестокого завоевателя. Хан требует "сочинить" игрушку, "но чтоб эта игрушка просветлила" его. Здесь композитор являет блестящую находку - на остроритмичном "ханском" рефрене, поперек ритма, вдвое медленнее звучит очень русская, кантиленная, нисходящая секвенция. В ней отразились и грусть, и раздумья, и поиски выхода... И Ванька находит выход! Он сочинил хану Ваньку-встаньку, которого невозможно по- класть. "Уж эта игрушка просветлила меня", - вопит хан и в бессильной ярости убивает Ваньку Сидорова.
"И теперь уж отмаясь, положенный вповал...” - звучит прекрасный, выразительный реквием Ваньке Сидорову, непокорному мастеровому. Развязка трагична, но композиция заканчивается светлым вокализом - гимном, полным оптимизма, гордости за непокоренный народ ванек-встанек, великий народ русский.
Этот немудреный рассказ ансамбль превращает в развернутое представление с призывным фольклорным зачином, с яркими музыкальными характеристиками действующих лиц. Несмотря на многоплановость "Сказки", смену вокальных диалогов инструментальными заставками, сочетание сольного и ансамблевого пения, произведение отличается цельностью, завершенностью формы.
Движение ансамбля от трактовки простых песен к крупным песенным формам привело "Песняров" к рождению своеобразного театра, лишенного внешней театральности, но со своими законами внутренней драматургии, со своей стилистикой, поэтикой, своим лицом».
ОРАНЖИРОВЩИК И ВОКАЛИСТ- ДВА В ОДНОМ
«Песняры» это творческий гений Мулявина как композитора и аранжировщика плюс уникальный вокал, сольный и хоровой. Музыковедов мучал вопрос: «В какой манере пел ансамбль, в народной, эстрадной, классической?» А ответ одновременно и простой и сложный: вокальная манера «Песняров» - это синтез разных вокальных школ, именно синтез, а не механическая смесь французского с нижегородским, как это нередко бывает в музыке, которую теперь называют модным словом World. Причем в разных песнях этот синтез был гибким, смещаясь то в сторону академического звучания, то джазового, то народного.
С точки зрения вокальной техники, «Песняры» пели правильно: на опоре, с естественным вибрато, с выраженным форматным резонированием, в так называемой прикрытой манере (не настолько, конечно, как в академическом пении). Все это, несомненно, выгодно отличало нас от эстрадных групп, певших прямыми открытыми «белыми» голосами, да еще «в нос» или «на горле».
Основным приемом вокальных аранжировок у «Песняров» было использование высоких мужских голосов в тесном расположении, так называемых узких гармоний. Любой аранжировщик знает, что эта техника накладывает большие ограничения на возможности хорового письма. Но Мулявин блестяще преодолевал эти трудности - разве кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы у «Песняров» были какие-нибудь ограниченные возможности в вокале?!
Приступая к аранжировке, Мулявин расписывал вокальные партии, исходя из характера и тембра голосов участников ансамбля. Он стремился, чтобы каждый вокалист «Песняров» был узнаваем и неповторим, и при этом все мы идеально сливались в характерный, моментально распознаваемый фирменный «песняровский» аккорд. Когда сейчас некоторые аранжировщики всерьез говорят, что вокальной группе желателен никакой вокал у певцов, что неяркие, бестембровые голоса лучше сливаются, - я с этим согласиться никак не могу. Ведь были же «Песняры», где и голоса прекрасные, каждый в отдельности, и ансамбль великолепный.
Что касается соло, то оно распределялось в зависимости от характера песен: лирику отдавали мне (лирическому тенору), комические фольклорные сцены, как правило, - Толе Кашепарову, у него характерный голос, а драматические песни и баллады пел сам Мулявин.
Мулявин-вокалист - тема отдельного разговора. Скажу лишь, что сила его музыкального дарования проявилась и в его собственном вокальном исполнительстве - это обладатель мощного, но гибкого драматического тенора, яркий и выразительный певец, легко узнаваемый с первой ноты. И это притом, что у него не было систематической вокальной подготовки. Его пение - это природный дар, хотя, возможно, как раз отсутствие школьной выучки помогло Мулявину сохранить неповторимую индивидуальность своего голоса.
Но талант талантом, а блестящего исполнения можно добиться только упорным трудом. И работали мы очень напряженно. Порой вещь была совершенно готова, даже уже исполнялась в концертах, а Владимир Георгиевич все продолжал совершенствовать ее, добиваясь совсем неуловимых нюансов.
В отличие от большинства групп, игравших и играющих в одном динамическом нюансе - предельно громко, - мы работали в широчайшем динамическом диапазоне, сравнимом по широте лишь с симфонической музыкой. На концерте в «Реченьке», например, вокалисты даже несколько отстранялись от микрофонов. К сожалению, для некоторых слушателей такие нюансы и изыски оказались выше понимания - кое-кто думал, что просто отключилось звукоусиление.
«Песняры» никогда не пели одну и ту же песню одинаково. Это результат принципов, заложенных Мулявиным-аранжировщиком на самых первых репетициях. Принося не вписанную «от цифры до цифры» аранжировку, он предоставлял музыкантам полную свободу, призывая их к творчеству, импровизации. Но главное - это, конечно, вокал, сольный и хоровой. Как я уже писал, вокальные аранжировки «Песняров» подчас невероятно сложны, нередко используются пять, шесть и более голосов. На репетиции Владимир Мулявин мог потратить более часа, повторяя один и тот же куплет.
Мулявин всем нам давал высказаться, проявить свой класс, но при этом умудрялся не позволять разваливать целостную композицию на серию соло. Будучи и сам прекрасным гитаристом, он в коротких гитарных эпизодах на записи тоже успевал сыграть ярко и виртуозно.
На концертах мы могли самовыражаться более полно. Думаю, что те, кому доводилось бывать на концертах «Песняров» в семидесятых годах, до сих пор помнят роскошные соло, выдаваемые нашим барабанщиком Сашей Демешко. Помню, как Мулявин в качестве вступления к «Реченьке» сыграл на гитаре в классической манере целую фантазию-рапсодию на тему этой песни. Я помню также, как в песне «Сережки» заключительный двухтактный рифф превратился в «миниджем» на несколько минут, в течение которых Мулявин и сыграл превосходное гитарное соло, и спел вокальную импровизацию не только в джазовой манере «скэт», но и в... тирольской манере «йодль», чем просто убил всех присутствующих - уж этого от него никто не ожидал!
Увы, когда «Песняры» начинали руководствоваться не задачей развлечения публики, а подлинно музыкальными целями, круг их поклонников неизбежно сужался. Ведь эстрада (слово, которое Мулявин не любил!) живет отнюдь не по принципу «лучше меньше, да лучше» - скорее, наоборот. И конфликт между потенциалом и творческими устремлениями Мулявина, с одной стороны, и требованиями нашей эстрады и потребностями так называемой «широкой публики», с другой - безусловно, не давал ему реализовать свой дар в полную силу. Мулявин, конечно, понимал, что полностью оценить его музыку могут далеко не все его поклонники... Как сказал известный американский джазовый кларнетист и руководитель оркестра Арти Шоу: «Наша публика десятилетиями получала музыку, которая была слишком хороша для нее». Он имел в виду джаз, но в не меньшей степени можно то же самое сказать и о музыке «Песняров».
«ПЕСНЯРЫ» БЕЗ ПЕСНЯРА
Так что же такое «Песняры» в контексте времени и пространства?
«Песняры» существовали на протяжении трети века, и за это время выросли поколения тех, кто их узнал и полюбил, и продолжает любить, несмотря ни на что. Более того, все больше молодых людей открывают для себя записи «Песняров», сделанные иной раз еще до их рождения. И сегодня записи двадцатитридцатилетней давности звучат... даже не современно - вневременно! Конечно, тембры и фактура инструментов выдают эпоху, но эмоциональный заряд, присутствующий в каждой ноте, спетой и сыгранной «Песнярами», пробивает толщу десятилетий и делает их творчество актуальным и для нашего времени, и для будущего. «Песняры» сщушаются и сейчас, и не как ретро, а как классика - в самом прямом смысле этого слова. Уверен - нас будут слушать и завтра, и послезавтра. Хотя и не все - только те, кто ценит красоту в музыке. А возраст значения не имеет... Уж это я точно знаю!
Мой сын несколько лет назад принес мне диск:
- Пап, мне страшно понравилась одна песня!
Ставлю этот диск - оказывается, ему понравились «Подмосковные вечера». Тогда я сел за рояль и часа три пел ему наш старый песняровский репертуар. Он был поражен:
- Папа, а почему сейчас всего этого нет?
Да потому, что думают - молодежи это не нравится, а у молодежи в генах заложена любовь к мелодии, к славянской напевности. Гены - они ведь работают независимо от возраста.
Не будет преувеличением сказать, что благодаря «Песнярам» все народы бывшего Союза узнали и полюбили белорусскую музыку, более того - мир узнал о существовании Беларуси. Уже только этого было бы достаточно - вряд ли еще в какой-нибудь стране существовал музыкальный коллектив, которому эта страна была бы обязана своей известностью.
Если бы «золотой» период творчества «Песняров» пришелся на наше время, когда нет железных занавесов и артисты могут свободно выступать в любой стране, наверняка «Песняры» были бы, при условии грамотного менеджмента, включены в мировой художественный процесс, и не эпизодически, как это было в семидесятых, а постоянно. Уверен - мы стали бы всемирно известным коллективом! И жаль, что возможность и реальность так драматически не совпали во времени...
В истории музыки Владимир Мулявин останется навсегда. Ведь он был не просто руководителем ансамбля «Песняры», он создал целое направление в музыке, его учениками стали известнейшие сегодня музыканты Беларуси. Поэтому музыка Мулявина всегда будет звучать в наших сердцах.
ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ
МОЯ ДУША ВСЕГДА В РОДНОЙ БЕЛАРУСИ
В 2000 году мы с Ольгой Корбут развелись. Я любил Ольгу, я продолжаю ее любить - потому что Ольга, как и Мулявин, очень многому научила меня в жизни. Не потому, что она звезда мирового масштаба. Ольга, как и Мулявин,- просто человек, во всем талантливый. И добродетельный. Потому что если нет в основе души добродетели и если ты используешь свой талант для того, чтобы наживать деньги, корыстно, - все, талант исчезает. Расчет и искусство не уживаются.
Таким был Мулявин - человек, абсолютно чуждый расчета. Такая Ольга Корбут. Они идут своим, предначертанным им Богом путем, и никакие деньги их свернуть с этого пути не могут.
Должен признаться - Ольга Корбут была женщиной моей судьбы, но не женщиной моей жизни. Мы с ней всегда были в первую очередь друзьями, и только потом мужем и женой. Даже живя с Ольгой, я постоянно думал о другой женщине - Светлане.
Когда мы познакомились, Свете было пятнадцать лет, а мне тридцать пять. Наша встреча казалось случайной: мы ехали с моим другом по улице Горького, когда я увидел девочку, переходящую дорогу. Я прямо вскрикнул: «Витя, давай назад!» Мы вернулись: «Девушка, хотите мы вас подвезем?» Она куда-то спешила и согласилась. Я всю дорогу смотрел на нее и понял: Светлана послана мне Оттуда! И так боялся, что она выйдет из машины и исчезнет навсегда.
Она оставила номер телефона, я позвонил, и мы стали встречаться. Любимое наше место на Минском море. Близких отношений у нас не было. Мало того если бы она сказала: «Иди ты, дядя!» - я бы пошел. Но она не сказала. Мы нашли общие интересы, путешествовали вместе... Окончательно я понял, что без Светланы не могу, только в Америке. Девять лет, которые я там прожил, что бы я ни делал, как бы ни выбрасывал ее из головы, все равно думал о ней. Я звонил Свете, когда мне было плохо.
Жизнь так распорядилась, что мы дождались друг друга. Когда в 1999 году я приехал в Минск, то думал, что Света уже замужем. Но она была свободна. А когда мы встретились, я просто обомлел: она стала еще красивее! У нас был месяц любви и гармонии. Это лучшие дни в моей жизни.
Мы вместе уже два года, но пока не совсем все идеально получается. Я всегда знал, что она не питает ко мне особо сильных чувств. И до сих пор не льщу себя этой надеждой. Это односторонняя любовь, поэтому мне так тяжело. Она никогда не говорила мне, что любит меня. Никогда...
И у Ольги сейчас молодой муж. Его зовут Алекс, он белорус. Я их и познакомил. Когда я приехал в Минск по приглашению «Песняров» и снова встретил Светлану, то задержался здесь дольше, чем планировал. Ольга часто звонила мне и говорила, что скучает. А я как раз помогал одному молодому компьютерщику перебраться в Америку. Я дал ему телефон Ольги и наш адрес. Через какое-то время Ольга призналась мне в телефонном разговоре, что они с Алексом живут вместе.
Итак, я уехал. В Америке тут же полетело все колесом - и с сыном, и с Ольгой. Потому что не было меня.
Ольгу сейчас нельзя назвать счастливым человеком. При всех ее заслугах, при всем том, что она сделала в спорте, она была фактически отфутболена руководством и чиновниками от спорта. Ставка на Америку по большому счету не оправдала себя. Материально она обеспеченный человек, но в карьере хотела бы достичь большего. В Америке свой законы, и там много своих звезд первой величины. В свое время Ольге предлагали возглавить белорусскую сборную. Но она не была членом партии, и назначили другого человека. К тому же Ольга - принципиальный и прямой человек и честно в глаза может сказать все, что думает. А это не каждому нравится. Таким образом, должной карьеры в спорте, после ухода с помоста, не получилось. Но имея такую известность, такой багаж тренерской работы за рубежом, такой авторитет в гимнастическом мире, Ольга могла бы принести много полезного для спорта в России и Беларуси. В последних разговорах со мной по телефону она сказала, что хотела бы вернуться в Москву или в Минск. Но хотела бы вернуться достойно. И я надеюсь, что пришло время собирать камни. И руководство, как нашей республики, так и России, повернется лицом к нашим звездам, их у нас мало. Вот два фрагмента из нашей переписки.
Привет, Лешенька!
Я сделала визу Алексу... Я очень рада, что у тебя дела идут хорошо. Очень скучаю - не выношу одиночества. Рика, ты знаешь, гуляет, но вроде сейчас все получше. Надеюсь, фотографии с автографом помогут в посольстве, кто знает, быть может, мы не раз будем обращаться туда. Постарайся приехать с Алексом. Я знаю, это в твоих силах. Люблю и молюсь за тебя.
P.S. Две фотографии без автографа - Алексу.
Ольга
1999 г.
Привет, Лешенька!
Я не могу выразить все, что чувствую, но думаю, ты понимаешь: ведь лучшие годы мы провели вместе - целых 23 года... и в основном было хорошее. Я не думаю, что ты сейчас счастлив с молодыми - это только мгновение, а с человеком надо жить, и кто знает, как жизнь повернется. Даже представить не могу, как я вынесу все одна без Алекса, - пока это моя самая крепкая опора в жизни. О будущем и думать не могу сейчас - слишком много негативного происходит каждый день и никакого спокойствия, все время жду каких-нибудь сюрпризов. Ты часто бываешь в Москве и встречаешься с «сильными мира сего». Может быть, спросишь невзначай: если Корбут переедет сюда, что мы бы могли предложить ей и что бы получили? Я больше не могу и не хочу жить здесь, все время боюсь за Рику - его нужно увозить из Америки - он может опять ввязаться в какую-нибудь историю. Боюсь, что устроиться на работу ему теперь здесь будет сложно, а то и невозможно. А в Москве с твоей помощью он может со знанием двух языков найти хорошую работу, например, стать для тебя помощником в ансамбле. У него хороший голос и он сможет петь, ведь наш сын очень музыкальный. Рика еще молод, у него все впереди, и ты можешь ему помочь. Я очень переживаю за него, ты же знаешь его менталитет. Что с ним будет в Америке? Подумай об этом и напиши обязательно ему письмо.
Ольга
Осень 2002 года Ольга с Алексом инкогнито приезжала в Беларусь. Была в Минске, навестила отца в Гродно.
Что еще?
Мой сын от первого брака - Алексей - живет в Нью-Йорке. Жена его - Наташа - тоже из Минска. Она работала в городском департаменте, который находился в печально известном Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Наташа чудом осталась жива. Они очень набожные люди.
В американских газетах прошла волна публикаций, касающихся нашего с Ольгой сына Ричарда. Ричард был осужден американским судом и должен отбыть наказание.
Объясню, в чем дело. Ричард рос очень коммуникабельным мальчишкой. Он был лидером, всегда оказывался в центре любой компании. У Рики хороший голос, он отлично играл на гитаре, владел актерским мастерством, любил спорт, гимнастику и баскетбол. Приехав в Америку, буквально за несколько месяцев выучил английский язык и через полгода по всем школьным предметам у него были президентские грамоты. Его в школе называли - русский гений. Он все схватывал на лету. Любовь к числам и невероятная сообразительность привели его к занятиям с компьютером. Он стал великолепным программистом. Но где программист - там и хакерство. И он оступился. К сожалению, на тот момент я уехал на родину и некому было его удержать, помочь. Но я надеюсь, все это послужит ему хорошим уроком. Жизнь только начинается, и с его талантами он многого в ней сможет добиться.
А я... Я работаю в «Песнярах» и живу в Минске. Здесь моя родина, мои друзья, и моя душа всегда будет оставаться на родной и наилучшей земле - в Беларуси.
Вся моя жизнь состоит из многих значимых эпизодов, по каждому из которых можно снимать кино. Все они складываются в одну главную дорогу со многими ответвляющимися от нее большими и небольшими, старающимися все время сползти в сторону, тупиками. Это происходит спонтанно и как бы независимо от меня. Как будто бы Бог руководил и только и ждал того момента, когда автор напишет первое слово. Все основные события обязательно происходят только в пятницу. Я верю в судьбу и поэтому не стараюсь ее как-то исправить или изменить. Полагаю, что всеми руководит режиссер свыше. Когда Ольге Корбут корреспонденты задавали вопрос: «Как вы этого достигли?» - она отвечала: «Если бы не было гимнастики, я бы ее придумала сама». И поэтому все происходит очень легко, а тебе только остается направлять свой мозг и волю в кажущемся нужным направлении.
Когда-то в очень хорошем советском фильме «Добровольцы» я услышал такую фразу, что, дескать, надо идти по жизни по главной дороге, и тогда случится самое главное: ты встретишь своих друзей и свою любовь, которая бывает только раз, и произойдет тот самый Его Величество Случай.
Сейчас мне пятьдесят три года. Я могу быть председателем любого мирового, самого авторитетного жюри в любом жанре искусства. Объездив весь мир, имея друзьями многих великих, на мой взгляд, людей, некоторые из которых уже умерли, я, будучи небогатым материально), не понимаю, что такое зависть. Люблю людей и стараюсь быть похожим на людей выше меня, при том никогда не имею кумиров и остаюсь таким же непосредственным, не представляющим жизнь без секса, жизнерадостным оптимистом, как и много лет назад.
И как это ни трудно, я стараюсь все делать в меру.
И хотя с течением времени плохие привычки, характер, который не изменишь, делают тебя противным, приевшимся самому себе, - это не главное, это тропинка ответвляющаяся. Здоровое тщеславие, которого у меня было в избытке в детстве, ведет меня дальше. Я заучил для себя такую формулировку: «Когда ты стоишь на стартовой прямой своей собственной жизни рядом со своими сверстниками, ты должен понимать, что она короткая и что независимо от того, насколько ты прекрасен и умен, кто-то все равно должен обогнать тебя, а кто-то обязательно останется позади. Но ты должен постараться не толкаться локтями, хотя это непросто. Иначе неведомая сила свернет тебя с главной дороги, и ты не получишь тот единственный шанс остаться духовно богатым и счастливым. И шанс этот второй раз никогда не дается».
Сейчас в коллективе «Песняров» есть люди, которых отобрал еще сам Мулявин, мы прозвали их «зверинец»: Паша Заяц и Сережа Медведев. Это великолепные молодые ребята и отличные музыканты - пишут музыку, прекрасно поют. Солист Вадим Косенко - драматический тенор.
Был у нас Валера Скороженок - голос-то у него великолепный, но человек так себе. Все рвался руководить, без добра человек. И мы его поменяли - взяли другого солиста, Владимира Стомати. Владимир давно просился в «Песняры». Но никто никого не выгонял, Валера сам понял, что он у нас не приживается. У Мулявина тоже был такой принцип - никто никого не выгоняет. Люди приживаются или нет. Старых друзей. конечно, хочется удержать, лучше старых друзей нет. Чем больше ты с человеком работаешь, тем больше к нему привязываешься. Сложно все.
В общем, вот состав ансамбля «Песняры» на сегодняшний день.
1. Леонид Борткевич - вокал. Заслуженный артист БССР. Исполняющий обязанности художественного руководителя.
2. Вадим Косенко - вокал. Долгое время работал в оркестре Финберга солистом. Великолепный драматический тенор. Прекрасный актер, очень стройный, красивый парень (как я его называю - Король паркета). Но у него, на мой взгляд, мало здорового тщеславия. И надеюсь, что все-таки, наконец, появится его «знаковая» песня.
3. Сергей Медведев - гитара, вокал.
4. Павел Заяц - барабаны, вокал. Великолепные музыканты и хорошие ребята, очень быстро растут и очень перспективные.
5. Олег Устинович - бас-гитара, вокал. Начинал в студии ансамбля «Песняры» - «Лявоны». Очень талантлив, пишет свои собственные песни.
6. Владимир Стомати - вокал, лирический тенор. Долгое время работал в Беларуси. Известен как солист группы Бадьярова. Хотя он пришел недавно, но, думаю, займет достойное место в ансамбле. Очень перспективный вокалист.
У Володи Мулявина, кстати, остался прекрасный сын-музыкант - Владимир Мулявин-младший, очень похожий на Володю. Не исключено, что он тоже будет играть в «Песнярах».
Еще могу пообещать, что антология «Песняров» выйдет обязательно. Я уже получил от нашего директора задание восстановить прежние программы «Песняров». Не знаю, кто будет заниматься тиражированием и охраной авторских прав, - впрочем, для этого есть наш директор и Министерство культуры, РУПИС, в конце концов.
Антология будет постоянно пополняться новыми песнями - теми, которые появляются только сейчас. Кстати, вскоре должен презентовать «двойник» Игорь Михайлович - два диска с песнями Лученка в исполнении «Песняров».
Что касается увековечения памяти Мулявина, то мы хотели бы, чтобы его имя звучало и на рекламной продукции, и при устном упоминании ансамбля, чтобы люди знали, что это именно мулявинские «Песняры». Но чтобы добавить его имя к нашему логотипу, поскольку мы государственный коллектив, нам пришлось бы менять устав и решатьдругие вопросы... Скажем, нам пришлось бы уволиться, а потом написать заявления о приеме на работу уже в новый коллектив. На все это нужно время, а его нет - мы должны не решать подобные вопросы, а репетировать, играть, петь.
И это будет лучшей данью памяти Владимира Георгиевича Мулявина
Мысленно благодарю всех тех добрых людей, кто помог моей родной мамочке вырастить меня, помог мне состояться в этой непростой, но прекрасной жизни.
Спасибо тем. кто прочел эту книгу. Почему-то кажется. что она не последняя. В голове много разных идей, как в этом жанре, так и в музыкальном творчестве.
Спасибо всем, кто любит «Песняров».
Человек измеряется способностью любить...
Последние комментарии
21 минут 55 секунд назад
36 минут 18 секунд назад
9 часов 46 минут назад
9 часов 47 минут назад
16 часов 30 минут назад
16 часов 38 минут назад