Женщины Древней Руси [Наталья Львовна Пушкарева] (fb2) читать онлайн
- Женщины Древней Руси (и.с. Библиотечная серия) 7.13 Мб, 338с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Наталья Львовна Пушкарева
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Наталья Львовна Пушкарева
Женщины Древней Руси


Моим родителям Л. Н. и И. М. Пушкаревым посвящаю
Введение
Кто сколько-нибудь знаком с русской историей X–XV вв. по данным источников или по художественным произведениям, имеет собственное представление о месте и роли в ней женщин. Представления эти в той или иной степени полярны. Воображая начальный период русской государственности, одни мысленно рисуют «теремную затворницу», которая была на подчиненном положении в семье и обладала весьма ограниченными социальными правами. Другие, напротив, видят социально активных личностей в образах отомстившей древлянам за смерть мужа княгини Ольги или новгородской посадницы Марфы Борецкой. Вопрос о том, какими были русские женщины в X–XV вв., весьма важен не только сам по себе, но и для общего представления об отечественной социальной, политической и культурной истории тех шести веков. Ведь, по словам французского социалиста-утописта Ш. Фурье, которые любил цитировать К. Маркс, «общественный прогресс может быть точно измерен по общественному положению прекрасного пола»[1].
Создание целостной картины положения женщины в семье и обществе Древней Руси позволяет глубоко проникнуть в мир средневекового человека, историю семьи, представить общественный, юридический и семейный быт русского общества с X в. до складывания единого Русского государства, проследить постепенную феодализацию быта, изживание доклассовых и догосударственных пережитков или же их трансформацию в новых исторических условиях. Крупные социальные сдвиги, сопровождавшие смену формаций, влекли за собой изменения и в положении женщин. Речь идет не только об усилении классовых различий в положении представительниц различных групп и слоев, но и об изменениях в семейном, правовом, общественном положении всех древнерусских женщин. Вели ли эти изменения к «закабалению», «социальному торможению» женщин, или же с развитием общества представительницы «прекрасного пола» приобретали все более высокий социальный статус, новые права? Были ли женщины, подобные знаменитой Марфе Борецкой, явлением исключительным или же, напротив, распространенным? Какими же были современницы Ярослава Мудрого, Александра Невского, Ивана Калиты, Дмитрия Донского и, наконец, великого князя всея Руси Ивана III?
Ответить на эти и другие вопросы о положении древнерусской женщины в семье и обществе нельзя без изучения и анализа многих источников, как опубликованных, так и рукописных. Для удобства обзора они систематизированы в две большие группы. Первая группа объединяет нормативные акты светского происхождения, смешанной юрисдикции и канонические, содержащие нормы, правила, мерила поведения людей в обществе, а также те источники, которые лишь условно можно отнести к нормативным: в них требования к человеку лишены строгой обязательности, но в то же время являются желательным образцом, идеалом. Светские памятники позволяют с большей определенностью говорить о социально-экономических аспектах проблемы права, а церковные яснее характеризуют нормы морали, нравственности, специфику отношений между супругами.
Среди светских нормативных актов ценнейшими источниками являются документы общерусской, а с XIV–XV вв. общегосударственной юрисдикции, прежде всего Русская Правда и Судебник 1497 г.[2] Правовые нормы этих общерусских законодательных сводов оказали существенное влияние на общественную жизнь Руси и определяли наличие или отсутствие возможности для социальной активности у женщин того времени в зависимости от их социально-классовой принадлежности. Нормы Русской Правды, которые отразили семейно-бытовые отношения периода раннего феодализма, в том числе имущественные права супругов, получили дальнейшее закрепление в законодательных памятниках феодальных республик, а окончательное завершение — в ст. 60 Cудебника 1497 г.
Степень и соотношение взаимодействия общих норм права Русского государства с установлениями, существовавшими в отдельных княжествах и землях, показывает изучение судных грамот Новгорода и Пскова[3]. Договоры Руси с Византией X в., памятники внешнеполитических сношений Новгорода, Галицко-Волынского княжества и других русских земель в XII–XIII вв.[4] дополняют сведения общерусских юридических сводов. Ранние договоры помогают найти истоки некоторых норм, касающихся имущественных отношений в семье, поздние — обнаружить появление новых установлений, касающихся защиты общественных прав женщин различных классов. Для сопоставления с общерусскими законами привлечены некоторые «правды» раннефеодальных обществ Западной Европы, законы пограничного с Русью Великого княжества Литовского, а также «Эклога» — византийский сборник законов[5].
Среди актов смешанной юрисдикции — уставов и уставных грамот XII–XIV вв.[6] — ценным источником является Устав князя Ярослава Владимировича, отразивший борьбу церкви с дофеодальными пережитками в семейно-брачных отношениях, а также утверждение христианской морали, согласованной с нормами феодального законодательства. Эти памятники русского права проливают свет на историю свадебной обрядности, развитие семейных традиций, формы прекращения и расторжения брака, взаимоотношения родителей и детей в древнерусской семье. Примыкающие к этой группе источников анонимные уставы и уставные записи[7] содержат информацию о развитии системы денежной пени за оскорбление женщины, о бракоразводных процессах и развитии норм, отражающих социально-правовой статус женщин (узаконение норм развода по вине не только женщины, но и ее мужа и т. п.).
Широкое хождение на Руси имели Кормчие книги — сборники канонических и юридических памятников, содержащих апостольские и соборные правила. Включенные в них переводные византийские («Прохирон»), южнославянские («Закон Судный людем»), оригинальные древнерусские тексты тоже являются ценными источниками по истории семейного права и быта. Так, «Устав о брацех», часто встречаемый в Кормчих книгах, узаконил запрещение браков между людьми, имеющими кровнородственные связи[8].
Богатый материал по истории семьи дает исследователю покаянная и епитимийная литература — канонические нормативные акты[9]. В них отразились попытки церкви регламентировать жизнь древнерусской семьи: установить приемлемые, с ее точки зрения, нормы поведения (в том числе в отношении к женщине) и определить наказание за отступление от этих норм — епитимью (усиленный пост, молитвы, поклоны, даже отлучение от причастия). Русские епитимийники в виде отдельных сборников почти не встречаются. Чаще всего их можно обнаружить в требниках XIV–XV вв. — памятниках частного богослужения, содержащих «требы», т. е. описания священнодействий и молитв, которые совершались по случаю рождения ребенка, бракосочетания, болезней людей и т. п. Однако сохранность их как книг, бывших в свое время в постоянном (порой повседневном) употреблении, плоха: страницы ветхие, нередко перепутаны и т. п. Да и сами епитимийники не являлись их обязательной составной частью. Ценность же их как источника для составления общей картины развития покаянного права на Руси несомненна, ведь они дают исследователю информацию о двух сторонах древнерусской жизни: официальной, диктовавшейся церковью и формируемым ею «общественным мнением», и реальной, зачастую не совпадавшей с официальной. Ознакомление с десятками требников и иных богослужебных сборников, хранящихся в различных архивах[10], позволило составить представление как о православной концепции семьи и месте в ней женщины, так и о традиционных, дохристианских обычаях и нравах, которые долго сохранялись в семейном быту и шли вразрез с идеями, насаждавшимися церковью.
Кроме памятников канонического права «нормативную информацию» содержат церковно-учительная литература и примыкающие к ней источники: сборники для назидательного чтения Прологи и Минеи, сборники-компиляции типа «Пчел», «Измарагдов», «Цветников», патерики, хранящиеся в большинстве своем в архивах[11]. Входящие в них учительные тексты отражают не столько черты и детали современной их составителям жизни, сколько требования к этой жизни и, следовательно, по цели и назначению своему являются устанавливающими определенные нормы быта, в том числе семейного. Минеи-Четьи и Прологи включают не только краткие жития святых, почитаемых на Руси, но и «слова», поучения традиционного содержания, в том числе «о женах добрых и злых». Последние — ценный источник по истории развития представлений о семье, месте женщины в обществе, истории внедрения христианской нравственности в сферу семейной жизни. Структура «Пчелы» — бытовавшего на Руси примерно с XII в. сборника-компиляции из изречений и афоризмов, выбранных из Священного писания, патриотической литературы, — предполагала наличие системы поучений, касающихся внутрисемейных отношений.
Важным источником для раскрытия темы, несущим некоторую фактически достоверную информацию (например, о деятельности реально существовавших лиц) и в то же время устанавливающим определенные мерила поведения на основе художественно создаваемых идеальных образов, является житийная литература, в том числе входящая в перечисленные выше сборники. Русские патерики («патерик» — в точном переводе «отечник») были подражанием одному из видов греческой житийной литературы и объединяли сказания о жизни и «чудесах» святых отцов, иноков определенного монастыря. В отличие от иноземных прототипов русские патерики подобны альманахам: в них помимо обычных сказаний о жизни «подвижников веры» немало места уделялось жизни самого монастыря. Они включают и выдержки из летописей, и послания игуменов друг к другу и к частным лицам. Так, в одном из наиболее известных патериков — Киево-Печерском — помимо житий и поучений имеются бесценные свидетельства об участии древнерусских княгинь в политической жизни общества, уровне их образованности и т. п.
Поскольку большинство житий подчиняется определенному «чину», канону[12], постольку для большинства исследователей интерес представляли лишь выходившие за рамки агиографического стереотипа всевозможные вставки, сделанные древнерусскими монахами-компиляторами к переводным текстам и характеризующие некоторые черты традиций и повседневности. Но для раскрытия темы книги не менее важно было выявить то общее, что переходило из сборника в сборник: однообразно воспроизводимая по заданному шаблону жизнь «святых женщин» должна была служить образцом для мирян, в том числе для женщин различных классов и сословий. Поэтому некоторые свидетельства житийной литературы, используемые в книге для характеристики средневековых представлений в их официальной, закрепленной и освященной церковью версии о семье и месте в ней женщины, относятся автором именно к нормативным источникам[13].
Вторая группа источников помогает изучить соотношение нормативов и действительного положения древне-русских женщин в семье и обществе, выявить изменения в этом положении. Она объединяет ненормативные источники, свидетельства живой исторической реальности: нарративные, актовые и археолого-эпиграфические памятники.
К первой подгруппе следует отнести главным образом летописные свидетельства[14]. Трудно переоценить значение конкретно-исторического материала русских летописей, относительно точного в хронологическом отношении, для раскрытия роли представительниц класса феодалов на внешнеполитическом поприще, их участия в законодательной и административной деятельности. Правда, определение адекватности летописных повествований исторической реальности затруднено характерной для нарративной традиции средневековья тенденцией к идеализации и стандартному описанию жизни и деятельности знатных женщин. К светским повествовательным памятникам помимо летописных следует отнести и сочинения иностранцев, посетивших Русь в X–XV вв.[15] Их описания дают некоторые сведения о быте людей в средневековую эпоху, о распространенности старых традиций в семейно-брачных отношениях, в свадебной обрядности, что позволяет причислить свидетельства иностранцев, несмотря на их тенденциозность, к необходимым источникам историко-этнографического характера. По происхождению источника к светским нарративным памятникам относятся «Моление» и «Послание» Даниила Заточника[16]. В этих ярких произведениях светской публицистики содержится информация о «злых женах», отражающая современные и известные автору супружеские отношения, возможно даже связанные со вполне конкретными историческими лицами.
Вторая подгруппа включает в себя многочисленные акты феодального землевладения и хозяйства[17]. Хотя актовый материал относится не ко всему исследуемому периоду, а только к XIV–XV вв., необходимость его для освещения социально-экономических аспектов темы и характеристики имущественных отношений в семье и обществе Древней Руси очевидна. Сопоставление актового материала с нормативным позволяет не только определить степень распространенности фактов владения и распоряжения недвижимостью знатными женщинами, но и выделить некоторые основные тенденции, характерные для развития древнерусского права в целом, провести региональные сопоставления, необходимые для всестороннего изучения имущественных прав женщин. Развитие «женского землевладения» отразили помимо актов и писцовые книги, которые позволяют проследить ход открытой экспроприации феодальными вотчинниками «черных» земель Русского Севера и участие крупных земельных собственниц в процессе новгородской колонизации[18].
Третья подгруппа — эпиграфический и сфрагистический материал, дающий дополнительную возможность для изучения реального положения женщины в семье и обществе Древней Руси. Эпиграфические свидетельства — это ценнейший памятник материальной и духовной культуры нашего народа XII–XV вв.: в них отразился повседневный семейный, социальный, юридический быт. Само происхождение такого вида источников, как грамоты на бересте, близких к обычным письменным источникам, обусловливает их репрезентативность для освещения реальной жизни средневековых новгородцев. В новгородских грамотах — а их более 600 — можно встретить документы личной переписки между супругами, взаимные хозяйственные распоряжения, акты брачных сделок; некоторые грамоты XII–XV вв. отражают дееспособность женщин в области наследственного и опекунского права раннего времени[19]. Использованные в работе сфрагистические памятники прошлого (актовые печати), а также киевские и новгородские граффити[20] иллюстрируют административную деятельность древнерусских женщин. Материалы археологических раскопок в Новгороде, Пскове, Старой Рязани, Москве и других городах, фрески и книжные миниатюры XI–XV вв. являются ценнейшими источниками по истории одежды, обуви, украшений женщин — горожанок, крестьянок, знати.
Комплексный подход к письменным источникам X–XV вв. и памятникам материальной культуры Древней Руси открывает возможности для использования при исследовании поставленной проблемы сравнительного метода, который в свою очередь позволяет уточнить, как соотносились с жизнью образцы и нормы поведения, зафиксированные в интересах господствующего класса в юридических памятниках. Однако отрывочность сведений в письменных источниках, пробелы в них, возникающие в результате как плохой сохранности, так и умышленных пропусков, часто не позволяют провести прямое сопоставление нормативных и ненормативных (особенно нарративных) документов. Другой сложностью источниковедческого характера является недостаточная документированность самой темы — истории семьи и положения женщины в ранние эпохи. В большей степени это касается ненормативного материала. Этот пробел могло бы восполнить привлечение фольклорных и лингвистических памятников. Но поскольку фактический материал исторического эпоса причудливо перерабатывался народом в течение веков и позднейшие напластования скрыли от нас некоторые детали исторической действительности X–XV вв., освещение проблемы на основе фольклорного материала является специальной задачей, которую автор перед собой не ставил.
Время открывает все новые «углы зрения», дает возможность по-иному взглянуть на минувшее. И чем выше и значительнее идеи современности, тем больше мы способны увидеть и понять в прошлом. Вот почему изучение памятников отечественной истории X–XV вв. непреходяще. Оно позволяет бесконечно углубляться в богатство того наследия, которое оставило нам средневековье, поднимать новые проблемы «живой истории», и в частности изучить положение женщин в семье и обществе Древней Руси.
Книга начинается с богатого политическими событиями X века, который решительно отграничил последующую феодальную эпоху от догосударственных порядков, и завершается концом XV века, который стал заметным рубежом и в истории России вообще (начало позднего феодализма и создание сословной монархии), и в правовом положении русских женщин, поскольку тогда завершились процессы складывания юридической системы, присущей уже единому Российскому государству.
Книга — результат многолетнего интереса автора к истории русских женщин. Он пробудился еще в студенческие годы под влиянием Владимира Терентьевича Пашуто и Валентина Лаврентьевича Янина, и вспомнить о них при завершении работы над книгой автор считает своим приятным долгом. Глубокую признательность за полезные советы в исследовании темы и отдельных ее сюжетов автор выражает Н. С. Борисову, А. Д. Горскому, И. Грале, В. Б. Кобрину, В. А. Кучкину, Е. Левиной, М. Г. Рабиновичу, О. М. Рапову, А. Н. Сахарову, А. Л. Хорошкевич, Я. Н. Щапову, А. И. Юхту.
Глава I.
«Галерея знаменитых россиянок»
(Древнерусские женщины в политической и культурной жизни общества)

История огромного государства восточных славян, раскинувшегося от Черного до Белого моря, от Дуная и Западной Двины до Волги и Урала и названного Киевской Русью, известна как по описаниям летописцев, хронистов, древних географов, так и по расцвеченным эпической фантазией народным легендам. Истоки русской государственности обычно связывают с именами первых славянских князей — Кия, Щека и Хорива — и «сестры их Лыбеди»[21]. Подробности о жизни человека в те начальные века отечественной истории — будь то князь или простолюдин — мало известны, хотя археологические данные, относящиеся к VI–VIII вв., позволяют представить некоторые особенности быта славян, их культуры, ремесел. В развитии ремесленных специальностей, и особенно традиционно «женских» — прядения, шитья, ткачества, большую роль играли женщины. Находки археологов позволяют утверждать, что среди женщин были в то время даже литейщицы[22]. Их имена не дошли до нас, как и имена многих других представительниц непривилегированных слоев древнерусского общества. Страницы письменных источников XI–XV вв. пестрят именами участников бурных событий истории Древней Руси. И нетрудно заметить, что в истории внешней и внутренней политики древнерусского государства, его экономики и культуры оставили память о себе не только выдающиеся князья и бояре, но и мудрые княгини и боярыни; не только мужественные правители-воины, но и дальновидные, образованные правительницы. Наряду с именами великих княгинь, само положение которых предполагало их участие в политических событиях, в русских летописях можно встретить немало имен княжеских и боярских жен, сестер, дочерей — участниц междоусобных заговоров, интриг, феодальных войн, а то и просто значительных личностей, преуспевших в медицине, математике, астрономии, в культурной жизни русских княжеств, а позднее государства Российского. Далеко не всегда можно восстановить во всей полноте портреты «галереи знаменитых россиянок», к которым мы относим не только русских по происхождению и княживших на Руси женщин, но и русских княжон, выданных замуж в другие страны, а также, например, «обрусевших» принцесс из других государств. Деятельность некоторых из них может быть воссоздана довольно полно, об участии других в политической жизни и борьбе известны только детали. Но все, что дошло до нас из характеристик деловых, нравственных, человеческих качеств древнерусских женщин, — а многие из них проявили мудрость, дипломатичность, истинную любовь к отечеству — несомненно дополняет наши представления о человеческом содержании истории, о людях давних столетий.
Ольга, жена князя Игоря
Имя великой княгини Ольги упоминается всякий раз, когда речь заходит о выдающихся женщинах Древней Руси. Образ ее встает перед нами с начальных страниц «Повести временных лет». Веками ткалось кружево народных преданий о княгине Ольге как о деятельной, мудрой, «вещей» правительнице и защитнице земли Русской. Народные сказания, переплетаясь с историческими фактами, легли в основу появившегося в XIII–XIV вв. агиографического жизнеописания первой княгини-христианки[23]. Оно возникло в период суровых испытаний, выпавших на долю русского народа, когда появились и другие жития реальных людей, любивших и защищавших Русскую землю. Позднейшая легенда (XVI в.) передает сказание о том, как однажды киевский князь Игорь охотился в лесах у Пскова. Здесь он встретил на своем пути реку и, увидев стоявший у берега челн, попросил перевезти его. Перевозчиком оказалась крестьянская девушка Ольга. Игорь был поражен ее умом. Когда же он, «некие глаголы претворяше к ней», получил отпор на свои «стыдные словеса», то, согласно легенде, тогда же и посватался к ней. Сообщения летописи о происхождении Ольги имеют мало общего с бесхитростным народным повествованием. По летописной традиции, Ольга была «приведена» в Киев в качестве будущей жены Игоря его родственником («от рода ему сущий», сказано в летописи) князем Олегом из «Плескова» (Пскова)[24]. Вряд ли можно сомневаться в том, что она была псковитянкой из знатной семьи, а не крестьянской девушкой[25]. В годы замужества[26] Ольга обрела ту самую «мудрость», которая позволила ей выдвинуться после смерти князя Игоря в правительницы Русского государства, пока сын ее и Игоря — Святослав был «детеск». Любопытно, что в перечне состава посольства Игоря в Константинополь в 944 г. третьим послом (вслед за послами Игоря и Святослава) назван Искусеви «Ольги княгини». Наряду с другими «слами» он должен был стремиться «утвердити любовь межю Грекы и Русью». Искусеви был не единственным посланником от имени знатной женщины в составе этой дипломатической миссии. В тексте договора 944 г. упомянуты «Каницар Перъславин» (Предслава — дочь племянника князя Игоря) и «Шигоберн — Сфандръ, жены Оулебле» (Сфандра, жена Оулеба, — дочь другого Игорева племянника). По мнению А. Н. Сахарова, это было не реальное дипломатическое представительство членов великокняжеского дома, а лишь «обозначение посольской иерархии»[27]. Осенью 945 г. князь Игорь, «возымя дань» у одного из подвластных Киеву племен — древлян, решил, что она невелика, и снова вернулся за данью «в Дерева». Древляне восстали и убили князя. На основании нормы древнерусского права, согласно которой вдова, если она не выходила вновь замуж, исполняла после смерти мужа его хозяйственные и социальные функции, княгиня Ольга стала полновластной правительницей земли Русской. Обычай кровной мести, который в столь раннем средневековье был реальностью, заставил Ольгу покарать убийц мужа, но наказанию княгиня придала «государственно-ритуальный характер». Летописный вариант — легенда о мести Ольги — начинается рассказом о сватовстве к ней древлянского князя Мала («…муж твой [был] аки волк, въсхыщая и грабя, а наши князи добри суть… Иди за наш князь Мал!»)[28]. Ольга ответила послам, что они могут принести сватов в ладьях к ее терему (передвижение посуху в ладьях имело у восточных славян двойной смысл: и оказание почести, и обряд похорон). Наутро доверчивые древляне позволили «понести ся в лодьи», а Ольга приказала их сбросить в яму и живыми закопать. Памятуя о мучительной смерти казненного древлянами мужа, княгиня коварно поинтересовалась у обреченных: «Добра ли вам честь?» Послы ей будто бы ответили: «Пуще ны Игоревы смерти» (греческий историк Лев Дьякон сообщал, что «Игорь привязан был к двум деревам и разорван на две части»). Второе посольство «мужей нарочитых» было сожжено, а вдова отправилась на землю древлян якобы для того, чтобы «створить трызну мужу своему». Здесь ее «отроки» напали на «упившихся» после тризны древлян и перебили их множество — «иссекоша их 5000», как утверждает летопись[29]. Сказание о мести Ольги отчасти, вероятно, легенда: в нем легко прослеживается эпическая назидательность. Обман, жестокость, коварство и другие действия княгини, мстящей за убийство мужа, прославляются летописцем как высший, справедливый суд и отнюдь не осуждаются, будучи привычными, в духе морали того времени. В рассказе летописца есть и черты исторической действительности. Так, реальным фактом является поход Ольги на столицу древлян — Искоростень с целью окончательного их подчинения; речь шла даже о том, не станет ли Искоростень, а не Киев столицей Руси. В 946 г. Ольга со своим трехлетним сыном Святославом, «собра вой многи и храбры», осадила город; вскоре же «повеле Ольга воем своим имати град», а те «старейшины города ижьже, и прочая люди… изби, а другие работе преда мужем своим…». История похода Ольги, продолжающая сказание о мести, пером летописца обращена в «идеологическое оружие»: действия киевской правительницы утверждали непобедимость княжеского дома и неизбежность кары, ожидающей всякого, кто в этом усомнится. Княгиня Ольга не ограничилась сожжением Искоростеня и возложила «на нъ дань тяжку», две части которой «идета к Киеву», а третья — Вышгороду, т. е. лично Ольге, «бе бо Вышгород Ольжин город…»[30]. Далее в летописи идет описание государственной деятельности княгини. В отличие от Игоря, взимавшего дань, «въсхыщая и грабя», Ольга по сути дела провела первую в истории Руси финансовую реформу, установив фиксированный размер дани («урок»), порядок ее сборов и их систематичность. «Иде Вольга по Деревстей земли с сыном своим и с дружиною, уставляющи уставы и уроки…» — отметил летописец. Реформа коснулась не только Древлянской земли, утратившей независимость (племенное княжение было уничтожено «възложением дани»). В 947 г. с целью распространения власти Киева и новых форм организации взимания поборов Ольга отправилась на Приднепровье, Подесенье и в Новгородско-Псковскую землю[31]. «Иде Вольга Новугороду, и устави по Мьсте погосты и дани и по Лузе оброки и дани, и ловища ее суть по всей земли, знаменья и места и погосты… и по Днепру перевесища и по Десне, и есть село ее Ольжичи и доселе…» — сообщает летописец. В этом отрывке из летописи упомянуты по сути дела границы территории Киевского государства во время княжения Ольги, отмеченные реформаторской деятельностью княгини. Летописец подчеркнул личный, владельческий характер ольгиных установлений: «ее места», «ее ловища», «ее знамения», «ее село». Интересно упоминание об организации Ольгой становищ и погостов. Возможно, при Игоре сборщики дани пользовались в качестве станов городками местных древлянских князей. Конфликт с древлянами потребовал новых отношений, строительства своих становищ для безопасности сборов будущих полюдий. И Ольга их создала. Как и становища, погосты предназначались для сбора дани, но, удаленные от Киева на многие месяцы пути, они основывались Ольгой как своеобразные «крепостицы», защита которых обеспечивалась «воями». Погосты и становища становились административными центрами и княжеской вотчины, и всего государства[32]. Деятельность Ольги укрепляла финансовую базу княжеской власти, аппарат княжеского государственного управления, расширяла саму княжескую вотчину. Все это укрепляло и власть киевской княгини, оправдывало ее усилия, направленные на сплочение отдельных земель — «лоскутьев империи Рюриковичей», по словам К. Маркса[33],— в сильное государство на Востоке Европы. Не меч, но мудрость и ум служили ей орудием в осуществлении этого замысла. Экономическое укрепление Киевского государства, последовавшее за административными реформами княгини Ольги, способствовало повышению политического веса Киевской Руси в международных отношениях. Созданная княгиней Ольгой система управления объективно нуждалась в новой форме идеологии. Поскольку, как писал Ф. Энгельс, чувства масс в эпоху средневековья были вскормлены «исключительно религиозной пищей»[34], желание Ольги приобщиться к христианской вере вполне объяснимо. Княгиня стремилась получить крещение из рук византийского императора и патриарха именно в столице империи — Константинополе с целью возвышения собственной власти и укрепления международного авторитета своей страны. С престижностью места и обстоятельств крещения Ольга, по-видимому, связывала надежды и на успех в борьбе с языческой оппозицией. Исторические факты о посещении княгиней-регентшей Царьграда обросли вымышленными деталями. В летописном варианте описания ее дипломатической миссии явственно проступают различные версии рассказа (их условно называют императорской и патриаршей), а также некоторые легендарные элементы. Вероятнее всего, летописец слил не только две версии, но и два путешествия Ольги в столицу Византии — в 946 и 953/54 гг., поместив историю посещения Ольгой Константинополя под 955 г. «Иде Ольга в Грекы и приде Цесарюграду» — так начинает летописец описание дипломатической миссии, возглавлявшейся княгиней. Представительное посольство летом 946 г. в соответствии с какой-то предварительной договоренностью прибыло в Суду — Константинопольскую гавань и простояло там около двух месяцев, прежде чем было принято. Впоследствии Ольга, принимая византийское посольство в Киеве, злопамятно «отъвещала» на эту обиду: «…тако же постоиши у мене в Почайне, яко же аз в Суду…» Переговоры русской правительницы с византийским императором Константином VII Багрянородным, центральным вопросом которых было, по-видимому, укрепление торгово-экономических отношений («дам челядь, и воск, и скору…»), оказались, однако, неудачными: княгиня так стремилась уехать, что едва не бросила караван в порогах, и «вои в помощь», о которых просил император, по возвращении на Русь посылать не спешила[35]. Недовольный встречей с Ольгой в 946 г., Константин вторично пригласил ее в 953/54 г. в силу крайней необходимости усилить византийскую армию за счет русских «воев». Ольга приняла приглашение императора и отправилась вновь в Константинополь с твердым намерением осуществить поставленные ранее задачи. Волевую княгиню, достигшую в 954 г. 60-летнего возраста, не пугали тяготы длительного путешествия. 9 сентября 954 г., в среду, в 4 часа дня, как свидетельствует сам византийский император, состоялась куда более пышная, чем в первый раз, церемония приема русского посольства в императорском дворце. Примечательно, что в составе этого посольства было немало представительниц прекрасного пола: 6 родственниц и 18 приближенных дам. Это заметно отличало русскую миссию 954 г. от посольства князя Игоря 944 г., куда входили только мужчины. Церемониал приема подробно описали Константин VII Багрянородный и посол итальянского короля Беренгара при его дворе епископ Лиутпранд. Княгиня Ольга вошла в тронный зал, где восседал император и присутствовал весь двор, в сопровождении своей многочисленной свиты. «Она шла впереди всех женщин, которые шли позади одна за другой по рангу, и остановилась на том месте, где логофет (распорядитель придворного церемониала. — Н. П.) предлагает послам свои обычные вопросы…» От иностранных посланников, получивших аудиенцию у императора, требовали свершения проскинезы (падения ниц). Поэтому Ольгина свита тотчас упала перед василевсом ниц. Император, принимая правительницу земли Русской, сидел на своем усыпанном драгоценными камнями золотом троне, а Ольга, беседуя с ним, стояла. Прием и обмен приветствиями с русской правительницей происходил в роскошном зале — Магнавре. Кроме вопросов о здоровье правящей семьи были и величания титулами, и благопожелания самой Ольге и ее сыну. Обстановка этого своеобразного «раута» была торжественной и помпезной. В тот же день состоялось традиционное для приемов высоких послов торжество — парадный обед, во время которого Ольга сидела между двумя придворными дамами высшего ранга; присутствующих услаждали пением и сценическими представлениями. Великолепие приема свидетельствует о том, что Ольгу причислили к «знаменитым и великим людям». В труде Константина Багрянородного «О церемониях» Ольга названа «игемоном и архонтиссой руссов»[36]. Ольга удостоилась приема и в покоях византийской императрицы. В честь «архонтиссы руссов» был устроен торжественный выход царьградских придворных дам. Состоялась встреча княгини с императорской семьей, что само по себе не имело аналогий в ходе приемов послов в Византии. Во время беседы Ольга по приглашению Константина Багрянородного сидела и «высказала то, что желала». Автор миниатюры Радзивилловской летописи, посвященной заключительному акту переговоров, изобразил Ольгу и императора Константина сидящими на одной скамье, подчеркнув тем самым их равенство[37]. По-видимому, в узком кругу и был затронут тот острый вопрос, ради которого Ольга явилась в Константинополь. О нем в источники просочились лишь намеки, так как переговоры были тайными. Специально изучавшие этот вопрос исследователи склонны предполагать, что Ольга добивалась установления с византийским императорским домом династических связей, а предпринятые в этом направлении усилия и породили легенду о «сватовстве» к пожилой вдове женатого византийского императора. «Подобна еси цесарьствовати в граде сем с нами» — так передает русская летопись обращение василевса к русской княгине. Ольга, согласно преданию, ответила на это: «Аз погана есмь (Я — язычница. — Н. П.). Да аще мя хощеши кръстити, то кръсти мя сам». Наивный император, коим он предстает в легенде, согласился на совершение обряда и «кръсти ю». Ольга же после того спросила: «Како хощеши мя пояти, кръстив мя сам и нарек ся дъщерию?» (Крестный отец по церковным порядкам не мог жениться на своей крестнице.) Автор легенды изобразил дело так, будто Ольга заранее задумала крещение как способ избавления от притязаний на ее руку кесаря. Получив ее ответ, василевс, по словам летописи, «удивився разуму ея» и воскликнул: «Переклюкала мя еси, Ольго!» (Перехитрила ты меня, Ольга! — Н. П.) Несмотря на расцвечивание событий фантазией летописца, легенда о «сватовстве», вероятно, имеет вполне реальную подоплеку — матримониальные планы Ольги. Возможно, княгиня вела переговоры по поводу брака одной из принцесс императорского дома с молодым Святославом. Она могла даже привезти его самого в Константинополь с ясным политическим расчетом; в составе русского посольства он мог скрываться под видом «анепсия» (родственника княгини), коих перечислено 8 человек. Чтобы осуществить подобный план, нужно было как минимум вырваться за пределы «варварского» мира, к коему император византийский, судя по его запискам, причислял хазар, угров и руссов. К этому вел один путь — крещение, которое Ольга и приняла, получив христианское имя Елена в честь матери Константина I Великого, первым из императоров принявшего крещение, и титул «дщери» василевса[38]. Принимая христианство, Ольга предполагала сделать его государственной религией, но, чувствуя, что принятие крещения из рук греков может поставить Русь в политическую зависимость от Византии, направила все усилия на установление равноправных, взаимно выгодных отношений с империей. Исходя из этой посылки, некоторые историки допускают, что Ольга могла добиваться организации русской церкви с элементами самостоятельности и отказ императора был причиной дальнейшей напряженности переговоров. Объектом переговоров были также вопросы, связанные с реализацией союзного договора 944 г. и изменением его условий, неблагоприятных для русских купцов[39]. Таким образом, вторая поездка княгини Ольги в Константинополь, в 954 г., завершилась успешно. Крещение Ольги в Царьграде — это не эпизод ее личной жизни, не частный вопрос благочестивой женщины, а далеко рассчитанный политический шаг, победа княгини в политическом поединке с главой крупнейшей державы того времени. Ольга была возведена в почетный ранг «дщери» императора, а Константин получил от нее значительную военную помощь. На прощание василевс одарил русскую правительницу: «…и дасть ей злато и сребро, паволоки и съсуды различный и отпусти ю…» По словам новгородского паломника Добрыни Ядрейковича, посетившего Царьград в 1200 г., Ольга собрала с византийцев «дань». Записывая Византию в «данники» Древней Руси, Добрыня Ядрейкович сильно преувеличил размеры даров, однако можно признать вероятным, что империя повысила оплату воинской помощи Руси[40]. Сделав первый шаг к сближению с христианским миром, деятельная княгиня Ольга обратилась к контактам с ним на Западе. В 959 г. Ольга отправила посольство в Германскую империю для переговоров с воинственным Оттоном I. По сути дела это была обычная миссия «мира и дружбы» для установления между государствами взаимно выгодных отношений, предполагавших постоянный обмен посольствами, пропуск купеческих обозов для торговли, в том числе транзитной. Стремясь к достижению своей цели, Ольга дала согласие на допуск в русские земли немецких миссионеров. Однако присланный вскоре на Русь епископ Адальберт был изгнан из Киева, очевидно, за то, что под прикрытием миссионерской деятельности пытался осуществить какие-то политические притязания Оттона I[41]. В эпоху, когда война была главным средством решения политических споров, княгиня Ольга своими внешнеполитическими инициативами продемонстрировала возможность борьбы за международное признание без применения силы, возможность и даже необходимость существования равноправных межгосударственных соглашений: Русь в период ее правления не воевала ни с одним из соседних государств. Поэтому осуществление далеко не всех задуманных планов отнюдь не снижает ценности «дипломатического опыта» княгини Ольги. В 964 г. Ольга уступила престол совершеннолетнему сыну. Но «възрастъший и възмужавший» Святослав длительное время находился в походах, и во главе государства по-прежнему оставалась его мать. Так, во время печенежского нашествия на Киев в 968 г. Ольга возглавила оборону города. Судя по летописи, Святослав испытывал к матери почтительное уважение до самой ее смерти. Когда она стала совсем больной, по ее просьбе он вернулся из похода и был с матерью до ее последнего часа[42]. Многое из того, что задумала, но не смогла осуществить Ольга, было продолжено ее внуком, «великим Володимером, хрестившим всю землю Русскую». Следует отметить, что Владимир Святославич пытался (правда, безуспешно) утвердить на Руси автокефальную церковную организацию, о которой думала княгиня Ольга. Вначале он заключил династический брак с одной из принцесс византийского императорского дома, после чего Русь приняла крещение, сохранив высокую политическую титулатуру, — ни о каком вассалитете между византийской и русской правящими фамилиями не могло быть и речи. В 988 г. женой Владимира Святославича стала сестра византийского императора Анна Романовна, внучка Константина VII Багрянородного. Более 20 лет прожила Анна Романовна на Русской земле. Хотя мало сведений дошло до нас о ее деятельности на, новой родине, но ряд фактов говорит о том, что дело прославившей себя государственными делами бабки своего мужа — великой княгини Ольги — она продолжила, играя, конечно, более скромную роль: Анна Романовна была не полновластной правительницей, а лишь супругой киевского князя. Однако участие в государственных делах великих княгинь, по-видимому, стало традицией. Об этом свидетельствует вступительная статья к Уставу князя Владимира Святославича, которая начинается словами: «И по сем съгадал (подумал, решил. — Н. П.) есми с своею княгинею Анною и с своими детьми…» Да и появление самого Устава как документа было невозможно без подписанной княгиней Анной подтвердительной грамоты, поскольку Анна действовала от имени византийского духовенства. Сопоставление списков и редакций рассматриваемого памятника доказывает, что в XI в. из двух источников пожалования суда в государстве — греческого номоканона и совета с княгиней Анной — первый мог отсутствовать, второй — никогда[43]. О том, что занятие княгинь «законодательством и устроительством» наравне со своими мужьями было нормой, говорят документы и более позднего происхождения. Так, Устав новгородского князя Всеволода о церковных судах (XIII–XIV вв.) был создан при участии «княгини Всеволожей». В Уставе она поставлена в ряд с самыми влиятельными лицами в Новгороде того времени — старостами и сотскими[44]. Участие княгинь в «законодательном деле» является, несомненно, показателем высокого уровняразвития социально-правовой, культурной и государственной системы Древней Руси. В прошлом «порфирородная принцесса», Анна Романовна не могла не получить широкого по тому времени образования. Это позволило ей, будучи уже русской княгиней, принимать посольства. Известны ее дипломатические контакты в 989–990 гг. с посланником из Германии, где в это время правил Оттон II[45]. Княгиня Анна была не единственной законной («водимой») женой князя Владимира Святославича. Под 980 г. в русских летописях помещено предание о другой жене этого князя — гордой и своенравной Рогнеде. По преданию, ее отец — полоцкий князь Рогволод спрашивал ее согласия на брак с Владимиром, но она будто бы ответила отказом: «Не хочу разути робичича…» (Владимир был сыном Святослава и рабыни, ключницы княгини Ольги Малуши:) Владимир «разгневася о той речи… поемши вой, идоша на Полтеск и победиста Рогволда». Рогнеда была захвачена в плен и «ята» в жены насильно. Правда, Лаврентьевская летопись сообщает, что Владимир «воздвигнул ей отчину», «устрой город и да има, и нарече имя городу тому Изяславль» (по имени их первого с Рогнедой сына). Дочь же Рогнеды и Владимиpa — Предслава Владимировна тоже получила «селце Предъславино»[46]. Упоминания об имущественных владениях женщин княжеской фамилии важны для представления о месте их при дворе.Дочери Ярослава Мудрого
Много славных женских имен сохранили летописные своды в связи с историей княжения сына князя Владимира Святославича Ярослава Владимировича, получившего прозвание Мудрого. Активной участницей борьбы за его воцарение на киевском престоле стала в 1015–1019 гг. его родная сестра Предслава. В час смерти отца Ярослав жил и правил в своей отчине — Новгороде. Его основным соперником в борьбе за власть в Киеве стал сын «грекини» Святополк, который после смерти отца перебил «братью свою» — князей Бориса и Глеба и захватил киевский престол. В «Повести временных лет» говорится, что Предслава послала в Новгород к брату гонца с известием о событиях в Киеве и о том, что Святополк затевает недоброе против него. Ярослав пошел с дружиной на Киев и в 1016 г. в битве у Любеча разбил Святополка. Бежав к своему тестю, польскому королю Болеславу, Святополк вскоре вместе с ним двинулся на Русь. Предслава активно вступила в борьбу. По свидетельству Киево-Печерского патерика («Житие Антония»), она укрывала у себя противников Святополка, в частности Моисея Угрина. В июле 1018 г. Ярослав потерпел поражение в битве с Болеславом и Святополком, и поляки «вниде в Киев». Предслава и ее придворная дружина оказались в руках врагов. Болеслав пытался обменять ее и другую захваченную в плен родню Ярослава на свою дочь, жену Святополка, находившуюся в плену у Ярослава. Последующая судьба Предславы оказалась печальной: она стала наложницей Болеслава[47]. Вокняжение Ярослава Владимировича после сложной политической борьбы в 1019 г. сопровождалось расширением международных контактов Руси. Жена Ярослава Ингигерда, в крещении — Ирина, дочь норвежского короля Олафа, принесла в качестве приданого город Альдейгаборг (Старая Ладога). На одной из известных фресок Софии Киевской изображена она сама с мужем, а также вся их семья, сыновья и четыре дочери: Анастасия, Анна, Елизавета и маленькая, неизвестная, рождение которой исследователи обычно относят к 1030 г. Дочери Ярослава Мудрого, как и их отец, мать, братья, воспитывались в атмосфере «книжности»: об их отце летопись сообщает, что Ярослав «насеял книжными словесы» сердца близких ему людей[48]. Ярославны сыграли видную роль в политической жизни стран Европы, будучи выданными замуж за иностранных королей и принцев. Наиболее известна романтичная судьба Анны Ярославны. В середине XI в. король Франции Генрих I овдовел. Он был немолод, с трудом удерживал бразды правления и надеялся на укрепление престижа страны через матримониальную связь с сильным государством. Французский историк Ф. де Мезере на основании свидетельств хронистов писал в XVII в., что до Генриха «дошла слава о прелестях принцессы, именно Анны, дочери Георгия (Ярослава Мудрого. — Н. П.), короля России, ныне Московии, и он был очарован рассказом о ее совершенствах»[49]. Брак с Анной Ярославной мог способствовать укреплению власти Генриха I и обеспечению надежных союзнических связей. Но Ярослав Владимирович не сразу дал согласие на брак своей дочери. Известно безуспешное посольство к нему от Генриха I по этому поводу в 1044 г. В. Т. Пашуто считал достоверным сообщение немецкого хрониста Ламберта Ашафенбургского о том, что тогда Ярослав Владимирович пытался заключить династический союз с Германией, предлагая руку Анны немецкому королю Генриху, но получил отказ. Лишь в 1048 г. епископу Готье удалось убедить киевского князя принять предложение короля Франции. Этим решилась судьба Анны[50]. В апреле 1051 г. по весенним улицам Парижа проследовал богатый кортеж новобрачной. 19 мая 1051 г. состоялась свадьба Анны Ярославны и Генриха I, а в 1052 г. у них родился сын Филипп, который в семилетнем возрасте был коронован в Реймсе. Первые годы жизни в Париже не были радостными для Анны. «В какую варварскую страну ты меня послал; здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны» — эти строки из письма Анны к отцу в Киев цитируют французские исследователи[51]. Но достоверных данных о ее жизни в Париже в 1051–1060 гг. нет. К этому времени относится лишь письмо к ней римского папы Николая II (1059 г.), в котором, в частности, говорится: «Слух о ваших добродетелях, восхитительная дева, дошел до наших ушей, и с великой радостью слышим мы, что вы выполняете в этом очень христианском государстве свои королевские обязанности с похвальным рвением и замечательным умом»[52]. О растущем авторитете Анны во французском обществе говорит и тот факт, что ей было предоставлено право ставить свою подпись на документах государственной важности. Ее четкие, ясные, написанные знакомым «уставом» буквы стоят рядом с крестами неграмотных королевских чиновников, придворных и самого короля — Генриха I. Эта привилегия Анны была уникальным явлением для французского королевского двора XI в. Анна знала латынь — официальный язык того времени, на котором писало и говорило образованное общество в Западной Европе. Кстати, письмо папы к Анне было написано по-латыни. Но коронованная киевлянка, живя вдали от родины, помнила кириллическое правописание, подписывалась и на родном языке. Известны две различные подписи Анны Ярославны: «Anne-regine» и «регина Анна». Их языку и графике посвящены специальные исследования[53], потому что подписи Анны современны самым древним русским письменным памятникам, например Остромирову евангелию. В 1060 г. Генрих I умер. Сын Филипп, объявленный королем, был еще несовершеннолетним, в связи с чем на Анну были возложены опекунские полномочия. Она поселилась в Санлисе, небольшом замке к северу от Парижа, который любила за «царствующий там благорастворенный воздух и за прекрасную охоту», к которой «она питала большое расположение». Близ Санлисского замка Анна основала костел и женский монастырь. В XVII в. на перестроенном портике санлисской церкви было воздвигнуто лепное изображение русской княжны во весь рост с маленькой моделью основанного ею храма. Надпись на цоколе гласит: «Анна Русская, королева Франции, основала этот собор в 1060 г.». Дальнейшая судьба Анны делает ее похожей на героиню рыцарского романа. Два года спустя после смерти Генриха I Анну похитил из Санлисского замка потомок Карла Великого граф Рауль де Крепи де Валуа. В церкви замка Крепи их обвенчал — не без угроз Рауля — местный священник. Между тем граф-похититель был женат, и жена его Алинора обратилась с жалобой на мужа к папе Александру II. Папа объявил брак Рауля и Анны недействительным, но супруги этим пренебрегли. Более того, Анна Ярославна сохраняла дружественные отношения с сыном-королем и даже сопровождала его в поездках по стране вместе с новым мужем. Тогда Анна еще активнее приобщилась к делам политического управления: среди документов, освещающих ее деятельность, немало данных монастырям, хартий, под которыми имя ее стоит или рядом с именем сына («Philippus cum regina mater sua» — Филипп и королева, мать его), или самостоятельно («Anna mater Philippi Reges» — Анна, мать короля Филиппа). После смерти графа де Валуа (1074 г.) Анна вернулась ко двору сына и, судя по некоторым источникам, погрузилась в государственные дела. Последняя грамота, подписанная уже немолодой экс-королевой Анной, датируется 1075 г.[54] Некоторые исследователи истории Франции XI в. склонны считать, что в конце жизни Анна Ярославна вернулась на Русь и, прожив на Родине несколько лет, умерла там. «Анна возвратилась на землю своих предков», — выбито на подножии ее статуи в Санлисе. Однако летописи об этом молчат. Маловероятно, чтобы такое событие, как возвращение на родину дочери Ярослава Мудрого, прошло для киевлян незамеченным. Возможно, Анна ездила в Киев и вернулась обратно во Францию. В XVII в. один монах аббатства Виллье отыскал могилу, как он полагал, «королевы Анны». Гробница над могилой якобы воспроизводила герб Анны: лилии и открытые ворота крепости, увенчанные короной. Многие русские и французские исследователи поспешили связать изображение на гербе с киевскими Золотыми воротами. Но еще Н. М. Карамзин сомневался в достоверности «находки»[55]. Более доказательно предположение о том, что киевская княжна привезла во Францию свою библиотеку. От нее в настоящее время сохранилась лишь часть единственной книги, известной среди историков и языковедов как Реймсское евангелие. Анализ лингвистических особенностей евангелия привел к заключению: рукописный памятник создан на Руси в первой половине XI в. На Реймсском евангелии короли Франции приносили присягу при вступлении на престол. Существует предание, что Реймсское славянское евангелие показывали Петру I в знак того, что память об «Анне Русской» живет по-прежнему во Франции[56]. Судьба другой дочери Ярослава Мудрого — Елизаветы (Эллисивы) — связана с Норвегией и отразилась в исландских сагах. Будущий муж Елизаветы — норвежский принц Гаральд встретился с ней, находясь на службе при дворе Ярослава Мудрого. Однако его попытка немедленно получить княжну в жены не увенчалась успехом: Ярослав отказал ему, так как принц не имел ни богатства, ни престола. Скандинавские хроники сообщают, что викинг, получив отказ, отправился искать счастья по белу свету, чтобы или забыть прекрасную принцессу, или стать достойным ее руки и сердца. Норвежский принц оказался не только героем-викингом, но и поэтом. В лучших традициях рыцарской поэзии он сочинил стансы в честь своей возлюбленной–16 строф песни, восхваляющей гордость и красоту русской княжны, которая, как он считал, «им пренебрегла». Гаральд побывал в Византии, на севере Африки и в Сицилии, приобрел славу и огромные богатства, которые неизменно пересылал ко двору князя Ярослава, доказывая, что достоин быть его зятем. В 1035 г. Елизавета была отдана ему в жены, и Гаральд вернулся в Норвегию. По-видимому, здесь сыграло роль не столько то, что Елизавета наконец-то оценила достоинства Гаральда, сколько желание самого Ярослава Мудрого укрепить союзнические отношения со странами Северо-Запада. Однако Елизавета по неизвестным причинам осталась на Руси. В древнескандинавской рукописи «Hauksbok» есть сведения о том, что Елизавета Ярославна посылала мужу дары (часть своей казны) и приветственные послания. Известно также посещение ею Шотландских островов. После смерти Гаральда III Елизавета Ярославна вышла замуж за датского принца[57]. Те же цели укрепления международных контактов Руси преследовал и брак Анастасии Ярославны с венгерским королем Андреем I в 1046 г. С именем Анастасии-Агмунды (это имя она получила при обращении в католическую веру) связывают основание двух православных монастырей — в Вышеграде и Тормове. Пребывание Анастасии на венгерском престоле после смерти мужа совпало с крупным политическим конфликтом — борьбой за власть, начавшейся между ее сыном Шаламоном и Белой I (1061 г.), и она вынуждена была бежать от преследования в Германию[58]. Последующая судьба ее неизвестна. Залогом мира и взаимопомощи двух европейских держав был и брак польского князя Казимира Восстановителя с сестрой просвещенного киевского князя Ярослава Мудрого Марией Добронегой в 1039 г. По сообщению западных хронистов Галла и Длугоша, приданое, полученное Марией, было столь велико, что можно было говорить об «обогащении королевства благодаря такому блестящему браку и укреплении его добрососедства». Славу о деяниях Марии Добронеги в годы ее вдовства донесли до нас многие источники. Известно, что русская княгиня вместе с сыновьями вершила государственные дела. Так, в 70-е годы XI в., когда Геза I, король Венгрии, бежал с братьями в Польшу, принимала его там и снабжала всем необходимым «мать правящего короля Болеслава Щедрого, вдова Казимира королева Добронега вместе с младшим сыном». Имеются данные и о религиозной деятельности княгини[59]. История жизни русских женщин Предславы и Марии Добронеги Владимировны, Анны, Елизаветы и Анастасии Ярославен лишь небольшой сюжет в масштабном полотне, запечатлевшем внутреннюю и внешнюю политику Руси XI в. Но эти дочери и сестры могущественного Ярослава достойны остаться в нашей памяти уже за то, что вложили посильную лепту в упрочение международного престижа своей Родины.Анна-Янка и Евпраксия-Адельгейда Всеволодовны
Чем пространнее излагаются события в летописях, тем чаще встречаются на их страницах имена представительниц русских княжеских династий, оставивших своей деятельностью след в отечественной истории. Внучка Ярослава Мудрого, дочь великого князя киевского Всеволода Ярославича Анна (Янка) в 1089 г. самостоятельно «правила посольство» в Византию за новым митрополитом Иоанном П. Правда, оказался «сей муж не книжен, но умом прост и просторек» и не приобрел на Руси того веса, на который рассчитывала Анна вместе с отцом. Тем не менее ее причастность к делам Киевского государства очевидна. Личная жизнь Анны сложилась неудачно: по версии Н. Баумгартена, она была помолвлена с византийским царевичем Константином Дукой Старшим, но брак не состоялся, так как жениха насильно постригли в монахи. Поэтому и она, вероятно, большую часть жизни посвятила монастырским делам: имя Янки встречается во многих летописях в связи с основанием ею Андреевского монастыря в Киеве[60]. При киевском Андреевском монастыре Анна Всеволодовна основала первую известную в истории Руси школу для девочек. В «Истории» В. Н. Татищева в связи с этим фактом приводится выдержка из не сохранившейся до наших дней летописи о том, что Янка, «собравши младых девиц, неколико обучала писанию, тако ж ремеслам, пению, швению и иным полезным им занятиям. Да от юности навыкнут разумети закон божий и трудолюбие, а любострастие в юности воздержанием умертвят…». Тягу к «просветительской» деятельности Анна унаследовала от отца, который, «дома седя, изумеяше пять язык», а также от матери — бывшей византийской принцессы[61]. Традиции женского образования в Византии, с которой Русь пока еще поддерживала тесные контакты, благотворно влияли на общий уровень культуры и распространение грамотности среди женщин княжеского дома. Между тем деятельность Анны-Янки не была на Руси явлением уникальным. В XII–XIII вв. нередко возникали монастырские школы, основателями которых были женщины княжеского сословия или имевшие духовный сан (например, игуменьи). Факт распространения грамотности среди женщин в духовной среде отмечен и житийной литературой: многие русские княгини, «приимши мниший чин», занимались списыванием книг. Известно, что дочь полоцкого князя Святослава Всеславича Предслава Святославна (ум. в 1173 г.), постригшись в монахини под именем Евфросиньи, «начат книги писати своими руками». В открытой ею при полоцком Софийском соборе школе — как сообщают поздние источники — она обучала грамоте «младых девиц», в том числе сестер Городиславу и Звениславу[62]. Конечно, эти отрывочные сведения не говорят о складывании на Руси в XII–XIII вв. системы школьного образования. Обучение княжеских детей, в том числе девочек, происходило главным образом в домашних условиях. И тем не менее уровень их образованности был достаточно высоким для средневековья. Княжон учили так же, как и княжичей: не только грамоте, но и математике, азам философии, «врачебной хитрости», календарной астрономии, «ритории», «глаголению инемними языками»[63]. Обучение иногда велось по «елиньскым книгам», т. е. на греческом языке, и начиналось с раннего возраста. Об этом свидетельствует, например, изображение дочери киевского великого князя Святослава Ярославича с пергаментным списком в руках на одной из миниатюр в Изборнике Святослава 1073 г. Подтверждают раннее обучение княжеских детей грамоте и жития, например Евфросиньи суздальской[64]. Многие образованные женщины в XI–XIII вв. имели свои домашние «библиотеки». Жена старшего сына Ярослава Мудрого Изяслава — польская княжна Гертруда, в православии — Олисава (Елизавета), обладала знаменитой Трирской псалтырью («Кодекс Гертруды») с миниатюрами, выполненными по ее заказу и изображающими ее и сына Ярополка. Псалтырь была подарена Олисавой своей дочери Сбыславе, выданной в 1102 г. замуж за польского князя, и впоследствии передавалась по женской линии рода[65]. Гертруда вышла замуж за Изяслава в 1043 г., в 1050 г. родила сына Ярополка, а в 1073 г. была вынуждена бежать вместе с ними на родину, так как братья мужа Святослав и Всеволод изгнали его с великого княжения. Из Польши княжеская семья отправилась в Саксонию, где Олисава вернулась в «латынскую веру». По совету матери Ярополк обратился к папе Григорию VII с просьбой о поддержке. В 1077 г. Изяслав Ярославич овладел Киевом и воскняжил там. Олисава с сыном вернулись на Русь и перекрестились в православие. Последующие 20 лет Олисава провела в уделе своего сына — Владимире-на-Волыни, где проявила себя в делах государственного управления, имея атрибут государственной власти — личные печати (хранятся в Отделе археологии Института общественных наук АН УССР во Львове)[66]. Грамотность женщин привилегированного сословия современники, вероятно, считали делом обычным. Дьякон Григорий, переписавший Остромирово евангелие (XI в.), в предисловии пишет, что преподносит его не только новгородскому посаднику Остромиру, но и его «подружиям», не только чадам, но и «подружиям чад» (их невесткам). Известно также, что жена одного новгородского аристократа сделала заказ писцам на списывание книг для церкви Иоанна Предтечи на Опоках, а волынская княгиня Ольга Романовна «переписала» для себя Кормчую. Сведения о заказах женщин на списывание книг можно почерпнуть из жития Евфросиньи полоцкой и Псалтыри 1296 г., переписанной по заказу некой Марины. «До излиха вкусившими мудрости книжной» были жена смоленского князя Романа Ростиславича (конец XII в.) и Феодулия-Евфросинья суздальская, что «не в Афинех учися, но афинейские премудрости изучи»[67]. Но вернемся к дочерям Всеволода Ярославича. В 1082 г. 12-летняя сводная сестра Анны Всеволодовны — Евпраксия Всеволодовна была сосватана за маркграфа Генриха Штаденского Длинного. Всеволод был заинтересован в союзе с могущественным и богатым домом Саксонии. В 1083 г. Евпраксия с огромным приданым, пышным посольством и верблюдами, «нагруженными роскошными одеждами, драгоценностями и вообще несметным богатством», была отправлена в Саксонию, в дом жениха, где, по обычаю того времени, она должна была находиться до брака, усваивать немецкий язык, привыкать к новому быту. Вскоре русскую княжну поместили в Кведлингбургский монастырь, в котором получали образование дочери знатных особ, а игуменьями были принцессы только королевской крови. Здесь Евпраксия под наблюдением игуменьи — сестры императора Генриха IV Адельгейды обучилась немецкому и латинскому языкам и иным книжным премудростям. Перед свадьбой, в 1086 г., она перешла в католичество и получила новое имя — Adelheid (Адельгейда)[68]. Но через год Генрих Штаденский умер, детей у них не было. Еще до замужества Евпраксия-Адельгейда обратила на себя внимание германского императора Генриха IV. После смерти маркграфа и своей жены Генрих IV решил жениться на его вдове. С 1087 г. Евпраксия открыто считалась невестой императора. Коронация состоялась в 1088 г., венчание — летом 1089 г. В Киев были посланы официальные извещения. Генрих IV надеялся, что новый брак усилит его позиции в борьбе с папством и Русь поддержит его в этой борьбе[69]. Да и новая императрица Адельгейда склонна была принимать участие в политических делах. Но брак не был одобрен киевским двором: по-видимому, отрицательную роль сыграла церковь. Византия тогда прервала сношения с Генрихом IV, и император Иоанн II стремился удержать Русь в русле проводимой им политики[70]. В 1090 г. Евпраксия-Адельгейда уехала с мужем в Верону, где развертывались военные действия между войсками Генриха IV и папы Урбана II. Судя по событиям 1093 г., в жизни Генриха и Евпраксии наступил разлад. М. Кирхнер и Т. Эдигер связывали возникшую неприязнь Генриха IV к жене с ее «недостаточно целомудренным поведением» («a proprio marito prostituta est»). С. П. Розанов пытался оправдать «внутреннюю свободу и непосредственность» Евпраксии-Адельгейды. В. Т. Пашуто считал определяющим в конфликте императора с женой принадлежность Генриха IV к секте николаитов с их тайными оргиями, участвовать в которых император принуждал свою русскую жену[71]. Однако во всех этих доводах сбрасывается со счета участие Евпраксии-Адельгейды в политической борьбе. Два факта стоят рядом: в 1093 г. сын императора Конрад, приехавший в Верону вместе с коронованной четой, неожиданно предал отца и перешел на сторону его противников во главе с баварским герцогом Вельфом, связанным с папой Урбаном II, и в том же году, по свидетельству хронистов, Генрих IV «из ненависти к жене заточил ее в Вероне»[72]. Не было ли это вызвано тем, что император не без основания опасался политической измены Евпраксии, которая могла выдать некоторые политические и военные планы сторонников Генриха IV, не говоря уже об огласке подробностей семейной жизни? Возможно, немалую роль сыграло изменение политической ориентации киевских князей: к этому времени Всеволод Ярославич умер, а его преемник князь Святополк Изяславич (двоюродный брат Евпраксии) стал ориентироваться на Вельфов[73]. Так или иначе, но водоворот политической жизни все более затягивал Евпраксию. Во время переезда императорского двора из Вероны в Лангабардию она бежала от Генриха IV и направилась в Каноссу, где торжественно была встречена своим пасынком Конрадом. Переход на сторону противников мужа был, по-видимому, принципиальным шагом для Евпраксии, которая хотела, чтобы судьба германской короны решилась в интересах Руси. Вероятно, не без сговора с Конрадом она подала на церковный собор в Пьяченце буллу с жалобой на мужа, подвергавшего ее унижениям и жестокостям, т. е. предала огласке подробности своей семейной жизни. По нормам средневековой морали, поступок Евпраксии был равносилен гражданскому самоубийству и требовал немалого мужества (хотя в средневековой истории аналогичные случаи известны: с буллой на имя папы обращалась, например, Элеонора Аквитанская). Впоследствии поступок Евпраксии резко осуждался немецкими историками[74]. Генрих IV был судим папским судом, отрешен от престола и умер в бесславии. По окончании процесса Евпраксия покинула Германию. Вначале она перешла под покровительство своей тетки — венгерской королевы Анастасии Ярославны, но, преследуемая клевретами Генриха IV, вскоре уехала в Киев, где постриглась в монахини в монастыре своей сестры Янки[75]. Вскоре в Киеве поползли слухи о выступлении Евпраксии-Адельгейды против мужа на церковном соборе, что вызвало резкое осуждение прежде всего у духовенства и, видимо, повлияло на отношение к ней в былинах и легендах, где к имени Евпраксии прочно прикрепился эпитет «волочайка» (потаскуха)[76]. Историческая справедливость не вяжется с «очернением» Евпраксии и «обелением» Генриха IV немецкими историками. Она требует отметить сильные черты Евпраксии, которые характеризуют ее как независимую личность, отстаивавшую свою линию поведения. К сожалению, пока остаются в тени связи Евпраксии-Адельгейды в бытность ее за рубежом с Киевской Русью.Внучки Владимира Мономаха
Когда внимание определенных кругов европейских государств было привлечено к политическому скандалу, в центре которого оказалась Евпраксия-Адельгейда, ее мать — жена князя Всеволода Ярославича Анна выступила в Киеве с миротворческой миссией в межкняжеском споре внуков Ярослава Мудрого. В 1097 г. Владимир Мономах заявил о притязании на киевский престол и выступил с войском против Святополка Изяславича, который занял великое княжение по приглашению киевского боярства, а не по праву наследования. Союзниками Владимира Мономаха стали другие внуки Ярослава Мудрого — Олег и Давыд Святославичи, а также ослепленный правнук Ярослава Мудрого Василько Ростиславич. Никогда еще Владимир Мономах не был так близок к «злату столу». Но вторжение его дружины в Киев означало разгром и опустошение, потому-то «княгиня Всеволожая» вместе с митрополитом и прибыла в стан осаждающих. Летопись вложила в ее уста призыв к единению — «блюсти земли русские», а «брань имети» лишь с «погаными». Переяславский князь Владимир Мономах прислушался к словам княгини Анны: как говорит летопись, «чтяшеть ю акы матерь»[77]. Только в 1113 г., уже будучи 60-летним, Владимир Мономах стал великим князем. При нем Киевская Русь представляла единую державу, продолжалась и традиция матримониальных связей с Западной Европой. Накануне занятия престола Владимир Мономах выдал «в Угры за короля» Коломана (Кальмана) свою дочь Евфимию, но через год этот династический брак распался. Венгерский двор демонстративно отослал Евфимию Владимировну на Русь[78]. В. Т. Пашуто полагал, что королева пала жертвой осложнившихся политических отношений между Венгрией и Киевской Русью, поскольку Мономах в то время не скрывал своей враждебности к союзной Венгрии Византии. Довод не лишен оснований, так как в 1118 г. и внучка Мономаха, дочь Мстислава Владимировича, выданная замуж за владимиро-волынского князя Ярослава Святополковича, тесно связанного с венгерским двором, тоже была отослана мужем обратно в Киев. Как видим, незавидная судьба обеих русских княжон зависела от политических перипетий и интриг. Но в ряде аналогичных случаев родственники русских княжон выступали на их защиту. Так, Ярослав Святополкович поплатился за свой поступок в отношении жены вынужденным бегством в Польшу[79]. Вторая Мстиславна — Добродея-Евпраксия-Зоя была дочерью Мстислава Владимировича и Христины Шведской и родилась в начале XII в. В летописи под 1122 г. сообщается: «Ведена Мстиславна в греки за царь». Ее супругом стал старший племянник византийского императора Алексей Комнин. В. Н. Татищев и Н. М. Карамзин утверждали, что эту Мстиславну называли Добродеей. Такое имя известно в славянском имянослове. Греческим именем Евпраксия, что в переводе означает «добродеяние», называли русскую княжну в Византии, где при коронации ей дали второе имя — Зоя, которое означает «жизнь» и тоже было по-своему символично: византийский двор надеялся, что русская княжна даст вскоре жизнь наследнику[80]. Но детей у Евпраксии-Зои долго не было. Многие годы она провела в обществе образованной принцессы Анны Комнины, известной византийской хронистки, написавшей биографию своего отца, а также севастокриториссы (придворная должность) Ирины, которая покровительствовала ученым и особенно интересовалась историей. В 1129 г. Евпраксия-Зоя родила дочь. Примерно в то же время в Царьград прибыло посольство из далекой Руси, и, вероятно, в числе родственников Зои прибыла ее сестра Ксения, бывшая замужем за полоцким князем Брячиславом. Однако наследник так и не родился; муж Евпраксии-Зои вскоре умер, а императором Византии стал Мануил, его брат. Зоя долго носила траур и, по мнению придворных, все более походила на монахиню[81]. Византийский хронист Вальсамон утверждал, что «врачи отказались от ее излечения» по причине ее «мании к колдовству и знахарству». Поводом к такому обвинению послужило то, что Евпраксия-Зоя сама умела лечить травами и обобщила свои знания по «врачебной хытрости» в написанном по-гречески трактате «Алимма» («Мази»). Этот интересный труд дошел до нас в неполном виде и хранится в библиотеке Медичи во Флоренции (Италия). Никаких заведомо «чародейных» средств лечения он не содержит[82]. Трактат состоит из пяти частей, в которых рассматриваются общие вопросы гигиены, содержатся краткие сведения по микропедиатрии, дерматологии, внутренним болезням. В первой части, посвященной размышлениям об общей гигиене человека, есть зачатки средневекового учения о темпераментах: сангвиническом, холерическом, флегматическом, меланхолическом. Вторая часть трактата посвящена гигиене брака, беременности и новорожденного, третья — гигиене питания. Интересно, что все пищевые продукты делятся здесь на две группы: имеющие «холодные» свойства (миртовое масло и т. п.) и «теплые» (вино, мед, мясо и т. п.). Здесь же приводятся рецепты диетического питания. Четвертая часть — «Наружные болезни» — содержит рекомендации по натиранию мазями при «парше», болезнях зубов, кожи. В пятой части излагаются некоторые приемы массажа при сердечных и желудочных болезнях. Четвертая дочь Мстислава Владимировича — Малфрид Мстиславна была выдана замуж за норвежского короля, а пятая — Ингеборг Мстиславна — за сына датского принца, короля бодричей (одного из крупнейших племен полабских славян) Кнута Лаварда. Эти сестры Добродеи-Евпраксии-Зои были столь же образованными и незаурядными личностями. Они знали языки, принимали участие в политической и культурной жизни. «История датских королей» («Кнутлингасага» XIII в.) и хроника Гельмольда, восхваляя княжну Ингеборг, подчеркивают, что она всегда была в курсе политических дел и являлась «советницей» мужа[83]. Еще одна сестра Добродеи-Зои — Евфросинья Мстиславна была королевой Венгрии, супругой Гезы II. Участвуя в приемах послов и дипломатических миссий, она произвела благоприятное впечатление на французского короля Людовика VII, который стал крестным отцом ее первенца. Умная и энергичная, Евфросинья способствовала возобновлению тесных связей Венгрии с Киевской Русью, где великим князем стал ее брат Изяслав. В 1148 г. венгерские полки помогли ему одержать победу над Ольговичами и Давыдовичами. В 50-е годы XII в. в ходе междоусобной войны за великое княжение, в которой принимали участие Юрий Долгорукий и галицкий князь Владимирко, Изяслав пользовался поддержкой Гезы II лишь благодаря сестре. Разбитый венграми Владимирко, очевидно, знал о влиянии Евфросиньи на мужа, так как, обращаясь к «королю угорскому» с мольбой «о мире», просил Гезу II «пощадить его и не исполнять желание королевы». Евфросинья, по-видимому, требовала его казни. Геза II даровал галичанину жизнь при условии возвращения отвоеванных им городов, но Владимирко, получив свободу, нарушил обещание. В итоге Евфросинья Мстиславна оказалась прозорливее мужа[84]. Со смертью Изяслава Мстиславича в 1154 г. связи Венгрии и Руси несколько ослабли. Правда, в 1155 г. в Венгрии побывала мать Евфросиньи; король Геза II в знак уважения к супруге оказал честь теще, дав ей «много имения» (богатые дары). Геза II вскоре умер. После его смерти Евфросинья взяла правление в свои руки. Став регентшей, она направила все усилия на защиту интересов сына. С целью укрепления позиций Иштвана III она задумала женить его на дочери галицкого князя Ярослава Осмомысла, которая в 1164 г. приезжала по ее приглашению в Венгрию, но брак не состоялся. В том же году регентша и ее союзники пытались найти поддержку в Чехии, в связи с чем Евфросинья с сыном приняли чешского короля Владислава II и богато одарили его. Отстаивая права сына на венгерский престол, Евфросинья Мстиславна объективно становилась поборницей политического единства Венгрии. В этом причина высокой оценки ее деятельности в исторической литературе[85]. Но партия приверженцев молодого короля, которую возглавляла его мать, унаследовавшая от деда — Владимира Мономаха талант политической борьбы, оказалась в конечном счете слабее своих противников — провизантийской группировки, опиравшейся на войска императора Мануила. Осознав невозможность удержать позиции, Евфросинья в 1172 г. бежала с Иштваном в Австрию. В стране произошел переворот, и у власти оказался другой сын Евфросиньи — Бела III. В 1186 г. он заключил свою мать в крепость Браничево, а впоследствии вообще отослал ее в Византию, где Евфросинья постриглась в монахини[86]. Противники энергичной русской по происхождению королевы, видимо, посчитали монастырь единственным местом, способным «погасить» ее политические амбиции.«Полоцкий матриархат»
История русских земель с середины XII в., когда, по образному выражению летописца, «раздрася вся земля Русьская», отражена в Киевской, Ипатьевской, Новгородской и других местных летописях. И в каждой из них упоминается много имен княгинь и боярынь, участвовавших в политической жизни отдельных княжеств и даже осуществлявших единоличное правление. С 1125 г., когда умер Владимир Мономах и полоцкие князья перестали считаться с его преемником — Мстиславом Владимировичем, началась феодальная усобица, длившаяся до 1129 г. Она закончилась тем, что отец «Мстиславен» расправился с полоцкими князьями, лишив их престолов, имущества, пленив и «поточи» (сослав) их «в Греки», в Царьград. Полоцкое княжество оказалось без верховного правителя. Тогда-то на политическую арену и вступили княгини, взявшие на довольно продолжительный срок верховное правление в свои руки. Период 30–50-х годов XII в. в истории Полоцкого княжества В. Л. Янин назвал «полоцким матриархатом». В числе княгинь-правительниц были представительницы семьи князя Святослава Всеславича, а также жена некоего князя Михаила, имя которой осталось неизвестным[87]. При раскопках Полоцка и древнего Кукейноса, правитель которого находился в вассальной зависимости от полоцкого князя, были найдены три личные княжеские женские печати. Пока старшие члены княжеской полоцкой династии не вернулись из ссылки[88], оформлением официальных документов, к которым привешивались личные печати, вероятнее всего занималась в Полоцке жена Святослава-Георгия Всеволодовича княгиня Софья. Затем эту миссию взяла на себя ее дочь Предслава, которая хотя и была пострижена в монахини под именем Евфросиньи, но от светских дел не отошла. Личная печать Евфросиньи полоцкой (на печати — ее погрудное изображение) — единственная в русской сфрагистике, не располагавшей до ее находки монашескими и монастырскими буллами (подвесными печатями) XI–XIV вв. По мнению В. Л. Янина, Евфросинья и по принятии схимы значительное время сохраняла всю полноту светской власти. При Евфросинье в Полоцке было основано два монастыря (1161 г.) и две церкви; вкладом в один из монастырей был крест Евфросиньи — памятник прикладного искусства XII в. Имеется певческий цикл об Евфросинье. Третья найденная женская печать Полоцка не атрибутирована[89]. В связи с «полоцким матриархатом» встает вопрос о типичности такого явления, как женские печати. Сфрагистические материалы подсказывают, что владение печатями для утверждения официальных документов и, следовательно, выполнение административных функций в своей земле были привилегией не одних полочанок. Личные печати имели мать Янки и Владимира Мономаха (В. Л. Янин считает, что имя ее — Мария; ум. в 1067 г.); жена великого князя киевского Святополка Изяславича (1093–1113 гг.) Ирина; Олисава-Гертруда — владелица Трирской псалтыри (1078–1086 гг.); жена великого князя Мстислава Владимировича Христина (мать деятельных Добродеи, Ингеборг, Евфросиньи; 20-е годы XII в.); жена великого князя Всеволода Ольговича Мария (1126–1139 гг.) и др.[90]«Слышаще словеса книжнаа, на сердце си полагаше…»
В период обособления русских княжеств в XII — начале XIII в. княгини и боярыни нередко принимали участие во внутриполитических конфликтах, межкняжеских усобицах, раздорах и заговорах на стороне тех или иных боярских группировок. Некая Улита Кучковна (Н. Н. Воронин полагал, что она была женой владимирского князя Андрея Боголюбского) входила в группу заговорщиков, совершивших убийство ее мужа в 1155 г. Наложница князя Ярослава Осмомысла Настаска обвинялась галицкими боярами в ворожбе, якобы повлиявшей на осложнение внутриполитической ситуации в этом княжестве (1173 г.). Под 1180 г. летопись сообщает, что именно по совету своей жены черниговский князь Святослав Всеволодович начал усобную войну с князем смоленским Давыдом Ростиславичем («не поведа того мужем своим лепшим доумы»)[91]. В истории Галицко-Волынского княжества в начале XIII в. известную роль сыграла жена князя Романа Мстиславича Анна («княгиня Романова»), светское имя которой не дошло до нас (часто упоминаемое в литературе имя Анна она приняла после пострижения). После смерти мужа ее поддерживала часть волынского боярства, обязанная ему своим возвышением, а также города, выступавшие за мир и процветание торговли. Как опекунша малолетних сыновей и единственная правительница «княгиня Романова» была официально признана Венгрией и Польшей. С Великим княжеством Литовским Анна заключила союзный договор («божиим повелением прислаша князи литовский к великой княгине Романовой…»). После политического переворота в Галицко-Волынском княжестве Анна бежала «дырою градною» в Польшу, но не прекратила борьбу за престол, которая вылилась в 40-летнюю войну. Анна старалась заручиться поддержкой венгерского и польского королей, убеждая их «идти» и «вземши предать» ей «отечьство» ее. Но иноземные правители меньше всего заботились о правах княгини. Они хотели расширить свои «отечьства», воспользовавшись подходящей обстановкой. Единственной силой, способной восстановить независимость княжества, оказались города и их ополчения — «вой». Опираясь на них, княгиня сумела добиться передачи ей во владение волынских земель (Берестья, Белзи) и возвращения на галицкий престол своего сына. Княгиня Анна прибыла в Галич, надеясь снова вернуться к власти, но бояре и городская знать, дав «стол» Данилу Романовичу, собирались править при малолетнем княжиче по своему усмотрению. Тем не менее Анна рискнула претендовать на единовластие, заявив о несогласии на совместное с боярами правление («хотяще бо княжити сама»). В ответ галицкие бояре «выгнаши Данилову матерь из Галича». Тогда княгиня обратилась за помощью в Венгрию. Король Андрей II, «не забыв любви своея первыя», «сожалиси» — явился в Галицию с войском. Галич был занят, сторонники боярского полновластия схвачены, часть их имущества конфискована, а права княгини восстановлены. Предприимчивая галицкая княгиня немедленно добилась передачи во владение своим сыновьям городов Тихомль, Перемышль, а около 1214 г. и Владимира Волынского[92]. Летописи, патерики и другие источники рассказывают массу историй об участии русских княгинь и боярынь в борьбе за выдвижение тех или иных политических деятелей. В XII–XIII вв. знатные женщины содействовали, как правило, продвижению тех, кто проводил политику укрепления княжеств. Такие надежды возлагала, вероятно, княгиня Верхуслава (Анастасия), дочь владимирского князя Всеволода III Юрьевича (двоюродная сестра знаменитой Ярославны из «Слова о полку Игореве»), на своего ставленника Поликарпа. Она хлопотала о предоставлении ему епископской кафедры и в письме владимирскому и суздальскому епископу Симону заверяла его: «…не пожалею и тысячи гривен серебра для тебя и для Поликарпа». Другие «мудрые» княгини, например Ольга Романовна, дочь брянского князя, участвовали в ведении «государственных дел» своего княжества, принимая посольства, управляя оставленными им по завещанию вотчинами. Немало добрых слов сказано в летописи об Ольге: отец любил ее «паче инех», брат мужа чтил ее «акы матерь», да и сам муж — волынский князь Владимир Василькович — позволял своей «княгине милой Ольге» поступать «како ей любо», как «восхощет»[93]. Памятники письменности XII–XIV вв. свидетельствуют о росте уровня образованности женщин из среды господствующего класса. Это прослеживается в «Поучении», написанном матерью Верху славы княгиней Марией «Всеволожей». Она, как утверждает летописец, проникала в глубину содержания читаемых ею книг: «…слышаще словеса книжнаа, на сердце си полагаше…» В круг женского чтения входила учительная, церковная литература. Аналогии, к которым прибегает княгиня в своем поучении сыновьям, обнаруживают прекрасное знание ею учительных текстов «святого Иоанна еуангелиста», Иоанна Златоуста. Да и летописец говорит о том, что она «в поучении книжнем възрасти и наказа дети…». Широкое хождение получили и апокрифические сборники. «Книги отреченныя читывала еси?» — интересовались у женщин их «отцы духовные», назначая при этом соответствующую епитимьюtitle="">[94]. Житие Евфросиньи суздальской (в миру Феодулии Михайловны черниговской) отмечает знание ею античной литературы: «Она познала все книги Вергилийскы и Витийски, сведуща была в книгах Аскилоповых и Галеновых, Аристотелевых, и Омировых, и Платоновых…» В этом перечне — философы Аристотель, Платон, поэты Вергилий, Гомер, медики Гален, Эскулап. Учил Феодулию и ее отец черниговский князь Михаил Всеволодович, и его боярин, также образованный «от философов». Впрочем, образование могли давать и матери. Так, воспитательницей, научившей «книгам и всякой премудрости» тверского князя Михаила Ярославича, была его мать Ксения Юрьевна. Другая дочь черниговского князя Михаила Всеволодовича — Мария Михайловна, по-видимому, получила в семье такое же образование, что и Феодулия. В январе 1227 г. Марию выдали замуж за правнука Юрия Долгорукого Василька Константиновича ростовского. Летопись скупо сообщает о ее семейной жизни, известно лишь о рождении сыновей Бориса и Глеба[95]. Когда младшему из них исполнился год, на русские земли пришло время суровых испытаний. В декабре 1237 г. орды Батыя осадили Рязань и после пятидневной осады взяли и сожгли город. По приказу Батыя «княгиню Агриппину, мать великого князя, со снохами и прочими княгинями посекли мечами»; убили и рязанского князя Федора Юрьевича. Жена Федора Евпраксия, узнав о смерти мужа и не желая надругательств над собой, отвергая рабью долю, «ис превысокого храма» с сыном на руках «ринулась» на землю и «заразися до смерти». Поступок Евпраксии породил легенду и дал название одному из городов Рязанской земли — Зарайску. Так же, как и рязанская княгиня, погибла жена черниговского князя Домникея. В годы нашествия Батыя русские женщины, чтобы не попасть в руки врагов, довольно часто кончали жизнь самоубийством, которое в ряде случаев было формой протеста[96]. Трагические подробности взятия русских городов ордынскими варварами быстро дошли до Ростовского княжества. Муж княгини Марии Василько Константинович в марте 1238 г. сложил голову у реки Сить, защищая родную землю. Летопись донесла до нас его предсмертную молитву за детей и «жену мою Марью». По обычаю, княгиня могла принять пострижение по смерти мужа, но на руках у нее оставались малолетние сыновья. Семилетний Борис стал князем Ростова, а княгиня Марья приняла на себя регентские функции. При жизни Василька Константиновича Мария Михайловна присутствовала при освящении церквей; став вдовою, она основала свой монастырь у озера Неро. В 1259 г. княгиня принимала в Ростове двоюродного брата мужа — великого князя Александра Ярославича Невского[97]. В конце 40-х годов XIII в. на долю Марии Михайловны выпало новое тяжелое испытание. В 1246 г. в Орду к Батыю был вызван ее отец, князь черниговский Михаил. Его сопровождал сын княгини Борис. В Батыевом стане князя Михаила за отказ выполнить унизительное распоряжение хана (поклониться их идолам) подвергли жестокой расправе на глазах у внука, который и поведал матери подробности гибели деда. По словам епископа Иоанна де Плано Карпини, Батый «послал одного телохранителя, который бил князя пяткой в живот против сердца так долго, пока тот не скончался. После этого ему отрезали голову ножом…». Убийство отца Марии Михайловны было совершено по политическим причинам. В устранении Михаила черниговского были заинтересованы как сами ордынцы (их посольство он ранее велел уничтожить с целью спровоцировать конфликт с Ордой своего соперника на получение великокняжеского ярлыка владимирского князя Всеволода Ярославича), так и владимирские князья[98]. Вскоре при участии Марии Михайловны было составлено «Житие» Михаила черниговского. История жизни и смерти в Орде могущественного и гордого русского князя потрясла тогда Русь. Это «Житие» было, по-видимому, не единственным литературным произведением княгини Марии. Когда после разгрома Батыем Владимира в 1238 г. центр русского летописания переместился в уцелевший Ростов, оно велось под непосредственным наблюдением ростовской княгини. На мысль о прямом отношении Марии Михайловны к летописным ростовским сводам наводят настойчивые упоминания ее имени в тексте летописи, а также подробное описание похода на Калку, в котором активно участвовал ее муж. При этом обращает на себя внимание довольно эмоционально выраженная радость по поводу того, что князь Василько не дошел до реки и остался невредим; проявление такого чувства для летописца казалось бы неуместным, но оно вполне понятно, если принять во внимание, что это пишет жена князя. На страницах ростовских летописей большое место отведено воссозданию портрета Василька Константиновича и по сути панегирику ему, «гораздо» все умевшему, «хороброму паче меры», умному, честному («правда же и истина с ним ходяста»). С горечью описаны смерть князя Василька в битве на Сити, взятие ордынской ратью родного для Марии Чернигова, а под 1246 г. — мученическая смерть отца княгини. Под влиянием Марии имя ее отца стало в летописи символом мужества, непреклонности, патриотизма русского князя и воина[99]. Но при всей эмоционально-нравственной окраске вследствие «женского восприятия» «летописание Марьи» (термин Д. С. Лихачева) не носит узколичного характера. Летописный свод княгини Марии проникнут идеей патриотизма, восстановления независимости поруганной захватчиками родной земли: «…избави бог от лютого томления бусурменского люди Ростовския земли; вложи ярость в сердца крестьяном…» Здесь нет, да и не могло быть прямых призывов к борьбе с ордынским игом, так как сама борьба воспринималась тогда как задача не столько политическая, сколько нравственно-религиозная. Но и идея мученичества за веру, прослеживаемая в летописи ростовской княгини в условиях, когда, по словам летописца, «хлеб не шел в рот от страха», была полна глубокого значения. Жизнеописания князей, написанные эмоционально, со всей болью сердца, перерастали рамки обычных сухих некрологов, рождали в душах современников стойкость и уверенность, что «не все потеряно, что внешней силе завоевателя можно противопоставить силу духа»[100]. Мария Михайловна умерла в 1271 г. В 70-х годах XIII в. систематические записи ростовского летописца прекратились. Ордынское иго принесло неисчислимые бедствия всей Русской земле, отрицательно сказалось на ее международном статусе. В середине XIII–XIV в. резко сократились династические контакты русских земель и княжеств с другими странами, почти не прослеживается деятельность за рубежом русских княгинь. Исключение составляет лишь история средневековой Польши.Русские принцессы на польской земле
История матримониальных союзов русских женщин с представителями польской династии Пястов в XII–XIII вв. — яркая страница деятельности русских княгинь в Европе. Одна из них — Мария Святополковна, родная сестра Сбыславы, жены правившего в то время в Польше Болеслава Кривоустого. В 1117 г., перекрестившись «в латынскую веру», она вышла замуж за знаменитого силезского магната Петра Властовича. После смерти сестры она взяла на воспитание княжеского первенца Владислава. Можно полагать, что именно в ее семье поддерживались честолюбивые амбиции будущего князя, до конца дней рассчитывавшего стать единовластным правителем. Когда муж Марии попал в опалу и бежал на Русь, она разделила с ним участь отверженного, а по возвращении в Польшу развернула деятельность по основанию монастырей и костелов. И Мария, и ее муж оставили заметный след в польской архитектуре: не случайно их считают основателями польской романской культуры XII в. Связи с Русью, которыми Петр пользовался благодаря жене, были настолько прочными, что исследователи доныне колеблются, не был ли Петр русским[101]. Пространные отзывы польских хронистов получила и Елена (ум. в 1206 г.), дочь перемышльского князя Ростислава Владимировича. В 1194 г. она возглавила «краковский стол» на правах регентши малолетнего сына Казимира II Справедливого. В условиях борьбы за власть между сторонниками Мешко Старого (законного претендента на престол) и малолетнего сына Казимира II Лешека Елена Ростиславна постаралась обрести надежного союзника. Им стал волынский князь Роман Мстиславич, которого хронист называет ее «верным помощником». Впоследствии Елена Ростиславна честно его отблагодарила: она дала ему «воев в помощь», когда Роман вел борьбу за объединение Волыни и Галичины, а после смерти князя Романа его вдова, «княгиня Романова», развернувшая бурную деятельность в Галицко-Волынской Руси, в 1202 г. получила убежище от врагов при ее дворе[102]. Стремясь к закреплению дружественных отношений Кракова с родной землей, Елена Ростиславна побудила своих сыновей, старшего — Лешека Бялого и младшего — Конрада Мазовецкого, к женитьбе на русских княжнах. Старший сын женился на Гремиславе, дочери луцкого князя Ингваря Ярославича. Долгожданный наследник — сын Болеслав — родился у них через 15 лет. В 1227 г., когда ему исполнился год, его отец Лешек Вялый погиб. Тогда же Гремислава была провозглашена регентшей при сыне и приказала выбить печать с собственным изображением. Эта печать дошла до наших дней. На ней Гремислава изображена на польском троне с жезлом в руке и венцом на голове — такое «королевское изображение», наверное, льстило честолюбию регентши[103]. Гремислава стремилась возможно дольше удержаться в правах самовластной правительницы, но ее соперники — Владислав Ласконогий и Генрих Бородатый — настойчиво заявляли о своих правах на «краковский стол». На помощь русских князей и их войска рассчитывать было трудно: в Галицко-Волынском княжестве шли непрерывные междоусобные войны. Брат Гремиславы Ярослав Ингваревич находился в плену у сына Романа Мстиславича Данила Романовича; несмотря на это, с Данилом Романовичем Гремислава продолжала поддерживать дружественные соседские отношения, основу которых заложила еще ее свекровь Елена Ростиславна. Гремислава выслала войско в поддержку отрядов Данила Романовича и тем самым фактически освободила из плена брата, который получил в «держание» один из городков Галицко-Волынской Руси и больше не участвовал в феодальных распрях[104]. Между тем право на опекунство над Болеславом Гремиславе пришлось уступить. Новые опекуны — Ласконогий и Бородатый — отняли у нее сначала краковские земли, а затем и сандомирские. Однако, когда политическая конъюнктура изменилась (1232 г.), она поспешила вновь заявить о своих и сыновьих правах и с этими претензиями прибыла на княжеский съезд, но была схвачена и отправлена под стражу. Дальнейшие события ее жизни разворачивались с увлекательностью, присущей разве что детективному роману. Темной ночью, подкупив стражу, Гремислава сумела выбраться из плена и бежать. Используя последнюю возможность, она обратилась с просьбой о поддержке к папе римскому. Папа издал буллу, в которой осудил учиненное над Гремиславой насилие и потребовал возвращения ей и сыну краковских и сандомирских земель. Вплоть до своей смерти в 1258 г. Гремислава оставалась при краковском дворе[105]. Польская хроника называет Гремиславу «пани знатного происхождения»; понятие «знатность» для хрониста в то время было синонимично образованности и уму. Проявив неуемную энергию и дипломатический талант, Гремислава закрепила за сыном полагавшееся ему земельное наследство. Болеслава впоследствии именовали Стыдливым, Скромным. И в самом деле, на фоне деятельности его решительной матери роль самого королевича представляется незаметной. Болеслав давно уже был совершеннолетним полновластным правителем, но имя его матери продолжало упоминаться почти во всех официальных документах («chanssima», «serenissima matre»)[106]. Иное отношение в польских хрониках к другой бывшей русской княжне — жене Конрада I, младшего брата Лешека Вялого, Агафье, дочери северского князя Святослава Игоревича. Любопытно, что Агафья приходилась внучкой знаменитой Ярославне и князю Игорю Святославичу — героям «Слова о полку Игореве». Ее брак с Конрадом был заключен в 1210 г. Поддерживая мужа в его борьбе за краковский престол, Агафья обратилась за помощью к крестоносцам, за что заслужила восхваление в немецких хрониках, но была осуждена в польских. Последние приписывали ей поощрение грабежей на завоеванных землях. Но для сколько-нибудь объективной оценки деятельности Агафьи Святославны сведений слишком мало. В чем не приходится сомневаться, так это в энергичности ее действий: известно, например, что Агафья Святославна полновластно распоряжалась своими земельными владениями, жаловала крупные суммы костелам и монастырям, принимала участие в 1239–1241 гг. в княжеских съездах[107]. Сыновья Агафьи и Конрада I — Болеслав и Земовит не без участия матери стали мужьями русских княжон — Анастасии Александровны и Переяславы Даниловны. Их роль в польской политической жизни середины XIII в. почти не прослеживается в источниках, хотя известно, что дочь галицкого князя Данила Романовича Переяслава в 50-е годы XIII в. была регентшей при двухлетнем сыне; имеются подписанные ею некоторые акты дарений монастырям[108]. В исторической литературе высоко оценивается деятельность русских «принцесс» на польской земле в период ордынского нашествия на Русь[109]. Направленная на укрепление позиций «славянского мира», связей русских удельных княжеств с Польшей, она способствовала решению международных проблем государств этого региона в едином ключе.Две Ксении
Ордынское иго изменило общую картину социально-правового положения женщин в русских удельных княжествах. В русских летописях середины XIII в. почти не встречаются сведения об активных женщинах; жены и дочери русских князей упоминаются как лица «страдательные», как объект захвата, «полона», насилия[110]. Исключение составляет лишь рассказ о княгине Ксении, жене ярославского князя Василия Всеволодовича. После смерти мужа в 1279 г. эта княгиня вместе «с дщерию» Марией оказалась на княжеском престоле — «седяще на Ярославли». Хотя Мария Васильевна с 1261 г. была замужем за можайским князем Федором Ростиславичем, Ксения отнюдь не уступила зятю полноты прав на вотчину: он «тако восприят град Ярославль», что вынужден был «княжити в нем с тещею своею»[111]. В Степенной книге под 1288 г. помещена — по-видимому, имеющая фактическую основу — легенда о поездке Федора Ростиславича к ордынскому хану. Находясь в его стане, он «уязвил» своей красотой сердце дочери хана, но якобы отказался от женитьбы на ней, мотивируя свой отказ тем, что уже женат и в Ярославле есть у него сын. Между тем ярославская княгиня с дочерью ловко воспользовались долговременным отсутствием зятя и мужа и провозгласили хозяином земли Ярославской малолетнего внука и сына Михаила, сделавшись регентшами при нем. Вернувшись в свое ярославское княжение, Федор Ростиславич нашел ворота запертыми. Теща Ксения «с боляры» не пустили его и «нелепый словеса глаголаши из града женским умышлением: «Мы таковаго обычая не имамы, еже от инуду пришедша прияти. Довлеет нам отечеству наследник князь наш Михаил, сын твой»». Имея поддержку боярской верхушки, княгиня с дочерью были уверены в прочности своих позиций. Оказавшись в незавидном положении, Федор Ростиславич вынужден был вернуться в Орду, где хан женил своего «улусника и служебника» на влюбленной в него дочери, получившей в крещении имя Анна. У Федора Ростиславича появились и два наследника — Давыд и Константин, но возвращение ему и его новой семье именно ярославских земель стало возможным лишь после смерти княгини Ксении, Марии Васильевны и Михаила Федоровича (между 1289 и 1292 г.). До того ярославцы не обращали внимания на угрозы ханских послов и признали Федора Ростиславича своим князем лишь в 90-е годы XIII в.[112] Преодоление феодальной раздробленности началось в XIV в. и происходило в условиях, с одной стороны, ожесточенного соперничества за общерусский приоритет между Московским и Тверским княжествами, а с другой — усиления борьбы за национальную независимость, важнейшей вехой которой была победа над полчищами Мамая на поле Куликовом. На фоне этих исторических событий выделяются и новые женские имена. В их числе еще одна княгиня Ксения — дочь новгородского боярина Юрия Михайловича, выданная замуж за тверского князя Ярослава Ярославича в 1263 г. В летописи особо подчеркивается ее участие в управлении княжеством, а также в воспитании сына — будущего великого князя Михаила Ярославича. Ксения Юрьевна значительно пережила своего мужа, умершего в 1271 г., и долго участвовала в управлении Тверским княжеством. Так, когда в начале XIV в. возник конфликт между Москвой и Тверью, митрополит Максим, пытаясь удержать московского князя Юрия Даниловича от поездки в Орду за ярлыком на владимирский великокняжеский стол, предложил Юрию вначале связаться с «великою княгинею Оксиньею» в надежде на то, что она «чего восхощешь изо отчины вашея, то ти дасть». Видимо, митрополит рассчитывал с помощью княгини Ксении погасить междоусобицу мирным путем[113]. Но спор за великое княжение зашел слишком далеко. Княгиня Ксения и ее невестка, ростовская княжна Анна Дмитриевна, тщетно пытались убедить сына и мужа Михаила Ярославича уступить ярлык. В отместку противники тверского князя спровоцировали убийство жены московского князя Юрия Агафьи-Кончаки, обвинили в нем Михаила Ярославича и донесли об этом ее отцу хану. Вскоре тверского князя вызвали на расправу в Орду и там убили[114]. Даже этот весьма скупо представленный в источниках эпизод показывает, что в период ордынского ига в политические интриги и конфликты между князьями за великокняжеский ярлык были вовлечены в силу своего положения и женщины привилегированных слоев общества. Есть и другие примеры того, как они пытались прекратить междоусобицу с помощью не только дипломатии, но и силы. Так, княгиня Ульяна Александровна, сестра великого князя тверского Михаила, выданная замуж за литовского князя Ольгерда, пыталась склонить мужа помочь своему брату в его безуспешной борьбе за великое княжение владимирское с московским князем Дмитрием Ивановичем ради покоя в тверской земле. За «покой» в уделе мужа — серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго — ратовала его жена княгиня Елена, дочь Ольгерда литовского и Ульяны Александровны[115]. Видную роль в истории Московского княжества сыграла суздальская княжна Евдокия, жена Дмитрия Ивановича Донского. Она была осведомлена о многих его политических планах и замыслах, участвовала в заложении церквей и присутствовала при их освящении. «Сказание о Мамаевом побоище» донесло до нас и речь великой княгини Евдокии, с которой она обратилась к «княгиням, боярыням, женам воеводским и женам служних». В уста княгини вложен не традиционный плач «проводы деющих», а мольба-требование «победить супротивных супостатов»: «Не сотвори, господи, так же, как раньше, когда великая битва русских князей на Калках с погаными татарами…»[116] С историей Куликовской битвы связан любопытный легендарный факт, который содержится в выписках А. Артынова из Хлебниковского летописца, сгоревшего в середине XIX в.[117] Речь в них идет о двух княгинях — Феодоре Ивановне Пужбольской и Дарье Андреевне, дочери стародубского князя Андрея Федоровича, якобы принимавших участие (переодетыми в мужское платье) в сражении с Мамаем. Однако пока не удалось отыскать ни этих имен в иных повествовательных памятниках, отразивших Куликовское сражение, ни подобных прецедентов в истории других битв того времени[118]. Куликовская битва ускорила процесс политического объединения Руси, восстановление разрушенной вековой зависимостью от ордынцев экономики удельных княжеств, активизировала их внешние связи. На исторической арене вновь появляются жены великих князей, оказавшиеся втянутыми в борьбу, которая сопровождала образование единого Русского государства.Софья Витовтовна и ее невестка Мария Ярославна
В 1389 г. сын Дмитрия Ивановича Донского Василий по совету матери послал к литовскому князю Витовту (бывшему тогда изгнанником и жившему в Пруссии) сватов-бояр, рассчитывая получить в жены его дочь Софью. В Москву «из-за моря, от немцев» прибыла невеста: Софья Витовтовна жила вместе с отцом вдали от родины[119]. 1 декабря 1390 г. была отпразднована пышная свадьба. Выдавая дочь замуж за московского князя, Витовт Кейстутович, вероятно, рассчитывал на то, что в союзе Литва — Москва последняя будет играть роль второй скрипки. Но Василий Дмитриевич, отстаивая интересы своего государства, вел политическую линию, независимую от Литвы, в чем ему немало способствовала и Софья Витовтовна, принявшая сторону мужа[120]. На смертном одре Василий Дмитриевич завещал престол своему малолетнему сыну Василию, а жене своей отписал в полную собственность крупные земельные владения. Вскоре после смерти мужа, когда Василию II было лишь 10 лет, Софья Витовтовна созвала бояр и призвала их «крепко стоять» за ее сына. В период малолетства Василия II власть в Москве фактически перешла к боярскому правительству во главе с митрополитом Фотием, но Софья Витовтовна принимала весьма деятельное участие в государственных делах. В 20-х годах XV в. ею был утвержден новый Судебник. «…А учинила то княгиня великая Софья», — записано в тексте этого памятника[121]. Изменения в области судопроизводства отвечали интересам удельных князей, так как великокняжеские наместники, согласно Судебнику, лишались судебной прерогативы. Вероятно, указанные изменения были внесены под нажимом боярской оппозиции во главе с боярином И. Д. Всеволожским, поскольку сама княгиня настойчиво выступала за сильную великокняжескую власть. Вот почему вскоре Судебник был отменен как несовместимый с политикой централизации. В 1431 г. в Орде возникла тяжба между претендентами на великокняжеский ярлык–16-летним Василием Васильевичем и его дядей Юрием Дмитриевичем звенигородским. Софья Витовтовна послала в помощь сыну боярина И. Д. Всеволожского, обещав ему в случае успеха его миссии женить сына на его дочери. Боярин сумел убедить хана, и Василий Васильевич получил статус великого князя всея Руси. Однако Софья Витовтовна не спешила выполнить данное Всеволожскому обещание и женила сына на внучке Елены Ольгердовны — серпуховской княжне Марии Ярославне. В феврале 1433 г. на свадебном пиру в Москве Софья Витовтовна, по словам летописца, увидела на сыне звенигородского князя Юрия Дмитриевича — Василии Косом золотой пояс, якобы похищенный в свое время из великокняжеской казны московским тысяцким Василием Вельяминовым. Софья Витовтовна публично сорвала пояс с Василия Косого, который, «раззлобившеся», немедленно уехал из Москвы. Рассказ, приведенный в летописи, имеет реальную основу и ясный политический смысл: летописец стремился обосновать с позиций великокняжеской власти незаконность присвоения удельными князьями не принадлежавших им регалий. Золотой пояс, снятый на пиру Софьей Витовтовной, выступает как некий символ, аналогичный бармам и другим отличительным знакам великокняжеского убора. Поступок Софьи Витовтовны имел далеко идущие последствия. Дальнейшая ее жизнь была наполнена не только крутыми переломами, трагическими событиями, но и смелыми решениями, постоянной борьбой. «Се пишем того ради, понеже много зла с того почалося», — мрачно констатирует летописец[122]. Началась феодальная война за великокняжеский престол с звенигородско-галичскими князьями. Юрий Дмитриевич двинулся на Москву, разбил Василия II, занял столицу, но московское боярство отказало ему в поддержке, и он покинул город. В 1446 г. его сын Дмитрий Шемяка вновь овладел Москвой, захватил в плен Василия II, ослепил его и сослал в Углич. Это был обычный для средневековья прием устранения противника с политической арены. Все феодальные войны, по словам Ф. Энгельса, сопровождались «бесконечной, непрерывно продолжающейся» вереницей «предательских убийств, отравлений, коварных интриг и всяческих низостей, какие только можно вообразить…»[123]. Во всех этих перипетиях Софья Витовтовна испила сполна горькую чашу. Ей пришлось пережить и ослепление сына, и заточение — вначале в Звенигород, а потом в Чухлому, где она находилась до 1447 г. Лишь полная победа сына Василия, получившего после ослепления прозвище Темный, над Косым и Шемякой, утверждение его на московском престоле позволили Софье Витовтовне вернуться в Москву и продолжить деятельность, объективно способствовавшую укреплению централизованной власти. Она стала участвовать в заложении церквей и монастырей, занималась административной деятельностью в собственной отчине. В 1451 г. почти 80-летняя Софья Витовтовна сумела «организовать оборону» Москвы во время набега отрядов ханского царевича Мазовши: Василий II находился тогда на Волге, где и получил извещение о благополучном исходе дела. Во время осады города ордынцами Софья Витовтовна написала завещание, «управление чиня о своей душе», по которому непропорционально большую по сравнению с другими наследниками часть ее «купль» и наследственных владений, а также «святостей» (драгоценных крестов и т. п.) получил ее внук Юрий Васильевич — единственный из родственников, оставшийся с ней в осажденном городе[124]. Мать Юрия Васильевича — невестка Софьи Витовтовны, княгиня Мария Ярославна — вместе с мужем Василием II и сыновьями деятельно участвовала в управлении землей Московской. В 1471 г. ей «бил челом» новгородский посол с целью выхлопотать «опасные» (охранные) грамоты для приезда в Москву новгородского архиепископа Феофила, и по ее просьбе великий князь выдал ему эти грамоты. Вскоре Марии Ярославне пришлось вмешаться в спор между сыновьями по поводу наследства Юрия Васильевича и предотвратить назревавшую братоубийственную войну. Юрий Васильевич умер бездетным и почти все свои ценности завещал сестре — рязанской княгине Анне, не сделав при этом распоряжения относительно крупных городов, щедро отданных ему бабушкой — Софьей Витовтовной[125]. Мария Ярославна всемерно способствовала проведению в жизнь объединительной политики. Плодами ее деятельности и побед Василия II в феодальной войне в полной мере воспользовался их сын — Иван III Васильевич. Дьяк Стефан Бородатый, служивший при дворе Марии Ярославны и хорошо осведомленный в тонкостях новгородско-московских отношений, в 1471 г. был послан ею сопровождать сына в походе на Новгород Великий. Верный княгинин дьяк изложил Ивану III все прошлые «измены» новгородцев великому князю и обосновал «право» московского князя на новгородскую «отчину». В 1480 г. великая княгиня благословила сына и на борьбу с ханом Ахматом, итогом которой, как известно, было свержение ненавистного ига. Участвовала московская княгиня и в других внешнеполитических актах[126]. Статус великой княгини позволил ей сделать многочисленные пожалования монастырям и частным лицам. К княгине Марии Ярославне, как свидетельствуют документы, обращались крестьяне по поводу своих дел[127].Марфа Борецкая
На северо-западе русских земель — в Новгородской и Псковской феодальных республиках — в XIV–XV вв. продолжался рост феодального землевладения, ремесел, внутренней и внешней торговли, государственный аппарат развивался в сторону усиления в политической жизни роли боярской аристократии, в том числе и богатых вотчинниц. Для новгородских боярынь было характерно участие в различного рода «сговорах», которыми полна история феодальных республик того времени. Например, в 1418 г. одна из новгородок («жена некая»), «вземши мужскую крепость», участвовала в расправе над боярином Божиным, ставшей началом «народной смуты». В 1485 г. «в заговоре больших и житьих людей» участвовала «богатая Настасья» (боярыня Анастасия Григорьева), которую велено было схватить наряду с другими сеятелями смуты. О роли женщин в политической истории Новгорода говорит и тот факт, что к крестному целованию на верность великому князю московскому в 1478 г. были приведены не только бояре, житьи люди, купцы, но и жены и вдовы боярские[128]. Колоритной фигурой Великого Новгорода в последний период его самостоятельности была знатная новгородская боярыня Марфа Борецкая. Эта «злохитрева жена», как называет ее летописец, происходила из рода бояр Лошинских. Вторым мужем Марфы был посадник Исак Андреевич Борецкий, принадлежавший к известной в Новгороде семье, которая имела в XV в. обширные «боярщины», а на арене политической борьбы и ранее проявляла себя как враг великого княжества Московского[129]. Похоронив обоих мужей, Марфа Борецкая осталась самостоятельной хозяйкой со значительными земельными угодьями, которые в дальнейшем увеличила за счет собственных «прикупов» и земель, колонизированных с ее ведома или по ее распоряжению представителями вотчинной администрации. К 70-м годам XV в. по размерам своих владений Марфа являлась единственной в своем роде вотчинницей, не сравнимой с другими новгородскими боярами (Есиповыми, Овиновыми и др.). Считают, что по величине собственности Марфа к концу XV в. была третьей после новгородского владыки и монастырей. В описи ее владений можно увидеть пушнину в тысячах шкурок, и полотно в сотнях локтей, и хлеб в сотнях коробей, и мясо в сотнях туш, масло, кур, лебедей и многое другое, а главное — деньги: в вотчине Борецкой денежный оброк составлял 51 % владельческого дохода. Собственный дом Марфы в Новгороде на улице Великой (Неревский конец города) представлял собой каменные палаты в два этажа, что выделяло его среди других боярских домов[130]. Благодаря огромным богатствам Марфа Борецкая обрела значительный политический вес. В памяти народной долго сохранялся ее образ — властной правительницы, карающей самодержицы. Легенда рассказывает, что, узнав о гибели сыновей от первого брака в Заонежье, Марфа приказала сжечь там ряд деревень[131]. В летописях Борецкая предстает непримиримой стяжательницей с мертвой хваткой. В середине XV в., когда Соловецкий монастырь начал борьбу с новгородским боярством за обладание Обонежьем, с ходатайством перед посадниками о передаче островов во владение Соловецкому монастырю выступил соловецкий игумен Зосима. Но он был выгнан «единой от славнейших и первых града сего» — посадницей Марфой со словами: «Отчизну нашу отъемлет от нас!» Марфа безжалостно уничтожала своих противников. «Житие Варлаама Важского» рассказывает, что будто бы некий Василий Своеземцев, спасаясь от интриг посадницы, вынужден был бежать со своим семейством из Новгорода в имение на Ваге, а боярин Мирославский поплатился за тяжбу с Марфой заключением в подземелье[132]. Во второй половине 60-х годов XV в. деятельная вотчинница возглавила боярскую группировку, открыто выступившую против московской объединительной политики. В 1471 г. вместе с несколькими влиятельными новгородцами, в числе которых были боярыни Анастасия, вдова Ивана Григорьева, и Евфимия, вдова посадника Есипа Андреевича Горшкова, Марфа Борецкая выдвинула «своего» кандидата для посвящения в сан архиепископа — некоего Пимена. Будучи приближенным к прежнему архиепископу Ионе, он имел доступ к Софийской казне и передал Борецким немало средств на поддержку их «партии». Однако архиепископом был провозглашен Феофил, для которого, как мы помним, вышеупомянутая великая княгиня Марья Ярославна выхлопотала «опасные» грамоты. Вернувшийся из Москвы новгородский посол сообщил, что великий князь московский в своей речи назвал Новгород «своею отчиною». Марфа использовала это известие как повод к решительным действиям. Ее дом стал местом бурных политических собраний, а сама она — их вдохновительницей. «Многие люди на сонмище к ней приходили и много послушали прелестных и богоотметных ее слов, не зная о том, что было им на пагубу», — отмечал позднее летописец, сокрушаясь, что «многие из народа» смутились «соблазном» слов посадницы[133]. В планы новгородской аристократии входили создание в Новгороде православного наместничества, зависимого от Литовского государства, а также брак будущего наместника из числа литовских панов с самой богатой новгородской собственницей — Марфой Борецкой, которая «хотячи пойти замужь за литовского же пана за королева, да… мыслячи привести его к себе в Великий Новград, да с ним хотячи владети от короля всею Новгородскою землею». В 1471 г. Марфа вместе с сыновьями выступила на вече против подчинения Новгорода Ивану III: «Тою отчаянною мыслью нача прельщати весь народ православия, Великий Новгород». С. М. Соловьев, давая оценку действиям Марфы, писал, что она «вынудила» согласие веча на отложение от Москвы: «Наемники Борецкой являлись на площади и вопили о притеснениях Москвы, о золотой воле под покровительством Казимира литовского, камнями заставляли молчать московских приверженцев…» Осуждая Марфу и противопоставляя ее Ивану III, «окруженному всем величием правды», известный историк шел вслед за составителем московского летописного свода, называвшего Марфу Иезавелью, бесноватой Иродиадой, царицей Евдоксией, Далидой[134] и подкреплявшего эти свои филиппики изречениями о «злых женах»[135]. Однако Марфа применяла в политической борьбе те же средства, что и ее современники. Сторонники Марфы подкупили «смердов, шилышков и других безыменных мужиков», которые в нужный момент зазвонили в колокола, крича: «За короля хотим!» Несмотря на то что среди новгородцев имелись противники планов Борецкой, ее «партия» пересилила приверженцев великого князя московского: послы новгородского боярства отправились с дарами к литовскому королю. Узнав об этом, Иван III 20 июня 1471 г. выступил с войском из Москвы. После битвы на реке Шелони антимосковская группировка в Новгороде вынуждена была признать свое поражение. Сын Марфы Дмитрий Исакович сложил голову на плахе. Для «замирения» с великим князем новый посадник Фома Андреевич поднес ему 1000 серебряных рублей. Иван III «не отринул челобитья, взял тяжкую пеню за проступок»[136]. В декабре 1475 г. Иван III посетил дома крупных новгородских бояр: Коробова, Казимира, а также богатой боярыни Анастасии Григорьевой. Лишь дом Марфы Борецкой не был удостоен этой чести: Иван III продолжал опасаться новых действий с ее стороны. В феврале 1488 г. он распорядился захватить Марфу с внуком Василием Федоровичем, отослать их в заточение и «тако конечне укроти Великий Новгород». Огромные владения Борецкой были отписаны на Ивана III[137]. Марфа была казнена, не доехав до Москвы, в небольшом селе Тверского княжества Млёве[138]. Сильная, незаурядная личность Марфы Борецкой неоднократно привлекала к себе внимание историков и писателей. Н. М. Карамзин склонен был идеализировать «величавую республиканку» Марфу и, по выражению А. И. Герцена, «возлагать иммортели на могилу Новгородской республики», последней защитницей которой она являлась. В предисловии к своей исторической повести о Марфе-посаднице Н. М. Карамзин выразил надежду, что имя ее будет вписано в «галерею знаменитых россиянок»[139].«Княжна эта была ума весьма горделивого…»
Длинный ряд выдающихся женщин, проявивших себя в политической жизни и борьбе как в русских княжествах, так и за рубежом в X–XV вв., был бы не полон без социальных портретов великой княгини московской Софьи Фоминичны, ее современницы великой княгини тверской Елены Стефановны и рязанской княгини Анны Васильевны. Софья Фоминична (Зоя Палеолог) была племянницей последнего византийского императора из династии Палеологов и дочерью «морейского деспота» (властителя Пелопоннеса) Фомы. Она воспитывалась в Риме при дворе папы Сикста IV; папский двор рассчитывал с помощью ее брака с овдовевшим Иваном III втянуть Русь в русло своей политики. Возможно, не без влияния своего высокого покровителя Зоя отказала ранее сватавшимся к ней французскому и миланскому герцогам и благосклонно приняла свата от Ивана III — Ивана Фрязина, посланного специально в Рим, чтобы царскую «невесту видети». Фрязин вернулся в Москву с примерным портретом невесты: была она «на иконе писана»[140]. В мае 1472 г. Иван III отправил в Рим второе посольство к папе с просьбой отдать Зою «за Ивана князя». Почти четыре месяца невеста великого князя московского добиралась из Рима в Москву в сопровождении свиты и обоза с приданым и свадебными подарками, отпущенными папской казной за обещание обратить Ивана III в римскую веру. Однако посланнице папы римского не помогли в этом деле «ум и хитрость» — черты, которыми наделили ее историки более позднего времени: попытки «святейшего престола» потерпели неудачу. Иван III добивался брака с Софьей для укрепления международного статуса Руси и использовал его для провозглашения Руси преемницей Византийской империи, что позволило ему рассматривать и самого себя как преемника державных прав византийского императора Константина XI. В свою очередь для Зои Палеолог положение при русском дворе, после того как она стала женой Ивана III, открыло свободу действий, так как великий князь дорожил и браком с ней, и ее советами как умной и образованной женщины[141]. Личность Софьи Палеолог неоднократно привлекала к себе внимание современников — летописцев, путешественников из других стран, а впоследствии и историков. О Софье писали австрийский посол при дворе Ивана IV Сигизмунд Герберштейн, польский историк XVI в. Рейнгольд Гейденштейн, английский поэт Джон Мильтон, автор трактата «Московия» (XVII в.), и др. Одна из основных причин такого внимания, видимо, в том, что Софья Палеолог оказалась в центре политической борьбы в период складывания единого Русского государства. Патрицианка Клариса Орсини, знавшая Софью до замужества, находила ее «красивой». По отзыву итальянских хронистов, Софья была невысокого роста, обладала удивительно красивыми глазами и «несравненной» белизны кожей. Строгое воспитание в папском пансионе научило ее рукоделию. Известна пелена 1494 г. Троицко-Сергиевой лавры, вышитая Софьей несомненно по рисунку придворного мастера, может быть и Дионисия. Став великой княгиней, она стремилась привлечь в Московское княжество деятелей культуры, врачей из Италии. Во время ее пребывания на московском престоле русское правительство пять раз отправляло в Италию посланников, с которыми выезжали на Русь лучшие итальянские мастера. При ней началось строительство замечательных памятников архитектуры, до нас дошли изделия художественных ремесел[142]. Участие в государственных делах было смыслом жизни московской княгини. Она давала аудиенции иностранцам, имела свой круг дипломатов, к которым принадлежали, например, приехавшие в ее свите и ставшие известными дипломатами Юрий и Дмитрий Траханиоты. В 1476 г. венецианский посланник Контарини отметил в своих записках, что был представлен московской княгине и она приняла его «весьма величаво и ласково». В 1490 г. Софья Фоминична принимала в своей «повалуше» цесарского посла Делатора[143]. Все более или менее крупные события в Великом княжестве Московском второй половины XV в. так или иначе связаны с ее именем. Приезд Софьи Палеолог совпал с последним периодом борьбы за окончательное свержение ордынского ига на Руси и укреплением власти Ивана III как результата крупных успехов его централизаторской политики. «…В России, — писал Ф. Энгельс, — покорение удельных князей шло рука об руку с освобождением от татарского ига, что было окончательно закреплено Иваном III»[144]. Софья Фоминична примкнула к сторонникам активной борьбы с Большой Ордой. Джон Мильтон представляет Софью чуть ли не главой «антитатарского курса». «Княжна эта, будучи ума весьма горделивого, часто жаловалась, что вступила в брак с татарским присяжным», — замечает Мильтон и далее излагает такую легенду. Хан якобы имел в Москве своих прокураторов, которые жили в Кремле и наблюдали за государственными делами княжества. Софья же, родив сына, будто бы пригласила хана на крестины и просила отдать ей дом, где жили его поверенные, так как ей было «небесное знамение» и она должна была построить храм святому Николаю на том же самом месте. Получив дом, Софья срыла его до основания, удалила ханских надзирателей из Кремля и постепенно отняла у них все, чем они владели в княжестве[145]. В этой легенде, вероятно, много выдумки, но она тем не менее передает общий настрой великой княгини в отношении главного вопроса, волновавшего тогда русское общество. Хотя с 1478 г. Русь фактически прекратила выплату дани Большой Орде, формально даннические отношения еще существовали. Летом 1480 г. хан Ахмат задумал вновь собрать дань и отправился на. Русь, но в войну с ним вступил не конгломерат удельных княжеств, а осознавшая свое единство и национальную задачу Русь. Когда Москва готовилась к обороне, Софья Фоминична решила покинуть столицу и уехала на Белоозеро. Она возвратилась только после того, как военное положение прояснилось и хан Ахмат, встретив упорное «стояние» московских ратников на Угре, обратился в бегство, а Иван III вернулся в Москву. Заслуживает ли этот поступок Софьи Фоминичны осуждения? А. Л. Хорошкевич считает, что ее «бегство из столицы в момент общего подъема» на борьбу с ханомбыло равносильно предательству. Думается, что речь может идти лишь о проявленном в критической ситуации малодушии: когда Софья покидала Москву, там не было ни мужа, ни войска. Летописцы не скрывают своего неодобрительного отношения к поступку Софьи и противопоставляют ей «мати князя великого» — княгиню Марию Ярославну, которая «не оставила Москвы-града». Софья же, по насмешливым словам летописца, «бегала за Белоозеро», «не гонима никим же»[146]. Последующее участие Софьи Фоминичны в политической борьбе связано с ее желанием утвердить на русском престоле своего сына Василия Ивановича. К этому она стремилась с завидной настойчивостью: упрочивала свой авторитет в уделах, подчиненных Москве, и обретала там своих сторонников, что не обходилось без конфликтов. Так, в 1483/84 г. Софья подарила своей племяннице — невесте Василия Михайловича, сына верейского князя, на свадьбу «саженье» (ожерелье), принадлежавшее первой жене ее мужа, Марии Борисовне, урожденной княжне тверской, и предназначенное Иваном III жене ее сына Ивана Младого, Елене Стефановне. Требование великого князя вернуть в казну ожерелье не встретило «понимания» у Василия Михайловича, и он бежал в Литву. Вообще Софья Фоминична довольно своевольно обращалась с княжеской казной, что, по словам летописца, нередко шло вразрез с намерениями мужа. Но эти «растраты» она делала отнюдь не по недоразумению, а преднамеренно, создавая себе опору среди князей и бояр[147]. С начала 80-х годов XV в. не было в Московском княжестве почти ни одного крупного политического события или конфликта, в котором не была бы замешана Софья Фоминична. В 1525 г. опальный думный человек Василия III Берсень-Беклемишев в беседе с Максимом Греком в запальчивости говорил: «Земля наша Русская жила в тиши и в миру. Как пришла сюда мать великая княгиня София с вашими греками, так наша земля и замешалася, и пришли к нам нестроения великия…» «Нестроения» (конфликты) выразились, в частности, в том, что «старые обычаи князь великий переменил», удалился от бояр и «ныне… запершыся сам третей, у постели всякие дела делает…». Осуждал вмешательство в дела престола Софьи Фоминичны и Андрей Курбский, писавший, что «в предобрый русских князей род всеял диавол злые нравы, наипаче же женами их злыми и чародейницами», среди которых «наипервейшей» считал Софью Палеолог — «греческую бабу-чародейницу»[148]. В 1490 г., после смерти старшего сына Ивана III, Ивана Ивановича Младого, первого претендента на московский престол, Софья Фоминична усилила нажим на Ивана III за передачу престола не царевичу Дмитрию, сыну Ивана Ивановича и внуку Ивана III, а сыну самой Софьи и Ивана III — Василию Ивановичу. В 1497 г. она организовала даже заговор против мужа и оппозицию великому князю, склонявшемуся к передаче престола Дмитрию Ивановичу. Во главе оппозиции встал сын боярский Владимир Елизарович Гусев. По плану Софьи, Василий Иванович должен был решительно порвать с отцом и «отъехать от него»; замышлялось захватить Вологду, Белоозеро и убить Дмитрия. Узнав о заговоре, Иван III казнил В. Е. Гусева и многих заговорщиков, а жену и сына подверг опале. В 1498 г. Дмитрий был коронован в Успенском соборе в качестве князя и соправителя деда. Но вскоре — очевидно, не без влияния Софьи — Иван III круто изменил к ней отношение: опалу ее и сына Василия признал «дьяволим действом» и «наваждением» по «лихих людей совету», противников Софьи и Василия подверг расправе за «крамолу» и «измену», «а с нею от тех мест начат жити в брежении…». В 1499 г. Иван III назначил Василия великим князем Новгорода и Пскова, а в 1502 г. передал ему титул московско-владимирского князя. После победы Василия над Дмитрием-внуком Софья Фоминична велела вышить пелену и назвать себя на ней «царевна царьгородская великая княгиня московская Софья великого князя московского»[149]. В 1505 г. смерть Ивана III сделала Василия III полновластным «государем всея Руси». Недоброжелательное отношение к Софье Фоминичне сторонников тверской группировки придворной знати, которая активно поддерживала притязания на престол Дмитрия-внука, понятно: в их глазах она стала символом «самовластья», ограничивавшего их удельные вольности. Свои надежды на возврат «старых обычаев» они связывали с матерью Дмитрия Ивановича, великой княгиней тверской Еленой Стефановной Волошанкой, дочерью молдавского господаря Стефана II. Это ей собирался подарить Иван III знаменитое «саженье» своей первой жены. Елена Стефановна не менее Софьи Фоминичны была осведомлена в делах внешней политики. Она имела личные контакты с польским королем Казимиром; возглавляла борьбу за автокефалию русской церкви и пыталась установить связи с Сербией; в 1488 г. отправила послом в Венгрию своего соотечественника Штибора. В 1495 г. при ее дворе возник летописный свод, отразивший характерные черты политики ее группировки[150]. Разумеется, решение многих внутриполитических вопросов также не обходилось без участия великой княгини тверской. Сложившаяся в 90-е годы XV в. внутриполитическая ситуация (конфликт между внуком и сыном Ивана III) наводит на мысль, что не случайной была и поездка в Тверь в 1497 г. сестры Ивана III, рязанской княгини Анны Васильевны, возможно пытавшейся о чем-то договориться с ней. Хотя Елену Стефановну поддерживали многие знатные фамилии удельных князей, она оказалась проигравшей стороной. В противоборстве двух властных женщин отразились не только противоречия различных придворных группировок, на которые они опирались, но и борьба воинствующих церковников с вольномыслием. Софья Фоминична покровительствовала близким к иосифлянам церковным ортодоксам, а Елена Стефановна в некоторой степени — вольнодумцам-еретикам, выступавшим против духовной диктатуры церкви. В апреле 1502 г. Иван III не только «положил» на Елену Стефановну и Дмитрия-внука «опалу», но и посадил мать с сыном «за приставы», запретив поминать их на ектениях. Елена Стефановна умерла в заточении в январе 1505 г., вскоре после смерти Софьи Фоминичны[151].Анна Рязанская
В политических интригах удельных княжеств того времени участвовала и младшая дочь великого князя Василия II Васильевича Темного, рязанская княгиня Анна Васильевна. В 1456 г. рязанский князь Иван Федорович по завещанию передал московскому князю «на соблюдение» дочь и восьмилетнего сына Василия на время его малолетства. В 1464 г. Иван III Васильевич и «мати его» женили рязанского княжича на 13-летней московской княжне, сестре Ивана III Анне Васильевне. О последующем 20-летии ее жизни, как и о правлении в Рязани ее мужа Василия Ивановича, документов не сохранилось. Известно только, что в 1483 г. князем рязанским был провозглашен после смерти отца его малолетний сын Иван, а регентшей при нем стала Анна Васильевна[152]. Рязанская княгиня была активной поборницей сохранения в своем уделе тенденций к сепаратизму. За время ее фактического правления Рязанское княжество расширило пределы за счет присоединения Пронска, а также «рязанской украйны», исстари бывшей поводом для споров между Москвой и Рязанью. Будучи отрезанным от этих земель территорией Рязанского княжества, московский князь пытался договорами обязать Рязань не расширять границы. Имеется документ 1483 г., в котором рязанцам предписывается «не вступать в Елеч и во вся Елецкая места…». Но земли «украйны», в том числе в районе Ельца, Рязань продолжала колонизировать весьма интенсивно. Последнее пожалование Анны рязанской (незадолго до ее смерти в 1501 г.) было сделано на земли значительно южнее Ельца, по левому берегу Дона, а многочисленные дарения боярам — в устье Воронежа, в районе Задонска[153]. Все это не могло не беспокоить стремившегося к «самовластью» Ивана III. В 1496 г. он заключил договор с Рязанью. В его тексте встречается формула «яз… и мати наша», поэтому можно предположить, что он составлялся с согласия и, возможно, при участии Анны Васильевны; непосредственно с оформлением договора связан и визит Анны к брату в Москву. На этот договор, регулировавший взаимоотношения Москвы и удельных рязанских земель, ссылалась невестка Анны Васильевны — Агрофена Васильевна, ставшая регентшей и правительницей Рязани после смерти свекрови и мужа («и тоя грамоты свекрови своей Анны княгини Огрофена рушить не велела»)[154]. Но со смертью Анны Васильевны «партия рязанской самостоятельности» ослабела. «Наказ» 1502 г. Ивана III новой рязанской княгине — Агриппине означал ее фактическое подчинение московскому князю, а спустя 10 лет Рязанское княжество было присоединено к Москве. Память о полновластной и независимой рязанской правительнице Анне сохраняли лишь подписанные ею документы да заложенные при ее правлении церкви: Иоанна Златоуста в Переяславле Рязанском и небольшой храм в Солотчинском монастыре[155].«Служебница» Ивана III
Окончательное освобождение русских земель от власти ордынских ханов, образование единого Русского государства незамедлительно сказались на восстановлении его международного престижа. С конца XV в. начало расти и число династических брачных союзов. Один из примеров тому — брак дочери Ивана III Елены с Александром Ягеллончиком, великим князем литовским. Княгиня Елена родилась весной 1476 г. и была третьей дочерью Ивана III и Софьи Фоминичны. Выйдя замуж в 1496 г. за литовского князя, она навсегда покинула родную Москву, но осталась в «греческом законе», т. е. православной. «И хоти будет тебе, дочка, про то и до крови пострадати, и ты бы пострадала, а того бы еси (измены православию. — Н. П.) не учинила», — наказывал Иван III Елене перед ее отъездом в Литву, Обращение Елены Ивановны в католическую веру привело бы к ослаблению ее связей с Москвой, что не входило в планы Ивана III. По договору, заключенному одновременно с бракосочетанием, в Литву вместе с княгиней Еленой прибыли некоторые знатные бояре и боярыни, но они вскоре были высланы в Вильно. Русская княгиня оказалась в Литве почти в полном одиночестве. Сближению с литовской аристократией мешало различие в вероисповедании, поменять которое Елена не хотела, помня о наказе отца. «Нолны меня в животе не будет, то и отца своего наказ забуду», — писала она отцу в одном из писем[156]. Елена Ивановна сумела поставить себя в новой среде с тактом, присущим истинному политику, и с достоинством, соответствующим ее высокому рангу. Для того чтобы не отдалиться от московского двора, Елена Ивановна установила регулярную личную переписку и посылку «посольств» на родину, а «великий князь всея Руси» Иван III сообщал дочери о своих планах («тобе то да ведомо было»). Осенью 1497 г. Елена пожаловалась отцу, что муж не наделил ее желаемыми волостями и ей пришлось на собственные, полученные в приданое деньги покупать имение Жагоры. Иван III рекомендовал дочери быть настойчивее в своих просьбах к мужу, касающихся земельного имущества («и ты говорила бы с ним от себя, а не моею речью»), и требовал от нее точной информации о результатах этого дела («мне бы еси во всем отказывала»)[157]. «Служебница и девка» Ивана III, как Елена Ивановна сама себя первоначально называла в письмах и посольских речах, оставила о себе память как об умном политике и в русских актах, и в литовских метриках. Переписка литовского и московского дворов 90-х годов XV в. позволяет говорить о влиянии Елены Ивановны на решение важных для России внешнеполитических вопросов в нужном для Ивана III направлении. Она стала как бы центром притяжения православного населения Литовского княжества, выступала в роли дипломатического посредника между группировками русской (православной) и литовской (католической) знати, оказывала покровительство первой и умело сопротивлялась обращению в католичество, хотя литовский двор и сам муж настойчиво добивались этого. По требованию родственников мужа Елена Ивановна отправила в Москву письмо о том, что ее «не нудят» в «римский закон», что живет она «в чести, жаловании и в любви», но на словах просила сообщить, что нуждается в специальной заверительной грамоте о «нерушимости вероисповедания», поскольку терпит несомненное принуждение перейти в «римский закон». Иван Васильевич потребовал новых письменных подтверждений (отослал особые «речи») от Александра Ягеллоннича в том, что это не повторится. Попытка обращения Елены Ивановны в католичество таким образом не удалась[158]. В условиях военного конфликта Москвы с Литвой и разрыва отношений между ними (1498–1503 гг.) Елену Ивановну попытался обратить в «римский закон» сам папа римский, о чем свидетельствует распорядительная грамота от 26 октября 1501 г. польскому кардиналу Фридриху. В ней папа угрожал Елене Ивановне крайними мерами вплоть до развода, но она с честью вынесла и этот «психологический прессинг», оставшись по-прежнему православной[159]. Стремясь ускорить восстановление дружеских отношений между Москвой и Литвой, Елена Ивановна попыталась склонить отца первым пойти на заключение мира и «остановить кровопролитье». Она писала в одном из писем: «Король его милость и матка его, вси надеялися, что со мною з Москвы в Литву пришло все доброе, вечный мир, любовь кровнаа, дружба, помочь на поганство; ино нынечи, государю отче, видят вси, что со мною все лихо им вышло»[160]. Мир, за который ратовала Елена Ивановна, был восстановлен в 1503 г. Переписка Ивана III с дочерью стала интенсивнее, но в эпистолярных обращениях Елены к отцу произошла разительная перемена: «служебница и девка», не смевшая ранее шару ступить самостоятельно, не спросясь совета отца, боявшаяся без его благословения даже «переменить одежду», постепенно превратилась в уверенную в себе королеву. Искусство ее обхождения с кардиналами и прелатами во время посещения ею Европы отмечено в документах. Иван III признал и оценил становление Елены как политика. Его послы все чаще стали обращать к ней свои особые «тайные речи» о «делах политических», прислушиваться к ее мнению о состоянии внешнеполитической конъюнктуры. Так, Иван III спрашивал у Елены совета, «где бы пригоже женити» ее брата, будущего царя Василия Ивановича. Елена Ивановна советовалась с отцом по поводу приобретения новых земельных владений, своих прав на наследование по линии свекрови и ряда других дел[161]. Однако со смертью мужа и приходом к власти Сигизмунда I («Жыдимонта») права королевы Литвы Елены были урезаны. Вдова передавала с посланным ею на родину Микулой Ангеловым, которого она называла «человек мой добрый», что «Жыдимонт» ее «не в чти… держит», «да сила от короля и панов рады ей, королеве, чинится великая, города и волости выпустошили, а воевода виленский Радивил земли отъимает…». Елена Ивановна начала было переговоры с родственниками о возвращении в Москву, но была отравлена на пиру[162]. Портрет Елены Ивановны завершает нашу «галерею» русских женщин, прославившихся самостоятельной политической деятельностью в X–XV вв. как у себя на родине, так и в государствах Западной и Восточной Европы, — «галерею», в которой стоят более 50 достойных, на наш взгляд, внимания имен княгинь, княжон, боярынь, цариц и королев. Сведения о них дают возможность представить отдаленные исторические эпохи, в которые они проявляли себя на политическом, дипломатическом и культурном поприщах. Эти женщины жили в разных княжествах Русской земли. Некоторые из них, по происхождению иноземки, выйдя замуж за русских князей, обрели на Руси вторую родину. Другие были выданы замуж за рубеж, но не порвали связей со своей Родиной. Все они принадлежали к привилегированному сословию. Иначе и быть не могло: авторы древнерусских исторических памятников выполняли своеобразный социальный заказ имущих классов. И более или менее законченные, и только намеченные портреты нашей «галереи» объединяет одно: в нее входят социально активные личности. Среди них — полноправные правительницы в своем княжестве или вотчине обладательницы личных печатей, символизировавших их власть в княжествах и королевствах, регентши и опекунши. В раннефеодальной русской истории имеется немало примеров, когда находившиеся у власти женщины становились зачинателями крупных реформ. В их числе прежде всего великая княгиня Ольга, решившая приобщить Древнюю Русь к христианской вере и тем самым уравнять ее с другими крупнейшими государствами Европы. Она же провела и первую из известных в отечественной истории финансовую реформу. Великая княгиня Ольга в Киевской Руси, Гремислава Ингваровна и Агафья Святославна в Польше выделяются своей энергичной административной деятельностью. На всем протяжении рассматриваемого периода в летописи в связи с составлением сводов законов встречаются женские имена: Анна Романова, жена Владимира Святославича, в X в.; Всеволожая в Новгороде в XIII–XIV вв.; Софья Витовтовна, жена Василия II, в XV в. На равных стоят подписи рязанской княгини Анны и Ивана III под договором Москвы с Рязанью 1496 г. Масштабы государственной деятельности, социальной активности древнерусских женщин простирались значительно дальше границ их собственных отчин. Русские княжны, выданные замуж за иностранных принцев и королей, сыграли свою роль в государственной и культурной жизни Франции, Германии, Византии, Швеции, Норвегии, Дании, Польши, Венгрии. Будучи высокообразованными по тому времени людьми, они свободно чувствовали себя на политической арене, а в случае возникновения конфликтных ситуаций могли обратиться за поддержкой к самому папе римскому, выступить на церковном соборе в Ватикане. Русские княгини и боярыни направляли собственных посланников в иностранные государства, а в начальный период Киевской Руси сами «правили посольства». Обычным делом для русских княгинь было вести переговоры с иностранными послами, которые им «били челом» не менее усердно, чем самим князьям. Огромный материал свидетельствует об участии древнерусских женщин в различных группировках и заговорах на арене внутриполитической борьбы с целью возвести на престол своих родственников, добиться единовластного правления или предоставления епископских кафедр своим ставленникам. Имена древнерусских женщин встречаются в источниках и в связи с борьбой за укрепление и единство их собственных земель как на Руси, так и за рубежом. Особенно решительно выступали княгини за выдвижение на престол своих сыновей. Теми же мотивами руководствовались многие опекунши и регентши, не менее рьяно отстаивавшие позиции своих детей в сложных политических ситуациях. Многие стороны жизни древнерусских женщин остались по тем или иным причинам за пределами настоящей главы. Далеко не всегда удавалось восстановить полностью картину удивительно многоплановой социальной их деятельности, определить истинную долю участия в политических событиях того или иного княжества, государства или королевства. Но собранные воедино отдельные детали биографий древнерусских женщин на протяжении длинного — в шесть веков — периода позволяют увидеть, что большинству из них были свойственны миротворческие миссии, причем в то время, когда история нашей страны была полна войн и других кровопролитий. С миссией «дружбы и сотрудничества» правила свои посольства в Византию и немецкие земли великая княгиня Ольга. За прекращение междоусобных кровопролитных конфликтов выступали княгиня Анна Всеволожая, тверская княгиня Ксения и ее невестка ростовская княгиня Анна Дмитриевна, дочь Ивана III Елена Ивановна и многие другие. Сообщая факты, свидетельствующие о преданности русских людей своему Отечеству, летописные своды нередко отмечают и патриотизм древнерусских женщин. У многих княжон, выданных замуж в другие государства, он проявлялся на чужбине в стремлении сохранить и упрочить связи с Родиной. Но особенно ярко преданность Отечеству высветили годины лихих испытаний, борьба с ордынским нашествием. Испокон веков борьба с врагами была уделом мужской части населения, но источники тем не менее содержат отрывочные сведения о непосредственном участии русских женщин даже в военных походах, в обороне городов от набегов ханских полчищ. В нашей «галерее» представлены женщины умные, энергичные, смелые, мужественные, решительные, непреклонные, сильные — одним словом, незаурядные личности. Водоворот политических событий феодальной эпохи, полных коварства и жестокости, не мог их не коснуться. Судьбы многих женщин зависели от различных перипетий политической борьбы и вражеских нашествий на Русскую землю. Так, печальная судьба постигла Предславу Владимировну. Воины Батыя «посекли мечами» княгиню Агриппину, мать рязанского князя Федора Юрьевича, а жена его Евпраксия, чтобы не попасть в руки к врагам, бросилась вместе с малолетним сыном с высокой башни. На полях брани в борьбе с врагами Русской земли, в междоусобных войнах и столкновениях удельных князей складывали свои головы отцы, мужья и сыновья древнерусских женщин. Ростовская княгиня Марья, пережив смерть отца и мужа, поведала о зверствах татар всей Руси. Княгиня Софья Витовтовна перенесла и ссылку, и ослепление сына. Суровая эпоха требовала таких же ответных действий и от находившихся у власти женщин; порой они сами применяли жестокие средства отмщения — вспомним великую княгиню Ольгу или Марфу Борецкую. Но не эти черты характеризовали в конечном счете древнерусских женщин. Не случайно источники содержат много добрых слов любви и уважения, обращенных к матерям, женам и дочерям, которым многие князья и бояре предоставляли в своих уделах равные права, позволяли поступать «како им любо», как «восхощет» мать или жена, уповая на их «мудрость». Ум, образованность русских княжон и княгинь восхваляют и зарубежные источники, написанные иностранцами, — «История датских королей», «Хроника Гельмольда», «Записки о московских делах» С. Герберштейна и др. Европейские принцы и короли признавали обаяние русских женщин, посвящали им поэтические произведения. Женщин привилегированного сословия на Руси отличала высокая для того времени степень культуры, что и делало возможным их участие в государственных делах, в управлении своими землями. По мере развития раннефеодального государства вместе с общим прогрессом общества росла образованность русских женщин привилегированного сословия. Многие из них знали не только родной язык, но и греческий, а также другие иностранные языки, математику, средневековую философию, астрономию, обучались риторике и «врачебным хитростям». Русские по происхождению королевы по грамотности и образованности могли соперничать со своими мужьями в других государствах. Известно, что отдельные княгини, боярыни, монахини занимались не только рукоделием, но и переписыванием книг, а некоторые княгини имели и собственные библиотеки, как Анна Ярославна. Конечно, такие факты, как написание собственного медицинского трактата, литературного произведения или «Поучения» своим детям, — случаи исключительные, но круг приобщенных к литературе женщин знатного происхождения был на Руси достаточно широк. Участвуя в государственных делах, выдающиеся русские женщины становились носителями широких культурных традиций. Многие из них, видимо, были связаны и с архитектурой, особенно когда дело касалось строительства церквей и монастырей. Разумеется, далеко не все женщины даже высокого социального статуса принимали наравне с мужчинами участие в политической, административной, дипломатической и культурной деятельности. На них в обществе лежали главным образом традиционно женские функции и обязанности: церковная идеология в целом неодобрительно относилась к женской активности, само же общество отнюдь не ограничивало их деятельность. Показательно, что оказавшиеся на Руси в результате брачных союзов иностранные принцессы, став русскими княгинями, причастными к управлению государством, включались в политическую и культурную жизнь страны. Социальная деятельность древнерусских женщин, вошедших в нашу «галерею», вполне соответствовала их семейному и имущественному положению, подкреплялась политическими правами, зафиксированными в законодательстве. Именно могущественное древнерусское государство и породило в конечном счете знаменитых своих дочерей, прославивших русский народ и оставивших светлую память по себе в веках.
Глава II.
«Поиди за мене…»
(Женщина в древнерусской семье X–XV вв.)

Заключение и расторжение брака
Чтобы представить себе облик человека русского средневековья, мало знать историю политических бурь, дипломатических конфликтов и военных столкновений, поскольку жизнь общества не исчерпывалась ими. Большую часть жизни женщина X–XV вв. проводила в семье. Между тем о многих сторонах семейной жизни, привычных нуждах и заботах, представлениях руссов мы знаем пока недостаточно. Как, например, понимал человек раннего средневековья нравственные нормы? Каков был брачный ритуал, семейный быт? Как складывались отношения между супругами, родителями и детьми? Летописный рассказ о древлянах, радимичах и вятичах в «Повести временных лет» позволяет предположить, что архаичные формы брака («умыкание у воды»), хотя и преобладали до принятия христианства у большинства племен, в X в. стали пережитком. Описание умыкания в древнейших летописных сводах отражает проявление согласования интересов сторон в матримониальных делах и, следовательно, свободной воли женщины в этом вопросе («и ту умыкаху жены собе, съ нею же кто съвещашеся»[163]). Обряд похищения невесты «у воды» совершался на праздниках в честь богини «женитвы» Лады, которые начинались ранней весной, «на Красную горку», и продолжались до середины лета — дня Ивана Купалы. У зависимого населения («на простых людех») этот обряд сохранялся долго: следы его прослеживаются в былинах, песнях и даже в церковных документах XIII–XV вв.[164] Другая древняя форма закрепления брачных уз, сосуществовавшая в раннефеодальной Руси с умыканием, — «брак-приведение» с договорными элементами («поляне… брачные обычаи имяху: не хожаше зять по невесту, но приводяху вечер, а завтра приношаху по ней, что вдадуче»[165]) — свидетельствует уже о частичной утрате женщинами права на проявление свободной воли при выборе супруга и преимущественной роли в этом деле родственников или родителей невесты. Слова «приводить», «вести» за кого-то неоднократно употребляются летописцем при описании брачных союзов князей («Игореви взрастъшю, и хожаше по Олзе и слушаше его; и приведоша ему жену от Плескова, именем Ольгу»; «у Ярополка же жена Грекиня бе, и бяше черницею, бе бо привел отец его Святослав»), а также в тех случаях, когда подчеркивалась несамостоятельность женщины как субъекта в матримониальных делах, выражаемая в безличной форме «ведена бысть» («ведена бысть дщи Святополча Сбыслава въ Ляхы за Болеслава»; «ведена дщи Володарева за царевичь Олексиничь, Царю-городу»)[166]. Спорным по сей день является вопрос, существовала ли в древнейшей Руси «купля жен», известная как брачный обряд многим славянским народам и описанная арабскими авторами[167]. Но и сам термин «вено» понимается двояко. Традиционным для русской историко-юридической литературы является толкование его как платы, суммы выкупа за невесту[168]. В то же время ряд свидетельств позволяет рассматривать термин «вено» как синоним «приданого» в древнерусском юридическом быте, что исключает существование «купли» в истории русского права («…убо муж да възратит жене и вено, аще възят что от нея ино»; «и дасть Корсунь царема за вено»[169]). С 988 г., с крещения Руси и присвоения церковью монопольного права утверждения брака[170], начали складываться нормы брачного права, включавшего в себя и определенные свадебные ритуалы. Процесс этот шел двумя путями: через трансформацию древних семейно-брачных обрядов в правовой обычай и через узаконение решений органов церковной власти, опиравшейся в своих действиях на византийское брачное право[171]. О влиянии давних брачных традиций на нормы семейного права свидетельствуют русские памятники X–XI вв., упоминающие предварительный брачный сговор, которому предшествовала своеобразная помолвка. Однако она не была заимствованием элемента византийского обряда: известно, что в X в. сватов к великой княгине Ольге слал древлянский князь Мал. По русскому обычаю, помолвке сопутствовала трапеза у родителей невесты. Ели пирог-каравай, кашу и сыр. Разрезание сыра закрепляло помолвку, а отказ жениха от невесты после этой процедуры как оскорбление чести женщины карался штрафом: «…за сыр гривну, а сором ей три гривны, и а что потеряно, за то ей заплатити…»[172] Брачный сговор (ряд) был следующим элементом установления супружеского союза на Руси. Родители договаривались о размерах приданого и предполагаемом дне свадьбы, если, конечно, устанавливалось согласие самих молодоженов, в том числе невесты. В русских Кормчих получение согласия вступающих в семейный союз определяется как важнейший элемент брачного процесса[173]. Отсутствие права свободного выбора женщиной жениха рассматривается как серьезный аргумент в пользу тезиса о приниженном социально-правовом положении русских женщин в X–XV вв.[174] Поскольку брачный сговор имел прежде всего характер имущественной сделки, заключительное решение действительно принималось родителями или родственниками невесты. Однако это не являлось ограничением прав именно женщин: брачные дела сыновей, как правило, тоже вершили родители: «Всеволод [Ольгович] ожени сына своего Святослава Василковною…»; в 1115 г. «повеле Дюрги [Владимирович] Мьстиславу, сынови своему, Новегороде женитися…». В источниках есть свидетельства того, что на Руси — в отличие, например, от Чехии и Литвы — интересы вступающей в брак женщины все же учитывались ее родственниками. Летописный рассказ о полоцкой княжне Рогнеде, не пожелавшей выйти замуж за князя Владимира, несмотря на свой легендарный характер, тем не менее факт[175]. О юридическом закреплении прав женщин на изъявление собственной воли в делах о замужестве свидетельствуют статьи Устава князя Ярослава Владимировича о денежных пенях, налагавшихся на родителей не только в экстремальных ситуациях (самоубийство из-за брака поневоле), но и в тех случаях, «аще девка восхощет замуж, а отец и мати не дадять». В чешском и литовском праве наказывались не родители, а девушка за самовольный выход замуж (она лишалась своей доли имущества, приданого и пр.)[176]. Надо полагать, что в среде зависимого населения на ранних этапах развития древнерусского государства брачные отношения тем более складывались под влиянием личной склонности. На это указывает статья Русской Правды (РП) о трех источниках обельного холопства, среди которых назван и брак свободного с рабой, не оговоренный условиями. Примечательно, что не только в РП, но и в поздних актовых и законодательных памятниках нет указаний на то, что свободная женщина, выйдя замуж за холопа, теряла свой более высокий социальный статус. До нас дошла, например, грамота конца XIV в. — духовная Остафия Ананьевича, в которой большинство жен холопов и их дочери названы свободными, хотя сыновья от этих браков остались рабами, поступив в собственность холоповладельца. Заметим, что западноевропейское средневековье знало лишь обратную ситуацию: например, женщина во франкской деревне, выйдя замуж за человека более низкого социального статуса, оказывалась «запятнанной» браком с ним[177]. Изменения в положении жен древнерусских холопов произошли, по-видимому, лишь в конце XIV–XV в. и были связаны с общим усилением крепостничества. Судебник 1497 г., называя в ст. 66 те же три источника обельного холопства, что и РП, дает кардинально другую трактовку похолопления через брак: «по рабе холоп, по холопе раба»[178]. Напрашивается предположение, что ст. 66 Судебника лишь закрепила установившееся в то время положение вещей, когда жены холопов считались свободными только юридически, а фактически находились в полной зависимости от холоповладельца. После издания Судебника 1497 г. появились грамоты, отражающие претворение его норм в жизнь: в докладной записи Ивана Федоровича Новокщенова (1497–1505 гг.) сообщается, что «Авдотья Иванова дочь Костыгина», «девка вольная», пошла «за холопа Захарцу, а по его холопи далась ему в робы…». Но в записи «О разлучении» (конец XV в.), мало привлекавшей внимание историков, жене предоставляется право расторжения брака, если муж скрыл свое холопство, а мужу аналогичное право не дается: не потому ли, что формула «по холопе раба» в XV в. не сразу стала привычной, входила в практику с трудом и «вольные» женщины стремились по-прежнему оставаться свободными при мужьях-холопах? О существовавшем противодействии формуле «по холопе раба» говорят и соответствующие грамоты XVI в. Так или иначе Судебник 1589 г. вернулся к нормам РП: «А по государеву указу по рабе холоп, а по холопе робы нет»[179]. Заключение «вольными» женщинами в XV в. браков с представителями непривилегированных сословий является неоспоримым свидетельством самостоятельного решения ими этих вопросов. При заключении таких браков ограничения исходили со стороны не родственников, а феодала-холоповладельца. Так, в берестяной грамоте № 402 свободный торг зависимыми людьми проступает довольно отчетливо: «Поклон о г[оспоже]. Жонку ту дала за своего паро[бка]». Для актов XV в. эта ситуация достаточно обычна. Например, в 1459 г. Есип Дмитриев Окинфов получил «в приданые» «паропка да девочку», которых и женил по своему усмотрению. Более того, церковные поучения XV в. требуют даже наказания для господина, «аще рабы не дасть замуж». В среде свободного населения дееспособными лицами, заключавшими брачную сделку, были сами будущие супруги[180]. К концу XIII в. согласие сторон на брак стало фиксироваться в брачном договоре, или ряде, составлением которого после сговора занимались сваты или родственники. Элементы этой традиции встречаются в Уставе Ярослава Владимировича в статьях о «свадебном» и «сгородном», но сам институт брачного договора получил развитие позже; рядная грамота Тешаты и Якима — одна из первых по давности — датируется концом XIII в. К этому времени относится и грамота на бересте (№ 377): «…от Микиты ко Ульянице. Пойди за мене. Яз тебе хоцю, а ты мене. А на то послухо Игнато…»[181] Заключительной частью брачного сговора в XIV–XV вв. являлось церковное обручение, ставшее закрепленным общественной моралью обязательством жениться на девушке: «…аще кто девицу обручену нужою поиметь, не леть же ему иное пояти, но ту имети жену». Даже в случае, если обрученную «инь некто прельстит и осквернит», жениться на ней закон повелевал обрученному жениху[182]. Члены литовского посольства 1492 г., прибывшие для переговоров о сватовстве Александра Казимировича к дочери Ивана III Елене Ивановне, «ели у великого князя», «говорили о любви и о докончании». Через два года при повторной попытке сватовства была представлена «грамота верющая» князю Ивану III, «абы дал за нас дочь свою». От названия деталей обряда произошли и синонимы слова «невеста» — «суженая» (о ней судили сваты) и «обрученная» (в результате сговора били рука об руку). В. И. Даль допускал возможность толкования обручения от слова «обруч» (браслет). При обручении могли присутствовать, по-видимому, лишь те, кто не был дважды женат (замужем). Так, при обручении Александра и Елены Ивановны был отстранен от участия в обряде один из послов по причине вторичной женитьбы. Обручение подтверждалось грамотой. Как обряд оно получило распространение не сразу и поначалу лишь в среде свободного населения, господствующего класса. «Чин, обрученье девице и мужю, царем и прочим» (XIII в.), опубликованный М. Горчаковым в XIX в., предписывает следующие обрядовые действия: «…предстанет же хотящая обручиться перед святыми дверми олтаря и положить на десней стране трапезы перьстня два, злот и железен. Железный убо надесно, златый же налево близь собе и перекрестить трижды…»[183] Представителям клира было необходимо заставить своих «сынов» и «дщерей» смотреть на заключение брачных уз как на акт религиозный, но церемония заключения брака, бытовавшая в рассматриваемое время, свидетельствует о тщетности этих стремлений. Брак оставался гражданским актом, лишь освящаемым благословением церкви. Детали предсвадебной церемонии свидетельствуют, что брак по способу заключения (брачный сговор, ряд) сразу стал неким особым видом гражданского договора. Живучесть свадебного пиршества как традиции выражает тот факт, что на Руси придавалось большое значение общественному признанию брака. Для вступления в сам венчальный брак от женщин на Руси требовалось выполнение многих условий. Одним из них был брачный возраст: 13–14 лет, в XIV–XV вв. — от 12 до 18–20 лет. Правда, зачастую условие это не соблюдалось, особенно когда вплетались политические мотивы: княжна Верхуслава Всеволодовна, когда ее «выдавали замуж», была «млада суще осьми лет»; Иван III был обручен, точнее, «опутан красною девицею» пяти лет от роду стараниями тверского князя Бориса Александровича. Однако такие браки совершались лишь в среде господствующего класса. В дальнейшем ранние браки были ограничены запретом митрополита Фотия венчать «девичок меньши двунадцати лет»[184]. Русская церковь препятствовала заключению браков с иноверцами: «Иже дщерь благоверного князя даяти замужь в ину страну, иде же служат опреснок и съкверноедению не отметаются, недостойно зело и неподобно правоверным сотворити своим детем сочетание: божественныи устав и мирскый закон тоя же веры благоверство повелевает поимати»[185]. За преступную связь с иноверцем «русска» (так называет женщину Устав князя Ярослава) наказывалась насильным пострижением в монашество; позже в ряде земель наказание ограничивалось штрафом[186]. Этот запрет не распространялся на великих княжон, многие из которых были выданы замуж за иностранных королей. Представители клира старались не допускать в браке смешения социальных и классовых различий: крестьянка и холопка в лучшем случае считались «меньшицами», т. е. вторыми женами; в худшем — свободный должен был или отказаться от притязаний на законное закрепление подобных отношений, или согласиться во имя брака стать холопом. Не случайны и в поучениях «Пчелы» (XIV–XV вв.) слова «от раб ведома есть жена зла и неистова»; они свидетельствуют о стремлении церковников устрашить посягнувшего на заключение брака с женщиной более низкого социального статуса[187]. Ограничивалось и число замужеств: нормы христианской морали позволяли не более двух, ибо «бог совокупи — человек не разлучает». В феодальных республиках был разрешен и третий брак по смерти второго супруга и в случае, «аще кто будет млад, а детей не будет у него от перваго брака ни от втораго». Если брак заключался в четвертый раз, четвероженца немедленно «разлоучали» и лишали причастия, «донельже разрешится беззаконного брака», ибо «первый брак — закон, второй — прощение, третий — законопреступление, четвертый — нечестие: понеже свиньское есть житие»[188]. Древнерусской женщине любого сословия запрещалось вступление в брак с лицами, близкими ей не только по крови, но и по свойству, а также по родству возможному или будущему. В «Уставе о брацех» говорится о запретах близкородственных брачных отношений до шестого «колена» (степени родства). За нарушение этого предписания по византийскому закону наказывали плетьми, на Руси карали денежными штрафами[189]. Сохранение невинности до брака закон не рассматривал как условие для его заключения. Девственности церковный закон требовал лишь от будущих жен представителей клира, а с людей мирских предписывал лишь взимать штраф в том случае, если «замуж пошла нечиста». Ведь главной целью церковников было венчать и венчать, утверждая церковную форму брака вместо умыканий на игрищах: «Понужайте, убо да веньчаются и живут законно»[190]. Древнерусская церковь опиралась еще на дохристианские представления и традиции ответственности родителей за устройство семейной жизни детей (греческий закон подобных мер не предусматривал). Пять гривен золота штрафу должны были выплачивать «великие бояре» (гривна бралась с «меньших») лишь за то, что они не выдали вовремя дочерей замуж. В поучениях духовенству есть соответствующее указание: «…а которые девицы поспели, и вы их давайте замуж, а так бы лихих дел не делали. А которые вдовицы живут незаконно, а замужь не идуть, и вы их замужь давайте…» В этом вопросе церковный закон не делал исключения для холопок: «Господин, аще не оженить раба своего или рабы не дасть замужь, ведый, яко блуд творит…» Ведь цель была одна — венчальный брак, ибо «без венчания женитва беззаконна есть и неблагословенна и нечиста…»[191]. Древнерусские источники X–XV вв. почти не содержат полного описания элементов церковного венчания. Краткое описание молитв и церковных обрядовых действий есть лишь в соответствующих «уставах» и «чинах» требников XV в. Венчание происходило обычно «межи Рожеством и крещением», венчали после обедни либо вечером. Венчать мог любой священнослужитель — не монах. В ходе венчания жених становился по правую руку священника, невеста — по левую, оба получали «по единой свещи горящей». После надевания «перстней»(золотого — мужчиной, железного — женщиной) новобрачные «сплетали десныя рукы», священник же кадил на них «фимиам» и молился «велми гласно»; обратившись па восток, благословлял брак, «жизнь мирну и долголетну», желал «имети чада и внучата, наполнения дому благодатью и красотою»[192]. Большинство описаний свадебного ритуала было составлено также не ранее XVI в. Но ряд обрядов оставался почти без изменений на протяжении столетий; не случайно автор свадебной записи о бракосочетании Василия Ивановича с Еленой Глинской (1526 г.) подчеркнул, что все свершалось «как велось исстари, при князе великом Симеоне Ивановиче», т. е. в XIV в. В день свадьбы невеста находилась вначале в «хоромех» отдельно от жениха, что символизировало ее неизвестность будущему супругу (отсюда и само название «невеста», т. е. «неизвестная»). «Афоризмы» древнерусской «Пчелы» тоже косвенно свидетельствуют о бытовании традиции неизвестности невесты жениху до свадьбы: «В мутне воде не видети дна, а в невесте не разумети истины». Впрочем, принцип неизвестности существовал, по-видимому, не везде, что дало основание Н. И. Костомарову упомянуть об одной новгородской свадьбе XV в., когда перед поездкой к венцу дружка кричал: «Мы не фату приехали смотреть, а невесту!.. И жених видел свою суженую»[193]. В день свадьбы в «среднюю» палату первой входила невеста. Перед ней несли каравай с деньгами — к сытой и богатой жизни будущей семьи. Примечательно, что такое пожелание относилось именно к ней: в невесте видели, возможно, будущую распорядительницу домашним бюджетом. Перед венчанием жениху и невесте «голову чесали»; обычай этот сохранился в обряде с дохристианских времен, но дошел до нас лишь в описании рукописи XVII в.: «Да у жениха и невесты… гребнем голову чешут; да иные вражьи есть затеи…» Как видим, обряд «чесания» к XVII в. превратился уже во «вражью затею» и даже «бесовское действо», однако в рассматриваемое нами время он был широко распространен, ибо предшествовал надеванию кики и повойника с фатой — отличительных головных уборов замужних женщин на Руси[194]. Перед поездкой к венцу невесту осыпали хмелем — «к веселью»[195], вносили ритуальные предметы: шубы (к богатству), незашитые соломенные тюфяки и даже просто снопы (к легким родам) и т. п. Желанием сохранить любовь мужа объясняется существование обычая «баенной воды». Еще в XII в. черноризец Кирик спрашивал у новгородского епископа Нифонта разрешения налагать недельную епитимью на тех невест, которые устраивали перед венцом ритуальную баню, «мыльню», а воду после нее давали пить будущим мужьям, чтобы те их любили. Обрядовые действия, связанные с «мыльней», упоминаются и в свадебных записях XV в.[196] Среди свадебных и венчальных ритуалов XIV–XV вв существовал обычай «вскрывания» невесты, определения ее «почестности» — едва ли не единственный, унижающий женщину, в системе свадебных обрядов, бытовавших в то время[197]. «Действо» это не было частью народного обычая, являясь следствием распространения церковного венчального брака и связанного с ним требования сохранения невестой целомудренности до него: «…не причащайте, женивши, а девицам потому же, которая замужь пошла нечиста...»[198] Что касается других обрядовых действий, отразивших социальный статус и права древнерусских женщин, то их толкование может быть различным. Например, широко известен в этнографической науке обрядовый эпизод разувания женой мужа, упомянутый еще Нестором (полоцкая княжна Рогнеда отказывается «розути робичича»). В летописях более позднего времени и в актовом материале других свидетельств бытования этою обряда нет, что позволило некоторым исследователям увидеть его отмирание[199]. Между тем в сказаниях иностранцев, посетивши.х Россию в XVI–XVII вв, есть эпизод разувания, правда в форме обрядовой игры за будущее место жены в семье и за ее права: «Молодой кладет в один из своих сапог деньги, золотые и серебряные… Молодая должна снять один сапог по своему усмотрению. Если ей удается снять тот сапог, в котором деньги, она не только получает их, но и впредь с того дня не обязана снимать с мужа сапоги…» Аналогичный смысл имело и обрядовое разбивание кубка, упомянутое в свадебной записи XV в. Если прежде велось «бить скляницы» только на счастье, то в середине XV в тот же эпизод обряда, выраженный в игровой форме, имел уже иной смысл — борьбы за приоритет в семье: «кто из них (жених или невеста, — Н. П.) первый наступит, того и победа, и тот всегда будет господином»[200]. Даже такие подарки жениха невесте, как иголки (казалось бы, символ домашней работы) или плеть, могли выражать в X–XV вв. прежнее обрядовое значение, а не только патриархальную власть мужчины в доме, которая к XVI в. была действительно законодательно закреплена и освящена церковью. В условиях долгого бытованя дохристианских ритуалов, борьба с которыми отнюдь не авершается и в XVI в., указанным предметам в XV в. мог придаваться старый, магический смысл, не сводимый к унижению и подчиненности женщины[201]. С распространением и утверждением в XVI–XVII вв. церковного учения о патриархальном владычестве в семье, зафиксированном «Домостроем», происходило своеобразное слияние традиционной предметной символики в старых обрядах с новыми и возникающими обрядами. Взятые в целом, они отражали противоречивые изменения в социальном и семейном положении древнерусских женщин. Древнерусское бракоразводное право также возникло вместе с принятием христианства и распространением венчального брака, и, хотя светские власти неоднократно вмешивались в эту сферу деятельности церкви («звлаща (особенно. — Н. П.) в справе разводув мальженьских»), именно церковь являлась монопольным регулятором его развития[202]. В отличие от византийского законодательства в русском юридическом быте были иные поводы к признанию брака недействительным[203], а основанием к его прекращению считалась лишь смерть одного из супругов. Церковники принимали развод лишь как уступку человеческой слабости, и вся церковная литература была буквально пронизана идеей о божественности происхождения, а потому нерасторжимости брака («не мозите жен у мужей отимати, яко тем же законом совъкупишася и на том же судищи стати имуть…»)[204]. Тем не менее уже в эпоху Устава князя Ярослава Владимировича русская церковная практика располагала широким перечнем поводов к разводу. Основным поводом к разводу с древнейших времен считалось прелюбодеяние, по-разному определявшееся для каждого из супругов. Муж признавался прелюбодеем лишь в том случае, если имел на стороне не только наложницу, но и детей от нее[205]. Подобная ситуация, судя по епитимийным памятникам, встречалась нередко в древнерусском быте, причем в церковных поучениях и летописных свидетельствах особенно часто упоминается такое двоеженство, когда «меньшицей» была женщина более низкого социального статуса, в том числе раба[206]. Замужняя женщина считалась совершившей прелюбодеяние уже тогда, когда вступала в связь с посторонним мужчиной[207]. Прелюбодеяние, совершенное в результате насилия, не считалось изменой (подтверждение тому — канонические ответы митрополита Иоанна II[208]). Разнились и наказания за прелюбодеяние. Женщина вначале не обладала правом развода по причине неверности мужа: виновный супруг лишь наказывался годом епитимьи и денежным штрафом («лепше иного человека въскупити, абы ся и другая на том казнила», т. е. чтобы и другим неповадно было). Муж же имел право развода с женой, которая ему изменила; священнослужители, жены которых допустили адюльтер, не только имели право, но и были обязаны развестись, в противном случае «без священьства есть». «Аще ли прелюбы сътворила от него, то видит ю своими очима, а не оклеветает ближняго своего, то да пустит ю», — требовали нормы греческого семейного права, имевшие в XIII–XIV вв. большое распространение на Руси. И даже больше: муж, узнавший о неверности супруги и «волю давший ей», т. е. простивший ей измену и не разведшийся с ней, должен был понести особое наказание[209]. Муж имел право развода с женой и по ряду других поводов, приравнивавшихся к прелюбодеянию: «…аще подумаеть жена на своего мужа зелием, или иными людьми, а она иметь ведати, что мужа ея хотят убити…; аще жена без мужня слова иметь с чюждими людьми ходити или пити или ясти, или опроче дому своего спати, а о том уведает муж[210]; аще ли жена иметь, опроче мужа своего воле ходити по игрищам… а мужь иметь съчивати, а она не послушает…; аще жена на мужа наведеть тати…» и т. д.[211] Изучение юридических норм XIV–XV вв. в сопоставлении с процитированным выше Уставом князя Ярослава Владимировича позволяет заметить, что на Руси бытовали византийские нормы, утверждавшие снисходительное отношение к поведению женщины. Например, Устав считал поводом к «разлоучению» разговоры женщины с посторонним мужчиной; в XIII–XIV вв. положение уже иное: «…аще [муж] в ином месте обрящет таковаго с своею женою беседующе или у церкве… волостелю да предаст… или яко же хощеть, вины объявливати по закону и доводити…»[212] С развитием феодального права женщина получила даже право развода по причине неверности супруга (XV в.)[213]. Правами на развод по физиологическим причинам обладали равным образом оба супруга. Этот повод к разводу был официально признан уже в XII в. В случае разлучения по этой причине женщина уходила из семьи со всем своим имуществом: «…и приданое с нею все въследует жене, и отдасть ей все муж, еже аще приял будет…» К XV в. относится разрешение митрополита Фотия «поимети» третью жену, «аже детей не будет ни от перваго брака, ни ото втораго»[214]. Право на развод по материальным причинам закреплялось за каждым из супругов: «…аще жена на мужа наведет тати, велит покрасти двор мужа своего… про то их разлучити…»; «велми зло будет, яко… не мочи держати (содержать. — Н. П.) жене мужа». Епископ Нифонт специально остановился на случаях, когда жена «долг мног у мужа застанет» и когда супруг «порты ее начнет грабити». В соловецкой Кормчей 1493 г., как и в более раннем памятнике — Уставе князя Ярослава, за кражу женой у мужа последнему дозволялось только «казнить» жену, а развод воспрещался, ибо церковь стремилась сократить число поводов к разводу[215]. В памятниках канонического происхождения есть указания на некоторые особые поводы к разводу. Правом разлучения по ряду из них обладали оба супруга, например в случае принятия монашества мужем или женой. Расторгать таким образом законные браки призывали женщин еретики. Церковный же закон в качестве ответной меры оговорил этот повод к разводу обязательным согласием другого супруга на разлучение и пострижение. Соглашение такого рода изложено летописцем под 1228 г.: «Святослав отпусти княгиню свою по свету, всхотевши ей в монастырь, и дасть ей наделок мног»[216]. Памятники XV в. свидетельствуют о том, что право на развод на Руси могло быть и односторонним; были поводы к разводу, правами на который обладала только женщина. Так, жена имела право развестись, если муж скрыл свое холопство или продался в него без ее ведома: «…чии холоп, утаився, поймет жену, а жена та не восхощет с ним в робе быти, тех разлучити». Данная запись могла появиться лишь после фиксации правила «по рабе холоп, по холопу раба» в Судебнике 1497 г. Жена могла развестись с мужем («не виновата, идучи от него») и в случае, «аже муж не лазитъ на жену свою без совета» (т. е. является импотентом). Право на развод жена пчела и в случае бездоказательного обвинения супругом в «злом деле» («аще муж на целомудрие своея жены коромолит»). Интересно, что при разводе по такому поводу при наличии детей муж должен был оставить «свое стяжанье» семье[217]. Правом развода по ряду поводов обладал только мужчина. Муж мог потребовать разлучения под предлогом «порчи жены», как великий князь Семен Иванович, или в случае несогласий между ним и родственниками со стороны жены. Так, Ярослав Святославич, готовясь к войне с Владимиром Мономахом, «умыслил с женою своею, Владимировою внукою, без всякой причины от нея развестись…»; волынский князь Роман Мстиславич, начиная войну с Рюриком Ростиславичем, намеревался «пустить» жену свою, дочь Рюрика, принудив ее к пострижению[218]. «Роспуст», или самовольный развод, о котором идет речь в последнем летописном свидетельстве, был объектом борьбы как церкви, так и княжеской власти. Примечательно, что самовольный уход из семьи практиковался на Руси и мужчинами, и женщинами. Если против «роспустов», совершенных мужьями, выступал еще Устав князя Ярослава, вставая на защиту «старых», или законных, жен и требуя «казнию казнити» непостоянство мужчин, то в XIII–XV вв. представители клира вели борьбу уже против аналогичных проступков со стороны женщин («аще жена, оставя мужа, за иныи пойдет…»). Так, новгородский епископ Феодосии наказывал священникам не венчать тех «пущенниц», которые «за иные мужья посягают беззаконно, мятущись…»[219]. Нередкими в древнерусском семейном и юридическом быте были случаи «оставления» супруга и венчания с другим по причине долгого отсутствия мужа. Стремясь утвердить постоянство в семейной жизни, церковный закон запрещал «поймать жену иного мужа», ушедшего воевать, в течение как минимум трех лет («лета три звращения ждати мужже»). После этого срока священники смотрели лояльно на новый брак. Примечательно, что, когда жена самовольно уходила к другому мужу, «финансово ответственным лицом» за этот проступок считалась не она, а ее новый муж, который и платил митрополиту «продажу» (штраф)[220]. Нормативные документы, отразившие наказания за «роспусты» без ведома церковных властей, указывают на пристальное внимание представителей клира к нравственной стороне брачных отношений. Во всяком случае при самовольном уходе мужа от жены с него кроме штрафа в пользу церкви взималась большая сумма как своеобразная компенсация за «сором» (моральный ущерб). Размер пени зависел от статуса и достатка распадающейся семьи: «Аще пустит боярин жену великих бояр, за сором ей 300 гривен, а митрополиту пять гривен золота; меньших бояр — гривна золота, а митрополиту гривна золота; нарочитых людей–2 рубля, а митрополиту 2 рубля; простой чади–12 гривен (как за убийство представителя этой социальной группы по РП! — Н. П.), а митрополиту 12 гривен…» В случае развода по инициативе мужа — без законных на то оснований! — денежный штраф налагался, по-видимому, лишь на него самого: «…аще муж с женою по своей воле распустится, епископу 12 гривен»[221]. В XIV–XV вв. возможности такого «добровольного» развода все более ограничивались и отчетливее становилось стремление церкви сократить количество законных поводов к разводу. Так, митрополит Даниил в конце XV в. требовал узаконить лишь один из них: «…не подобает мужу от жены разлучатися, разве блудные вины». Сохранялся как повод к разводу постриг одного из супругов. Разводные грамоты, дошедшие до нас от более позднего времени, свидетельствуют, что муж в случае выхода из семьи должен был помимо штрафа возвратить жене не только ее имущество, приданое и т. п., но и часть совместно нажитого: кудель, рожь и пр.; жена же обязывалась не предъявлять имущественных претензий[222]. В грамоте обязательно указывалось, что «роспуст» совершен добровольно. В церковных нормативах оговариваются и случаи, которые ни при каких обстоятельствах не могли быть поводом к разводу. Так, в XII–XIII вв. брак налагал на супружескую чету обязанности по взаимному уходу и содержанию в случае болезни. Даже если у жены или мужа обнаруживалась «слепота ли долгаа болезнь», «лихий недуг», «про то нельзя их пустити, тако же и мужа». Правда, с течением времени это правило исчезло из канонических сборников, и «Правосудие митрополичье» (XIV в.) зафиксировало уже обратную статью («про то отпустити ея, тако же и мужа») По-видимому, несогласная жизнь супругов или взаимная неприязнь, т. е. причины нравственно-психологического порядка, также не считались достаточно веским поводом к «разлоучению»[223]. Итак, элементы традиционного ритуала закрепления семейных уз трансформировались за несколько столетий в предсвадебные и свадебные обряды, типичные для венчального брака, освященного церковью. Узаконивая венчальный брак, церковь выступала в качестве регулятора в решении матримониальных дел: церковные законы устанавливали определенные наказания за насильную или несвоевременную выдачу замуж, за моральное оскорбление, наносимое возможным отказом жениха от невесты, или за несоблюдение других условий, необходимых для заключения брака, что в конечном счете отвечало интересам женщины. Узаконение каноническими памятниками различных поводов к разводу, правом на который в древнерусском государстве обладали женщины разных сословий, также свидетельствует об относительно высоком для средневековья юридическом статусе древнерусских женщин. Вместе с тем именно христианская церковь стремилась утвердить мораль «социального торможения», покорности и подчиненности женщины. Поэтому она не препятствовала проникновению в «священное таинство» брака элементов гражданского договора, сделки, которую устраивают родители[224], стремясь подчинить женщину вначале, при заключении брака, воле родителей, а после свадьбы — мужу.Женщина в семье: норма и действительность
Все стороны изучения социального статуса женщины в средневековом обществе так или иначе связаны с семьей — важнейшей ячейкой древнерусского феодального общества XI–XV вв., а для освещения статуса женщины в семье очевидна необходимость, с одной стороны, изучения церковного учения о семье и месте в ней женщины, а с другой — восприятия церковно-юридических норм современниками, преломления в их сознании связанных с ними проблем. Воссоздание этой «живой истории» невозможно без обращения к нарративным памятникам, литературной традиции и агиографии, которые позволяют представить весь жизненный путь древнерусской женщины, от отроческого возраста до вдовства, многие житейские ситуации, связанные с рождением и воспитанием детей в семье, взаимоотношениями между ее членами. Развитие семейно-брачных отношений от больших семей VI–VII вв. к экономически и юридически самостоятельным малым семьям XI–XII вв. не вызывает сомнения у большинства исследователей[225]. Характер семейных связей, присущих индивидуальной семье, бытовавшей в рассматриваемый период, подтверждается и по археологическим[226], и по письменным источникам. О малом типе как княжеских и боярских семей[227], так и семей новгородских своеземцев[228], свободных общинников и полузависимых крестьян[229] свидетельствует нарративная литература. Преобладание индивидуальной семьи зафиксировано памятниками права и в среде холопов[230]. Аналогично и юридические нормы, относящиеся к гражданскому праву, свидетельствуют о проведении принципа индивидуальной, а не большесемейной[231] ответственности. Постепенное расширение социальных и имущественно-наследственных прав женщин различных классов также является показателем отмирания пережитков большесемейных отношений уже в XII–XIII вв. (см. гл. III). Структура индивидуальной семьи в эпоху средневековья и ее внутренняя организация складывались под воздействием развивающегося христианства, и поэтому развитие семейно-брачных отношений и статус женщины в семье регулировались в значительной степени нормами христианской морали[232]. Основу церковной концепции семьи составлял тезис о святости супружества[233]. При этом сам брак рассматривался как непреодолимое и неизбежное для простого мирянина «зло» («женитва человека обычно зло есть»). «Едино есть бедно избыти в человецех — хотения женьска…»[234] — сетовал компилятор «Пчелы». По той же логике для лиц духовных — будь то мужчина или женщина — рекомендовался целибат или же как обязательное условие целомудренная жизнь («целомудрие есть умаление похоти…»). Целомудрие рассматривалось как путь к спасению души[235]. Таким образом, внедрение нравственных начал в семейную жизнь древнерусского человека исходило из провозглашаемых церковью принципов. В теологической концепции семьи аскеза стала постепенно неким идеалом («пречюдна в девах непорочная чистота…»), доступным лишь избранным[236]. В первую очередь это относится к агиографическим образам[237]. Проблема выбора между целомудрием, девственностью и супружеством была для средневекового человека проблемой соотношения идеала и действительности: «…много убо наипаче почтено есть девство. Брака убо вышши есть, и много честнейши девство, убо неоженившийся вышши есть женившегося». Таков был идеал. Однако даже сами распространители подобного тезиса оговаривались: «девьственным таковым аще мощно быти», напоминая, что «честен бо брак и ложе нескверно», и ссылались при этом на Священное писание («не токмо не скверно, ино честно ложе»)[238]. Исходя из тех же христианских представлений о нравственности, церковники осуждали второй и третий браки, заключенные даже в случае смерти одного из супругов: «Второй брак начало бывает рати и крамоле. Муж бо, за трапезою седя, первую жену вспомянув, прослезится, вторая же взъярится…»[239] (Какая великолепная бытовая зарисовка, свидетельствующая о чувстве глубокой супружеской любви!) Черпая обоснование подобных моральных норм в творениях отцов церкви, церковники призывали сохранять верность супругу даже в случае аморальных проступков с его стороны («да спасеши ей и себе…»[240]). Расхождение между проповедью христианского аскетизма вплоть до целибата и признанием святости супружеских уз отражало противоречивость церковной идеологии периода становления и эволюции феодальной формации. Теологам было необходимо, с одной стороны, утверждать идею бренности земного бытия, бессилия человеческой личности («а се грех, еже уповать на ся или иного кого разве бога», «ничтож от человек бысть»[241]), ас другой — подчеркивать значение «земных» дел, в том числе в семейной жизни основной женской роли — рождения «чад», но при подчинении их «главным» ценностям: любви к богу, самоотречению во имя его и т. д.[242] Неполноценность женщины выводилась уже из известного библейского сюжета («от мужа взята еси и тът тобою да обладает…»[243]). Власть мужа над женой трактовалась церковниками как закон, соответствующий иерархичности построения сословного государства: «женам глава муж, мужу — князь, а князю — бог». Назидательно-моралистическая литература, облекаясь в одежды то художественного вымысла, то риторики или поучения, то притчи, создавала идейную основу семейной иерархии. «Жене старейшиною быти не даст вещей закон», — читаем в «Пчеле» XIV в.[244] Женщина в идеальной супружеской чете, рисуемой церковниками, неизменно была «покоривой», «тихой», «смиренной», «безмолвной»[245]. Поучения церковников в этой области были направлены как к женщинам («не супротивляйтеся, жены, мужем своим, но во всем покоряйтеся им, и повинуйтеся, жены, мужии воли»), так и к их супругам («не дай на тя жене глаголити и не попусти ей воли на силу твою наступати»). Важно было не только утвердить в сознании средневекового «мужа» образ идеальной, послушной жены, но и устрашить его обратным примером — тому «наипоследняя хула», «аще кто есть женою обладаем»; «бывают те мужи мягци, безъстудны, бесмыслени, несвободни, раболични, простореци»[246]. В реальной действительности вопрос о «семейной власти» часто решался иначе. Летописцы отметили случаи, когда в княжеской семье жена «владяще мужем». Да и в самой учительной литературе отмечалось, что ситуация, когда мужи «градами владеющи, а женам работающи», была нередкой[247]. Однако, требуя устранения главенства женщины в брачном союзе, церковники вовсе не отрицали возможности любви и взаимопонимания между супругами[248], хотя под браком чаще всего понимался союз чисто платонический[249]. Отказ от генитальных отношений в браке (жить, «плотногодия не творяху») почитался «святым делом», но отступление от этого аскетического принципа не только допускалось, но даже считалось в порядке вещей («в своей бо жене нет греха»). В Изборнике Святослава 1076 г., в Послании Климента Смолятича (XII в.) «плотская» любовь не объявляется греховной, ибо «всяко бо, иде же бог, то несть греха», а сын божий родился от женщины[250]. Но основное внимание церковников обращалось, конечно, к духовной стороне брачного союза. В любовь между супругами церковники стремились внести рациональный смысл, связывая ее с любовью к богу. В проповеди праведной и согласной жизни наблюдается та же иерархия идеалов, что и в проповеди целомудрия: супружеская любовь — любовь к ближнему — любовь к богу, поскольку сам «бог любы есть»[251]. «Истинная любовь есть и богоугодная», — свидетельствовалось в «Измарагде» XIV в., хотя там имеется и осуждение любви «телесныя», «си есть нечиста и ненавистна богу»[252]. Факты совместного пострижения мужа и жены в монашество, неоднократно отмечавшиеся русскими летописями[253], хорошо согласовывались с обеими сторонами православной концепции: супружеской любовью и готовностью к самоотречению во имя божественных идеалов. Микроклимат в древнерусской семье, по мнению авторов многочисленных поучений, зависел именно от женщины: «Подобает жене мужа своего мети аки главу на плечах, а муж жену свою — аки душу в теле»[254]. На это указывают и некоторые летописные свидетельства[255]. Не случайны поэтому обращения в памятниках XII–XIV вв. к «мужиям»: «Не лишайте собе совещания жен своих… все творите по слову с женами своими»; «подружье свое храни, яко уд свои: зане едино еси есть тело с нею»; «жена спасения ради человеческого бысть»[256]. Но не следует думать, что древнерусское общество изобиловало строптивыми женами и озабоченными утверждением своей власти мужьями. В летописях содержатся многочисленные примеры семейного «лада и береженья». Это — Ян и его «подружье» Марья (XI в.), Мстислав Владимирович и его супруга (XII в.), Владимир Василькович волынский и его супруга, княгиня «милая» Ольга Романовна (XIII в.), Михаил Ярославич тверской и его жена Анна Дмитриевна (XIV в.), Василий Васильевич II Темный и его жена Марья Ярославна, Василий Дмитриевич и Софья Витовтовна, а также многие другие представители аристократических слоев[257]. «Слово о полку Игореве», «Повесть о разорении Рязани Батыем» и другие литературные произведения наравне с фольклором донесли до нас образ «лады» («…уж нам своих милых лад не мыслию смыслити…» — читаем в «Слове…»), т. е. верной жены[258]. Имеется ряд примеров и в других литературных памятниках того времени, а также в актовом материале[259]. Трудно не заметить в этих источниках тенденции к наделению лиц знатных фамилий «врожденным капиталом добродетелей». Вместе с тем несомненно, что мир древнерусской семьи может быть увиден лишь через призму представлений о нем современников, объективно выразивших в своих писаниях потребность в высоконравственных внутрисемейных отношениях. Выразительное любовное послание написал оставшийся неизвестным новгородец, далекий от проповедуемого церковниками богоугодного аскетизма: «[Како ся разгоре сердце мое, и тело мое, и душа моя до тебе и до тела до твоего, и до виду до тво] его, тако ся разгори сердце твое, и тело твое, и душа твоя до мене, и до тела до моего, и до виду до моего…»[260] Этот чудом уцелевший образец любовной записки второй половины XIV–XV в. лишь подтверждает слова Ф. Энгельса, относившего возникновение «индивидуальной половой любви» к началу средних веков и в связи с этим подчеркнувшего всеобщность процессов гуманизации и обмирщения идеологии с развитием феодального общества[261]. Вне зависимости от того, был ли основан брак на отношениях взаимной склонности, или же в основе его лежала экономическая сделка родителей, прочность семейных уз охранялась церковным законом. Поэтому основное внимание церковных сборников не случайно было обращено на проблемы сексуальной этики. Интимнейшие стороны внутрисемейных отношений оказывались отраженными в покаянии («прелюбодей и блудница, поведайте всякие грехи мне без срама…») и подконтрольными церкви. В случае совершения «греха», т. е. отступления от норм, установленных церковью, назначалась епитимья — средневековая универсальная оценка поведения человека, позволявшая церкви регламентировать даже физиологическую сторону внутрисемейных отношений («дни запретов»). В определенной мере это способствовало развитию культуры сексуальной жизни в браке и объективно содействовало охране здоровья женщины. Проповедь аскетического идеала, отрицавшего стихию чувственности и нравственную распущенность, служила своего рода методом «социального контроля в сфере семейных и половых отношений»[262]. Но в целом, предпочитая целомудрие и девственность браку, церковь исходила из концепции о порочности сексуальной жизни: «грех с женами имети приближенье», ежели «не чадородия ради, но слабости ради»[263]. Главной проблемой сексуальной этики епитимийников являлось осуждение сексуальных связей вне рамок брака, равно как и всех извращений естественной сексуальности[264]. В особенности эти запреты касались женщин, поскольку лишение девственности церковь считала самым большим прегрешением[265]. Здесь же лежат истоки концепции о греховности не только поступка, но и самого помысла: «…всяк, възрев на жену, яко же похотети ей, то уже прелюбодейство створил с нею в сердце своем…»; «и воззрение убо грех есть…»[266] Настаивая на обязательной исповеди, требуя постоянного контакта между священником-исповедником и «покаяльными детьми» («мужеви с женою достоит каятися у единого отца…»), церковь получила возможность нравственного воздействия на древнерусского человека, контроля всех сторон его жизни, поступков, помыслов[267]. Церковь налагала многочисленные запреты в отношении поведения женщины в семье и вне дома: «ногу на ногу возложив, седети грех есть»; «пьяньство жен отлучает от мужь» и др.[268] Однако на Руси, как подсказывают свидетельства эпиграфики и нарративных источников, жены князей, бояр, а также представителей вотчинной администрации были в то время отнюдь не «теремными затворницами», а, например, участницами праздничных пиров. Летописи рассказывают, что в 1143 г. «Всеволод, князь киевский, приде и с женою, и с всеми бояры на сватьбу…»; в 1187 г. «посла князь Рюрик шюрина своего с женою, Славна тысяцкого с женою, иныи многи бояре с женами по Верхуславу за Ростислава». Позже княгиня Агафья Ростиславна, дочь великого князя Ростислава-Михаила Мстиславича, уже сама в 1167 г. устраивала пир в Чечерске, а «славная богатая Настасья», жена новгородца Ивана Григорьева, угощала самого великого князя 28 декабря 1476 г.[269] Новгородец Кирик отмечал, что и «в манастырях часто пиры творятъ, съзывають вкупе мужа с жены, и в тех пирех друг другу преспевають…». И это при том, что еще Устав князя Ярослава в XII в. запретил женщине без супруга ходить в гости, «к чюждим людям» и карал за это разводом: «…аще жена без мужня слова иметь ходити с чюждими людьми, или пити, или ясти…» Но реальная жизнь брала свое. Интересную ситуацию рисует приписка в одном из Прологов XV в.: «Плечи болят. Похмелен. Пошел бы в торг, да кун нет. Попадья ушла в гости…» (ее автор, по-видимому, сам поп)[270]. Общение женщины вне дома с мужчинами, не являвшимися ее родственниками или членами ее семьи, также осуждалось церковниками. «Паче же с женами не умножай речей», — требовали «отцы духовные». На таких «разлоучников» они налагали денежные штрафы и церковные наказания. «Не играйте игрою шутливою с чужими женами», поскольку «виденье женское — стрела есть. Беги повести женьских, яко хощещи целомудр быти, не дажь дерзновение тем зрети на тя. Преже глаголят тихо и очи долу имуть. Вторые улыскают, паче же абие рассмешашася. Третье — красящеся паче меры, и являются светли видом, и бровь взводят, и обращаются оци. И сим пленяюще тя в погыбель» — такую картину «устреляния» сердца простодушного мужчины женщиной-соблазнительницей нарисовали «Пчела» XV–XVI вв. и Пролог XV в.[271] Карались и те, кто попустительствовал супружеской неверности[272]. Мера наказания определялась социальным статусом (чем он был выше, тем строже был штраф), а также тем, в какой степени здесь присутствовало спонтанное проявление чувства или же преднамеренность (преднамеренное оскорбление считалось предосудительнее)[273]. Церковники методично формировали представления о морали и нравственности в семейной жизни: «Аще кому угодится добра жена, то за чужей не ходи», «не буди прелюбодеи…»; «аще которая жена отшеде мужу ея и не ждет его, за иного посягнеть любодеица есть»[274]. Церковь активно боролась и против всех пережитков дохристианской морали, одним из которых было многоженство, живо представленное в летописном материале. Простой люд не знал многоженства. Это явление, не став на Руси повсеместным, охватывало лишь некоторые высшие слои господствующего класса. Среди князей, имевших вторых жен и побочные семьи, отмечены Святослав, Владимир, Ярослав галицкий[275]. Имеется упоминание об этом и в эпиграфическом материале: одна из берестяных грамот XII в. содержит жалобу на то, что муж отдал предпочтение незаконной семье[276]. В любом покаяльном сборнике можно найти епитимьи «невенчалным» женам[277]. Проблема искоренения многоженства не была ликвидирована даже к концу XVI в. Отмеченные церковными памятниками внебрачные связи были явлением довольно распространенным, хотя многочисленные приписки, сделанные на полях церковных сборников самими переписчиками из среды клира или читателями этих текстов, говорят о несомненном усвоении людьми христианских норм нравственности и понимании противозаконности внесупружеских связей[278]. Утверждение проповедуемых церковью моральных начал в семейной и социальной жизни привело к появлению в древнерусской литературе образа целомудренной и верной супруги (например, Феврония в «Повести о Петре и Февронии»; жена князя Михаила черниговского Агафья и ее дочь Феодулия; Евпраксия, супруга рязанского князя Федора[279]). Нельзя оставить без внимания и летописный рассказ о жене вяземского князя Семена Мстиславича Иулиании, которую смоленский князь Юрий Святославич, пользуясь вассальной подчиненностью ее мужа, хотел «принудить с ним жити, она же сего не хотяще». Верность и любовь к мужу стоила Иулиании жизни — Юрий Святославич велел утопить ее[280]. Рассмотренная система религиозных морально-нравственных норм заставляет прийти к выводу о противоречивости многих церковных постулатов. По мнению церковников, сексуальные связи греховны и порочны, а путь к избежанию женщиной этого «порока» виделся лишь один — частое рождение «чад», ибо «велико зло есть, аще не родятся дети, сугуба брань». От известного тезиса «слава девичеству, яже вврема матерству, а ввеки девству» отталкиваются все предписания, регулирующие матримониальную реальность. И хотя православные проповедники заставляли умиляться агиографическим чудесам, непорочному зачатию и рождению от одного «общания» (на этом основывается и культ богородицы), они тем не менее не забывали напомнить, что обычному деторождению предшествует грехопадение[281]. Женщина в соответствии с этим постулатом объявлялась существом «нечистым»[282], что не мешало церковникам придавать достаточно большое значение социальным функциям женщины-матери. Среди обращений к пастве в памятниках церковно-учительной литературы можно найти немало тому примеров: «Жена бо человеку дана плода деля»; «Для единой потреби мужу жена сотворена бысть — детородства ради»[283]. Согласно православной концепции, величайшим «благом» для семьи были дети («сладка есть беседа родившему дети своих»), рождение же дочери — будущей матери — считалось «честью дому»[284]. Поощряя «многочадие», православная церковь выполняла важную социальную задачу. В учении православных идеологов многодетность выступала как категория «общественной необходимости», имманентно присущая семье; она обеспечивала возможность приобретения семьей новой собственности, в том числе недвижимой[285]. На протяжении веков церковь упорно формировала идеал женщины — многодетной матери. «Щасливый то человек, — утверждалось в средневековой «Пчеле», — которий жену себе добрую меет, и добро ему будет, жена его яко лоза доброплоднаа будет, а синове из себе изродит… и сядут [они] коло столу твоего, албо около дому твоего домами своими… и тако благословит тебе господь». Отом же писали и проложные жития[286]. Суровые наказания налагались церковью за детоубийство, попытки избежать беременности или прервать ее. Драматические ситуации рисуют древнерусские пенитенциалии, упоминая о случаях удушения детей, заклада их и даже продажи[287]. Устав князя Ярослава Владимировича сурово наказывал женщин, которые «при муже детяти погубить», грозя им пострижением в монашество[288]. Многолетний пост назначался тем женщинам, которые «не зачати тыцились», использовали всяческие «зелия», наветы и наговоры: «Всяка жена, скажающа в себе отроча, душегубица наречется»; «жены паче убийства творят: и се всприах окаяные, иже на всяк месяц убийство некаком зелием творити… Испытать, колико убиша детей»[289]. Исповедники назначали епитимью от «трьмя или двема летома» вплоть до 11 лет поста, поскольку «то чрес естьства створено быша». Еще строже карались аборты: «ино аще животное (живое. — Н. П.)–15 лет, аще образ есть–7 лет, а зарод еще–5 лет» поста. Преждевременные роды, случившиеся от выполнения непосильной работы, епитимьей не карались: ««Аже жены делаюче что-либо страдоу и вережаються и изметають?» Он же (епископ Нифонт. — Н. П.) рече: «Аже не зельем вережають, нету за то опитемья»…» Учитывалось также и то, должен ли был ребенок родиться в браке или внебрачным; в последнем случае церковный закон карал как за двойной грех[290]. Ряд церковных постановлений предусматривал защиту здоровья беременной, роженицы и ее ребенка: «Егда в утробе какая жена носить младенець, то не вели кланятися ей до пояса, аще и в великий пост. Мнози бо вережаются, до земли кланяяся…»[291] Суровое наказание — приравненное к каре за детоубийство — ждало мужа, «аще он риняся пьян на свою жену, вередит в ней детя»[292]. Эта определенно положительная сторона деятельности древнерусских церковников сочеталась с решительным вытравлением церковью всех пережитков языческих культов, связанных с деторождением. Архаические обряды, связанные с чадородием, смысл которых тесно переплетался с извечными человеческими чувствами, оказались очень живучими. Бытование их прослеживается по памятникам покаянной дисциплины вплоть до XV в. «Бабы-идоломолицы» и «бабы богомерзкий», устраивавшие «рожаничные трапезы», в кои входили имевшие символическое значение «хлебы, и сыры, и мед», а также каша, были хранительницами многих народных традиций и обрядов[293]. Их описания можно встретить в апокрифических молитвах «Аще коли жена детятем болит» и «Аще жена начнет детя родити не в борзе»[294]. Поскольку женщины «еще бо не бяху ся утвердили верою», именно к женскому полу были обращены проклятия ворожбы и чародейства в обличительных церковных поучениях[295]. Печать решительного осуждения церковью знахарства и чародейства несут особые статьи в исповедальниках и покаянных сборниках, касающиеся языческих («чародейных») способов «приворожения» супруга[296]. В исповедных вопросах перечислялись женское молоко, мед, «любовное коренье», пот и пр. как средства, которыми женщины потчевали мужей, чтобы обрести их привязанность и расположение[297]. В епитимийниках раскрывается еще одна интересная сторона мира древнерусской женщины —роль «чародеиниц» в народном врачевании, в сохранении и передаче опыта народной медицины. Новгородец Кирик жаловался, что, «еже дети возболят», матери их к «вълхвам[298] несут, а не к попови на молитву». В деревнях именно знахарки выступали как повивальные бабки (акушерки), они же «у жен плод отъимали» (делали аборты), лечили от бесплодия («детей деля»)[299]. Исповедальные вопросы донесли до нас информацию о некоторых «радикальных средствах», которые использовали народные «чародеиницы». Это «детская пупорезина» (пуповина), «ложе детиное» (плацента) и ряд других аналогичных средств, которым суеверно придавалась магическая сила[300]. (Впрочем, плацента используется и современной медициной для создания препаратов, усиливающих детородные функции и способствующих омоложению органов.) Древнерусские женщины врачевали не только как знахарки и «чародеиницы». «Целити недуги» умели и образованные княгини; их методы и средства лечения вошли в историю мировой медицины[301]. Определяя рождение и воспитание детей как установленное богом и освященное традицией «назначение» каждой женщины-матери, идеологам церкви удалось направить социальную активность женщины в сферу личной, семейной жизни, где «главой» жене и детям должен был быть мужчина. «Аще ли вино растворено, аще ли больша часть воды прилито в нь, но обаче вино наречеться, — читаем в одном из поучений XV в. в «Пчеле». — Тако же имение и дом мужьскыи, и дети от мужа досточно нарицатися, а не от жены, аще ли жена боле пристраиваеть…»[302] Ситуации же, в которых жена «боле пристраивала», оказываясь распорядительницей денежных средств и семейного имущества, были нередкими. Участие женщин в организации домашнего хозяйства, по свидетельству актового, эпиграфического, нарративного материалов, было в то время весьма значительным. Новгородские грамоты на бересте дают, например, весьма подробную и широкую картину участия жен новгородских своеземцев, простых и знатных горожанок в организации домашнего хозяйства и всего семейного быта. Новгородские женщины соучаствовали в распоряжении семейным бюджетом («баба Маремьяна» из грамоты № 578 XV в.; Анна с дочерью из грамоты № 531 XIII в.), зависимыми людьми и слугами (Ксения из грамоты № 411 XIII в.) и конечно же решали все хозяйственные вопросы, связанные с покупкой и заготовкои продуктов, домашней утвари и т. д.[303] Мы нередко сетуем на то, что древнерусские женщины были ограничены «узким кругом домашних интересов», но забываем, что это восприятие сегодняшнего дня. В условиях же средневековья с характерным для него господством личного, натурального хозяйства именно дом был основным жизненным пространством человека. Здесь под влиянием женщины-матери формировались взгляды подрастающего поколения, и потому адресатом многих поучений церковников, касающихся воспитания «чад», являлась именно мать. В древнерусских учительных сборниках женщина выступала как воспитательница целомудренности и послушания. По мнению авторов церковных сборников, именно ей подобало «нрав детиный исправливати», «блюсти чад своих». Испокон веков внутри семьи складывались такие человеческие отношения, о которых упоминает «Пчела» XV в.: «Матери боле любят сыны, яко же могут помогати им, а отци дщерь, зане потребуют помощи от отец…»[304] В этом постулате добрых семейных отношений матери отводится равная с отцом роль. Церковные поучения требовали от детей уважения к матери: «…вечно матери своей не забудь, вспомяни, яко тою родил еси»; «…не забывай материя труда, еже о чадех печаль и болезнь. Можеши о ней поболети, яко же она о тебе. Тем же страхом раболепным послужи ей» (Прологи XIV–XV вв.). Почтение к матери объявлялось делом «богоугодным» («Пчела» XV в.), а пренебрежение и забвение памяти родителей («пакы насмехался отцю и укоряюще старость материю…») резко осуждалось: «…и возплачется тогда, и господь не услышит его…»[305] Обобщением истин, выработанных вековой народной культурой, являются поучения «Пчелы»: «Какы чести принесешь ты своим родителям, такых и ты чаи от своих детии на старость». Требование: «Аще бо охудеет разумом в старости отец ваш или мати ваша, то не безчествуйте их, не укоряйте» — глубоко гуманно в своей сути[306]. Церковь стремилась проникнуть во все поры общества, сказать свое слово по любому поводу во всех сложных и конфликтных ситуациях, в том числе и в возникающих перед матерью и хозяйкой дома. Трудно не заметить многочисленных поучений о наказании «дщерей», т. е. наставлении их, чтобы не стали они «срамом и безчестьем роду», «смехоми срамом дому»[307]. Церковники предлагали матери систему наказаний детей с целью добиться от них послушания и уважения к старшим в семье. «Младу отрочати перед старым молчати», — рекомендовала «Пчела» XV в. «Непокоривость» детей матери строго осуждалась церковью. «Матерь свою кляла ли еси, ил била, ил лаяла?»; «ил лаяла еси, а прощения не взяла до солнчнаго захода?»; «…ли досадила еси матери?» — сыпались исповедные вопросы, подтверждая таким образом, что подобные факты, увы, бывали. За проступки назначалась епитимья до 15 дней. Суровым возмездием угрожала «непокоривым» чадам, «съгрешившим злосердием к родителям», и учительная литература: «Аще ли кто злословит родители своя — проклят, есть от бога и от людей»; «а иже кто бьет матерь, от церкви да отлучится, и лютою смертью да умрет… писано бо есть: материна клятва искоренит»[308]. Но и от самих воспитателей учительные сборники требовали разумной строгости: «…не озлобляй, наказуя, дети»; в них осуждались те матери, что детей «кляли»[309]. С поучением «Пчелы»: «Родителя присно с богом чти равно» — перекликаются свидетельства актов и летописей, которые также содержат упоминания о взаимоотношениях в семье матери и детей. Князь Константин Всеволодович (начало XIII в.), чье «Наставление о детях» дошло до нас в изложении В. Н. Татищева, так обращается к своим «чадам»: «Почитайте мать вашу, сохраните повеления ея, учредите покой ей и довольство, чтоб не терпела недостатка…»[310] Роль мудрого благословения матери неоднократно подчеркивали летописцы при описании многих значительных поступков в жизни князей, бояр и других видных представителей господствующего класса[311]. Судя по описанным в летописях древнерусским семьям, характерными чертами внутрисемейного микроклимата были доброта, внимание, забота к женщинам (ласковые имена, которыми звались дочери[312]). Почтительное отношение к матери — отличительная черта древнерусского фольклора[313]. Объектом большой любви и заботы родителей могли быть внебрачные дети (тому есть летописные подтверждения[314]) и даже «примачки», т. е. приемыши. Последний случай ярко отразился в данной грамоте митрополита Киприана вдове Феодосье (1404 г.) на усыновление «примачка» Тимошки, которого вдова «взяла за детяти место»[315]. Однако все это отнюдь не исключало возможности конфликтных ситуаций между матерью и детьми в древнерусских семьях. Летописные известия и в большей мере судебные акты, среди которых есть и написанный на бересте, демонстрируют подобные случаи, указывая на их распространенность[316]. Однако на сторону матери сразу же вставал закон. Так, митрополит Иона в своем послании детям Софьи Витовтовны, «не повинующимся матери» (1455 г.), писал: «Била мне челом, сынове, на вас мати ваша… нечто по грехом, оплошением ли вы своим, или дьяволивым навождением, или молодостию живете, с ней не държите, да еще деи и обидите ее во всемъ… И благословляю вас, сынове, чтобы есте собе у нее прощение взяли и честь бы есте к ней прошлую родителскую имели во всем…» В случае неповиновения митрополит Иона пригрозил: «…возложити мне тогда на вас духовная тягость церковнаа и свое неблагословление и прочих священников и в си век и в будущий, докеле же в чювство приидете…»[317] Особую часть христианского учения о семье и месте в ней женщины занимает вопрос об отношении к «вдовицам». Церковь исходила из того, что со смертью мужа жена теряла своего опекуна, и поэтому рекомендовала оказывать вдовам снисхождение[318]. Нередко завещатель специально оговаривал «передачу» жены под опеку ближайшего родственника по мужской линии или духовного лица, что было духовенству выгодно[319]. Примером может служить духовная новгородца Климента 1270 г. Климент умирал бездетным («не было у меня сыну»); при жизни он находился в сложных отношениях с монастырем: последний был его кредитором. Отношения феодального патроната заставили Климента перепоручить свою вдову монастырю. Завещая передачу монастырю своей земли, Климент «приказывает» свою жену игумену Варлааму, велит постричься ей в монахини и требует: «…выдайте ей четверть, оть не будеть голодна, или того на въслушаеть, а нечто меньшее дадите ей»[320]. В большинстве случаев, как подтверждают многие источники, древнерусские женщины, став вдовами, не только не попадали под власть родственников-опекунов (в отличие от западноевропейского юридического быта), но и обладали полнотой власти в отношении завещанного имущества. В духовных грамотах князей и великих князей есть немало свидетельств передачи женам права старшинства в семье (ведь и РП рекомендовала в случае вдовства «детям воли не дати»). Дмитрий Донской в своем завещании наказывал великой княгине Евдокии «укреплять чада»: «…а приказал есмь дети свои своей княгине. А вы, дети мои, слушайте своее матери во всем, из ее воли не выступаитеся ни в чем. А который сын мои не имет слушати своее матери, а не будет в ее воли, на том не будет моего благословления…» «Чтить и слушать матерь свою» наказывал детям князь серпуховской и боровский Владимир Андреевич, тоже «приказавший» детей жене. Держать «матерь свою во чти и в матерстве» требует и духовная великого князя Василия Дмитриевича. Великий князь Василий Васильевич специально указал, что главой после его смерти в семье должна остаться княгиня: «…в мое, своего отца, место…» Не «выматься из воли» матери приказал своим детям в духовной и волоцкий князь Борис Васильевич[321]. Получив права опеки, женщины вполне успешно управляли своим «добытком». Среди таких опекунш — великая княгиня Ольга и, например, мать Феодосия Печерского, историю которой донес до нас Киевский патерик («любяше сына паче инех», она стремилась вырастить из него прежде всего умелого и рачительного хозяина — под стать себе, «дабы не приносиши укоризну себе и роду своему»), ярославская княгиня Ксения и др. В «галерее знаменитых россиянок» немало упоминаний об активной деятельности женщин в период исполнения ими опекунских функций[322]. Противоречие реальной жизни и проповедей церковников о предназначении женщины отразилось в известных притчах о «злых женах», кочевавших в течение нескольких веков из одного церковного произведения в другое (Изборник 1076 г., «Моление» и «Послание» Даниила Заточника, «Пчелы», Четьи-Минеи, Прологи). Они оставались тем не менее удивительно постоянными, хотя сама тема женоненавистничества, столь популярная в Византии, в результате обработки православными церковниками трансформировалась. «Женофобские филиппики», сопоставление жен «добрых» и «злых» тема, характерная для многих мировых литератур[323]. Поскольку сама культура средневековья была бинарна, постольку противопоставление «земного» и «небесного», «божьего» и «дьявольского» (а именно их отображением является антиномия «доброй» и «злой» жены) было фактом первостепенного значения. Закономерность появления доброй жены как образа, воплощающего возможность совершенства, как фиксации мыслимых представлений об идеальном, но в то же время доступном относительно понятна. Развитие же темы женоненавистничества в древнерусской литературе — это, по-видимому, определенный показатель, с одной стороны, усвоения древнерусским человеком церковной аскетической традиции, а с другой — сопротивления и противопоставления ей социальной активности женщин во всех ее проявлениях. Обратимся к схеме описания жен добрых и злых в связи с их поведением в семье и обществе. Их добродетели и пороки излагаются авторами церковных поучений с точки зрения: категорий христианской нравственности (блудницы — девственницы; «жена прелюбодейна и упьянчива» и «жена верная — честь земная»[324]); семейного уклада жизни (злые жены «дом свой не берегут», они — «разорение дому»; добрые же — хорошие хозяйки, они «чинят медоточное житие в дому», «многие користи дому чинят», «чада и челядь питают»[325]); производственных процессов (злая жена, «не работав, работит», сама она «пороздная» (праздная) и муж ее — «потаковник ее лености»; добрая — «заутро встает», она «страдолюбива»[326]); определенных эстетических представлений и ценностей (злые жены «мажутся и красятся паче меры», будучи обладательницами «прелестных удиц»; добрые же не красивы, но «умом светлы», им «красота не злато, но ум и тихость»[327]). Аналогично фиксируется положение «двух типов женщин» в системе: регламентированных ролей в семье (злые жены «не убоятся мужа», «владеют мужем»; добрые — «добры и покорливы» мужу[328]); их отношения к религии (злая жена «ни священника чтит, ни бога ся боит, ни закона божия знает», в церкви «смеется», она «глуха на спасение»; добрая же, напротив, «богобоязливна», «бояшаяся бога»; не случайно злая жена дается за «грехи человеку праведному», а добрая — «во спасение»[329]); участия в социальной жизни (в отличие от добрых жен, послушно превратившихся в чадородительниц, домохозяек, полурабынь, злые жены, по мнению церковников, «меют дерзновение глаголить имати, без мужий мнятся нечто», «никого не усумнятся», но «все корят, вся осуждают и вся хулят»[330]). Известное по церковным памятникам понятие «добрая жена» служило утверждению христианских представлений о месте и роли женщины в семье и обществе, являясь тем самым орудием воспитания богобоязненности, законопослушания, консервации иерархической структуры семьи и самого сословного государства. Но и образ «злой жены» в концепции православных теологов, как свидетельствует комплексное изучение данных церковных и светских памятников, не был абстракцией, а являлся скорее реакцией на события и явления вполне реальные, заметно проступающие сквозь назидательную ткань предписаний. «Злая жена» в древнерусской семье — это правомочный член ее, независимая домохозяйка, обладающая определенными правами и авторитетом; к «злым женам» с особой нетерпимостью относились церковники. Осуждая «злую жену» как небогобоязненную, немолчаливую, непокорную мужу и закону, они не могли не признать, что такие или подобные им «жены» не только не были редкостью, но и встречались значительно чаще «добрых» («жене добре не удобь обрести…»), что в действительности было немало социально активных женщин, «непокоривых» мужу и властям («ни закона знают…»)[331]. Для проповедников патриархальной замкнутости женщины в семье такие «жены» представляли реальную угрозу их «автократии»: «уста незаперта» «злой жены» рождали несогласие с ущемленным положением женщины в семье и обществе, т. е. тот самый «мятешь», и «велику пакость», и опасные «великие исправленяа»[332], которые были сродни проявлению социального или антирелигиозного протеста. Может быть, не случайно и «злой муж» хотя и редко, но встречаемый в церковных текстах, — это прежде всего «праздноглаголящий[333]? Не потому ли церковь запрещала женщине «глаголить» при людях, что боялась ее «въпрашаний», «дерзновений», превращавших «послушьство ее в словесы»[334]? Б. А. Романов, специально изучавший особенности внутрисемейного быта и нравов Древней Руси, выдвинул гипотезу о том, что часто встречающийся в древнерусской литературе образ «злой жены» возник в связи с распространенностью случаев брака по расчету и своеобразной экономической самостоятельности женщины в семье[335]. Изучение учительной и проложной литературы, епитимийников и других разновидностей церковных сборников подтверждает это предположение. «Злые жены» под пером проповедников христианских этических норм становились главными виновницами не только нравственных пороков семьи и общества; на них, чуждых распространяемому идеалу смирения, «укрощения плоти и гордыни» (служившему освящению и «наиболее общей санкции существующего феодального строя»[336]), было легко в случае необходимости «свалить вину» и за социальные пороки. В лице же таких наиболее активных женщин, как, например, Марфа Борецкая, «злые жены» получали ярко выраженную политическую окраску. Как видим, сопоставление церковной концепции семьи и социального предназначения женщины с фактами, характеризующими конкретно-историческую реальность русского общества X–XV вв., дает представление о культурных, юридических и моральных нормах отношения к женщине в древнерусском обществе. В целом картина жизни русской семьи этого времени и положения в ней женщины вовсе не столь уж мрачна, как мы нередко привыкли себе представлять, говоря о патриархальном быте с деспотической властью «главы дома». Религия и церковь, хотя и играли важную роль в жизни средневековой Руси, не охватывали всех сторон духовного мира человека той эпохи. На представления людей о роли женщины в семье влияли тогда и реалии окружающего мира, и народные традиции, и взгляды, унаследованные с дохристианских времен. Об этом свидетельствуют рассмотренные свадебные обычаи и семейные обряды той эпохи, отношения между супругами, родителями и детьми, действительные семейные нравы, раскрывающие роль женщины-матери и хранительницы домашнего очага. Поскольку на Руси X–XV вв. еще не полностью утвердилась церковная доктрина семьи, принижавшая женщину, полностью подчинявшая ее и детей властелину в доме — мужчине, постольку сами женщины пытались преодолеть навязываемые церковниками нормы «молчания» и «послушания», утвердить самостоятельное положение в браке, как экономическое, так и личностно-психологическое.
Глава III.
«А жонки з жонкою присужатъ поле…»
(Правовое положение женщины в X–XV вв.)

Положение женщины в русском феодальном обществе X–XV вв. не может быть обрисовано с достаточной полнотой без исследования дееспособности представительниц различных классов и социальных групп в имущественно-правовой сфере. Эта проблема не только связана с историей развития древнерусского права в целом и семейного в частности, но и помогает найти ответы на такие важнейшие вопросы, как, например, истоки неравноправия женщин, их имущественные права в соотношении с проблемой феодальной стратификации, сопоставление нормативов древнерусского феодального законодательства и реального социального положения женщин, возможности и широта имущественно-правовой и социальной самостоятельности представительниц господствующего класса и т. п.
Права женщин на владение и распоряжение имуществом
Законодательные нормы, касавшиеся имущественного статуса представительниц разных классов и социальных групп и действовавшие в период от Русской Правды (РП) до первого общерусского Судебника, уходят корнями в глубокую древность, в эпоху складывания феодальных отношений. Первое упоминание о полномочиях женщин на владение определенным имуществом содержит уже один из наиболее ранних юридических памятников — Договор 911 г. Олега с Византией, утвердивший право женщины сохранить за собой часть общего с мужем имущества даже в случае, если муж совершил убийство и предстал перед законом: «Аще ли убежить сотворивый убийство, а и жена убившего да имееть, толицем же, пребудеть по закону…» Иными словами, в том имуществе, которое получала жена преступника «по закону», имелся и ее собственный выдел, «часть», отдельная от мужниной (ибо в статье речь идет об отдаче «его части», т. е. части мужа, родственникам). Понятие «часть», на которую имела право и которой располагала женщина, вошло в юридический быт вместе с первой кодификацией законов. О ней упоминается в статьях Пространной Правды (ПП) об имущественных правах женщин в семьях смердов, «свободных мужей» и привилегированного сословия[337]. О том, что и «робы» могли обладать какой-либо собственностью, нормативные источники столь раннего времени ничего не сообщают. Женское имущественное владение, именуемое в РП «частью», вероятно, включало приданое и не входящее в его состав некоторое парафернальное имущество — собственность жены, которой она могла распоряжаться по своему усмотрению. Впоследствии парафернальное имущество жены передавалось мужу только на основе доверенности, а обеспечением добросовестности управления им служила законная ипотека на имуществе мужа в пользу жены[338]. Существование приданого в древнейший период истории Руси доказано еще в XIX в., хотя и РП, и другие нормативные акты того времени не знают данного термина. «Аже будет сестра в дому, то той задницы (всего наследства. — Н. П.) не имати, но отдадять ю замуж братья, како си могуть», — говорится в РП. Свидетельство летописца («…а завтра приношаху за ней, что вдадуче») указывает на существование такого приданого еще в древнем обычном праве, что позволяет усомниться в правильности утверждения о том, что институт приданого был заимствованием византийских юридических норм[339]. Владение приданым, по РП, присуще людям из среды почти всех классов и социальных групп феодального общества, в том числе и смердам. Сам термин «приданое» появляется в актах не ранее конца XV в. (в Судебнике 1497 г. есть упоминание о «приданом холопе»)[340]. Первые рядные договоры о назначении приданого встречаются лишь в середине XVI в. Что касается свидетельств ненормативного характера о назначении приданого, то от рассматриваемого времени (до конца XV в.) их до нас дошло очень мало[341]. Сложнее вопрос о том, владела ли женщина чем-либо помимо приданого. О существовании парафернального имущества жены в первом браке нет прямых сведений в русских памятниках. Правда, следует обратить внимание на определенное Уставом князя Ярослава взыскание за покражу «свадебного» и «огородного»[342]. Первый термин относительно ясен: это то, что получала невеста при свадьбе. «Огородное» — термин менее понятный. Он по-разному написан в различных списках Устава и не объяснен до сих пор[343]. Существование в русском юридическом быте брачного сговора (о котором шла речь в гл. II) позволяет предположить, что «сговорное» («огородное») являлось либо одной из составляющих приданого, либо частью или даже самим парафернальным имуществом, приносимым женой в дом мужа. Более понятной представляется структура «части», которой владела женщина в связи со вторичным замужеством («что на ню мужъ възложилъ», «что дал мужь»). По-видимому, это прежде всего то же приданое, по отношению к которому древнерусские женщины обладали правом не только владения, но и распоряжения. Иначе было бы необъяснимым появление самостоятельной собственности женщины в браке, а между тем уже Устав князя Владимира считает принципиально возможной «прю между мужем и женою о животе», т. е. спор по поводу имущества. Тот же Устав предполагает возможность конфликта вдовы с братьями, снохой, свекровью и собственными детьми по поводу «живота»[344]. Трудно согласиться с тем, что это установление было введено с целью ограничить дееспособность женщин путем передачи вопросов об имуществе в ведение церковной юрисдикции, действовавшей на основании аналогичных казусов в византийских законах, ограничивавших права женщин[345]. Предпочтительнее попытаться найти свидетельства развития имущественных прав женщин, состоявших в браке[346]. И они имеются. Во-первых, тот факт, что кредиторы мужа обращали свое взыскание против жены (как в «Вопрошании Кирика»), подтверждает наличие у жены определенного имущества. Во-вторых, в Уставе князя Ярослава муж предстает посягателем на имущество супруги[347]. В-третьих, ст. 36 Псковской судной грамоты (ПСГ) также свидетельствует о том, что «женка» могла являться истцом в деле взыскания долга по неформальным документам («доскам»)[348]. В-четвертых, договор Новгорода с немцами 1269–1270 гг. подчеркнул не только отсутствие общности имущества супругов, но и наличие тайной ипотеки на имуществе жены, т. е. невозможность использования ее имущества под залог имущественных сделок мужа. (Материальную ответственность за долги мужа жена несла лишь в случае его смерти, став наследницей его движимости и недвижимости.)[349] Отметим, что тенденция имущественной неответственности супруги не сразу утвердилась в русском законодательстве. Несмотря на то что русско-византийский договор X в. ввел ее в одну из своих статей, РП (а позже и нормативный акт Смоленского княжества) еще требовала отдачи имущества жены на «разграбление» в случае совершения преступления мужем[350]. Однако новгородское право XIII в. вновь возвратилось к системе тайной ипотеки на имуществе жены, т. е. признало невозможность его залога, что отвечало экономическим изменениям, связанным с усилением феодализации общества. Таким образом, законодательные памятники X–XV вв. дают возможность утверждать, что женщина социально свободная, принадлежавшая к привилегированному сословию и выходившая замуж вторично, могла обладать помимо приданого и некоторым парафернальным имуществом, которое могло появиться у нее за годы либо супружеской жизни (как следствие свободного распоряжения своим приданым), либо вдовства при выполнении опекунских функций. Русская буржуазная наука в целом преуменьшала уровень развития правовой мысли на Руси по сравнению с Западной Европой[351], но ею высказывались весьма убедительные доводы против византийского происхождения статей РП и других источников об опеке[352]. О развитости норм опекунского права говорит уже наличие в Древней Руси института женского опекунства, которого тогда еще не знало западноевропейское средневековье[353]. Сходство же институтов опеки в Византии и Древней Руси определялось близостью систем общественно-экономического строя, а не заимствованием правовых норм[354]. Рассмотрим эту проблему подробнее. Важно, например, выяснить: вступала ли вдова автоматически в права умершего супруга по отношению к детям, или же она являлась их опекуном только по закону и эта власть над детьми определялась официальным ее положением? На основании РП можно утверждать, что знатные женщины после смерти мужа полномочно становились опекуншами малолетних детей и управляли хозяйством по праву старшинства, пользуясь добытком (имуществом) и неся ответственность за убытки лишь в случае вторичного замужества. Даже когда опекаемые становились совершеннолетними, за труды по их воспитанию матери-вдове предоставлялось право остаться в доме своих детей даже против их воли, сохраняя при этом свой выдел на содержание — «часть»[355]. Судя по ПСГ, позже было установлено, что отказ от содержания престарелой матери должен вести к изъятию в ее пользу у недостойного сына всей части наследуемой им собственности, которую нажили совместно отец и мать. Если же женщина вторично выходила замуж, то она возвращала опекаемым всю принятую на опеку движимость и недвижимость, включая приплод от рабов и скота. Если это имущество («товар») опекаемых пускалось в оборот, то прибыль шла в пользу ближайшего родственника опекунши, «зане кормил и печаловался ими»[356]. За счет этого «прикупа» (прибыли) возмещался, видимо, и ущерб в имуществе, принятом опекуншей после смерти завещателя. Более поздние нормативные акты не касаются вопросов, связанных с женским опекунством. Это позволяет предполагать, что древние нормы права опеки традиционно действовали и позже. Как видим, РП в отличие от аналогичных кодексов западнославянских земель не вводит в юридический быт понятие соопекунов-мужчин при вдовах, предоставляя женщинам значительную самостоятельность[357]. Основанием для права вдовы на опеку были не только ее соучастие в правах на общее семейное имущество, но и принципы родительской власти, авторитет матери в быту, который делал ее (хотя и на период, ограниченный вторым замужеством) полновластной главой семьи. Рассмотренные права женщин на владение приданым и некоторым парафернальным имуществом, а для представительниц привилегированного сословия и на опекунство над детьми органически связаны с наследственным аспектом древнерусского права собственности. Именно в нормах наследственного права раскрываются эволюция и те глубокие сдвиги, которые происходили и системе личных и общественных отношений супругов, и особенно в правах женщин. Почти все древнерусские правовые документы, в том числе и РП, уделили этой области юриспруденции особое внимание. О наследовании в низших сословиях РП дает мало сведений: после умершего раба «робе» и «робьим детям» «задницы не имати». В семье смерда после его смерти обеспечивались его незамужние дочери («даяти часть на не»), поскольку считалось, что вышедшие замуж уже получили свою «часть» в виде приданого или в иной форме. По спискам Археографическому II, Троицкому IV, Оболенскому II и некоторым другим в ст. 90 РП имеется приписка «без детии» («аже умрет смерд без детии, то задница князю… Аже будуть дщери у него дома, то даяти часть на не, аже будуть за мужем, то не даяти части им»). Поскольку в статье имеется указание на всех детей, а не только на сыновей, ее можно толковать так: дочери не наследуют только при сыновьях; если сыновей нет, то имущество переходит к дочерям, а если среди них есть незамужние, то им полагается часть для приданого. Аналогично в ст. 92 РП умирающий «делит дом свой детем». Это могло означать возможность для завещателя делить имущество не только между сыновьями, но и между дочерьми: ведь наследование по завещанию могло и не совпадать с наследованием по закону, согласно ст. 94 РП о выдаче замуж незамужних сестер[358]. На примере развития наследственного права представительниц свободного и привилегированного населения можно проследить эволюцию права наследования, связанную с усилением феодализации общества. Изначальным этапом подобной эволюции был период господства общинного строя, когда женщине вне зависимости от ее матримониального положения отказывалось в праве наследования не только недвижимого имущества, но и движимости. Выделение какой-либо собственности в руки женщины могло тогда привести к росту рентабельности хозяйства чужого рода и в конечном счете к социальному неравенству. Этот этап почти не нашел отражения в древнерусских письменных источниках в отличие от «варварских правд» государств Западной Европы[359]. Лишь косвенное указание на существование в предшествовавшую эпоху упомянутого выше архаичного правила отстранения женщины от наследования имеется в ст. 95 РП. Согласно этой сложной по составу статье, дочь не наследует, когда она «сестра». Очевидно, ранее дочь не имела прав ни на какое семейное имущество[360]. Усиление феодализации общества, преобладание территориального принципа над родовым, рост социального неравенства способствовали развитию процесса приобретения знатными женщинами прав на владение и распоряжение собственностью. По нормативным актам XI–XII вв. русские женщины предстают владелицами и распорядительницами движимого имущества. Основную часть его, как уже отмечалось, составляло приданое в совокупности с парафернальным имуществом. В случае смерти супруга женщины привилегированного сословия наследовали, получая «часть», и не рассчитывали на осуществление права собственности по отношению ко всему наследству — «заднице», под которой следует понимать непременно всю совокупность движимости и недвижимости семьи. Вопрос о понимании структуры «задницы» имеет принципиальное значение, между тем досоветская и современная наука мало обращалась к нему. Если под «задницей» понимать только наследуемую вдовой собственность мужа («задница мужня»), то придется согласиться с положением о том, что древнерусские женщины не имели наследственных прав[361], поскольку РП четко и определенно решает эту проблему: «…а задница ей мужня не надобе». Если же под «задницей» иметь в виду всю совокупность собственности, т. е. приданое, парафернальное имущество жены, отдельную собственность мужа, совместно нажитую движимость и недвижимость[362], то нельзя не признать, что женщины в рассматриваемое время уже обладали некоторым кругом наследственных прав. Они не были и не могли быть в случае наследования по закону собственницами всего совокупного имущества семьи, хотя и пользовались им до совершеннолетия детей на правах опекунства и системы семейной иерархии. Можно даже предположить, что запрещение наследовать всю «задницу» и свидетельствует как раз о том, что женщины, становившиеся полновластными хозяйками имущества после смерти супруга, стремились закрепить свои права на все наследство, хотя по закону могли наследовать лишь его часть. Логично предположить, что на втором этапе эволюции имущественных прав наследуемой частью была только движимость. Во времена РП под «частью» разумелась известная сумма средств[363], некий выдел на содержание, находившийся в полной собственности женщин. В пропорциональном отношении «часть» матери вряд ли была меньше «части» каждого из детей: если бы существовало неравенство в количественном отношении, оно было бы специально оговорено в законе. Жена же причисляется к первому ряду наследников, ее права оговариваются в первую очередь[364]. Лишь в ст. 92 РП идет речь только о детях-десцедентах, во всех остальных упомянута и мать[365]. Особый интерес представляет ст. 94 РП, по которой переживший свою жену супруг не получал наследственной доли в имуществе покойной, а только управлял этим имуществом[366]. На «часть» первой жены имели право только ее дети, даже если отец передал эту «часть» («възложил») своей второй жене, т. е. мачехе этих детей. Отметим, что в русской буржуазной науке бытовала несколько иная точка зрения насчет толкования этой статьи РП. «Из содержания статьи, — писал, например, специалист по истории наследственного права В. А. Рязановский, — с большой вероятностью можно вывести заключение, что муж после смерти жены остается главой семьи, владеет и распоряжается имуществом, оставшимся после умершей, пожизненно». Это утверждение справедливо отчасти, ибо трудно согласиться с тем, что ст. 94 РП обосновывает не только право владения имуществом жены, но и право распоряжения им. Разница между этими понятиями очевидна. Правом владения «задницей» располагали и женщины на правах опекунства, но превратить общее семейное имущество в единоличную собственность не могли, как и мужья по отношению к женскому парафернальному имуществу. Не случайно при растрате имущества первой жены муж (а в случае его смерти — сводный сын) должен был, как утверждается в некоторых списках РП, возместить убыток[367]. Таким образом, сравнение положения вдовы и вдовца в русском законе позволяет говорить о равенстве их прав. Еще более интересна ст. 106 РП, устанавливающая наличие у древнерусских женщин не только наследственных прав, но и права женщины в отличие от своего мужа выбирать, кому из детей передать свое наследство. По этой статье предпочтение отдавалось тому, кто проявил больше внимания к матери: «…аже и вси сынове ей будут лиси (черствые, «лихие». — Н. П.), а дочери может дати, кто ю кормить». Впоследствии это правило было зафиксировано и в ПСГ[368]. Что касается прав братьев и сестер на этом, втором этапе эволюции имущественных отношений, то они не были одинаковыми. Сестры, например, не получали всего наследства («задницы не имали»), если братья выдавали их замуж. Но если бы дочь вообще не была наследницей, то РП употребила бы именно термин «дочь», а не «сестра» (сравни ст. 90 и 91)[369]. Следовательно, в принципе дочери являлись наследницами («части», «задницы»), а специальное акцентирование того факта, что сестра при наличии братьев не являлась наследницей, как раз не исключает распространенности в быту наследования имущества дочерьми, а говорит о тех случаях, когда брат являлся старшим в семье и мог заменить родителей. Последний, третий этап эволюции имущественных прав знатных женщин — утверждение возможности владения недвижимостью: землей, «отчиной». Этот этап зафиксирован лишь в поздних источниках. Так, суд Пскова, разбирая наследование без завещания («ряда»), т. е. по закону, утверждает, что, если после смерти «которого человека» останется «отчина», жене пользоваться ею пожизненно, если только она не выйдет замуж. Такое же требование предъявляется и к мужу умершей жены, после которой тоже может остаться недвижимое имущество («а у ней останется отчина»!). Доказательства прав знатных женщин на владение недвижимостью (землей) имеются, на наш взгляд, и в тех статьях ПСГ, которые подчеркивают определенные ограничения прав женщин в судебном процессе. Так, в ст. 17 и 18 говорится: «А целовать боярину, и житьему, и купцю как за свою землю, так и за женню»; «а позовут боярина, и житьего, и купца в его земле или в женне, ино ему отвечать или ответчика послать в свое место и в женне по тому крестному целованию»[370]. Подчеркнутое в данных статьях ограничение процессуальных полномочий женщин в случае судебных тяжб по поводу недвижимости является лишним свидетельством законодательного закрепления прав женщин на владение землей. В конце XIII в. утверждается правило, касающееся дочерей: они получают часть «имения», «равнаа с братии»[371], и тем самым закрепляются равные права братьев и сестер на недвижимость, хотя Судебник 1497 г. (ст. 60) оставил приоритетное право за братьями. Показательно, что в конце XIII в. даже незаконная жена могла претендовать на «прелюбодейную часть» в имуществе умершего, чтобы прокормить общих с ним детей, и даже вести тяжбу с его законной женой (и даже с ним самим при его жизни!), требуя «дати урочнаа чясть на оскуду»[372]. Таков процесс эволюции приобретения представительницами господствующего класса имущественных, в частности наследственных, прав, который нашел отражение в нормативных актах X–XV вв. Само расширение имущественных прав женщин, получение ими прав на владение недвижимой собственностью органически связано с общими экономическими и социально-классовыми изменениями, характерными для государства, развивающегося по феодальному пути и преодолевшему к началу XVI в. — по крайней мере в праве — рецидивы дофеодальных структур. Представленная условная схема рассматриваемого процесса и хронологически, и по существу отлична от аналогичной, выработанной досоветской историко-юридической наукой. Мнение об имущественной подчиненности древнерусской женщины своему супругу, схематично обобщенное М. Ф. Владимирским-Будановым («до XIV в. имущество жены находится в собственности мужа, от XIV и по XVII в. — общность имущества и с XVIII в. — раздельность»)[373], серьезно корректируется данными самих нормативных актов. Точка зрения буржуазной науки объясняется тем, что она не пыталась дать социально-экономическое обоснование процессу развития права. Попытке создать иную, более адекватную, приближенную к действительности картину положения русской женщины способствует рассмотрение вопроса об эволюции имущественных прав женщин в X–XV вв. в связи с общими проблемами развития феодальной собственности на землю.Приобретение и реализация земельной собственности
Широкие возможности изучить реальное имущественное положение древнерусских женщин предоставляют новгородские грамоты на бересте. В них, как и в нормативных документах раннефеодальной эпохи, четко выражен второй этап эволюции владельческих прав женщин — период обладания и пользования движимым имуществом, и прежде всего денежными средствами. Например, новгородская грамота № 228 (XII в.) перечисляет должников, среди которых названа «Ярошковая» (жена Ярошки, Ярослава), задолжавшая 9 резан. Грамота № 449 (тоже XII в.) говорит о безымянной «дъложьнице»: «…у ней 6 гривен в дъложеницъ». Среди грамот, найденных в Старой Руссе (конец XII в.), имеется письмо жены Ивана должнику Фоме, в котором она требует отдачи ей денег за проданную соль, угрожая повышением цены на нее, т. е. ростовщического процента[374]. Интересную житейскую ситуацию представляет грамота № 531. Суть ее в том, что некая Анна с дочерью (видимо, из мелких феодалов) давала в отсутствие мужа Федора занятые им у некоего Константинаденьги в рост, получая с этого немалый доход. Теперь же она вместе с дочерью просит защиты у своего брата Климента от разгневанного мужа и отца. Подобная ситуация (дача одним из супругов без ведома другого денег в долг) не вызвала бы удивления, датируйся грамота XIV–XV вв. Но стратиграфический анализ показал, что находка относится к XII в.! Это свидетельствует о значительной самостоятельности женщин в денежно-ростовщических операциях уже в XII в., о раздельности имущества супругов (доход-то от процентов шел явно в личную собственность женщин, а не в общую семейную — иначе чего бы гневаться мужу Федору?). Женщины-заимодавцы XII в., как показывают грамоты, проявляли отличную осведомленность о нормах тогдашнего ростовщичества, зафиксированных еще ПП и позже ПСГ[375]. Новгородская I летопись сообщает о строительстве церквей знатными женщинами, что предполагало наличие у них значительных денежных средств. Среди таких женщин и жительница Новгорода «Жирошкина дъчи» Полюжая Городщиница (XII в.), и «дщи князя Чешьского» Мария Всеволодовна, субсидировавшая строительство церкви во Владимире (XII в.). В Ипатьевской летописи можно найти и более ранние свидетельства. Так, Мария (Мстиславна?), жена великого князя Всеволода, основала Кирилловскую церковь в Киеве (XII в.), где и была похоронена. В Лаврентьевской летописи (XIII в.) упомянуты монастырь Святой Богородицы, «юже бе создала великая княгиня и блаженая Всеволожа» (дочь Всеволода III Юрьевича Елена Всеволодовна), и церковь Спаса Преображения в Твери, которую заложила Ксения Юрьевна, жена тверского князя Ярослава Ярославича. Имеются свидетельства ХШ в. о совместном с мужьями и сыновьями основании знатными женщинами монастырей[376]. Летопись упоминает о раздаче денежной милостыни монастырям княгиней, женой Святополка Окаянного: «…много раздала богатьство монастырем и попом, и убогим…»[377] Неоднократно отмечают летописцы и получение дорогих даров дочерьми от родителей[378]. Конец XIII в. оставил нам возможность судить о женском движимом имуществе по уникальной рядной грамоте псковичей Тешаты и Якима. Эта грамота — договор о взаимных расчетах в связи с женитьбой Якима на дочери Тешаты. Тешата, судя по этим расчетам, — вдова, приданое за дочерью дает серебром, а взамен берет у дочери (впоследствии — жены Якима) свое монисто[379]. Примеры могут быть умножены. Так, приданое в виде движимости завещал своей дочери Фетинье в XIV в. и Иван Калита: «А что золото княгини моее Оленино; а то есмь дал дочери своей Фетиньи, 14 обручи и ожерелье матери ее, монисто новое, что есмь сковал…» Новгородские берестяные грамоты конца XIII — начала XV в. (№ 129, 293, 328, 358, 363, 389 и др.) также дают исследователю немало свидетельств участия женщин в денежных операциях на основе лично им принадлежавшей движимости. Помимо денег в имуществе женщин называются изба, подклеть. Женщины побогаче могли иметь в Новгороде и собственных людей, и рабынь[380]. Среди актов XV в. встретилась следующая любопытная ситуация: некий Мина Васильев сын описывает в купчей на землю сделку с Никоном Филимоновым сыном. В документе говорится: «…а сию землю купил Миня на женни куны, опришьно отца и братии свои». Здесь налицо раздельность денежных средств в семье Мины Васильевича[381]. Указание на деньги жены в сочетании с подчеркнутым «опришьно отца и братии свои» имеет целью сохранить вотчину за женой и лишить в дальнейшем своих родственников права на родовой выкуп. Последний этап эволюции имущественных прав женщин привилегированного сословия — это свободное распоряжение и пользование ими недвижимым имуществом. Уже в берестяных грамотах конца XII–XIII в. упоминаются женщины, владевшие недвижимым имуществом. Так, по грамоте № 227 (конец XII–XIII в.) можно установить, что жена и сын главы большого семейного клана были должны удовлетворить земельные и денежные претензии к ним в связи с кончиной последнего. При этом претензии по поводу земельного участка выставляли не только братья покойного, но и (что примечательно!) их жены — Радоковая и Давыжая. Новгородская грамота № 55 (XIII в.) свидетельствует о продаже целого двора в Новгороде женой некоего Фомы, проживавшего в Акосове[382]. Известно женское землевладение и в княжествах. Уже в XII в. в одном из граффити Софии Киевской упомянута княгиня Всеволожая как покупатель «земли Бояновой», за которую она заплатила «семьсот гривен собольих»[383]. По «рукописанию» (завещанию) князя Владимира Васильевича его жена получила: город Кобрынь «и с людьми, и з данью, како мне даяли», села Городел «и с мытом», Садовое, Сомино, Березовичи (недавно купленное село), монастырь «св. Апостолы». При этом сам князь утверждал: «…а княгини моей, по моем животе, аже восхочеть в черниче пойти, пойдет; аже не восхочеть иш, а како ей любо, мне не воставши смотреть, что кто иметь чинити по моем животе»[384]. В памятниках XIV–XV вв. число сведений о распоряжении земельным имуществом женщинами резко увеличивается. Немало упоминаний о женском владении недвижимостью содержит эпиграфический материал, находящийся в соответствии с уже рассмотренными нормами ПСГ. Это и завещание некой Фетиньи, жившей в середине XIV — начале XV в. (грамота № 28), и завещательное письмо некой Орины, внучки Юрия Онцыфоровича, «приказавшей» свои земли Колмову монастырю, и грамота № 474 — жалоба одного из новгородцев против захвата пашни («оралици»), принадлежавшей его жене, которая этим неблаговидным поступком «зобижена». В грамоте № 474 отчетливо отразилась раздельность имущества супругов, зафиксированная ст. 94 ПП[385]. Среди грамот XV в. наиболее известна жалоба Анне от Микифора, которого не признали хозяином купленного им у Анны участка: «Поклоно Ань от Микифора з Дорофеева жеребея. Что еси дала пожню в Быковщине, то Шеюга отнимает, другую — Осипко. Землици мало, а пожни отъимают…» В грамоте № 307 к госпоже Настасеи Михайловне» обращаются «хрестьяне» ее деревни с жалобой на лиц судебной администрации, опечатавших их имущество по «лживым рукописаниям». В грамоте № 53 некая Мария заключает купчую на покос сена. Документ № 580 представляет собой «рукописание» владелицы земли в «Здарвею» Ульяны в пользу двух ее сыновей[386]. Новгородские грамоты на бересте — это в основном бытовая, житейская переписка. Юридическая сторона ситуаций, отчетливо показанных новгородскими берестяными грамотами, может быть обоснована актовым материалом XIII–XV вв., подтверждающим дееспособность представительниц привилегированного сословия как в передаче во владение, продаже, так и в приобретении недвижимой собственности. Явления, которые нам предстоит наблюдать, возможно, уходят корнями в большую древность, ибо частный акт возник на Руси сравнительно поздно, а сравнительно ранних по времени создания актов дошло до нас совсем немного. Акты дарения частной недвижимой собственности, совершенные самими женщинами из привилегированных социальных групп, нашли отражение в грамотах, носящих наименование «данные» и «вкладные». В комплексе документов, связанных с реализацией женщинами права собственности на недвижимость (около 400 опубликованных и найденных в архивах актов), эти грамоты преобладают. В данных и вкладных грамотах нами выявлено 107 дарений и 8 указаний о вкладах. Абсолютное большинство данных и вкладных грамот относится к XV в., лишь три — к XIV в.[387] Наиболее ранними следует считать данную Оксиньи, дочери Фомы Васильева, жены Григория Остафьева, архимандриту Чудова монастыря Иоакиму на пустошь Шугаровскую, близ реки Каширки (1381 г.), а также вкладную Иулиании, жены великого князя Ольгерда, Успенской церкви в Озерищах (1377 г.)[388]. Акты дарения чаще всего совершались знатными женщинами в пользу монастырей. Однако имеется ряд пожалований и частным лицам. Так, Ирина Ольгова подарила своему зятю Тимофею Александровичу (Синему) село Марьинское в Костромском уезде, а княгиня Марья, жена Семена Александровича Олеска, оформила данную на боярина Даниила Русановича. Есть и другие аналогичные упоминания[389]. При исследовании актов дарения земли женщинами — данных и вкладных грамот в пользу монастырей[390] — немаловажным вопросом является определение частоты самостоятельных процессуальных действий женщин. Рассматриваемая с точки зрения определения субъекта, совершившего акт дарения, совокупность грамот (104) распадается на три группы актов: 1. Дарения во исполнение воли умерших мужей или других родственников мужского пола, например свекра (29). 2. Совместные с мужем, отцом и родственниками мужского пола дарения (24). 3. Самостоятельные действия женщин (51 грамота). Тот факт, что последняя группа включает половину всех грамот данного комплекса, — серьезный аргумент в пользу распространенности процессуальных действий женщин, не зависимых от других членов семьи. Однако и наличие большого числа дарственных, составленных «по приказу», «по благословению» родственников, и прежде всего мужей (27 %), не может служить аргументом в пользу тезиса о несамостоятельности женщин и их недееспособности. Составление таких грамот было вызвано, вероятно, тем, что вдова становилась распорядительницей и управительницей всего оставшегося после смерти мужа хозяйства, подчас разоренного. Нередко женщины, как далее увидим, были вынуждены передавать имения своих мужей за их же долги. Примечательно, что некоторые из дошедших от XV в. документов отразили и альтернативные ситуации, когда муж «дает» недвижимость «по слову» жены. Например, некий Иван Дмитриевич передал в монастырь село Перцово «по Евдокеину слову Даниловой жены». В грамотах первой группы имеются три упоминания о передаче женщинами земли в пользу монастырей «по приказу» матери или свекрови. В двух из них исполнительницей воли умершей является Мария Боровская, в третьей — Елена Кормилицына дарит одну из трех деревень, полученных от матери[391]. Небезынтересна и вторая группа актов, являющихся совместными дарениями (24): с мужьями–8, с сыновьями–11, с мужем и детьми (в том числе и с дочерьми)–3, с матерью–2. Определенное распространение имели, по-видимому, и совместные дарения отца и матери своим детям[392]. Формально добровольный акт дарения в действительности оказывался результатом длительных предшествующих экономических отношений между земельными собственниками — участниками сделки. Например, одна из вкладчиц, Акулина (Голтяева?), совершая с сыном акт дарения недвижимости в Переяславском уезде, обусловливает свои действия обязательством со стороны монастыря уплатить долги своего мужа «Ондрея» на сторону — «десять рублев… Марье Федорове с тое земли». В другой грамоте дарение монастырю — скрытая уплата долга ему. Некоторые вкладчицы, например Анастасия (Саларева) и княгиня Евдокия, жена князя Дмитрия Ивановича Донского, ставят условие, запрещающее отчуждение кому-либо, кроме них самих подаренных монастырю земель («а будет им те села продати, и им мимо меня, Настасьи, тех сел не продати»)[393]. Подобное условие, затрудняющее мобилизацию земельной собственности монастырем, рисует женщин дальновидными политиками в области экономики феодального хозяйства: они, по-видимому, предусматривали возможность «распыления» семейной вотчины «при животе» и после смерти вкладчицы и хотели это предотвратить. В то же время перед нами достаточно распространенная клаузула, встречающаяся отнюдь не только в «женских» актах. В рассмотренной совокупности документов о дарениях недвижимости знатными женщинами 11 пожалований сделали духовные лица: монахиня, старицы, черницы, инокини; 1 — «посадница» Марфа Борецкая, 3 — боярыни, 25 — княгини и великие княгини. В тексте остальных грамот (64) нет упоминаний о социально-классовой принадлежности вкладчиц, но косвенные данные позволяют установить, что они либо княгини, либо своеземицы (если грамоты новгородско-псковского происхождения)[394]. Примыкающая к группе данных и вкладных группа жалованных грамот представляет интерес с двух точек зрения. С одной стороны, жалованные грамоты являются ценным источником по истории иммунитета и помогают воссоздать картину судебно-фискальных прав привилегированных владелиц земли, ибо, как указывал К. Маркс, в феодальную эпоху высшая власть в суде была атрибутом земельной собственности[395]. С другой стороны, жалованные грамоты (в том числе жалованные-данные-тарханные и жалованные-данные-льготные), закреплявшие разными путями переход недвижимости во владение феодалов, так же как и обычные, вкладные, характеризуют правомочность женщин в области передачи (во владение, в пользование, в собственность) земельных владений. Среди 67 рассмотренных грамот[396] такие грамоты (24) составляют около 36 %. Две из них являются совместными с мужьями пожалованиями сел (данными)[397]. Остальные представляют собой самостоятельные дарения монастырям деревень (2), сел (9), монастыря (3), пожень (2), волости (1), двора в городе (1), пустошей (1), леса (1), участка земли (1). Пожалование волоцкой княгини Иулиании Михайловны именно светскому лицу и к тому же женщине — Ульяне Баламутовой с сыном[398] — единственное в своем роде, хотя в грамотах другого рода встречаются упоминания о родственных дарениях женщины женщине[399]. Причинами заключения сделки примечательна жалованная грамота жены волоцкого князя Бориса Васильевича («княгини Борисовой»), которая, как и упомянутая вкладчица Акулина (Голтяева?), передала недвижимость монастырю с обязательством выплаты им «княгине Борисовой» — Ульяне Михайловне всех пошлин и 4 руб. своего долга[400]. Небезынтересно обратить внимание на персонифицированную атрибуцию жалованных грамот, составленных женщинами. В отличие от данных все жалованные грамоты, которыми мы располагаем, исходят от княгинь (14) и великих княгинь (53), причем большинство (37) из них — от великой княгини Марии Ярославны, а 9 составлены «по приказу великие княгини Софьи». Кроме того, мы располагаем 10 грамотами самой Софьи Витовтовны. Объем прав вдовствующих великих княгинь на недвижимость определяется обычно в духовных грамотах их мужей (примером могут служить духовные Дмитрия Донского, Василия Дмитриевича, Василия Васильевича). Каждая великая княгиня получала со смертью супруга во владение удел — часть великокняжеской, государственной территории. От него принципиально отлична феодальная собственность великих княгинь, о которой духовные грамоты говорят: «А в прикупах и примыслах вольна: кому восхочет дати, ино тому и дасть»[401]. Акты дарения и передачи недвижимости монастырям свидетельствуют о значительных «примыслах» и «прикупах» княгинь, которыми они свободно распоряжались. Преобладание дарственных, исходящих от женщин самого высокого социального ранга, объясняется не только их положением в обществе, но и наличием у них значительных (по сравнению с другими женщинами привилегированного сословия) денежных средств. Значительную группу актов, связанных с продажей земельных владений женщинами, представляют 33 купчие грамоты[402]. Судя по этим грамотам, продажа недвижимости женщинами светским лицам — явление более распространенное, чем пожалования им (20 актов из 33). Ранний случай возмездной передачи недвижимости именно женщиной — продажа Анной Радивонковой некоему Петру Радцеовскому своей «деднины» и «вотчины» в 1359 г.[403] Среди названных 33 актов лишь в двух упомянута продажа земли вдовой. Однако факт относительно большого числа документов (11), где в качестве субъектов сделки упомянуты матери с детьми, предполагает, что подобные совместные сделки делались вдовыми женщинами. Подтверждает правильность этого вывода и наличие среди актов продажи недвижимости случаев вынужденной передачи земельной собственности: в одном варианте — за долги мужа, в другом — за долги мужа и «деверня сына»[404]. Необычна и единственна в своем роде продажа села Кириллова Волняницкого сестрами Феодосией, Татьяной и Евдокией Яковлевыми[405]. Рассматриваемые грамоты отразили 5 совместных возмездных передач супругов, 11 самостоятельных продаж замужними женщинами; 3 акта говорят о сделках, заключенных женщинами — духовными лицами (в одном случае черницей Марфой, причем землю ей «отводил Семен вместо матери своей Марфы»[406]). При отводе земель лишь в одном случае из 33 «ялася Василиса сама», еще в одном — супруги вместе, в остальных — специально оговоренные в акте люди[407]. Следует отметить такую форму возмездной передачи (недвижимости, как «дача в куплю», предполагающая уплату за землю некоторой суммы, по-видимому меньшей ее действительной стоимости. Покупка такого рода позволяла женщине — продавцу недвижимости владеть проданной землей «до живота» с потерей права на распоряжение проданным имуществом. Примером может служить приписная грамота к духовной великого князя Василия Васильевича: «…что ми дала Настасья Федорова Андреевича… а держати ей за собою до своего живота, да что ми дала ее Орина Олексеева, жена Игнатьевича, свои села на реце… в куплю же до своего жизота… А княгини моя по моим купчим грамотам отдаст им цену за те села по их душе, кому они прикажут опосле живота взяти…»[408] Интересную ситуацию рисует и новгородская купчая XV в.: «Се купил Филипеи Семеновиць у Ульяне, у своей жены, и у ее зятя, у Нафлока, и у его жены Марьи землю Сенькинскую… и двор за рекою… и дал им на ней Филипеи два рубли да овцу пополонка… А купил себе в одерень и своим детям»[409]. Эта купчая свидетельствует о раздельности собственности супругов в семье, и ее появление можно объяснить, если предположить, что покупателем в этой сделке был супруг Ульяны во втором ее браке. Не случайно в числе продавцов «земли Сенькинской» упомянута Марья, названная женой зятя Ульяны. Будь эта Марья общей дочерью Ульяны и Филиппа Семеновича — зять Нафлок приходился бы зятем и покупателю. Между тем в грамоте подчеркнуто, что он лишь «ее зять». Совместность сделки Ульяны с зятем и дочерью убеждает в правильности предположения, что первого мужа Ульяны уже не было в живых и доставшиеся от него дочери с зятем и вдове земли продавались в новую семью Ульяны — Филиппу Семеновичу. Возможно, отец Марьи оставил ей эту вотчину в качестве приданого, но при жизни матери (Ульяны) дочь — даже замужняя — не имела права ею распоряжаться. Родственные продажи в целом не являлись редкостью, продавцами в них часто выступали свекровь или теща[410]. Видимо, у Филиппа Семеновича были и свои дети от другого брака, ведь землю он покупал не только себе, но и им «в одерень». Таким образом, эта новгородская купчая иллюстрирует упомянутую ст. 94 РП о правах на «отчину» наследников от разных браков. Купчие, отразившие продажу недвижимости женщинами, свидетельствуют о разнообразии правовых норм, в которых проявлялась мобилизация земельной собственности, а это в свою очередь важный аргумент в пользу развитости феодального базиса и его надстройки. Один из актов, где речь идет об «уступке» игуменьей суздальского Александровского монастыря Ириной Спасо-Евфимьеву монастырю ржаной и овсяной нив, рисует картину обусловленной продажи: Ирина передавала земли монастырю, который был обязан «давати» ей «на всякий год за те нивы по двадцети четвертей ржи, да… овса, да по пяти ведер рыб соленых». Срок истечения условий купчей (выплаты оброка) в тексте не указан («на всякий год»). Возможно, если бы это условие было для игуменьи Ирины пожизненным, оно в грамоте было бы оговорено, как это сделано в купчей Андриана Федорова у Фетиньи Воронцовой: «…до своего живота». На сложные экономические отношения между земельными собственниками (среди которых и полноправная женщина!) указывает акт 1440 г. из архива Троице-Сергиева монастыря: князь Дмитрий Юрьевич Красный купил у Фетиньи, жены Ивана Юрьевича, «селцо Воробьевское», но он его «дал Фетиньи жити и с деревнями до ей живота»[411]. Такая продажа ставила жену Ивана Юрьевича в выгодное для нее положение: получив «триста рублев московьским серебром да шюбу кунью пополнка», она имела возможность пожизненно пользоваться проданной землей. Поиск ранних свидетельств эволюции имущественных прав знатных женщин в эпиграфическом материале привел к выводу, что большинство документов такого рода (10 из 33 купчих) — новгородско-псковского происхождения, т. е. относится к Северо-Западу Руси, где развитие товарно-денежных отношений, не нарушенное ордынским вторжением, было особенно интенсивным. Правда, при этом следует учитывать и худшую сохранность источников в Центральной Руси. В развитии феодального права важную роль играл и внешний фактор — соседство с теми русскими землями, которые тогда оказались под властью Литвы. Это способствовало завершению имманентно идущих процессов, ибо право Северо-Западной Руси развивалось во взаимодействии с эволюцией права польско-литовского[412]. Вот почему обнаруживается немало аналогий как в формуляре купчих, так и в самих ситуациях, отразившихся в документах о продаже женщинами земельной собственности, в западнорусских землях и на территориях Малопольши и Литвы[413]. Если считать доказанной дееспособность женщин привилегированного сословия в заключении актов дарения и продажи недвижимости в XIII–XV вв., тo можно с очевидностью предположить, что в то время женщины свободно совершали также обмен и раздел земельной собственности, хотя документов, отражающих сделки такого рода, совершенные женщинами, значительно меньше, чем данных, жалованных и купчих. Так, в распоряжении исследователя 9 грамот об обмене и 5 раздельных[414], причем наиболее раннее упоминание об обмене соответствует во временном отношении появлению актов продажи и пожалования (псковская грамота второй половины XIV в.[415]). В документах встречаются случаи обмена «окладом на оклад», доплаты женщинами некоторой суммы за полученные в результате обмена земли. Например, М. Росовая за полученное ею имение в «Червоной Руси» — село Куропатники доплатила «40 копъ» (грошей)[416]. В четырех актах сделка совершается женщиной самостоятельно, в одном — совместно с мужем, в трех — с детьми. Есть два акта со сделками между родственниками: Андрей Дмитриевич менялся землями с матерью, а Василий Дмитриевич выменял у матери села в Юрьеве. Подобные сделки были достаточно распространенными, ибо являлись одним из способов «округления» разбросанных владений[417]. Достаточно вспомнить дельные (раздельные) грамоты, где в таких сделках участвовали женщины (6 документов), чтобы убедиться, что случаев обменно-раздельных операций между родственниками (и женщинами в их числе) было немало[418]. К вопросу о дееспособности женщин в области сбыта имущества относится и реализация их права на заклад и залог недвижимости, ибо женщины привилегированного сословия, несомненно, обладали этим правом. Так, в одном из документов некая Офимья, Стефанова жена, закладывает свою «отчину» на Русском Севере Феодосию Никитину сыну; в другом — княгиня Ирина, жена князя Семена Ивановича, участвует в аналогичной операции с землями в Дмитровском уезде. Ряд актов свидетельствует о подобных действиях женщин на территории западнорусских земель[419]. В тексте этих документов не содержится никаких ограничений прав женщин на заклад принадлежащих им земель; лишь в одном акте упомянуто согласие мужа на совершение сделки[420]. Рассмотренный материал об участии женщин в дарении, продаже, обмене, залоге недвижимой собственности подтверждает правомочность представительниц господствующего класса в имущественной сфере (см. Прил., табл. 1). Вопрос о правомочности и дееспособности женщин привилегированного сословия охватывает и область приобретения недвижимого имущества в его основных формах: получение в дар (безвозмездное приобретение), купля и получение в качестве приданого или наследства. Документов, отражающих акт пожалования (или дарения) женщинам, немного (16)[421]. В общей совокупности жалованных и данных грамот акты о дарении светским, частным лицам составляют незначительную часть. Один из наиболее ранних актов подобного рода — данная Мавре Корякиной на Узменские пожни в Бежецком Верхе 40-х годов XV в. (если не считать косвенное указание о пожаловании женщине в одной из духовных)[422]. Среди грамот, упоминающих женщин, которым сделаны родственные пожалования, в двух получателями являются игуменьи, а три представляют родственные дарения: в одном случае — отца, в другом — супругов своим дочерям, в третьем — свекрови невестке. Среди родственных дарений примечательна передача Есипом Пикиным половины деревни Талицкой во владение «до живота» жене без права распоряжения: после ее смерти эти земли надлежало отдать монастырю[423]. Остальные документы отражают вассальные отношения между землевладельцами и женщинами-собственницами. Мало дошло до нас актов, отражающих покупку земельной собственности женщинами, хотя первое упоминание о таких действиях женщин относится к началу XIV в.[424] Пока известно 14 таких свидетельств[425]. Ни в одной из дошедших до нас купчих грамот (4) не упоминается как обязательное условие согласие мужа или родственников по мужской линии на заключение сделки, которое было непременным по польско-литовским законам[426]. Покупки совершались на собственные деньги женщин («на женни куны»). «…Дала есмя ему на той трети… земли… пять рублев да пополонка вол. А купила есми ту землю себе и своим детем впрок без выкупа…» — свидетельствует Елена Жабина. Варвара, жена Герваса, перекупила у мужа за сто гривен села Толмачи и Журково. Княгиня Иулиания купила у сына «селце Михайловское». Треть всех свидетельств о покупке земель женщинами связана с именами великих княгинь и приобретениями комплексов близлежащих к их уделам земель[427]. Наиболее распространенным способом приобретения недвижимой собственности женщинами было получение ее в приданое и наследование по отцу, мужу и другим членам семьи. Незамужняя женщина, пока был жив отец, находилась в материальной и личной зависимости от него и имела ограниченные имущественные права не только на распоряжение, но и на владение недвижимостью. После смерти отца, а тем более обоих родителей происходили существенные изменения, касавшиеся получения женщинами части оставшейся после родителей недвижимой собственности. Рассмотренные формы реализации и приобретения земли женщинами не привлекали к себе специального внимания. Вопросы, связанные с получением в приданое недвижимости представительницами господствующего класса, получили некоторое отражение в работах буржуазных историков и правоведов, которые исходили в основном из свидетельств более позднего времени (XVI в.). В досоветской историографии утвердилось однозначное мнение относительно прав на приданое в виде недвижимой собственности: приданое в лучшем случае «составляло собственность семьи, будучи назначено на удовлетворение материальных ее потребностей». Под этим подразумевались собственность мужа на женино приданое и право распоряжения им[428]. Чтобы определить возможно точнее широту прав женщин на свое приданое, необходимо выяснить: кто пользовался приданым, каковы были пределы этого пользования, а также судьбу приданого после брака. Для этого обратимся к актовому материалу XIV–XV вв., ибо самое раннее и уникальное свидетельство — рядная Тешаты и Якима середины XIII в. — не дает ответа на поставленные вопросы. В нашем распоряжении имеется 21 документ, прямо или косвенно отражающий акт получения приданого или пользования им[429], причем в 12 случаях упоминание о приданом встречается в духовных грамотах. В четырех из них дочери приобретали по завещанию родителя не часть земельной вотчины, а лишь «приданых людей» и движимость. В двух случаях причина подобного явления кроется, по-видимому, в малолетстве дочерей, когда выдача их замуж — дело далекого будущего и забота оставшихся в живых родственников: «А дочерь мою Овдотью жена моя и мои дети дадут замуж изобчя…» В третьем случае — в духовной троицкого чернеца Вассиана Уварова — все родственники, в том числе и сыновья, получали лишь движимое наследство. В четвертом же дочь завещателя была уже замужней, и часть отцовской «отчины» получал ее муж, которому, кстати, завещатель «приказывал» и жену свою вместе с другими детьми[430]. Имеется еще одна грамота, в которой упоминается приданое в форме движимости: волоцкий князь Иван Борисович сообщал в своей духовной, что он «истерял» приданое своей «сестрични» (племянницы), в котором были «платья и суды», и за эту оплошность завещает ей некоторую движимость. Поскольку в грамоте речь идет о племяннице, а не о дочери и к тому же само упоминание косвенное (быть может, «сестричня» располагала и «придаными» землями?), то на основании этого документа нельзя предполагать какое-либо ущемление прав дочерей при получении наследства[431]. Тот факт, что в большинстве случаев приданое в форме движимого имущества получали сами дочери, а не только их мужья, не может вызывать сомнения. В перечне завещаемого дочерям движимого имущества значительную часть составляют женские вещи: украшения, шубы, «чепи» из драгоценных металлов (при замужестве великих княгинь, начиная со свадьбы дочери Ивана III Елены, составлялись специальные описи царского приданого[432]). Полученные в качестве приданого денежные средства использовались для земельных приобретении[433]. В то время как западные современницы древнерусских женщин получали приданое чаще всего в виде денег, движимости[434], в русских документах содержится немало примеров получения в качестве приданого недвижимой собственности. «Придаными» землями в актах названы село Елизаровское Олены, жены Андрея Михайловича Плещеева; деревня Задешинская, которую Мавра Корякина передала монастырю; деревня Болдинская Мавры Румянцевой, отданная ею по завещанию сыновьям Василию и Долмату; деревня Ворохобьино, данная в «придании» дочери Ульяне троицким старцем Феогностом[435]. В других грамотах передаваемые по завещанию дочерям земельные массивы, хотя и не названы прямо «придаными», являлись тем не менее таковыми. Прежде всего это земли, упоминаемые в духовных знатных женщин как принадлежащая именно им собственность, отличная по характеру от «примыслов» и «прикупов»[436]. Потенциально «придаными» землями можно назвать и такие, которые упоминаются в духовных как будущее приданое дочерей: «А что волости за княгинею за Ульяною, ис тых волостии дети мои… дадут дчери ее Сурожик, село Лучиньское…» Или в другом акте: «…тщери своей Екатерине как взростет велел есми ей дати сыну своему Захарью деревню Ботвиньево». Есть и другие свидетельства подобного рода[437]. Двинская купчая иллюстрирует ситуацию, когда «дети», братья, уже отдали «ю (сестру. — Н. П.), како си могуть»: «…село… Фофановское со всеми угодьи… Федоре дали братья Аврам и Яков отчину свою…»[438]. В актах описана и такая ситуация, когда завещанные женщинам земли могли после их смерти переходить во владение не зятю, а внуку, т. е. и являться приданым, и входить в парафернальное имущество. Например, отец-завещатель передавал незамужней дочери в пользование часть своей вотчины на срок «до ее живота, а по животе, ино внуку моему князю Василию»[439]. Еще один вариант можно назвать нереализованным приданым. Так, верейский и белоозерский князь Михаил Андреевич в первой духовной, составленной в 1486 г., завещал дочери Анастасии «в Ярославском уезде свои два села», оговаривая незыблемость ее прав на земельную собственность: «А будут те селца надобны моему господину великому князю, и господин мой князь велики даст моей княгине Настасье в тех земель место свои земли». Однако в духовной, написанной позже, Михаил Андреевич завещал Анастасии только «триста рублев», не упоминая никаких сел[440]. Возможно, что к тому времени ярославские села уже перешли во владение Анастасии Михайловны в связи с ее замужеством (в последней духовной фигурирует «зять Осиф»). Отмечая свидетельства самостоятельного распоряжения «придаными» землями (пожалование монастырю, завещание) замужними женщинами и случаи их совместных с мужьями акций (продажа, пожалование «по приказу» матери, дарение сыну)[441], мы не обнаружили фактов неограниченной власти супруга над жениным приданым. О приоритетных правах женщин на собственное приданое говорит и судьба приданого при прекращении брака: оно по закону переходило чаще всего к детям, а в случае бездетности возвращалось родителям[442]. В реальной же жизни муж и жена в отношении приданого составляли нередко единое юридическое лицо или находились в совладении (имели «свои половины») на протяжении всей совместной жизни[443]. Не случайно и в формуляре грамот, связанных с совместным распоряжением приданым в форме недвижимости, появляется указание на согласие жены в общей супружеской сделке: «А что жены моей село Елизаровское приданое в Переяславском уезде, и мы, со своею женою Оленою поговоря, дали есмя по любви то село… сыну своему…»[444] Разумеется, одним из главных путей приобретения недвижимости замужними женщинами было наследование ими части «отчины» по мужской и женской родственным линиям[445]. В случае если завещатель передавал «по душе» все наследство монастырю, родственники (в том числе жены) получали лишь движимость. Иногда такая сделка оформлялась следующим образом: «…што в моем селе да и в деревнях, и то серебро прикащики мои зберут, да дадут жене моей»[446]. Большая группа документов о наследовании земельной собственности представительницами господствующего класса связана с получением ими земли по завещанию мужа (34), отца (14), матери (2), свекрови (5), брата (1), дяди (1). Некоторые знатные женщины «отказывали» свои земли внукам, племянникам, сыновьям; другие — передавали их «по душе» монастырям (таких духовных 5 плюс 16 упоминаний в других актах)[447]. Наследование по отцу[448] прямо и непосредственно связано с приданым; наиболее раннее упоминание в актах об этой форме наследования — середина XIV в.[449] В ряде случаев передача земельной собственности замужней дочери сопровождалась упоминанием и о ее муже, т. е. наследуемая часть вотчины давалась супругам в совладение[450]. Это, однако, не было следствием действия каких-либо нормативных установлений или обычного права. В каждом конкретном случае завещатель поступал так, как того требовали интересы сохранности и целостности земельного владения. Например, распространенной формой приобретения знатными женщинами земли во Пскове (как, впрочем, и в других регионах Руси) было получение ее «в одерень», т. е. в не ограниченную какими-либо условиями собственность, предусматривающую право дальнейшего распоряжения приобретенной землей. Передача земли «в одерень» «дочки своей Марфы» встречается в духовной Анцыпора. Марфа, по-видимому, была либо старшей из его дочерей, либо в ином по сравнению с сестрами гражданском состоянии (возможно, она — дочь Анцыпора от первого брака): «…а дочкам моим Анне ни Оксеньи не вступатись им в мое данье ни во что же…»[451], т. е. они ничего не получили по духовной. Юридический статус, на основании которого производились земельные передачи от отца к дочерям, не исчерпывался передачей им земли в совладение и в безусловное пользование. Существовал обычай и передавать землю «в кормлю», бывший как бы промежуточной формой между первыми двумя формами наследования по отцу. При передаче земли но завещанию между ближайшими родственниками (особенно между мужем и женой) это была одна из наиболее распространенных форм сделок. Например, Никита Хов, автор духовной конца XV в., оговаривает передачу сел своим дочерям и «внуке» так: «А изнесутца… дочка моя и внука моя, ино то село даю святому Николы… себе на память… А что село мое Кустово седенье, то даю дщери своей Софьи до ее животу»[452]. Итак, перед нами три формы наследования женщинами земель по отцу: передача земли в совладение, «в кормлю» и в безусловное пользование и распоряжение. В нескольких документах о наследовании отцовской недвижимости[453] не удалось установить форму передачи и обусловленность сделки. Один из таких актов — новгородская рядная XV в. — раскрывает преимущественное право женщин на основную часть наследуемой «отчины»[454]. На основании текста этой рядной может быть построено несколько вариантов генеалогических схем семьи, в ней упомянутой[455]. Однако в любом случае казус, описанный в документе, необычен: некой Огруфене Федоровне удалось получить ⅚ земельного наследства, в то время как ее племяннику и, возможно, даже родственнику по мужской линии рода досталась лишь ⅙ наследства (7 обеж). Эта новгородская грамота подтверждает приоритетные права старших дочерей перед младшими на завещанные земли и вместе с тем не противоречит характерной для феодальной юриспруденции тенденции предоставлять при получении наследства преимущественные права сыновьям и родственникам по этой линии[456]. Права наследования по другим родственным линиям — брату, дяде отразились в небольшом количестве документов, что не дает возможности сделать далеко идущие выводы. Несомненно одно: данные акты подтверждают, что женщины, в том числе и являвшиеся непрямыми родственницами (например, племянницы), тоже располагали правом получения наследства — части общей семейной земельной собственности (особенно в случае отсутствия прямых наследников — мужчин)[457]. Это утверждение расходится с высказанным ранее мнением об отсутствии у женщин — непрямых родственниц прав на наследование части семейной вотчины. Считалось, что они наследовали только приобретенные ими самими земли, которые при жизни завещателя составляли часть общего семейного имущества[458]. Между тем духовная грамота волоцкого князя Ивана Борисовича свидетельствует о разделе недвижимости между родственниками-мужчинами (братом, дядей) и племянницей[459]. «Село Ощитники и з деревнями», данные ей по духовной грамоте, представляли собой особое имущество, полученное ею только по наследству, так как растраченную завещателем часть общей семейной движимой собственности, которая ей принадлежала, он компенсировал тоже движимостью. Мы располагаем и упоминаниями о составлении духовных женщинами[460], однако в большинстве актов либо вовсе не указан субъект, получавший наследство от матери, либо таким субъектом являлись мужчины, чаще всего сыновья. Свидетельств о наследовании недвижимости женщинами по матери и свекрови хотя и немного[461], но они позволяют сделать одно немаловажное наблюдение. В духовной грамоте великого князя Василия Дмитриевича читаем: «А что села княгининские пошлые, то ее и есть, а ведает те села… княгиня моя, доколе, бог даст, женится сын мой, а потом ино даст те села сына моего княгине, своей сносе, которые были издавна за княгинями…» В грамоте упоминаются и переданные когда-то жене Василия Дмитриевича село Малино «з деревнями» и село Репенское, завещанное в свое время матерью Василия Дмитриевича Евдокией своей невестке[462]. Упоминание о существовании в общей семейной земельной собственности некоторой части, передаваемой традиционно по женской линии рода, позволяет объяснить нередкую передачу представительницами господствующего класса земельного имущества именно невесткам, причем в их личную собственность, а не в совладение с мужьями или сыновьями[463]. Остальные грамоты[464] служат подтверждением уже высказанных положений о распространенности передачи недвижимости в совладение и «в кормлю до живота». Определенный интерес при изучении наследования земли женщинами по женской линии представляет духовная Софьи Витовтовны, поскольку в ней среди наследников упомянуты родственницы не только по нисходящей, но и по восходящей линии (свекровь, великая княгиня Овдотья)[465]. Анализ духовных знатных женщин позволяет выделить некоторые общие черты, присущие таким документам. Они составлялись при жизни, «при животе» наследовательницы. Чаще всего это выражалось в формуле: «Се яз… (имя рек), ходя при своем животе…»[466] В случае отсутствия завещания в письменном виде родственницы наследовали по закону, и действовали при этом,по-видимому, общие правила. Во всех духовных представительниц господствующего класса объектом распоряжения является земля и движимость (в некоторых случаях). Примечательно, что знатные женщины в своих духовных нередко назначали правоприемницами после своей смерти женщин же, прежде всего дочерей, реже внучек, племянниц, сно[467]. Доказательство тому — относительно большое число пожалований и другого рода сделок и дарений, совершенных «по приказу матери своее» или реже «тетки»[468]. Основную группу упоминаний о наследовании имущества женщинами в духовных грамотах и актах другого рода составляют сведения о наследовании по мужу–36 документов[469]. Среди них 5 являются завещаниями великим княгиням, 9 — удельным княгиням и княжнам, 22 — представительницам привилегированного сословия, мелким земельным собственницам. Многие документы свидетельствуют о том, что завещатели передавали своим женам в наследство земельную собственность лишь «до живота» их (до того, как «изнесется княгиня моя»), а не в полное их распоряжение[470]. В соответствии с нормами, установленными еще РП, недвижимость, которую наследовали женщины, в случае их смерти или вторичного замужества завещатели просят передать либо сыновьям и братьям, либо дочерям, либо монастырю «по душе» их, либо глухо констатируют: «А пойдет замуж, ино ей не дати участок ничего, и участка ей в земли нет»[471]. Досоветские исследователи считали передачу недвижимости «в кормлю» одним из наиболее ярких свидетельств неполноправия женщин в имущественной сфере[472]. Между тем изучение структуры наследуемой женщинами семейной «отчины» позволяет утверждать, что «в кормлю» передавалась лишь особая, строго определенная часть всего земельного наследства, которая в каждом конкретном случае могла быть и больше, и меньше остальной наследуемой женщинами земельной собственности, на которую они имели все права, могли ею распоряжаться и завещать по своему усмотрению. Особенно ярко это иллюстрируют документы, где речь идет о крупных земельных вотчинницах, и прежде всего великих княгинях. Мы уже видели, как представительницы господствующего класса распоряжались недвижимым имуществом: дарили, жаловали, обменивали, продавали и покупали. Имущество, которое они получали в качестве подарка или приданого, было объектом их бесконтрольного распоряжения («оприснь делу», указывалось в таких случаях в актах[473]). Эти земли имели черты, присущие аллоду; хозяйство на этих землях велось силами закабаленных крестьян и несвободных людей[474]. Иной характер как в юридическом, так и в социально-экономическом отношении имели наследуемые женщинами земли, не являвшиеся их частной феодальной собственностью. У великих княгинь такие земли составляли особый, прижизненный удел. В него входили деревни, села, волости, традиционно принадлежавшие вотчиннице при жизни и передававшиеся по завещанию из поколения в поколение («дедина», «отца моего вотчина»). Обычно эти владения выделялись в земельных массивах одного или нескольких сыновей, причем завещатель указывал на обязательность передачи их после смерти владелицы обратно в родовую вотчину[475]. В составе удела могли быть купли и другие приобретения мужа. «А что… Новое селце, что есмь купил, и Олександр святый, что есмь купил на Костроме, то даю княгини своей», — завещал Иван Калита. «Примыслы» и «прикупы» мужа могли со специальной оговоркой переходить и в полную собственность княгинь: «А теми примыслы всеми благословляю княгиню свою, а в тех примыслах волна моя княгиня, сыну ли которому даст, по души даст. А дети мои в то не въступаються…»[476] Объем прав великих княгинь на данный «до живота» удел, состоявший из традиционно наследуемой земли и «прикупов» супруга, сводился к осуществлению на его территории функций государственной власти (право управления, суда, податей, фиска) без вмешательства каких-либо представителей великокняжеской администрации. Но земли данного «до живота» удела нельзя было продать, заложить и передать по завещанию. Важной отличительной чертой прижизненных уделов было то, что они включали области с преимущественно черным крестьянским землевладением. Крестьянское население и мелкие вотчинники этих уделов подчинялись юрисдикции великих княгинь[477]. Существенное значение имеет вопрос о том, что жаловали знатные женщины: лично им принадлежащую недвижимость или же лишь земли, переданные им во временное владение? Заметим, что купли, продажи, обмены и другие сделки осуществлялись только с частной феодальной собственностью. Сохранившиеся в монастырских архивах жалованные грамоты великих княгинь и по содержанию документов, и по их формуляру аналогичны жалованным грамотам великих князей. Среди них имеются пожалования земли как «по своей душе», так и «по приказу мужа», «по государя своего грамоте», «по благословению государя своего» и т. п. Если земли не входили в состав неотчуждаемого удела княгинь, то передача их специально оговаривалась в духовнои супруга[478]. Чаще всего при наследовании родительской вотчины явный приоритет имели сыновья. Но во многих духовных «части» земель, наследуемые женой и сыновьями, либо вовсе не разделялись, либо были приблизительно равны, а иногда выдел матери превышал выдел каждого из сыновей[479]. Князь Семен Иванович Гордый весь свой удел, полученный от отца, с прикупленными в Переяславле, Юрьеве, Владимире, Костроме селами даже при наличии родственника-мужчины (возможно, сына, упомянутого в грамоте) безусловно передал своей жене[480]. Есть и альтернативные ситуации, например такой дискриминирующий собственнические права женщин казус: завещатель, не имевший сыновей, предпочел передать основную часть вотчины «по душе» монастырю, а не жене, сделав при этом следующее примечание: «А, даст бог, родится у моей княгини сын, благословляю сына своего своею отчиною. А по души даю в Омифов монастырь свою вотчину, волость Буи город… и сын мой у тех монастырей те земли выкупит…»[481] Тем не менее женщины, и прежде всего жены, входили в целом в первый ряд наследников. Не случайно, предвосхищая возможность разорения земельного выдела княгинь ордынцами, завещатели указывали: «Вам, сыном моим, княгини поделите вы ся опять тыми волостьми на то место». В случае смерти одного из сыновей мать получала часть его земельного наследства, причем именно на нее возлагалась обязанность «поделить того уделом сынов»[482]. Итоги анализа 97 актов XIV–XV вв. и упоминаний в них о правах женщин привилегированного сословия на приобретение недвижимой собственности сведены в обобщающую таблицу 2 (см. Прил.). Среди различных способов получения женщинами привилегированного сословия прав на недвижимую собственность необходимо отметить и участие жен и вдов феодалов в процессе колонизации. В рассматриваемое время она осуществлялась главным образом на землях Русского Севера, Обонежья и Подвинья. Новгородские феодалы быстро прибирали к рукам эти окраинные и малонаселенные районы путем простой экспроприации общинных земель, реже покупки. В их числе были Наталья Бабкина, владелица земельного массива в Шунгском погосте Обонежской пятины, и боярыня Анастасия, «жена Ивана Григорьева», увеличившая свои владения за счет волостей в Пудожском погосте в Обонежье и на Емце в Подвинье. Своими, хотя и небольшими, территориальными приобретениями распоряжались в этих районах жены своеземцев, например Мария Федоровна, жена своеземца Остафьева[483]. Но конечно, наиболее колоритной фигурой в истории колонизации Обонежья и Подвинья была Марфа Борецкая. Организация ее владений позволяет отметить некоторые черты, характерные для общей тенденции развития феодальной собственности женщин на недвижимость. На основании описаний владений Марфы Борецкой по материалам Новгородских писцовых книг[484] можно заметить (см. Прил., табл. 4), что владения «посадницы» и на основной территории Новгородской республики были весьма значительны: земельный массив на территории Деревской, Бежецкой, Шелонской, Вотской и Обонежской пятин составлял 91,1 % всей ее земельной собственности[485]. Изучение процесса развития женского землевладения в XIV–XV вв., а также источников о получении недвижимой собственности дает право предположить, что это были земли, полученные либо в приданое, либо по наследству, либо в качестве покупки, либо путем прямого захвата у другого феодала, даже у великого князя[486]. Сам факт владения Марфой основным массивом принадлежащих Борецким земель при наличии совершеннолетних сыновей указывает на распространенность казуса вступления матери в пользование «добытком» по праву старшинства и родительской власти, о чем уже шла речь. Видимо, то, что Марфа не выходила еще раз замуж, позволило ей сохранить основную часть владений мужа в собственных руках, не передавая ее сыновьям. В середине XV в. Марфа Борецкая расширила свои владения за счет Заонежья, о чем говорят сообщения о владении ею Устьонежским поселением («Устьонежской волостью»), а также ее данная с сыном Федором Исаковичем Соловецкому монастырю[487]. Переход земель Обонежья во владение Марфы совершался, по-видимому, путем открытой экспроприации земель у черносошного свободного населения, которое еще в 1434 г. было независимым[488]. В Заонежье находилась значительная часть вотчинных владений новгородских земельных собственниц, с которых они собирали в большинстве случаев денежный оброк. В каждом из владений имелся большой двор, где проживали не сами боярыни-землевладелицы, а представители их администрации. Организация такого большого двора в каждом земельном массиве Борецкой была аналогичной устройству Большого двора в Кострице[489]. Наступление на права черносошных крестьян, прямой захват их земель, осуществляемый представителями администрации вотчины знатных боярынь, рисуют последних как типичных аллодисток, положение и права которых в общей системе социально-классовых отношений мало чем отличались от положения и прав представителей другого пола. Итак, имущественные права и положение женщин, принадлежащих к привилегированным социальным группам, были относительно прочными и регулировались нормами, закрепленными светским феодальным законодательством. Права их на семейное имущество выражались через такие категории собственности, как приданое, определенное парафернальное имущество, часть общего семейного имущества (выдел, «часть») и др. Эти права женщин обеспечивались выдачей приданого при выходе замуж. Приданое было их собственностью, сохранявшейся за ними после смерти супруга и в случае бездетности или отсутствия заблаговременно составленного письменного завещания (наследования по закону) возвращавшейся в семью родителей женщины. В период существования семейного союза в отношении приданого муж и жена составляли единое юридическое лицо и находились в совладении. Гораздо реже женщины самостоятельно реализовывали свое право собственности в отношении этой части семейного имущества, осуществляя с ним некоторые сделки. Последнее особенно относится к тем случаям, когда приданое получалось в форме движимого имущества, прежде всего ценностей и денежных средств. Получение приданого в виде недвижимости находилось в прямой зависимости от положения женщины в системе феодальной иерархии: «приданые» земли упоминаются чаще в тех актах, где субъект-получатель обладает наиболее высоким социальным статусом. В парафернальное имущество представительниц господствующего класса также входила некоторая собственность, в том числе недвижимая, которая могла быть получена в дар, куплена или унаследована. Наличие собственных денежных средств и относительная имущественная самостоятельность замужних женщин делали необязательным указание на соучастие мужа или опекуна в актах сделки (данных, жалованных, купчих). Приданое в форме недвижимости было характерно в основном для XIV–XV вв., но отдельные свидетельства о правах женщин на наследование земельной собственности и на распоряжение ею встречаются уже в конце XIII — начале XIV в. Светские нормативные памятники X–XV вв. свидетельствуют, что некоторые изменения претерпело и право дочерей на получение недвижимости по завещанию, фиксируя переход от права наследования лишь при отсутствии братьев (X–XI вв.) к праву получения равной с ними «части» наследства (с конца XIII в.). Актовый ненормативный материал подтверждает возможность наследования недвижимости дочерьми по отцу, в том числе замужними, которые в этом случае получали земельные массивы в совладение с мужьями. Наследование по отцу незамужними дочерьми предполагало возможность приобретения ими движимого и недвижимого имущества в пожизненное владение («в кормлю») и в не ограниченную какими-либо условиями собственность («в одерень»). Приоритетное право на наследование отцовской вотчины имели прямые родственники-мужчины (сыновья, братья завещателя), при их отсутствии — прямые родственницы-женщины (даже при наличии непрямых потомков по мужской линии, например внуков), т. е. в русском феодальном законодательстве к концу рассматриваемого периода действовал принцип когнатического родства. При отсутствии прямых наследников земельное наследство передавалось в руки непрямых родственников, из круга которых женщины также не устранялись (наследование по дяде, по брату). Вдова при наследовании по мужу приобретала определенные права на распоряжение не только собственным имуществом (приданым, «прикупами», «примыслами»), но и частью общего семейного владения. Право распоряжения частью «отчины» нередко бывало ограничено (до совершеннолетия детей, до вторичного замужества), а иногда было и пожизненным. Величина выдела вдовы по сравнению с «частью» сыновей или дочерей варьировалась. В прижизненный удел, выдел, могли входить и «прикупы» мужа, и традиционно передаваемые из поколения в поколение земли, в частности и по женской линии (бабка — мать — дочь, свекровь — сноха и пр.). Документы, свидетельствующие о существовании наследования по женской линии (по матери, по сестре и т. п.), — доказательство постепенного развития феодального общества и древнерусского права собственности. Наследование по женской линии подчинялось общим принципам наследования и в XIV–XV вв. было достаточно распространенным. При жизни мужа движимая и недвижимая собственность жены находилась в общем семейном владении, поэтому в период существования супружеского союза женщина выступала в большинстве случаев как соучастница в общих с мужем семейных сделках. После смерти супруга вдовы проявляли большую имущественную самостоятельность, однако полномочия их в области права собственности были все-таки ограниченны. Преимущественное право при получении наследства имели наследники-мужчины. Кроме того, они получали части завещанной вотчины в собственность, и, как правило, без ограничений. В нормативных памятниках от Русской Правды до общегосударственного Судебника 1497 г. отразились два основных периода эволюции прав женщин в области права собственности: владения и распоряжения движимым имуществом (X–XIII вв.) и распространения владельческих и собственнических прав женщин на недвижимость (XIV–XV вв.). Древнерусские женщины привилегированного сословия, обладавшие широкими правами в области приобретения движимого и недвижимого имущества, были дееспособны и в области его реализации — в продаже, обмене, залоге, пожаловании. Первые упоминания о распоряжении земельной собственностью женщинами встречаются в эпиграфическом материале XIII в., однако основной комплекс документов, отразивших правомочность женщин в этой области, относится к концу XIV–XV в. Одной из форм приобретения недвижимой собственности на Северо-Западе Руси было участие представительниц господствующего класса в колонизации окраинных и малонаселенных земель. Владения боярынь и других земельных собственниц в этих регионах могли даже превышать размеры их вотчин на традиционно освоенных землях. «Право» на подобные земельные экспроприации они имели постольку, поскольку их социальный статус позволял им осуществлять внеэкономическое принуждение, применяя эксплуатацию чужого труда с целью возможно более значительного повышения рентабельности своего хозяйства. То, что среди актов, раскрывающих право женщин привилегированного сословия на самостоятельное распоряжение земельной собственностью, находятся свидетельства о различных формах сделок, заключенных женщинами, углубляет представление о юридической и процессуальной дееспособности древнерусских женщин, способствуя пониманию основных закономерностей развития феодальной собственности на землю (см. Прил., табл. 3). Распространение права владения и распоряжения недвижимым имуществом на представительниц господствующего класса подтверждает высокий уровень общественного и экономического развития Руси, достигнутый ею к концу XV в., и свидетельствует об окончательном или по крайней мере значительном преодолении дофеодальных пережитков в имущественной сфере древнерусского права. Исследование имущественных прав женщин способствует раскрытию особенностей строения и эволюции феодальной земельной собственности. Можно утверждать, что в основе развития имущественных прав женщин лежало в первую очередь ослабление семейно-родственных связей, усиление тенденции к свободному отчуждению земельной собственности под влиянием развития товарно-денежных отношений.Женщина и суд: преступление и наказание
Характер феодального законодательства на Руси X–XV вв. был предопределен его классовой природой, поэтому общественные права древнерусских женщин должны рассматриваться с учетом социальной иерархичности феодально-сословного государства. Но такую возможность дают в основном памятники светского права, которые позволяют сопоставить степень наказуемости за одно и то же преступление для представительниц различных социальных слоев и классов. Так, Устав князя Ярослава иллюстрирует зависимость меры наказания от статуса женщин в классовом обществе. Церковные же памятники (епитимийная, учительная литература, нормативные акты) чаще всего трактуют эти вопросы абстрактно, и положение «жены» как субъекта церковного права определяется лишь отсутствием холопского состояния. Рассмотрение поставленной проблемы, лимитируемое источниковым материалом, можно условно представить как две группы вопросов: первая — защита прав женщин различных социальных слоев феодальным законодательством и ответственность за преступления, совершенные по отношению к ним как к членам общества и субъектам права; вторая — ответственность самих женщин за преступные действия. В древнерусских памятниках уголовного светского и церковного права зафиксированы различные виды преступлений, совершаемых по отношению к женщинам. Так, на основании РП можно судить о цене жизни представительниц различных классов и социальных групп Древней Руси. Например, штраф за убийство зависимой женщины, согласно РП, колебался соответственно той роли, которую она играла в вотчине феодала. Лишение жизни холопки, стоявшей на низшей ступени феодальной «лестницы», РП наказывала 6 гривнами, но цена ее жизни могла быть и еще ниже, в зависимости от изменений во внутри- и внешнеполитической конъюнктуре. Жизнь холопки ценилась выше, чем жизнь холопа (5 гривен), поскольку холопка была воспроизводительницей рабочей силы для феодала. В «Слове о полку Игореве» южные князья, призывая на помощь суздальского князя Всеволода, восклицают: «…еже бы ты был [здесь], то была бы чага (раба. — Н. П.) по ногате, а кощей (раб. — Н. П.) по резане»! Наивно было бы предполагать, что автор «Слова…» выразил мысль с коммерческой точностью; но приток половецких рабов действительно мог так снизить цену на русских холопов, что они «гроша ломаного» не стоили бы. Ногата и резана — деньги мелкие (1 гривна = 20 ногатам или 50 резанам), т. е. цена на рабынь упала бы в 120 раз, а на рабов — в 250! Большая по сравнению с мужчиной ценность жизни рабыни отразилась даже в поговорке: «Чага — по ногате, кощей — по резане»[490]. К концу XIV в. уставная Двинская грамота князя Василия Дмитриевича оправдала убийство «робынь» их собственными «осподарями»: «…а случиться смерть, в том… вины не емлють»[491]. В случае если рабе поручалось выполнение ответственных функций в вотчине, положение менялось — штраф за ее убийство возрастал в 2 раза: «А за кормилця 12 [гривен]; тако же и за корми [ли]цю, хотя си буди холоп, хотя си раба». Роль кормилицы как воспитательницы детей феодала подчеркивается не только размерами штрафа в законодательстве, но и свидетельствами повествовательных источников[492]. Узаконивая высокую пеню за лишение жизни холопки-кормилицы, РП особо выделяла и положение рабы-наложницы, воспитывающей «робичичей», прижитых ею от феодала, которые, кстати, после его смерти получали (вместе с матерью!) статус свободных людей[493]. На основании РП можно установить, что и штраф за убийство несвободной, но не находящейся в холопском состоянии женщины[494] был равен штрафу за убийство рабыни. Убийство же ремесленницы (термин может быть понят и как «жена ремесленника», и в прямом смысле) каралось уже 12 гривнами[495]. Определение правового положения свободной женщины («жены») на основании РП вызвало полемику ученых еще в XIX в. Единого мнения по этому вопросу нет до сих пор. Причиной тому — возможность двоякого толкования ст. 88 РП: «О жене. Аже кто убиет жену, то тем же судом судити, яко же и мужа; аже будет виноват [а], то полвиры двадцать гривен». Мнение, высказанное в XIX — начале XX в., поддерживалось большинством историков права, а в советской историографии — А. А. Зиминым[496]. Суть его в том, что на Руси, как во всяком феодальном обществе, было узаконено неравное положение женщины, за убийство которой платилась только половина штрафа. Другую точку зрения — известного историка права В. И. Сергеевича — в советское время разделили С. В. Юшков, М. Н. Тихомиров, В. Л. Янин. По их мнению, за убийство женщины судили так же, как и за убийство мужчины, а если женщина была виновата (например, сама участвовала в потасовке), то штраф за ее убийство уменьшался до половины виры (20 гривен против обычных 40)[497]. Не случайно в Пушкинском списке III и IV редакции РП стоит «виновата» вместо «виноват». Подобная трактовка снимает противоречие между двумя частями статьи. И еще одно соображение в пользу мнения о равной вире за убийство мужчины и женщины в Древней Руси: заметим, что в РП платилась одинаковая пеня за лишение жизни ремесленника и ремесленницы, кормильца и кормилицы, раба и рабыни, поэтому и виры за убийство женщины и мужчины, не находящихся в социальной зависимости, если следовать логике, должны были быть одинаковыми. Определенная трудность, возникающая при интерпретации данной статьи, состоит в том, чтобы выяснить, относилось ли вышеуказанное предписание о денежном взыскании за убийство именно к замужним женщинам (по мнению М. Ф. Владимирского-Буданова — к неверным женам[498]) или же вообще к каждой женщине. Последнее представляется более вероятным[499]. Обратимся к другому типу преступлений, известному в юриспруденции как dehonestatio mulieris (обесчещение, оскорбление чести). Оно появилось в русском феодальном законодательстве уже в XI в. и в процессе эволюции приобрело широкую шкалу вариаций. Можно разделить их на две основные категории: оскорбление чести путем совершения какого-либо непристойного поступка, действия и словесное оскорбление. Одним из наиболее тяжких преступлений первой категории было «пошибание» (изнасилование). В иерархии штрафов за него, установленных светским уголовным законодательством, отразилось социальное дифференцирование пострадавших и отсутствие единой ответственности субъектов за совершение преступления. РП не рассматривала этот вид преступления. Но после того как в 1016 г. новгородцы «иссекоше Варягы в Поромоне дворе», когда те начали бесчинствовать в городе («насилие деяти на мужатых женах»), в законах стали подробно оговариваться размеры штрафов в зависимости от социального положения оскорбленных. По отношению к представительницам несвободного населения и холопкам это преступление не влекло за собой уголовной ответственности, если субъект, его совершивший, был владельцем, господином пострадавшей: «…аще же раба от господина… осквернена, несть си греха, а господину ответ дати». В этом случае преступнику назначалось церковное наказание (епитимья): год поститься или же только «ответ дати» представителям клира. В качестве компенсации за моральный ущерб, нанесенный рабыне, церковный закон предписывал ее обязательное освобождение[500]. Это было следствием развития норм РП: на основании одной из статей ее Пространной редакции можно заключить, что наложница обладала правом получения «вольной» лишь после смерти холоповладельца; опираясь же на церковные установления, рабыня могла рассчитывать на свободу и при его жизни («аще кто с робою своею блуд сътворит — освободит рабу свою и постится лето едино»). В случае если субъект, совершивший насилие над рабыней, являлся по отношению к ней лицом посторонним, преступление его было уголовно наказуемым и отвечал он за него на основании светских законов. «Иже с чюжею рабою блудит, аще убо и домовит есть, да даст по той вине господину рабы тоя… аще ли же убог есть, да биен будет» — такое решение предлагали в случае «пошибания» рабыни «Книги законные» — византийский правовой свод, имевший, по мнению А. С. Павлова, немалое влияние и хождение на Руси в XIV–XV вв.[501] Расплата за данный вид преступления была одинаковой как для соотечественников, «русинов», так и для иностранцев. Известно, что договор Новгорода с Готским берегом 1189–1199 гг. одним из первых защитил честь холопок: «Оже кто робу повержеть насильем, а не соромить — за обиду гривна; паку ли соромить — себе свободна». Более поздний документ свидетельствует о еще более строгом наказании: виновник должен был расплатиться уже не гривной кун, а гривной серебра (1 гривна кун = ¼ серебряной гривны). О том, что это предписание о размерах штрафа за изнасилование рабынь соблюдалось, свидетельствуют некоторые акты XV в., исходящие из западнорусских земель. Разница в штрафах за «пошибание» рабынь и «простой чади» (зависимого населения) почти пропорционально соответствовала различию между пенями за убийство женщин этих категорий (изнасилование несвободной женщины каралось 15 гривнами штрафа)[502]. Еще более внушительная кара была установлена за совершение насилия над женщинами свободного сословия. Если в РП 40 гривен ветхими кунами платилось за убийство человека, то в договоре конца XII в. это пеня за обесчещение: «Оже пошибает мужеску жену либо дчерь, то князю 40 гривен ветхими кунами, а жене или мужьское дчери 40 гривен ветхими кунами» (данное сравнение условно: РП являлась общерусским законом, а договор имел локальное действие). Примечательно, что в договоре 1189–1199 гг. за изнасилование свободной женщины вменялся тот же штраф, что и за убийство новгородца: «Аже убьють купчину новгородца… то за ту голову 10 гривен серебра». Соглашение Смоленска с Ригой и Готским берегом XIII в. вполне допускало и убийство прелюбодея на месте преступления: «Оже имуть Русина вольного у волное жены в Ризе или на Гътьском березе, оже убьють, и тът убит…» Аналогичное наказание предусматривалось и за совершение такого преступления на Руси. По-видимому, убийство человека за совершение прелюбодеяния было нередким явлением, поскольку, согласно греческим законам, заимствованным Русью (о «муже, который прелюбодея с своею женою в зплетении застанет»), в «Книгах законных» говорится, что он «не осужен яко убийца будет», «волен есть муж своими руками таковаго убить, никаковая беды сего деля бояся»[503]. «Пошибание» боярских дочерей каралось штрафами, исчислявшимися в золотых гривнах, соотношение которых с серебряными специально оговорено в законе: «…аже будеть баба была в золоте и мати — взяти ему 50 гривен за гривну золота…» Сумма, выплачиваемая за бесчестье боярыни, была значительной: 5 гривен золота — «аже великих бояр дчи», представителям «меньших» бояр платилась 1 золотая гривна. К тому же церковный закон предписывал за «пошибание» девушки непременное заключение брака с нею да еще два года епитимьи. В случае же отказа, «аще ли не кается, не поиметь ея, казнить градским законом: отъяти полъимения и дати девицы той за срам»[504]. Отметим, что польский историк Т. Левицкий обратил внимание на свидетельство арабского автора Абу-Хамида (XII в.), утверждавшего, что на Руси «неуважение, проявленное к знатной женщине, могло караться лишением имущества». О том, что это действительно практиковалось, говорит и «Закон Судный людем»: «…приложися воздвьвящийся прежде 20 лет, да продаеться со всем имением своим и отдается девици». «Закон…» входил, как известно, в «Мерило Праведное», добавившее к взысканиям даже «носа урезание». Денежную компенсацию, а в данном случае все «имение», получали сами оскорбленные женщины, а не их мужья или родственники. Это отличало правовое положение древнерусских женщин от положения их европейских современниц, где сумму за посягательство на честь жены всегда получал муж[505]. В XV–XVI вв. существовала система наказаний за преступления, аналогичные обесчещению, — умыкание, толоку, «блуд умолвкой». В русском законодательстве рассматриваемого времени еще не выделились предумышленные преступные акты (т. е. совершенные с заранее обдуманным и согласованным — например, с родителями — решением), что отличает восточнославянский юридический быт от западнославянского. Ведь, по польским законам XI–XV вв., при определении кары за преступление учитывалось согласие потерпевшей на совершение умыкания[506]. В русских же законах это не предусматривалось, а наказание было и, по-видимому, являлось единым для преступников любого социального ранга[507]. Применялось оно в большинстве случаев к «простым» людям, так как в среде зависимого населения пережитки родового строя сохранялись особенно долго. Меры наказания за «въсхищение» «жены» или «обрученной» были строгими, вплоть до членовредительства, являвшегося характерным не для русских законов, а для византийских норм уголовного права. К оскорблению действием относилось и нарушение целостности одеяния женщины, особенно срывание головного убора: «…оже съгренеть чюжее жене повои с головы или дщери, явится простоволоса, 6 гривен старые за сором» (аналогичная обида, нанесенная мужчине, каралась штрафом в 2 раза меньшим). Загрязнение женских одежд наказывалось, судя по материалам покаянной литературы, несколькими днями епитимьи. Церковное наказание предусматривалось и тем, кто «лукавьством чюжу жену целуеть»[508]. Оскорбление словом как вид преступления второй категории типа dehonestatio mulieris упоминается в Уставе князя Ярослава в связи с казусом ложного обвинения в блудодействе. Обязательность штрафа за словесное оскорбление сочетается здесь с наказанием, дифференцируемым в зависимости от социального ранга потерпевшей. Оскорбление словом дочерей и жен «великих» бояр каралось штрафом, равным плате за изнасилование женщин этой социальной группы,–5 гривен золотом (возмещение, правда, получал мужчина). Приравнивалось к оскорблению и оклеветание женщины; в случае если клеветником оказывался муж, пострадавшей давалось право даже требовать развода[509]. Наказания за телесный ущерб рассматривались княжеской юрисдикцией безотносительно к вопросам пола (примером могут служить постановления РП). Кара за увечье рабынь следовала лишь в случае смерти пострадавшей («аще кто биет… рабу свою жезлом, а умрет от руку его, судом да ся мстит; аще ли пробудет день или два, да не мстит: свое бо есть имение»). Однако средневековая церковь особо наказывала за увечья, нанесенные социально свободной и знатной женщине. В юго-западных землях (в частности, в Галиции), где действовали не только русские, но и польско-литовские законы, полуторагривенный штраф брался с оскорбившего знатную женщину ударом по лицу[510]. В среде свободного населения за нанесение побоев жене уголовного наказания мужу предусмотрено не было, но церковная власть назначала ему шесть лет епитимьи, а супруге рекомендовала «извет дати перед людьми» и даже допускала развод. Уголовное же наказание распространялось на посторонних мужчин — денежный штраф 6 гривен (без социальных градаций). Учитывалось и состояние здоровья пострадавшей: если в результате потасовки «женка… детя выверже», на основании постановлений Псковской судной грамоты муж мог требовать с избившего «годовщину» — штраф за убийство[511]. Серьезная кара предусматривалась и сыну за избиение матери: за такое преступление наказывали «волостельской казнью» и пострижением в монашество. Ненормативные источники, в частности берестяные грамоты, свидетельствуют, что подобные ситуации возникали в семейном быте довольно часто. Об этом говорят и летописные свидетельства, и эпиграфика. Так, Евпраксия, жена князя Ярослава Владимировича, была убита пасынком. В берестяной же грамоте № 415 (XIV в.) читаем: «Поклоно от Февронее к Феликсу с плацомо. Убиле мя пасынке и выгониле мя изо двора. Велише ми ехать городо или сам поеди семо. Убита есемо». Пасынку за избиение матери угрожала даже потеря части наследства, согласно РП. А мачеха Феврония между тем была осведомлена о своих правах: она обращалась к какому-то должностному лицу. Находка свинцовой печати, принадлежность которой адресату грамоты — Феликсу установлена В. Л. Яниным, убеждает в том, что Феликс и был в суде этим должностным лицом[512]. Как сообщает грамота № 156 (XII в.), жена некого Мън… (имя не дописано) в отличие от безвинно пострадавшей Февронии была избита по собственной вине: «От Завида к Мън… к жене и к детьмъ… А жену ти били, не измучили, чего же? К Луке иди». Прочтение этой грамоты вызвало в свое время разногласия[513]. На наш взгляд, автор грамоты отвечал на не дошедшую до нас претензию Мън… к Завиду. Последний не отрицает, что жену Мън… били, но почему-то удивлен, что Мън… предъявляет претензию: «чего же», мол, ты нас обвиняешь? Тем более что ее «не измучили», т. е. никто ее не пытал[514]. Возможно, жена Мън… была сама виновата и потому пострадала. «К Луке иди»: Лука или участник схватки, или ее свидетель. Поводов же быть виноватой, как увидим ниже, было достаточно. Женщина как субъект совершаемого преступного акта появляется в источниках не реже, чем в качестве объекта преступления. Представительницы всех сословий феодальной Руси, кроме рабынь, были дееспособными лицами, субъектами права, и потому самостоятельно несли ответственность за преступления. Ответственность, в том числе материальную, за проступки, совершенные холопкой, нес холоповладелец. Светское законодательство не оговаривало размеры ответственности за преступления именно женщин. Штрафы дифференцировались в зависимости не от пола, а от социально-классовой принадлежности преступника или преступницы. В то же время церковные нормативы представляют большую группу проступков, за которые женщина обязана была нести наказание (вне зависимости от социально-классовой принадлежности — штрафы не дифференцированы). Одним из них было прелюбодеяние, за которое церковь предписывала развод; кроме того, муж имел право развода с женой по ряду других поводов, приравниваемых к супружеской измене[515]. Помимо прелюбодеяния, совершаемого как замужними, так и незамужними «женами», широко бытовали и другие проступки морально-нравственного порядка. Шкала наказаний за них была широка — от десятка покаяльных поклонов (или нескольких гривен штрафа) до нескольких лет поста. Особенно строго карались женщины, совершившие детское «душегубство», «исказившие» в себе ребенка, использовавшие для этого разные «зелья». Подобных «жен» церковь разрешала мужьям, «доличив» (уличив), самим «казнить», т. е. наказать[516]. Поскольку женщины на Руси нередко участвовали и в различных потасовках, Устав князя Ярослава не только выделил в особую статью «драку по-женьскы» (укусы, «одеранье»), но и ввел специальные наказания за побои, нанесенные собственному мужу, а также другой женщине. В последнем случае штраф был вдвое больше: 3 гривны за побои, нанесенные мужу, против 6 гривен за избиение женщины женщиной. Среди исповедных вопросов к «женам» встречаются наказания тем «затворницам», которые «лаяли», «бились», «плюнули на лице» посторонним мужчинам и своему мужу. Есть в требниках упоминание о наказаниях женщины за избиение даже «отца духовного» и за «срамословие» ему. За словесное оскорбление («или укорила еси чужаго мужа…») налагалась епитимья–12 поклонов[517]. За воровство, как один из видов уголовных преступлений, взыскивались равные штрафы и с мужчин, и с женщин («тако же и жена», добавляет составитель Устава Ярослава при описании краж конопли, льна, полотна). Кража женой у собственного мужа, как проступок скорее нравственного, чем уголовного, порядка, не влекла за собой епитимью (лишь «мужъ казнитъ ю»), но за поджог дома, стога на женщину налагался штраф. Примечательно, что ситуация, когда муж продавал или пропивал женино добро, давала право женщине на «разлоучение»[518]. Помимо свидетельств об ответственности женщин за собственные проступки в источниках встречаются упоминания об ответственности жен за действия их ближайших родственников, в первую очередь мужей. Если имущественная сторона этого вопроса характеризуется наличием тайной ипотеки на имуществе жены, то аспект личной ответственности обусловлен существованием пережитков системы ответственности коллективной. Несмотря на то что на основании РП можно судить об утверждении уже в X в. системы индивидуальной уголовной ответственности, тем не менее в ней же имеется и статья о выдаче свободного «людина» за «разбой» на «поток и разграбление» вместе с женой[519]. Подобные свидетельства есть и в повествовательной литературе. Так, некоторые полоцкие князья в 1129 г. были сосланы преемником Мономаха князем Мстиславом Владимировичем вместе с женами и детьми. Трудно определить степень участия в княжеских интригах наложницы галицкого князя Ярослава Осмомысла «Настаски», обвиненной галичанами в «ворожбе», но казнена она была явно в назидание непокорному князю. Вместе с мужьями, оказавшимися побежденными в политической борьбе, несли наказание и их жены; преследования за политические разногласия распространялись на жен опальных даже в Новгородской республике. Церковные власти следовали за светским законом, стремясь обязать жену нести ответственность за преступления мужа. Однако это правило не было односторонним: «Достоит жене мужу своему помочь терпети опитемьи и мужу жене своей достоит велми волею, яко ж друг другу, брат брату добро есть тако»[520]. Но случаи совместной ответственности, в том числе жен за мужей, к концу XIV–XV в. становятся все более редкими. «Поток и разграбление» всей семьи в РП заменяются высокими штрафами в кодексах феодальных республик. Среди массы зависимого населения, в частности холопок, принцип неответственности членов семьи (если они, конечно, не были соучастниками), выгодный холоповладельцу, нашел свое утверждение еще в РП: «Аже холоп крадет кого-либо, то господину выкупати и любо выдати и с ким будеть крал, а жене и детем не надобе; ино оже будуть с ним крали и хоронили, то всех выдати»[521]. Последний вопрос — о правах женщин во время судебного процесса. В древнейший период отечественной истории суд носил, как известно, состязательный характер и обе стороны считались истцами. Даже если не затрагивать историю развития имущественных отношений в древнерусской семье[522], то и тогда нельзя не заметить, что уже Устав князя Владимира представляет женщину конца XII — начала XIII в. полноправной участницей судебного процесса[523], а нормативные документы Псковской и Новгородской феодальных республик дают представление о механизме судебного поединка с участием женщины. Так, тягавшийся со вдовой знатного человека во Пскове (сословная принадлежность и семейное положение, очевидно, воздействовали на определение широты процессуальной самостоятельности) должен был присягнуть и биться на поединке либо сам, либо выставить вместо себя наймита. Аналогично поступала и женщина. Вместе с тем ей предоставлялся ряд привилегий. Например, в Новгородской республике женщина присягала перед тяжущейся стороной не в суде, а у себя дома. Псковская судная грамота предусмотрела случай о тяжбе между двумя женщинами: «А жонки с жонкою присужать поле (судебный поединок. — Н. П.), анаймиту от жонки не быть ни с одну сторону», т. е. наймит отменялся[524]. Самостоятельность женщин в судебных процессах подтверждают и другие факты. Например, в середине XV в. великий князь Василий II назначил «поле» о спорных землях между княгиней Евфросиньей и великокняжескими крестьянами. Но «поле» не состоялось: княгиняЕвфросинья «отступилась» от притязаний. Суть тяжбы между слуцким князем Семеном Михайловичем и пинской княгиней Марией излагает судная грамота 1499 г. Княгиня Мария с дочерью Александрой самовольно захватили во владение Слуцк и Копыл, хотя эти города принадлежали брату Марии, Семену Михайловичу. Судебная тяжба была решена в пользу законного владельца городов, а княгиня Мария с Александрой обещали «в то не вступатися». Не менее интересная ситуация описана в правой грамоте кемских князей, которым пришлось тягаться с «Федоровою княгинею Кемского с Анною». Она, как и княгиня пинская Мария, тоже пренебрегла правами законных владельцев: «Анна того селца и деревень нам не отдает, а живет в нем силно». «Во княгино Аннино место» ее человек Тимошка предъявил суду даже фальшивые документы, сфабрикованные под руководством княгини (с «княжь Федоровой рукой»)[525]. Примечательно, что в XIV в. была зафиксирована процессуальная дееспособность женщин не только привилегированного сословия, но и зависимых в случае тяжбы с «осподарем». В одной из грамот великого князя Василия Дмитриевича говорится: «…а кто, холоп или роба, имеется тягати с осподарем и поимется на правду, а не будет на них поруки…»[526] Частью вопроса о процессуальной дееспособности женщин является вопрос о послушестве. В отечественной и зарубежной литературе чаще всего встречается мнение, что женщины на Руси не имели права судоговорения и не могли быть свидетелями, «послухами». Однако конкретных указаний запретительного характера в нормативных документах X–XV вв. не содержится. В качестве подтверждения можно сослаться на «Главы о послусех» известных «Книг законных», которые имели значительное влияние на древнерусский юридический быт. Здесь целых 15 статей запрещают послушествовать рабам, нищим, умалишенным, малолетним, близким родственникам, родственникам по свойству и пр., но ничего не говорится о каком-либо ограничении процессуальной дееспособности женщин. Что касается актового материала, то исследователь располагает уникальными документами с указанием на послухов-женщин. «В лето 6888 (1380 г. — Н. П.) потъписана была церковь Спаса в Ковалеве монастыре близ Новгорода». Данный акт был совершен при свидетелях, среди которых названы не только великий князь Дмитрий Иванович и новгородский архиепископ Алексей, но и «подружья» знатного новгородца Офонасья Степановича — Мария. Спустя век, в 1488 г., Федка, жена Олизара Шиловича, составила дарственную для своего племянника Богдана на земли, находившиеся в ее волынских владениях, указав в списке «послухов»: «…а при том была дочка моя княгиня Марья Семеновна Ровенская…»[527] Среди «послухов», «стоявших у печати», как правило, упоминаются мужчины, но есть и исключения. Так, при покупке земли игуменом Николаевского монастыря Василием «у печати стояла Лукерья», а в другой купчей (Мелентия) — Матрена[528]. Обладание же собственными восковыми печатями (ими, кстати, пользовались не только сами женщины, но и их мужья, родственники) также является неопровержимым фактом широкой процессуальной дееспособности древнерусских знатных женщин. Так, князь Данило Васильевич Патрикеев запечатал одну из своих данных «матери своее княгининою Марьиною печатью»; Иван Константинович Добрынский пользовался «Овдотьиною печатью старициною», «тещи своее»; черница Варвара — «Марьиною печатью свекровьиною»[529]. Представительницы верхушки привилегированного сословия — крупные вотчинницы могли и сами вотчинный «суд судити», как, например, игуменья Федотья в Кашинском монастыре, или представлять одну из тяжущихся сторон в спорных делах по поводу недвижимой собственности. Несколько таких документов дошло до нас от 60–70-х годов XV в. Они связаны с именем великой княгини Марии Ярославны, которая в одном случае даже тягалась с самим великим князем Иваном Васильевичем по поводу земель в Переяславском уезде. Процессуальная сторона дела здесь рисуется следующим образом: от обеих тяжущихся сторон равным образом действовали личные судьи, составившие единый «съежий суд». В другом случае (грамота 1470–1478 гг.) «суд судил великие княгини тивун нерехотской Семен Григориев по великие княгини грамоте». Суть процесса излагается в «списке», по которому «княгиня великая Марья велела судье… троицкого старца Геронтия оправить, а Нелидка Шубина обвинити, а землю велела присудити к монастырской земле»[530]. Как по приведенным актам, так и по другим аналогичным источникам трудно определить долю непосредственного участия княгини в решении спорного дела. Другой вопрос: было ли упоминание «слова» княгини («и по государыни своей великие княгини слову…») лишь частью клаузулы в документе, т. е. документальной формальностью, или же выражало действительное участие княгини в осуществлении судебно-административных функций? Обратимся к документу конца XV в., связанному с тяжбой между митрополичьим посельским Данилой и Сысоем Терпиловым о луге на реке Шексне. Ход судебного процесса, зафиксированный в документе, гласит: «Перед великою княгинею Марфою судья Василей Ушаков сказал… и учинил стати перед великою княгинею у доклада по крещеньи… И на срок перед великою княгинею митрополичий посельской Данило стал, а Сысойко Савел не стал. И княгини великая, выслушав суд по списку и по судьину слову, велела (курсив мой. — Н. П.) посельского Данилка оправити и пожню велела присудити по меже к митрополичьей пожне, а Сысоя велела обвинити…»[531] Налицо участие знатной женщины в судебном процессе в качестве судьи (или одного из судей). Итак, можно заключить, что положение женщины на Руси в свете феодального светского и церковного права к XV в. формально не отличалось от положения мужчины. Некоторые установленные и рассмотренные различия в действительности могли быть как в пользу женщины (двойной штраф за некоторые преступления, оскорблявшие ее честь), так и в сторону ограничения ее прав (отчасти в области послушества, в ряде случаев ответственности за преступления супруга). Активно действующим социальным и юридическим лицом — как о том позволяют судить церковные нормативные акты — женщина стала к XIII в. (именно тогда появились статьи о самовольном уходе жены от мужа, разводе, о драке между женщинами и т. п.). С XII–XIII вв. и даже ранее женщины всех социальных групп, кроме обельных холопок, были обязаны нести ответственность за преступления, совершенные ими самими или их ближайшими родственниками, что является дополнительным свидетельством того, что россиянки к XV в. стали самостоятельными субъектами права. Правовые нормы, закреплявшие собственнические и иные имущественные и социальные права женщин на Руси, были, разумеется, «юридическим выводом из существующей экономической организации общества, которая основана на частной собственности на средства производства…»[532]. Именно экономическая организация древнерусского общества и, как следствие, ее социальная иерархичность, феодальная стратификация обусловливали различие прав женщин в зависимости от их социально-классовой принадлежности. Рубеж между правовым статусом привилегированного и зависимого населения очевиден. Хотя светские и церковные власти формально сделали нормой юридического быта охрану жизни и чести зависимых женщин, денежные взыскания за преступления, совершенные по отношению к представительницам непривилегированного сословия, были значительно меньшими, чем за аналогичные проступки, совершенные по отношению к женщинам знатным. Те немногие сведения об имущественном положении представительниц феодально зависимого населения, которыми располагают исследователи, позволяют заключить, что в этой форме полномочия социально зависимых женщин распространялись лишь на некоторую совокупность движимости. По мере феодализации общества и усиления крепостнических тенденций права эти сокращались. Тем не менее формально все женщины Древней Руси находились под защитой феодального законодательства и являлись самостоятельными субъектами права. Представительницы же класса феодалов, а также привилегированных социальных слоев (мелкие собственницы, своеземицы) к концу XV в. имели почти равные с мужчинами права на защиту со стороны княжеской и церковной юрисдикции, а также определенные полномочия в самом судебном процессе. Правомочность древнерусских женщин в имущественной сфере, выявленная на основе дополнения данных нормативных памятников сведениями ненормативных источников, тесно связана с реализацией права владения и распоряжения движимым имуществом в XI–XIII вв. и осуществлением права владения и распоряжения недвижимостью в конце XIII–XV в. Речь идет о передаче собственной земли женщинами (пожалование, дарение, продажа, обмен, залог) и приобретении ее в собственность (получение в дар, покупка, получение в приданое, наследование). Период XIII–XIV вв. был известным переломом в эволюции имущественных прав женщин привилегированного сословия, поскольку в это время право на владение и, главное, на распоряжение недвижимой собственностью было за женщинами нормативно закреплено соответствующими статьями законов. В основе развития имущественных и социальных прав знатных женщин лежали главным образом материальные причины, а отнюдь не воздействие христианской церковной доктрины, якобы защищавшей права женщин, и не развитие правовых институтов, как таковых, о чем нередко писалось в буржуазной историко-юридической литературе[533].
Глава IV.
«Сугуба одеянья сотворя…»
(Одежда и украшения древнерусских женщин)

Внешний облик русских женщин в X–XV вв. представлен больше в канонизированном изображении княжеских семей, по которому трудно судить об эволюции женского костюма. Если же реконструировать представление о нем на основе отрывочных сведений источников, то нельзя не увидеть, как веками отрабатывался оригинальный, самобытный «стиль» в русской женской одежде, дополняемой разнообразной обувью и украшениями. Уже в древнейший период (X–XIII вв.) в костюме русских женщин имелось разделение на нижнюю (нательную) одежду и верхнее платье. Нательная одежда— «срачица» («сороцица», сорочка) — упомянута во многих письменных памятниках[534]. Испокон веков она делалась из тонкой льняной ткани: «Взем льну учинить ми срачицу, порты и полотенцо…» В древнерусском языке существовало два термина для обозначения льняной ткани: «хласт», «холст», «тълстины», означавшие небеленую ткань, и «бель», «платно», означавшие выбеленное полотно. Характерно, что при раскопках нередко встречаются остатки этих материалов, причем чаще всего беленый холст («платно»). «Белые порты» (нижняя полотняная одежда) упомянуты еще в Уставе Ярослава Мудрого (XII в.). Льняное нижнее белье остается в употреблении и позже, в XIV–XV вв. Летописец, описывая разорение Торжка в 1373 г., свидетельствует: «…а жен и девиц одираху и до последние наготы… и до срачицы…»[535] Женская нижняя одежда кроилась длинной и имела рукава, намного превышавшие длину руки. На запястьях они поддерживались «наручами» — обручами, браслетами, которые нередко находят в женских захоронениях. Они заметны и в некоторых фресковых изображениях и книжных миниатюрах[536]. Пляшущих женщин со спущенными рукавами без обычных «наручей» можно рассмотреть на ритуальных русальских браслетах XII в., описанных Б. А. Рыбаковым. Особенно характерно изображение такой плясуньи со спущенными рукавами на «наруче» из Старой Рязани (клад первой половины XIII в.). А. В. Арциховский считал, что нижняя женская рубаха не подпоясывалась[537]. Имеется и альтернативное мнение, которое разделяет ныне большинство исследователей[538]. Разнообразные пояса были одним из древнейших элементов костюма, украшением и в то же время «оберегом», преграждавшим дорогу «нечистой силе». Части поясов находят среди курганных древностей, изображены они и на миниатюрах, например в сцене русалии из Радзивилловской летописи[539]. Те части нижних «руб», которые могли быть видны, украшались — в XIV в. у наиболее знатных «дам» — «женчугом и дробницами» (мелкими металлическими пластинками в виде блесток, лапок или листочков); у представительниц социальных низов — льняным плетеным «ажуром»[540]. Полотно для сорочек изготовляли сами женщины: достаточно вспомнить описание «доброй жены» в «Повести временных лет». В Софийском соборе Киева имеется фресковое изображение княжны, прядущей нить; аналогичен рисунок в Велеславской библии (XII в.). «Уозцинку (холст. — Н.П.) выткала, и ты у себя избели», — просит одна новгородка другую в грамоте № 21 (XV в). В XIV–XV вв. сорочка знатных женщин делалась из шелка, стала «шиденной» (от немецкого Seide — шелк) и подчас не белой, а, например, красной, но такие «срачицы» были, по-видимому, праздничными и надевались редко[541]. Источники X–XIII вв. дают сведения для характеристики верхней одежды более или менее зажиточных женщин древнерусского общества. Вероятно, костюм древнерусских женщин различных классов был одинаковым по крою, но различным по использованным тканям[542]. Очевидно, одежда представительниц феодальной знати имела больше предметов и деталей в каждом из видов одежды, а комплектация проводилась из большего числа компонентов. В массе своей у древнерусских женщин нижняя сорочица дополнялась набедренной одеждой — «понявой» или «поневой». Термин этот часто встречается в переводных церковных сборниках самого раннего времени. И. И. Срезневский объяснял его как полотнище, кусок ткани. В. И. Даль предполагал, что слово «понева» произошло от глагола «понять, обнять», поскольку понева представляла собой кусок ткани, которым обертывалось тело[543]. О том, что это было именно набедренное одеяние, прямых данных нет, хотя, например, на браслете, найденном в Старой Рязани, плясунья изображена в поневе и фартуке. Волнистый рисунок ткани или вышивка поневы повторяются на рукавах. М. Г. Рабинович полагает, что поневой до XVI в. называлась просто «полотняная ткань или рубашка». Однако упоминание поневы в Уставе князя Ярослава (XII в.) как одежды, отличной от «белых порт» и «полотна», позволяет предположить, что речь шла именно об одежде, надевавшейся помимо сорочки. В X–XIII вв. эта одежда действительно могла быть полотняной и не отличаться по цвету от самой рубашки. Поверх поневы на талии мог завязываться шерстяной вязаный пояс, аналогичный найденному при раскопках в селе Горки[544]. Поневы могли быть суконными или шерстяными — из «волны», т. е. шерстяной пряжи. Археологические раскопки погребений позволяют сделать вывод о том, что в XII–XIII вв. уже были известны разноцветные клетчатые шерстяные ткани («пестрядь»). «Пестрядь» использовалась как материал для понев деревенских женщин, поскольку в городах поневу в XIV–XV вв. носили все реже[545]. Грубая шерстяная ткань называлась «власяница»; монахини надевали ее прямо на голое тело — это была форма самоистязания. Так, княгиня Василиса, постригшись в монастырь в 1365 г, «в срачице не хожаше, но власяницу на теле своем ношаше»[546]. Из власяницы шили кафтаны, которые были в то время и мужской и женской одеждой. Одежда из шерстяных тканей стала преобладающей в городах примерно с XIII в. Часть шерстяных тканей ввозилась (в Новгороде были известны голландские, английские и фландрские сукна), но уникальные по красоте шерстяные ажуры производились руками русских мастериц, в частности новгородок. Верхняя одежда состоятельных горожанок могла шиться и из привозных хлопчатобумажных тканей. «Купи ми зендянцу добру», — просит новгородка Марина своего мужа Григория в письме, датированном XIV–XV вв. «Зендянца» — широко известная в Новгороде хлопчатобумажная ткань, производившаяся в селе Зандана, недалеко от Бухары[547]. Верхняя одежда знатных княгинь и боярынь в X–XIII вв. шилась из восточных вышитых шелков («паволок»[548]) или плотной ворсистой ткани с золотой или серебряной нитью, похожей на бархат («аксамита»[549]). Арабский путешественник X в. Ибн-Фадлан отметил, что знатные женщины у славян носили «хилу» (халат) — верхнюю шелковую одежду[550]. Такая одежда упомянута в летописях при описании праздничных облачений женщин и названа «ризы»[551]. Плащ-накидка на торжественной одежде долго сохранялся в костюме древнерусских женщин. Сопоставляя миниатюры Радзивилловской летописи, изображающие великую княгиню Ольгу, с фресками Софии Киевской, среди которых есть, например, живописное изображение княжны с прислужницами[552], можно сделать вывод о том, что верхняя одежда была свободной и длинной, состояла из прямого, чаще всего подпоясанного платья, дополненного распашным одеянием (типа накидки или плаща), ворот, подол и стык ткани которого были оторочены каймой. На фресках Софии Киевской, изображающих дочерей Ярослава Мудрого, на женщинах одеты именно такие платья и окаймленные плащи. Не исключено, что кайма была нашивной и представляла собой широкую шелковую тесьму, шитую золотом. Такого рода «позументы» были найдены и в погребениях[553]. «Подволоки» на «золотной камке» (тонкий шелк) — белой, желтой, «червчатой» (малиновой) — упоминаются в духовной верейского и белоозерского князя Михаила Андреевича (XV в.) в перечне имущества, завещанного дочери Анастасии[554]. Одежда представительниц привилегированного сословия, даже не предназначавшаяся для торжественных случаев и праздничных выходов, также богато декорировалась. Некоторое представление о ней дает миниатюра из Изборника Святослава 1073 г., неоднократно привлекавшая внимание исследователей[555]. На этой миниатюре на княгине, жене Святослава Ярославича (по Любечскому синодику, ее имя — Киликия), свободное прямое платье с широкими длинными рукавами, снабженными «наручами»[556]. Платье подпоясано; соответствие в цвете «наручей» и пояса позволяет думать, что пояс заткан золотым шитьем. Низ платья украшен каймой, а верх — круглым отложным воротником. Платья с декорированными таким образом воротом и плечами можно заметить и на других миниатюрных изображениях, а также в орнаментации буквы «К» Евангелия 1270 г.[557] Дореволюционные исследователи древнерусских миниатюр и фресок обычно проводили прямую аналогию между княжеской одеждой рассматриваемого времени и византийской «модой» X–XI вв. Свободные одежды знатных древнерусских женщин они называли хитонами, подпоясанные платья — далматиками, распашные ризы — мантиями[558]. Конечно, принятие Русью христианства в православном варианте могло существенно повлиять на расширение культурных контактов Руси и Византии и, следовательно, способствовать перениманию некоторых элементов костюма. Но древнерусский костюм, в том числе и представительниц господствующего класса, не был заимствованием. Фресковая живопись, книжные миниатюры и орнаментация отличались известной канонизацией. Еще Н. П. Кондаков отметил, что изображение одежды матери Ярополка Изяславича в Трирской псалтыри соответствует изображению сановных облачений византийского двора[559]. Археологических же материалов, позволяющих судить не об элементах костюма, а о нем самом в целом, сохранилось крайне мало. Но те, которые дошли до нас, убеждают в том, что в костюме древнерусских женщин в X–XII вв. проявилось не столько сближение Руси с Византией, сколько изменение некоторых традиционных форм, имевшихся у восточных славян в первые века новой эры: накладных одежд (сорочек и т. п.), распашных (халатов, курток и т. п.) и драпирующих (плащей)[560]. Да и дошедшие до нас образцы вышивок[561], которыми богато украшалась одежда женщин всех слоев древнерусского общества, позволяют обратить внимание на традиционность определенных рисунков. Особые круги («диски») и месяце-образные «лунницы», мотивы «плетенки», сердцевидные фигуры под полуциркульными арками заметно отличаются от обычной византийской орнаментации. На фресках канонизированная одежда княгинь и княжон имеет только отложные воротники (влияние византийской традиции)[562]. Похожие на фресковые изображения круглые воротники — «ожерелки» не пришивались, а накладывались на женские платья. Среди материальных останков женских одежд XII в. Нередко находят другой тип древнерусских воротников — стоячие, выполненные на жесткой основе (береста или кожа) и обтянутые шелком или иной тканью с вышивкой цветной или золотой нитью. Низ воротников сохраняет следы прикрепления к одежде (так называемые пристяжные)[563]. Вышитые золотом, «саженые жемчугом» воротники сохранялись в костюме знати в течение нескольких столетий. В XIII–XV вв. вышитые воротники были деталью одежды и женщин непривилегированного сословия. Такие вещи с любовью передавались из поколения в поколение. «Ожерелье пристяжное, с передцы низано…» — отметил в числе наследуемых детьми сокровищ верейский и белоозерский князь Михаил Андреевич. Драгоценное, расшитое жемчугом ожерелье (3190 зерен!) оставила своим детям волоцкая княгиня Ульяна[564]. В холодное зимнее время женщины Древней Руси носили меховую одежду: более состоятельные — из дорогих мехов, менее знатные — из дешевых. Меха («скора») упоминаются в «Повести временных лет». Дорогие меха (горностаи, соболя и пр.) упомянуты в летописи лишь применительно к женской княжеской одежде[565]. Известно, что в XIII в. знатные русские женщины охотно украшали горностаевыми шкурками опушку платьев, а наиболее состоятельные делали из них накладки по подолу одежды, доходившие по ширине до колен, что не могло не поражать путешественников-иностранцев. Излюбленными в одежде знатных женщин были и рысьи меха. У Ярославны — героини «Слова о полку Игореве» — шубка была бобровая («…омочу бебрян рукав в Каяле реце…» — причитает она). Женщины среднего достатка носили и беличьи шубы. Например, одна из новгородских берестяных грамот упоминает меха белки и росомахи — их часто получали в виде дани, скупали у соседей, чтобы перепродать в другие страны. Изредка среди археологических находок попадаются части медвежьего или волчьего меха. Шубы в то время носились женщинами только мехом вовнутрь и первоначально сверху ничем не покрывались (отсюда название — кожух). Но со временем нагольная (не покрытая) меховая одежда стала считаться грубой, шубы стали крыть тканью, и чехол делался из самых дорогих и ярких кусков. У княгини XV в. могло быть до десятка шуб, а то и больше: и «багряная», и «червчатая», и «цини» (сизая), и «бело-голубая», и зеленая, как свидетельствует завещание Ульяны Михайловны Холмской. Помимо «кожуха на беличьих чревах» (от чрево — живот) у нее было две шубы собольи, а сизая шубка была пошита из «дикого» (серо-голубого) бархата с «золотным» шитьем и «венедицкой» (венецианской) камки (шелка)[566]. Шубы носились с большой бережностью и передавались от матери к дочери. Древние фрески говорят о том, что одежда знатных женщин была многоцветной и предполагала яркие сочетания, свежие, сочные тона. В новгородской берестяной грамоте № 262 упоминается «портище зелени», в следующей — «портище голубине» (т. е. зеленая и голубая одежда), в грамоте № 288 — «золотник зеленого шолку». И примеров подобного рода можно найти немало. «Церленый» (червленый), т. е. ало-красный, синий, коричневый, зелено-желтый, зеленый цвета дополнялись в одежде золотым и серебряным шитьем. Шитье металлической нитью отличало костюм не только женщин княжеского рода, но и представительниц зажиточного сельского населения. Домашние мастерицы сплетали, спрядывали тонкую золотую нить с льняной. В XI–XII вв чаще всего шили «в проем» (прокалывали ткань), причем длинные стежки были на лице, а короткие — на изнанке. В XII–XIII вв. золотая нить укладывалась на ткань и прикреплялась шелковой[567]. Рисунок вышивки был разнообразен; чаще всего встречались причудливо изогнутые стебли, стилизованные цветы, круги, геометрические фигуры. Излюбленным цветом в костюме женщин всех сословий был красный. В притче о доброй жене в «Повести временных лет» упомянуты «червлены и багряны одеяния». Об этом говорят археологические находки, среди которых более половины — ткани красновато-бурых тонов, хотя попадаются и черные, и синеватые, и зеленые, и светло-коричневые. Красили ткани преимущественно растительными, реже животными красками. Синюю краску делали из сон-травы, василька, черники; желтую — из дрока, листьев березы; золотисто-коричневую — из шелухи лука, коры дуба и груши. Обилие красных оттенков в костюмах древнерусских женщин объясняется и тем, что красный цвет был цвет-«оберег», и тем, что существовали многочисленные естественные красители, окрашивавшие ткани именно в красно-коричневые цвета, гречишник, зверобой, кора дикой яблони, ольхи, крушины[568]. Представление о многокрасочности древнерусского женского костюма дают завещания князей. Так, Иван Данилович Калита своим дочерям Марье и Федосье «нынеча нарядил» «кожюх»[569], подбитый мехом, украшенный «аламами» и жемчугом. Украшение «аламами» — серебряными и золотыми чеканными бляшками — придавало одежде особую пышность и парадность. Упоминания о «сженчужных аламах» встречаются и в других грамотах. Подобные украшения одежды были очень дороги и, конечно, передавались по наследству князьями своим женам среди другого движимого имущества: «…а что останет золото или серебро или иное что есть, то все моей княгине…»[570] Судя по грамоте верейского и белоозерского князя Михаила Андреевича, большинство предметов из его завещания принадлежало к платью княгини и было оставлено дочери Анастасии. В ее гардеробе были летники, сшитые из полосатой объяри, зеленой и желтой камки, — женская легкая одежда с длинными и широкими рукавами («накапками»). Рукава летников нередко расшивались «вошвами» — полосками аксамита, черного и багряного. Женские зимние «кортели» (одежда, аналогичная летнику, но подбитая мехом) в имуществе верейского князя утеплялись куницей, белкой, соболями, горностаями; их украшали разноцветные «вошвы» — зеленые, синие, черные, «червчатые». Хороши, судя по описанию, были и шубки: белая, «рудо-желтая», багряная, зеленая, «червчатая», одна из которых была подбита лисицей. В середине XII в. одна лисица стоила больше рубля серебром[571]. Под стать этим туалетам набор одежд волоцкой княгини Ульяны Михайловны. Малиновый золотный бархат и бурская золотная камка, подбитые соболями и куньим мехом, послужили материалом для шитья семи шуб и «кортеля». Из французского алого сукна («скорлат») был сшит «опашень» — необычная для современного человека одежда с очень длинными, сужавшимися к запястью рукавами и спиной, кроившейся длиннее переда. Носили «опашни» внакидку. Любопытно, что княгиня Холмская завещала дочери и спорки одежды — тоже достаточно дорогие: «…накапки сажоны (жемчугом. — Н. П.), да вошва на одну накапку шита золотом да сажена была жемчугом, да жемчуг с нее снизан, а осталося его немного…» Кроме того, перечислены серебряные позолоченные пуговицы от женской шубы, кружево на «портище», шитое золотом и серебром. Егорьевскому игумену Мисаилу княгиня тоже завещала кое-что «по душе»: «кортель» из голубой тафты на белках и лисью душегрею[572]. Своеобразной и яркой частью древнейшей женской одежды был головной убор — обязательное дополнение любого костюма русских женщин. Он имел в древнерусском костюме не только эстетический смысл — завершал одежду, но и социальный — показывал достаток семьи, а также этический — «мужатице» позорно было ходить простоволосой. Традиция шла от времен язычества, когда покрывание головы означало защиту самой женщины и ее близких от «злых сил». Женские волосы считались опасными, вредоносными для окружающих (вероятно, в первую очередь для мужчин)[573]. Отсюда — характерная для православных традиция не входить с непокрытой головой в церковь или, например, неписаное право современной дамы сидеть в помещении в шляпе. Головной убор соответствовал семейному и социальному положению древнерусских женщин. Отличительной чертой головного убора замужней женщины было то, что он целиком закрывал волосы. Девушки были свободны от этого жесткого предписания. Они нередко носили волосы распущенными или же заплетали в одну косу; макушка всегда была открыта[574]. В свадебном ритуале с незапамятных времен обряд смены прически и головного убора 40 был одним из главных: девушка в глазах окружающих становилась женщиной не после первой ночи с женихом, а уже тогда, когда на нее надели «бабью кику» — убор замужней женщины[575]. Находки при раскопках корун, венков, венцов и венчиков, т. е. девических головных уборов X–XIII вв., хотя и редки, но позволяют составить представление о них. Узкая полоска металла или материи охватывала лоб и скреплялась на затылке. Более сложный, богато украшенный венчик назывался «коруна». Изображение коруны можно найти в Изборнике Святослава 1073 г. («Дева» из знаков Зодиака)[576]. Коруна представляла собой жесткую основу, обтянутую тканью (иногда под ткань подкладывался валик), и своеобразно украшалась. Коруны чаще всего служили праздничными уборами незамужних женщин-горожанок, а сельские жительницы до замужества носили чаще девичьи венцы. Различают три основных варианта венцов: пластинчатый (серебряный, реже бронзовый); налобный венец-повязка из парчовой, а иногда и шерстяной или полотняной ткани, вышитый и богато орнаментированный; венец из металлических бляшек, нанизанных на нити или шнуры. Девичий венец был своеобразным украшением девичьей прически: нередко от венца у висков заплетались две косички, которые продевались потом в височные кольца; другой вариант — венец поддерживал волосы, уложенные в виде петли, спускавшейся перед ухом от виска (в этом случае волосы как бы «подстилали» височные украшения). Налобный девичий венец, сделанный из ленты, нередко украшался шерстяной бахромой (очевидно, в комплекте с одеждой — шерстяной юбкой-поневой), что подтверждает женское захоронение из кургана вятичей XIII в.[577] Украшения древнерусских девичьих корун и налобных венчиков свидетельствуют, что эта форма головных уборов возникла из цветочных венков. Гирлянда из цветов на голове девушки была также символом совершеннолетия и непорочности. Художественные украшения валика коруны были призваны создать впечатление венка из живых цветов: отдельные элементы выгибались, делались рельефными, украшались цветными стекляшками, а при достаточном богатстве семьи — драгоценностями[578]. Фландрский рыцарь Гильбер де Лануа, побывавший в Новгороде в 1413 г., отметил, что здесь «девушки имеют диадему на макушке, как у святых…». Интересное описание такой «диадемы», т. е. девичьего венца «з городы» (с зубцами), содержится и в духовной верейского князя Михаила Андреевича: «…венец з городы, да с яхонты, да с лалы (рубинами. — Н. П.), да з зерны с велики[ми] (жемчугом. — Н. П.); другой венок низан великим жомчугом, рясы с яхонты да с лалы, колтки золоты с яхонты…»[579] Еще богаче украшался головной убор замужней женщины. Формируясь в XII–XV вв. и приобретя название кики (кички), он вобрал в себя элементы традиционных женских головных уборов восточных славян — корун, а также полотенчатого головного убора — убруса или повоя, который является одним из древнейших. Убрусы и повои полностью закрывали волосы женщины, концы их спускались на спину, плечи и грудь. Повои были известны уже в X в.; похожие головные покрывала носили тогда и византийские женщины, отчего русские буржуазные историки именовали русский повой мафорией или фатой, хотя говорить о заимствовании повоя из Византии нет оснований. Княгиня на миниатюре Изборника Святослава 1073 г., женщины на фресках новгородской церкви Спаса Нередицы, великая княгиня Ольга на одной из миниатюр Мадридской рукописи, а также в изображении Радзивилловской летописи, на фресках церкви Федора Стратилата — все они предстают перед нами в тонких головных покрывалах, судя по мягким складкам тканей, «паволочитых», т. е. шелковых[580]. Позже поверх повоя надевалась корона-кокошник, или кика (зубчатая, лучевая или башеннообразная), а зимой — шапка с меховым околышем и округлой тульей. Во всех случаях часть убора надо лбом была украшена богаче[581]. В дальнейшем передняя часть кики (чело, или очелье), украшенная жемчугом, шитьем или драгоценными камнями, делалась съемной[582]. Впрочем, очелье могло располагаться и на повое: расшитый мелкими стеклянными бусами край матерчатого головного убора, закрывавшего лоб женщины, был найден в крестьянском погребении XII в. в Подмосковье. Височные и иные украшения замужних женщин крепились уже не к волосам, а к самой кике[583]. Одним из украшений очелья кики и повоя были рясы, упомянутые еще Даниилом Заточником[584]. Они представляли собой бахрому из нанизанных на нити бусин или жемчужин. «Рясы с яхонты» значатся в духовной верейского князя Михаила Александровича. В XIV–XV вв. рясы прочно вошли в обиход и в зажиточных семьях передавались из поколения в поколение, став к XVI–XVII вв. основой для разнообразных модификаций[585]. Изменения в головных уборах связаны с развитием украшений всего костюма древнерусских женщин. Женские украшения X–XIII вв. — одна из наиболее частых находок при раскопках курганов того времени. В курганных древностях можно выделить две большие группы, различные по исходному материалу: изделия из металлов и изделия из стекла. В X–XV вв. использовались также костяные и деревянные украшения, а в костюмах горожанок Северо-Западной Руси — янтарные. В X–XIII вв. одними из самых распространенных на Руси женских украшений, которые радовали представительниц всех сословий древнерусского общества, были височные кольца. Археологи считают их этнически-определяющим признаком. Например, новгородские словенки носили ромбощитковые височные кольца; женщины Полоцкой земли — браслетообразные; предки современных москвичек — вятичи — семилопастные и т. п. Самыми распространенными были проволочные височные кольца, но встречаются и бусинные, и щитковые, и лучевые[586]. Способы крепления колец к головному убору или волосам были разнообразными. Кольца могли подвешиваться на лентах, ремешках или косичке, могли прикалываться к ленте, как бы образуя цепочку. Иногда височные кольца продевались в мочку уха, как серьги. С исчезновением этого типа украшений в XIV–XV вв. в уборе представительниц привилегированного сословия появились полые колты, крепившиеся к головному убору (аналогично кольцам) на ремешках, цепочках или рясках (цепях из колодочек). Лучевые колты XIII–XV вв. — частая находка при раскопках кладов[587]. Женские серьги встречаются реже височных колец и шейных украшений как в описаниях ранних письменных источников, так и среди археологических находок. Один из типов женских серег — в виде вопросительного знака — был обнаружен в Новгороде и датирован XIII–XV вв. О женских серьгах упоминается в духовной волоцкой удельной княгини. Судя по их описанию, хозяйка была очень бережливой, хорошо знала цену каждой такой «мелочи» в своей казне. Старая княгиня указала в завещании, что три камня из ее серег — два яхонта и один лал (рубин) — вшиты в нарядную шапку сына Ивана; серьги же без камушков она предназначала своей снохе, причем будущей («а дасть Бог, сын мой Иван женится…»), а жене старшего сына — тоже пару серег с яхонтами и лалами, камни от которых в «пугвицах» ожерелья сына[588]. Значительно чаще серег попадаются в описаниях и при раскопках курганов и кладов дутые круглые колты. Они делались из различных металлов, всегда полыми (не исключено, что туда вкладывалась ткань, пропитанная эфирными, душистыми маслами), богато украшенными перегородчатой эмалью, зернью, сканью. Поскольку находят колты главным образом при раскопках городских поселений, можно сделать вывод о том, что колты были украшением преимущественно представительниц городской и местной феодальной знати. В начале XIII в. появились колты из оловянисто-свинцовых сплавов, имитирующие дорогие серебряные и золотые, но с более простым декором, лишь подражающим украшениям знати из драгоценных металлов. После ордынского завоевания такие колты не прослеживаются, хотя в духовных знати колты с драгоценными камнями упоминаются еще долго[589]. Вероятно, они остались в употреблении лишь как семейные реликвии у представителей знати. Не менее популярными у женщин всех сословий были шейные украшения, и прежде всего стеклянные бусы. Они насчитывают сотни разновидностей, каждая — со своей неповторимой орнаментацией, формой, окраской. Выделяются четыре типа стеклянных бус, носимых древнерусскими горожанками: из синего, черного, светло-зеленого стекла со сложными «глазками»; из многослойных стеклянных палочек, которые разрезались и прокалывались; дутые бусы и наконец многогранники, вырезавшиеся из застывшего твердого стекла, как из камня. Наибольшее распространение имели бусы из разноцветного «рубленого бисера»[590]. Ибн-Фадлан, описывая свое путешествие на Волгу в X в., отметил, что жены руссов особенно любят зеленые бусы. Он утверждал, что мужья разорялись, платя по 15–20 монет серебром за каждую зеленую бусину. Среди курганных же находок зеленые бусы редки; в небогатых захоронениях попадаются синие, бирюзовые, желтые и полосатые. В среде знати получили большое распространение украшения, комбинировавшие бусины из различных материалов (например, золотые дутые, жемчужные зерна, а также выточенные из драгоценных камней). Восемь таких золотых «пронизок» завещала волоцкая княгиня своим детям[591]. В отличие от «демократических» бус металлические обручи — гривны, носившиеся как украшение тоже на шее в X–XIII вв. и отчасти позже, являлись достоянием лишь зажиточной части крестьян и горожан. На многих шейных гривнах сохранились следы починки — признак того, что они представляли известную ценность. Наиболее дорогими гривнами были билоновые (сплав меди и серебра); наиболее распространенными — медные или бронзовые, иногда со следами серебряного покрытия. Выделяются дротовые, круглопроволочные, пластинчатые и витые гривны. Каждый тип соответствовал определенному ареалу распространения. Например, вблизи Ладожского озера были популярны крученые и дротовые гривны, а женщины Северо-Восточной Руси носили главным образом витые и т. п. Жгутовые гривны неизменно встречаются на миниатюрах, изображающих сцены свадеб. В Никоновской летописи можно насчитать 23 изображения гривен[592]. Шейные гривны предшествовали более поздним металлическим украшениям типа ожерелий (от древнерусского слова «жерло» — шея), хотя сами продолжали существовать как праздничные украшения знатных женщин и в XVI в. «А что золото княгини моей Оленино, то есьм дал дчери своей Фетиньи, 14 обручи и ожерелье, матери ее монисто новое, что есьм сковал. А чело и гривну те есмь дал при себе», — записал в своей духовной Иван Калита. Мониста из жемчужных зерен, золотых бляшек и подобных драгоценностей также известны и по актовому материалу, и по летописным памятникам. Волынский князь Владимир Василькович «поби и полья» в слитки мониста «бабы своея и матери». Дмитровский князь Юрий Васильевич завещал рязанской великой княгине Анне монисто, которым «благословила» его «его баба» — Софья Витовтовна. Ожерелья с «жемчужным саженьем» и «великими яхонты» упомянуты в духовной верейского князя Михаила Андреевича, а «ожерельнои жемчуг» — в завещании волоцкои княгини[593]. Очень ценным и дорогостоящим шейным украшением женщин привилегированного сословия были цепи. Среди них встречались и кольчатые (из колец), и «огничатые» (из продолговатых «огнив»), и черненые (их называли «враные цепи»), а также в виде трехгранных призм. «А что колтки золотые — то Офимьино», — пишет в своей духовной новгородец Федор Остафьевич, перечисляя далее «цепецку золоту колцату» и другую «цепецку золоту враную». В берестяной грамоте № 138 (вторая половина XIII в.) названы две цепи, оцененные в 2 рубля. На эти деньги в Новгороде XIV в. можно было купить 400 беличьих шкурок. К началу XIII в. относится первое упоминание о золотых цепях как женском украшении в Ипатьевской летописи. «Хрестьчатую» золотую цепь (ее рисунок — соединение мелких золотых крестиков) подарила кашинская княгиня Василиса Семеновна великому князю Василию Дмитриевичу, а сама цепь была в составе ее приданого[594]. Неотъемлемой частью костюма женщины-горожанки Северо-Запада Руси в X–XIII вв. были нагрудные и поясные привески — разнообразные по форме металлические украшения, составлявшие часть ожерелья. Большинство привесок имело и символическое значение — играло роль амулетов. Они носились на длинных шнурах или «чепках» (цепочках), прикрепляясь к платью на груди или у пояса. Делались привески из серебра, меди, бронзы, билона. По внешнимочертаниям их разделяют на зооморфные, воспроизводящие предметы быта и символизировавшие достаток (ложки, ключики, гребни и т. д.) или богатство (ножики, топорики). Последние — вместе с мечами — были символами поклонения Перуну. Носили также бубенчики, шумящие привески, игольнички, а также привески геометрические (круглые, лунницы, крестики, ромбы, трефовидные, копьевидные и т. д.)[595]. В настоящее время известно 200 типов привесок; некоторые из них появились у славян как результат заимствования у соседей, например у угро-финнов. Одной из самых излюбленных привесок-амулетов у древнерусских женщин был конек с вытянутыми ушками и загнутым в кольцо хвостом. Конь был символом добра и счастья, связывался с культом солнца и в привесках неизменно окружался кружочками — солярными знаками. Помимо коньков нередко носили стилизованные изображения водоплавающих птиц, олицетворявших животворные свойства воды. Многие новгородки носили у пояса на кожаных шнурках объемные (полые внутри) изображения животных с одной или двумя головами, закрученным спиралью хвостом и цепочками вместо ног[596]. «Бытовые» привески-амулеты производились главным образом в деревнях и были частью костюма сельских жительниц. Деревня дольше города сохраняла приверженность языческим культам, поэтому в сельских захоронениях среди привесок часто встречаются лунницы и кресты, связанные с древним языческим божеством Ярилом[597]. Любимым украшением и горожанок, и крестьянок были также бубенчики с разнообразными разрезами. Как типичное украшение женского костюма они просуществовали вплоть до XV в., в то время как вышеназванные типы привесок — лишь до XIII в. Бубенчики носили и в комплекте с другими привесками, и в составе бус, иногда подвешивали их к шейным гривнам. Они могли быть украшением венца или кики, а могли вплетаться в волосы за подвесной ремешок. Нередко использовались бубенчики и в качестве пуговиц. Но главным образом это было традиционное подвесное украшение у пояса, на рукавах, кожаных поясных кошельках. В эпоху средневековья карманов в женской одежде не было и поясной кошелек — калита — выполнял их функции. Согласно верованиям восточных славян, бубенчики и другие шумящие привески считались символическими изображениями бога-громовержца, охранявшего людей от злых духов и нечистой силы[598]. Среди подвесных украшений знати известны и медальоны. Они делались из серебра или золота, украшались перегородчатой эмалью, зернью, сканью[599]. С XII в. в подражание дорогостоящим стали производить медальоны из дешевых сплавов, отлитые в имитационных формах. Частью костюма древнерусской знати были предметы, аналогичные по типу подвескам-амулетам у крестьянок и горожанок. Например, в духовной князя Дмитрия Ивановича (1509 г.) значатся «маялки (шумящие привески. — Н. П.) съ яхонты и зъ жемчуги»[600]. Еще одним украшением женского наряда (особенно парадного) были застежки (фибулы). Их делали из железа, оловянисто-свинцовых сплавов, меди, бронзы, серебра. Одно из первых упоминаний о фибулах содержится в «Повести временных лет» под 945 г., а наибольшее число археологических находок приходится на слои X–XII вв. В одном захоронении обычно встречается лишь одна большая привеска-застежка, реже — две. Носили их либо у плеча, либо на груди (они застегивали верхнюю, драпирующую одежду типа плащей и накидок). Мелкими фибулами древнерусские женщины застегивали сорочки у ворота, пристегивали к поясу амулеты и привески, а также хозяйственные предметы: ключи, кресала, ножички. Фибулами могли прикрепляться и украшения к женскому головному убору[601]. До X в. застежки-фибулы были только большими, массивными, а позднее — в XIV–XV вв. — преобладали легкие, мелкие. Во все века этот тип украшений богато орнаментировался, орнамент же варьировался в зависимости от этнонационального региона, степени мастерства ковщиков, чеканщиков и других подобных причин. То же конструктивно-функциональное значение, что и фибулы, имели в женской верхней одежде булавки — принадлежность костюма лишь знатных горожанок. Две одинаковые по форме и размеру одежные булавки с длинными стержнями и крупной прорезной головкой, соединенные цепочкой, поддерживали встык края плаща[602]. В XV в. плащи и накидки употреблялись все реже, а вместе с изменением форм одежды менялся и набор ее традиционных дополнений. Фибулы стали и вовсе редким украшением. Зато пояс оставался непременным аксессуаром женской одежды. Золотые пояса, состоявшие из позолоченных металлических бляшек-накладок и являвшиеся знаками феодального достоинства, — излюбленный предмет благословений князьями своих родственников в духовных. О своем золотом поясе упоминает в завещании княгиня Ульяна Михайловна; два пояса такого рода значатся в духовной углицкого князя Дмитрия Ивановича. Женские пояса, аналогичные изображенному на миниатюре Изборника Святослава 1073 г., известны издавна; делались они из шелка, затканного золотой или серебряной нитью, бархата или кожи с коваными металлическими бляшками. Часто дорогим металлом отделывались лишь наконечники поясов, завершаемые бубенчиками, а сам пояс украшался канителью — винтообразно витой золотой или серебряной проволочкой. У женщин победнее бляшки эти («наузольники») были медными или бронзовыми[603]. Древнерусские горожанки, очевидно, охотно носили и стеклянные браслеты. Их фрагменты найдены при раскопках древнейших слоев (начало X в.), но чаще всего они встречаются в городищах XI–XIII вв., где количество таких находок исчисляется тысячами. Попадаются голубые, синие, зеленые и желтые обломки браслетов, которые дают представление о принципе их изготовления: стеклянные палочки сгибались в кольца, стержни же раскрашивались и иногда перекручивались металлическими или стеклянными нитями контрастного цвета. Стеклянные браслеты были в основном украшением горожанок, а металлические — и горожанок, и крестьянок. Чаще всего находят медные и бронзовые изделия, реже серебряные и билоновые. Золотые пластинчатые браслеты-«обручи» были привилегией лишь городской знати. Носили браслеты и на левой, и на правой руке, часто на обеих и по нескольку штук. Пластинчатые браслеты часто надевали на предплечья у локтевого сгиба. Многие браслеты носились поверх рукава сорочки. Поразительно велико число их разновидностей: дротовые, витые, ложновитые (отлитые по форме, имитирующей витой браслет), плетеные, пластинчатые, ладьевидные, узкомассивные (в виде вытянутого поперек запястья ромба или овала) и др. Специфически городскими были лишь створчатые браслеты из билона, свинца с оловом, серебра, в том числе позолоченного[604]. Среди женских украшений особенно распространенными в X–XV вв. были перстни. Объясняется это важнейшей ролью перстня в свадебной обрядности. Хотя их носили и мужчины, перстни были все же женским украшением. Имеется находка перстенечка в детском захоронении — на ручке у девочки двух-трех лет. Перстни носили, конечно, на руках, но в нескольких захоронениях они надеты и на пальцы ног. Перстни — одна из самых многочисленных археологических находок среди украшений. Они нередко повторяли формы браслетов (витые, плетеные, пластинчатые и т. п.). Индивидуальную форму имели печатные перстни, а также новгородские перстни со вставками — зелеными, синими, голубыми, черными, прозрачными стекляшками. Печатные перстни и новгородские со вставками получили распространение не ранее XIII в., существовали вплоть до XV в. и даже позднее. Изображения печатей перстня (птицы, звери, цветы, треугольники) служили и личным знаком владельца, если оттискивались на воске после текста документа, скреплявшего сделку[605]. Женский костюм завершала обувь. Одно из первых упоминаний о «сапозех» и «лаптех» содержится в Лаврентьевской летописи под 987 г. Лапти различных плетений (косого, прямого — в зависимости от традиций того или иного этнического региона) носили главным образом сельские жительницы. Делались лапти из лыка (внутренней части коры лиственных деревьев) и бересты, которые долго вымачивались и распрямлялись под прессом. Для получения одной пары лаптей на небольшую женскую ступню нужно было погубить три-четыре молодые липки, а носились такие лапти, даже сплетенные «с подковыркой» (двойной подошвой), от нескольких дней до недели. Форма лаптей разнилась в зависимости от местности: южные и полесские лапти были открытые, а северные — «бахилы» — имели вид низких сапог. Лапти, плетенные из кожи, были много прочнее лыковых, но и дороже. Чтобы совместить дешевизну с прочностью, в деревне нередко применяли комбинированное плетение лаптей из лыка и кожаных ремней. В городах лапотцы в XII–XIV вв. делали также из покромок ткани, кусочков сукна и даже из шелковых лент. Тогда их называли плетешками[606]. Женскую кожаную обувь шили в XIII–XV вв. в городах из шкур лошадей, крупного и мелкого рогатого скота[607]. Летописец, описывая легендарное путешествие апостола Андрея в Новгород в XII в., сообщает: «Дивно видех словеньскую землю, идучи ми селю. Видех бани древены… и совлокуться, и будуть нази, и облеются квасом усниянымъ…» («усние» — древнерусское название кожи)[608]. Разрыхленная квашением в хлебном квасе кожа дубилась корой ивы, ольхи, дуба (отсюда и сам термин «дубление»); затем кожи выравнивались, жировались для эластичности и разминались. Таким образом получались самые дорогие сорта кож — юфть и полувал, но в них могли щеголять лишь знатные боярыни. Юфть окрашивалась в яркие цвета, о чем свидетельствуют и книжные миниатюры, и фрески, изображающие знатных женщин. На матери Ярополка Изяславича из Трирской псалтыри башмачки красные; такие же изображены у княгини Киликии, жены Святослава Ярославича (Изборник 1073 г.), и у жен новгородских бояр на иконе «Молящиеся новгородцы» (XV в.). Археологические находки подтверждают, что цвета кожаной женской обуви были разнообразными — не только красными, но и зеленоватыми, желтыми, коричневыми[609]. Мягкая юфть разных цветов была не по карману простым новгородкам. Они носили обувь из сыромятной кожи — так называемые поршни[610]. Обувь для «поршней» не дубили, а лишь разминали и пропитывали жиром. Она была очень прочной, только быстро намокала в дождь. Шили женскую кожаную обувь льняными нитками, которые для прочности вощили. Мягкие женские «поршни» с небольшим числом швов делали нередко из более тонких и нежных частей кожи животного, главным образом из его «чрева» — брюха; они и назывались «черевья» (черевички). Повседневные «поршни» и «черевья» украшались лишь необычными швами («плетешок»). Вокруг краев «поршня» пропускались кожаные ремешки, которые стягивали обувь по ноге, образуя мелкие складки, тоже украшавшие обувь. Ажурные «поршни» были гораздо наряднее. Они делались нередко с матерчатой подкладкой. Орнамент ажура представлял собой чаще всего параллельные прорези, полоски. В случае пронашивания такая обувь тщательно ремонтировалась кожаными же заплатками. Кроме ажуров с X в. существовали вышивка обуви шерстяными и шелковыми нитками, а также ее тиснение. Ажурные и вышитые «поршни» появились в городах (Новгороде, Гродно, Старой Рязани, Пскове) не ранее XI в.[611] Распространенным типом женской кожаной обуви были мягкие туфли, напоминающие современные детские пинетки. У большинства таких туфель у щиколотки пропускался ремешок, завязывавшийся спереди на подъеме. Длина следа в найденных экземплярах женской обуви не превышает 20–22 см; это говорит о том, что ножки горожанок того времени были весьма миниатюрными[612]. Полусапожки горожанок были короткими и не жесткими: в заднике у них отсутствовала твердая прокладка из бересты или дуба, обязательная в сапогах. Как и туфли, полусапожки украшались вышивками. Среди вышивок обуви Пскова XII–XIII вв. преобладают красные кружки (солярные знаки), прошвы из темных ниток (изображение дороги) и зеленые завитки (символ жизни). С XII в. любимым типом обуви состоятельных жительниц древнерусских городов стали сапоги — тупоносые и остроносые (в зависимости от традиций данного региона), причем носок был немного приподнят. Псковские сапоги были непременно с кожаным, наборным, низким каблучком (с XIV в.), а, например, рязанские отличались треугольной кожаной вставкой на носке. Яркие кожаные сапожки с выпушкой материи и вышивкой цветными нитками, речным жемчугом являлись дополнением нарядной и праздничной одежды богатых женщин, своеобразным показателем достатка семьи, необходимым атрибутом одежды лиц, облеченных властью[613]. Итак, сочетание основных предметов и украшений женского костюма X–XV вв. может дать представление не только о внешнем облике, но и о социальном, семейном положении женщины и месте ее жительства. Основу костюма древнерусских крестьянок в X–XV вв. составляла длинная, до щиколоток рубаха (сорочка) и набедренное одеяние (понева). Обязательной частью женской крестьянской одежды был пояс. Чем богаче была сельская жительница, тем больше в ее наряде, особенно праздничном, было всевозможных украшений, выше качество их выработки, дороже использованные материалы. Наиболее приметной частью костюма крестьянки домонгольского периода был головной убор (венец у девушек и кика у «мужатиц»), а также его украшения — височные кольца, по форме которых можно было судить о том, откуда родом их обладательница. Носили крестьянки серьги, бусы, привески, медные браслеты и перстни. На ногах у деревенских женщин были лапти. Состав костюма древнерусских горожанок был сложнее и включал большее число предметов. Поверх длинной сорочки они надевали одно или несколько платьев прямого или расширенного покроя и распашное одеяние. Число одежд зависело от сезона и материального достатка семьи. Верхнее платье делалось короче нижнего и имело более широкие рукава. Подол и обшлага нижней одежды всегда были видны, образуя ступенчатый силуэт. Как и в костюме крестьянок, дополнял наряд пояс. В одежде знатных горожанок, княгинь и боярынь использовались дорогие, чаще привозные ткани. Из бархатистого аксамита шились распашные одежды типа плащей с застежкой на правом плече — часть праздничного облачения княгини. Особенности климатических условий (холодные зимы) были причиной особого внимания к теплой одежде на меху — шубам, которые в то время носили мехом вовнутрь. Головной убор горожанок всех сословий (коруны у девушек и кики с повоями у замужних) по форме имел много общего с крестьянским, что обусловливалось его происхождением от сельского, однако отделка его была сложной, замысловатой. Украшением убора горожанки долгое время служили колты на ряснах (у зажиточной части они делались из драгоценных металлов). Шеи горожанок «огружали» металлические гривны и ожерелья из бус. Боярыни и княгини носили поверх рукавов на запястье и предплечье массивные створчатые браслеты; горожанки попроще довольствовались разноцветными стеклянными. В отличие от крестьянок-«лапотниц» горожанки и представительницы господствующего класса были «все в сапозех». Кожаная обувь X–XIII вв. — «поршни», мягкие туфли, полусапожки и сапоги без каблуков и жесткой основы — кроилась просто и грубовато, зато была яркой, цветной. В XIV–XV вв. свободный ступенчатый силуэт одежды, подчеркивавший статность русских женщин, претерпел мало изменений. Менее всего новации затронули наряд сельских жительниц, хотя височные кольца (свидетельство этноплеменной принадлежности) или, например, шумящие привески (признак соседства с угро-финскими племенами) постепенно исчезли из убора крестьянок. У знатных горожанок, боярынь, княгинь вместо плащей появились летники, «кортели», «опашни». В холодный осенний или зимний день они надевали кожухи и шубы, которые в богатых семьях теперь крылись яркими дорогими тканями. Излюбленным цветом одежды традиционно оставался красный. Количество и качество платья и украшений по-прежнему обусловливали социальный престиж их обладательниц. Обувь Марфы Борецкой и ее современниц (конец XV в.) стала значительно более сложной по крою и оформлению: появились ажуры, составные изделия. «Поршни» совсем вышли из употребления; повседневная обувь стала удобнее по конструкции. В XIV–XV вв. наибольшее распространение получили полусапожки и сапоги с наборным кожаным каблучком на жесткой основе, ставшие излюбленной обувью горожанок, а также княгинь и боярынь. Изготовление одежды, прядение и ткачество, шитье и вышивание были повседневным рукоделием всех женщин — богатых и бедных, хозяек и их служанок. Благодаря самим женщинам женские наряды становились подлинными произведениями искусства. Об этом пишет и летописец: «Обретши волну и лен творит благопотребная руками своими… Руце свои простираеть на полезьная, локти свои устремляеть на веретено… Сугуба одеянья сотворит…»[614]
Глава V.
«Теремная затворница» или правомочный член общества?
(Историография проблемы)

Представления о социальном положении древнерусских женщин в дореволюционной историографии
Накопление фактического материала о положении женщин в древнерусском обществе, их имущественных и социальных правах, семейном статусе и роли в культурной и общественно-политической жизни в X–XV вв. началось в отечественной историографии в XVIII — первой половине XIX в.[615] Одним из первых идеей создания портретов «россиянок, знаменитых в истории или достойных сей чести», увлекся крупнейший дворянский историк, «последний летописец» Н. М. Карамзин. Его историческая повесть о Марфе-посаднице пробудила интерес к биографиям других выдающихся женщин русского средневековья. Предлагая историкам обратиться к этим сюжетам, Н. М. Карамзин считал возможным воссоздать женские портреты на основании летописных, агиографических, литературных и легендарных фактов, «изображая лица живыми красками любви к женскому полу и к отечеству»[616]. В начале XIX в. появились первые работы о древних свадебных обрядах. Н. Цертелев, И. Платонов, М. Морошкин придерживались мнения, что в давние времена «девическая жизнь предпочиталась жизни замужних женщин, которые зависели от мужей своих», что жены русских князей были «рабынями или по высшей мере прислужницами мужей»[617]. Один из исследователей русских свадебных обрядов, Д. И. Языков, собрал сравнительно большой фактический материал и подробно описал роль женщин — свах, подруг, боярынь, посаженой матери и т. д. — в свадьбе в XVI–XVII вв., сетуя на скудость материала по этому вопросу до XV в. включительно. Это утверждение опроверг в 50-х годах XIX в. М. П. Погодин, который на основе скрупулезной выборки и подборки отрывков из русских летописей осветил «частную жизнь» князей, а также свадебные обряды и семейные нравы X–XIII вв.[618] М. П. Погодин не ставил перед собой исследовательских задач, но его публикация пробудила интерес к жизни и быту древнерусского общества. В 60-х годах XIX в. среди работ, освещающих «домашнюю жизнь и нравы» людей X–XVI вв., выделились труды видного историка и археолога, создателя программы по изучению истории быта русского народа И. Е. Забелина. Они касались и социального статуса женщин в средневековой Руси[619]. И. Е. Забелин использовал широкий круг источников: летописи, свидетельства иностранцев, древнерусскую церковную литературу, памятники материальной культуры и др. Поэтому при всей ограниченности концепции И. Е. Забелина (он, в частности, полагал, что «права женщины как члена семьи» не связаны с «ее правами как члена общества») в его работах много важных и точных наблюдений о положении русской женщины в древности и в средневековье. Современник И. Е. Забелина Н. И. Костомаров — историк либерально-буржуазного направления, исследовавший главным образом XVI–XVII вв., — привел в своих трудах немало фактов, поражающих читателя «избытком, — как он сам писал, — деспотизма мужа над женой» в средневековой Руси. Но в работе по истории Северо-Западного региона Русского государства им были сделаны иные выводы о социальных правах и нравах русских женщин. Так, Н. И. Костомаров отметил, что «женщина в Новгороде пользовалась юридическим равенством с мужчиной». Перу Костомарова принадлежит и вводная статья к альбому «Русские исторические одежды» С. С. Стрекалова, в котором едва ли не впервые обстоятельно прорисованы детали древнерусского женского костюма и женских украшений[620]. Среди работ буржуазных историков XIX в., касавшихся истории семейных отношений, а также вопроса об участии женщин в производительном труде и ремеслах (в рамках «семейной экономики»), следует отметить труды А. Терещенко и Н. Аристова. Книга видного русского этнографа А. Терещенко «Быт русского народа» по сей день привлекает исследователей богатством фактического материала. Используя древнерусские, арабские, греческие источники, он сделал попытку исследовать историю женского костюма на Руси и затронул вопрос о «византийских заимствованиях» в древнерусской одежде. Полвека спустя поднятая А. Терещенко тема нашла отклик в литературе. В книге Н. Аристова «Промышленность Древней Руси», под коей автор разумел всю хозяйственную деятельность человека, для своего времени исчерпывающе разработаны летописи, акты, жития, сведения иностранцев, переводная литература, былины[621]. В качестве свода материалов по истории быта, костюма, ремесла, в том числе «женского», она служит справочником не одному поколению историков. С 30-х годов XIX в. изучение социального положения женщин в древней и средневековой Руси было связано с проявлением научного интереса прежде всего к правовым отношениям внутри древнерусской семьи. Этому способствовал перевод с немецкого языка фундаментального труда профессора Дерптского университета И. Ф. Эверса «Древнейшее русское право в историческом развитии» (СПб., 1835). И. Ф. Эверс подчеркнул связь между возникновением русской государственности и эволюцией семейно-родовых отношений. Внимание буржуазных историков права привлекли уголовно-правовые и материально-правовые нормы X–XV вв.[622], имущественные и наследственные отношения между супругами[623], правовое положение женщин[624]. Однако историки государственной школы, преувеличивая значение нормативных документов, обрекали себя на формально-юридическую трактовку явлений истории древнерусской семьи, правового статуса женщин и тем самым искажали и упрощали представления о древнерусском обществе. Односторонность выводов буржуазных историков ярко проявилась в оценке внутрисемейных отношений, в принижении роли женщины в древнерусском обществе, ее правовой дееспособности. Несмотря на большой фактический материал, введенный в научный оборот исследователями древнерусского права, и значительное число работ по проблеме, ученый мир того времени не выработал определенного мнения по вопросу о наличии у женщин собственного имущества (о так называемой «раздельности имуществ супругов»). Решение этого ключевого вопроса ограничилось полемикой в печати, которая выявила полярные точки зрения. И. Ф. Эверс и его последователи А. Попов, В. И. Сергеевич отстаивали положение о том, что в древнерусской семье у женщины отсутствовала отдельная от мужа собственность, а это якобы доказывало исконную подчиненность жены мужу[625]. Н. Рождественский, О. Ланге, И. Губе. А. Савельев, Н. Дебольский, напротив, подчеркивали правовую самостоятельность женщин и имущественную раздельность в супружеском союзе[626]. В начале XX в. Д. Я. Самоквасов высказал мысль о наличии в начальные века русской истории двух «типов» жен: «купленных или приобретенных посредством грабежа» и «договорных», обладавших по сравнению с первыми значительной имущественной самостоятельностью. К точке зрения о «раздельности имуществ супругов» примыкал В. И. Синайский. Мнение о имущественной несамостоятельности женщин в браке разделял В. А. Рязановский[627]. Буржуазные ученые не смогли объяснить обнаруженные ими в источниках противоречия, вопрос о «женской собственности» остался открытым. Широкий подход к проблеме на основе использования большого круга источников отразили труды крупнейших профессоров Московского университета И. Д. Беляева и С. М. Соловьева. По своим общественно-политическим взглядам они принадлежали к различным течениям русской либерально-буржуазной мысли (И. Д. Беляев — к славянофилам, С. М. Соловьев — к западникам), но «в отношении важного вопроса о положении женщины в древнерусском обществе»[628] — сходились. И. Д. Беляев первым из русских историков использовал для характеристики имущественного положения женщин в X–XV вв. помимо нормативных источников известные тогда науке актовые материалы. Он убедительно доказал самостоятельность материально-правового статуса женщины в древнерусской семье, противопоставив, в частности, ее широкие по тем временам права на опеку и наследство нормам византийских правовых кодексов (Эклоги, Номоканона), содержавших некоторые ограничения материальных прав женщин. И. Д. Беляеву принадлежит идея о развитии норм русского права, относящихся к женщинам, хотя он и не пытался найти основу этой эволюции. Касаясь перспектив развития правового статуса представительниц привилегированного сословия, И. Д. Беляев склонялся к мысли об отсутствии каких-либо негативных изменений в XIV–XVII вв. и даже полагал, что прежний «порядок» остался «до настоящего времени», т. е. до второй половины XIX в.[629] С. М. Соловьев тоже придерживался мнения о наличии у женщин собственного движимого и недвижимого имущества и отмечал вытекающую отсюда возможность их участия в политической жизни общества (подразумевались, естественно, привилегированные его слои). Правда, он считал, что социальная активность женщин в Русском государстве обусловливалась «спасительной силой» христианской религии и ролью духовенства, которое «во имя этой религии поддерживало все эти отношения»[630]. Возрастание интереса к проблемам семьи и социальному положению женщин в русском обществе[631] отвечало идейно-политическим запросам того времени: в среде радикальной дворянско-буржуазной интеллигенции обсуждались вопросы эмансипации женщин. Отсутствие трудов по интересующей нас теме историк государственной школы К. Д. Кавелин назвал тогда «одним из самых чувствительных пробелов в изучении русской истории»[632]. На этом фоне особенно заметным был труд В. Я. Шульгина о женщинах допетровской эпохи. Он поставил ряд широких исследовательских задач: изучить семейную жизнь русского народа, определить — через «историю женщин — степень влияния на нашу жизнь элементов византийских, монгольских, европейских». В «истории русской женщины» В. Я. Шульгин выделял три основных периода: языческого быта, домонгольский и XIV–XVI вв. Первый из них характеризуется тем, что «все сферы жизни открыты женщине», второй — постепенным «исключением женщины из мужского общества», третий — развитием затворничества. Возвращение женщине ее места и социальных прав в обществе произошло, по мнению Шульгина, при Петре I. Главной доминантой, воздействовавшей на изменение прав и социального статуса женщин, он считал «византийское влияние», усиливавшее стремление «к религиозному уединению русских женщин»[633]. Однако затворническая жизнь монастыря была явлением общим и для женщин, и для мужчин, а «византийское влияние» на русское право в X–XV вв. способствовало скорее развитию тенденций, противодействовавших «отлучению» (термин Шульгина) женщин от общественной жизни, чем их затворничеству. К числу первых специальных исследований относится и книга А. В. Добрякова «Русская женщина в домонгольский период», изданная в 1864 г. Ее автор, учитель одной из санкт-петербургских гимназий, поставил перед собой цель «рассмотреть, как представляют женщин памятники древнейшего периода русской жизни»[634]. А. В. Добряков впервые предпринял попытку рассмотреть положение женщин в семье и обществе в зависимости от их принадлежности к тому или иному социальному слою. Он стремился показать имущественные и личные права женщин, их жизнь в семье, взаимоотношения с родственниками, различия между правами и положением «язычницы» и «христианки». Во второй половине XIX в. тема, которой посвящена книга, нашла отражение в трудах историков, популяризировавших исторические знания. О судьбе женщины в допетровское время писал Н. Я. Аристов. На основе трудов С.М. Соловьева, В. И. Сергеевича и других ученых создал биографии выдающихся древнерусских женщин Д. Я. Мордовцев. Большой круг историко-литературных источников привлек для освещения «женского литературного типа» Древней Руси И. С. Некрасов[635]. Но преимущественное использование некоторыми филологами (А. Н. Чудиновым, А. И. Желобовским, Н. В. Шеметовой) материалов фольклора приводило к преувеличению степени социальной «свободы» древнерусских женщин, к идеализации их общественного положения[636]. В то же время ограничение круга источников нарративной и церковной литературой вызывало тенденциозное преуменьшение значения и роли женщин в хозяйственной и политической жизни древнерусского общества. «Женщина была бесправна… роль женщины проявлялась только в семье», — писал И. Е. Забелин. «…Ни о какой общественной жизни для женщины не могло быть и речи…» — отмечал позднее Н. К. Грунский[637]. Возможности использования агиографического материала для изучения древнерусской истории исследовал в 1871 г. В. О. Ключевский и пришел к выводу, что канонизированность описаний жизни, поведения, самих образов древнерусских женщин в житийной литературе и связанное с этим искажение фактов являются помехой для привлечения житий как источника исторического исследования[638]. Действительно, даже для характеристики «деяний» выдающихся женщин русской истории (например, княгини Ольги) материал агиографии оказывается на редкость тенденциозным. Но, взятые в комплексе и сопоставленные с другими историческими памятниками, данные житийной литературы могут помочь воспроизвести церковную концепцию социальной роли женщины. Однако этот прием не использовался в дореволюционной буржуазной науке. Свое понимание вопроса о социальном положении древнерусской женщины дали революционные демократы и их последователи, произведения которых носили большей частью пропагандистский характер. Они подчеркивали неравноправие женщин в любом классовом обществе и искали причину этого в сфере общественных отношений. Сравнивая различные формы государственного устройства в период феодальной раздробленности, последователь революционных демократов И. А. Худяков увидел существенные различия в положении женщин в княжествах и феодальных республиках. Так, он обратил внимание на отдельные свидетельства участия женщин не только в судебных тяжбах, но и в политической жизни средневекового Новгорода и использовал эти данные для обоснования необходимости решить один из насущных тогда вопросов — о социальном равноправии женщин. В одной из своих статей И. А. Худяков утверждал, что проблема социальной роли женщины в «эпоху Древней Руси и Московии» должна рассматриваться на основе трех видов источников: фольклора, церковной литературы и летописей, соответственно представляющих «три женских портрета»: «поляницу», «злую жену» и, наконец, «пользовавшуюся большей свободой правительницу» (Марфа, Софья Витовтовна и т. д.)[639]. Другой представитель демократического лагеря — С. С. Шашков — в своих исследованиях по истории русских женщин опирался на опубликованные письменные источники. В предисловии к одной из книг, изданной в 1872 г., он писал: «…ввиду вопросов эмансипации, волнующих современные женские поколения, знание былых судеб русской женщины представляется не только интересным, но и практически полезным для дела освобождения». С. С. Шашков заметил связь между возникновением частной (он ее называл «исключительной») собственности и ухудшением социального положения женщин, т. е. вплотную подошел к историко-материалистическому пониманию проблемы. Говоря о тяжелом положении зависимой женщины, он подчеркивал, что «женщина всегда старалась освободиться из этого положения, что она боролась с враждебными ей началами». «Противодействие русской женщины всему, что давило и порабощало ее, было достаточно сильным», — отмечал С. С. Шашков. К «порабощающим началам» он относил «религию, закон, обычай». По его мнению, особенно заметное негативное воздействие на социальное положение русских женщин оказал «византизм», наложивший на всю древнерусскую жизнь печать «мрачной, суровой замкнутости». В этом вопросе он, как видим, разделял взгляды В. Я. Шульгина. С. С. Шашков считал, что XVI век принес «полное порабощение» женщине, а «историю борьбы женщин за свободу» и «самостоятельность» начинал со сподвижницы Степана Разина Алены Арзамасской (Темниковской)[640]. С демократических позиций подошел к исследованию проблемы и историк-публицист А. П. Щапов. Его интересовали главным образом такие вопросы, как «положение народной женщины», женская грамотность и образование. Представляет интерес вывод А. П. Щапова о противоречивости влияния церкви и христианства на изменения в положении женщины С одной стороны, писал он, «церковь с самого начала взяла женщину под свою защиту, возвысила значение матери», а с другой — та же церковь «укореняла в ней (женщине. — Н. П.) веру в святость и нерушимость церковно-брачного подчинения мужу». «Источник унижения и отверженности» женщины в Древней Руси А. П. Щапов предлагал искать в воззрениях людей, а также в господстве аскетических идеалов, насаждавшихся церковью[641]. Особое направление в исследовании истории древнерусской семьи и социального положения женщины буржуазными учеными связано с применением сравнительно-исторического метода. Несмотря на ряд допущенных исследователями ошибочных сопоставлений, этот метод способствовал углубленному анализу проблемы. В трудах С. М. Шпилевского, С. В. Ешевского и других ученых собран большой материал для сравнительного изучения положения женщины и истории семьи в средние века на Руси и в Западной Европе. К. Алексеев и В. Д. Спасович при сравнении прав супругов на Руси и в Польше выявили аналогии в развитии семейного права восточного и западного славянства. В работах М. И. Горчакова, Д. Н. Дубакина, А. И. Загоровского, Н. К. Суворова, А. С. Павлова, А. И. Алмазова на основе исследования византийских правовых норм, вошедших в состав древнерусских памятников семейно-брачного права, определялись сходство и различия семейно-брачных норм Византии, Руси и Западной Европы, доказывалась самобытность русского брачного права[642]. Среди причастных к этому направлению исследователей было много специалистов по истории церковного права. Не случайно материалы их трудов неоднократно использовались А. Надеждиным, Т. В. Барсовым, Л. М. Альтшуллером и другими авторами, которые стремились показать права и роль женщины в обществе позиций христианских воззрений, на основе церковной концепции. Защитники ее восхваляли влияние церковных законов на укрепление семейного статуса женщин, что якобы благотворно способствовало «устранению женщин из жизни общественной» и выполнению ими тех функций, которые «свойственны женщинам от природы»[643]. Однако мнение авторов, разделявших взгляд церковников на предназначение женщины, не было общепризнанным. В спор с теми, кто представлял древнерусскую женщину — вслед за канонической литературой и церковными законами XII–XV вв. — «покорной рабой, игрушкой своего мужа-господина»[644], вступили ученые, которые отвергали воззрения на сам брак в Древней Руси как на акт исключительно религиозный. Многие исследователи семейно-брачных отношений в «домосковский период» Руси (А. Ефименко, А. Смирнов, Л. Харламов и др.) стремились доказать, что брак в X–XV вв. был лишь разновидностью частной сделки, носил договорный характер; что по крайней мере в домонгольский период оба лица, вступавшие в брак, участвовали в заключении договора о нем[645]. В конце XIX — начале XX в. возрос интерес к историко-этнографической проблематике[646], и внутрисемейные отношения в X–XV вв. нашли отражение в исследованиях историков, сумевших научно оценить древнерусскую покаянную литературу и епитимийники как источники по истории семейного быта Древней Руси, Особую роль в изучении этих памятников сыграли публикации и работы С. И. Смирнова[647]. В начале XX в. попытку создать обобщающие работы по «истории русской женщины», дать ответ на вопрос о причинах ее «долголетнего теремного затворничества», отнявшего у нее все человеческие права»[648], предприняли женщины — М. Дитрих и Е. Щепкина. Их выводы мало чем отличались от выводов предшественников[649]. В качестве причин негативных изменений в социальном статусе женщин М. Дитрих и Е. Щепкина выдвигали «утверждение патриархальных начал», влияние христианства и византийской литературы. Остались традиционными и хронологические этапы в «истории русской женщины»: языческая свобода, которую сменило «постепенное закабаление»; с XVI в. — усиление затворничества, а со времени Петра I — освобождение, включение женщин в общественную жизнь. Е. Щепкина внесла, правда, в эту хронологию некоторые коррективы, до XVI в. — «замкнутость семейной жизни для женщин высших классов», а с XVI в. — возрастание интереса к «ценности женской личности»[650]. На рубеже XIX и XX вв. буржуазные историки проявили внимание к новым сторонам проблемы. Так, в рамках изучения внешней политики Руси и истории международных отношений X–XIII вв. освещалась (до этого отмеченная лишь в популярных очерках) внешнеполитическая деятельность великой княгини Ольги[651], королевы Франции — дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны[652], императрицы Германии Евпраксии-Адельгейды Всеволодовны[653], королевы Венгрии Евфросиньи Мстиславны[654], а также дипломатическая деятельность русских княжон, в том числе польской королевы Елены Ивановны — дочери Ивана III[655]. На участие в установлении международных контактов представительниц княжеских родов указывалось и в биографических очерках отдельных князей, составленных А. В. Экземплярским[656]. Немногим больше «повезло» вопросу об образовании и грамотности женщин в Древней Руси. На рубеже XIX и XX вв. увидела свет книга известной участницы женского либерального движения 70–80-х годов Е. О. Лихачевой «Материалы для истории женского образования в России (1086–1856)». Однако наука располагала тогда лишь нарративными и отчасти актовыми материалами, не были еще известны или верно датированы многие эпиграфические источники. Следствием ограниченности источниковой базы был вывод об общей неграмотности древнерусских женщин, за редким исключением представительниц привилегированных слоев[657]. К началу XX в. русская историческая наука накопила некоторый археологический материал, позволивший расширить представления о древнерусской одежде и женских украшениях[658]. Обобщить достижения русских археологов попыталась Л. Н. Кудь. Ее небольшая работа «Костюм и украшения древнерусской женщины» (Киев, 1914) по сей день единственное исследование, специально посвященное этому вопросу. Но вне поля зрения автора оказались многочисленные свидетельства русских летописей, памятников церковной литературы. Не использовались в работе фрески и миниатюры как источники по истории древнерусского женского костюма, хотя вопрос о привлечении их к изучению одежды X–XV вв. был уже поставлен[659]. Итак, русская дореволюционная историография выявила и накопила значительный конкретно-исторический материал, позволяющий с разных сторон осветить историю семьи, социальное положение и роль женщины в древнерусском обществе, воссоздать ее внешний и духовный облик. Буржуазные историки концентрировали внимание на юридических аспектах внутрисемейных отношений, исследовали главным образом имущественные права супругов в семье. Проявив интерес к отдельным представительницам привилегированного сословия, они отчасти осветили социальный статус женщин этого ранга. Филологи и этнографы выделили наиболее яркие женские образы в фольклоре XI–XV вв. В попытках создать обобщающие труды по проблеме заметно стремление выявить динамику изменений в социальном статусе древнерусских женщин, предложить свое понимание вопросов о причинах возникновения их политического неполноправия, о новых путях и традициях в истории женской эмансипации. Однако концептуально-методологическая ограниченность не позволила дворянско-буржуазной историографии дать обоснованное решение ряда сложных вопросов Древнерусской семьи, в том числе и об имущественных правах женщин в Древней Руси. Ученым революционно-демократического направления, вплотную подошедшим к историко-материалистическому пониманию процесса эволюции семейныхотношений, также не всегда удавалось правильно объяснить явления X–XV вв. Но именно они первыми обратили внимание на необходимость изучения положения «народной» женщины, расширив тем самым круг исследуемых вопросов.Древнерусские женщины в работах советских ученых
Возможность подлинно научного исследования проблемы, которой посвящена книга, дала историкам марксистско-ленинская методология. В трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина содержатся существенные выводы об основных общих чертах, характеризующих феодальную формацию в целом и феодальную семью в частности, имеются ценные высказывания о роли женщины в обществе, в том числе в феодальном. По отношению к женщине в обществе, писал К. Маркс, можно «судить о степени общей культуры человека». Ф. Энгельс отметил в «Анти-Дюринге» верное положение социалистов-утопистов о том, что «в каждом данном обществе степень эмансипации женщины есть естественное мерило общей эмансипации»[660]. Исследуя процессы классообразования, Ф. Энгельс показал зависимость и тесную взаимосвязь происхождения семьи, частной собственности и государства. Рассматривая семью исторически, в ее связях с производством, экономическим развитием и всей жизнью общества, Ф. Энгельс пришел к выводу, что утверждение частной собственности на средства производства сопровождалось негативными изменениями в социальном положении женщин. Он писал: «Ниспровержение материнского права было всемирно-историческим поражением женского пола. Муж захватил бразды правления и в доме, а жена была лишена своего почетного положения, закабалена, превращена в рабу его желаний, в простое орудие деторождения»[661]. Поскольку феодальной формации — особенно в ее «первые столетия» — присуще господство натурального хозяйства, когда дом и семья были жизненной и производственной ячейкой, постольку права женщин, их положение в феодальном обществе зависели в конечном счете от статуса женщины в семье. «Господство мужа» и «сравнительно большую крепость брачных уз, которые только муж и может расторгнуть», Ф. Энгельс выделил как отличительные черты моногамной семьи того времени. В основе подобной дифференциации социальных и семейных ролей лежали, как указывал Ф. Энгельс, «экономические условия, а именно победа частной собственности», ибо в классическом виде в любом зрелом феодальном обществе в роли собственников средств производства выступали, как правило, мужчины, а женщины были исключены из системы первичных отношений распределения (средств производства, и прежде всего земли). Говоря об исключении женщин из социально-экономических отношений в эпоху средневековья, Ф. Энгельс отнюдь не утверждал, что они были отстранены и от участия в производительном труде. На женщинах по-прежнему лежали все домашние заботы, но, писал Энгельс, «ведение домашнего хозяйства утратило свой общественный характер. Оно перестало касаться общества. Оно стало частным занятием…»[662]. Ф. Энгельс обратил внимание и на то, что «господство мужа» в средневековой европейской семье накладывало особый отпечаток на внутрисемейные отношения. Главе семьи принадлежало право решения всех вопросов, связанных с замужеством взрослых дочерей и с разрывом брачных уз. Исключенность из системы опекунского, наследственного, владельческого права ставила женщин в феодальную эпоху в неполноправное, несамостоятельное, зависимое положение от отца и мужа. «Это приниженное положение женщины… постепенно было лицемерно прикрашено… но отнюдь не устранено»[663]. Ф. Энгельс дал обобщенный образец феодальной семьи, указал наиболее типические черты и отношения, характеризующие социальный и семейный статус женщин в средневековую эпоху. Но марксистско-ленинская теория социально-экономических формаций, предполагая типологический подход к истории человечества, тем не менее не отрицает, что в рамках стадиальных типов общественного развития имело место значительное разнообразие конкретных форм. Отсюда вытекает необходимость пристального изучения этих форм по отдельным регионам. Творчески осваивая наследие К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, советские историки смогли значительно продвинуть исследование социальной, экономической, политической истории Руси в эпоху феодализма, в том числе и изучение истории семейно-брачных отношений, быта, материальной и духовной культуры. Уже в 20-х — начале 30-х годов XX в. советские Ученые встали на путь поиска с позиций исторического материализма решения проблем, поставленных буржуазной наукой. Конечно, труды С. Я. Вольфсона, Н. К. Ковалева, В. Ф. Ржиги о семье и браке в феодальный период имели недостатки, свойственные в то время молодой советской исторической науке в целом: слабо анализировались факты, недостаточно критически оценивались источники. Утверждение марксистско-ленинской концепции затруднялось тем, что отечественная история была «обжита» буржуазной наукой, оставившей значительное историографическое наследство, в котором наряду с определенными достижениями было много идеалистических схем и антинаучных конструкций. Тем не менее первые труды историков-марксистов отличал уже классовый подход к исследуемой проблеме. Так, С. Я. Вольфсон, рассмотрев положение женщины в средние века по различным социальным категориям (феодалы, купцы-горожане, крестьяне и ремесленники), подчеркнул, что «семья и брак в разных классовых группировках феодальной эпохи имели организацию столь же различную, сколь было различно и общественное бытие этих группировок»[664]. В числе первых появились работы, раскрывавшие общественную деятельность ряда известных представительниц привилегированного сословия Русского государства. Сопоставление русских источников между собой и с иностранными актами и хрониками позволило Е. А. Рыдзевской выявить новые имена деятельных женщин Древней Руси, известных в X–XIII вв. в странах Западной Европы[665]. Блестящий знаток феодального землевладения и генеалогии С. Б. Веселовский впервые применил ее для изучения земельных владений феодалов, в том числе женщин. Исследованию особенностей правового статуса знатных вдов историк отвел специальную главу в одном из своих трудов. Определенный вклад в изучение «женского землевладения» XIV–XV вв. внесли работы С. А. Таракановой-Белкиной, которая впервые подсчитала размеры вотчин некоторых крупных новгородских боярынь и своеземиц по Писцовым книгам[666]. На новой методологической основе строилось изучение социально-правового и семейно-правового статуса древнерусских женщин. С. В. Юшков пришел к выводу о высоком уровне развития семейного права в Древней Руси, отметил взаимосвязь между семейным правом феодального периода и древним обычным правом. Вслед за С. Я. Вольфсоном С. В. Юшков подчеркнул, что при сословном принципе складывания феодальной юриспруденции не могло быть общего наследственного или семейного права для феодалов и крестьян в Древней Руси. С. В. Юшков рассмотрел некоторые стороны имущественных отношений между супругами, учитывая социальную стратификацию. Анализируя генезис различных отраслей древнерусского права, в том числе семейного, он выдвинул гипотезу о преобладании на Руси в XI–XVII вв. семейной общины-задруги. Однако эта точка зрения не встретила поддержки в исторической литературе[667]. Оригинальное исследование Б. А. Романова «Люди и нравы Древней Руси» (М., 1947) содержит ряд интереснейших характеристик деятелей древнерусской эпохи, социальных групп и институтов домонгольской Руси. Б. А. Романов описал жизнь «всякого человека Древней Руси XI–XIII вв.» — словом, и горожанок, и крестьянок, и княгинь, женщин свободных и зависимых, а также брачные обряды и развод, составление завещания, семейный быт и различные житейские ситуации, в которых участвовали и женщины. Заслугой его, по словам Б. Д. Грекова, было то, что он сумел определить, в чем «быт противоречил установлениям церкви, и то, в чем он шел у церкви на поводу»[668]. Благодаря успешному развитию археологии в изучении истории быта и одежды русских людей, в том числе женщин, наметились направления, не известные дореволюционной историографии, например социально-дифференцированный подход к истории одежды вообще и женской в частности. В 30–40-е годы заметный вклад в исследование особенностей украшений, тканей, обуви древних руссов внесли А. В. Арциховский, В. Ф. Ржига, М. Г. Рабинович, А. С. Гущин, а также Л. И. Якунина, занимавшаяся типологизацией древнерусских тканей. А. В. Арциховский блестяще доказал необходимость привлечения древнерусских миниатюр к анализу истории одежды, быта и нравов древних руссов[669]. Большую роль в разработке истории быта, одежды, социального лица древнерусского человека сыграл труд Б. А. Рыбакова «Ремесло Древней Руси» (М., 1948). Б. А. Рыбаков отметил роль в ремеслах древнерусских женщин, занимавшихся ткачеством, прядением, выпечкой хлеба, гончарным делом и даже участвовавших в ряде «мужских» ремесленных операций, например в литейных и железоделательных промыслах. Исследуя надписи на предметах, он впервые поставил вопрос о грамотности древнерусских ремесленниц[670]. В 50–60-е годы отечественная медиевистика получила ряд многотомных публикаций важнейших юридических памятников и делопроизводственных документов XIII–XV вв. Началось издание первых берестяных грамот, находки и публикация которых продолжаются по сей день. Б. А. Рыбаков обработал большой эпиграфический материал XI–XVI вв. 56 Все это открывало новые перспективы для изучения истории семейного, имущественно-правового и социального положения древнерусских женщин. Особое значение для изучения имущественных прав древнерусских женщин имеет анализ региональных источников по социально-экономической истории России XIV–XV вв. в работах А. П. Шурыгиной, А. Л. Шапиро, В. Л. Янина о Новгородской земле, А. И. Копанева о Белозерском крае, Ю. Г. Алексеева о Псковской земле и Переяславском уезде. Надежную базу для работы над актовым материалом и другими источниками по проблеме создали источниковедческие исследования Л. В. Черепнина[671]. Историко-этнографические аспекты темы освещались в работах А. И. Козаченко о русском народном свадебном обряде и в очерках М. Г. Рабиновича о русском феодальном городе[672]. С середины 50-х годов продолжается дискуссия, связанная с выяснением типологии древнерусской семьи, без изучения которой трудно определить место и роль женщин в обществе, степень их социальной активности в X–XV вв. Труды Б. Д. Грекова, О. М. Рапова, Я. Н. Щапова доказали, что в доордынский период русской истории малая семья преобладала, а большая постепенно отмирала[673]. Но М. О. Косвен считал иначе, и его точку зрения о длительном преобладании больших семей и семейных общин отчасти разделил И. Я. Фроянов[674]. М. Б. Свердлов, предложивший не смешивать понятия патриархальной большой семьи и семьи неразделенной, придерживается мнения о господстве малой семьи. На материалах XVII–XIX вв. эту точку зрения убедительно обосновал В. А. Александров[675]. Интерес к вопросам типологии древнерусской семьи обратил внимание исследователей на самостоятельное значение темы семейного и социально-правового статуса древнерусских женщин. О задаче специальной разработки этой проблемы как назревшей писал еще в 1970 г. Я. Н. Щапов, предлагая анализировать нормативные источники под этим углом зрения. Однако до сегодняшнего дня ее решение не нашло конкретного воплощения, хотя исследование самим Я. Н. Щаповым византийского правового наследия, бытовавшего на Руси в XI–XIII вв., его публикация уставов и уставных записей XII–XV вв. намного облегчают путь историка, занятого выявлением и обработкой нормативных памятников по истории семейного быта[676]. То же значение имеет и исследование Р. Г. Пихоей памятников канонического права, в частности ранних епитимийников, которые являются важными источниками по истории реальной жизни, быта, внутрисемейных отношений[677]. Христианскую доктрину, ее влияние на изменение статуса женщин в Древней Руси, взаимодействие обычного и церковного права в области семейно-брачных отношений освещали в 80-е годы В. Ю. Лещенко, К. Пикуль, А. К. и И. А. Фоменко[678]. Свою роль в изучении некоторых сторон социального положения женщин до XV в. путем сравнения Руси с другими странами средневековой Европы (Великим княжеством Литовским, Англией) сыграли работы Г. М. Даниловой, С. Лазутки, И. М. Валиконите, К. Ф. Савело, Ю. Л. Бессмертного[679]. В статьях И. М. Валиконите об отражении в Первом Литовском статуте социально-экономического и правового положения женщин прямо указывается на взаимодействие норм древнего русского писаного права и обычного литовского, белорусско-украинского права. В последнее десятилетие ярко проявилось стремление наших современников понять жизнь людей раннего средневековья, проникнуть в их духовный мир. Но после книги Б. А. Романова «Люди и нравы Древней Руси» едва ли не единственными исследованиями такого рода были монография В. Л. Янина «Я прислал тебе бересту…» (М., 1975), живо рисующая быт и нравы новгородских горожан, и упоминавшиеся очерки М. Г. Рабиновича[680]. Значительный вклад в изучение этой стороны проблемы внесли советские филологи[681], и прежде всего Д. С. Лихачев. В его трудах «Человек в литературе Древней Руси» (М., 1970) и «Поэтика древнерусской литературы» (М., 1972) реконструируется по сути сама Духовная жизнь людей XI–XV вв. П. В. Снесаревский сделал попытку показать, что древнерусские литературные памятники XV в. отражали относительно высокий для средневековья социальный статус знатных женщин, что свидетельствует, по его мнению, о гуманизации русской культуры[682]. В 70-е годы еще более прояснились черты социального облика древнерусской женщины привилегированного сословия. В. Т. Пашуто, анализируя внешнюю политику древнерусского государства, отметил «целую плеяду русских княгинь, игравших видную роль в политической жизни Европы». А. Н. Сахаров в монографии «Дипломатия древней Руси» посвятил специальную главу княгине Ольге, защищавшей интересы древнерусского государства на дипломатическом поприще. Я. Н. Щапов в труде о княжеских уставах XI–XV вв. показал участие древнерусских женщин привилегированного сословия в законодательной деятельности. В работах С. Д. Бабишина, Б. В. Сапунова, А. А. Медынцевой приводится интересный материал, свидетельствующий о грамотности древнерусских женщин, что было важной предпосылкой участия их в политической жизни феодальных княжеств[683]. Свой вклад в воссоздание внешнего облика древнерусских женщин постоянно вносят археологи и этнографы. М. Н. Левинсон-Нечаева и А. Нахлик исследовали древнерусские ткани[684], С. А. Изюмова, В. П. Левашева, И. Вахрос, Ю. П. Зыбин, Е. И. Оятева — особенности кроя и наименований древнерусской обуви[685]. Группа исследователей-археологов систематизировала древнерусские женские украшения. Н. П. Гринкова, М. В. Седова, И. П. Журжалина и др. специально изучали височные кольца, привески-амулеты, «ожерелки» и другие виды шейных украшений[686]; М. А. Сабурова и В. П. Левашева — самобытный женский головной убор[687]. М. А. Безбородов, 3. А. Львова, Ю. Л. Щапова и др. описали стеклянные украшения и другие аксессуары женского костюма X–XV вв. (бусы, браслеты, перстни, пуговицы, флаконы и т. п.)[688]. А. В. Арциховский и В. П. Левашева в разделах об одежде в коллективных трудах «История культуры Древней Руси» и «Очерки русской культуры XIII–XV вв.» обобщили богатый материал памятников вещественной культуры. О. И. Подобедова проанализировала сведения древнерусских миниатюр и привела новые данные о русской женской одежде. Результаты многолетнего исследования археологических, эпиграфических, историко-этнографических материалов обобщила коллективная монография «Древняя одежда народов Восточной Европы»[689]. Итак, советская историческая наука, расширив источниковую базу изучения отечественной истории периода феодализма и создав необходимые предпосылки для специального исследования социального положения женщин и роли их в древнерусском государстве, осветила ряд новых по сравнению с дореволюционной историографией аспектов проблемы. Фундаментальные работы по истории социально-экономических отношений продвинули вперед изучение имущественного статуса женщин, особенно привилегированного сословия. Типологический подход к проблеме древнерусской семьи открыл пути к изучению новых моментов социального положения женщин в X–XV вв., не известных буржуазной науке. Выявление и публикация архивных источников, развитие этнографии, археологии и других отраслей исторических знаний создают предпосылки для проникновения в глубинные слои древнерусского общества. Тем не менее, несмотря на устойчивый интерес к социальному и семейному положению древнерусской женщины историков нескольких поколений, так и не нашел исследовательского решения вопрос: когда древнерусская женщина стала «теремной затворницей» или она вообще была дееспособной самостоятельной личностью? Историография проблемы, которой посвящена книга, распадается на темы, подчас мало связанные между собой. Между тем интерес к проблеме давно вышел за пределы границ нашего государства. Судьбы отдельных представительниц древнерусского общества и их социальная роль привлекают внимание зарубежных ученых с XIX в. и по сей день.Интерес к проблеме в работах зарубежных авторов
В 1825 г. русский князь А. Лобанов-Ростовский издал в Париже сборник документов, посвященный жизни и деятельности вышедшей замуж за короля Франции Генриха I дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны. В сборник вошли обнаруженные им во французских архивах жалованные грамоты монастырям и аббатствам, выдержки из хроник и прочие документы, свидетельствующие об активности русской княгини на административно-управленческом поприще. Этот факт в известной степени стал знаменательным, так как пробудил интерес зарубежных исследователей к истории Русского государства в средние века. В том же году материалы сборника Лобанова-Ростовского использовал виконт де Сен-Амур в популярной книге, частично посвященной «принцессе Анне-Агнессе» (так называли Анну Ярославну во Франции)[690]. Западные исследователи прежде всего проявили интерес к истории династических браков как средневекового выражения политических союзов между государствами. В их работах XIX — начала XX в. раскрывалась внешнеполитическая деятельность Евпраксии Всеволодовны (в Германии XII в.), Анастасии Ярославны (в Венгрии XII в.), Агафьи Святославны (в Польше XIII в.) и других дочерей великих князей, неоднократно отмечались высокий уровень образованности русских княгинь, их стремление к участию в политической жизни[691]. Немецкие, французские, английские, польские исследователи сравнивали права и социальный статус русских женщин в средние века с правами и статусом их современниц в западноевропейских странах и, как правило, противопоставляли свободное положение женщин в Западной Европе «униженности» и бесправию женщин в Древней Руси. Тогда за рубежом только русский по происхождению немецкий ученый Н. Мельников в специальном исследовании попытался обосновать иное мнение. Он писал, в частности, что «на Руси со времен Ольги женщина занимала высокое положение в обществе, обладала правом собственности, осуществляла дипломатические миссии…». В качестве основных причин изменения социального и правового положения женщин в XVI–XVII вв. Н. Мельников вслед за немецким юристом Е. Гроссе назвал развитие «патриархального начала» и воздействие «христианской религии, препятствующей общественному прогрессу»[692]. В монографии немецкой исследовательницы М. Вебер «Супруга и мать в развитии права» утверждалось, что в средние века женщина была неправомочна, ибо не имела собственности, и как единственное исключение из общего правила рассматривался статус женщин Восточной Европы, и прежде всего России. Именно М. Вебер принадлежит правильное толкование ст. 88 Русской Правды («О жене»), в то время как ее герменевтика вызвала разногласия среди русских исследователей. В немецкой историографии статья изначально признавалась как узаконение равноправного положения мужчины и женщины в древнерусском уголовном праве. М. Вебер отметила высокий уровень развития русского брачного права X–XV вв. и подчеркнула, что оно узаконило дееспособность и процессуальную полномочность женщины, которая после смерти мужа не попадала под опеку какого-либо родственника по мужской линии, а становилась владелицей оставленного ей хозяйства[693]. В 20-е годы XX в. французский историк Б. Шаль и американская исследовательница Е. Елнет предприняли попытку осветить положение незнатной русской женщины, и в частности крестьянки[694]. В то время в зарубежной историографии была общепризнанной точка зрения Е. Гроссе о безусловном преобладании в средние века большого типа семейной организации. Поэтому выводы Б. Шаля и Е. Елнет о существовании в средневековой Руси «нуклеарного» типа семьи (т. е. индивидуальной, малой) явились несомненным шагом вперед. Е. Елнет в качестве источников наравне с памятниками средневековой литературы привлекла без должной критики фольклор XIX в. Конечно, фольклор отражает в известной степени образ мысли людей прошедших эпох, но внеисторичность подхода к произведениям устного народного творчества привела исследовательницу к негативной характеристике статуса женщин в крестьянских семьях (отсутствие прав, подчиненность мужу во все эпохи и т. п.). В 1933 г. на VII Международном конгрессе историков был заслушан доклад польской исследовательницы Л. Харевичовой «Возможно ли написать специальную историю женщины?». В прениях по докладу говорилось о необходимости создания работ по истории социального положения женщин в разных странах в различные эпохи. Л. Харевичова готовила к изданию монографию о женщине польского средневековья, но ее выходу в свет помешала война и смерть исследовательницы в фашистском застенке. Лишь богато иллюстрированный научно-популярный очерк Л. Харевичовой, опубликованный в 1938 г., дает возможность судить о значительной разработанности автором темы и важных выводах, в том числе об общности процессов развития брачно-правовых норм восточных и западных славян, а также имущественно-правового статуса женщин[695]. В 1939 г. вышла книга немецкого ученого Ф. Гаазе об обычаях и народных верованиях восточных славян. Ф. Гаазе впервые обратил внимание на распространенность в Древней Руси икон и фресок с изображением покровительницы замужества и замужних женщин Параскевы Пятницы, предположив, что это каким-то образом связано с языческими верованиями и культом богини Мокоши. Эту гипотезу впоследствии подтвердил советский ученый С. А. Токарев[696]. Известный интерес к проблеме проявил и американский историк Г. Вернадский. Одна из его статей была посвящена особенностям имущественного и социально-правового статуса русских женщин в XVI–XVII вв. — главным образом бездетных вдов, принадлежавших к верхушке привилегированных слоев. Изучая указы и судебники XVI в., он пришел к выводу, что центральная власть стремилась ограничить наследование вотчинных владений вдовами и «помешать им получить больше чем малую долю вотчинного владения» их мужей. Между тем в основе описанных Г. Вернадским явлений лежало не стремление ограничить женщин как таковых, а развитие условного землевладения, вытеснявшего вотчинное. В работах Г. Вернадского 40–50-х годов также имеются некоторые замечания, касающиеся темы книги. Негативные изменения в социальном статусе и семейном положении русских женщин во времена «Домостроя» он объяснял влиянием системы «ордынского властвования» над Русью, которая, по его мнению, якобы сыграла в целом «прогрессивную роль, воздействуя на русскую государственность и русскую культуру»[697]. В 40–50-е годы польские историки и юристы А. Ветуляни, Н. Полонская-Василенко, С. Роман, Б. Лещиньский концентрировали внимание на особенностях экономических и политических процессов в государствах западных и восточных славян в эпоху феодализма. Б. Лещиньский, сопоставляя сведения «массовых источников» по средневековой истории (актов, судебных записей) с данными нормативных документов, на большом конкретном материале доказал, что в славянских землях по крайней мере в области имущественных отношений, а также права наследования и распоряжения недвижимой собственностью женщина была дееспособной наравне с мужчиной того же социального ранга. В монографии есть материал, характеризующий положение женщин на русских территориях, оказавшихся с середины XIII в. в орбите Польши и Литвы. В 1978 г. А. Шимчакова дополнила изыскания Б. Лещиньского по этому географическому району, показав деятельность русских княгинь на польском великокняжеском престоле. Несомненный вклад в изучение историко-родословных связей русского княжеского дома внесла статья И. Грали, сумевшего выявить новые факты, связанные с биографиями Агафьи Святославны, галицкой княгини Романовой (автор оспаривает утверждение, что ее имя — Анна) и других русских деятельниц средневековой Восточной Европы[698]. В 50-е годы и в немецкой буржуазной историографии предпринималась попытка пересмотра ряда утверждений о статусе женщин в западноевропейском средневековье, но отношение к социальному положению женщин на Руси осталось без изменений. Основную источниковую базу монографии К. Клаус «Положение русской женщины от введения христианства до реформ Петра Великого» составили описания «Московии» иностранными путешественниками, «Домострой», незначительный нарративный материал. К. Клаус полагала, что этих источников достаточно для освещения «истории русских женщин» на протяжении восьми веков! В отличие от ученых разных стран, стремившихся показать общественное положение средневековых женщин во всем его многообразии, К. Клаус представила древнерусскую женщину все той же «теремной затворницей». В качестве основной причины затворничества, возникшего, по ее мнению, еще до появления «Домостроя», она выдвинула влияние ордынского ига на духовную жизнь русского общества, а также «хождение на Руси византийских аскетических писаний». «Рамки теремного воспитания стали ломаться только в конце XVII–XVIII в., — верно заметила она. — Реформы Петра I, поднявшего Русь до уровня передовых европейских держав, дали женщине возможность деятельности в социальной и культурной областях». Здесь налицо, с одной стороны, преувеличение широты прав женщин в XVIII в., с другой — недооценка периода XII–XV вв., когда русские женщины, особенно привилегированного сословия, имели высокий для средневековья социальный статус[699]. В 60-х годах американские исследователи уделили особое внимание изучению особенностей большесемейной организации родственных отношений у русских крестьян и традиционной для буржуазной науки темы — о правовых установлениях, связанных с закреплением и расторжением брачных отношений[700]. Для некоторых из них стало нормой распространять черты семейного и социального статуса русских крестьянок XIX в. на предшествующий период, «смешивать» особенности разных эпох и усматривать причину приниженного положения женщин в бытовании нравов крестьян во всех слоях русского общества[701]. В то же время высказывалась и диаметрально противоположная точка зрения о том, что в России женщины — это традиционно «сильные личности», способные — если судить по древнерусской и русской литературе — затмить «героев-мужчин» и сохраняющие свою эмансипированность даже в современном обществе[702]. Среди работ американских исследователей 60-х годов выделяется монография Г. П. Федотова, специалиста по истории церкви и православного вероучения. Явный крен его в сторону утверждения исконной религиозности русского народа очевиден. Но едва ли не первым среди зарубежных авторов Г. П. Федотов обратил внимание фамилистов (тех, кто занимается изучением семьи) на епитимийники, «Измарагды», «Пчелы», патерики как на источники по истории представлений о семье и семейных отношениях в Древней Руси, на необходимость изучения сюжета о «злых женах», очень широко распространенного в средневековых литературах. Вслед за ним В. Ледерер тоже показал «интернациональность» сюжета о «злых женах» в средневековых литературах и причину этого явления правильно связал с общими задачами церковных проповедников того времени: обоснования иерархичности семьи и общества, подчиненности женщины главе семьи, воспитания богобоязни, понимания своей «ничтожности» в мире и обществе[703]. О живом интересе американских исследователей к интересующей нас проблеме свидетельствует ряд работ конца 60-х — начала 70-х годов. Так, Л. Успенский и В. Лосский коснулись толкования женских образов в русской иконописи X–XV вв. К. Рид, отталкиваясь от исследования фольклорных сюжетов и образов древнерусской литературы, проследил на протяжении десяти веков развитие в ней темы «русалий». А. Глассе посвятила статью древнерусским «амазонкам» — поляницам[704]. В 1970 г. на XIII Международном конгрессе исторических наук (Москва) французские медиевисты обратили внимание на необходимость координации исследований по истории семьи и социального статуса женщин в различные эпохи Изучение истории древней и средневековой Руси в этом аспекте стало вестись еще интенсивнее, что совпало как с оживлением интереса к вопросам фамилистики, так и с усилением внимания к конкретным проблемам именно русской истории[705]. В 1975 г. на базе Станфордского университета (США) была проведена первая конференция на тему «Женщины в России: изменяющиеся реальности и меняющиеся представления»[706]. И по сей день американские ученые, главным образом женщины, довольно скрупулезно исследуют особенности социального статуса женщин древней и средневековой Руси и России. Магистерская диссертация С. МакНелли (1976 г.) на тему «От общественной деятельницы к домашней затворнице: изменение положения женщин в средневековой России» отразила успех американской историографии в освещении таких ее аспектов, как эволюция теории женоненавистничества в православии и воздействие ее на древнерусскую семью, правовой статус женщин привилегированных слоев русского общества, быт цариц и боярынь. С. МакНелли попыталась выделить основные черты жизни крестьянской семьи и статуса женщины в ней. Впервые в историографии влияние канонического права на семейный статус женщин и церковной идеологии на представления людей было рассмотрено «амбивалентно» (термин автора, подразумевающий многозначность): показаны позитивные и негативные последствия такого воздействия. С. МакНелли полагает, что в «истории русской женщины» эпохи средневековья имеется лишь один существенный рубеж — XVI век, до него — период «социальной мобильности женщин», после — затворничество. Она определяет «три основные доминанты воздействия» на статус женщины в России: изменения в социально-политическом строе, кульминацией которых явился «московский период» Руси, эволюция форм православного христианства и появление крепостного права. Исследовательница использовала летописи, актовые свидетельства и записки иностранцев. Но это круг источников, известных еще русским дореволюционным исследователям, которых сама же С. МакНелли осуждает за предвзятость и ограниченность. Она имела возможность расширить источниковую базу исследования за счет опубликованных в СССР памятников и документов XIII–XV вв., но не сделала этого. Тем не менее ее выводы заслуживают внимания. Бесспорно, например, что «права людей на Руси зависели более от социального ранга, чем от пола»; верен тезис о влиянии принятого Русью христианства на изменение социального статуса женщин[707]. Однако при всей обстоятельности труд С. МакНелли страдает заданностью итоговых выводов, в которых «автократическая система Московской Руси» выступает основным «подавляющим началом», оказавшим влияние и на положение женщин. Некоторые из оппонентов-соотечественников С. МакНелли указывали на произвольный подбор фактов, соответствующих лишь ее представлениям, ее схеме[708]. В 1977 г. в Станфорде вышел в свет коллективный труд «Женщины в России» под редакцией Д. Аткинсон. В основе книги лежат статьи, доклады и выступления участников вышеупомянутой конференции. Изменениям в имущественном и социальном статусе женщин древней и средневековой Руси посвящена вводная статья Д. Аткинсон. Как и С. МакНелли, она не склонна преувеличивать степень социальной униженности женщин в X–XIII вв., а «киевский период» предстает у нее как бы «золотым веком» русских женщин. Как специалист по социально-экономической и сравнительной истории, Д. Аткинсон обратила внимание на нормативное закрепление широких (для средневековья) прав и привилегий древнерусских женщин, и в частности на опекунство женщин над несовершеннолетними сыновьями. Но дальнейшую эволюцию социального статуса древнерусских женщин Д. Аткинсон оценила как процесс в целом регрессивный. По остроумному замечанию другой американской исследовательницы, Н. Колльман, она «утверждала, что восточные славяне наслаждались свободным обществом, в дальнейшем же их свободы деградировали стадиально: период раздробленности, период покорения Новгорода и Пскова, период утверждения московской автократии и т. д.». В качестве причин «снижения» социального статуса женщин в последующее время Д. Аткинсон, как и задолго до нее К. Клаус, выдвинула влияние ордынского ига, роль церкви и «изменение физических условий», под которым разумеется развитие производительных сил, появление новых орудий труда, освоенных преимущественно мужчинами. Вслед за дореволюционными русскими юристами Д. Аткинсон утверждала, что «теремная система» была порождена стремлением укрыть жен и детей в случае набегов татар. Другой причиной появления «теремов» на Руси она назвала «влияние христианской аскетической концепции»[709]. Эта точка зрения получила за рубежом широкое распространение, в том числе в современной историографии ФРГ[710]. В 1977 г. во Франции, в г. Пуатье, состоялся международный симпозиум «Женщина в цивилизациях XI–ХIII вв.». В нем приняли участие французские историки, а также представители американской и польской исторической науки. Медиевисты разных стран поддержали точку зрения французского ученого Р. Фоссье о том, что «необходимо отказаться от предвзятого мнения, согласно которому женщина в средние века находилась в подчинении у мужчины». Ж. Вердон, Р. Арнольде, Ж. Боку выдвинули идею о том, что в средневековье наряду со сферами общественной жизни, в которых имел место приоритет мужчины (войны, политика, внешние связи), существовало несколько областей «женского господства» — организация экономической жизни дома, семьи, воспитание, внутрисемейные отношения. В условиях натурального хозяйства и замкнутости экономических структур эти области имели важное социальное значение, и потому приоритет женщины в них французские историки назвали «тайным матриархатом»[711]. Положение древнерусской женщины затронул в докладе польский историк, профессор А. Гейштор. По его мнению, права представительниц господствующих классов в западнославянских государствах постепенно расширялись, на Руси же заметнее социальное бесправие женщин, утверждение женофобских тенденций в фольклоре и литературе[712]. Международные встречи историков последнего десятилетия[713] дополняются многочисленными трудами по проблеме. Так, американская исследовательница Р. Левиттер в статье «Женщина, святость и брак в Московии» объясняет появление «теремного затворничества» усилением влияния церкви, которая, «развивая идею ритуальной чистоты более, чем теорию моральной слабости женщин», идеологически обосновывала устранение женщин из сферы социальной жизни. Другой американский исследователь — Ж. Д. Гроссман — в статье «Женские образы в древнерусской литературе и фольклоре», продолжая и развивая идею В. Сандомирской-Данхэм и А. Глассе о традиционном существовании в русской литературе образа «femme fatale», высказал мысль о воздействии образа сильной, социально активной женщины русского средневековья на появление образов самоотверженных женщин в русской классической литературе XIX в. Он описал деятельность княгини Ольги и Анны Ярославны, судьбы Февронии муромской и Улиании вяземской. Широта привлеченных Ж. Д. Гроссманом источников таила в себе опасность уравнения их разных по значимости сведений, и он ее не избежал. «Хождение богородицы по мукам», крестьянские пословицы и былины позднего происхождения (XVII–XVIII вв.), «Пчелы», «Измарагды», древнерусские вышивки, созданные народными мастерицами, иконы и летописи — все это соседствует друг с другом, запутывая общую картину развития женских образов в древнерусской литературе и искусстве. Тем не менее Ж. Д. Гроссману принадлежит важный вывод о том, что представления о женщине в «ментальности» (образе мышления) русского средневековья складывались под воздействием двух направлений — церковного (ограничивающего) и народного (утверждающего самостоятельность и «самоценность женщины»)[714]. Интенсивную разработку проблемы ведет американская исследовательница Е. Левина, автор диссертации «Женщины в средневековом Новгороде XI–XV вв.»[715]. Она первая в западной историографии по рассматриваемой теме опиралась не только на опубликованные, но и на архивные источники и эпиграфический материал. Результаты исследования особенностей землевладения женщин в Новгороде, их политических прав в Новгородской феодальной республике Е. Левина опубликовала и в СССР. В последнее время она продолжает изучение внутрисемейных отношений в Древней Руси, как имущественных, так и сексопсихологических[716]. Исследование С. Леви о положении женщины в Русском государстве XVI в. сводится к доказательству, что имущественные права женщин если и претерпели эволюцию в XVI в., то только в сторону расширения. В других ее работах отмечается, что в XVI в. в среде боярства и дворянства политические амбиции той или иной деятельницы оказывались прямо пропорциональными ее имущественному статусу. Представляя женщин средневековой России социально активными личностями, С. Леви пытается «поколебать страшно стандартные и безрадостные заключения» своих предшественниц — К. Клаус и С. МакНелли. Более поздней эпохой (XVII в.) занимается главным образом на актовом материале М. Томас. Ее работы отличает обстоятельное знакомство с советской историографией. Заслугой М. Томас следует признать пересмотр устоявшегося мнения о монахинях (черницах) на Руси как наиболее социально пассивном слое русского общества[717]. В 1983 г. журнал «Русская история» (США — Канада) выпустил специальный номер, все статьи которого посвящены изучению социального статуса женщины в древней и средневековой Руси и России. Помимо названных Е. Левиной, М. Томас, С. Леви на его страницах выступил со статьей «Женщины и холопство в Московии» Р. Хелли, автор известной книги «Холопство в России» (1982 г.). Доказывая, что в XVI–XVII вв. женщина в России и как производительница материальных благ, и как холоповладелица «занимала второстепенное положение», он объяснял это тем, что с ростом роли дворянства как служилого сословия женщины, исключенные из него, получали все меньше возможностей для обретения холопов. Объяснение Р. Хелли справедливо отчасти, ибо он не учел сравнительно широкие возможности покупки женщинами недвижимой собственности с проживающими на ней крестьянами и холопами, реальность дарений, наследства и приданого. Но вызывает недоумение его вывод о том, почему женщина-холопка занимала второстепенное по сравнению с холопом положение в русском обществе. По мнению Р. Хелли, причина крылась, с одной стороны, в том, что на Руси были «запрещены проституция и конкубинат (сожительство. — Н. П.)», а с другой — в том, что «московиты не использовали холопов в производственной деятельности», ориентированной на рынок. Вряд ли правомерно утверждать, что западноевропейские современницы русских холопок доказывали свою нужность обществу ввиду большей распространенности проституции и конкубината, и уж вовсе неверно отрицать участие холопок в производственной деятельности, ориентированной на рынок[718]. Заслуживают внимания совместная статья X. В. Дуи, А. М. Клеймолы и работа Н. Колльман. X. В. Дуи уже был известен как составитель сборника документов с собственными комментариями, в которых содержатся интересные наблюдения об имущественном статусе женщин различных классов средневековой Руси. Его совместная с А, М. Клеймолой статья посвящена вопросу о том, в какой степени женщины древней и средневековой Руси и России (в. кн. Ольга, Евфросинья полоцкая, Феврония муромская, боярыня Морозова, К. Годунова) влияли на события общественно-политической жизни или воздействовали на них через своихмужей или мужчин вообще, «воодушевляя их». Сравнивая древнерусские тексты о выдающихся русских женщинах с произведениями западноевропейской литературы, отразившими «культ прекрасной дамы», X. В. Дуи и А. М. Клеймола пришли к выводу, что в памятниках литературы Древней Руси нашли отражение реальные черты женщин — «ярких индивидуальностей, деяния которых их авторы хотели оставить в памяти потомков»[719]. Н. Колльман избрала в качестве предмета изучения быт верхушки привилегированных слоев русского общества. Описывая затворничество русских княгинь и боярынь в «эпоху Московской Руси», она приводит много интересных фактов, но интерпретация их не всегда ясна. Трудно согласиться с утверждением о том, что женщины элитарного социального слоя не обладали в то время правом фиска в своих вотчинах и административными правами. Нуждается в дополнительной аргументации и объяснение Н. Колльман причин проявления «теремной системы» на Руси, истоки которой она видит в XIV в. По ее мнению, затворничество было следствием «укрепления царской автократии и боярской элиты», так как позволяло им «осуществлять контроль за политическими связями крупных родов и семей» (ограничивать круг знакомств, выдавать замуж в соответствии с задачами династических и политических связей и т. п.). При этом она подчеркивает, что говорить о «затворнической жизни» по отношению к женщинам из других слоев русского общества едва ли верно, хотя оценки теремной жизни нередко распространяют и на быт дворянок того времени. Н. Колльман уделила особое внимание положению вдов из привилегированного сословия и справедливо подвергла критике высказанное ранее в американской литературе мнение о том, что высокий статус знатных вдов в средневековых обществах объяснялся их неспособностью к выполнению прокреативных функций и утратой сексуальности (мнение М. Дуглас)[720]. Прочное социальное положение знатных вдов объяснялось, несомненно, их стабильным имущественным статусом. Рассмотрению прав вдовствующих княгинь и боярынь был посвящен доклад швейцарского исследователя К. Гёрке на V Международной конференции по истории Московского царства (Австрия) в 1984 г. К. Гёрке аргументированно доказал неизменность имущественно-правового статуса вдовы вплоть до XV — начала XVI в. По его мнению, в основе всех «изменений лежали интересы формирующегося самодержавия, его стремление препятствовать существованию наследственных владений, передаваемых женщинам», а также утверждение в качестве основной формы земельной собственности поместья — условного держания, которым женщины, естественно, не обладали, так как не могли нести воинской службы. К. Гёрке считает безосновательными утверждения о том, что западноевропейская женщина имела более высокое положение, чем «затворница-московитка», и предлагает свою интерпретацию причин неверного представления о древнерусской женщине как о забитом, бесправном, униженном существе. По его мнению, большую роль здесь сыграло влияние предвзятых взглядов иностранных путешественников, посетивших Россию в XV–XVII вв. и имевших «заданную цель противопоставить свою «развитую» и «культурную» страну варварской Руси»[721]. Результаты новейших исследований по проблеме Н. Колльман, А. Клеймола, Е. Левина, Д. Кайзер и другие исследователи-руссисты представили на очередную конференцию «Женщины в истории Российского государства», которая состоялась в августе 1988 г. в г. Кенте (США, штат Огайо). Аспекты темы, предложенные авторами для обсуждения, отличались нетрадиционностью и разнообразием. Это, например, источниковедение «истории русских женщин», некоторые проблемы истории канонического права XIII–XVII вв. в связи с морально-психологическими и сексопатологическими сторонами межличностных отношений между полами, частноправовые аспекты истории имущественных отношений в русских семьях эпохи позднего феодализма и многие другие. В 1989 г. в рамках регулярно созываемой в г. Прато (Италия) Международной конференции по социально-экономической истории предполагается работа специальной секции, участники которой обсудят вопросы имущественного статуса женщин в эпоху средневековья в европейских странах, и в частности в России. Итак, изучение социального положения женщин в древней и средневековой Руси и России ведется в зарубежной историографии уже более полутора столетий. Наибольшее внимание к проблеме проявилось в 60–90-е годы XIX в., когда на повестку дня встал так называемый женский вопрос, и в современный период (особенно в американской историографии), когда становятся все более актуальными вопросы исторической демографии, истории общественного сознания, социальной психологии. В США, во Франции, в Австрии и других западноевропейских странах в последнее десятилетие проводились конференции, прямо и непосредственно посвященные или косвенно затрагивающие отдельные аспекты проблемы. Такие ее стороны, как быт княгинь и боярынь, деятельность некоторых из них на административно-управленческом поприще, в области дипломатии, освещены в зарубежной историографии довольно полно. Зарубежному читателю в определенной степени представлен имущественно-правовой статус древнерусских женщин господствующего класса. Несомненно плодотворным является направление, требующее пересмотра укоренившихся представлений о положении женщин в русском средневековье, их абсолютном бесправии, несамостоятельности и темноте. Большинство зарубежных ученых, изучавших социальный статус древнерусских женщин, выделяют в его эволюции два периода: «прогрессивный» (до XV в.) и «регрессивный» (с конца XV — начала XVI и до XVIII в.). В числе причин понижения социального статуса они называют негативное влияние византийской церковной доктрины и ордынского ига; «изживание первобытной матриархальной свободы» и усиление «автократических тенденций» в период складывания единого Русского государства; окончательное закрепощение крестьян, появление дворянства и условных держаний; необходимость сохранения в целостности имущества и «чистоты крови» бояр и князей и в связи с этим образование «системы затворничества». Зарубежная литература по истории древнерусской семьи и социального статуса женщин в целом представляет сложное историографическое явление, поскольку представлена она главным образом работами буржуазных авторов позитивистского толка, которым чужда четкая классовая оценка исторических явлений, личностей. Помимо методологической ограниченности для многих работ характерна сравнительно узкая источниковая база, оставшаяся в основном на уровне дореволюционных русских исследований, ибо, как правило, не привлекается археологический, эпиграфический, агиографический, епитимийный материал. Поэтому целостной картины социальных прав и возможностей древнерусских женщин, четких представлений о их роли и месте в средневековом обществе в зарубежной историографии нет.Некоторые итоги и перспективы исследования
Попытка представить семейное, социально-правовое, имущественное положение русских женщин, их внешний облик, уровень грамотности и образованности в X–XV вв., реконструировать биографии отдельных, в том числе наиболее известных, представительниц древнерусского общества предпринята автором с целью восполнить пробел, возникший в советской историографии. Проблема, которой посвящена книга, специально не изучалась и до сих пор не была известна широкому читателю. Но это не означает, что автор сумел подвергнуть равному анализу под углом зрения исследуемой проблемы все исторические события и факты X–XV вв. Причина тому — неравномерная обеспеченность различных периодов и аспектов темы письменными историческими источниками. Привлечение в полном объеме памятников материальной культуры, несомненно, откроет будущим исследователям широкие перспективы изучения не только домашнего быта, который, как доказывается в книге, традиционно был «сферой женского господства», но и социального положения женщин из непривилегированных слоев (например, ремесленниц). Специального исследовательского подхода требует изучение вопроса о развитии женских образов в древнерусском народном творчестве, что должно пролить новый свет на историю духовной культуры, чаяния и Устремления средневековых людей, в том числе самих женщин. Расширить источниковую базу возможно и за счет письменных исторических источников. К таким памятникам, которые еще ждут исследователей «женского вопроса» в эпоху русского средневековья, прежде всего следует отнести комплекс писцовых книг. Путь изучения имущественно-правовой самостоятельности женщин в XV— начале XVI в. лежит через исследование не только истории их землевладения, но и всего объема владельческих и социальных прав женщин различных классов, а также историко-демографических аспектов: структуры и состава русской средневековой семьи, правового статуса ее членов, особенностей внутрисемейных отношений в неразделенных и малых семьях, «этнографии детства» и др. Различные виды актов, свидетельства летописей, отчасти введенные в научный оборот в данной книге, могут быть пополнены новыми, содержащими больше сведений о социально-правовом положении представительниц угнетенного класса и непривилегированных социальных слоев древнерусского общества, т. е. прежде всего тех, кого мы относим к производителям материальных благ. Возможные пути дальнейшего исследования проблемы связаны не только с поиском новых комплексов источников. Известно, например, что одной из антифеминистских сил была церковь. Но чем вызвано это явление? Это тема для размышлений о причинах возникновения подчиненного социального положения женщин при феодализме. Еще более четкое представление о динамике изменений в социально-имущественном и политическом положении женщин может сложиться в результате исследования развития в XVI–XVII вв. тех процессов, которые мы наблюдали в первые шесть столетий истории русской государственности. Речь идет в первую очередь об изменениях в материально-правовом положении женщин в связи с ростом служилого сословия и дворянского землевладения. Это поможет выявить причины появления в XVI в. «Домостроя», динамику негативных изменений в семейном статусе женщин и ответить на вопрос, когда же появились на Руси «теремные затворницы». Проведенное автором этих строк исследование показало, что до XVI в. говорить о них нет оснований. Изучение персонального состава участников политической борьбы в X–XV вв. позволяет убедиться, что среди них было немало образованных, деятельных, политически дальновидных женщин. В том, как проявлялась их социальная активность, можно рассмотреть нечто большее, чем просто спорадическое участие в заговорах и конфликтах. В росте числа участниц политической борьбы, в положительной динамике изменений их материально-правового, владельческого, социального статуса с X по XV в. отразился прогрессивный ход развития древнерусского общества со всеми его особенностями и закономерностями. По мере углубления разностороннего исследования проблемы, обобщения сведений, почерпнутых из различных по виду и типу источников, автор все более убеждался в том, что и мнение о приниженности, подчиненности положения женщины на Руси X–XV вв. по сравнению с социальным статусом мужчины, и представление о русском средневековье как о времени подавления личности — не более чем миф, развившийся на почве самоуверенности людей более поздних эпох, и в первую очередь современников становления капитализма.Список сокращений
ААЭ — Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией Академии наук. Т. I. СПб., 1836. АВК — Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов. АИ — Акты исторические, собранные в библиотеках и архива» Российской империи Археографической экспедицией Академии наук Т. I. СПб., 1841. АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. I. СПб., 1846; Т. 11 СПб., 1848. АСЭИ — Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в. Т. I. М., 1952; Т. II. М., 1958; Т. III. М., 1964. АФЗХ — Акты феодального землевладения и хозяйства XIV XVI вв. Ч. I. М., 1951; Ч. II. М., 1956; Ч. III. М., 1961. АЮ — Акты юридические, или Собрание форм старинного дело производства. Изданы Археографической комиссией. Т. I–II. СПб., 1838. АЮБ — Акты, относящиеся до юридического быта древней России. Изданы Археографической комиссией / Под ред. Н. В. Калачова Т. I. СПб., 1857. АЮЗР — Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, изданные Археографической комиссией / Под ред. Н. И. Костомарова. Т. I (1361–1598). СПб., 1863. ВВ — Византийский временник. ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под род С. Н. Валка. М.; Л., 1949. ДАИ — Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографической экспедицией Академии наук. Т. I. СПб. 1846. ДДГ — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей ХIV–ХVI вв. М.; Л., 1950. ДРВ — Древняя Российская вифлиофика. Ч. XIII. М., 1790. ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. Книги законные — Книги законные, ими же годится всякое дол о исправляти всем православным князем. Русско-славянский перевод памятников византийского законодательства VIII–IX вв./Публ А. С. Павлова // Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук. Т. 38. № 3. СПб., 1858. С. 40–90. КСИИМК — Краткие сообщения о докладах и полевых несло дованиях Института истории материальной культуры АН СССР ЛЗАН — Летопись занятий Археографической комиссии. МДРПД — Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины/Изд. С. И. Смирнова. М., 1913: I — Особая редакции «Вопрошания Кирика»; II — «Некоторая заповедь» («Худой номоканунец»); III — Два правила монахам; IV — Написание митрополита Георгия русского и Феодоса; V — Заповеди клирикам, иереям, дьяконам; VI — Правило иереям о соблазне во сне; VII (а, б, в) — «А се грехи…»; VIII — Правило с именем Максима; IX — Изложение правилом апостольским и отеческим; X — «От правил св. апостол…»; XI — Правило «Аще двоеженец…»; XIII — Правило о церковном устроении; XIV — Правило Ильи, архиепископа новгородского и белгородского епископа; XVIII — «О поповех службы ради…»; XIX — Заповедь ко исповедающимся сыном и дщерем; XX — Правило из Схоластиковой Кормчей; XXI — Заповедь «Аще епископ…»; XXII — От апостольских заповедей; XXIV — Покаяние XIV–XV вв.; XXV — Правило о верующих в гады; XXVI — Вопрошение апостольское; XXVII — Опитемьи св. богоносных отец; XXVIII — о посте; XXX — Указ епитимьям; XXXII — Правило детям духовным о первой заповеди; XXXIV — Слово божественное о покаянии; XXXVII — Чин отпущения духовного сына; XXXVIII — Уставы о постах; XXXIX — Послание Иакова черноризца к ростовскому кн. Дмитрию Борисовичу; ХL — Наказание отца духовного к сыну духовному о пьянстве; ХLII — Поучение к детям духовным; ХLIV — Поучение новобрачным детям; ХLV — Четыре поучения духовника; ХLVШ — Сб. Кирилло-Белозерского монастыря. МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. НГБ (1951) — Арциховский А. В., Тихомиров М. Н. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1951 г. М., 1953. НГБ (1952) — Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1952 г. М., 1954. НГБ (1953–1954) — Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1953–1954 гг. М., 1958. НГБ (1955) — Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1955 г. М., 1958. НГБ (1956–1957) — Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1956–1957 гг. М., 1963. НГБ (1958–1961) — Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1958–1961 гг. М., 1963. НГБ (1961) — Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1961 г. М., 1963. НГБ (1962–1976) — Арциховский А. В., Янин В. Л. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1962–1976 гг. М., 1978. НГБ (1977–1983) — Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1977–1983 гг. М., 1986. НПГ — Марасинова Л. М. Новые псковские грамоты XIV–XV вв. М., 1966. НПК — Новгородские писцовые книги, изданные Археографической комиссией. Т. I. Писцовая книга Деревской пятины. СПб., 1859; Т. II. Писцовая книга Деревской пятины. Продолжение. СПб., 1862; Т. IV. Писцовая книга Шелонской пятины. СПб., 1886; Т. VI. Писцовая книга Бежецкой пятины. СПб., 1901. НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. ОРЯС — Отделение русского языка и словесности Академии наук. П-1, П-2, П-3, П-4 — «Пчела» по рукописям киевских библиотек. Опыт изучения и тексты С. А. Щегловой // Памятники древней письменности и искусства. Т. СLХХV. СПб., 1910: 1 — «Пчела» по Украинскому списку Киевской духовной академии № 468 (Муз. 52); 2 — «Пчела» по спискам Киевской духовной академии № 531 (А), № 527 (В), № 105 (С), № 54 (Д); 3 — Отрывки из 68-главой «Пчелы» по рукописям киевского Михайловского монастыря (№ 493) и Киевской духовной академии (№ 530); 4 — отрывки «Пчел» русской редакции по рукописям Киевской духовной академии № 527 (л. 83–88), № 530 (л. 1–4, 4–6), № 527 (л. 109–112). ПВЛ — Повесть временных лет / Под ред. В. П. Адриановой Перетц. Ч. 1-П. М.; Л., 1950. ПДРЦУЛ — Памятники древнерусской церковно-учительной литературы / Под ред. А. И. Пономарева. Вып. 2. СПб., 1896; Вып. 4. СПб., 1898. ПКОП — Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. Л., 1930. ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980; XIII век. М., 1981. ПРП — Памятники русского права. Вып. I. Памятники права Киевского государства. М., 1952; Вып. II. Памятники права феодально-раздробленной Руси. М., 1953; Вып. III. Памятники права периода образования Русского централизованного государства XIV–XV вв. М., 1955; Вып. IV. Памятники права периода укрепления Русского централизованного государства. XV–XVII вв. М., 1956. ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская и Троицкая летописи. СПб., 1846; Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1843; Т. III. Новгородские летописи. СПб., 1841; Т. IV. Новгородские и Псковские летописи. СПб., 1848; Т. V. Псковские и Софийские летописи. СПб., 1851; Т. VI. Софийские летописи. СПб., 1853; Т. VII. Летопись по Воскресенскому списку. СПб., 1856; Т. IX, X, XII. Никоновская летопись. СПб., 1862, 1885, 1902; Т. XIV. Новый летописец. СПб., 1910; Т. XVI. Летопись Авраамки. СПб., 1889; Т. XXV. Московский летописный свод конца XV в. М.; Л., 1949. 2 изд.: Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908; Т. IV. Ч. I. Новгородская четвертая летопись. Вып. 1. Пг., 1915; Вып. 2. Л., 1925; Вып. 3. Л., 1929; Т. XV. Рогожский летописец. Вып. 1. Пг., 1922. РБС — Русский биографический словарь. РИБ — Русская историческая библиотека. Т. VI. СПб., 1908: 1 — канонические ответы митрополита Иоанна II (1080–1089 гг.); 2 — вопросы Кирика, Саввы и Ильи с ответами Нифонта, епископа новгородского, и других иерархических лиц (1130–1156 гг.); 4 — постановление Ильи, епископа новгородского, и неизвестного белозерского епископа по двум случаям при совершении литургии (1164–1168 гг.); 9 — послание владимирского епископа к местному князю; 10 — поучение духовника ко исповедающимся; 11 — заповедь епископам о хранении церковных правил; 12 — ответы константинопольского патриаршего собора на вопросы саранского епископа Феогноста; 13 — правило митрополита Максима (1283–1305 гг.); 14 — росписание степеней родства и свойств, препятствующих браку; 18 — грамота митрополита Феогноста 1333 г.; 19 — грамота митрополита Алексея 1360 г.; 32 — ответы митрополита Киприана игумену Афанасию (1390–1405 гг.); 33 — послание митрополита Фотия в Новгород о соблюдении законоположений церковных 1410 г.; 34 — грамота митрополита Фотия во Псков о соблюдении законоположений церковных; 41 — послание митрополита Фотия псковичам о соблюдении церковных законоположений… 1419 г.; 124 — вопросы и ответы о разных случаях пастырской практики; 134 — три святительские поучения духовенству и мирянам о разных предметах церковной дисциплины. РО БАН — Рукописный отдел Библиотеки Академии наук СССР (Ленинград). РО ГИМ — Рукописный отдел Государственного Исторического музея (Москва). РО ГПБ — Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград). СА — Журнал «Советская археология». Сб. РИО — Сборник Русского исторического общества. СГГД — Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии пространных дел. Ч. I М 1819. СЭ — Журнал «Советская этнография». ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР. ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов. ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских.Иллюстрации

В. кн. Ольга беседует с византийским императором. Миниатюра Радзивилловской летописи

Крещение в. кн. Ольги. Миниатюра Радзивилловской летописи

Женская половина семьи в. кн. Ярослава Мудрого. Фреска Софии Киевской XI в.

Анна, дочь в. кн. Ярослава Мудрого, жена Генриха I королева Франции. XI в.

Добродея Зоя, дочь в. кн. Мстислава Владимировича автор трактата «Мази» (XII в.)

Семья в. кн. Святослава Ярославича В центре — его жена Киликия и дочь. Миниатюра Изборника Святослава XI в.

Кн. Олисава-Гертруда и ее сын Ярополк. Миниатюра Трирской псалтыри. Конец XI в.

Изображение Евдокии Дмитриевны, вдовы в. кн. Дмитрия Ивановича Донского, в Лицевом своде XVI в.

Евфросинья суздальская. Деталь Покрова XVI в.
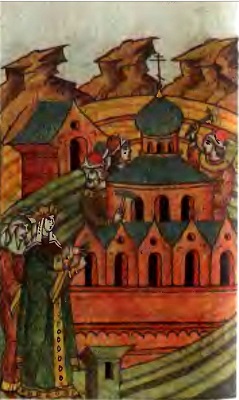
Княгини и боярыни присутствуют при заложении церкви. Миниатюра Лицевого свода XVI в.

Улита Кучковна — участница боярского заговора конца XII в. Миниатюра Радзивилловской летописи XV в.


Новгородские грамоты на бересте. № 265 («А ты, Репех, слушайся Домны…») и № 531 («От Анны ко Климяте…»). Прориси

Древнейший свадебный обряд умыкание Миниатюра Радзивилловской летописи XV в.

Збручский идол XI в. С кольцом — бог «женитвы» Ладо, с рогом изобилия в руках — богиня Мокошь. Расшифровка Б. А. Рыбакова

Славянские рожаницы мать и дочь. Древняя деревянная скульптура. Расшифровка Б. А. Рыбакова

Княгиня в своем тереме. «Теремная затворница»? Миниатюра XVI в.

В. кн. Мария Ярославна благословляет Софью Палеолог на брак со своим сыном в. кн. Иваном III Миниатюра Лицевого свода XVI в.

Семья в. кн. Ивана III: в центре он сам, рядом в красном распашном облачении Софья Фоминишна позади нее ее невестка-соперница Елена Волошанка. Деталь пелены 1498 г.

Усадьба зажиточных горожан на Подоле XII в. Реконструкция П. П. Толочко

Так выглядела улица в конце XV в. Картина А. Васнецова «Выход боярыни»

Каменный княжеский терем XI в. Pеконструкция Н. В. Холостенко

Усадьба зажиточных горожан в Новгородской земле XII в. Реконструкция В. Л. Янина

Свинцовые печати полоцких княгинь — свидетельство «полоцкого матриархата» XII в. Атрибуция В. Л. Янина

Ларец XII в., в котором могли храниться печати, ценные грамоты украшения

Наставление детей в семье, отец воспитывает сыновей, мать — дочерей. Миниатюра житийной повести об Антонии Сийском XVII в.


Изображение женщин, ткущих полотно, в миниатюрах XVII в.

Ткацкий стан. Реконструкция Б. А. Колчина

Принадлежности прядения и ткачества XIV в.: 1 — ручное веретено, 2 — юрок для снования основы ткани, 3 — челнок от горизонтального ткацкого станка

Обувь (по материалам раскопок): а — лапоть; б, в — поршни; г, д, е — чоботы; ж, з — сапоги

Предметы сапожного производства XV в. найденные при раскопках в Зарядъе (Москва)

Изображение женщины, пьющей вино из чарки на серебряном браслете XII в.

Участница русалии пьющая вино из рога. Деталь костяной накладки XII в.

Шумящая подвеска-застежка XI в.

Древнерусское зеркало

Венчание. Миниатюра Лицевого свода XVI в.

Свадебный поезд. В повозке — Софья Фоминишна с «подругами». Миниатюра Лицевого свода XVI в.

Свадебный пир Ивана Младого и Елены Волошанки. Миниатюра Лицевого свода XVI в.

Роды и восприятие ребенка. Миниатюра житийной повести об Антонии Сийском XVII в.

Девушка-служанка у колыбели младенца. Деталь иконы XVI в.

Крестьянская семья. Миниатюра «Синодика Вологодской церкви» XVII в.

Рождение Параскевы Пятницы покровительницы семейного счастья. Деталь иконы XV в.

Во время феодальных войн женщины становились объектам полона. Один из таких эпизодов иллюстрирует миниатюра Лицевого свода XVI в.

Приезд в. кн. Софьи Витовтовны в Троице-Сергиев монастырь. Миниатюра Лицевого свода XVI в.








Костюмы древнерусских женщин домонгольского периода. Реконструкция С. Стрекалова по описаниям источников: 1 — знатной девушки в XI в., 2 — замужней женщины в XI в., 3 — княгини в XII в., 4 — княжны в XII в., 5 — княжны в XIII в. 6–8 — княгини в XIII в.


Образцы привозных тканей для верхней одежды древнерусских женщин привилегированного сословия

Так могла быть одета Mapфa Борецкая. Деталь иконы «Молящиеся новгородцы». XV в.

Головной убор замужней женщины. Реконструкция Б. А. Рыбакова

Колт с изображением сиринов птиц-дев, которые, согласно поверью, приносили радость материнства и семейного счастья

Стеклянные бусы древнерусских горожанок

Резной деревянный гребень


Украшения русских женщин XI–XIII вв.: шумящая подвеска, височные кольца и шейные гривны





У крашения женского костюма XII XIV вв.: серьги, подвеска в виде конька (символа добра и счастья) дробница, ожерелье

Пострижение в. кн. Марии Ярославны и принятие ею иноческого имени Марфа. Миниатюра Лицевого свода XVI в.

Положение» о гроб в 1407 г. монахини Евфросиньи — в миру Евдокии Дмитриевны, вдовы Дмитрия Ивановича Донского Миниатюра Лицевого свода XVI в.

Последние комментарии
15 часов 15 минут назад
15 часов 25 минут назад
3 дней 10 часов назад
4 дней 2 часов назад
4 дней 11 часов назад
4 дней 11 часов назад