Запретная зона [Пер Вестберг] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
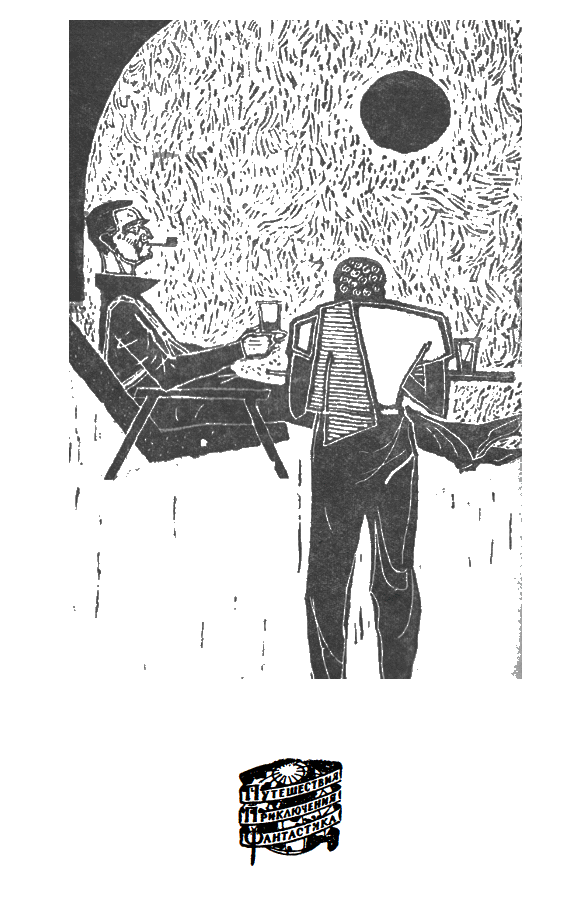

Пер Вестберг
ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

*
PER WÄSTBERG FÖRBJUDET OMRADE STOCKHOLM, 1960
Перевод co шведского E. Г. ГРИЩЕНКО и В. В. ЛЕУШЕВОЙ
Послесловие В. П. СИДЕНКО
Оформление художника А. СКОРОДУМОВА
М., Географгиз, 1963
НА ФЕРМЕ БЕЛЫХ

Полезные советы
Я ОБРАДОВАЛСЯ, когда узнал, что мне присудили Большую стипендию Ротари. В Африку меня тянуло всю жизнь и больше, чем куда бы то ни было. Когда в газетах появилось сообщение, что я собираюсь учиться в Южной Родезии, ко мне начали приходить письма от тех, кто побывал в этой стране. Какая-то женщина писала, что нравы там викторианские, но люди хорошие и что в морозные июльские ночи понадобится шуба. Кто-то советовал зайти по приезде в Солсбери к знакомому маклеру и передать ему привет — он наверняка подыщет подходящую виллу. Если вы любите ездить верхом, играть в гольф или теннис, то Родезия для вас — настоящий рай, писала домохозяйка из южной Швеции, которая долгое время пробыла в Африке. Неприятно, конечно, сообщала она, что некоторые белые слишком высокомерно относятся к африканцам, хотя вообще-то белым почти не приходится иметь дело с черными. Я объяснял это так: расы жили настолько изолированно друг от друга, что недовольство не проявлялось открыто, и тем самым щадились чувства белых. Жизнь в колонии казалась мне похожей на ту, какая изображена в рассказах Киплинга или в фильмах 0 вест-индских островах. Я знал кое-что о Южной Африке и Кении, о Конго и Западной Африке. Но Родезия и Ньясаленд были для меня загадкой. Мои образованные друзья с трудом находили Ньясаленд на карте и никогда не слыхали о Булавайо и Лусака. Им было ясно одно: я еду в Африку. А куда именно — это уже неважно. Я обрадовался, что поеду в страну, о которой так мало знают и так мало написано. Все началось в декабре 1958 года. Из комитета Ротари в США мне прислали брошюры, учебники с картинками, поздравительные письма. Я приобрел шведские флажки Ротари и учился произносить приветственные речи. Свою записную книжку я заполнил адресами и рекомендациями, но в Каире потерял ее, и когда мы с женой приехали в Родезию, у нас не оказалось ни одного адреса. Из Стокгольма нам переслали в Каир письмо из Родезии — миссис Салли Пэрди писала, что первое время мы сможем пожить в ее доме. Она советовала захватить с собой смокинг и длинное бальное платье. Правда, некоторые уже начали носить короткие платья, но дамам скандинавского типа больше идут длинные. К тому же на правительственных балах надо быть только в длинных платьях. Мы, пожалуй, ждали от нее других советов, но наша будущая хозяйка, видимо, не подозревала, что вне европейской резервации существует какая-то другая жизнь. Письмо к тому же пришло слишком поздно — Анна-Лена, моя жена, не взяла длинного платья. На душе у нас было неспокойно. Мы чувствовали, что просто по-6 гибнем на правительственных полонезах в Солсбери, столице Южной Родезии. В самолет мы взяли с собой различные брошюры и описания Южной Африки — их прислал нам вместе с дружескими приветствиями комитет по делам Родезии в Лондоне. Просмотрели картинки: водопад Виктория, развалины Зимбабве, отели и широкие дороги. Фраза о том, что Родезия — «страна неограниченных возможностей», ни о чем не говорила. Эта фраза могла относиться и к Новой Земле, и к островам Вторника. Но в брошюрах содержались и более «важные» сведения: например, о том, что Родезия не омывается морем, что вы не найдете там Брайтона или Блэкпула, что там не слишком много универсальных магазинов, оперных театров и ночных клубов, а в «белом» городе не устраивают собачьих гонок. Разочарованные эмигранты говорили нам позже, что не мешало бы дать еще ряд справок: сказать, например, о том, что в октябре очень жарко, а в июне на фермах очень сухо, что автомобиль нужен даже в городах и что некоторые рабочие и служащие не понимают английского языка, на котором говорит сама королева. Пестрые брошюрки для туристов были менее осторожны в выборе слов, чем произведения департамента по делам эмиграции. Они приглашали нас ловить форель в южнородезийской Швейцарии и брать консультации в Национальном союзе фермеров Родезии; они гласили: «табак и скот — надежное вложение денег в окрестностях Форт-Виктории; неслыханные возможности для торговли в цветущем Ввело; переезжайте в Кве-Кве — там удобные условия покупки в рассрочку, клуб фотолюбителей и театральный клуб, кино каждый вечер, новый универмаг, асфальтированная дорога и собственная еженедельная газета «Мидлэндс Обсервер». Куда же мы все-таки едем, думали мы. Об этих городах нам ничего не было известно. Мы летели в страну, которая предлагала «блестящие возможности настоящим людям» и необлагаемый налогами доход до 20 тысяч крон на семью с двумя детьми. Мы летели к «Новой жизни в Федерации», как называлась одна из наших брошюр. Та нищая Родезия, которая до сих пор рисовалась в нашем воображении, совершенно затмевалась этими картинами. Сведения из справочников для туристов подтверждаются только в том случае, если точно следовать их указаниям и закрывать глаза на все другое. Мы подсознательно чувствовали, что многие хорошие советы совсем не для нас и только сбивают с толку. Я не имел права вкладывать стипендию в бойню у Форт-Виктории. К тому же не было известно, сколько вечеров судьба отведет нам для посещения кинотеатров в Кве-Кве, городе, где было две тысячи европейцев, трубопрокатный завод и мебельная фабрика.Добро пожаловать
Лететь над Африкой — значит, забыть о населяющих ее людях. Это пустынный континент, ждущий, когда его коснется рука человека. Здесь есть где развернуться фантазии и мечте. Горы и озера, одинокие водопады и безлюдные саванны. Мы летим низко над бурой степью — стадо жирафов срывается с места, испуганное шумом невидимого мотора и быстрой тенью самолета. Где-то поют птицы, люди роют красную землю: копают глину для хижин. Круговорот жизни совершается прямо под нами: там рождаются и умирают. Но мы видим лишь зеленую, освещенную солнцем пустоту. Там, где нет богатства, нет и бедности — говорит пословица народа нгони. Пустынные, никем не заселенные земли рождают надежды. Самолет слегка вздрагивает от усиливающегося ветра. Какой-то пассажир, не раз летавший по этому маршруту, показывает нам покрытый снегом Килиманджаро В Танганьике горит лес: огненно-красные языки пламени делят страну пополам. Из рук в руки переходит карта нашего маршрута. Африка на ней напоминает слоновье ухо, реки кажутся складками, а озера — вмятинами. Мы заполнили анкету, которая вопрошала, какого пола у вас жена и какой вы расы, и приземлились в Федерации Родезии и Ньясаленда. Воздух тяжелый и влажный: сезон дождей близился к концу. В стране объявлено чрезвычайное положение. И хотя я был привилегированным стипендиатом, которого пришла встречать небольшая группа видных представителей местного общества, мне от этого не было легче. Безупречно одетый чиновник из ведомства по делам иммиграции имел вполне определенное задание: не впускать нежелательных гостей, которых и так слишком много; я понял это по его вопросам. Анна-Лена легко отделалась — она ведь была туристкой; меня же пригласил университет, что не могло служить хорошей рекомендацией. Чиновник удалился, чтобы переговорить со встречающими. Те, вероятно, поручились за то, что мое пребывание в стране не «угрожает гармонии рас или политической стабильности Федерации» — мотивировка, по которой обычно не впускают в страну некоторых политических деятелей, писателей и даже священников. Обычный приезд в чужую страну: имен не запоминаешь, лиц не различаешь, потому что твой взгляд устремлен вслед исчезающему носильщику. — Добро пожаловать в Родезию! Мы ждали вас. — Моя фамилия Роулэнд. Зовите меня просто Том. — У моего мужа новый автомобиль, хотя и старой марки. Вы должны нас извинить. — Том, я уеду раньше. У меня собрание в клубе. — Хорошо, хорошо. Увидимся завтра за ленчем. Пер, надеюсь, тоже придет. — Разумеется, — сказала миссис Пэрди, женщина, от которой мы получили письмо, — я привезу их обоих. Пер с Джорджем пойдут в клуб, а мы с Анной-Леной зайдем в кафе универмага. — Значит, завтра увидимся! — Конечно, мы же встречаемся каждый день, Том. Кто-то повернулся ко мне и сказал слегка извиняющимся тоном: — Маленький город. Мы все знаем друг друга. Это и делает его таким приятным. — Люди здесь быстро знакомятся. Знаешь всех, кого стоит знать, — сказал кто-то другой и рассмеялся. — Африка — большой континент, повсюду нужно иметь друзей, чтобы можно было поехать туда, куда хочется. — Еще раз добро пожаловать в Африку и до свидания! — сказал Том и уехал. Итак, мы прибыли в Африку. Оказалось, она совсем не так далеко от нас, как мы думали. По дороге в столицу я показал на несколько низких домов и спросил, кто в них живет. Африканцы? — Нет, европейцы. Туземцы живут в других местах. Там мы никогда не бываем. Африка без африканцев — этого я не мог понять. Мысленно я слышал шуршание их велосипедов и рев граммофонов, видел смеющиеся толпы и играющих детей. Нам показалось странным, что на всем нашем долгом пути от аэродрома до Солсбери и оттуда до фермы мы встретили африканцев меньше, чем могли бы увидеть на таком же пути в Лондоне. Федерация — страна с редким населением, узнали мы из брошюр. На площади, равной Франции, Англии, Дании и Бельгии, вместе взятых, живет 300 тысяч европейцев. Об африканцах в брошюрах говорилось слишком общими фразами и только в связи с вопросом о заработной плате. Можно было подумать, будто государство во имя гуманности или из любопытства сохраняет остатки чернокожих племен. На каждого белого в стране приходится двадцать пять африканцев. Куда же они девались? Сидят в засаде? Мне пе хотелось спрашивать. Мы говорили о другом. Но уже в первый час нашего пребывания в Родезии трудно было отделаться от навязчивой мысли: характерная черта жизни в этой стране — отсутствие как раз того, что должно было бы составлять ее главную особенность. Миссис Пэрди показала на черные головы за изгородью. — Представьте себе, один наш гость думал, что велосипедные дорожки здесь существуют только для белых. Но эта дорожка ведет в Харари, где живут туземцы. Они по нашей дороге никогда не ездят. Приезжие легко ошибаются. Зато на велосипедной дорожке, ведущей в Харари, не встретишь европейцев. Все это звучало почти символично в своей простоте. Где-то за высокой изгородью дорожка сворачивает, где-то находится местечко, название которого — Харари— звучит так загадочно. О нем нечего рассказать, так как ничего не известно. Я подумал, что туда, наверное, нельзя ходить — там обязательно ограбят. На душе было нехорошо. Пожалуй, нечего надеяться на встречу с африканцами на равных началах. Казалось, они живут совсем в другой стране. Вместо этого придется приобрести слуг и обмениваться с ними несколькими словами в день, как делали все другие. Тогда я еще не знал, что без велосипедной дорожки в Харари мы не выдержали бы так долго. Это была единственная дорога, которая куда-то вела.Лица
Арабским мылом, взятым в одной из египетских гостиниц, я пытался стереть с себя следы двух бессонных ночей. Мы так устали, что даже глаза покраснели. На плато опускалась ночь. Последнюю часть пути мы ехали между черными стенами кукурузы и табака; неожиданно машина остановилась перед низким длинным домом. Навстречу с лаем выбежали собаки, вышли безмолвные слуги. На ферме зажгли свет, но все равно ничего нельзя было рассмотреть. Нас провели в отведенную нам комнату. За миссис Пэрди закрылась дверь, и вот мы сидим среди высокой темно-коричневой мебели, привезенной, видимо, издалека. На стенах — виды шотландских гор, на ночном столике — книга «Your small farm in Southern Africa»[1]. Я выглянул на улицу, увидел холодные серые звезды над качающимися верхушками пиний. Свет из окон фермы падал на огромные каменные глыбы, серовато-коричневые, словно завернутые в высохшую картофельную шелуху. Вдруг в дверь просунулась чья-то большая голова. — Вы уже приняли ванну? Меня зовут Джордж Пэрди. Обед на столе. Поторопитесь! Мы собрались в гостиной и пили из кружек пиво. Оно было отличное, от него можно было даже опьянеть, и позже, когда мы не знали, что похвалить в Родезии, то всегда хвалили пиво. Дочь Пэрди — Дженнифер — сидела на диване и читала письмо. Это была девушка лет семнадцати, веснушчатая и очень милая. — Дорогая, — сказала миссис Пэрди, — скажи нам, от кого ты получила письмо, или перестань читать. Девушка смяла в комок письмо и вскочила легко, как тоненькая пружинка. — Если бы у меня было ружье, я застрелила бы его. — Кого, дорогая? — спросила миссис Пэрди. — Конюха. Он не напоил моего Цыпленка, хотя я велела ему сделать это. — Ты не должна давать ему слишком трудные поручения. — Я ненавижу его, — сказала Дженнифер. В этот момент послышался какой-то шум. Наш хозяин осторожно отодвинул занавеску — оказалось, кричит попугай в клетке. Хозяин качнул клетку. — Я нашла его вон в тех кустах. И знаете когда? В день нашей серебряной свадьбы. Миссис Пэрди достала с камина свадебную фотографию, сделанную в Шотландии: он — коренастый, широкоплечий, с высоким, пересеченным волевой складкой лбом; опа ростом повыше мужа, с покатыми плечами, приветливые глаза затенены шляпой, какие носили в двадцатые годы. Это было до их переезда в Африку, около глаз еще не было морщин. Так мы стали жить в этой семье. Всего несколько часов назад мы прилетели сюда из ниоткуда и вот очутились па ферме к востоку от Солсбери, в Южной Родезии. Незнакомые люди приняли нас; почему — этого мы не понимали, но были благодарны им. Здесь мы впервые познакомились с тем необыкновенным гостеприимством, которое в Африке наблюдается повсюду, среди всех рас. Хозяева знали только, что я стипендиат, посланный во имя международного братства учиться в Родезию. Они не были любопытны и не расспрашивали о нашей жизни. Мы, кажется, успели немножко узнать их, но нас они так и не узнали. Наше дальнейшее пребывание в Родезии вынудило их лишний раз взглянуть на то отвратительное, чем полна Африка и чего нормальный человек должен, по их мнению, избегать. Были вещи, ради которых люди переселялись в Африку. Но было много и такого, что им не нравилось, пугало их. Несмотря на это, они все же приезжали сюда, надеясь уберечься от всего неприятного. Они старались не сталкиваться с тем, что им не по душе, зато говорили об этом много. Таким образом, и семья Пэрди, и большинство других семей европейцев жили в незнакомой им Африке, которая рождала в них враждебные чувства. Но за этим первым ужином мы говорили только о термитах да о кочующих муравьях, которые съели у них весь ревень, и о новых кустах крыжовника, привезенных Пэрди из Кейптауна. Между чашками и серебряными мисками по столу расхаживали кошки, их провожали полные любви взгляды хозяина и восторженные восклицания миссис Пэрди. Потом Дженнифер взяла карманный фонарик и осветила грейпфрутовое дерево, под которым она похоронила свою первую лошадь.Завтрак и последние известия
На следующее утро, когда мы проснулись, то новое, что окружало нас, приобрело конкретные очертания. Скрип половиц, лай собак, голоса на незнакомом языке — все это наталкивало нас на размышления о нашей будущей жизни в южном полушарии, где-то между экватором и тропиком Козерога. Мы лежали в коричневых кроватях, задернутых пологом. Когда-то в двадцатые годы их перевезли на барже из Абердина в Бейру, в Мозамбике. Неожиданно в комнате появился слуга Абрахам с серебряным чайником в руках. В открытую дверь мы увидели солнце, восходящее над саваннами, и работника, который плел из тростника стенку сарая. Дверь в спальню и в комнату Дженнифер была открыта всю ночь, чтобы собаки и кошки могли беспрепятственно входить и выходить, когда им понадобится. Вслед за Абрахамом они вбежали к нам в комнату, подняли возню с туфлями, потом начали прыгать на постель, так что нам пришлось одеваться в обществе маленьких забавных собачонок. Домашний телефон Пэрди связан одной линией с пятнадцатью другими телефонами. Когда звонили в один из домов, звонки раздавались во всех шестнадцати. Для разных номеров установлено разное количество длинных и коротких сигналов. Звонки начинались в половине шестого утра: это обычное время телефонных разговоров. Чуть позже жители, пользуясь утренней прохладой, уже выходят на улицу. Люди, живущие далеко от города и не получившие вечерних газет, звонили, чтобы узнать последние цены на табак — начинался сезон продажи табака. Телефонная линия лучше всего работает по утрам, но слышно все равно скверно. Мистер Пэрди, красный как рак, кричал в трубку: — Доброе утро, говорю. Нет, я совсем не волнуюсь. Я просто пытаюсь сказать «доброе утро». Я абсолютно спокоен. Он в изнеможении протягивал трубку жене, и она более звонким голосом зачитывала вслух газетную заметку. В ванной был целый арсенал сывороток против змей. Говорили, что одна из них помогает против всех змей. Но бывали случаи, когда кто-нибудь по ошибке брал не ту склянку и умирал от двойной дозы змеиного яда. Завтрак очень обилен. Друг семьи Пэрди прислал из Южной Африки копченый окорок. Мы едим кашу и яйца, дыню и виноград. Кошки опять ходят по столу, неторопливо ступая между блюдами. — Как-то там Петер? — спрашивает миссис Пэрди. — Недурно, я думаю, — отзывается мистер Пэрди. — Он в Центральной провинции. Там сейчас тихо. Он ведь так хотел по-настоящему отдохнуть. Удит рыбу, а по вечерам бродит по деревням и занимается этнографическими исследованиями. Петер — их старший сын, которого как резервиста призвали на службу в Ньясаленд. — Вы не будете против, если мы включим радио и послушаем последние известия, пока завтракаем? — спрашивает хозяйка. Это наш первый завтрак в Центральной Африке. Мы слышим хорошо поставленный голос диктора с произношением, больше похожим на оксфордский, чем на солсберийский, дребезжание посуды в кухне и стук ножей. Сводка погоды: в Ньясаленде сухо и жарко, средняя температура в Северной Родезии—28 градусов, в районе Кариба — 36. Западные ветры в Южной Родезии и ливни в Солсбери. «В Блантайре призвана на службу новая партия резервистов… Из Солсбери вылетели с подкреплениями три самолета королевских военно-воздушных сил…» — Мне вчера рассказывали в банке, что Джон тоже там. — Да он уже разучился держать ружье. — Это не так уж важно. — Я нарежу для мужчин побольше ветчины. — Абрахам, подай мармелад! «Из министерства информаций только что поступило сообщение о том, что в Ньясаленде убиты еще четыре африканца. Они были вооружены дубинами и отказались подчиниться приказу. Среди европейцев раненых нет. На этом мы заканчиваем передачу последних известий». — Мы разделаемся с ними, — говорит мистер Пэрди. — Передайте, пожалуйста, горох, — просит Дженнифер. Она только что села за стол. Дженнифер в блузке и коричневых манчестерских шортах. Я вспомнил, как кто-то предупреждал нас в письме, что дамам не следует ходить в шортах, чтобы не искушать африканцев. «Как можно! Мы ведь не в Каннах», — с возмущением сказала как-то Анне-Лене одна родезийка шведского происхождения. Значит, они признавали, что чувства африканцев в этом отношении ничем не отличаются от эмоций белых. Почему же они не хотят признавать этого во всем остальном? — Похоже, в Ньясаленде убито несколько сотен туземцев, — восклицает мистер Пэрди. — Уж я то знаю, чем пахнет, когда сообщают такие новости. Я было решил, что наш хозяин либерал, которому не нравится, когда правительство пытается скрыть истину. Но он продолжает: — К чему лицемерить? Мы хотим сами управлять собой и мы должны иметь мужество заявить Лондону, что нам все равно — убиты тысяча или десять африканцев. Раньше они не поднимали шума, а сейчас необходимо дать им урок и показать, что мы не намерены уходить отсюда. — Милый, зачем так резко? — умоляюще восклицает миссис Пэрди. — Эта молодая пара только что из Швеции. Мы должны рассказать им, как просто и разумно мы смотрим на все это. К нам нередко приезжают из Англии всякие либералы и крикуны. Поживут здесь неделю и думают, что все поняли. — Вы ведь пробудете здесь целый год? — обращается к нам миссис Пэрди. Этим она хотела сказать нам в утешение, что мы-то не относимся к таким крикунам. Ведь у нас не могло быть никаких предвзятых мнений. Не для того же я приехал учиться почти на целый год, чтобы наводить здесь критику. Мы разговариваем, а Абрахам стоит в дверях буфетной и ждет, когда мы кончим завтракать. По его виду нельзя судить, понимает ли он, о чем идет речь. В этой семье не привыкли сдерживаться в присутствии слуг. Слугам представляется много случаев наблюдать цивилизацию белых, которая должна казаться им странной и непонятной. Когда мы встаем из-за стола, Абрахам молча подходит к миссис Пэрди и протягивает ей листок бумаги и ручку, прикрепленную шнурком к деревянной дощечке. Ни Абрахам, ни миссис Пэрди не произносят ни слова. Миссис Пэрди пишет на бумажке свое имя и слова: «Please, pass» — «Пожалуйста, пропустите». Вечером Абрахам свободен от работы и с этим пропуском может спокойно поехать на велосипеде в Солсбери, не опасаясь никаких неприятностей. — Многие туземцы очень смышлены, хотя вы, может быть, этому и не поверите, — говорит миссис Пэрди, строго посмотрев на меня. — Взять, к примеру, Джереми. Он стирает у нас белье. Он не умеет считать до пятидесяти, но просит меня откладывать от его жалованья по два шиллинга в неделю. И он проверяет меня, завязывая каждую неделю на нитке по два узелка. — У вас с Джереми много общего, мама, — замечает Дженнифер. Отец шутливо грозит дочери кулаком. Миссис Пэрди встает проводить мужа до автомобиля. Она отряхивает платье, словно от разговора в его складках застряли крошки.«Африканский скот»
Период дождей подходит к концу. В зоне тропика Козерога начинается бабье лето. Жара спала, на небе ни облачка. Гроз в это время года не бывает. Суббота, начало марта. Реактивные самолеты сомкнутым строем возвращаются из Ньясаленда домой, в Солсбери. Мы пьем чай на лужайке. Повар африканец испек лимонный торт. Мистер Пэрди отламывает кусочки торта и бросает их собакам. Он расстегивает рубашку, выплескивает остатки чая на клумбу. Собаки и кошки неотступно следуют за ним. Я не очень-то доверяю таким любителям домашних животных. Они ничего не хотят знать о людях, боятся их. Преданные собачьи глаза, в которых не отражается никаких вопросов, никаких проблем, вызывают у них сочувствие, а пытливые взгляды человека, поступки которого трудно заранее предугадать, делают их неуверенными и бессознательно жестокими. Зеленый двор около дома сплошь засажен. В нем несколько сот квадратных метров, по краям — клумбы и груды камней. Дом и лужайка окружены садом. Англия в миниатюре. За садом ферма: извилистые тропинки, колышущаяся кукуруза и турецкий табак. Табак посажен для эксперимента — ему трудно прижиться на высоте 1800 метров. Хижины сельскохозяйственных рабочих-африканцев прячутся где-то в стороне. Наша беседа прерывается лаем собаки и чьим-то воплем: через калитку проходит африканец с охапкой травы на плече, на него напала одна из собак. Хозяева объясняют, что их собаки не выносят запаха чернокожих, и добавляют, что собаки черных якобы всегда нападают на белого. Сам я впоследствии никогда не видел ничего подобного, но в тот момент мне пришлось лишь удивиться и промолчать. На крышу дома опустилась стайка темно-желтых крошечных птичек, сантиметров десять длиной, не больше. Они называются тинки-тинки. Кошка Майзи, заметив птичек, осторожно подкрадывается к ним. Дома в Африке очень низкие, потолок тонкий, здесь нет внутренних рам и толстых стен, подвалов и чердаков. Настоящий поселенец приезжает в местность, которую он считает необитаемой — коренные жители в счет не идут, — собирает группу африканцев и за несколько часов обучает их искусству укатывать землю и класть кирпичи. А потом он отсылает их обратно в их каменный век, а сам спокойно формулирует философский тезис о неспособности африканцев понять происходящее на земле. Майзи — настоящая хищница. В прошлый вечер она притащила мертвого кролика и засунула его хозяйке под кровать. Наутро миссис Пэрди наткнулась ногой на что-то мягкое, но не нашла своей туфли. А в другой раз Майзи появилась с полевой крысой величиной с бобра… Птицы на крыше нисколько не боятся кошки. Миссис Пэрди, сидя в кресле, зовет свою любимицу, но та не обращает на нее никакого внимания. Наш хозяин — один из пионеров молодой Родезии. Мистер Пэрди оценивает людей по тому, что они сделали для нации. «Он никогда не щадил себя», — одобрительно говорит хозяин о ком-нибудь из поселенцев, или: «он шел своим путем, не вступая в перебранку с министерством по делам колоний в Лондоне». Отстаивать свое мнение, приумножать свои богатства, упорным трудом завоевывать уважение людей и добиваться чувства удовлетворенности — вот его взгляд на цель жизни. Домашние животные — единственные, кого он не заставляет работать. Они не несут на себе проклятия трудиться в поте лица. Из дому выходит слуга. Он приносит торт. Миссис Пэрди разрезает его так, чтобы в середине куски не соприкасались. Этому опа научилась во время поездки в Новую Зеландию. Миссис Пэрди — веселая, загорелая женщина. Ей около пятидесяти лет, она носит туфли сорок второго размера, вырастила семерых детей и, несмотря на это, не растолстела. Ее руки все время заняты какой-нибудь женской работой: она либо ткет, либо вяжет. К тому же на ее попечении множество домашних животных. Хозяйка разворачивает первое письмо от сына из Ньясаленда. Поскольку дороги на севере провинции размыло, их перевезли на пароходе через озеро Ньяса. Там они делали набеги на селения и отрезали отряды мятежников друг от друга. Самое интересное — окружать по ночам краали. Экспедиции в джунгли увлекательны, как приключения в книгах для подростков. — Петер надеется, что он успеет вернуться домой к матчу с командой Машоналенда в школе Черчилля, — рассказывает миссис Пэрди. — Это будет в следующую субботу. — У границы сосредоточена авиация Южно-Африканского Союза. Стоит нам попросить, и она придет нам па помощь, — говорит мистер Пэрди. — Но за неделю мы многое успеем сделать сами. Иногда я думаю, зачем нам этот Ньясаленд — с ним всегда столько хлопот. — Оттуда приезжают наши слуги, дорогой, — напоминает жена. — Будем надеяться, что Петер скоро вернется домой. А тогда все это не будет иметь для нас никакого значения. «Не будет иметь для них никакого значения…» А для меня это будет иметь значение. Я останусь здесь, даже если команда Машоналенда выиграет в субботу соревнование по регби у команды Матабелеленда. После чая миссис Пэрди наполняет водой ванночку для птиц, следит, чтобы гусям дали травы, и сама кормит зерном мускусных уток с длинными, как у грифов, шеями. Некоторые работники отпущены домой, поэтому мы с хозяевами сами пересчитываем лошадей, затем идем к глиняной яме, где трое мужчин смешивают глину с цементом и делают кирпичи для нового дома. Они получают по три с половиной кроны за сотню кирпичей, а успевают сделать за день всего четыре сотни. Позже я понял: для Родезии это очень хорошая оплата. Садовый работник, занимающийся обработкой каменистой почвы, получает всего 45 крон в месяц и бесплатную еду. Семья такого работника живет тут же в усадьбе и обычно занимает крохотную хижину, сооруженную из соломы и глины. Мы сидим на камнях на краю кукурузного поля. Мистер Пэрди говорит о коренных жителях страны. Я — первый из молодых стипендиатов фонда Ротари, кто попросился в Федерацию Родезии и Ньясаленда. Мистер Пэрди спрашивает меня: — Впервые путешествуете? — Нет, — ответил я. В ответ последовало удивленное молчание. Рядом с супругами Пэрди мы чувствовали себя школьниками. Нас непрерывно поучали. Впрочем, это естественно: они годятся нам в родители, их дети ненамного моложе нас. На этот раз мистер Пэрди сказал, а я как прилежный ученик потом записал слово в слово следующее: — Понимаете, нам не справиться без посторонней помощи. Нам необходим труд чернокожих. Нас меньшинство, и мы должны исходить из этого. К чему лицемерить? В Южной Африке передвижение черных находится под контролем, и полиция держит их в постоянном страхе. Я охотно даю им пищу и хорошее жилье — так они лучше работают. Но нам приходится все время помнить о том, чего вы в Европе никак не можете понять: африканцы — не такие, как мы. Это не люди, это животные. Нужно, чтобы они всегда знали свое место. Им нельзя давать политические права. Нам нужно иметь полицию, чтобы при любых обстоятельствах держать черных в руках. Мы ведь не предоставляем скоту право голоса и свободу слова. Я даю ему пищу и кров и знаю, что больше ему ничего не нужно. Мистер Пэрди переводит дыхание. Он говорит сквозь зубы. Может быть, он вовсе не хотел высказываться так сразу, но, видимо, считал своим долгом говорить правду. К тому же он мог думать, что мы, возможно, разделяем его мнение. Он привык, что многие придерживаются таких взглядов. Позднее нам не раз приходилось слышать подобные высказывания, и даже похуже, но, пожалуй, так откровенно никто не говорил. Особенно тяжело слушать такие вещи в первый раз. Нам не помогло, что мы уже читали об этом в книгах. Откровенное заявление мистера Пэрди застало нас врасплох. Мы были безоружны и не знали, что ответить этому человеку, который принял нас так приветливо и гостеприимно. — Все, что мы делаем для туземцев, мы делаем для их же блага, — продолжает мистер Пэрди, почувствовав в нашем молчании скрытый протест. — Я сам был членом комиссии по изучению потребностей туземцев в отдыхе и развлечениях. И он разъясняет нам, как полезно черным заниматься спортом. Он говорит об этом тем же тоном, каким раньше объяснял устройство кормушек и стоков для навоза. Тем временем ветер стих, гул самолетов смолк. Одна из кошек вскочила хозяину на руки. Сейчас у нас нет никакого желания спорить. Моя жена отходит в сторонку — на ее глазах слезы. Мы идем по владениям наших хозяев. — Средний африканец, — просвещает нас миссис Пэрди (она любит говорить о «среднем» африканце), — наиглупейшее существо. Я хорошо к нему отношусь, ведь он не виноват в том, что его раса обречена тысячелетиями жить на уровне каменного века. Я могу указать ему на дерево и послать его к нему, а он даже не найдет туда дороги. Какой ему смысл ходить в школу, изучать английское средневековье и французские войны? Но мы, конечно, даем черным образование Они великолепно справляются со многими профессиями. У нас, например, много черных работают шоферами автобусов. А у меня в доме служил маляр, очень воспитанный. Утром я спрашивала его: «Как вы поживаете?». Он отвечал: «Отлично». — «А как семья?» — спрашивала я. «Тоже неплохо», — говорил он. Да, он всегда отвечал на все мои вопросы. Совсем как джентльмен, так что, вы понимаете, они не все одинаковы. Таким образом, розги и розы раздаются по справедливости. Мистер Пэрди поправляет подтяжки на своей голубой льняной рубашке и показывает на ласточек, устроивших гнездо под крышей скотного двора. — Скоро они отправятся в Швецию. Вас еще не тянет домой? В это время года перелетные птицы как раз готовятся к отлету на север. Правда, большинство птиц из Родезии отправляются в другие страны: аисты летят в Польшу, неприметные серые дрозды улетают в Китай и Монголию. — Нет, — хочется мне сказать, — в Швецию нас не тянет. Нас притягивает Африка.Нужные адреса
В первые дни пребывания в Родезии мы с женой чувствовали себя беспомощными, подавленными, бессильными что-либо сделать. В дороге нас обуревала жажда новых впечатлений, а теперь мы уже устали от всего, что нам пришлось увидеть и услышать. Какой смысл в этих условиях знакомиться с людьми, с природой? Зачем только я согласился на такой долгий срок пребывания в университете? Обещания и обязательства теряли всякий смысл, теперь они становились обузой и грозили задавить нас. Сидя на кроватях, мы писали письма. Мы были ожесточены, но трусливо молчали. Доверить свои мысли было некому. Ведь только Пэрди знакомил нас с людьми, а все эти люди были похожи друг на друга и высказывали одни и те же мысли. К чему волноваться? — думал я. Они просто привыкли так говорить. Они не вкладывают в свои слова никакого смысла. Но избавиться от этого было невозможно. Это была не та Африка, к которой мы стремились. Здесь ничего нельзя было понять с первого взгляда, привычные представления менялись. Нас сбивала с толку и заставляла молчать ограниченность и наивность нашего хозяина. Он высказывал свои полные предрассудков взгляды как нечто само собой разумеющееся — ведь все окружающие разделяли их. Часто люди поддаются искушению разбить чужие представления откровенным высказыванием своего мнения, а мы, наоборот, встречали его бьющую через край откровенность уклончивыми ответами. Все, что он говорил, он произносил таким авторитетным тоном, что нам не приходило в голову начинать дискуссию. Вскоре мы нашли оружие и научились обороняться, но в первые дни наша неопытность была слишком велика. Мы поняли, что в Африке в споре с белыми нельзя прибегать к таким доводам, как интуиция, чувство, принципы. Все это не имело для них ровно никакого значения. Опыт — единственное, чем вы имели право обосновывать свою точку зрения, опыт же приобретается только со временем. — Вы сами увидите, когда будете уезжать отсюда через год… Хотя тогда вы, пожалуй, захотите остаться здесь. Все будет совершенно иначе. Вы поймете, сколько предвзятых мнений было у вас. Так сказала одна дама, которая пришла однажды утром, чтобы уговорить Салли Пэрди принять участие в благотворительном базаре. Выручка от базара предназначалась для подарков храбрым сынам, сражавшимся в горах Ньясаленда. Мистер Пэрди взял меня с собой на ленч в клуб Гранд-отеля. Там я предполагал завязать нужные знакомства. Наше положение на ферме было двусмысленным. Мы пользовались гостеприимством хозяев, а оставаясь вдвоем, обсуждали вопрос, как долго сможем выносить жизнь на ферме. Воздух в саваннах, казалось, был сжат как внутри футбольной камеры. Нам нужна была рекомендация от кого-нибудь из сильных мира сего к агенту по продаже недвижимого имущества Солсбери. Пожалуй, ни в одной африканской деревне я не чувствовал себя в большем одиночестве, чем в этом светлом зале с колоннами. Обычно я легко приспосабливаюсь к обществу, но представленный мистером Пэрди как человек, приехавший в Федерацию не ради асбеста или кукурузы, а ради приобретения знаний, я почувствовал себя неуверенно. Я поздоровался с президентом клуба, выпил с ним. Президент начал представлять меня окружающим. Мистер Вестберг — мистер Фокс, мистер Вестберг — мистер Редберн, мистер Лоулер, мистер Хогард, мистер Вестберг — мистер Фокс… Народу было много, я совершенно запутался и в конце концов протянул руку президенту, с которым уже был знаком, и отрекомендовался: Вестберг. В клубе собрались крупные дельцы Солсбери и служащие министерств. Мужчина, предложивший мне на аэродроме звать его Томом, спросил меня, как я поживаю. В Родезии всегда все превосходно, и я ответил, что чувствую себя как нельзя лучше. Том рассмеялся — он так и думал! Директор страхового общества спросил меня: — Вы заметили какие-нибудь признаки чрезвычайного положения? Видели ли вы хоть одного солдата в Солсбери? Мои родственники пишут тревожные письма. Я отвечаю им, что у нас никогда не было так хорошо. Объявление чрезвычайного положения — мальчишество, авантюра. Правда, газеты и политические деятели думают иначе, но многие из тех, с кем мы говорили, уверены, что молодая страна разыгрывает сейчас свой самый грандиозный спектакль. Сэру Рою Беленскому, премьер-министру Федерации, с улыбкой отводят в этом спектакле роль первого национального героя после Сесиля Родса. Прямодушный шахтовладелец из области Шабани хлопнул меня по спине: — A-а, вы пишете! Передайте, что здесь все спокойно. Нельзя чувствовать себя в большей безопасности даже в запертом гардеробе. Его смех прозвучал бы загадочно, если бы не был таким громким. Вокруг меня говорили о Джоне Стоунхаузе, члене английского парламента, которого несколько дней назад выдворили из страны. Сэру Рою нанесла визит депутация белых, готовая вывалять Стоунхауза в дегте и перьях; а поскольку полиция была занята другим — она усмиряла интеллигенцию и африканских политических деятелей, премьер-министр не мог гарантировать члену парламента безопасность. На рассвете Стоунхауза спешно вывезли на самолете, чтобы на него не могли напасть. Среди посетителей клуба были люди двух типов. Некоторые, казалось, прибыли прямо из лондонского Сити — узкие жилеты, черные сюртуки, прямые усики. Это были закаленные управляющие, для которых в любом уголке мира — климат Итона и Хэрроу. Другие были южноафриканского типа: белые рубашки с рукавами, подхваченными резинками, яркие шелковые галстуки, мягкий диалект, близкий кокни[2]. Некоторые из них — худые, угловатые, со взъерошенными рыжими волосами. Они хохотали над своими собственными шутками, не очень понятными окружающим. Какой-то человек произнес речь о необходимости радиорекламы. Потом приветствовали гостей из братских клубов Южно-Африканского Союза, высчитали процент присутствующих, а затем эти люди — люди одной расы, одних политических убеждений и одного общественного положения — с удовлетворением отметили, что у них много общего. Получив несколько нужных адресов, я отправился на поиски квартиры. Мы хотели поселиться там, где могли бы делать все, что нам вздумается, и общаться с кем хотим. Прочитав столько брошюр для эмигрантов, мы думали, что это будет легко. Мы хотели снять дом на полгода. Агенты ничего не могли предложить на такой короткий срок. Тогда мы решили действовать иначе. После обеда мы отправились домой, на ферму, в автомобиле Дженнифер. Ферма находилась в нескольких милях от города. Вдоль дороги тянулись длинные желтые бараки. В них поселились эмигранты: чтобы скопить деньги на приобретение дома в Европе, здесь они живут в тесноте. Потом мы ехали мимо гигантской фабрики искусственных удобрений, мимо ферм европейцев. Поля фермы, носящей название «Счастливой» — «Fortune Farm», выглядели неприглядно: табак прибило градом, листья кукурузы пожелтели и поникли. Когда мы приехали домой, миссис Пэрди шила. Повар испек к чаю лимонное печенье. Нам подали его с ежевичным вареньем. В саду вдоль дорожек росли кусты ежевики с синевато-коричневыми и приторно сладкими ягодами. Хозяйка показала нам альбом с этюдами, написанными акварелью. Этюды, сделанные ее матерью, изображали Шотландию девяностых годов, приход, где жила их семья. Мы спросили хозяйку, не хочется ли ей вернуться к этим постоялым дворам, замкам, стадам овец, вересковым пустошам и паркам. Нет, все это было очень давно, люди все изменили, так что сейчас трудно что-нибудь узнать. Почему семья Пэрди эмигрировала? Мы так никогда и не узнали, какие трагические, эгоистические или героические обстоятельства заставили их это сделать. Нам казалось, что первое время они чувствовали себя здесь неуверенно, но гораздо сплоченнее, чем в Европе. Мы понимали, что в них, в сущности, нет ничего исключительного. Когда-то в Шотландии они были такими же порядочными, как и все. У большинства людей предрассудки дремлют, а расцветают пышным цветом они только тогда, когда находят поддержку. А когда все разделяют эти предрассудки, они начинают казаться хорошими качествами. Причины отъезда из Европы могли быть разные; цель переселения в Африку обычно одна — материальная выгода. Это девственная страна, где легко нажиться. И в блеске денег поселенцы забывают о людях, населяющих Африку, о тех, кто только и может обеспечить безопасность и спокойствие белых в этой стране на долгое время. Пэрди не жаловались. Они ведь добились своего. Мистеру Пэрди предлагали министерский пост. Кроме того, он был председателем общества мукомолов и занимал всякие другие почетные должности. Сейчас в доме ждали его возвращения из столицы. Это легко было заметить: слуги расставляли цветы, раскладывали подушки, а на то место, где должен был стоять зонтик, поставили клюшку для гольфа — ею убивали змей. Во двор въехала машина. Выбежали собаки и слуги, мистер Пэрди обнял собак, слуги вынули из багажника коробки с продуктами, купленными в городе. — Вам письмо! Президент международной федерации, под покровительством которой я предпринял свою поездку, поздравлял меня с полученной мною возможностью «помочь тем, кто остался дома, лучше понять людей, в чьей стране вы учитесь, — их традиции, обычаи, проблемы». Таким образом, я мог «помочь создать нужную атмосферу и общественное мнение, способствующее обеспечению прочного мира». Позже я решил, что это письмо, как ни странно, содержательно. Вечером мы пошли в конюшню. Мы видели, как из своего гнезда около травяной кочки вылетел темно-коричневый жаворонок. Было прохладно, и я натянул пуловер. А мистер Пэрди, всегда одетый в тонкие льняные брюки, надел на себя старый поношенный сюртук. Таких в Африке никто не носил. Пэрди был похож на извозчика, только что спрыгнувшего с козел, чтобы показать дорогу в комнаты постоялого двора.Гости на ферме
К чаю часто приезжали гости из Солсбери или из провинции. Большинство — в запыленных автомобилях, а некоторые любители спорта — верхом на лошади. Добираться домой гостям было далеко, поэтому они обычно оставались на обед. Слуги бегали с чайниками, подносили стаканы с грогом, таскали ведра со льдом, расставляли стулья на увитой зеленью веранде, нарезали куски заливного языка и ветчину. Дженнифер выполняла роль гостеприимной хозяйки. Светлое открытое платье было ей к лицу. В школе Дженнифер не блистала. Окончив ее, она работала продавщицей вСолсбери. Дженнифер просила отца послать ее на сельскохозяйственные курсы. Дженнифер обладала каким-то особым природным даром. Она была необычайно сильной и ловкой спортсменкой, умело обращалась с животными, до тонкостей знала устройство комбайна. Подавая гостям ледяной пунш, она рассказывала об охоте на самку леопарда в горах Инянга: — Мы отравили ее стрихнином, но она как сумасшедшая выпрыгнула из куста и вцепилась в собаку. Мы застрелили ее, вскрыли, вынули двух зародышей, заспиртовали их и отдали учителю биологии в школе святого Мартина. Раздался испуганный визг болонки. В траве неподалеку от нас зашипела змея, смертельно опасный родственник гадюки, хотя это был всего лишь детеныш. Нам нечем было защититься, пришлось влезть на стулья и стоять там, пока не появился слуга с клюшкой для гольфа и не размозжил змее голову. Мы пережили несколько неприятных минут, ощущая ужасную беспомощность. Потом мы выпили еще пива, закусывая холодной спаржей. Женщина, сидевшая напротив меня, рассказывала очередную историю о слугах: — Я сняла часы, показала на цифры и сказала: «Сикспенс, когда стрелка дойдет досюда, пройдет ровно пять минут, и ты должна вынуть яйцо». Через некоторое время вбегает сияющая Сикспенс: «Идите посмотрите». Я вошла в кухню. В кастрюле лежали яйцо и часы. Они варились розно пять минут. С поля доносилось похожее на бормотание пение. Это несколько африканцев рыли яму под уборную. Я подошел к ним, они холодно, недоверчиво посмотрели на меня. Я сказал что-то по-английски, они испуганно встрепенулись и покачали головой. Позднее я близко узнал многих африканцев, тогда же я ни с кем из них не был знаком. Я не знал, что о них думать — настолько ли они разумны, чтобы с ними можно было говорить, или они просто невежественные и добродушные дикари. Но какими бы они не оказались — ничто не могло бы изменить мою точку зрения на расовый вопрос. Когда я вернулся к компании, расположившейся на лужайке, наш хозяин рассказывал, как полицейский выбил зубы африканцу — шоферу грузовика. Полицейский неправильно понял слово, которое африканец произнес с ошибкой. В этой истории действительно было много курьезного, но меня она покоробила. Наверно, оттого, что шофер был черный. А если бы шофер был белый, может быть, мистер Пэрди и не упомянул бы об этом эпизоде, не знаю. Впрочем, большинство шоферов грузовиков — африканцы. Путешествующий по Южной Родезии обязательно попадает в неловкое положение: он замечает, что на любом высказывании лежит отпечаток расовых предрассудков. В то же время он чувствует, что если станет возмущаться презрительным отношением белых к черным, то будет выглядеть смешным и сентиментальным — ведь презрение к африканцам поколениями врастало в белых и перестало ими осознаваться. Так, всеми возможными способами мы тянули послеобеденное время. Война была где-то далеко. После утреннего дождя желтое плато сверкало, как начищенный медный поднос. Ничто так мало не ценилось здесь, как время. День, когда время станет драгоценностью, какую не купишь на все деньги Федерации, может оказаться для белых роковым. Но никому из друзей Пэрди не приходили в голову такие мысли. А пока мы играли в крокет и в кегли, осматривали конюшню, загоняли уток в сарай и сдабривали виски сочными анекдотами, которые скрашивали наши вечера еще несколько недель. Перед обедом гости обычно играли в бильярд или в его разновидность — снукер. Большой зал, служивший когда-то гаражом для трех автомобилей семейства Пэрди, был переоборудован под бильярдную. Мужчины, сняв пиджаки, собирались вокруг огромного стола. Низкие лампы с абажурами из синей ткани освещали зеленое сукно, от тусклого света просыпались ночные бабочки. Вот одна из них села на бильярдный стол, и шар придавил ее к сукну. Женщины сидели на деревянных скамьях вдоль стен, наполняли грогом стаканы для мужчин, а сами пили вермут. Вот так в моем представлении выглядел лагерь буров на биваке: мужчины усаживаются на корточки между повозками, торопливо стреляют, перебрасывают ружья женщинам, а те спокойно вкладывают патроны. Точно так же здесь мужчины склонялись с кием в руках, а их храбрые жены следили за бутылками. Да, поистине это страна неограниченных возможностей. Стучали шары, менялись цифры на доске. Зал с выбеленными стенами и черным цементным полом казался меньше от расставленных по стенам зеркал. На одной из стен — полка с книгами: Невил Шут, Мэри Вебб, сборник жизнеописаний Сесиля Родса. Миссис Пэрди, держа на коленях болонку, что-то вязала. Она была явно возбуждена игрой. — Ну, довольно! — остановила она мужа, рассказывавшего анекдоты. Она взглянула на доску, где отмечались набранные очки, радостно вскрикнула, так как очков было уже много, подошла со своим вязаньем к столу и стала мешать игрокам. Были слышны реплики философского содержания: — Черные живут сегодняшним днем. Самое большее, чему их можно научить, — смотреть на год вперед. — Не удивительно ли, что они живут ради мечты, которая осуществится через сотни лет? Под столом полусонная собака жевала бумагу; там лежал старый сифон для содовой воды и ящики со свадебными подарками старшей дочери. Она не взяла их в свой новый дом к северу от Умтали. Умтали — это Шотландия Южной Родезищ там в ручьях пляшут форели. Голоса игроков начали стихать. — Well done![3] — Good shot![4] — Slowly, partner![5] Лица утратили напряженное выражение, тела расслабли. На мистере Пэрди — красная рубашка. Пояс расстегнулся, брюки спадали. Женщина, сидевшая рядом со мной, сказала: — Сэр Рой Беленский — наш Георг Вашингтон. Она вся так и сияла, щеки ее горели, на шее красовалось огромное жемчужное ожерелье. Казалось, она радовалась тому, что живет в эту историческую для Африки эпоху. — Мы спокойно можем довериться ему, — добавила она. — Скорее он может вполне довериться нам, — поправил ее мужчина, хозяин магазина мужского готового платья в Солсбери, с филиалами в Гвело и Ливингстоне. Когда мы приехали сюда, то были либералами, а потом были вынуждены стать реалистами. Так, разговор за столом приобретал вполне определенное направление, служа как бы дополнительной приправой к тушеному мясу, сдобренному кэрри, острым соусом и крепким пивом. Вскоре я понял, что значит быть «реалистом». Для реалиста африканцы — бесформенная масса, состоящая из слуг и рабочих. Реалист не видит людей, не замечает несправедливости. Он считает современное положение рас «исторически необходимым». Это его любимые словечки, он пользуется ими не задумываясь, даже когда говорит о собственной жизни. — Романтики и безумцы есть повсюду, особенно много их в Англии, — сказал мистер Пэрди. — Но те, кто с таким успехом содействовал благополучию общества, имеют право на самые широкие привилегии, а также право определять, что такое благополучие и кто может пользоваться им. Не правда ли? Он посмотрел на окружающих. Гости одобрительно кивали головой. В домах белых в Африке мне нередко приходилось быть свидетелем горячих дискуссий среди людей, мыслящих одинаково. Они все были согласны друг с другом. Тогда отчего же они кипятились? Против какого невидимого врага направляли стрелы своих обвинений? Против Организации Объединенных Наций, против лейбористской партии в Англии, против какого-нибудь либерала, которого один из них встретил на пассажирском пароходе, направлявшемся в Европу, против Африки, которую они не замечали? Пли они плохо думали о других, потому что плохо думали о себе? К чему эти страстные протесты, не встречающие возражений? — После мировой войны здесь стало скучно, — заметила миссис Пэрди. — Слишком много новых лиц. А многие туземцы побывали в Индии и в Европе, научились рассуждать. Проблемы конституции… процесс демократизации — эти слова и у меня навязли в зубах. Туземцы похожи на шимпанзе, взобравшихся на стулья. Если бы они работали да помалкивали, то давно добились бы того благосостояния, о котором столько кричат. Не можем же мы без конца давать им деньги. Один помещик, член правящей Объединенной федеральной партии, наклонился ко мне. Он изрядно выпил и искал сочувствия: — У нас в Родезии, конечно, есть апартеид; хоть он и на пользу туземцам, мы не говорим о нем. Беда Южной Африки в том, что они слишком много болтают о вещах, которые мы считаем само собой разумеющимися. Да, если бы Федерация не была страной хорошо поставленной пропаганды, страной, где о многом умалчивают, меня не заманили бы сюда на такой долгий срок. Я думал, что здесь царит согласие, сотрудничество между белыми и африканцами. Я не смог заставить себя улыбнуться союзнику сэра Роя. — В Лондоне забывают, что у нас здесь жены и дети, — продолжал он. — Пусть-ка мальчики с Уайтхолла приедут сюда и займутся чайными плантациями в Ньясаленде. Посмотрим тогда, не утратят ли они вкуса к этнографическим экспериментам в области самостоятельности черных. — Ужасно много об этом болтают, — сказала миссис Пэрди. — Если хотя бы год не говорили о расах, было бы гораздо лучше. Несколько лет тому назад все было иначе. Каждый занимался своим, и белый и туземец точно знали, что им надо делать. — Столько говорят о пользе хороших отношений между расами. Опыт показывает, что лучше обходиться без всяких отношений, — утверждал мистер Пэрди. Тема всем, видимо, надоела, и разговор оборвался, наступило неловкое молчание. Женщины завели негромкую беседу о новом клубе для игры в бридж, о соревнованиях по плаванию, где отличились их дети, о сыне, которому снизили балл по поведению за то, что он подложил в школьный гардероб осиное гнездо. Тогда мужчины тоже заговорили на другую тему — вспомнили состоявшееся на той неделе соревнование по крикету на старом заросшем ипподроме и танцы после соревнований под оркестр Расти Лэнгли в отеле «Скайлайн». Абрахам подал в гостиную кофе. Заперли на ночь двери. Миссис Пэрди полулежала на диване, вытянув ноги, и опять что-то шила. Она была самой обыкновенной хозяйкой дома. Она легко примирялась со всем. Какой глупый фарс, казалось, говорила она. Люди болтают и упиваются сплетнями. Газеты врут. Вышивать, шить, присматривать за животными — вот все, что нужно, чтобы чувствовать себя прекрасно. Со слугами надо обращаться твердо, они терпеть не могут равенства. В другой обстановке она бы нам могла нравиться. Даже тогда мы с женой чувствовали к ней некоторую симпатию. — А как твой Абрахам, Салли? — спросила одна из дам. — Он старательный и честный. Я могу сосчитать по пальцам, сколько раз он напился в рабочее время. Когда миссис Пэрди хвалила слугу, было ясно, что его заслуги опа приписывает себе, но в его плохих качествах она не считает себя виновной — пороки были врожденными. — Ты ведь не прибавляла ему жалованья? Иначе он похвастался бы моему Мозесу. — Нет, это ни к чему, — ответила миссис Пэрди. — Они, собственно, и не хотят получать больше. И все же мне приходится каждый вечер запирать чай, сахар и мыло. — У них, может быть, большие семьи, — предположила Анна-Лена. — Сколько им ни давай, они все равно крадут, — сказала миссис Пэрди. — Я знаю поваров, которые не крадут, — высказалась одна дама. — Значит, они боятся, что их поймают. Мы живем здесь не первый десяток лет и видим их насквозь. Один из гостей, полковник, раньше служивший в Индии, перевез свою семью в Родезию потому, что здесь дешевые слуги и низкие налоги, да к тому же запрещена иммиграция индийцев. Он был очень похож на банального полковника колониальных войск из кинофильмов. Полковник заявил, что белому приходится нести все более тяжелое бремя, а когда кто-то сказал, что с плеч полковника спала огромная ноша — Индия, он оскорбился. — Но ведь есть же воспитанные индийцы, — заметила дама, сравнившая сэра Роя с Георгом Вашингтоном. — Воспитанные и ставшие коммунистами, да, такие есть, — ответил полковник. — Однажды, когда мы жили в Солсбери, на нашей улице появился индиец. Он был верховным комиссаром, послом, а его жена имела университетский диплом. Сначала нам казалось невероятным жить на одной улице с индийцем. Почти все жители нашей улицы писали петиции и грозили переехать. Но он и правда был порядочный человек, и в конце концов его дети стали ходить в одну школу с нашими. — Это, пожалуй, единственный случай в Федерации, — сказал земледелец. — Вы были с ним поистине великодушны, Салли. Наша хозяйка грелась в лучах проявленной ею снисходительности. Полковник вертелся на стуле. На стене над ним висела картина: первые поселенцы втыкают флажок на Сесил-сквер, закладывая Солсбери. Картина напоминала старые шведские олеографии, изображавшие возвращение ополченцев. Когда речь заходила о проблемах труда, субсидиях на табачные плантации и о только что пущенной фабрике химикалиев, которая не оправдывала себя, так как люди предпочитали покупать импортные удобрения, то родезийцы, бывавшие в гостях у Пэрди, говорили примерно так: — Попробую завтра увидеть Эдгара в клубе, тогда уж я как-нибудь улажу дело. — Я переговорю с Хэмфри в кулуарах парламента. Завтра позвоню и сообщу как дела. Судя по таким разговорам, можно было подумать, будто Джон, Рой, Эдгар и Мэл со всеми своими министрами самые рядовые граждане. Петиции, аудиенции, письма местным членам парламента — все это непостижимые разуму обходные пути демократии. Или еще: «Встреча в клубе была полезной, мы нашли общих друзей в Кардиффе и Шрусбери; у Тома, наверное, есть более близкие друзья, которые ему больше по сердцу, мы отдалились друг от друга, проклятая бюрократия заедает нас. Черт побери, я уеду в деревню». «Блестящие возможности для настоящих людей», говорится в брошюре «А New Life in the Federation»[6]. «Настоящие люди» — это несколько человек. Все они хорошо знают друг друга, их совсем немного, иначе им не было бы так приятно быть вместе. Но не надо забывать, что есть много миллионов людей, не знакомых с Роем и Эдгаром. Некоторые из них пытались познакомиться со своими правителями. Эта попытка многому научила их. Во время моего пребывания в Федерации они сидели в лагерях. Но есть и другие, они долго молчат, затаясь. И тут уж не помогут ни полиция, ни клетки для заключенных, которые так старательно оплетают стальной проволокой. Для постройки этих клеток в феврале и марте 1959 года нашлось много добровольцев. В Африке «других» всегда больше, чем «нас», хотя мы считаем, что «мы» — это все. Я сидел и пил ореховый ликер, отдающий лыжной мазью. На бархатной подушечке возле моих ног лежала Паула, собачка с белками величиной с соусник. На улице было темно. Над горизонтом, словно сорванные вихрем ветки, промелькнули молнии. Африканцы, рывшие яму под уборную, вероятно, ушли домой, не закончив работы. Миссис Пэрди наклонилась к собачонке и потрепала ее. — Ваффер, дружок, сегодня ты будешь спать в моей постели. Собаку впустили в дом после деятельного дня, проведенного ею в мусорных кучах и тинистых прудах с лягушками. Ей дали торт и кусок рокфора в награду за то, что она существует. Глисты, паразиты, дурной запах — привилегия черных, а не собак. Я подумал: если дорога, ведущая от бархатной подушечки для собаки к испуганным людям у выгребной ямы, — единственная, то оставаться долго в этой стране мы не сможем. Нельзя ходить по этой дороге взад и вперед, ничего не делая. Иногда кто-нибудь в гостиной улыбался мне, как бы оправдываясь — видите, как мы живем. Я улыбался в ответ. И по большей части молчал. Они явно хотели сказать: нужно долго прожить здесь, чтобы понять нас. В наших отношениях с семейством Пэрди тоже было что-то неладно. Они называли нас по имени, а мы величали их мистер и миссис. Вот так же, когда я был ребенком, мне разрешали посидеть в обществе взрослых, только надо было молчать и слушать, а потом встать, поклониться и идти спать. А взрослые продолжали свое.Утренняя дорога
Рассвет — лучшее время дня в Африке. Лучи солнца проникли в столовую и рассыпались снопом искр по стоявшему на буфете серебряному блюду для ростбифа. Блюдо и много другого серебра Пэрди привезли из Шотландии. Я успел встать до того, как появился слуга с чаем. Воздух был чист, словно прозрачная вода с звенящими в ней пузырьками. Он нес с собой массу запахов: сладковатый запах смолы, едкий запах выжженной травы, аромат крапивы и леса, запах крепких напитков. На садовой ограде, сложенной из поставленных друг на друга камней, сидела похожая на зимородка синяя птица с длинным клювом. Осанкой она напоминала педантичного школьного учителя. Выпустили лошадь, с громким ржанием она понеслась по загону. Я перепрыгнул через ограду, вспугнув серую ласку. Идти, собственно говоря, было некуда. Вокруг лежали табачные и кукурузные плантации, пастбища — туда нельзя. Есть только две дорожки: одна ведет к конюшне, другая, сливаясь с широкой дорогой, уводит к Руве. В некоторых местах трава низкая, по ней можно пройти к кустарнику, обогнуть несколько огромных каменных глыб и вернуться назад. Я сел у мелкой речонки. Неподалеку от меня умывался африканец. Некоторое время он неподвижно стоял и смотрел на меня, потом убежал. Прозрачная вода тихо струилась. Но я не доверял ее чистоте. Я часто слышал о том, что в водоемах Африки водится страшная бильгарция, и не решился опустить в воду руку — личинки могли проникнуть через кожу. В Федерации купаться можно только в озере Ньяса да еще в бассейнах для плавания. Я слышал, как кто-то сказал: «Уничтожим сначала бильгарцию, а потом можно заниматься туземцами». Из окон фермы не видно никаких жилищ. Рабочие и прислуга живут в стороне от белых, их хижины скрыты деревьями мсаса и мнондо. Стволы этих деревьев у самой земли расщеплялись на три части. По дороге к Руве встречались дома, построенные в последние годы; на стыке дороги с шоссе, ведущим в Солсбери, стояла бензоколонка. Вокруг поднимались стебли алоэ. Перед глазами расстилалось плато с низкими синими холмами, кое-где прерываемое болотистыми низинами, поросшими папирусом, орхидеями и красавкой. А я чувствовал себя как человек, попавший в западню. Я был вынужден возвращаться тем же путем.С глазу на глаз со слугами
Длинный белый дом с цветами и фруктовыми деревьями, лошадьми, утками и поросятами. Вкусно ешь, ведешь такую жизнь, о какой имеешь представление только по старым мемуарам. Утром просыпаешься с неприятным ощущением во рту. Один из ночевавших в доме уходит на охоту, другой едет за несколько миль, чтобы поиграть в кегли. Ты уже знаешь, что не полагается самому идти в кухню за стаканом воды. Вокруг тебя— люди, заботящиеся о самых интимных твоих вещах, но ты не можешь ни словом, ни жестом проявить свою близость к ним. Вероятно, у многих иногда появляется желание перенестись ненадолго в другую эпоху, пожить, например, под сенью сороковых годов XIX века, среди карет, кренделей на булочных и метких стрелков. Вероятно, это не совсем похоже на нашу жизнь в Родезии, но имеет что-то общее с ней. Когда поживешь в обществе с другими идеалами, начинаешь сознавать, как глубоко сидят в тебе идеалы твоего времени и твоей среды. Мы в Швеции так долго занимались идеей равенства, что в некоторых кругах это понятие утратило свою остроту и значение. В Африке, доброй старой Африке, идеал равенства стал для меня наивысшим идеалом. Привлекательная жизнь поместного дворянина оказалась настоящим мучением: воспитание лишает человека возможности наслаждаться ею. Мы с женой находили аморальным, что нам постоянно прислуживали, а мы только осматривали землю, на которой другие работали, и играли роль богатых наблюдателей, волею случая родившихся лишь для того, чтобы пользоваться неограниченными привилегиями белых, свободных от обязанностей. Вечером вся семья уезжала в город. Миссис Пэрди принесла небольшую книжку — «Прогресс африканцев в Южной Родезии». На обложке красовался радостно улыбающийся рабочий с вилами в руках. — Я чувствую, вам надо прочитать это. Мы всегда предлагаем ее нашим гостям. Она помогает понять наши взгляды. Это говорилось тогда, когда в стране все еще шли аресты и политических заключенных в Федерации было больше, чем в Южно-Африканском Союзе, хотя там никогда не хвастались гармонией рас. Иностранных журналистов подвергали своеобразным допросам, а работники прессы в Ньясаленде были временно ограничены в свободе высказываний и передвижения. Министерство информации публиковало шаблонные рапорты о карательных экспедициях и о достигнутых результатах: среди европейцев убитых и раненых по-прежнему нет. Некоторые говорили, что чрезвычайное положение — как раз то, что надо. Сэр Рой бодро объявил, что происходят «дьявольские интриги — забастовки, мятежи, насилия, — которые могут привести к убийствам белых и черных». Перед этой угрозой терпимость утратила смысл, и во многих послевоенных эмигрантах проснулся дух старых пионеров. Один фермер заявил, что он в качестве первого шага к достижению «взаимопонимания» выпорол нескольких слуг. Напуганную общественность успокоили: правительство добилось чрезвычайных полномочий, и, кроме того, из недавно построенной тюрьмы Кхами в Булавайо нельзя убежать, ведь высота ее стен — восемь метров. Незачем было бояться также, что болтливые интеллигенты африканцы предстанут перед судом и их, не дай бог, оправдают — ведь за политические взгляды не судят. Все члены семьи разъехались в хорошем настроении. Мистер Пэрди поехал в Гранд-отель на ежегодную конференцию военно-морской ассоциации Центральной Африки. Дженнифер — в молодежный клуб «Сэрам» у аэродрома Бельведер на вечер рок-н-ролла. Миссис Пэрди должна была заехать за своим младшим сыном в клуб бойскаутов, где он брал уроки фехтования, и отвезти его обратно в интернат. У матери это была единственная возможность видеть своего сына в течение целой недели. Итак, мы остались одни, и весь дом был предоставлен нам. Абрахам принес чай и песочный торт, а потом холодного пива. Он, наверное, ждал, что мы начнем играть в бильярд, как подобает графу и графине с белым цветом кожи. Собаки и кошки заскучали без хозяев, вскоре они начали карабкаться к нам на колени, на плечи, цепляться за ноги. Мы повозились с ними, а потом положили одну болонку на другую, и они начали драться. Абрахам жил в этой семье лет десять. По словам миссис Пэрди, это был верный и исполнительный слуга: пил он только по воскресеньям, а в другие дни всегда был трезв, быстро справлялся с посудой, красиво накрывал стол, всегда знал, чего сколько нужно купить, и в случае необходимости заменял повара. Если бы при всех его дарованиях он был белым, то за это время завоевал бы доверие хозяина и смог накопить деньги. Затем, предъявив свидетельство о прилежании и честности, он бы получил заем в банке в Солсбери и открыл собственное кафе, которое вскоре прославилось бы своими поджаристыми пирожками и мягкими ростбифами. Но Абрахам был всего лишь черным сорокалетним «боем» из племени шона, и ему суждено было оставаться тем, кем он был. Поэтому-то, может быть, некоторые африканцы и становятся ленивыми и нечестными. Белые говорят: научитесь сначала чувству ответственности, осмотрительности, умению и энергии. Но рассыльный в конторе, официант в гостинице, повар на господской кухне недалеко уйдут, обладая всеми этими качествами. Годами и десятками лет, до конца своей жизни они остаются на тех же местах. Дети Пэрди мало способны к учебе. Их вынудили до шестнадцати лет учиться в обязательной школе, их мучили французским языком и историей, хотя единственное, чего они хотели, — заниматься сельским хозяйством. И несмотря на это, они могли быть уверены в том, что по своему социальному положению они выше самого образованного африканца в стране — зачем же тогда знания? На своей ферме они непременно будут иметь у себя в подчинении хотя бы одного африканца, который жил бы совсем иначе, имей он такие же возможности для получения образования. Мы лежали на траве, подставив спины последним лучам летнего солнца. Художница, написавшая портрет с младшего сына Пэрди, приехала в автомобиле и взяла три мешка удобрений. Это был запрошенный ею гонорар. Положив мешки на заднее сиденье, она уехала превращать свой сад в цветущий. Я листал брошюру о радостных африканцах Южной Родезии, ио вскоре устал от бесконечных перечислений больниц, школ и от благополучных статистических данных. Ясно, что белые пришли в Африку ради черных, что «туземцы» обращались к своему «белому баба», отцу, и в горе и в радости и что, в общем, все идет как надо. Диктор, спрятавшийся в нашем приемнике, очевидно, не читал этого сочинения, и вместо радостных новостей он передавал печальные сведения о том, как войска внутренней службы безопасности были «вынуждены открыть огонь» то в одном, то в другом месте. Эти сообщения напоминали о тянущейся уже несколько месяцев войне с неуловимыми партизанскими отрядами. А в газете «Санди Мейл», Лежащей на траве, — единственной воскресной газете, выходящей в Федерации, — передовая статья называлась: «Пора снять шелковые перчатки!» Мятежников и народные толпы не рассеешь «бомбой со слезоточивыми газами и приказанием убираться, для этого нужна пуля, несущая смерть». Письма читателей, ежедневно заполняющие одну-две страницы газет, выходящих в стране, были подписаны «Чистая игра», «Истинный империалист» и «Старый — старше всех». В одном из писем говорилось: «Находясь в течение четырех десятилетий в тесном контакте с туземным населением, я, надо полагать, могу знать кое-что о них…» Вошел чем-то взволнованный Абрахам. Дала течь водопроводная труба, ведущая от колодца к цистерне с водой около дома, но он уже послал одного из боев починить ее. — Повар пьян, мастер. Он забыл, куда девал цыпленка. Абрахам с неохотой провел нас в кухню. Он уверял, что повар выпил какой-то экстракт. Застывшие глаза повара странно блестели. Повар стоял у столика для мытья посуды и вытирал кувшинчик для сливок. Но вид у него был такой, словно он занят совсем другим. — Где цыпленок? — спросил я его. Повар покачал головой. Тогда Абрахам обратился к нему на ломаном английском языке, известном под названием кухонно-кафрский: — Ты положил цыпленка в холодильник. Тебе надо было сварить его для мистера и миссис на обед. Где он? Ответа не последовало. — Он всегда напивается, когда дома никого нет? — спросил я Абрахама. — Изредка, — ответил Абрахам. — Но сегодня ночью умер ребенок. Его сын. Ему был месяц. А до этого умерло еще пятеро. Жена больна. Хозяйка ничего не знает. — Пусть он идет домой, — сказал я. Мы посмотрели на повара. — Он не хочет, — сказал Абрахам. — Но где же цыпленок? Наконец мы нашли его в печи. Цыпленок лежал в коричневой оберточной бумаге и совсем засох. Мы опять сказали повару, чтобы он шел домой, но ничего не смогли добиться. Видимо, мы не умели обращаться с африканцами. На обед у нас были суп и фрукты.Замбезия
В библиотеке фермы были книги Элиота и Донне, Форстера и Бальзака. В другой обстановке я увлекся бы ими. Но здесь мы не узнавали себя. Я отобрал все. что относилось к предыстории Родезии. Первый известный науке человек, появившийся в Родезии, — так называемый Homo Rhodesiensis. Родезийский человек жил сто пятнадцать тысяч лет тому назад. Обитатели страны были сильные люди с прямой походкой. Они жили в пещерах и пользовались каменными орудиями. Много веков спустя, тридцать — пятьдесят тысяч лет назад, здесь появилась черная раса. Черепа ее представителей находили в Южной Африке. Это были предшественники готтентотов, ниже ростом и с более светлой кожей, чем банту. Спустя какой-нибудь десяток тысяч лет появились бушмены, родственники пигмеев Конго. Небольшая группа бушменов и сейчас живет в Южной Родезии на границе с Бечуаналендом. Они охотятся с отравленными стрелами, находят воду в песке, высасывают ее через соломинки и сохраняют в зарытых в песок пустых яйцах страуса. Сейчас они вымирают из-за голода. На камнях они уже не рисуют. Арабский историк VI века упоминает страну Сасос. Король Абиссинии ежегодно посылал на золотые прииски этой страны караван быков в обмен на золото. Здесь впервые упоминается «Черная страна», примыкающая к Индийскому океану. Южноафриканский антрополог Р. А. Дарт считает, что арабский историк имел в виду Родезию. Это подтверждается и тем фактом, что уже тысяча пятьсот лет тому назад в Южной Африке появились домашние животные. Полагают, что еще до VI в. индийские торговцы обосновались на восточном побережье и оттуда продвигались в глубь страны, к большим озерам. В VIII веке начал распространяться ислам. Арабы переправились через озеро Танганьика в бассейн Конго. Они двигались вверх по реке Замбези, скупая золото, слоновую кость и рабов. В средние века в Африку прибыли китайские купцы, в XVII веке они появились на Мадагаскаре. В то время когда португальцы огибали мыс Доброй Надежды, Африка находилась под влиянием восточной культуры. Первые европейские исследователи шли по следам своих арабских предшественников. Большая часть континента уже была открыта египтянами, финикийцами и римлянами. Но для Генриха Мореплавателя, пославшего сюда свои корабли в тридцатых годах XV века, Страбон, Плиний Старший и Ганнон из Карфагена ничего не значили. С Африкой получилось так, как писал Джойс Кэри: «Все приходится разыскивать, открывать, описывать снова и снова тысячи раз». В 1499 году к побережью Мозамбика причалило несколько кораблей под командованием Педро Альвареса Кабрала. Он намеревался заложить там форт, но был изгнан арабами и отправился в Индию. Однако он успел высадить на берег своего плотника Антонио Фернандеса. Фернандес бегло говорил на арабском языке, был переодет в арабскую одежду и выдавал себя за араба. Это был преступник, которому даровали жизнь при условии, что он выполнит самые опасные поручения, данные его хозяевами. В его рапортах есть сведения о внутренних районах Центральной Африки. Несмотря на свою болезнь и враждебное отношение со стороны арабов, он сумел добраться до Мономотапа, где, по слухам, правил император Замбезии, которого называли Властелином рудников. Фернандес изучил численность местных племен и природные ресурсы страны. Коренное население восхищалось им и поклонялось ему как богу. В 1506 году он сообщает о «королевстве, называемом Веаланга… где никто не может добывать золото без разрешения короля под страхом смертной казни». Сообщения Фернандеса подтверждаются современными сведениями о географии и минералах Родезии. Очевидно, ему были известны и огромные залежи меди в Северной Родезии. О дальнейшей истории Родезии ничего не известно — летописцы забыли написать историю нескольких столетий и от XVI века переходят прямо к девяностым годам XIX века, когда в Родезию проникли англичане из Южной Африки. Перейдя к этим событиям, они сразу же впадают в извиняющийся, сентиментальный тон. Я не знал, кому мне верить, вскоре обнаружил, что не верю никому, и отложил свои исследования в ожидании более объективного материала. Эти историки придерживаются той же точки зрения, какая излагается в брошюрах для будущих эмигрантов: завоевания белых в Африке избавили африканцев от жестоких междоусобных войн. Белые разбили племя матабеле, угнетавшее племя машона, и в стране наступил мир. Эти племена действительно враждовали между собой, и слова «свобода» и «рабство» вошли в их словарь задолго до появления европейцев. Но как же белые ликвидировали вражду между африканскими племенами? Об этом ученые умалчивают. А ведь уже в 1896 году, когда небольшая группа европейцев пробыла в стране всего лишь несколько лет, народ матабеле поднял против них восстание, которое было потоплено в крови, и тогда машона поднялись вместе с матабеле. Нескольких лет владычества белых было достаточно для того, чтобы африканцы забыли о многовековой междоусобице и с тех пор никогда не ссорились. Снова и снова белые господа повторяют сегодня, что двухтысячелетняя культура дает им право на господство. Этот же аргумент они приводят в обоснование своего требования независимости от Англии и хотят, чтобы мир верил их добрым намерениям по отношению к африканцам. Примером того, как белые относились к африканцам— не две тысячи или две сотни лет тому назад, а в девяностых годах прошлого века, — может служить Южная Родезия. «Европейцу еще не удалось высечь из негра искру вдохновения и инициативы, столь необходимую для того, чтобы он сам стремился к прогрессу». Так пишет Нора Кейн во «Взгляде на мир» («The view of the world»), книге, повествующей о развитии Родезии. Эту книгу читали большинство тех, кого мы встречали на ферме. Вопросов — почему и как — Нора Кейн не задает; свою искру поэзии она тратит на то, чтобы нарисовать красивую виньетку в конце книги: «Черный человек Африки простирает руку к свету цивилизации, забрезжившему над холмами и долинами его древней родины».Запертая комната
Повара пришлось рассчитать. Он много пил и отравлял себя наркотиками. Мы так и не узнали, куда он направился со своей семьей, похоронив ребенка. Социальной помощью в стране занимаются родные и друзья, а не общество. В муниципальной бирже труда Пэрди дали объявление: «Требуется повар, жалованье хорошее. Телеграммы о смерти родственников в течение первых двенадцати месяцев не принимаются». Так выглядит договор об отпуске в Родезии. Новый повар приехал из Нката-Бэй в Ньясаленде. Там у него остались жена и трое детей. Кукуруза плохо уродилась, и у него не оказалось денег на выплату поземельного налога. Он надеется подработать здесь и послать деньги домой. Миссис Пэрди взяла его после долгих колебаний — он не умел печь яблочный пирог. Нам все больше и больше становилось не по себе в окружающей обстановке. Жить так дольше мы не могли. Птицы улетали в страны с другим климатом. Шур-р-р… слышали мы в темноте. Это пролетал козодой. У нас было странное состояние — нечто среднее между бессилием и отчаянием. Я не могу описать его, так как никогда не испытывал ничего подобного. Раньше я мог закрывать глаза на многое, наблюдать в течение дня все недостатки этого мира и смеяться по вечерам. В Федерации все было мелким — и зло, и насилие. Здесь не было военных блоков, холодной войны, атомных бомб, полетов в космос и борьбы идеологий. Здесь не собирались государственные деятели на высшем уровне, когда люди всей земли настороженно следят за их встречей. Да здесь и не было государственных деятелей, их заменяли несколько бесцветных фигур, уполномоченных своими друзьями заниматься дешевой политикой. Их беседы велись за обеденным столом. Все мы принимали участие в этих дискуссиях благодаря белому цвету нашей кожи. В этой маленькой стране мы кружились в одном хороводе. Мы оказывали влияние друг на друга, старались добиться осуществления своих желаний, по воскресеньям играли с министрами в кегли. То, что на расстоянии казалось чем-то чудовищным, тиранией, здесь оборачивалось обыкновенной завистью и злобой в несколько увеличенном виде, ревностью домашних хозяек, боязнью конкуренции фабрикантов, мелкой клеветой, невежеством и лживостью. Мы видели, как все просто и обыденно. И нельзя было выбраться из этих будней. Авиабазы и высокие налоги — отнюдь не самое главное в политической жизни Федерации. Здесь основной политический фактор — личные знакомства, и поэтому все являются глубоко заинтересованными политиками. Парламент — всего лишь место, где то, что было сказано за обеденным столом, заносится в протокол. Каждое утро мы просыпались с таким ощущением, словно получили пощечину от сэра Роя Беленского. А сэр Эдгар Уайтхед, ученый, тугой на ухо и близорукий, премьер-министр Южной Родезии, ежедневно выносил новый приговор остаткам справедливости и безопасности, и нам казалось, будто он подписывает приказ о нашем аресте. Когда какой-нибудь профессор или адвокат возражал против чего-либо, ссылаясь на британские традиции свободы, сэр Эдгар выключал свой слуховой аппарат. Знакомые Пэрди, приезжавшие погостить к ним на ферму, словно эхо повторяли те же слова и фразы. Уединенная усадьба, министерства и клуб в Солсбери, оккупированные селения в Ньясаленде — все это было частями одной действительности, предметом одних и тех же пересудов. От этого даже при желании некуда было деться. Такая обстановка могла бы послужить некоторым стимулом: в Центральной Африке, белое население которой приехало из Мальме и из Бормута, действия отдельного лица кое-что значили. Но мы были всего лишь гостями, и танцевать в одиночку не имело смысла. Взгляды Пэрди и их друзей причиняли нам такие муки, что мы старались переводить разговор за столом на нейтральные темы. А если бы мы и высказали откровенно свое мнение, хозяева дома бесконечно удивились бы и искренне оскорбились. Ведь все, что они делали и говорили, должно было, по их мнению, помочь нам чувствовать себя в Федерации как дома. А ведь у нас и в самом деле было много общего. Однажды вечером наш хозяин страшно удивил нас, заговорив о Т. С. Элиоте и об Иваре Аросениусе. Моя первая мысль была обманчивой: да это образованный человек! Может быть, я судил его слишком строго. Со мной это не раз случалось в Родезии. Я встречал любезных, обходительных людей, поражался их учтивости и великодушию. Но уже в течение нескольких минут ни к чему не обязывающий разговор на самые обыденные темы воздвигал между нами стену. Мы сидели, обменивались любезностями, и хотя на первый взгляд у нас было много общего, мы чувствовали себя чужими. — Не женись на иностранке! — сказал мне однажды отец, когда я был маленьким. — Вы будете по-разному справлять рождество, твоя жена не будет знать, кто такой Густав II Адольф, у вас будет так мало общего! Африка заставила меня понять, что одинаковые привычки, летние каникулы и Карл XII ничего не значат в отношениях между людьми. Для того чтобы понять друг друга, важно другое — единомыслие. Однажды вечером мы все вместе отправились в спортивный клуб в Солсбери. Дженнифер была в новом голубом платье. Клуб находился на окраине города, возле него была устроена площадка для гольфа. В клубе отмечали введение чрезвычайного положения — пили пиво и виски, закусывали спаржей. Девочка из выпускного класса в старомодной коричневой школьной форме спела «Paper Doll»[7]. В клубе мы встретили англичанина, который раньше держал книжную лавку в Иордании, киприота, приехавшего в Родезию в поисках светлого будущего, и многих других. Все они спрашивали, как нам живется здесь, и, не выслушав ответа, рассказывали сами, как они хорошо живут. Один из них попытался дать мне ключ к разгадке поведения населения в Южной Родезии: — Над Ньясалендом и Северной Родезией витает дух Ливингстона. Там много миссионеров, мало стремления вперед. Мы часто задаем себе вопрос: «Как поступил бы Сесиль Родс на нашем месте?» И мы делаем то, что, как нам кажется, сделал бы он. А каким бы он ни был, сентиментальным его не назовешь. Подрядчик из Китве сказал, что ему недостает контраста между роскошью и дикостью Южной Родезии. В музее искусств в Солсбери не висит ни одной из картин великих импрессионистов, а вот в домах директоров в так называемом Медном поясе их можно увидеть; там можно встретить и «Ролле Ройсы» и «Ягуары». Дженнифер было скучно. В клубе не было молодежи, за исключением Одного юноши с застывшим, невыразительным лицом. Он лишь прислушивался к тому, что говорили его родители, и утратил потребность сказать что-нибудь сам. Женщины говорили о последней жертве энцефалита и о псарне, где они оставили своих собак, пока сами ездили купаться в Дюрбан, — кстати, сборы с бала журналистов должны были пойти на постройку дома для бездомных собак. Социальная помощь начиналась здесь с животных. Один инженер показал фильм о строительстве огромной электростанции Кариба «на величайшем в мире искусственном озере». Для белых это был символ единства и силы Федерации, для черных — символ ее самодовольства и гнета. Кто-то высказал сожаление о том, что погибло так много африканцев после их выселения из Карибы: они заболели странными болезнями, хотя земля, куда их переселили, была, говорят, более плодородная, чем в Карибе. Мой сосед пил в полутьме виски, пока мы смотрели фильм, а потом обратился ко мне: — Кариба — это наше чудо. Это лучше пирамид. Мы рождены, чтобы здесь жить. Мы не поедем обратно в Англию, не поедем ни в Польшу, ни в Италию. Там, в Европе, никудышные люди. Они помешаны на войне, падки на развлечения. Пусть себе выдумывают что хотят. Атомные бомбы и ракеты полетят с востока на запад и с запада на восток. На север и на юг они не полетят. Экватор — каменная стена. Если они запустят ракету на нас, она не пойдет по орбите, а поднимется прямо в атмосферу и взорвется там. А мы останемся целехоньки. Многим было достаточно небольшой дозы виски, чтобы приобрести такую уверенность в себе. Другие боялись, но не показывали виду. Между боязнью, виски и самоуверенностью существовала какая-то странная связь. Экватор — конечно, своего рода стена, но, казалось, не все, кто собирался остаться в живых, были уверены, что им следует находиться именно по эту сторону стены. — Останьтесь у нас еще ненадолго! — сказала мне одна дама, которую миссис Пэрди уговаривала пойти с ней в клуб любителей бриджа, — Не осуждайте нас! Нужно, собственно говоря, прожить всю жизнь в Африке… Здесь применяют аргумент, непригодный в других странах. Будьте такими, как мы, и нас будет больше! Но тот, кто входит в душную комнату, острее ощущает недостаток воздуха, чем те, кто находится в ней долгое время. Душная комната, в которой живут эти люди, называется Африкой. На ферме рано ложатся спать, и мы возвращаемся домой. В машине мы слушаем радио: Пэт Бун поет о Блуберри Хилл. По дороге к португальской Восточной Африке[8] снуют машины. На неровной дороге, ведущей к усадьбе, мы раздавили какое-то животное. Вокруг низкого белого дома бесшумно носятся летучие мыши, и ночной ветер доносит с поля запах турецкого табака. Черные слуги молча выступают из темноты и открывают дверцы машины.Посланец доброй воли
Джордж Пэрди всячески старался развлекать нас. Он рассказывал анекдоты, иногда о евреях, чаще о шотландцах— ведь сам он был из Шотландии. Рассказывал их медленно, с каменным лицом, но под самый конец не выдерживал, фыркал, мы неулавливали заключительной реплики — соль длинного анекдота так и не доходила до нас. Наступала неловкая пауза, его бегающие носорожьи глазки суживались, становились пустыми. Мы были не в его вкусе. Мы были вежливы и не обнаруживали ничего, кроме удивления, когда он рассказывал о черных, которым по своей «природной тупости» туго приходилось в университете, куда их принимали из соображений пропаганды. Мы и правда не были похожи на тех бойких студентов, каких он ожидал встретить, и поэтому не стали баловнями их семьи; кроме того, мы плохо играли в английский бильярд, нам не везло в игре в кегли, нам не доставляло удовольствия скакать на сумасшедшей кобыле Дженет. Мы смотрели акварели тещи мистера Пэрди и обучали адвоката из Кейптауна и его жену играть в крокет на шведский манер. В те дни, когда мы занимались поисками квартиры в Солсбери, мы выезжали утром с мистером Пэрди и возвращались вечером с ним или его женой. Во время этих поездок меня охватывало жадное любопытство. Мне хотелось обо всем расспросить своего хозяина, заставить его обнажить душу — я замечал, что в других случаях, как ни странно, он был гораздо сдержаннее, чем в разговоре со мной. — Мы вправе желать, чтобы они считали, что все блага исходят от белых. Все, что они имеют, — они получают в дар от людей, на которых им следует смотреть снизу вверх. Но ничего не должно делаться за счет повышения налогов. Чем больше мы делаем для них, тем определеннее нужно проводить грань между нами и ними. Мы должны защищать их от нас самих. Представь себе, что будет совершено насилие. Тогда белые линчуют сотни черных… — Сельское хозяйство и армия — лучшие точки соприкосновения между белыми и черными. Черный нуждается в руководстве и ждет его. У черного джентльмена есть чувство такта. Он знает, что по закону имеет право прийти на любое богослужение, но он понимает, что, если его увидят в церкви, многие прихожане встанут и уйдут. Конечно, бывают случаи, когда где-нибудь позади в церкви они могут стоять — ну, например, когда хоронят их хозяина. — А разве вы не заметили этого? Женщины испытывают отвращение к черным, и оно становится все сильнее. Это интуитивное чувство, что можно с ним поделать? Они чувствуют, что черные угрожают будущему их мужей и детей. Справедливая сегрегация становится, таким образом, единственно… Мистер Пэрди не соглашался с тем, что те, кого насильно сегрегировали, вправе считать это несправедливым актом. Он говорил о «туземцах», «этих обезьянах, способных только подражать», с непререкаемым авторитетом человека, не привыкшего выслушивать возражения. Но дальше этого мы обычно не шли. Анна-Лена не хотела слушать его суждений даже ради приобретения опыта: ради того, чтобы своими ушами услышать то, о чем много раз читали, но что выглядит совсем иначе, когда слышишь и видишь сам. Как-то раз мы возвращались на ферму с миссис Пэрди. Она рассказывала: Джордж заседал в одном государственном комитете вместе с адвокатом африканцем. После заседания адвокат предложил подвезти его на своей машине. Джордж отказался — как можно, чтобы белого вез на машине черный, если это не его шофер. Да, времена и в самом деле изменились. Подумайте только, а если бы нам пришлось пригласить этого адвоката на обед? Сколько хлопот с фарфором, стаканами и столовыми приборами-все это пришлось бы отдать слугам, ведь нельзя же самим пользоваться посудой после него. А потом, уборная, ему, разумеется, пришлось бы пользоваться их уборной, что поделаешь? Он мог бы занести в семью любую заразу. В первый раз я пришел в ужас от таких разговоров. В следующий раз меня охватила чуть ли не ненависть. Слышать эго в третий раз было не так страшно, у меня появилось даже сочувствие к людям, искусственно сужающим свой мир, стремящимся отгородиться от всего живого, развивающегося, чтобы любой ценой сохранить этот мирок в неизменном виде.. А потом — как и теперь, когда я пишу эти строки, — я опять ощутил в себе непримиримость. Я думаю о своих африканских друзьях, о том, как сразу же погасли бы их улыбки, в глазах появилось бы беспокойство, а в руках дрожь, если бы они услышали бесчувственные и жестокие ноты в голосе моего хозяина. А ведь об этом человеке иногда говорили как об известном либерале. Либо он обладал непостижимо двуличной натурой, либо этому слову в Центральной Африке придавали не тот смысл, какой мы привыкли вкладывать в него. Почту не доставляли на ферму. Пэрди получал ее в Солсбери. Чаще всего давало о себе знать отделение Ротари в Америке — они посылали письма и брошюры. В этой обстановке они казались ужасно наивными. В «Adventure in service» мы читали: «Там, где живет дух Ротари, там живет и свобода. Она освобождает нас от оков предрассудков и лицемерия и соединяет узами взаимопонимания и братства. Дух Ротари — это благодатный дождь с небес. Он смывает эгоизм, разрушает стены, разделяющие людей, превращает диссонансы в гармонию, а конкуренцию — в сотрудничество, открывает красоту жизни и величие, присущее каждому человеку». В одной брошюре меня провозглашали послом, призванным действовать во имя международной доброй воли, и давали указания, как вести себя: «Поспеши похвалить, но не торопись с критикой. Прислушивайся — и ты многому научишься. Держи глаза и чувства открытыми — и черпай как можно больше от людей, которых встречаешь. Спрашивай, читай, узнавай! Ты представитель молодого поколения твоей страны. Не предпринимай ничего, чего бы ты не хотел видеть напечатанным на первой странице газеты твоего родного города. По твоим поступкам и по твоему поведению будут судить о твоей стране». Посол доброй воли, но в какой стране? В той, где правят 300 тысяч европейцев, или в той, где живет семь с половиной миллионов африканцев? Кто будет судить мою страну? Международное понимание — но для кого и между кем? Мы часто думали, что злоупотребляем гостеприимством семьи Пэрди; мы ведь не знали заранее, куда попадем; из незнакомой страны в Швецию пришло письмо: какая-то семья обещала приютить нас, пока мы не найдем квартиры в Солсбери. Мы горячо благодарили их за еду и жилье, но благодарность — далеко не все. Мы не знали, что они думают о нас; позднее нам не раз приходило в голову, что мы могли бы быть более откровенными с ними, но в то время нашей откровенности мешал не страх, нет, мы были охвачены чувством беспомощности. Мы, пожалуй, были как раз такими тихими, ко всему прислушивающимися и приглядывающимися, как предписывала брошюра. Может быть, нас выдавал тон — выбирать слова легко, но голос часто считается только с действительным настроением человека. У нас в Швеции принято, покидая дом, где ты гостил какое-то время, обращаться с прощальным приветствием и благодарностью не только к хозяевам, но и к слугам, если таковые есть. Поэтому, расставаясь с семьей Пэрди, я протянул руку Абрахаму, который каждое утро приносил нам в спальню чай и прислуживал нам, когда мы оставались на ферме одни. Но он не взял протянутой руки, на его лице появилось растерянное и грустное выражение: белый господин, наверное, пьян. И я понял его: ведь он видел меня с другими и не отделял меня от них. А если бы я тайком пробрался на кухню и прошептал ему: не обращайте внимания на то, как я вел себя с господами, на самом деле я на вашей стороне — как смешно и фальшиво прозвучало бы это, одинаково противно и для меня и для него. И опять-таки: на чьей стороне? Африканская проблема — это не проблема слуг, как думают многие.Прощание с фермой
Ночью скрипят половицы. И скрип этот разносится по всему дому, словно эхо вчерашних шагов, всех прошедших засушливых и дождливых сезонов. Упрямые индивидуалисты бежали от высоко ценимой упорядоченной жизни Европы и вложили свою энергию, дерзание и стремление к свободе в минеральные копи. У них много общего. Их объединяет сливовый пудинг в февральскую жару, светский благотворительный бал в пользу новой псарни, фальшивые слова и обманчивая лояльность. Но ведь должна же в Родезии где-то быть дорога, уводящая прочь от затхлости и благовоспитанности, туда, где не говорят о своих привилегиях, охотничьих трофеях, где нет сплетен в кругу товарищей по школе и по полку («только между нами»), где вам не напоминают, что у каждой вещи есть две стороны («давайте же, ради бога, признаем это!»). Им нужны рабы, чтобы быть господами; они требуют смерти, чтобы жить; они притворяются богами, чтобы не быть людьми; они втиснули жизнь в мифы и готовые формулы, чтобы не быть свидетелями того, как меняется все живое; они воображают, что сидят в колеснице бытия еще долго после того, как вывалились из нее; они считают себя то орудием истории, то недосягаемыми для нее, свободными делать что хотят — ведь многие не имеют ясного представления о том, что делается в этом уголке земли. Мы хотим уйти от них и покинуть эту ферму белых господ в Южной Родезии, где на клумбах качаются желтые головки львиного зева и дерево лунного цветка пахнет ванилью и поэзией. Африканец дует в квела. В инструменте нет отверстия, но в тишине что-то происходит: когда просверливают в трубке отверстие, слышится музыка. Так и пленник: чтобы вырваться на свободу, ему надо только выломать половицу в полу своего дома, ставшего для него тюрьмой.
СТОЛИЦА

Город, построенный не на своем месте
ПО СВЕДЕНИЯМ большинства справочников, в столице Федерации 60 тысяч жителей, причем около 200 тысяч африканцев в расчет не принимаются. Министров и автомобилей на каждого белого здесь приходится больше, чем в любом другом городе мира. Здесь потребляется сухого молока больше, чем где-либо на земле. Цивилизация Солсбери блистает любительскими театрами, гуляньями, в которых принимает участие сама госпожа губернаторша, бензоколонками, роскошными отелями и змеиным питомником. Грэм Грин в «Путешествии без карты» описывает различные части Африки. Родезия характеризуется у него всего в четырех словах: «Ошибка, табак, снова ошибка». Само основание города Солсбери началось с ошибки. Копьен (африкандерское слово, означающее «холм») — самая высокая точка Солсбери. Отсюда, в пятнадцати милях к северу, видна гора Маунт-Хэмпден. Семьдесят лет тому назад, в сентябре 1890 года, у Копьена появились первые поселенцы. Они почему-то решили, что этот холм и есть та величественная гора Маунт-Хэмпден, возле которой они намеревались обосноваться. Упрямые поселенцы отказались признать свою ошибку, заявили, что карта врет и что здесь-то и будет столица новой страны Родезии. Говорят, что именно атмосфера подобной рассеянности, характерная для страны, по сей день спасает ее от железной тирании, процветающей к югу. Например, нежелательные лица, вроде романистки Дорис Лессинг, выросшей в Родезии, попали в страну по недосмотру; недавно уголовная полиция явилась на собрание свиноводов и записала все речи в полной уверенности, что это политический митинг. В результате в тюрьму попали ни в чем неповинные люди. Многое можно простить Солсбери, зная, что это вовсе не тот город, который намеревались построить. Он должен был находиться в другом месте и иначе выглядеть: в пятнадцати милях отсюда, на другом холме, где нет ни грязи, ни пороков. Но теперь уже ничего нельзя поделать — эти пятнадцать миль оказались так же непреодолимы, как путь в царствие небесное. — Мы создали все это всего лишь за одно поколение— ежегодно с гордостью заявляют ораторы в день основания Родезии, и кто-нибудь из четырех оставшихся в живых пионеров, поднимавших флаг над фортом Солсбери, первым начинает аплодировать. Сердца большинства присутствующих наполняются гордостью, но кое-кто скептически посмеивается, считая само основание города горькой иронией судьбы. Город пестрит объявлениями: «сдается в наем». Роскошные особняки, конторские дома-дворцы из мрамора и цемента, даже сам дом страхового общества — шестнадцатиэтажный небоскреб — все свидетельствует о предусмотрительности белого человека: сюда, в этот земной Эдем, прибудет еще много эмигрантов. Правда, их пока маловато, и домовладельцы уже в более сдержанных тонах выражают свою веру в будущее и в правительственные планы. Того и гляди, наступит день, когда их съемщиками окажутся не эмигранты, а… Но столь еретические идеи немыслимы для Южной Родезии раньше 1984 года. У одного голландца, подвизающегося по строительной части, мы купили «Моррис Оксфорд» выпуска 1950 года. В таком огромном городе нельзя обойтись без машины — один или два автобуса для белых, курсирующие по городу, поймать почти невозможно. Мы снова занялись розысками маклеров по продаже недвижимостей. В районах Александра, Авондейл и Мильтон-парк мы осматривали дома с шаткой садовой мебелью, плюшевыми гардинами и полустертыми монограммами на простынях. Дома эти, по-видимому, сдаются уже давным-давно: колонки для горячей воды полопались, за густой разросшейся зеленью в конце сада стыдливо прячутся мусорные ямы и лачуги для прислуги. Мы решили снять жилье не больше чем на три месяца; оставаться на более долгий срок вряд ли имело смысл из-за белого террора, называемого чрезвычайным положением. Каждое утро мы просматривали в газете «Родезия геральд» многочисленные столбцы объявлений о сдаче жилья в наем. Осматривая квартиры, изучаешь город, особенно его окраины. Выбор был очень велик, и нас интересовало только то, чтобы квартира была как можно более дешевой, как можно ближе к центру и как можно лучше меблирована. Хозяйки и управляющие спрашивали: может быть, мы сами хотим подобрать слуг-туземцев, а то они знают одного — он не строптив и редко ворует. Переходя из одной комнаты в другую, мы не испытывали недостатка в темах для разговоров. Пожилой паре из Южной Африки нужно было уехать к своим внукам на время поездки зятя и дочери в Европу. Им так хотелось сдать нам на это время свою квартиру, что они даже предложили пожить в ней сутки на пробу. — A-а, вы из Скандинавии, сказал старик с брюшком. — Прекрасно! Скандинавы опрятные и чистоплотные люди. Итальянцы — ужасные грязнули. А греки — их много у нас побывало — ничуть не лучше индийцев. У них всегда куча детей. Накопят денег и удирают. А их дома и все дома вокруг вдесятеро падают в цене. Евреи, что поделовитее, пожалуй, заткнут за пояс индийцев. Так, потягивая виски для улучшения кровообращения, он разложил по полочкам полмира. Старики выехали на одни сутки. На другое утро в семь часов из африканского квартала прикатил на велосипеде слуга Сэм. Уничтожив свою порцию кукурузной муки и мяса, он принялся натирать полы. Шкафы в спальне ломились от старомодной одежды начала века, на полу стояли полуметровые свадебные фотографии, на столиках разной формы — искусственные цветы и белые пепельницы в форме рук. И ничего нельзя было сдвинуть с места. Мы не смели буквально пошевельнуться среди этих немых свидетелей чьей-то долгой жизни. Старики вернулись, и мы извинились перед ними. Картина с избушками баварских дровосеков, лампы с розовыми шелковыми абажурами, Сэм, который должен был есть только дешевое мясо и безостановочно натирал полы, — все это слишком непривычно для нас. — Понимаете, в Швеции мы не держим прислуги, — объяснили мы. — Я как будто слыхал об этом, — с участием сказал старик. — Там всю работу делают женщины. Точь-в-точь как у наших туземцев.Дом в Африке
Не смотря на чрезвычайное положение, жизнь в городе шла своим чередом. Люди старались не думать о будущем. Солдаты и полиция делали свое дело, завсегдатаи бара Майкла все так же крепко держали в руках свои рюмки. И только когда на улицах расклеивали газеты, в душную атмосферу безразличия, присущую провинциальному городу, ненадолго врывалась струя свежего воздуха. А в остальном… — Нет, нет, мне придется-таки пойти к Аусби, вы знаете, это психоаналитик из Лондона, — взволнованно произнесла одна дама. Пока авиация и королевские вооруженные силы занимались усмирением непокорных, остальные тоже были очень заняты. Психоанализ и танцы, минеральные воды Швеппе. Общество любителей конного спорта устраивало выставку в Чикараби, а фабрика, изготовляющая шелковые банты для кошек, организовала в Дрилл-холле выставку своих изделий. Ботаническое общество приглашало на экскурсию в Эванригский сад алоэ («О необходимом для пикника, пожалуйста, позаботьтесь сами»), а в Гранд-отеле две дамы (Энид Эблетта и Энджела Крипе) устраивали выставку картин пейзажистов и маринистов. По краям тротуаров сидели африканки в ярких бумажных платьях и вязали. У большинства из них за спиной привязан ребенок. Убаюканные легкими движениями матери, дети мирно спали. Отмеряя время, монотонно тикали автоматические счетчики на стоянке автомашин, но женщинам следить за временем было совсем ни к чему. Как далеки от всего этого рыкающие львы, болота с мангровыми зарослями, дикие пляски ночью! Иногда мимо проезжали американцы — какая-нибудь фирма устраивала для них сафари на границу с Анголой. Перед отъездом они группами ходили по улицам, покупали компасы, снаряжение и коньяк для аптечки. Мы сидели в новом итальянском кафетерии на Первой улице. За столиками вокруг говорили о займе на строительство, о собственных домах, о том, достаточно ли прохладно по вечерам, чтобы надевать шубу из норки. С появлением американцев разговоры немедленно смолкали. Все смотрели на них, а те воображали, что находятся в настоящей Африке, не замечая, что Солсбери нисколько не отличается от таких американских городов, каким является, например, Омаха. Двое африканцев прислонились к нагретой солнцем стене дома. У них перерыв на завтрак: хлеб запивают кока-колой. Прошло несколько солдат; вообще-то их редко можно увидеть. — Они собираются уничтожить всех нас, — сказал один из африканцев. — Они рады бы, да не могут, — безразлично отозвался другой. Из универмага «О. К. Базар», куда, в отличие от его филиалов в Южной Африке, неохотно, но все же пускают африканцев, вышел отец с двумя детьми. Девочке купили заводного мишку, который пил лимонад, а мальчик возился с игрушечными наручниками, которые никак не запирались. На будничную жизнь обывателей чрезвычайное положение все же наложило какой-то отпечаток. Наш быт, наши будни довольно скоро установились. Мы сняли квартиру из двух комнат с кухней в двухэтажном доме. Именно то, что нам нужно: на окраине города, но не так далеко от центра, заводской район, а рядом — африканские локации. Квартира, целиком меблированная, с электрической плитой, холодильником, хозяйственной утварью и постельным бельем, стоила 450 крон в месяц. По шведским масштабам это довольно дорого, но для Федерации дешево. Все это было не нашим, но в то же время не казалось чужим. Уже два года здесь никто не жил, водопроводные трубы проржавели. Чужая подушка, на которую мы надели чужую наволочку, пахла диваном, где она пролежала два года, и кошкой; из матраца торчал гвоздь. Мы по-своему переставили столы и стулья, и вскоре все вещи стали своими, словно мы их сами купили. В день нашего новоселья небо заволокло, и два часа без перерыва хлестал проливной дождь. Перед дождем ветер гнул и качал верхушки деревьев, а когда хлынул ливень, мы вышли на балкон и, обнявшись, стояли там, наслаждаясь прохладой. Дождь спасал нас от непрошеных посетителей, никто не мог позвонить: никто не знал, где мы и что в Африке — мы дома!Законы, попирающие свободу
В эти дни в парламенте Южной Родезии на скамьях для публики народу было не больше, чем обычно. Парламент напоминал большую классную комнату во время летних каникул. Через открытую дверь с площади Сесил-сквер врывался ветер. После перерыва, во время которого депутаты подкрепились кофе, прения по новым законопроектам продолжались. Председатель поправил парик и оглядел депутатов. Их было тридцать. Все они были белые. Депутаты, которым нужно было выйти из зала, пытались пройти так, чтобы их не заметила строгая женщина в черном шарфе. Но это было невозможно — она стояла у двери, и депутаты с деланно озабоченным видом торопливо проходили мимо нее. В Федерации эти черные шарфы появились недавно. В Южно-Африканском Союзе[9] есть группа женщин, называющих себя Black Sashes (черные шарфы); они творят благородное дело, требующее мужества. В начале марта у парламента собрался десяток таких женщин. Одетые в черное, они стояли опустив головы. Среди них — африканка, жена адвоката Читепо, и несколько жен университетских преподавателей. Их цель — напоминать о том, что есть еще недремлющая совесть, не получившая законного представительства в парламенте. В парламенте же царило радующее сердце единодушие. Оппозиция благодарила правительство за то, что сыщики уголовного розыска в последнюю минуту спасли их всех от гибели. Дебатировались законы, попирающие принципы парламентской демократии. Дебаты проходили так же спокойно, как обсуждение новой силовой передачи или премии за лучшего поросенка. Да разве могло быть иначе? — ведь разногласий у них нет; и только со стороны раздавались слабые голоса протеста. Архиепископ напомнил о том, что Гитлер в свое время ввел такие же законы, какие собирались ввести здесь. Несколько священников молились в церквах за свободу личности. Группа адвокатов протестовала против новых законов, оскорблявших принципы справедливости. Многие университетские преподаватели выражали тревогу за свободу мысли. Так, постепенно, с тактическими перерывами, принимались законы, идущие дальше, чем смели идти африкандерские националисты в ЮАС. Никогда еще Африка не была свидетелем такого грубого попрания прав человека. Закон о превентивных арестах (Preventive Detentions Act) гласил: лица, арестованные за действия, направленные на подрыв государственной безопасности, могут содержаться в заключении неопределенное время. Их дела не разбираются в суде, суд заменяется специальной парламентской комиссией, пять членов которой должны иметь юридическое образование. Эта комиссия, выполняющая функции верховного суда, может принимать апелляции один раз в год, но имеет право и отказаться выслушать жалобу, так как заключенные являются политическими противниками правительства. Комиссия работает при закрытых дверях, и судебный процесс держится в секрете даже от остальных членов парламента. Правительство может не считаться с рекомендациями комиссии об освобождении заключенного. Полицейские в ранге сержанта и выше имеют право задерживать кого угодно и производить домашний обыск, не имея на это ордера. Правительство не обязано сообщать арестованному, в чем состоит его преступление и о том, что ждет его и семью. Закон о запрещенных организациях (Unlawful Organizations Act) — так называется второй закон, обрекающий Федерацию на постоянное пребывание в чрезвычайном положении. Согласно этому закону правительство имеет право запрещать все союзы, грозящие общей безопасности. Партия, объявленная вне закона, не может рассчитывать на рассмотрение своего дела в суде. Правительство имеет право считать всех своих противников опасными для государства лицами. Африканский национальный конгресс — единственная оппозиционная партия африканцев… В быстром темпе были приняты и другие подобные законы. Один из них, дополнение к закону о туземцах, (Native Affairs Amendment Act), запрещал собираться группами более двадцати человек без официального разрешения и ограничивал свободу слова, предписывая, что «каждый туземец, производящий действие… имеющее целью подорвать авторитет государственного служащего… виновен в преступлении». Наказание: до пятидесяти фунтов штрафа или полгода тюрьмы. Одновременно были приняты поправки к законам, задним числом оправдывавшие ошибки государственных служащих, совершенные по убеждению теперь или в прошлом. Одно из последствий этих поправок: после их принятия была отклонена жалоба девяти крестьян африканцев, которые предъявили казне обвинение в том, что она лишила их земли, применив закон о хозяйственных землях туземцев (Native Land Husbandry Act). Этот закон явился решительной мерой по ограничению владения землей, что приведет в будущем ко многим неприятностям. Правительство вышло сухим из воды, так как судебное обвинение не могло быть ему предъявлено. Государство само оправдало себя, африканцы оказались бесправными не только на практике, но даже в теории, по закону. В любой другой стране крестьяне, у которых отобрали землю, совершили бы революцию, даже если бы захват земли был проведен под видом аграрной реформы. Правительство вынуждено было отказаться от применения параграфов гражданских законов и от судебных процессов, так как ему не в чем было обвинить заключенных. Новые законы не только были направлены против агитаторов, выступающих против сэра Роя, они поставили под подозрение все африканское население, нарушили его нормальную жизнь. Днем мы часто сидели в парламенте и слушали речи депутатов. Большинство скамеек были пусты. Это не могло не наводить на грустные размышления. Даже тем немногим, кто под взаимопониманием между расами понимал что-то реальное, не к кому было обращать свои речи. Умеренные родезийцы боялись выражать симпатии идеям, которые осуждались или за которые карало правительство. Родезийцы не приходили в парламент послушать своих представителей. Они хорошо знали этих парней и, кроме того, были заняты более важными делами. Политика была для них игрой; важные решения принимались заранее, до обсуждения в парламенте, за бильярдом и кружкой пива. — Успокойте их там, в Европе! — говорили они с недовольством и недоумением. Они не могли понять, почему вдруг сейчас, впервые в истории, они оказались на авансцене, освещенные светом рампы. Иногда мы завтракали в клубе журналистов в гостинице «Майклз», расположенной на противоположной стороне площади Сесил-сквер. Здесь царила атмосфера, описанная Грэмом Грином и Эвелин Вау, которые когда-то жили в Солсбери. Бесчисленные порции виски и содовой, сигареты, бутерброды с ростбифом, разговоры. — Ты был в Ньясаленде? — Лечу туда вечерним самолетом. Вернусь завтра утром. Джеймс, фотокорреспондент, улетел час назад — он направился на север. — Бенденнис, ты хочешь получить корреспонденцию для «Обсервер»? — Я еду в Идолу, чтобы после ленча взять интервью у Моффэта. Только что получил телеграмму из «Ньюс кроникл». Журналисты Родезии старались не отставать от событий и делали вид, будто видят все насквозь, хотя это «все» вовсе не заслуживало внимания. Таким образом они вносили свою лепту в общую свободу иметь предрассудки. В парке сидели белые. Они ласкали собак, читали или спали. На некоторых скамьях были надписи: «Для европейцев». Член магистрата Чарльз Олли недавно высказался в связи с этим на заседании муниципалитета. — Собственно говоря, нет необходимости делать в парках надписи «Только для европейцев». Африканцы просто не имеют права бывать там. А во время прений в парламенте африканцы расположились на траве, как на поле боя; небольшая группа собралась у парламента и робко поглядывала на выходящих оттуда людей. Они не решались войти и послушать, о чем говорят. Вечером они уходили домой. В ходе утомительных вечерних заседаний правительство и оппозиция, общими усилиями сломив небольшое сопротивление, приняли новые законы. Атмосфера чванливости и несерьезности, царящая в парламенте, угнетала меня. Те, кто должны были нести знамя образования и культуры, обнаруживали свое ничтожество. Лидер оппозиции, Айткен Кэйд, сказал однажды о ком-то, что тот забыл свои «briefs», что означает и «записи» и «брюки», и все громко расхохотались. Так выглядел предпоследний акт в драме о старой и новой Африке. Некоторые критиковали какие-то детали в деятельности правительства. Это все равно, что обвинять грабителей в том, что их оружие было грязным. Говоря о грязи на оружии, люди забывали о самом оружии и его применении. Но большинство белых ничего не желают знать об оружии, если оно направлено не на них. Сэр Роберт Тредголд, президент верховного суда Федерации, упомянул, правда в конце своей речи, что Родезия вступила на путь, ведущий к утверждению тоталитарных принципов. Вслед за этим последнее вечернее заседание закончилось, и когда в коричневых залах парламента Южной Родезии погас свет, а женщины, закутавшись в свои черные шарфы, поехали домой, наступил торжественный момент. Несколько десятилетий тому назад при таких же обстоятельствах погас свет свободы в центре Европы. А теперь он слабо мерцал в Центральной Африке.Гражданские права в Солсбери
С балкона своего дома мы наблюдали кусочек жизни Федерации. Здесь, на восемнадцатом градусе южной широты, солнце восходит между без четверти шесть и четвертью седьмого. Мы просыпаемся еще до восхода солнца от мошкары и крика петухов. Всю ночь напролет гудят поезда в нескольких километрах от дома: железная дорога проходит по промышленному району, где шлагбаумы заменены световыми сигналами. Паровозы на всех парах со свистом мчатся через город. В половине седьмого начинают стучать в окно разносчики. Первым появляется Ксодо с овощами и фруктами в огромной корзине, прикрепленной к багажнику велосипеда: бананы стоят 4 эре штука, бобы 30 эре полкило, ананасы и дыни по 40 эре за штуку, небольшие тыквы по 2 эре, авокадо — 10 эре. Вслед за ним на задний двор на велосипеде въезжает небритый африканец с цветами, но цветы нам не нужны — у нас во дворе растут гортензии и несколько кустов роз. В семь часов, как раз к завтраку, появляется разносчик хлеба из пекарни Лобеля. В половине восьмого белые покидают свои виллы, садятся в автомобили и едут в центр. Поток машин медленно движется мимо нашего балкона по Джеймсон Вест авеню. И в это же самое время группами идут африканцы с чемоданами, матрацами, одеялами и мешками на головах. Они направляются куда-нибудь на новое место работы, на другое место жительства или в Ньясаленд, откуда родом многие рабочие Южной Родезии. Кто-то стучит в кухонную дверь. За дверью — африканец, он просит продать что-нибудь из старой одежды. Он показывает на мой костюм, брюки цвета хаки и говорит: — Я заплачу за это, сэр. — Но это мой единственный костюм. Не хотите же вы лишить меня его. С чувством глубокого сожаления он собирается уйти, но в этот момент его взгляд останавливается на Анне-Лене: — Госпожа, жена носит тот же размер, что и вы… По другую сторону дороги, в тени деревьев, сидят черные няни и вяжут, возле них играют белые дети. Рабочие делают вид, что заняты уборкой сада. Садовый «бой» швырнул на траву шланг и отдыхает за кустами, держа наготове ножницы. Как только кто-нибудь приближается, он для виду срезает ветку. Какой-то африканец облокачивается на барьер нашего балкона — от балкона до земли не больше метра — и спрашивает, нет ли работы. Нет никакого смысла требовать у него справку от его прежнего хозяина — у него, конечно, нет ее, но у нас нет и работы для него. Тогда он идет к соседке, и мы слышим ее крик: — Какое бесстыдство! Как ты смеешь входить с парадного входа и попрошайничать? В половине десятого на нашей улице появляется белый мастер. Рабочие прокладывают водопровод, а он, в мягкой широкополой шляпе, с трубкой в зубах, стоит, часами не меняя позы, и лишь изредка дает указания. В перерыве он усаживается в стороне от рабочих, пьет кофе из термоса, ест бутерброды и курит. Его бригада, состоящая из африканцев, работает медленно, но ритмично. Впечатление такое, будто они и понятия не имеют, с какой целью роют, для чего это нужно, кажется, будто они просто подчиняются ритму своего пения. Надсмотрщик стоит так до пяти вечера. Он получает в несколько раз больше, чем рабочие: ведь он белый, имеет право голоса и к тому же специалист по прокладке труб. Безделье должно бы извести его и заставить взяться за любую работу. Но нет — человек, по его убеждению, рожден не для того, чтобы работать. Африканцы ленивы, поэтому и нужен белый человек, чтобы присматривать за ними. Ближе к полудню приходят африканцы, чтобы продать что-нибудь из своих поделок: плетеные корзинки, чашки из тика, столы, книжные полки. Они делают все очень искусно и с ангельским терпением пытаются это продать. Редко случается, чтобы их вещи покупали, но они никогда никого не уговаривают. Прямо напротив нашего дома, по другую сторону дороги, лес: дерево мсаса, пинии, кактусы и джакаранда. Между стволами деревьев около павильонов выставки, сооруженных несколько лет назад, вьется сеть тропинок. Деревья и кусты пышно разрослись на красноземе, и весь этот район похож на покинутый город, заросший лесом. Здесь есть бензоколонка, телефонные будки с оборванными проводами, полуразвалившиеся уборные, миниатюрные домики смелой архитектуры, возведенные разными фирмами. Между домиками пучками растет мощный бамбук, под его крупными листьями висят круглые, как шары для гольфа, гнезда, выстланные увядшей травой. Пробравшись через заросли кустарника, попадаешь на небольшую беговую дорожку для лошадей. Силуэты высоких домов Солсбери совсем недалеко от нас, однако мы чувствуем себя так же далеко от них, как если бы жили в одном из многочисленных шахтерских городков, где дома пустуют с тех пор, как закрылся рудник. Кажется, будто мы в тропической стране, из которой уехали белые колонисты. В преломленном солнечном луче порхают черные бабочки. В центре широко раскинувшейся столицы иногда встречаются такие дикие места. Они как бы напоминают о том, что форма жизни, которая, кажется, находится в расцвете, на самом деле — уже пройденный этап. И мы в своем доме на Джеймсон Вест авеню тоже живем какой-то нереальной жизнью. Там стоит наш «Моррис Оксфорд». Толстый пятнистый кот выгибает спину, съеживается, становясь похожим на сову, и сердито фыркает на холодильник. Почтальон въезжает на велосипеде во двор. Тонкие письма он просовывает под дверь. Здесь ни в одном доме нет почтовых ящиков — ведь всюду есть слуги. Газеты протискивают сквозь отверстие в оконной решетке, чаще всего над раковиной для мытья посуды. Они падают в раковину и намокают. Иногда мы находим их через несколько дней за гардинами и стульями, стоящими против открытых окон. Мы стали жителями Солсбери, оплачиваем счета за электричество, и, несмотря на то что живем здесь недолго и являемся гражданами другой страны, мы, в отличие от африканцев, уже имеем право принимать участие в выборах в муниципалитет. Мы — члены белого клуба, именуемого Федерацией. Во многом мы ведем себя так же, как все другие. Если нам некогда, мы, как и все, заходим в продуктовый магазин на углу улицы Моффэт-стрит. Покупаем белый хлеб в булочной на Кингсуэй, подозрительно нюхаем макрель, доставленную из Бейра на Индийском океане, и вместо свежей рыбы покупаем мороженую, привезенную из Гримсби. Когда нам надоедают пироги, сероватый ростбиф и крупный зеленый горошек, мы покупаем селедку и сухой хлеб в магазине-холодильнике на Моника-роуд. Как и другие белые, мы ни в чем не терпим недостатка. Мы можем с удобством расположиться на балконе и, раскрыв детективный роман «Голодный паук», наслаждаться вечерней прохладой. Около восьми часов по радио сообщают цены на табак и сводку погоды. Низкое давление быстро распространяется из Конго на юго-запад. Завтра днем в горах Ньясаленда ожидается гроза с проливным дождем. А потом — последние известия: спорт, парламентские новости, расовая политика. Мы получаем сведения из Конго, Уганды и Кении, но о Берлине и разоружении, о де Голле и Эйзенхауэре обычно ничего не сообщают. Все это — заботы северного мира, поставляющего нам белых эмигрантов и «Голодного паука», который еще целый месяц будет держать нас в состоянии страха, как говорят, полезного для здоровья.Университет
Как только мы перебрались с фермы в Солсбери, я пошел записываться в университет. По условиям, согласно которым мне была предоставлена стипендия, я должен был изучать африканские мотивы в литературе. Я вошел в пустой вестибюль и спросил, где можно найти ректора. Полная дама из секретариата показала, как пройти в его кабинет. Коридор был пуст, только в нише окна стояла девушка африканка и читала; на ней была клетчатая юбка и синяя шерстяная кофта. Волосы приглажены так, что стали почти совсем прямыми. Ректор, оказывается, был на собрании благотворителей. Я прошел в большой прохладный холл. Там висела медная дощечка с надписью, из которой я узнал, что королева Елизавета основала университет в 1957 году. У доски объявлений стоял юноша индиец и изучал кинорекламу. Я тоже взглянул на доску, прочел заметку о том, что бывшему премьер-министру Гарфилду Тодду его преемник запретил говорить с африканцами в локации, и поэтому он будет выступать в другом месте; объявление о том, что профессор истории прочтет вводную лекцию о памятниках древней культуры в Центральной Африке. — Вы новенький? — спросил индиец. — Да, я здесь в первый раз. — Вы будете поражены, когда увидите, как у нас тут чудесно. — Здесь много индийцев? — Нет, немного, а иностранцев вообще нет. Я из Танганьики. Я занимаюсь физикой, но не чувствую к ней особой склонности. — А что делают другие? — Большинство изучает экономику, историю и английский. Посмотрим, получится ли у меня что-нибудь. Я сам буду виноват, если придется ехать домой ни с чем. — Не волнуйтесь, все будет в порядке. — Может быть, и так, но мне приходится думать о многом, помимо физики. — Говорят, в Танганьике гораздо лучше, чем здесь. — Да, — сказал он гордо, — в тысячу раз лучше. Распахнулись двери лекционного зала. Я с завистью смотрел на студентов. Они уже вошли в колею и чувствовали себя как дома. Я стоял в углу, искоса поглядывая на них, как школьник, опоздавший на урок. Некоторые из книг, которые они держали под мышками, были мне знакомы. Я почувствовал себя своим. Книги являлись как бы членским билетом на право входа в это общество. Большую часть студентов этой группы составляли девушки. Они выходили на открытую галерею и наискось пересекали лужайку — шли в туалет, чтобы привести себя в порядок. На некоторых были прямого покроя шерстяные жакеты цвета беж, закрытые блузки и прямые юбки. Простота — примета нашего времени. Но, пожалуй, не меньше девушек были одеты совсем иначе и, видимо, обладали более веселым нравом. На них были цветастые юбки колоколом или пестрые летние платья. Они одевались в веселые яркие тона. Это время, каким бы оно ни было, впервые дало им возможность одеваться так нарядно. Юноша индиец проводил меня к кабинету ректора. Доктор Уолтер Адамс, элегантный господин с длинными тонкими пальцами, сразу же принял меня. Он сообщил мне, что преподавал на Мальте и в Австрии, но что здесь работа интереснее, хотя и опаснее. Сейчас он старался достать денег на создание медицинского факультета, чтобы родителям не приходилось посылать своих детей в Южную Африку. Недавно в университете состоялась конференция с участием южноафриканских писателей, и он назвал фамилии нескольких африканцев-интеллигентов. Я никогда не слышал этих имен, и для моего непривычного уха они прозвучали странно. Меня вызвал к себе профессор английской литературы Норман Маккензи, остроумный и любезный человек. Он снял с книжной полки книгу Дорис Лессинг. — Вы не будете чувствовать себя в Родезии как дома, пока не прочтете ее книг. Одна она пишет ярко и правдиво. Меня порадовало, что Маккензи рекомендовал писательницу, бывшую в немилости у федеральных властей. — Для вас, собственно говоря, нет никаких курсов, — сказал он. — Вместо этого вы займитесь чтением и знакомством с людьми, а потом мы организуем семинар с некоторыми другими преподавателями. — Историей искусств мы тоже еще не начали заниматься, — сказал он потом Анне-Лене. — У нас читают только курс о пещерах бушменов. Нас это не огорчило. Моя задача — прежде всего составить представление о том, как живут и мыслят отдельные группы населения. Ферма была нашим отправным пунктом; университет — нашей наблюдательной вышкой. — Пойдемте со мной в комнату для преподавателей. Там в любое время можно выпить кофе. В перерыве между лекциями в этой комнате собираются преподаватели, чтобы поговорить и почитать газеты. Я познакомился с ними; когда они садились в кресла, воздух с шипением выходил из тугих кожаных подушек. Джон Рид провел нас в подсобную библиотеку, насчитывавшую несколько тысяч томов, и в комнату, где хранились журналы со всего света. Он читает курс английской поэзии. У него уклончивая, несколько ироническая манера говорить, какой я до сих пор не встречал в Родезии, любящей откровенность и прямоту. Мы поднялись на холм Маунт-Плезент. В какой-нибудь полумиле отсюда виднеются небоскребы Солсбери и красные крыши вилл. На каменистом склоне холма разбиты лужайки и клумбы, четко вырисовываются дороги, над которыми клубится пыль. Фундаментальная библиотека, занимающая четыре этажа, существует на пожертвования крупных горнодобывающих компаний. Университет Родезии и Ньясаленда (University College of Rhodesia and Nyasaland) пока что напоминает модель, выставленную в окне витрины. Это город в миниатюре, выросший посреди степи и камней: лаборатории и клубы, плавательный бассейн, стадион, виллы преподавателей. Я был первым студентом, приехавшим сюда из Европы ради приобретения знаний. Рид провел меня в Карр Саупдерс-холл, одно из университетских зданий, где за стойками завтракают преподаватели. Африканцы-официанты в длинных белых одеждах подали нам четыре блюда, за которые мы уплатили 2 кроны 20 эре. Африканцы и белые завтракают здесь за одними стойками. Разница в возрасте между преподавателями и студентами незначительная. Заведующий зданием — Теренс Рэджер. Он живет здесь вместе со своей супругой Шейлой, в его обязанности входит заботиться о благополучии трех десятков студентов. Человек двадцать из них — африканцы. Я слушал, как он с несколькими товарищами обсуждал вопрос о создании газеты под названием «Диссент». Эта газета должна была разоблачать политику правительства, давать прогнозы на будущее и заботиться о том, чтобы страна и мир не забывали политических заключенных. Все это было увлекательно, но походило больше на утопию, чем на реальные планы. Никто из преподавателей не знал, что из этих планов газета сможет осуществить. Напротив меня сидел профессор математики Мэнвелл. Онрассказал, что его гоночный автомобиль разбился на дорогах Родезии и что Кингсли Эмис изобразил его в фильме «Счастливчик Джим» под именем Элфред Бисли — и он и герой фильма преподавали в Суонси. — У Эмиса все до отвращения правдиво, — простонал он. Потом мы встретили во дворе профессора Маккензи. — Пойдемте, у меня для вас сюрприз. Он провел нас в одну из комнат главного здания. — Мы по всему свету разыскиваем профессора географии, но до сих пор не нашли. Эта комната предназначалась для него. Там стояли письменный стол, два деревянных стула, телефон. Большего нельзя было желать. Окна выходили на университетский двор. Двор будущего. Мимо окон шла колонна одетых в хаки людей, сопровождаемая черным полицейским. Это были нарушители порядка. Их преступление состояло в том, что они взяли из сарая мотыги и начали прокладывать дорогу из Капп-Саундерс к еще недостроенному общежитию для девушек. Я заглянул в ящики письменного стола. В одном из них лежала чистая бумага, в другом — книжка стихов Поля Валери. Вероятно, за этим столом сидел преподаватель французского.Блестящие перспективы
Однажды я поднялся на рассвете, чтобы заплатить разносчику газет. На траве под кустом лежал человек. Было еще темно, и он, в синих штанах, голый до пояса, сливался с землей, точно оставив свою земную оболочку начал превращаться в камень. Я выбежал во двор, чтобы узнать, что с ним. Уж не умер ли? Нет, он спал, а когда я разбудил его, он испуганно вздрогнул и вскочил. Вероятно, подумал, что я полицейский. Он плохо говорил по-английски, и мы с трудом понимали друг друга. Он пришел из Ньясаленда, очевидно, на свой страх и риск. Я спросил его, знает ли он кого-нибудь в Солсбери, он отрицательно покачал головой, но, может быть, это вовсе и не было ответом на мой вопрос. Он стоял передо мной, еще толком не проснувшись, не зная, как себя вести, — ведь он спал на территории белых без разрешения. Рядом с ним лежал стянутый ремнем сверток. Я посоветовал ему идти через лес вдоль дороги Джеймса Макдональда к промышленному району, чтобы его не увидели в кварталах белых и он смог избежать малоприятной встречи с полицейскими. Он пробормотал несколько слов, без улыбки поднял в знак прощания руку и исчез в указанном мною направлении. И только тогда я увидел на краю леса, через дорогу, палатку. Пока мы завтракали, из палатки вышли двое: девушка в застиранных брюках с большими клетчатыми заплатами и рыжебородый мужчина в меховой куртке. Они протянули нам кувшин и попросили наполнить его горячей водой. Пока мужчина намыливал лицо, а девушка расчесывала волосы, они рассказывали, что направляются в Булавайо, через озеро Макилвейн. Дорогу знают хорошо. Их «Оверлэнд» стоял тут же, забитый чемоданами и рюкзаками. Наклейки на боковой стенке говорили об их путешествии: Уэди-Халфа, Найроби, Аруша, Форт-Хилл, Блантайр… За день они добрались сюда от самой границы с Ньясалендом. Это была одна из многочисленных английских семей, которым надоели низкие заработки у себя на родине. Скопив и призаняв денег, они упорно пробиваются на юг, незаметно для себя пересекают границы, спят у обочин дорог. И в конце концов они осядут там, где перспективы на будущее покажутся им настолько заманчивыми, что их не испугают опасности, неизбежно связанные с жизнью в Африке. Для этой пары эмигрантов Африка означала свободу, которую нельзя купить ни в каком другом месте на земле.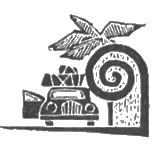
ФОН

Возникновение Федерации
В НАЧАЛЕ двадцатых годов генерал Смэтс предложил Южной Родезии присоединиться к Южно-Африканскому Союзу. Смысл этого предложения состоял в том, чтобы создать Соединенные Штаты Африки вплоть до границ с Эфиопией. Незначительным большинством голосов Южная Родезия проголосовала за собственное правительство и в 1923 году стала самостоятельной колонией. К концу сороковых годов заговорили о другом объединении — с Северной Родезией и Ньясалендом. Страстным поборником этой идеи был Рой Беленский, в то время действовавший в Северной Родезии. И позднее Беленский пытался внушить всем, что этот союз благоприятно отразится на политическом развитии африканцев и будет способствовать сближению рас. Однако этот план преследовал совсем иные цели. Правительство Англии в тридцатые годы подписало историческую декларацию: в британской Африке интересы «туземцев» должны стоять на первом плане даже в том случае, если они противоречат интересам колонистов. Белые, жившие в Африке, сочли, что империя предала своих детей. Тогда-то и расцвел белый национализм. Ведь теперь приходилось самим заботиться о своем доме и укреплять его, оберегая свою самостоятельность от верховной власти. Поэтому Северная Родезия устремила свой взор на юг, на соседнее государство, освободившееся от контроля министра по делам колоний и отвечающее на недовольство коренного населения решительными мерами. Южная Родезия, в свою очередь, сознавала, что медные рудники на севере составляют наибольшее богатство Центральной Африки. В 1949 году в гостинице «Виктория Фоллз» («Водопад Виктория») состоялась конференция по вопросам будущего Центральной Африки. Здесь, на границе, встретились белые, представители обеих территорий. Африканцы не были приглашены. Ведь смысл этой встречи состоял в том, чтобы объединенными усилиями урезать обещания, данные англичанами африканцам. Отсутствие африканцев Рой Беленский мотивировал так: — В настоящий момент в стране слишком мало африканцев, участие которых в конференции способствовало бы достижению каких-нибудь положительных результатов. Они не поняли бы нашей аргументации и хода наших мыслей. Африканские руководители были исключены из числа участников конференции, посвященной будущему их собственной страны, потому что слишком глупы, чтобы понять что-нибудь. Ясно, что такое объяснение вряд ли могло успокоить африканцев. Оно, напротив, убеждает их в том, что белые пошли на образование федерации, чтобы достичь безраздельного господства в Центральной Африке, к которому они готовились сначала тайно, а теперь открыто. Никто до сих пор не пытался опровергнуть эту точку зрения. В 1953 году идее создания федерации с северными колониями был противопоставлен план объединения с Южно-Африканским Союзом. Против этого объединения голосовало не больше третьей части белого населения Южной Родезии, то есть приблизительно столько же, сколько перебралось сюда из Южно-Африканского Союза. Основным аргументом, выдвигаемым противниками этой идеи, была языковая политика ЮАС, отдающая предпочтение африкаанс перед английским языком. Самым распространенным доводом против объединения с Северной Родезией было то, что 90 процентов ее территории предоставлено в пользование африканцам, что грозит со временем превратить Родезию в царство черных. Кроме того, на одной трети этой территории распространена муха цеце, и эти районы непригодны для освоения. Седьмая часть — абсолютно «черный» протекторат Бэротселенд, поставляющий Федерации мясо, а остальную землю государство обещает отобрать у африканцев, если они не будут обрабатывать ее «в интересах страны». Об этом последнем факте умалчивали — ведь в Англии у власти стояли лейбористы. Позднее правительство действительно стало отбирать земли у африканцев — так, были отобраны плантации сахарного тростника в районе Карибы. В Ньясаленде и Северной Родезии парламент проголосовал за федерацию. Из двадцати двух членов парламента Северной Родезии двое были африканцы, и они проголосовали против федерации. Их голоса не приняли во внимание; африканцы вспомнили обещание англичан и поняли, что они обмануты министром по делам колоний. Войска приготовились выступить против оппозиции. Но все было спокойно: партия Африканский национальный конгресс не забыла тех дней, когда правительственные войска подавили забастовки рудокопов — семнадцать африканцев было убито и свыше пятидесяти ранено. Отсутствие оппозиции в 1953 году правительство истолковало как признак того, что сопротивление африканцев сломлено. 3 сентября 1953 года возникла Федерация Родезии и Ньясаленда — английская палата общин проголосовала за нее большинством всего лишь в двадцать четыре голоса… В Южной Родезии много европейцев, в Северной Родезии — меди и денег, в Ньясаленде — дешевой рабочей силы из числа африканцев; соедините эти вещи — и три объединенные страны будут достаточно сильны, чтобы создать великое государство в центре Африки вне контроля далекого Лондона и с никогда не иссякающим притоком капитала и эмигрантов. Эта величественная картина завладела умами европейцев, по своей численности не превосходящих населения самого заурядного пригорода Лондона. И английское правительство одобрило конституцию, провозгласившую «сотрудничество рас», положив в основу этого сотрудничества закон о праве участия в выборах (Federal Franchise Act) и закон о пропорциональном распределении земли в Южной Родезии (Southern Rhodesia Land Apportionment Act). Первый из них лишал африканцев возможности оказывать действенное влияние на избрание сорока четырех «выборных» членов федерального парламента, состоящего из пятидесяти девяти членов; второй — требовал промышленного, торгового и жилищного апартеида. Борьба между министром колонии на Уайтхолле в Лондоне и белым населением Центральной Африки закончилась победой последнего. Жертвой этой борьбы стали семь миллионов лишенных права голоса африканцев. Их протест против федерации был единодушным. Раньше можно было в случае противозаконных действий против африканцев обратиться за помощью в определенные организации, прежде всего в департамент по делам Африки, который имел право обращаться к метрополии по поводу случаев дискриминации. Таких гарантий африканцы скоро лишились. Красноречие Роя Беленского произвело впечатление на консервативное правительство в Лондоне. Официально было признано, что дискриминации в этой части Африки больше нет. Если же совершалось беззаконие и недовольные взывали к Англии, на месте преступления появлялся полицейский и констатировал, что никакого преступления не произошло. Более того, по утверждению федерального правительства, белые поставлены в более трудное положение. Майк Хоув, африканец, член парламента, избранный белыми, осмелился в 1957 году пожаловаться на дискриминацию на железной дороге. Сэр Рой заявил, что конституция изобилует исключениями в ущерб европейцам. У африканцев есть много разных форм защиты своих прав и собственное представительство; они веками прятались за цивилизацию белых. После этого парламент принял поправку, согласно которой «федеральная конституция вводила исключения в пользу африканцев на основе политических, социальных и экономических различий». Итак, наступила эпоха искажения понятий. Страну окружил занавес пропаганды, открытый только в сторону юга. Федерация снискала за границей уважение — считалось, что она проложила мост между белым и черным национализмом. С 1953 года прошли три десятка законов; они завинтили гайки, построили полицейское государство, а тенденциозная пресса, направляемая государством, конвейером штамповала публикации и речи о строительстве плотины в Карибе, о многорасовом университете и партнерстве… партнерстве… Поэтому, когда в феврале 1959 года белые сами разоблачили свой гигантский обман, введенный в заблуждение мир был немало удивлен.Цивилизованные люди
Мир направляет острие своей критики на Южно-Африканский Союз, а Южная Родезия не подвергается таким резким нападкам, хотя ее общество построено на тех же расовых принципах. В Солсбери, как и в Иоганнесбурге, время от времени происходят акты насилия… В Южно-Африканском Союзе у власти стоят африкандеры, поэтому пресса, выходящая в стране на английском языке, направлена против них. Таких противоречий между белыми в Центральной Африке не может быть. Когда в Иоганнесбурге африканцев выселяют из какого-нибудь пригорода, это вызывает потоки протестов со всех концов света. В Южной Родезии ежегодно выселяли тысячи африканцев из так называемых белых районов, а правительству не пришлось выслушать ни одного упрека. Первым премьер-министром Федерации был лорд Молверн, он же Годфри Хаггинс. До этого он занимал такой же пост в Южной Родезии, и если познакомиться с парламентскими протоколами за время его пребывания там у власти, легко обнаружить высказывания, которые несомненно вызвали бы одобрение националистов африкандеров даже сегодня. Нынешний министр финансов Дональд Макинтайр произносил прочувствованные речи об апартеиде. Оказывается, перед самым возникновением Федерации политические деятели, которым суждено было позднее получить большое влияние, занимали в расовом вопросе приблизительно такую же позицию, как и правители Южно-Африканского Союза. Отдельные формулировки новой конституции 1953 года заставили мир поверить в то, что в Центральной Африке произошла перемена взглядов. Некоторые скептически отнеслись к этой перемене; в число скептиков входили африканцы. Лорд Молверн, изобретатель партнерства, укрепил позиции скептиков. В августе 1956 года он произнес речь, положения которой в дальнейшем повторялись им и сэром Роем из года в год, даже во время кризиса 1959 года. Он потребовал самостоятельности и заявил, что с африканцами незачем считаться: ведь воля народа представлена парламентом. А потом следовала угроза, становившаяся раз от разу все более дерзкой — так нагло никто еще не осмеливался выступать в Британском содружестве наций: — Вот один из парадоксов нашей конституции: мы осуществляем полный контроль над армией. Я могу только надеяться, что нам не придется использовать ее так, как применили свою армию североамериканские колонии, ведь мы имеем дело с бездарным правительством в Англии… Сэру Рою тоже нравится эта тема. Вот отрывок из его речи в Булавайо: — Вы, очевидно, помните один исторический эпизод с чаем[11]. Англии не имеет смысла ссориться с очень важным поставщиком стратегических товаров в Содружестве… А африканских политических деятелей, осмелившихся заявить о самостоятельности, сурово наказали. Лорд Молверн опять приподнимает завесу: — Пора им там, в Англии, понять, что белые, живущие в Африке, не готовы и никогда не будут готовы признать африканцев равными себе ни в социальном, ни в политическом отношении. Когда Молверн в 1956 году передавал жезл премьер-министра сэру Рою Беленскому, он заявил: — Ни к чему говорить африканцу, что мы прибыли сюда затем, чтобы помогать ему. Мы приехали сюда, чтобы зарабатывать свой хлеб… Сэр Рой во имя партнерства изобрел более тонкую теорию: зарабатывая свой хлеб и повышая свой жизненный уровень, мы лучше всего помогаем африканцу. Он имеет в виду, что «мы», то есть белые, можем использовать несметные природные богатства Федерации только при условии, если сами управляем страной. Ведь «нас» становится все больше, и «мы» можем заселить пустынные земли. Черные получат свою долю от вновь открытых богатств, работая в промышленности и становясь все более надежными и трудолюбивыми. Они будут в общем довольны; ведь лишь небольшая кучка честолюбцев жаждет большего, чем хлеба насущного. Для того чтобы экономическое развитие страны протекало гармонично, африканцев следует удерживать от свободолюбивых устремлений. Африканцы у власти — это, по словам премьер-министра, «хаос, коррупция и неумение управлять», да ведь, по его словам, и расовый конфликт — если он существует — создан искусственно. — Я не часто говорю об отношениях между расами в этом собрании, — сказал однажды сэр Рой в парламенте, очевидно, намекая на то, что есть более важные вещи для дискуссии. А более важные вещи — это, например, попытка превратить расовые разногласия в своего рода социальные различия. Лорд Молверн так формулировал кредо прогрессивной части белых: — Мы должны навсегда отказаться от мысли, что демократия может быть сведена к подсчету численности населения. Мы должны без колебаний отклонить доктрину о том, что наше руководящее положение основано на нашем цвете кожи — на самом деле оно зависит от нашего превосходства над черными по техническим знаниям, воспитанию, культурному наследию, цивилизации. Единственное превосходство, с которым следует считаться в этой стране, — это превосходство цивилизованных людей. Федерация сделала своим лозунгом девиз Сесиля Родса: «Равные права всем цивилизованным людям». Эти слова многих ввели в заблуждение. Но у африканцев другой девиз: «Равные возможности для всех стать цивилизованными». Мерило цивилизации определяется теми, кто «больше всего свершил». Это вовсе не значит, что они произвели больше всего; это сделали за них другие, они только потребили больше всех. Установленное ими мерило не имеет ничего общего с тем, что мы понимаем под достоинствами цивилизованного человека: щедрость, интеллект, бескорыстие, желание сотрудничать и другие качества, которые могли бы пригодиться в Африке. Стандарта цивилизованного человека легко можно достичь, имея европейскую ферму в несколько тысяч акров; несравненно труднее сделать это на средней африканской ферме в шесть акров: такой африканец не имеет права голоса. Чтобы быть «цивилизованным и способным нести ответственность», пользоваться всеобщим избирательным правом, гражданин Федерации должен удовлетворять одному из следующих требований: иметь доход в 11 тысяч крон в год (720 фунтов) или недвижимое имущество стоимостью в 22 тысячи крон; иметь доход в 7200 крон в год (480 фунтов) или недвижимое имущество стоимостью 15 тысяч крон, а также начальное образование; иметь 4500 крон (300 фунтов) годового дохода или недвижимое имущество 7500 крон, а также восьмилетнее образование. Образование и заработная плата регулируются белыми. Значит, они могут регулировать и число избирателей. «Либералы» любят говорить: сначала мы добьемся, чтобы народ посещал школу, а потом дадим ему право голоса. Это звучит заманчиво, но, с другой стороны, только люди, обладающие правом голоса, могут отстаивать свое право посещать школу независимо от цвета кожи и получаемого дохода. Иначе белое меньшинство может легко забыть о них, когда пожелает. На текстильной фабрике в Солсбери я заговорил с одним юношей. Он сказал мне: — Я иногда пытаюсь говорить о политике с белыми мастерами, но они не понимают, о чем я говорю. Их ничуть не интересует, что происходит в их собственной стране. Они никогда не читают передовых статей в газете. Его удивление было непритворным. У него не было права голоса, не было никакой возможности применить свои знания и способности. Почему? Официально — не потому, что он черный, а потому, что он «нецивилизован». В законах говорится: раса не должна господствовать только потому, что это определенная раса. Белые иммигранты никогда не рассматривали культуру как моральное качество. У нас, шведов, возможность участвовать в тех или иных выборах не связана с какими-либо высокими чувствами. Риксдаг подвергается нашим шуткам и насмешкам. В Африке право голоса — самое святое, ибо только это право дает равенство, свободу, человеческое достоинство. Африканец требует права голоса не из жажды власти. Он только требует, чтобы цвет его кожи не мешал ему быть гражданином в своей стране. Он хочет, чтобы его уважали другие, для того чтобы он сам мог уважать себя. Перед французской или русской революцией власть также принадлежала «цивилизованным и ответственным» людям, полным решимости сохранить свой высокий жизненный уровень. Низшие сословия французского и русского общества тоже были «еще не готовы» к тому, чтобы стать равными своим господам, но никто не смог помешать им стать таковыми. Сэр Рой, несомненно, более оптимистично смотрит на этот вопрос, чем последний русский царь. Он полагает, что заслуживают внимания лишь экономические проблемы, что «средний африканец» не имеет политических интересов и что африканцы, добившиеся успеха, образуют среднее сословие, готовое примириться с порядками белых. Массовые аресты 1959 года не погасили его оптимизма. Средний африканец, по его мнению, по-прежнему политически не созрел, и только горстка властолюбцев… и т. д. Все принимают участие в «спокойном продвижении вперед». В Центральной Африке производится смелый эксперимент, и что бы премьер-министр ни предпринимал, он всегда пользуется поддержкой народа. А кто это — народ? Несколько цифр проясняют дело. Во время последних федеральных выборов в ноябре 1959 года в голосовании приняло участие 64 тысячи человек из 7,5 миллиона населения. Объединенная федеральная партия (United Federal Party) получила 37 тысяч голосов — приблизительно столько, сколько было подано на последних муниципальных выборах в небольшом шведском городе Хельсингборге. Сэра Роя Беленского и его правительство поддерживает 0,45 процента населения.Заработная плата в Африке
«Мы ждем того времени, когда образование и жизненный уровень африканцев будут достаточно высоки. А пока этого нет, было бы бесчестно выставлять на показ прирученных обезьян только для того, чтобы посетители могли глазеть на них».Сэр Рой Беленский
Согласно отчету министерства финансов, африканец в Федерации заработал за 1958 год в среднем 1200 крон (79 фунтов). В момент образования Федерации он зарабатывал 315 крон в год; об этом никогда не забывают упомянуть. Средний доход неафриканца в 1958 году — 16 тысяч крон (1060 фунтов); в 1953 году он составлял 2325 крон. Под неафриканцами подразумеваются европейцы, индийцы, а также «цветные», то есть люди смешанной расы, имеющие значительно более низкие заработки, чем белые. Когда говорят о том, как далеко продвинулись африканцы, следует вспомнить, что другие ушли вперед еще больше и разница в жизненном уровне африканцев и неафриканцев намного возросла. Все мужчины африканцы независимо от дохода и состава семьи ежегодно платят 30 крон поимущественного налога. Неафриканцы не платят такого налога и не облагаются подоходным налогом, если доход человека, не имеющего семьи, составляет не более 6750 крон, а семейного— не более 21 тысячи крон. Африканцы покупают товары по европейским ценам. Стоимость жизни, согласно «Индексу цен европейского потребителя» (European Consumer Prices Index), повысилась за десять лет на 50 процентов. Средний заработок африканцев, находящихся в услужении у белых, составлял в 1958 году в Южной Родезии 1200 крон, в Северной Родезии — 1500 крон, в Ньясаленде — 690 крон. В Южной Родезии белых обслуживает около четверти населения, в Северной Родезии — 12 процентов, в Ньясаленде — 6 процентов. Остальная часть африканцев, живущих в резервациях или на фермах белых, имела в 1958 году средний заработок в 240 крон в Северной и Южной Родезии и 195 крон в Ньясаленде. Минимальная заработная плата африканца, живущего в городе, определяется Трудовым бюро для туземцев (Native Labour Board) и зависит от представлений бюро о потребностях рабочего без семьи. Только одинокий рабочий имеет законное право жить в городе. Жена с экономической точки зрения — излишний придаток. Минимальная заработная плата африканца в Солсбери в настоящее время — 95 крон в месяц (130 шиллингов). Проблемы избирательного права следует рассматривать в связи с существующими заработками. За немногими исключениями, африканец лишен права влиять на судьбу своей страны. Поэтому каждая забастовка является по своему содержанию политической, и правительство вынуждено вызывать войска, чтобы подавить «бунтарские настроения». Чрезвычайному положению в Южной Родезии предшествовало подавление забастовки строителей плотины в Карибе, которая посеяла панику среди белых. Прикиньте, сколько месяцев, сколько лет их придется держать в руках, выплачивая им по 24 эре за час работы в жару, редко снижающуюся до 30 градусов в тени. В последнее время можно было заметить своеобразное явление: белые рабочие требуют введения равной оплаты за равный труд независимо от расовой принадлежности. При этом рабочие требуют гарантии, что предприниматели будут брать на работу в первую очередь белых. Перед угрозой безработицы профсоюзы африканцев заявили, что они удовлетворены низкими заработками. Только так они могли обеспечить себе работу. Проект либеральной реформы 1960 года имел целью объединить профсоюзы белых и африканцев — тогда африканцы смогут бастовать или предъявлять требования, касающиеся оплаты труда, только с согласия белых лидеров профсоюзов. Расовый барьер в промышленности вынуждает большинство африканцев оставаться без всякого образования. Недостаточный заработок влечет за собой бедность, слабое здоровье, раннюю смерть; прибавьте к этому, что покупательная способность подавляющего большинства населения очень низкая и часто сводится к нулю. Под давлением крупных акционерных компаний, в особенности иностранных, расовые границы в промышленности начинают все же исчезать. Один белый священник как-то сказал мне: — Я пытаюсь убедить своих друзей в парламенте: поднимите жизненный уровень, этим самым вы создадите новые потребности, из которых сможете извлечь пользу. Это самая выгодная форма колониализма. Мирное развитие общества, заявил Гай Клаттон-Брок, зависит не столько от уровня жизни народа, сколько от равновесия и разницы в уровне жизни отдельных лиц и групп. В Федерации этот разрыв в уровнях жизни непрерывно увеличивается, становясь все более опасным.
Операция «Солнечный восход»
Смелый «либеральный» эксперимент был разоблачен в последние недели сезона дождей 1959 года. Перед миром раскрылась неприглядная картина. Журналисты всего мира оказались свидетелями ночных арестов, грубости и произвола полицейских, каторжного труда в Ньясаленде и злобной ограниченности членов парламента. Они увидели людей, которые в ужасе перед африканским национализмом сажали в тюрьмы наиболее либеральных белых. Только тогда были поняты и восприняты, как надо, откровенные высказывания лорда Молверна и сэра Роя: «все африканцы лгуны», «мы сами справимся с ними», «у нас есть своя собственная маленькая армия и своя авиация». Партнерство, проповедуемое в Родезии, истерлось, как старая монета, легко проскальзывающая в щель автомата. Пропаганда потеряла всякую силу — ей больше не верят. 20 февраля в Ньясаленд были отправлены самолетом войска, три дня спустя была мобилизована армия в Южной Родезии, 24-го солдаты открыли огонь по мятежникам в Лилонгве, а самолеты сбросили бомбы со слезоточивым газом; 25-го войска были переброшены на стройку в Карибу, чтобы подавить забастовку рабочих, которые после гибели семнадцати человек потребовали дополнительной оплаты за опасную работу под землей. На рассвете 26 февраля была проведена операция «Солнечный восход» — в Южной Родезии арестовали четыреста членов партии Африканский национальный конгресс. В операции участвовали все резервы: было объявлено, что забастовка в Карибе окончена, оппозиционные партии черных в Южной Родезии и Ньясаленде, а также партия Национальный конгресс Замбия в Северной Родезии запрещены, войска приведены в состояние боевой готовности. 28 февраля были мобилизованы войска Северной Родезии. 2 марта губернатор Ньясаленда сэр Роберт Армзтэд сообщил, что все спокойно, а на следующее утро он провел операцию «Влажный рассвет»: были арестованы доктор Хэстингс Банда, вождь партии Национальный конгресс в Ньясаленде, и большое число других лидеров. Когда объявили о введении чрезвычайного положения, африканцы провели демонстрацию протеста против арестов, но войска безопасности открыли по ним огонь. В тот же день из Северной Родезии насильно выслали Джона Стоунхауза, члена английского парламента. Две недели спустя, в середине марта, в тюрьмы бросили свыше тысячи членов партии Национальный конгресс. Доктора Банда и наиболее видных лидеров Ньясаленда перевезли на самолете в Южную Родезию. Правительство Ньясаленда заявило, что оно имеет сведения о подготовляемых Национальным конгрессом кровопролитиях, однако не смогло указать на источник этих сведений. Сэр Рой заявил, что Конгресс запланировал беспорядки во время переговоров с русскими делегатами на панафриканском съезде в Гане в декабре. К этому времени было убито 44 африканца. Северная Родезия последней вступила в игру. Смарта губернатор сэр Артур Бенсон объявил, что партия Национальный конгресс Замбия задумала «начать кампанию террора, угроз и оскорблений». Подтвердить фактами свои заявления сэр Артур не счел возможным. Он не смог объяснить также, насколько серьезны были угрозы Замбии «убивать и калечить женщин и детей». Ни один человек в Северной Родезии, ни белый, ни черный, не получил и царапины, но правительство было убеждено: кому-то хочется засадить сэра Роя, сэра Роберта, сэра Артура и сэра Эдгара за стол писать книжки для мальчишек, а бразды правления передать в руки тех, кого в Ньясаленде называют «вдохновителями кровопролитий», а в Северной Родезии «корпорацией чикагских гангстеров». Вождь этой «корпорации», то есть Замбии, — Кеннет Каунда, школьный учитель, автор символических боевых песен о грифах, подобно почти всем африканским вождям, аскет. Когда таких, как он, спрашиваешь, почему они ведут аскетический образ жизни, они отвечают, что дело вовсе не в каких-либо нравственных или вегетарианских принципах, а в том, что они просто готовятся к пребыванию в тюрьме, куда, без сомнения, попадут и где нельзя рассчитывать на табак, кофе и спиртные напитки. Программа Каунды напоминает программу первых социал-демократов. В его статьях нельзя найти непечатной брани; он пишет, наоборот, более культурно, чем Рой Беленский. Вместе с другими сорока тремя представителями африканской интеллигенции и политическими деятелями он был сослан в необитаемые районы Северной Родезии, где искушения городской жизни заменялись мухой цеце и жареной кукурузой. Правительство объявляет чрезвычайное положение, и средний гражданин готов сию же минуту поддержать его — он исходит из убеждения, что для этого, должно быть, имеются основания. Трудно предположить, чтобы высказывание премьер-министра по столь серьезному вопросу могло быть недостоверным потому, что в интересах правительства скрыть истину, или потому, что правительство не знает ее. Тот, кто осмеливался задать вопрос, правильно ли поступило правительство, получал один и тот же ответ: что, мол, правительство располагает сведениями, которые ради всеобщей безопасности не могут быть опубликованы, чтобы не быть доступными для оппозиционеров. Премьер-министр Южной Родезии сэр Эдгар Уайтхед заявил: — По очень старой традиции, британское правительство не начинает действий против антиобщественных движений, пока не произошло мятежа и кровопролития. Мое правительство не поддерживает этой традиции… Без преувеличения могу сказать, что наши войска безопасности всегда предвосхищают действия мятежников в Южной Родезии… Происходящая сейчас операция готовилась в течение многих недель. Сэр Эдгар повел наступление на то, чего вовсе не было. Африканцы в следующий раз могут начать действовать первыми, — ведь у них есть достойный подражания образец. Откуда сэр Эдгар узнал, что что-то должно произойти, он не пожелал раскрыть. Не было приведено никаких доказательств. Даже созданный правительством комитет Бидла в своем отчете в августе 1959 года не мог дать ясных доказательств того, что планировались какие-то беспорядки. Поэтому на свет божий появились разные призраки. Сэр Рой обвинял Москву, Каир и Аккру. Федерация могла бы пребывать в гармонии, если только исключить влияния извне, всякие воздействия лейбористов — членов английского парламента — и иностранных журналистов. За каждой поленницей чудился коммунист. Красноречие раздувало этот миф, и вскоре ответственность за чрезвычайное положение была возложена на коммунизм. Айткен-Кейд, лидер оппозиции в парламенте Южной Родезии, заявил: — Я готов вырвать оружие из рук коммунистов и направить его на них. Если необходимы антидемократические меры, то я буду самым антидемократичным из всех… Министр социальных дел А. Е. Абрахамсон разоблачил перед женской аудиторией в Булавайо заговор некоего доктора Азинока, который якобы грозил «уничтожить Федерацию». Никто никогда не слышал о существовании доктора Азинока. Арестовать его поэтому было невозможно. Доктор Александер заявил в парламенте в Солсбери: — Коммунизм — дьявольски коварный враг, не считающийся ни с истиной, ни с честью, ни с приличиями. Агитация сэра Роя вскоре привела граждан Родезии к выводу, что за любым поступком, кажущимся нечестным, лицемерным или неприличным, стоят коммунисты. Мистер Сойер (Объединенная федеральная партия, отделение предместий Солсбери) сообщил в парламенте Южной Родезии, что он слушал по своему приемнику Москву, Каир и Гану. Он не предлагал глушить передачи, но считал, что кто-нибудь из писателей-патриотов должен написать пьесу о том времени, когда арабы в Центральной Африке угоняли негров в рабство, показав, что раньше было отнюдь не лучше, чем теперь. Тем, кто слушает передачи из Каира, стало бы ясно, чего можно ждать от арабов. Сотни других высказываний свидетельствуют, что представители белого меньшинства действовали так, будто они все еще были детьми или пребывали в сомнамбулическом состоянии. Каждый деятель, оправдывающий экономику и политику, основанную на сегрегации, приоткрывает дверь тому мировоззрению, которого он больше всего боится. Лучшим агитатором революции всегда было недомыслие тех, кто изо всех сил старался преградить путь историческому развитию. В высших кругах Родезии, казалось, приветствовали страх. Раньше он не принимал ясных форм. Прикрываясь зонтиком партнерства, приходилось, по крайней мере официально, соблюдать правила учтивости. Чрезвычайное положение все поставило на место. Страх был узаконен, и теперь можно было переходить в наступление.Происхождение лицемерия
Первый поезд появился в Родезии добрых шестьдесят лет тому назад. Он остановился в Булавайо. На паровозе красовался лозунг: «Вперед, Родезия!» Теперь Булавайо второй город Федерации; в то время это была резиденция короля Матабелеленда Лобенгулы. В 1888 году он поддался уговорам Сесиля Родса и продал права на золотые и другие минеральные месторождения в своем государстве. Сесиль Родс обещал ему взамен 100 фунтов стерлингов в месяц, тысячу ружей системы «Мартини-Хенри» и канонерскую лодку на реке Замбези, которую, король так никогда и не получил. Компания «Бритиш Саут Африка» получила монополию на эксплуатацию страны к северу от Бечуаналенда и к западу от Мозамбика и управление этой территорией. В конечном счете политика, проводимая компанией, контролировалась министром иностранных дел, но в общем Англия не несла никаких обязательств. Компания обязалась искоренить рабство и взяла на себя постройку шоссейных и железных дорог, обработку земли, торговлю, установление законов и обеспечение мира. Лобенгула продал затем права на землю немцу Липперту, в надежде посеять между белыми раздор. Ему не приходило в голову, что Липперт действовал заодно с южноафриканской компанией. Он был уверен, что продал Родсу лишь право добывать золото, и не знал, что белые считали себя хозяевами всей земли, где разыскивали минералы, а искали они их всюду. Родс велел белым рассредоточиться в разных районах Машоналенда, нынешних восточной и средней частях Южной Родезии, чтобы африканцы не заподозрили их в прямом завоевании страны. Лобенгула «никогда не был достаточно культурен, чтобы нарушить свои обещания», пишет С. П. Хиатт в «Переселении на север» («The Northward Trek», 1909). Это и было причиной его гибели. Он сравнивал себя с мухой, а белого человека с хамелеоном. Белый был то медлителен, то быстр, беспрерывно меняя свой облик. «Я никогда не понимал, что такое ложь, пока мне не пришлось иметь дела с белыми», — сказал король Матабеле. Быстро подобравшись к мухе, хамелеон проглатывает ее. Будущее покажет, как справедливо сравнение Лобенгулы. В своих путевых записках Мария Липперт, жена переселившегося немца, описывает, как в девяностые годы она со своим мужем ехала из Претории в Булавайо, где царил Лобенгула. Они взяли у него в долг бутылку шампанского и устроили праздничный обед для европейцев, первых родезийцев, живших в той местности. За обедом произносились речи: «Мы собрались сюда с разных концов света, очень скоро мы снова расстанемся, чтобы идти своими тропинками в жизни, но когда думаешь об этой маленькой группе белых, встретившихся как хорошие товарищи и добрые друзья в дикой стране, в центре Африки, понимаешь, какая предприимчивость и смелость потребовались для того, чтобы нести цивилизацию все дальше в глубь континента». Нынешние правители сделали лицемерие официальной политикой. Но притворство было политикой и первых белых поселенцев. Они стояли перед дилеммой: подвергнуть ли сомнению те ценности, которые они защищали, лишая других свободы; или отказаться от своего культурного наследия и утратить свою индивидуальность, растворившись в чужом порабощенном народе; или, наконец, играть роль жестоких завоевателей, всегда стоящих на страже, и в конце концов стать рабами собственного страха? Других путей они не видели. И первые поселенцы пытались использовать все возможные пути сразу. В Родезии наблюдается исключительная чувствительность ко всякой критике извне. Несколько хвалебных фраз из уст американского капиталиста, английского лорда или шведского дельца повторяются по нескольку дней. Речи французского консула в какой-то памятный день, изобилующей теми шаблонными фразами, какие ежедневно вынуждены употреблять дипломаты во всем мире, в газетах Родезии отводится три столбца. Статью критического содержания в каком-нибудь иностранном журнале с возмущением комментируют и цитируют, вместо того чтобы обойти ее молчанием. Об авторе такой статьи говорят, что он «не осведомлен», или что он вовсе не был в стране, то есть не отметил своего имени в департаменте информации. Настойчивая критика объявляется «неумеренным вмешательством извне», и вскоре тот, кто считает себя патриотом, начинает повторять слова премьер-министра о том, что, если бы заграница оставила их в покое и прекратила «свою тенденциозную кампанию», все проблемы были бы решены. Когда есть чувство вины, необходимы козлы отпущения. В этих случаях, помимо заграницы, можно сослаться на безответственность африканцев и коммунизм. Никто, во всяком случае ни один политический деятель, заботящийся о своем будущем, не скажет, что важнейшей причиной внутренних проблем является требование высокого жизненного уровня для белых в еще слаборазвитой стране. Так устраивают дымовые завесы. Большинство африканцев рассматриваются как «нецивилизованные». Снабженные такой этикеткой, они перестают быть людьми и превращаются в инвентарь в поместье или на заводе, предназначенный для использования. Корни этого превращения надо искать в далеком прошлом. Из-за недостатка в капитале первые поселенцы не могли завлекать коренное население высокими заработками, и им приходилось искать другие пути привлечения африканцев к работе. Разделение африканцев на «нецивилизованных» и небольшое число «цивилизованных» многим кажется произвольным, необъективным; тогда прибегают к другим аргументам, скажем, таким: расовые особенности банту не дали им развиться, двухтысячелетняя культура белых, ответственность западных стран за сохранение демократии… Такими лекарствами заглушается нечистая совесть, и все белые начинают ощущать себя участниками благотворительной миссии в центре Африки. Им недостает лишь Марии Липперт для ведения летописи их благодеяний. Когда-нибудь, может быть, этим займется Рой Беленский. А пока что он и его сторонники провозгласили себя либералами-реалистами в противоположность просто либералам, объявленным ими утопистами, «не знакомыми с родезийской действительностью». «Либералы-реалисты» в качестве либералов следят за тем, чтобы наиболее одиозные имена не оскверняли списков министров, за что они получают поздравления от легковерных людей в Европе. А их реализм состоит в том, что они в нужных случаях поворачивают к реакции. То обстоятельство, что африканский национализм находит для себя хорошую питательную среду в Южно-Африканском Союзе с его всем известной политикой апартеида, считают естественным, но если этот национализм проявляется в Федерации Родезии и Ньясаленда — это уже грубое нарушение «партнерства и политики благожелательности». Абсолютно невозможно представить себе, чтобы национализм существовал не только в головах некоторых завистников и агитаторов, но и среди широких масс. Невинную «невежественную массу» надо «спасти». Поэтому, следуя книге Колина Лейса «Европейская политика в Южной Родезии» (1959), сторонники доброго сотрудничества воспринимают беззастенчивый арест тысячи африканских вождей с тем же удовлетворением, какое испытала бы полиция, выследившая шайку бандитов. Это самая отталкивающая сторона партнерства. Белые воображают, что они делают гуманное дело. Пятьдесят неизвестных, убитых в Ньясаленде, считаются, таким образом, жертвой партии Национальный конгресс, а не правительственных войск. Законы, превратившие Федерацию в полицейское государство, рассматриваются отнюдь не как единственная возможность для белых сохранить контроль. Наоборот, парламентские партии заявляют, что эти законы якобы защищают интересы простого африканца. Здесь обнаруживается недостаток связи с родезийской действительностью, приводящий к большим несчастьям. Партнерство становится не только камнем преткновения между Родезией и заграницей, но и между белыми и африканцами. Правительство имеет три источника, знакомящие его с жизнью африканцев: рапорты белых уполномоченных о местных делах, рапортытайной полиции о собраниях, беседы с африканцами — членами федерального парламента. Двенадцать из пятидесяти девяти членов парламента — африканцы (в парламенте Южной Родезии их нет ни одного.) Многие иностранцы умиляются проявлением такого партнерства. Из этих двенадцати двое — из Северной Родезии — выбраны непосредственно африканцами. Остальные, которые по конституции должны быть африканцами, выбираются европейцами и принадлежат правительственной партии (за исключением одного, еще более правого). За исполнение своих обязанностей они получают 22 тысячи крон в год. Для африканца это несметная сумма. Но они должны запастись крепкими нервами. Ибо каждый раз, когда сэр Рой демонстрирует их окружающему миру, африканцы называют их предателями — отсюда ложное представление, будто образованных африканцев народ не любит. Прискорбно, что белые политики, заявляющие, что они «знают народное мнение», не встречают других африканцев, кроме этих десяти осчастливленных ими подголосков. Партнерство, следовательно, больше чем сознательный обман: оно скрывает неведение, которое неизбежно должно привести к катастрофе. Поэтому массовые февральские аресты имели, по крайней мере, одну положительную сторону: власти были вынуждены допросить представителей «невежественной массы» и не смогли избежать знакомства с кое-чем из того, что до сих пор они старались не замечать. Со времен Лобенгулы и первого паровоза белые хотели действовать по многим направлениям сразу, что привело к парадоксу: африканцы, сильнее всего ненавидящие привилегии белых, яснее всего видят необходимость цивилизации.Мужи политики
Несколько лет назад многие думали, что сэр Рой Беленский — тот человек, который объединит три страны Федерации в гармоническое целое. Надежды эти лопнули. Сэру Рою для этой роли недостает кругозора и интеллекта. Его мужество и опыт политической деятельности в местных масштабах оказались недостаточными для государственного деятеля. Сэр Рой носит очень широкие брюки, а куртку, наоборот, на номер меньше, чем нужно. Внешне он создает впечатление общительного, темпераментного человека. Находясь в обществе премьер-министра, собеседник опасается, как бы одна из пуговиц на куртке сэра Роя не отскочила и не попала бы в глаз. Беленский, в отличие от премьера Южно-Африканского Союза Фервурда, не фанатик и не теоретик. Он тщеславен и добродушен. Его легко обидеть, но так же легко рассмешить. В Родезии он приобрел эпитет «свой парень». Перед объективами фотоаппаратов сэр Рой обнимает своих внуков, и железнодорожный рабочий-белый считает, что с ним легко говорить. Из своего богатого запаса сэр Рой всегда вытаскивает в нужную минуту такую черту характера, которая убеждает собеседников, что они имеют дело с одним из «своих». И только африканцам он никак не может внушить доверия, хотя и делал для этого смелые попытки. А африканцы, к несчастью для сэра Роя, составляют большинство в стране. В их кругу он теряет уверенность, не знает, чего они хотят, и даже не понимает, как это они могут чего-то хотеть. Африканцы не желают слушать разглагольствований сэра Роя, и поэтому он приберегает свое красноречие для английского правительства, пытаясь убедить его в благородстве своих намерений. Африканцы склонны запоминать наиболее конкретные высказывания сэра Роя за последние годы. Я приводил уже целый ряд таких изречений. Вот еще несколько: «Африканец не может надеяться стать хозяином в Федерации даже через сто или двести лет» (1956). «Пора нам решить, сохранится ли здесь цивилизация, то есть останемся ли здесь вы и я, европейцы, и останется ли все то, чем мы дорожим…» (9 февраля 1957). «Демократия, основанная на всеобщем избирательном праве, позволяет местным демагогам называться вождями, а умеренных обрекает на прозвище Квислингов» (17 сентября 1959). Критический анализ заявлений сэра Роя обнаружил бы в них сумбур противоречий, что серьезно пошатнуло бы его положение в политически более устойчивом обществе. Но в непоследовательности сэра Роя, может быть, есть своя хорошая сторона: ради сохранения власти он овладел искусством приспосабливаться. Он только кажется похожим на политического деятеля — в его внешности и поведении проглядывает бывший боксер. Он чувствует свою силу, когда его носят на руках. Популярность— это та трость, на которую он должен опираться; он, по-видимому, не настолько силен, чтобы обойтись без этой подпорки. И когда Рой Беленский поймет, что он не в силах изменить окружающий мир, он, возможно, предоставит миру изменить его самого. В жизни Роя Беленского не было прямых дорог. Его отец был польский еврей, который, по утверждениям большинства историков, эмигрировал сначала в Швецию, оттуда в Америку, а затем в Южную Африку, где женился на африкандерской девушке. С первой партией переселенцев он прибыл в Солсбери, и Рой родился на улице Пионеров в то время, когда у первого пекаря еще не было средств на постройку настоящей пекарни и он устраивал печь в термитнике, заполняя яму горячей золой, а первому мяснику приходилось полагаться на свое ружье, чтобы снабдить мясом покупателей. Беленский приводил следующий довод в пользу включения Ньясаленда в Федерацию. Он хотел уменьшить бедность этой страны. Он сам перенес бедность и любит упоминать, что до шестнадцати лет спал без простыней. Сэр Рой, кажется, считал, что стоит лишь уничтожить бедность, как все будут удовлетворены. Духовные потребности никогда не находили в нем отклика. Окончив несколько классов школы, Беленский перепробовал множество профессий: он был барменом, продавцом, железнодорожным рабочим. Его будущая жена, девушка из шотландской семьи, жившей в Южной Африке, подавала ему чай в одном из кафе в Булавайо. Он был машинистом, профсоюзным лидером и чемпионом в тяжелом весе. Рассказывают, что, когда однажды он выводил свой паровоз из депо в Брокен-Хилл, весь кожух паровоза был расписан антисемитскими ругательствами по адресу еврейской крови его отца. Не странно ли, что Беленский поддерживает дискриминацию миллионов небелых в Федерации? Когда с ним разговариваешь и слушаешь его анекдоты, начинаешь понимать, почему многие поддаются его обаянию и считают Роя Беленского славным парнем. От него так и пышет здоровьем, отличным самочувствием и самоуверенностью. Своих противников он поучает как школьников. Локомотив — символ его жизни. В торжественных случаях и во время избирательных кампаний он любит появляться на собственном паровозе, в старой форме машиниста. Он стоит впереди всех с запачканным сажей лицом и машет фотокорреспондентам, толпящимся на перроне. Паровоз пыхтит, клубится пар. Беленскому кажется, будто он въезжает на своем паровозе в будущее. Может быть, есть фигуры, более достойные стать премьер-министром. Но едва ли можно найти подходящего человека более правой ориентации. Партия Доминиона (Dominion Party) получила на последних выборах в Южной Родезии наибольшее число голосов, по выдающихся личностей в ней нет. Ее лидер Уинстон Филд чуть не получил портфель министра, но вряд ли ему удалось бы уговорить британское правительство дать согласие на самоуправление, если он заявил: «Мне следовало бы подчеркнуть, что мы, родезийцы европейского происхождения, не побоимся драки, если будем вынуждены пойти на это…» Суть политики этой партии раскрывается в словах ее делегата на конгрессе в августе 1959 года: «Расширение избирательного права зависит от взгляда на вещи. Только одно может быть объективным фактом: цвет кожи». Если бы не было партии Доминиона, сэр Рой попросил бы наиболее консервативных членов собственной партии создать ее. Ведь сильная оппозиция справа заставляет многих воображать, что правящая Федеральная партия стоит за более либеральный путь. Путь более либеральным взглядам прокладывает Гарфилд Тодд[12], бывший миссионер из Новой Зеландии, один из самых выдающихся европейцев в Африке. Его прошлое, правда, во многих отношениях настораживает. Будучи премьер-министром Южной Родезии до 1958 года, он применял слезоточивый газ против забастовщиков и к национализму африканцев относился так же нетерпимо, как сэр Рой и сэр Эдгар Уайтхед. Но ему пришлось выйти из рядов собственной партии, после того как он повысил зарплату промышленным рабочим-африканцам с 60 до 95 крон в месяц и ввел более умеренный избирательный ценз, в результате чего восемь тысяч африканцев получили право голоса. Лорд Молверн, первый премьер-министр Федерации, спросил его по этому поводу: «Вы и в самом деле надеетесь постичь вечные истины, пересчитывая носы?» Говорят, поражение на выборах 1958 года сделало Тодда совсем другим человеком. Когда я встретил его через год после этого события, он пришел к окончательному выводу, что эпоха превосходства белых прошла. Это наполовину примирило его с африканским национализмом, и многие африканцы, оставшиеся после запрещения Национального конгресса политически бесприютными, объединились с ним, по крайней мере временно, в партии Центральной Африки. Большинство африканцев знает, однако, что партия с высоким процентом африканцев никогда не будет популярна среди белых, которые в конечном итоге решают исход выборов. Но Тодд смотрит в будущее и заявляет, что он не будет больше считаться с мнением белых избирателей. Он заглядывает вперед, в тот день, когда белый не сможет быть избран в парламент, не получив поддержки африканцев. В этот день осуществится истинное партнерство и исчезнет дискриминация. Его программа — получение Северной Родезией и Ньясалендом самоуправления до 1965 года и получение африканцами большинства в парламенте и правительстве Федерации. Однако, чтобы не напугать белых такой радикальной программой, он предлагает систему, действующую в Танганьике: в переходный период все избиратели голосуют в своем избирательном округе за одного представителя от каждой расы. — Федерация — полицейское государство, и оно становится все хуже, — заявил мне Гарфилд Тодд. — Многие африканцы боятся, что подвергнутся репрессиям, если войдут в нашу партию, и мы не сможем устраивать собраний в Ньясаленде. Если стольких людей будут долго держать в тюрьме, от нормальных отношений между расами не останется и следа. После мятежа целью политики должно быть не восстановление порядка, а удаление причин, вызвавших насилие. Своим обращением к более радикальному либерализму Гарфилд Тодд сможет на некоторое время заполнить пустоту, возникшую после разгона Национального конгресса, партии большинства. На собраниях он выступал с юношеским пылом и глубоким убеждением в своей правоте, выдававшим в нем миссионера. И сэр Рой, конечно, втайне благодарен Тодду за то, что тот втягивает политически сознательных африканцев в европейскую партию, которая не может угрожать правящей партии. Многие белые в то же время думают, что под длинными ногами Гарфилда Тодда нет прочной □поры и что его магическое обаяние не приносит ему никакой пользы.* * *
Национальный конгресс и его идеи продолжают жить за пределами страны. Джошуа Нкомо, вождь Национального конгресса Южной Родезии, и Каньяма Чьюме, секретарь партии в Ньясаленде, были за границей во время операции «Солнечный восход». Их штаб-квартира — в Лондоне, тайными путями они получают сведения о том, что происходит в их отечестве. Они произносят речи в Англии и США, часто вступая в поединок с официальными представителями Федерации. Они издают брошюры, сотрудничают с такими сочувствующими им группами в Англии, как Африканское бюро (Africa Bureau), Христианские действия (Christian Action), Движение за свободу колоний (Movement for Colonial Freedom)[13], а также с либеральной и лейбористской партиями… После нашего путешествия по Африке мы встречались с ними, как и со многими другими африканцами, либо изгнанными из страны, либо обучающимися в Лондоне, на улице Гауер-стрит, 200, недалеко от Истон Стейшн. Здесь, в маленьком закопченном домике, размещается европейский центр панафриканского движения. В конторе, расположенной в подвале дома, висит нарисованный углем портрет доктора Банда. Старомодные пишущие машинки размножают памфлеты и листовки; неофициальные послы шестнадцати африканских стран пытаются найти здесь общее решение вопросов, стоящих перед Черным континентом. Джошуа Нкомо — толстый веселый человек, бывший распорядитель на аукционах. В нем нет ни капли фанатизма. Он легко может убедить противника и завоевать на свою сторону колеблющихся, но ему трудно издалека, из Лондона, руководить национальным движением в Южной Родезии. Каньяма Чьюме — небольшого роста худой человек лет тридцати. Он тоже поразительно веселого нрава, так же оптимистически смотрит на будущее, но не склонен к уступкам и компромиссам. Он отказался даже встретиться с чиновниками министерства по делам колоний, считая, что все переговоры должны вестись с Банда (Стариком, или Доктором, как его все называют). Он требует сначала освободить Доктора и перевести его обратно в Ньясаленд. Вот как выглядит комната Чьюме на улице Гауер-стрит, 200: письменный стол, весь пол усеян бумагами, в углу — его памфлеты о Ньясаленде. За занавеской кровать. Телефон, ржавый кофейник, стопка книг, газетные вырезки, карикатуры на противников и шаржи на единомышленников. Одна стена украшена приказом об аресте Чьюме, вступающим в силу, как только он ступит на родную землю. На другой стене огромный плакат, трофей митинга, посвященного Центральной Африке: «Повесьте Чьюме за участие в мятеже». Таких комнат в Лондоне много. Все они похожи друг на друга, будь они расположены в Истоне, Челси или Суисс Коттедж. Они напоминают о том далеком времени, когда жизнь не была подчинена размеренному и упорядоченному ритму, когда неизвестные люди тайно собирались ночью где-нибудь в предместье, пили кофе и строили планы изменения общества. Африка и теперь такая страна. Многие важные дела начинаются со сбора денег у группы лиц, преданных своей идее, со встреч в подвальном помещении, вокруг пишущей машинки и лампы без абажура, освещающей липкие трафареты. В этом мире не нужны ни специальные бланки для писем, ни визитные карточки. Здесь не нужно устанавливать времени для визитов — ни у кого нет заведенных привычек. Однако для тех, кто интересуется будущим Африки, адреса этих людей знать не менее важно, чем адрес министерства колоний на Уайтхолле.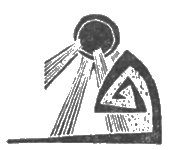
ДОРОГА В ХАРАРИ

Ребенка зовут «Пробудись»
КРОМЕ ДОРОГИ, ведущей от белоснежной гостиной с болонкой на бархатной подушечке к молчаливому чистильщику выгребных ям, в Африке есть и другая дорога. Джошуа Мутсинти — первый африканец, встретившийся нам. Он журналист, но совсем не похож на других африканцев-журналистов, с которыми мы позже познакомились в Родезии и Южной Африке. Его взгляд за стеклами очков поражает мягкостью и какой-то особой грустью; он редко оживляется, от него редко услышишь острую шутку. Все окружающее как-то подавляет его, вызывая сначала удивление, потом боль. Джошуа не чувствует ненависти к белым, ведь он получил образование в миссии методистов, но не питает к ним и особого расположения; он не из тех бойких африканцев, которые когда-то окончили университет в Южной Африке и которых теперь иностранные журналисты используют для получения нужной информации. У Джошуа круглое лицо и большой выпуклый лоб. Женился он летом 1958 года, в то памятное время, когда доктор Банда приехал из Лондона в Ньясаленд и для Центральной Африки началась новая эпоха. Мы едем с Джошуа к нему домой в Харари, старейшую и самую большую локацию для африканского населения Солсбери. Джошуа достает из бумажника свадебную фотографию: его жена в белом кружевном платье; они стоят у методистской часовни в Харари. Фотография была помещена в африканском ежемесячнике «Парейд». Деловая часть «города белых» и африканские кварталы разделены железнодорожным полотном, табачными плантациями и огромным количеством промышленных предприятий. А у самой границы с «черным миром» — европейское кладбище: зеленая полоска, заселенная мраморными ангелами. Асфальтовая лента сужается, повсюду разбросаны пустые коробки от сигарет «Стар». Вереницы крохотных «лавок для предприимчивых африканцев» (The Grocery for Smart Africans) окаймляют дорогу: «Наш девиз — все для вас». Чаще всего эти лавки принадлежат «цветным». Тут и там мелькают залитые цементом фундаменты. Отбросы, сваливаемые на них, быстро образуют перегной, и вскоре здесь, наверное, зацветут дикие луга. — Мы живем на мрачном континенте, — говорит Джошуа. — Вон там, у рудников, ближе к нам, чем к «белому городу», электростанция. Но нам от нее мало радости. Мы останавливаемся у низенького белого оштукатуренного домика. Перед ним ровная, пыльная, без единого деревца площадка. Всюду кусты репейника, которые обдают нас легким белым пухом. Какой-то африканец осторожно лавирует между рытвинами на машине, купленной у белого. Над Харари в бледном небе, где-то у горизонта, видны голубоватые вершины гор, а над городом — дым электростанции. В доме Джошуа две маленькие комнатки с цементным полом. Мебели мало — не хватило денег. Холодно, как в склепе. В кухне никаких удобств, кроме электроплитки. На крыльце дозревает тыква. Эснет, жена Джошуа, только что вернулась из родильного дома. В постели, рядом с ней, на большой подушке лежит их первенец. Ему всего два дня от роду. У него морщинистое коричневое личико. На минутку ребенок приоткрывает глазки, как будто чему-то удивляясь, потом вновь засыпает. Он еще ничего не знает об этом мире. Да и что он может о нем знать? Джошуа становится смешно при мысли, что у малютки может быть свой жизненный идеал и что мир, в который он угодил два дня назад, ему может не понравиться. — Его зовут Мюкайи, но он еще не крещен, — говорит Джошуа. — Мюкайи означает «пробудись». Это призыв к братьям и соплеменникам не уходить в себя, а попытаться понять свою роль в обществе. Малышу хотели дать другое имя — Квача — «рассвет», но это слово стало политическим призывом, и тому, кто громко окликнет ребенка где-нибудь в общественном месте, грозили бы тюрьма и штраф. — Брат Джошуа дал Мюкайи второе имя, — говорит Эснет. — Тинотенда. — Это значит: «тот, за кого мы благодарим судьбу». В комнату вошла высокая женщина с оживленным, сияющим лицом. Она хочет посмотреть ребенка; пытаясь скрыть смущение, она улыбается и, кажется, не понимает, о чем мы говорим. — Это Мария Линовенда, — поясняет Джошуа. — Она вдова и торгует овощами на рынке. Пока Мария и Эснет говорят на языке шона, Джошуа рассказывает, что пятнадцать лет назад ей вручили телеграмму: «Ваш муж погиб в Бирме», денежное пособие и копию воззвания, в котором восхвалялись африканцы, внесшие свой патриотический вклад в дело союзников. Действительно, в двух прошедших войнах их вклад в дело союзников был значительным, особенно если учесть, что многие, должно быть, спрашивали себя, за что, собственно, они воюют. В гости приходит и одна из сестер Эснет, ей лет пятнадцать. Еле слышно произнеся приветствие, она робко пробирается к кровати, серьезно смотрит на малыша, непрерывно теребя кончик воротничка своего старенького, узенького платьица, обрисовывавшего всю ее худенькую фигурку. Потом, чему-то рассмеявшись, она внезапно убегает из комнаты. Мы пьем чай. Джошуа зовет шестнадцатилетнего племянника, который валялся в высокой траве у дома и мечтал неизвестно о чем. Джошуа возмущен: если бы все были такими лентяями, как этот мальчишка, презрение белых к африканцам было бы оправдано, и нынешнее положение сохранилось бы навсегда. Только упорным трудом можно приблизить будущее. Но мальчишка не обращает внимания на это ворчание. В ящике на полу лежат книги: Библия, руководство для журналистов, автобиография Нкрумы, романы Ричарда Райта и Алана Патона, а также сборник «Благородные мысли», который предлагает вам более легкий и заманчивый уход от действительности, чем любой еженедельник: «Неотъемлемые права человека… смирение перед тайной вселенной… сытые желудки… более счастливый мир… гражданская лояльность… свобода от всякого принуждения извне…» Брат Джошуа был арестован во время операции «Солнечный восход», так как был кассиром одного из отделений Африканского национального конгресса, хотя тогда в этом не было ничего предосудительного. Жена и дети получили мизерное пособие и брошюрки, которые призывали жену «использовать все свое женское влияние на мужа, когда он вернется домой, чтобы убедить его в том, что правительство руководствовалось лишь чувством благожелательности к нему и что во всем виноват он сам». Узнав о судьбе семьи брата Джошуа, я подумал, что те, кто издавали этот сборник, не очень-то задумывались над тем, насколько их «Благородные мысли» далеки от действительности. Рассказывая о порядках в Родезии, Джошуа немного смущается, и не потому, что белые, к которым, увы, отношусь и я, принесли африканцам столько несчастья, а потому, что все это творится на его родине, которую он любит и которую никогда не покинет, что бы с ней ни случилось. Кто-то выплеснул помои на его участок — ему стыдно перед нами и за это. О чем еще мы говорили в тот первый вечер? О воспитании и образовании, о техническом колледже, созданном африканцами на собственные деньги, о различного рода миссионерах, об Америке, о Грэме Грине и вообще о жизни. Мы говорили о Дорис Лессинг и о ее романах, о деятельности социалистов в Солсбери в сороковых годах. Джошуа был приглашен к Дорис Лессинг, когда она была здесь в 1956 году, но он не решился пойти, так как за ее домом следили сыщики — ведь ее выслали из Южной Родезии, запретив возвращаться в Федерацию, где жила вся ее родня. Подобный разговор мы могли вести где угодно: в Хэмпстеде или Челси, в Стокгольме или Латинском квартале. Ио Джошуа напоминает нам, что мы находимся в его доме без разрешения главного управляющего локации, конечно белого. Мы не знали, что нужно какое-то разрешение. Оказывается, европейцу нельзя посещать африканца, не сообщив о причинах и времени своего посещения. Иногда ему в этом случае даже навязывают полицейского. Африканцу, который захочет после шести часов посетить родственников или друзей в близлежащей локации, тоже нужно специальное разрешение. Значит, в любое время в тихий дом, где мы сидели, могла ворваться полиция и прервать наш ужин, а мы с Анной-Леной могли подвергнуться штрафу за незаконное партнерство… За фруктами и хлебом мы беззаботно беседуем в маленьком домике, спрятавшемся среди сотни ему подобных. Вдова, сидевшая до сих пор молча, прощается. Несколько мальчишек у дверей выпрашивают у Джошуа иностранные марки. Стемнело, только вдали виднеется силуэт электростанции. Джошуа вытирает пот со своего большого лба. — Одно время мы думали, что нам нельзя иметь детей, пока не появится хоть какая-нибудь надежда на лучшее будущее и нас перестанут мучать вопросы о том, где жить, как поступить в школу и какую найти работу. — Некоторые белые говорят то же самое, — отвечаю я. — Подожди, дочка, со свадьбой, пусть пройдет это тревожное время, и правительство сумеет обеспечить нам спокойную жизнь. — Все это невероятно, — говорит Джошуа. — Ведь нельзя ждать, пока скажет свое слово история. Если все будут ждать, то не будет вообще никакого будущего. В кровати возле нас лежит Мюкайи, ему только два дня отроду, он почти ровесник чрезвычайного положения. Его голубоватые белки блестят в темноте, он молчит и словно прислушивается к поступи истории.Разыскиваемого нет дома
Я часто выражал сожаление, что не имею возможности повидаться со многими, с кем хотелось бы. Джошуа спросил, не хочу ли я встретиться с Харри Читембе, членом Национального конгресса, с одним из тех немногих, кто еще не угодил в тюрьму. Субботний вечер в Харари. У девушек яркие губы: они покупают в парфюмерных «лавках для предприимчивых африканцев» жидкую помаду. Она напоминает смородиновое варенье, держится на губах целую неделю и блестит, как лак. Мы прошли с Джошуа мимо фотоателье «Студио Эмеральд». Его друг Джемс Мусаки непрерывно щелкал аппаратом, фотографируя празднично одетых людей. Раньше на витрине ателье можно было видеть портреты видных руководителей Конгресса; желающие покупали карточку всего за шесть пенсов. Но теперь полиция запретила это. И так как портреты висели вместе с обычными фотографиями, пришлось снять вообще все карточки. Но внутри, в одной из комнат ателье, торговля продолжается. У обочины дороги мы увидели спящего пьяного. Джошуа наклонился к нему и достал документы. Регистрационный номер указывал, что он из резервации, паспорт разрешал ему искать работу в Солсбери в течение двух недель. — Скокиан, — сказал Джошуа. Африканцам, у которых нет высшего образования, не продают спиртные напитки, и они покупают скокиан — самогон, который приносит хороший доход многим торговкам. Скокиан делается из денатурата, пива, сахара, дрожжей, кукурузной муки и табака. Белые утверждают, что для большей крепости в него кладут крысиную голову или палец от человеческой ноги. — Наверное, он никого не знает, — сказал Джошуа. — Пришел из деревни в город своей мечты. Может быть, это его первый вечер в городе, а денежки уплыли. — Что будет, когда он проснется? — Такие, как он, всего боятся, и их трудно понять. Им все кажется, что всюду на них пялит глаза полиция. Когда он просит работу на виллах, белые женщины осыпают его руганью через забор. Если он видит сад или открытое окно, то запускает туда руку и что-нибудь крадет. У фабрики он может только стоять и смотреть на тех, кто выходит оттуда. Если он знакомится с девушкой, то она, как только узнает, что у него нет денег, бросает его. На пьяном грязные брюки цвета хаки, желтая рубашка из бумазеи, из кармана торчит расческа. Рот раскрыт, волосы в пыли, лоб весь в морщинах, а руки слегка сжаты в кулаки. — Некоторые из них становятся преступниками, — продолжал Джошуа. — Они убивают и грабят белых. Они не хотят никаких перемен, а поэтому ненавидят Конгресс и других африканцев, стремящихся облегчить нашу жизнь… У пустой бочки играют дети. Какой-то малыш наигрывает грустную мелодию на самодельном инструменте: доске с медными струнами и с приколоченным к ней для резонанса жестяным бидоном. В медленных, падающих, словно капли дождя, звуках этой мелодии слышится и песня флейты, и звон гитар, и скрип велосипедных насосов. На улице у керосиновых рожков сидят, ритмично покачиваясь, женщины. Две из них неожиданно вскакивают и начинают плясать на ухабах красной дороги между рядами домов. К ним подбегают двое мужчин. Это необыкновенное зрелище: танцующие движутся в ритмичном стаккато и как-то странно, не поднимая колен, отбрасывают ноги. Кажется, будто они танцуют на горящих углях, не прикасаясь один к другому, словно между ними стеклянная стена — каждый повторяет движение своего партнера как зеркальное отражение, кончик языка зажат между губами, пальцы растопырены, глаза то прищурены, то широко раскрыты. Мы входим в дом, окруженный подсолнечниками. — Харри, наверно, скоро придет, — говорит хозяйка, затем вытаскивает из дивана матрац и кладет его на пол. На столе стоит бутылка пива. Разбитый вентилятор. На окнах жалюзи. Слабый свет керосиновой лампы едва позволяет рассмотреть согнутую фигуру старика. — Если его не схватит полиция. Во время утренней облавы Харри Читембе не забрали. Полиция либо случайно не включила его в списки, либо не знала, что он сейчас в Южной Родезии. У Харри список членов его группы и часть других документов, которые не должны попасть в руки политической полиции; ведь у нее и без того достаточно бумаг, в которых она никак не может разобраться. У меня была с собой бутылка португальского даоса. Учитель народной школы в Харари налил себе полный стакан и сказал довольным голосом: — У нас тоже будут интернаты для наших детей, совсем как в Итоне и Хэрроу. Потом мы говорили о политических намерениях Англии в отношении Кипра, место которого сейчас занял Ньясаленд, о том, что судьбы многих политических руководителей схожи — Макариос сначала сидел в тюрьме, потом стал премьер-министром, то же самое случилось с Нкрума, с премьером Гвианы, теперь очередь Банда. Затем мы ругали Франко, Салазара и сэра Роя… Старик ел кашу, не поднимая глаз от тарелки, лежащей у него на коленях. Все, что не касалось его деревни в Северной Родезии, откуда он родом, было для него одинаково чуждо. Казалось, ему все было безразлично: и мы, Анна-Лена и я, относящиеся к «белому миру», и его собственные внуки, которые теперь принадлежали не ему, а большому городу, и вино, и то, что дочь моет посуду на кухне. Он напомнил мне одного еврейского беженца, прожившего с нами лето в Швеции. Он был так же погружен в себя, ему было так же трудно привыкнуть ко всему, что происходило вокруг. В дверь забарабанили, жена Харри вышла из кухни. — Харри никогда не стучит, — сказала она. — Кто бы это мог быть? На пороге стоял какой-то мужчина. Все поздоровались с ним. — Я иду из Секи, Харри был там сегодня днем. Он, наверное, там переночует и потом пойдет дальше на север. Не ждите его. — Но полиция… — возразила жена. Старик, ничего не замечая, продолжал шумно есть кашу. Анна-Лена сидела на матраце, прижав подбородок к согнутым коленям. Учитель, которого звали Шекспир Бакану, налил пришедшему вина. — Харри найдет выход из положения. Еще неизвестно,-ищут ли его. Где его бумаги? Жена вытащила из-под кровати коробку для ботинок. На конверте написана фраза, сказанная когда-то Гарольдом Ласки: «Самоуважение, стимул и творческие силы — вот, что является главным следствием самоуправления». — Нам, действительно, нужно спрятать это в более надежное место, — заметил пришедший. Когда мы уходили, хозяйка сказала: — Я все же надеюсь, что Харри придет сегодня ночью. — Да, — ответил я, — нам очень хотелось бы встретиться с ним. Старик уже заснул на своем стуле, дети — в кухне на полу, укрывшись одеялами. Мы пошли к Джошуа, где я оставил свою машину. Между сбившимися в кучу домиками, низенькими и светлыми, вились дорожки. Многие из них сливались с широким шоссе, которое вело из Солсбери в Мозамбик, а потом исчезало в так называемом «белом мире». Я видел их еще в первый день своего пребывания в Родезии, но с противоположного конца: тогда эти извилистые велосипедные дорожки, ответвляясь от главного пути, уходили в неизвестное, в то время как наше шоссе оставалось неизменно прямым, как стрела. Звезды висели низко над самой землей, словно искорки, поднявшиеся в небо от всех очагов, горевших в локации. Товарный поезд с грохотом промчался к городу, который приветствовал его сверкающими огнями уличных фонарей. Ни один белый, наверное, не решится пройтись ночью пешком по центру Солсбери. А на следующий день опять улицы будут купаться в солнечных лучах, церковные колокола звонить о примирении, а африканец стоять у резиденции премьер-министра и продавать «Санди Мейл». И, хотя это запрещено, рядом с ним, на краю тротуара, снова будет сидеть маленькая девочка и сосать свой нескончаемый леденец — маленькую деревянную палочку.Африканский студент
На дискуссии, организованной студентами университета, я сидел рядом с Оливером Ндокони. Дискуссия была на тему: «Ответственно ли правительство за мятеж в Ньясаленде?» Сын министра юстиции и еще один белый студент отрицали это, но Теренс Рейнджер и какой-то африканец из Ньясаленда сумели убедить нас, что это было именно так. При голосовании большинство присутствующих возложили всю вину на правительство. Такую мысль не посмел бы высказать ни один член парламента. У Оливера Ндокони широкие скулы и коротко подстриженные волосы. Он очень счастлив сегодня. — Здесь лучше, чем где-либо. Здесь хоть учатся ставить под сомнение действия властей. Он хотел показать несколько учебников Гуннара Мюрдаля и Бертиля Улина, и мы зашли в его комнату. На письменном столе лежала раскрытая «Зимняя сказка». Мы заговорили о предстоящей зиме. — В следующем месяце в Басутоленде начнутся снегопады, — сказал Оливер. — Хорошие пьесы ставят в университетском клубе? — спросил я. — Да, иногда. Мои белые друзья с английского отделения обычно рассказывают мне обо всем. Они часто говорят, что мы можем только радоваться, что не видим всякой ерунды. Но ведь и их никто не заставляет ходить туда. Оливер рассказал, что после дискуссии о Федерации он не смог дальше читать «Зимнюю сказку» — ведь это была выдумка, а сейчас происходят события куда важнее. — Но ведь королеву тоже заключили в тюрьму ни за что ни про что, — попытался я возразить, — так же, как сейчас доктора Банда. — Я не берусь сравнивать, — сказал он. — Мой дядя сидит в тюрьме, хотя я не знаю где. У нас нет никаких сведений о нем. — Он был членом Национального конгресса? — Нет, он был секретарем профсоюзной организации. Я думаю так же, как и он. Но я не говорю об этом вслух, а то меня могут не пустить за границу. — Все африканские студенты — националисты? — спросил я. — У всех либо родственники, либо друзья сидят в лагерях для заключенных, — ответил Оливер. Затем он грустно посмотрел на пол и добавил: — Это не вина Шекспира. А у сэра Роя, пожалуй, времени нет читать «Зимнюю сказку». — Он, кажется, любит Стравинского, — заметил я. — С музыкой легче. Ею разрешено заниматься. А художественная литература, когда ты полон смятения и озлоблен… Но я все же всегда с удовольствием читаю. Оливер очень любил рассказывать. Он вырос в локации, но научился читать не в миссионерской школе, а у девятилетнего мальчика, который был всего на два года старше его самого. Он начал с серии о Дике Трэйси, выходившей ежемесячно; такую книжку можно было купить в лавке у одного грека всего за два пенса. До выхода новой книжки старую успевали прочитать сотни детей. В этих историях все было гораздо интереснее, чем дома. «Проклятая скотина!» — сказал он однажды отцу и, совсем как его кумир Трэйси, небрежно обратился к матери: «Поцелуй меня, милашка!» В обоих случаях ему здорово попало. Вместо того чтобы сказать «здравствуй» или «добрый день», он стал издавать какие-то странные звуки, нечто вроде п-ттр, г-рр, к-пш, и довольно ощутимо шлепал себя при этом по щекам или животу. — За короткое время я научился многому, — рассказывал Оливер Ндокони. Фразы в этих книжках были короткими, они, словно мигающие огоньки, вели Оливера в незнакомый мир. Они показали ему, что мир белых людей наполнен пистолетными выстрелами, пьяными мужчинами, валяющимися в кабаках, вызывающе красивыми женщинами и бесконечными драками. Поэтому, встречая все это в жизни, он нисколько не удивлялся и не уходил от этого, хотя, может быть, уйти было бы разумнее. Когда Оливер поступил в миссионерскую школу, на первом же уроке учитель спросил, кто из учеников умеет читать. Оливер поднял руку, вышел к столу, и учитель указал ему на первые строки «Отче наш». В книге не было картинок, но после минутного колебания он начал читать, и его похвалили. А в остальном в школе было то же самое. Ему казалось, что некоторые дикие истории из книги он уже читал в серии о Дике Трэйси: и о том, как вода расступилась, когда люди бежали через море, и как она сомкнулась над преследователями, как горел куст, разговаривали горы и плясали люди вокруг золотого тельца, о большой звезде и множестве других чудес. Знахари на рынке рассказывали не менее захватывающие истории. Оливер видел во сне, как Иисус стрелял из пистолета, а Моисей падал с небоскреба, как Дик Трэйси сказал парализованному: «Возьми свою постель и уходи» и как Стальной Человек прошел по Генисаретскому озеру. Да, он был счастлив, что научился читать. Тогда ему было всего лишь восемь лет, и он не знал, что он любил больше— эти книжонки или Библию. Главное было то, что и в Библии и в сериях о Дике Трэйси рассказывалось о великих людях, о подвигах, а написал их, очевидно, один и тот же автор. — Образование я получил обычное, — сказал Оливер. — Для тех немногих, кому выпадало счастье продолжать учиться, выбор был довольно ограниченный. Сначала заканчиваешь Горомонци, одно из трех учебных заведений Федерации. Там мы не имели права говорить о политике, но нас она и не очень интересовала. Наши учителя говорили, что не стоит прислушиваться к болтовне взрослых. Затем вступительные экзамены в университет… Оливер похлопал по томикам Шекспира и Бертиля Улина. — Стараюсь читать как можно больше и не бунтовать понапрасну, — объявил он. На моем курсе учились 134 белых, один индиец и 35 африканцев, из них две девушки. Студентов африканцев с каждым годом становится все больше. Скоро трудно будет арестовывать всех, кто занимается политикой. Нынешнее университетское воспитание является, быть может, залогом того, что проблемы страны будут решаться мирным путем. Но это не очень надежный залог, ведь Африка слишком поздно становится на этот путь, развитие страны идет куда быстрее, чем просвещение. На следующий день часа в четыре я видел, как маленький серый автобус со служащими уехал в город. Он был частным, и поэтому им могли пользоваться пассажиры обеих рас, но ходил он всего лишь раз в сутки. Несколько позже на опустевшую площадку вышел Оливер и сел на камень. — Хочешь, подвезу тебя в город? — спросил я из окна машины. — Да, в Хайфилд, если можно. По дороге он рассказал мне, что из пригородного района Маунт-Плезент, где живут белые, ходит всего один автобус, но он не берет африканцев. А собственные машины имеют лишь немногие студенты. Вообще-то в Солсбери делать особенно нечего. Ведь раз у тебя черная кожа, тебе нельзя пойти ни в библиотеку, ни в кино, ни в ресторан. Правительство заявило, что оно не может издавать законы, которые облегчали бы контакты между расами. Легче поддерживать законы, препятствующие этим контактам. Я, белый человек, не имел права предоставить Оливеру ночлег в своем доме, хотя в Южной Родезии африканцев принимала всего лишь одна гостиница, да и то с разрешения министра по делам туземцев. — Но в магазинах все обходится хорошо, — продолжал Оливер, — деньги из черных рук имеют ту же цену, что из белых. — Правда, на днях в парламенте кто-то утверждал, что в Солсбери нет такой дискриминации, как в Северной Родезии. Он, очевидно, сам верил этому. Но я могу показать тебе десятки мест, где африканца обслуживают через особое окошко, подальше от дверей, или с заднего хода, а иногда вообще не пускают в магазин. Когда мы ехали по шоссе Чартер-роуд, которое пересекает торговый квартал индийцев, по дороге к локации направлялся целый поток велосипедистов. Я снизил скорость и подъехал к бензоколонке. Расплачиваясь, я заметил, что один африканец покупал бутылку антифриза. Оливер сказал мне потом: — У нас в стране радиаторы не замерзают. И если африканец покупает такую бутылку, все знают, для чего. К утру будет скокиан. Поток велосипедистов на Беатрис-роуд, проходящей между двумя самыми крупными локациями, ширился. Африканцы живут в стране велосипедов, белые — в стране автомашин. И здесь, в облаках пыли, плевков и взаимного безразличия, встречаются эти два мира. Мы сворачиваем у табачного рынка, «крупнейшего в мире», и едем мимо небольших фабрик к Хайфилду. Смеясь и жестикулируя, по обочине идут люди, среди них встречаются женщины, одетые довольно мило. Переполненный автобус с открытыми окнами отчаянными гудками пытается расчистить себе дорогу. Как обычно в африканских кварталах, на дороге здесь немало поломанных велосипедных спиц. Автобусы сворачивают к рынку, где под сенью сухих деревьев мсаса расположилось множество фруктовых ларьков. Над площадью стоит мелкая красная пыль; женщины уже закончили торговлю, мужчины, возвращающиеся домой, обходят низкие лавки, покупают мороженое и газету «Африкен дейли ньюс», Оливер указывает на небольшую лавчонку: — Там ты можешь купить дагга, если внушишь хозяину доверие. Полторы кроны за полную спичечную коробку. — Им набивают трубку? — Надо смешать его с каким-нибудь крепким табаком. Возьми «Стар» — три сигареты на два эре. Я вспомнил повара мистера Пэрди — он, очевидно, отравился гашишем. — А сам ты пробовал? — Несколько раз, — сказал Оливер. — Это, конечно, нарушение закона. Хозяин лавки в основном продает дагга из-под прилавка белым мальчишкам и девчонкам. Им, наверное, приходится хуже, чем нам. — Пресыщенность и равнодушие, — заметил я. — Старая истина. — Им не за что бороться, — продолжал Оливер. — А нам есть за что, и мы победим. Хотя не у всех африканцев хватает терпения. — И вы становитесь националистами? — Мы все националисты. А они становятся преступниками. Легко попадаются на удочку рекламы и нарядных витрин, а потом запутываются. Один мой знакомый, его зовут Петер, выращивает дагга между штокрозами у себя в саду. Он продает его шайке белых, которые орудуют в аптеке на Гордон-авеню. Я видел таких мальчишек и девчонок, о которых говорил Оливер. Девчонки — с вытатуированными на спине словами «I love Elvis»[14] и упивающиеся фотожурналом «Фотоплей»; мальчишки — разъезжающие на мотоциклах и старых плимутах с матрацами вместо задних сидений. Они были непременной принадлежностью Солсбери, как и любого другого современного города, но едва ли они гармонировали с теми районами, где красовались виллы европейцев. Многие из них недавно приехали из Англии; их родители нажили большие состояния в пригороде Хайфилд и предоставляли детям полную свободу. — Петер купил себе саксофон на деньги, вырученные от продажи дагга, — вновь заговорил Оливер, — один белый мальчишка поддался его уговорам и принес кларнет, другой трубу да еще утащил у отца бутылку коньяку. Ну и поиграли же они! Конечно, никто из них не решился рассказать об этом дома. — Недозволенное партнерство, — заметил я. — Кажется, это единственный путь. Дагга, спирт и преступность малолетних. Но, пожалуй, больше всего они любят джаз. — И не любят своих родителей. — Да, возьми, например, отца Петера. Старик приехал из резервации, он начинен мудростью своего племени— множеством моральных предписаний. Их хватило бы на целую Библию. Я сам слышал, как Петер сказалоднажды старику: «Щедрость и гостеприимство — это хорошо, но остальное ты можешь вышить на полотенце и повесить над кроватью. Мы живем в другом мире, ты должен научиться приспосабливаться». Потом он ушел за саксофоном, а старик все бормотал: «Дурные нравы, дурные нравы». — А родители белых ребят? — спросил я. — Это ремесленники, машинисты и тому подобные. Больше всего мы ненавидим эмигрантов. Ведь они отнимают у нас работу. А они ненавидят нас за то, что мы работаем так же хорошо, как и они. — Было бы лучше, если бы они увлекались джазом. — Ты, может быть, заметил, что все родители хотят уюта и денег, — продолжал Оливер, пока я объезжал спокойно разгуливающих по дороге кур. — А подростков, которые играют в Лондон или Бирмннгам, это мало интересует. Они предпочитают голодать, лишь бы купить себе старый драндулет. То же самое и с Петером. Несколько недель он жил на одном супе, заставил старика сдать свою комнату, а потом купил себе костюм, чтобы нравиться девчонкам. — Тебе бы быть социологом, — сказал я. — Гуннаром Мюрдалем, — широко улыбнулся Оливер, желая показать, что он знаком со Швецией. Мы с трудом пробирались по неровной дороге мимо стройных рядов прямоугольных домов Хайфилда. По дороге шли женщины с тяжелыми ношами. Ребятишки приветствовали нас или в страхе разбегались. Мужчины бросали на нас опасливые взгляды. Нас это не удивляло. Хайфилд был центром деятельности Африканского национального конгресса, и многие дома после операции «Солнечный восход», проведенной всего месяц назад, остались без хозяина. Оливер показывал дорогу, но становился все более молчаливым. — Тебе придется сделать большой крюк, — сказал он каким-то упавшим голосом. — Ничего, — нерешительно ответил я. Я думал, не следует ли мне высадить его, не доезжая до места. Вдруг Оливер остановил машину у маленького серого домика, похожего на тысячи других. Раньше мы с ним встречались лишь в уютных университетских комнатах и говорили о «Зимней сказке». Но сейчас мне хотелось сказать ему, что я не из тех, кого отпугивает бедность локаций. Я понимал, что в моем присутствии он смотрит на свой дом такими же глазами, какими, по его мнению, должен смотреть я, европеец. Он смутился, ему было неприятно, что он затащил меня сюда. Он как бы выставил напоказ то, что так ярко рассказывало о его детстве: и этот забор, и дверь, и пустую бочку в углу… В машине он говорил очень охотно — это был студент, жаждущий понять с детства знакомый ему мир. А сейчас этот мир уже не был объектом изучения; впервые он невольно стыдился своего дома, и в наших отношениях появился новый оттенок. У меня же было такое чувство, будто я приехал навестить родителей своего школьного друга. Мать Оливера, полная, суетливая женщина, увидев нас в открытую дверь, поспешно начала убирать со стульев газеты, обувь, одежду — все, что говорит о семейных буднях. — Если бы я только знала… такой беспорядок! Извините меня… Она пристально оглядела одежду сына: нет ли на ней пятен. Оливер смотрел на меня беспокойным взглядом. Мать и сын перебросились несколькими словами на языке шона. Мы пили апельсиновый сок и ели кекс. Родители Оливера не принадлежали к числу тех африканцев, которые обязательно предложили бы белому отобедать. Мне не пришлось выслушивать извинений по поводу того, что угощение слишком скудное, а самому произносить лицемерные заверения, убеждая, что все хорошо. Вошел отец Оливера и вежливо предложил сигарету, он тоже поговорил с сыном на своем языке и ушел. «Пусть молодежь останется наедине, им о многом надо поговорить» — тот же предлог, какой я часто слышал в школьные годы, то же любопытство, та же гордость за сына, который приводит домой товарища, и тот же интерес к незнакомому миру. В доме три комнаты, одна из них сдается за три фунта в месяц. Жители Хайфилда — в противоположность жителям Харари — выплачивают за дом в рассрочку и надеются когда-нибудь получить его в собственность. Хоть и тесно, но все же свое. А власти, чтобы вовремя получать деньги, даже принуждают семьи, и без того живущие в тесноте, брать постояльцев. У Оливера четыре сестры. Старшие были на работе, младшие играли во дворе. Все встают в разное время, а мать поднимается в половине пятого, чтобы успеть приготовить чай. Заниматься спокойно здесь невозможно и уж тем более изучать проблему внутренней рифмы в стихах Браунинга[15] или разбирать «Беовульфа»[16]. Дети спят на полу, женщины обычно шьют и разговаривают, мужчины, возвратясь с работы, поправляют заборы, а затем садятся на велосипеды и отправляются в бар, который открывается в половине седьмого. Здесь нет ни электричества, ни водопровода, а в десяти метрах от каждого дома примитивная уборная под навесом. Увлечение поэмой о Беовульфе или стихами Браунинга кажется здесь просто невероятным, тем более потому, что ни Беовульф, ни Браунинг не смогли бы перенести жестокость нашего времени. Но вещи, на первый взгляд ненужные, могут оказаться ценными в этом обществе, где все кричит о необходимости коренной перестройки. Они помогают человеку не превратиться в обывателя, занимающегося пережевыванием одних и тех же проблем, одних и тех же извечных забот. Для африканской молодежи пропасть между студенческой жизнью и жизнью у домашнего очага необычайно глубока. Но в духовном отношении эта пропасть велика и для многих белых родезийцев, как, впрочем почти всюду для студентов. — У моей сестры сегодня день рождения, — сказал Оливер. Раньше он не говорил мне о причине своего приезда сюда. Я понял, что он охотнее остался бы в своей университетской комнате, которой он гордился, и говорил бы о политике. Я медленно поехал домой через локацию, где мне не разрешалось быть. Было семь часов вечера, солнце уже зашло. Скоро я заблудился среди улиц без названий, среди домов с их анонимными четырехзначными номерами. Хайфилд еще более однообразен, чем Харари. Он почти целиком состоит из трущоб, хотя дома построены в пятидесятые годы. Но в то же время он и более красочен, потому что эти дома кроме белого и кирпично серого цветов имеют все оттенки, какие только можно найти в наборе детских красок. Я спросил молодого человека в узких синих брюках, как мне-ехать дальше. Не переставая играть на гитаре, он равнодушно покачал головой. Потом я обратился к человеку, терпеливо сидящему на деревянной скамейке в ожидании, пока его подстрижет доморощенный парикмахер. Он долго думал и наконец сказал, что мне придется сворачивать то вправо, то влево раз десять. Я чувствовал некоторую растерянность, лавируя между выбоинами на дороге. Было ясно, что я заблудился, но это меня не испугало Мне вспомнились северяне моего и старшего поколения, которые ездили по многим странам Средиземноморья; там они чувствовали свободу и вдоволь насыщались тем, чего им раньше так не хватало. Мне же слишком мало удалось пожить у Средиземного моря. Но то, чем других одаривала Греция, мне подарили локации Родезии, а позднее и Южной Африки. Болезнь любопытства была излечена. Для тех, кто жил там постоянно, я был всего лишь иностранцем, забредшим на короткое время. Мне же казалось, что я навсегда оставил там ту частицу самого себя, которая нигде не находила покоя. Наконец я выбрался на большую дорогу, ведущую к городу, с его заманчиво сверкавшими огнями.Тюремное воскресенье
В феврале и марте 1959 года в Родезии и Ньясаленде было арестовано около полутора тысяч африканцев, обвинявшихся в «политических преступлениях». По сообщению печати, в середине марта началось строительство лагеря для заключенных на две тысячи человек и так называемых «постоянных» лагерей на семьсот человек. Воскресным апрельским утром мы с женой поехали в тюрьму Кентакки, близ аэродрома под Солсбери. Дорогу туда было найти довольно трудно. Возле какого-то завода мы остановили одного белого. — Вы имеете в виду тюрьму для туземцев? Раньше никто не спрашивал о ней. Свернете вправо у бензоколонки Пита. От бензоколонки найти дорогу было уже нетрудно. Хотя дорожный знак предостерегал: «Проезда нет» — движение здесь было очень оживленным. Джошуа настоятельно советовал мне заняться изучением жизни африканцев, а сейчас эта жизнь кипела вокруг тюрем, как на базарных площадях. Я никак не ожидал, что в программу моей поездки, предусматривающей укрепление международного взаимопонимания, войдут лагеря для заключенных. Впрочем, мы с женой не ожидали увидеть многого из того, что составляет африканскую действительность, ведь истинного положения в стране мы не знали. Когда мы летели из Европы в Африку, я думал о зеленых горах, окутанных туманами, об одиночных бунгало и о странной судьбе людей, населяющих Африку. Мне предстояло жить среди них, общаться с ними, а потом, возможно, делать доклады об увиденной Африке, прилагая все усилия к тому, чтобы заставить кое-кого понять, что моя поездка не носила поверхностного характера, а действительно была попыткой проникнуть в самую душу страны. В противном случае я уподобился бы путешественнику, взирающему на Африку взглядом каменного леопарда с Килиманджаро. Мы поставили машину в сторонку и оставшуюся часть пути прошли пешком. Кроме нас здесь не было видно белых. Тюрьма выглядела почти идиллически. Колючая проволока затянута мешковиной, но она не скрывает ни низких обшитых железом бараков, ни палаток, ни людей, которые сидят на земле и пристально глядят перед собой. Кентакки — не настоящая тюрьма, а так называемый лагерь предварительного заключения, куда преступников привозят перед отправкой в более надежные места, здесь же остаются лишь наименее опасные из них. Я снял на кинопленку тюрьму и окружающую местность. Человек, сидевший с десятком других африканцев на открытом прицепе грузовика, окликнул меня: — Вы из «Лайф»? — Нет. — Репортер из «Лайф» хотел осмотреть Кентакки, но премьер-министр отказал ему. — Я не собираюсь проходить туда. Через мешковину и так все хорошо видно. — Смотрите, как бы не отняли аппарат, — сказал человек с прицепа. — Откуда вы знаете, что я снимаю не для министерства информации? — спросил я. — Сразу видно, — рассмеялся он. У тюремных ворот собралось много народу. Повсюду лежали велосипеды. Дети играли в песке, собирали пауков, карабкались на махобохобо, низкие деревца с крупными светло-зелеными листьями, чистили темно-золотистые плоды величиной с яблоко. — Солнечное яблоко, — сказал мне один из малышей. Я представил себе, что в этом плоде олицетворялись и национальный колорит, и будущее народа, и тепло, и пища. И скоро он должен был созреть. Женщины в ярких красных и зеленых платьях, с зонтиками, были трогательно нарядны. Многие с детьми, один во чреве, другой за спиной. Женщины стояли в ожидании у тюремных ворот. Они снимали привязанных к спине ребятишек, чтобы было видно, что там ничего не спрятано. Под раскаленным солнцем тюремная стража обыскивала их одежду, а на них было все самое лучшее — ведь они пришли на свидание к мужьям и, кроме того, было воскресенье. — Обычно в это время мы ходим в церковь, но вот уже шесть недель вместо этого мы берем еду и едем сюда, — объяснила мне одна из женщин. Возле тюрьмы — настоящий табор… Сумки, корзинки, ящики, мешки. Отметившись у надзирателя, друзья и родственники заключенных садятся под зонтами или в тени деревьев. Болтают, едят и играют в шахматы, рисуя фигуры на песке. Еда у всех одинаковая: фрукты, маис, хлеб. Большинство добиралось сюда на велосипедах, некоторые вскладчину наняли грузовую машину. Какой-то владелец автобуса приехал на такси. Его жена держит в руках пакет с сахаром. Она бережно пересчитывает кусочки и говорит другой женщине, которая смотрит на нее с завистью: «Этого хватит до следующего воскресенья, если, конечно, другие не разберут». Мы спрятались от солнца за грузовик. Несколько человек подсели к нам, начался разговор. Как обычно, знакомство завязалось легко. Меня удивило, что они отваживаются рассказывать о своих злоключениях так откровенно и так дружелюбно, даже не поинтересовавшись, на чьей я стороне. Цвет кожи должен был бы предостеречь их. — Я здесь уже пятый раз, — рассказывает прилично одетый мужчина. — Привез апельсиновый сок и банку сухого молока. Но там, в тюрьме, все придется перелить и пересыпать в миски. Заключенным нельзя передавать ни стеклянные, ни жестяные банки. — Вы не знаете, сколько их там продержат? — обратилась ко мне одна женщина, испытующе глядя мне в глаза. — Нет. — Мы не знаем, за что и на сколько их посадили, — продолжала она. — Я даже не знаю, оставаться ли мне сейчас в Солсбери. — Бог их знает, что они хотят внушить людям, — сказал я. — Может быть, их там перестреляют, — заметил кто-то. — На обед им дают, наверное, одну ботву, — сказал другой. — Моего друга Езекиля убили в Блантайре, — начал рассказывать мужчина в приличном костюме. — Я любил его как родного. Он ехал на велосипеде с сахарным тростником через плечо. Не могу понять, что вообразили резервисты; неужели они никогда не видели сахарный тростник? Они убили его. — Ведь должен же быть черный бог, — сказала женщина, — но он спит. Со стартовой площадки аэродрома поднялся самолет, сделал круг над лагерем и направился на Найроби и Лондон. Вероятно, никто из пассажиров не обратил внимания на тюрьму, ведь это не какой-нибудь древний замок. Пока самолет не скрылся из виду в северо-восточном направлении, мы смотрели на его серебристый след и думали о том, как огромны расстояния в этой стране: от озера Танганьика на севере до реки Лимпопо на юге столько же километров, сколько от Мальме до Неаполя, а от границы Анголы на западе до озера Ньяса на востоке столько же, сколько от Стокгольма до Полтавы. Маленькая девочка в голубом платьице до полу, сшитом с запасом еще года на два, попросила сфотографировать ее. — Берегись, он может быть из Си-Ай-Ди (уголовная полиция), — предостерег ее один из мужчин и рассмеялся, когда девочка вздрогнула. Она уже знала, что это значит. Они могли острить как угодно. Здесь не плакали и не впадали в отчаяние, обстановка не напоминала о страшных человеческих трагедиях, связанных с нацистским гестапо, но все было так глупо, сумасбродство правящих кругов было так очевидно. — Немало времени им потребовалось, чтобы построить этот лагерь, — подшучивали вокруг. Мы просидели несколько часов в тени грузовика. Было нестерпимо жарко. Время от времени стража выкрикивала чье-нибудь имя. Молодая женщина, сидевшая подле меня, поднялась. — В прошлое воскресенье я прождала десять часов, — сказала она. Ее муж сапожник. Она развернула пакет с едой и выбросила газету. Даже преданную правительству «Родезии геральд» нельзя было передавать заключенным — она могла оказаться источником запрещенных новостей. Из тюрьмы раздался пронзительный детский крик: наверное, какой-то малыш испугался заросшего бородой отца. Люди продолжали ждать. Они с малых лет привыкли к оскорблениям со стороны белых. Сейчас это просто одна из их многочисленных причуд, наверное, думали они. Так, во всяком случае, казалось мне, когда я смотрел на этих добродушных людей, собравшихся словно на пикник. В этой сцене не было ничего потрясающего, только остро ощущалось общее чувство тревожной неуверенности: ведь правительство могло без суда и следствия продержать арестованных за решеткой хоть пять лет подряд. Дети, сидящие за спинами матерей, могли вырасти и отвыкнуть от отцов; видеть своего отца всего несколько минут по воскресеньям — почти так же бесполезно, как бегать к старому дубу и бросать в дупло монету. Но трудно угадать, что станет с Африкой через пять лет; все может измениться за одну неделю или даже за одну ночь. Через редкую мешковину мы видели заключенных: одни из них бродили по лагерю, другие сидели прямо на земле, ожидая кого-то или чего-то. Делать им абсолютно нечего — закон о принудительных работах не распространялся на политических заключенных. А жара была такая, что даже песок раскалился. Я подошел к одной из дырок в мешковине; по другую сторону стоял мужчина в серых брюках, верхняя часть его тела была обнажена. — Заходите! Вы можете кое-что услышать. — Не разрешают, — сказал я. — Значит, вы понимаете, что здесь не все чисто, — сказал он быстро и потом добавил: — Привезите мне книг. Я хотел бы к новому году поступить учиться заочно. Но здесь только брошюрки MRA[17]. Кто-то толкнул меня в спину. Стражник — африканец с дубинкой сказал, что нельзя разговаривать, и спросил: — Что он сказал вам? — Ничего. — Уходите! Я все равно узнаю, что он хотел сказать. — Я только поздоровался с ним, — постарался я успокоить стражника. — Во всем виноват я. Из тюрьмы вышла молодая женщина. Она была грустна. — Дома у него настоящая кровать, — сказала она. — А здесь он спит на койке какого-нибудь убийцы или вора, а настоящих преступников они перевели в другую тюрьму. Дома мы не едим бобы и маисовую кашу, но здесь ничего другого не дают; они думают, что все африканцы едят только это. — Ты видела еще кого-нибудь? — спросили ее. — Я узнала только Саломона Чебе, больше никого. Никто не знал точно, кто там сидит. Правительство отказалось опубликовать их имена; запросы журналистов остались без ответа; одни только жены знали, где их мужья. Все это было плохо продумано, потому что те, кто сидели здесь, стали невинно пострадавшими героями с анонимной славой: о них рассказывали самые фантастические истории, в которые, как обычно, прежде всего верило само правительство. — Вам удалось поговорить с мужем? — обратился я к женщине. — Три минуты. Около нас стояли белый полицейский, охранник из африканцев и человек из уголовной полиции. Сначала мы шептались, тогда они подошли ближе. Нам не удалось поговорить ни о чем важном. Я ждала этой встречи целую неделю, но, увидев его, словно окаменела. «Говори, говори», — шептал мне тот, из уголовной полиции. Три минуты — я успела сказать только, что наш малыш передает ему привет, что я со всем справлюсь, что мы не голодаем, и что малыш простудился. Ей предстоял двадцатикилометровый путь домой в Харари. — Я не сказала ему, что опять жду ребенка, — добавила она. — Я не могла при посторонних. Задушевность африканцев здесь, у колючей проволоки, заставила нас с еще большей неприязнью думать о тех, кто управляет Центральной Африкой. Они выбрали неудачный способ завоевать доверие народа. Концентрационные лагеря для политических заключенных, пусть даже и не такие, как у Гитлера, — вот единственное достижение Федерации. Газеты уже неделями молчали об этом, охотно разглагольствуя, однако, о блестящих перспективах акционерного общества Карибской плотины. Но я уверен, придет день — и это будет скоро, — когда за руль станет тот, кто покончит с этим трагическим спектаклем, кто сильными ударами гребного вала, оставляя за кормой медленно накатывающиеся волны, всколыхнет косность и невежество, процветающие в этой стране. Мы подвезли молодую женщину поближе к городу. Она знала, что мы иностранцы, это, очевидно, было для нее достаточным основанием, чтобы верить нам. Мы же знали о ней только то, что она жена сапожника из Харари.Колониальное воскресенье
Мы высадили женщину у футбольного поля, где играли две африканские команды. Ее сын был уже среди зрителей. Дальше мы ехали одни и вскоре выехали на Кингсуэй. Я вспомнил воскресный вид континентальных городов: летом там широко открыты двери кафе и фруктовых лавок. Но Солсбери — английский провинциальный город, и в воскресенье он настолько мрачен, что чувство собственной неудовлетворенности воспринимается, как нечто мистическое. Мы подъехали к «Le Gourmet» — магазину деликатесов на углу Секонд-стрит и Джеймсон-авеню. Это единственное место, где в воскресенье можно что-нибудь купить или посидеть за порцией мороженого. Здесь мы встретили несколько белых семей. Показывая на витрину, ребятишки просили: — Папа, можно вот это? Но высокие фигуры родителей над их головами молчат: зачем исполнять детские капризы, ведь себе-то родители отказывают во всем, к тому же дети вырастают из своих желаний так же быстро, как из старых платьев. Когда они вырастут и станут такими же большими, как их папы и мамы, они годами будут ходить в одном платье и у них не будет ни новых желаний, ни ожиданий. Вот они переходят улицу и останавливаются у витрины отдела пропаганды правительственной партии. На стене предвыборный плакат — держа за руки белых ребятишек, сэр Рой вступает в светлое будущее Африки. Но ребятишки на улице безучастны, у них этот плакат, кажется, не вызывает никаких чувств. Потом мы поехали по Родс-авеню и остановились у городского парка, недалеко от улицы, на которой жили. Здесь, среди деревьев и цветочных клумб, играют в кегли; здесь царит европейская жизнь. Кегли — самый распространенный вид спорта в колониях. Мужчины одеты в белые костюмы, женщины в грубой обуви и похожи на медсестер. Многих из них я знал по спортивному клубу, клубу Ротари и другим местам, но имен не помнил. В памяти остались названия фирм: «Машоналенд Тобакко», «Лобело бисквит», «Атомик Бэттери», «Родезиа Арт Ферниче», «Фисонс Пост контрол», «Саут Африкэн Тимбер», «Салтрама Пластике», «Замбези Кейн»… Хотя игра была совсем не напряженной, ей сопутствовала молчаливая серьезность: в зубах игроков, когда они сходили с дорожек и выпускали из рук разрисованный кругами шар, дрожали трубки. Специальные ботинки с шипами на подошвах оставляли следы на зеленом поле. Экономические кризисы и многие годы сидения на стульях неправильной формы сделали животы этих мужчин круглыми, как подушки, а лица словно окаменевшими. У дорожек расположились дамы, они охраняли куртки мужей и обсуждали хлопчатобумажные платья — последние новинки из салона мод Барбур, недавно полученные из Европы. Некоторые жаловались на то, что жизнь в стране становится все дороже и дороже. — Скоро уже, наверное, не поживешь, как хотелось бы. Ведь и сейчас трудно: всего 2500 крон в месяц, а нас четверо! Нет, так не пойдет. Мы уедем домой. У нас уже достаточно накоплено. — Выдали бы дивиденды в компании Карибской плотины! А вы знаете, что делается на медных рудниках! Впервые в жизни я увидела там безработных европейцев. — Я хотела дать 100 крон театральному клубу Крэнборнгского училища. Они собирались поставить «Святую деву на Горе», и мой мальчик должен был участвовать в пьесе. Но муж сказал, что это нам не по средствам. Я заметил, как кто-то направился в мою сторону. — Посмотрите, да ведь это наш ротариец! Ну как, играли сегодня утром в теннис? — Мы были в Кентакки, — ответил я. — А, вы провожали знакомых. Для белых Кентакки — название крупнейшего аэродрома Федерации, для черных — это название тюрьмы. Аэродром и тюрьма находятся всего лишь в нескольких сотнях метров друг от друга, но содержание, вкладываемое в это название белыми и африканцами, измеряет расстояние между ними, между свободой и насилием в Центральной Африке.* * *
Поздно вечером в то же воскресенье мы проехали еще раз мимо городского парка. К этому времени воздух наполнился ароматом цветов и звуками военного оркестра королевских вооруженных сил, который вернулся из Ньясаленда и расположился на площадке музыкального павильона. У ограды парка стоял старик в лохмотьях и продавал плоды дынного дерева подъезжавшим в машинах посетителям. Мы ехали в Мабелрейн, в одну из загородных гостиниц, на традиционный вечер солнечного заката, так называемый сандаунер. Сандаунер — обычная форма общения в Родезии: напитки, бутерброды и вошедший в последнее время в моду стол с самообслуживанием. После дневного сна и купания в бассейне люди приезжают сюда отдохнувшими и полными ожиданий. Незнакомые быстро становятся сердечными друзьями — классовые грани, такие резкие в Англии, мало заметны в Федерации. Какая-то пара, узнав, что мы в стране недавно, пригласила нас к своему столику. Мы не представились друг другу, а если бы даже и представились, то и тогда чувствовали бы себя безымянными, так же как на коктейлях, где никто не знакомит тебя с присутствующими, где люди чаще всего обмениваются лишь беглыми приветствиями. Мужчина без пиджака, стоящий рядом с женой в темно-красном шелковом платье, объяснил: — Мы здесь не намного дольше, чем вы. Мы, конечно, могли бы поехать и в Канаду. Но сначала решили изучить, где и сколько может заработать европеец-строитель. Оказалось, что в Южной Родезии больше, чем в Австралии и Канаде. — Почти в два раза больше, чем в Англии, — добавила супруга. — Мы слышали, что в Африке жизненный уровень цивилизованных самый высокий в мире, — заметил супруг. Он налил мне рюмку вина, продолжая рассказывать о том, что они только что вернулись из Мазое Вэлли, где провели утро в пансионате «Ред Робин гест фарм». — Это было изумительное утро, — восторгалась жена. — Я каталась на лошади и плавала, а Джеймс играл в гольф. Мадам де ля Харп прекрасно готовит. — Да, действительно чудесно, — согласился муж. — Первое время, пока не привыкнешь к жаре, приходится вставать очень рано, не правда ли? К нам подсел хозяин дома и рассказал, как за два дня до этого сбежал его поваренок, унеся с собой в чемодане фрак, штопор и ночной фонарь. Хозяин тщетно старался догнать его на машине. А в субботу приходил один из друзей хозяина и сообщил, что на улице он случайно увидел какую-то странную фигуру в огромном костюме и белой жилетке, с орхидеей на груди. Но пока он сообразил, что это разыскиваемый поваренок, тот уже исчез. Больше его никто не видел. Поваренок до сих пор, наверное, блуждает по красным дорогам Родезии в этом наряде. — На днях мне захотелось выпить чаю, а Джеймсу кофе, — рассказывала женщина, недавно приехавшая в страну на постоянное жительство. — И можете себе представить, наш слуга смешал кофе с чаем в одном чайнике! Казалось, будто по мановению чьей-то руки все люди, поселявшиеся в Родезии, сразу же по приезде теряли что-то очень важное в своей индивидуальности и становились зеркальным отражением друг друга. Они сами не замечали этих изменений и видели лишь, что их друзья были такими же, как и они. Я думал об этом, глядя на полк оловянных солдатиков в военной форме буров, стоявших на полке у стены; хозяин сам выплавил их. Правда, люди, сидевшие вокруг меня, были по-разному одеты и лица их не были похожи. А может, я ошибался, думая об их единообразии. — Я доволен своей жизнью здесь, доволен, доволен! — кто-то сказал за моей спиной так громко, что уже в самом тоне чувствовалось сомнение в справедливости этих слов. — Меня зовут Грейлинг, — представился он, когда я обернулся. Он допивал большой стакан виски и убеждал какого-то молодого человека в том, что во всем виноваты политики. Сам он жил в Африке, чтобы пить, ездить верхом и наслаждаться жизнью. Его собеседник сказал что-то о том, что уже не то время, чтобы делить мир на различные расы, и это надо понять некоторым государствам. Но мистеру Грейлингу это показалось слишком сложным, он лишь насмешливо улыбнулся и нетерпеливо произнес: «Та-та-та!» Я наблюдал за всеми так, будто я член тайной организации, подыскивающий кому можно довериться. Горькая усмешка молодого человека, которого покинул мистер Грейлинг, внушала доверие. Его звали Ронни Мур, он вырос в горах Медного пояса, окончил школу-интернат в Солсбери и только что получил в Англии диплом инженера-строителя. Он был первым свободомыслящим белым, с которым я встретился вне университета. Здесь, на веранде гостиницы Мабелрейн, он грустно заявил, что Родезия оказалась в плену ложных представлений и искусственных построений. — Будь ты не умнее утки, но если ты сможешь отбить атаки центра нападения на футбольном поле — ничто не помешает твоему блестящему будущему. Спорт здесь — всеобщая страсть и своего рода религия, точно так же, как в Южной Африке. Посмотрите газеты! Все колонки пестрят отчетами о встречах между безнадежно слабыми местными командами. Футбол, охота, табачные ярмарки, спиртные напитки, невежество — и все это теперь, когда страна готова взорваться от уймы неразрешенных проблем. — Почему же тогда мы здесь, почему сидим и пьем? — спросил я. — Чтобы заслужить доверие общества, — продолжал Ронни Мур. — Это необходимо. Вот и я здесь. И больше всего злит меня то, что мы пребываем в состоянии ка кой-то спячки. Он рассказал об одном случае из своего детства. Когда он и другие школьники ехали к началу занятий в Солсбери (это было в сороковые годы), дети местных жителей собрались у остановившегося поезда. Они подошли к вагонам, из окон которых выглядывали белые мальчишки, и стали просить монету или конфету. Мальчишки высунули руки, будто хотели дать что-то, но когда один из африканских ребятишек был уже близко, они стали плевать, состязаясь, кто попадет ему прямо в глаз. — Когда я вспоминаю, какими мы были тогда, я начинаю кое-что понимать из происходящего сейчас. Затем Ронни Мур исчез в толпе, и больше я его не видел. Сандаунер вновь стал для меня безымянным — лица, реплики, все новые и новые тосты. Внимание ослабло, я перестал различать, что говорят и что происходит вокруг. Свет с веранды освещал траву, во мраке оставались лишь гроты под деревьями, напоминавшими буки; до них не доставал даже свет от фар машин, проходивших по дороге. Хозяин, показывая на клумбы, рассказывал, что саженцы он привез из Англии, луковицы из Хиллегома и т. д. Уже наступил тот час, когда пары танцуют, не замечая других, под звуки граммофона, доносящиеся из соседней комнаты, и когда жены жалуются на педантизм своих мужей или на их привычку играть в гольф до одиннадцати часов вечера. Уже кончились бутербродики с сардинами, яйцом, немецкой икрой, паштетом и колбасой, остались только миндаль и арахис. Хозяйка еще не успела умчаться на кухню, открыть там холодильник и, поразившись исчезновению припасов, в отчаянии собрать остатки кэрри и поджарить яичницу. На этой стадии легко заметить, как, скользя с одной темы на другую, голоса становятся все громче и напоминают всплески огромного чудовища, посаженного в мелководный пруд. Две-три дамы храбро улыбаются и изо всех сил стараются удержаться на своей теме, но тщетно. Что же случилось? Помню голоса, изменившуюся атмосферу, хозяйку, которая начала сомневаться в необходимости кэрри, помню, как я сам и все остальные старались перекричать друг друга, приводя свои факты, подхваченные слухи и доводы. Но о чем мы говорили? О смешанных браках или об абсолютном отсутствии у африканцев чувства благодарности к белым за то, что те не истребили их ни огнестрельным оружием, ни огненной водой, а, наоборот, бесплатно предоставили им все блага цивилизации? Нет, это были разговоры о государственном проекте сделать футбольное поле для африканцев: рабочих и слуг, живущих в городе. Разве у черных без этого мало развлечений? Как же будут наши маленькие девочки ходить одни из школы? Ведь страшно будет пройти по улице! Цены на участки, конечно, упадут, и сюда уже не поедут благовоспитанные люди. Кто возглавит депутацию в правительство? Кто напишет письмо в «Таймс» и предостережет эмигрантов от приезда в страну? Кто решится заставить члена парламента из предместья поставить вопрос о перевыборах? Взволнованный тон многих разговоров в Родезии чаще всего объясняется тем, что люди не замечают, как одинаково они смотрят на большинство проблем. Все любят спорить, но не имеют противников, и поэтому даже самые незначительные различия во взглядах раздуваются и даже отражаются на дружбе. Конечно, этому способствует также разреженный высокогорный воздух — в стране, где нет освежающего моря. Люди чувствуют себя здесь слегка опьяненными, и хотя они утверждают, что обеими ногами стоят на земле, на самом же деле они постоянно находятся в каком-то тумане непонятной для них действительности. Они считают, что весь мир должен быть потрясен теми несправедливостями, которые им приходится терпеть. Но мир идет другими путями, удаляясь от них. Расходясь, мы похлопывали друг друга по спинам, растаптывали окурки на каменных ступеньках лестницы. Кто-то никак не мог завести машину; кто-то, уговорив сначала одного подвезти себя в город, потом решил поехать с другим. Возбуждение долго не покидало нас, и мы заснули лишь тогда, когда солнце всходило над серовато-синими холмами.Стенли — политический заключенный
Джошуа Мутсинги знал обо всем, что происходило в африканском мире. Однажды вечером он сказал мне, что правительство выпустило из Кентакки нескольких политических заключенных; их число сообщат позже, но имена так и останутся неизвестны. Среди освобожденных был его друг Стенли Самуриво. Джошуа уже послал ему письмо, в котором рассказал о нас. — Поезжайте туда как можно раньше, — сказал он, передавая карту. — Сыщики, наверное, сторожат дом, но Стенли их узнает. На следующее утро в половине шестого, когда весь «белый город» еще спал, мы выехали в Хайфилд. На лестнице дома Стенли сидели маленькие девочки; их курчавые волосы были старательно расчесаны и уложены волнами с помощью папильоток. Мужчины возились у велосипедов. Стенли пригласил нас в свой двухкомнатный домик. Его жена стояла у печи, подкладывая в огонь ветки дерева мсаса и помешивая кашу из белых бобов. Один из друзей Стенли, в хорошо отутюженном коричневом костюме, в очках, пил чай с поджаренными хлебцами. Недалеко от дома сидели товарищи Стенли, около десяти человек, пришедшие поздравить его с возвращением и послушать о тюрьме, пребывание в которой в Южной Родезии стало неизбежной стадией в воспитании образованного африканца. Кто-то подарил Стенли коричневого петуха. Африканец из Ньясаленда, обосновавшийся сейчас в Хайфилде, принес ему лекарства из трав. Стенли — круглолицый тридцатилетний мужчина со щетинистыми усиками. Он совсем не выглядел надломленным, наоборот, казалось, что он возвратился не из тюрьмы, а из успешной экспедиции. Он был рад рассказать о своих переживаниях, ведь он надеялся, что иностранная пресса должна заинтересоваться тем, что происходит в тюрьмах Родезии. Пресса же проявляла мало интереса. Только один я выразил желание поговорить с бывшим заключенным — и то по чистой случайности, так как все события держались в абсолютной тайне. Газеты Родезии молчали, а заграница была занята событиями в Алжире, Кении и традиционными жестокостями, происходившими в Южной Африке. Судьба Стенли типична: многие из лучших представителей африканской интеллигенции, ремесленников, рабочих и крестьян провели большую или меньшую часть 1959 года примерно так, как он. Его судьба типична и потому, что он никогда не был выдающейся личностью. Он не выступал на политических собраниях, его имя не упоминалось в газетах. Он был всего лишь членом хайфилдского союза квартиросъемщиков, который пожаловался премьер-министру на бесчисленные предписания, фактически превращавшие африканцев, обитателей локаций, в заключенных. Подобное обжалование оставалось законным и после введения чрезвычайного положения в стране. После школы Стенли окончил заочно торговые курсы и стал работать бухгалтером на одной из фабрик. Он очень хорошо относился к своему белому начальнику конторы. Многие сидели или продолжают сидеть в тюрьме за то, что были политическими руководителями и выступали против существующего порядка в стране; они были преданы своему делу, они старались решить судьбу Африки, никогда не рассчитывая на вознаграждение за свой адский труд. Но сотни мужчин и женщин даже и не думали о подобной борьбе. Стенли просто искал свое счастье, без единой мысли о бескорыстном самопожертвовании. Конечно, как и все образованные африканцы, он симпатизировал стремлению Конгресса добиться большего равенства, но заключить его за это в тюрьму — все равно что посадить не сэра Роя, а одного из его избирателей. То, что правительство не решается вступить в открытый бой с африканской оппозицией, говорит о его политической слепоте. Но когда множество людей, подобных Стенли, не могут жить своей собственной жизнью, тогда эта политическая слепота еще более серьезна, если даже ее труднее обнаружить. И, конечно, большее сочувствие может вызвать тот, кто страдает за доброе дело, чем тот, кто не хочет страдать ни за что. Поэтому — как сказал Джон Рид в университете — легче протестовать против действий правительства, которое открыто заявляет о своих дурных намерениях, чем против правительства, которое каждый раз совершенно беспринципно ищет самый простой выход из любого положения, а затем лицемерно оправдывает его, правительства, которое, стремясь бежать от одной неприятности, неизбежно попадает в другую, отказывается от законности во имя так называемого порядка и ценой безопасности личности пытается обеспечить безопасность государства. Ведь «наше беспокойство и возмущение не всегда являются лучшим мерилом опасности, угрожающей нам». 26 февраля в три часа утра кто-то постучал, — рассказывал Стенли Самуриво. Он проснулся от звона разбитого стекла, зажег свет и подошел к двери. Когда он открыл ее, на его руке защелкнулся наручник. Вошел белый полицейский и надел наручник на другую руку. Без единого слова он ринулся к жене Стенли и двухлетнему сыну. — Итак, здесь только Самуриво, других в доме нет? — заревел полицейский. Он явился в сопровождении белого сыщика и троих полицейских-африканцев. Все были вооружены. Начался обыск. Жена Стенли торопливо накинула халат, сын заплакал. Стенли стоял в наручниках. Полицейские швыряли в мешок книги, бумаги, карандаши. — Я вернусь сегодня, — сказал Стенли жене. — Это какое-то недоразумение. — Может быть, возьмешь зубную щетку? — спросила жена. — Пожалуй, стоит. Насколько мне известно, он не вернется сегодня, — заметил один из полицейских. Стенли помогли сменить пижамные штаны на брюки цвета хаки. — Скажи мне, что ты сделал? — умоляла жена со слезами на глазах. — Я ничего не понимаю, — отвечал Стенли. Его повели к грузовику, затем поехали дальше — забирать других. Один из арестованных рассказал, что во время его ареста полицейские выломали окна и двери и толкнули его жену так, что она упала. Было совсем темно, когда арестованных привезли в полицейский участок в Солсбери. Чиновники в гражданских платьях разбили их на группы. Против каждой фамилии в списке ставились звездочки — от одной до четырех. Стенли получил две звездочки. Им сообщили, что отныне они заключенные и не имеют права задавать вопросы или обращаться с жалобами. Затем наручники сняли. Садиться не разрешалось. Рассвело, арестованные начали различать лица друг друга. Кто-то шепнул, что у него три звездочки, так как он за неделю до этого организовал ячейку Конгресса. Только тут Стенли понял, что он политический заключенный. В полдень на них снова надели наручники, сковали по твое, посадили в грузовики, а свободные руки приковали к железной балке в кузове. Цепи лежали на коленях. Люди не имели ни малейшего представления, куда их повезут. Один из полицейских сказал Стенли: — Встретишь своих друзей. — Где они? — Погоди, увидишь! Машина остановилась, они вылезли из кузова и прошли между двумя рядами солдат. Их привезли в тюрьму Кентакки. Заключенные спрашивали друг друга: что произошло в Южной Родезии? Убийство? Поджог автомашины? Вскоре они узнали, что в стране ровным счетом ничего не случилось — можно сказать даже, не было пролито ни одного стакана воды. Просто правительство решило осуществить профилактическое мероприятие, чтобы, по выражению полицейского, «поставить вас, негодяев, на колени». За Южной Родезией наступила очередь Ньясаленда. Менее опасные преступники были размещены в просторных открытых помещениях Кентакки; многие опасные для государства «твердые орешки» увезены в Булавайо, в тюрьму Кхани, где все было подготовлено к длительному заключению. Больше уже ничто не угрожало срыву тайных планов белых, и в эти предрассветные часы самолеты Федерации могли в любую минуту подняться в воздух, а армия Южной Родезии спокойно вступить в Ньясаленд. Сначала в камере было сорок четыре человека, на следующий день стало шестьдесят три. Спали прямо на цементном полу. Вместо матрацев и подушек каждому заключенному полагались одеяла. У Стенли с собой не было ни пижамы, ни смены белья. Первые три дня выходить запрещалось, потом разрешили часовую прогулку, а через месяц позволили быть на воздухе целый день. Три недели не давали ложек, ели прямо из кружек и Жестяных тарелок. На завтрак — каша и бобы, на обед — чаще всего коровьи потроха и маисовая каша, которую приносили в больших глиняных чанах. Один из заключенных раскладывал холодную кашу прямо руками. Через две недели к каше стали давать снятое молоко, кусочек хлеба и кофе без сахара. На второй или третий день начались допросы. После допроса переводили в другое помещение, где постепенно все снова собирались. На допросах присутствовали два белых и два черных сыщика, черные больше как переводчики. Каждому задавали двадцать восемь вопросов. Вот некоторые из них: Кто рассказал вам о Конгрессе? Кто ваши друзья вне Конгресса? Читаете ли вы книги о Гане и Египте? Одобряете ли Федерацию? Ездили ли куда-нибудь и зачем? В Гану или Египет? Слушаете ли радиопередачи из Каира и Москвы? Есть ли у вас белые друзья в Федерации? Что это за дружба, с политической целью? Ходили ли вы к ним в гости, если да, то зачем? Что вы знаете о коммунизме? (Стенли ответил на этот вопрос: это правительственная система в России; тогда последовал новый вопрос: откуда вы это знаете? — узнал в школе.) Есть ли у вас оружие? Собираетесь ли вы применить насилие? (Стенли ответил: самое большое «насилие», которое предусматривается конституцией Конгресса, — это проект общих школ для белых и черных). Самыми главными вопросами считались: Сообщали ли вы когда-нибудь полиции о Конгрессе? А если бы Конгресс перешел к насилию, сообщили бы? Ответ «да» означал возможность быть отпущенным. Допрос проходил пять часов, затем заключенного фотографировали и снимали отпечатки пальцев. Первые две недели читать было нечего. Потом появились представители «морального перевооружения» и с разрешения правительства завалили заключенных брошюрами, в которыхизображались молящиеся о примирении африканцы с воздетыми к небу руками. Политические заключенные презирали это движение. Но иногда ему удавалось сломить даже таких африканцев, которые долгое время не признавали компромиссов в борьбе против предрассудков и несправедливости, и превратить их в безвольные существа, которые молились за «заблуждающихся белых» и видели во всем проявление воли божьей. Через пять недель стала поступать настоящая литература. Книги, которые собирали и посылали для заключенных их друзья, сначала перечитывались властями — и не без пользы: они пополняли свое образование. Диккенса, Джейна Остена и всякого рода поэзию пропускали, но такие произведения, как, например, роман Достоевского «Преступление и наказание», запрещали. Заключенные могли помыться в душе, но полотенец при этом не полагалось. У многих, не привыкших к тюремной пище, в первые же дни началась дизентерия. Одного старика, которому было уже за 80, отпустили из тюрьмы только после месяца заключения. Когда бы в четырех бараках Кентакки ни появлялись охранники, там должна была быть абсолютная тишина. За несложенное одеяло или другое нарушение порядка виновника били прикладом. Постепенно узники привыкли к дисциплине, и нарушений не стало. Собрания проводились тайно; каждый барак выбирал своего уполномоченного, который должен был высказать все жалобы интенданту. Через некоторое время эти уполномоченные, как самые «закоренелые», были отправлены в Кхами. Но начатое дело продолжали другие, они требовали ложек, мыла, фруктов, хлеба, масла, полотенец. Они угрожали голодовкой. Они знали, что имели право требовать, ведь они были арестованы без суда и по политическим мотивам. Наконец в апреле стало немного лучше. Сильные подбадривали слабых, которые едва ли знали, что такое политика, и хотели лишь вернуться к своему хозяйству. Заключенный священник читал вслух Библию и молитвы, заканчивая их словами: «Господи, зачем нас угнетают в нашей собственной стране? Разве плохо, Отец наш, когда человек просит отдать то, что когда-то дал взаймы?» — Kutadza here, baba, каnа munhu achireva chikwere ti chake? Первые недели были особенно трудными. Всех мучила неизвестность: что с семьей, не выслали ли ее? Не начался ли в стране неожиданный террор? Не были ли белые хуже, чем можно предполагать? Не заняла ли южноафриканская армия страну и неужели Англия ни чего не могла сделать? Письма писать не разрешалось, получать тоже. С белым так никто не обходился, даже если он убийца. Стенли познакомился с товарищами по бараку. Среди них священник, водитель автобуса, часовщик, ректор, учитель народной школы, владелец магазина, рабочие и крестьяне из резервации, но здесь не было никого из прислуги в домах белых. Никто из заключенных никогда не думал о политической карьере и о возможности быть посаженным в тюрьму. Они не мечтали стать ни святыми, ни мучениками. И их эта неволя обижала и унижала гораздо сильнее, чем активных политических деятелей. На свидания начали приходить жены, дети, родственники. Африканцы-стражники тайком приносили газеты. Заключенным стало известно, что правительство не смогло найти обвинений, чтобы отдать их под суд, и поэтому стало срочно готовить новые законы. Они прочитали также заявление сэра Эдгара Уайтхеда, в котором большинство заключенных характеризовались как люди без определенных занятий, как потенциальные преступники. И они поняли, что общественность уже через какую-нибудь неделю после этого события забыла об их существовании, хотя законы, готовившиеся в связи с их арестом, вызвали большой переполох. Печатных списков заключенных не существовало, да пресса и не пыталась их получить. Если же на страницы газет и попало несколько имен, то лишь немногие европейцы обратили на них внимание — такова здесь пропасть между белыми и африканцами. Чтобы вернуть заключенного на праведный путь, к каждому из них приставили одного африканца и четырех белых. Сменяя друг друга, они увещевали «заблудшего еретика», перечисляя различные благодеяния правительства. Цитируя, например, для Стенли высказывания сэра Роя, они убеждали его согласиться с тем, что для создания в стране благополучия нужно сначала добиться экономических успехов. На это Стенли заявил им: пока степень этих успехов будет определяться только одними белыми, экономические проблемы страны будут оставаться политическими. Тогда на помощь пришел психолог с вопросником, и в конце концов заключенный вынужден был признать, что был околдован дьяволом. Раскаяние было первым шагом к свободе. Искусно разыграв признание, многие надеялись освободиться и начать все сначала. Но теперь они уже попадут под надзор тайной полиции, у которой длинная память: в феврале она навестила даже белых социалистов периода тридцатых годов и второй мировой войны, людей, которые давно уже отошли от политики и стали богатыми предпринимателями, — она это сделала для того, чтобы те не подумали, что их забыли. Месяца через два Стенли и некоторые другие были выпущены на свободу. Их сочли безопасными и недостойными внимания закрытого трибунала. Автобус, на котором их увезли, сделал большой круг, прежде чем направиться в Хайфилд, — таким образом, никто не заметил, что они приехали прямо из Кентакки. Ни о причине своего ареста, ни о причине освобождения Стенли так никогда и не узнал. Конгресс был распущен, африканская оппозиция объявлена вне закона. Сэр Рой заявил: «Экстремистам, сторонникам крайних мер, которые несут всю ответственность за чрезвычайное положение в стране, вряд ли удастся прервать нашу работу по созданию настоящего партнерства между расами». Я спросил жену Стенли, как она провела все это время. Первые пять дней она ничего не знала о муже. Потом в локации появился какой-то вежливый чиновник и сказал, что правительство позаботится о ней. Она стала получать по 30 крон в неделю, за что должна была восхвалять доброту правительства перед мужем, когда тот вернется. Этих денег не хватало даже на оплату квартиры. Она хотела устроиться на работу, но не на кого было оставить ребенка. В конце концов она заболела. Так никто и не смог сказать ей, вернется ли Стенли раньше чем через пять лет. Ее соседки находились в таком же положении. Многие из них уже давно не виделись с мужьями, ведь Кентакки находится в пятидесяти километрах от них. Одни не имели денег, чтобы поехать туда, другие не решались отпрашиваться с работы — ведь надо было объяснить причину. (Когда одна женщина из «Христианского движения» ходила по домам, многие боялись говорить о себе— они думали, что она из тайной полиции.) Теперь Стенли вернулся, и жена весело хлопотала у плиты. Окно, разбитое полицией, так и не вставлено; не вернули ему и документов, конфискованных при обыске, — свидетельство об образовании, шоферские права и другие. — Давайте лучше поедем куда-нибудь, — неожиданно сказал Стенли. — Могут появиться сыщики. Он рассказал, что Си-Ай-Ди, уголовная полиция, повсюду имеет сыщиков: белых — на собраниях белых, черных — на сходках черных. Последнее время многих часто арестовывают и держат неделю, подозревая их в принадлежности к Конгрессу, а затем отпускают безо всякого извинения, хотя после этого люди становятся безработными. Причина же очень простая — шпики в надежде на вознаграждение извращают самые невинные высказывания. Си-Ай-Ди испытывает большие затруднения в вербовке хоть сколько-нибудь образованных африканцев, хотя и предлагает солидное вознаграждение. Завербованные же неграмотные африканцы, не знающие ни английского, ни языка шона, делают ошибки одну за другой, ошибки, над которыми можно было бы посмеяться, если бы цена человеческих страданий не была такой высокой. «Африкэн дейли ньюс» писала как-то о собрании, где стоял вопрос об электростанции: «Самым прилежным на собрании был тайный осведомитель из Си-Ай-Ди; он сидел на четвертой скамье». — Поедем в город, — предложил Стенли. — Надо же мне попытаться найти работу. — Надеюсь, тебе повезет, — сказала жена. Мы поехали в редакцию газеты «Африкэн ньюспейпер», которая располагалась у железной дороги в современном здании. Через черный ход по витой лестнице мы прошли в комнаты, занимаемые сотрудниками редакции. Стенли знал некоторых журналистов африканцев, гак что никто из нас не привлек к себе особого внимания. — Значит, ты потерял работу? — спросил я. — Правительство держало наши имена в тайне… Но каждому предпринимателю ясно, где ты был, если исчез 26 февраля. И когда приходишь обратно, твое место уже занято: необходимость перевода кого-нибудь с временной работы на постоянную, вынужденное сокращение персонала или еще что-нибудь. — Но ведь правительство признало, что ты невиновен, раз тебя отпустили. Перед тобой должны бы извиниться и выдать компенсацию. — Я сидел в тюрьме. Меня фотографировали со всех сторон. Все знают, что я преступник. — Ты только представь себе, что было бы, если какой-нибудь европеец был заключен на два месяца, а потом правительство поняло, что допущена ошибка. — Никаких «ошибок» по отношению к африканцам не допускается, — спокойно заметил Стенли. — Белые думают, что мы можем убегать в степи и питаться там кактусовыми плодами. Для них мы всегда безработные. — Ты озлоблен? — Никогда еще я не был так близок к «запрещенным идеям». Именно сейчас меня следовало бы посадить. Но я себя чувствую прекрасно — политический заключенный, борец за свободу! Люди приходят ко мне за советом. И знаешь, мне кажется, что у меня есть что сказать им: я еще никогда не знал так много. А сейчас я знаю: когда белые говорят нам о демократии, это значит, они говорят о диктатуре… — Но только не собирайтесь сразу больше двенадцати человек, — предостерег я. — Знаю, все должно быть как у подпольщиков, — говорил Стенли с видом мальчишки, научившегося новой игре. — Больше никаких списков. Слишком уж долго мы спали. Теперь все знают, что Конгресс — хорошая вещь. Все, что произошло, послужило отличной рекламой для всей страны И мы понимаем, что, когда белые начинают сажать народ в тюрьмы, можно надеяться на лучшие времена. — Не собираетесь ли вы создать новую партию? — поинтересовался я. — Подпольную, конечно, — отвечал он. — Партию невинных. Тех, кто ничего не понимал, когда их разбудили в тот памятный предрассветный час. Теперь мы уже понимаем. Теперь мы стали именно такими «неблагодарными», какими нас всегда представляли белые. — Саванху продал свою душу, — продолжал Стенли, заговорив о новом министре. — Во всяком случае, никто из африканцев не станет его обслуживать. Ведь это с его легкой руки образовалась политическая партия, которая заявила, что, если постоять в очереди с африканцами, можно получить сифилис и вшей, и что на их родине стало грязно. — Ты озлоблен, — прервал я. — Нет, просто то, что нам дали, дали слишком поздно и этого слишком мало. И благодарить нам не за что. Мы очень долго работали даром. Европейцы должны изменить свое поведение, только это может помочь им. — А то? — Приезжай через пять лет! Или все абсолютно изменится, или будет еще хуже, чем сейчас. Но что бы ни было, так, как сейчас, — не будет. — Нельзя сказать, чтобы тюрьма сломила тебя, — заметил я. — Нет, — Стенли колебался. — Мое представление о мире зависит от окружения. В миссионерской школе меня учили, что бог и природа — великие силы. Я принадлежу к новому поколению. Мой отец жил еще в джунглях и видел вокруг себя только злых духов. Он не поклонялся им, а пытался задобрить их. На дикой земле больше злых духов, чем добрых. Мой отец не верил в лучшие времена, он хотел только уберечься от самого худшего. Тюрьма была для меня тем же, чем джунгли для отца, — продолжал Стенли Самуриво. — Теперь я понял отца гораздо лучше. Я никогда не забуду того, что видел. — Значит, ты озлоблен. — Да, — засмеялся он. — У меня же нет ни работы, ни денег.Жизнь в Олд Бринсе
«Людям за границей следовало бы узнать, как хорошо мы обращаемся с африканцами в Южной Родезии.».— Когда нищета входит в дверь, любовь бежит в окно, — говорит мой друг Джошуа. Сам он живет сносно: широкая кровать, стол, три стула. На шкаф денег нет, но он все равно считает себя богатым: у них с женой отдельная комната. Олд Брикс — старейшая часть Харари, она находится в центре африканского поселения, возле рынка. Здесь мало у кого есть отдельная комната. На желтом песке рядами выстроились квадратные кирпичные дома. В каждом доме — четыре входа. Дверь ведет в комнату с кухней. Размер комнаты — около двадцати квадратных метров, кухни — едва ли больше двух. В такой комнате живут от десяти до тридцати человек. Мы входим в дом. Джошуа помогает нам как переводчик: большинство африканцев недавно приехали из деревни и говорят только на языке шона. Пол и стены — из грубого кирпича; единственное украшение — белая плесень. Вдоль стен висят занавески. Посреди комнаты на полу лежит десяток одеял, кровать одна. За занавесками ночью спят четыре супружеские пары, итого — восемь взрослых. Под кроватью спят пятеро детей. Посредине— место еще для восьмерых детей. Поначалу они чертили на полу границы, потом перестали. Стекла единственного окна закрашены; ни в одном доме я не видел окна, которое бы открывалось. На ночь дверь запирают, чтобы не зашли посторонние люди или бродячие собаки. Дети — в возрасте от двух до семнадцати лет. В кухню удалось втиснуть кровать, на ней спит женщина, которая недавно родила. Кровать не позволяет как следует открыть дверь. Перед родами, смеется женщина, она еле протискивалась в эту дверь. Заходим в соседние дома. В одной комнате живут три супружеские пары и один холостяк, холостяк приводит к себе проституток. В другой комнате — две кровати: одну занимает проститутка, другую супружеская пара. Девушка приводит клиентов из соседних бараков для холостяков, где живут тысяч десять мужчин. Так она зарабатывает одну или несколько крон — а вообще-то обычным тарифом считается один шиллинг за десять минут. Сейчас, во второй половине дня, она уже готова к очередному вечеру: ее волосы расчесаны на пробор, лицо напудрено и похоже на шоколад в муке или на яблоко, запеченное в сахаре. Глаза защищены темными очками, хотя уже стемнело. Супружеская пара притворяется спящей за своей занавеской. Для мебели места нет. Возле дома стоят ящики и кроватные сетки. На деревьях висят автомобильные камеры и белье. Ни одна из женщин не готовит на кухне. Когда подходит время обеда, они выносят керосинку на песок и варят маисовую кашу. В свободное время женщины в ярких хлопчатобумажных платьях, с детишками на спине и вокруг себя, сидят прямо на земле и играют в разноцветные горошины или стеклянные бусы. Игра заключается в том, что каждая выбирает себе какой-нибудь цвет, затем горошины смешиваются и женщины по очереди высыпают горсть их с определенной высоты на жестянку. Часть горошин при этом, конечно, разлетается. Выигрывает та, у которой на жестянке окажется меньше всего горошин. В этой части Харари уборные при домах сняты и построены общественные уборные для мужчин и женщин, примерно на десять мест каждая. Но старомодные водоспускатели в них постоянно не в порядке, и пол всегда залит водой. Поэтому жители, почти никогда не носящие ботинок или сапог, не решаются заходить сюда и справляют нужду прямо перед уборной, возле крана коммунального водопровода, единственного источника питьевой воды для населения. В Харари иностранцам обычно показывают новую больницу. Но очень немногие из них посетили здешние дома или прошлись по улицам, антисанитарным условиям которых не помогут никакие больницы. Можно только удивляться, как жителям Харари удается поддерживать чистоту в страшно перенаселенных комнатах, где живет по двадцать человек и где все пронизано едким запахом земли и гари от костров из маисовой шелухи, горящих по вечерам перед домами. Если бы кто-нибудь попробовал насадить подобные условия в холодных странах Северной Европы, то их пароды, наверное, подняли бы бунт. Но здесь даже дезинфицирующее солнце словно встало на сторону белых колонизаторов, которые считают, что если ничего не меняется— значит, все в порядке. Дома в Олд Бриксе не рассчитаны на семейных, они предназначены для холостяков, которые ушли из резерваций в поисках работы в столице. Ради лучшего заработка в Солсбери переезжают и женатые африканцы, попадая при этом в заколдованный круг: законы в Федерации запрещают замужней женщине оставаться в резервации и обрабатывать землю — она обязана жить с мужем в городе. Коммунальные же законы Солсбери запрещают семьям жить в локациях, которые не рассчитаны на семейных. Таким образом, глава семьи, не найдя жилья в домах для семейных, обязан вернуться в резервацию. Но экономическая жизнь столицы замерла бы без рабочей силы. И поэтому, вместо того чтобы строить дома для семей, городские власти закрывают глаза на законы и пускают все на самотек. Семья вселяется в комнату с кухней в Олд Бриксе, к ней присоединяются братья, зятья, двоюродные братья, троюродные братья и тоже с семьями, потому что родственные чувства у африканцев необычайно сильны. Как-то раз сюда приехали полицейские на грузовике— они решили проверить документы у африканцев в разгар рабочего дня. Те, у кого не было разрешения на работу в Солсбери, были арестованы, оштрафованы, а затем высланы обратно в резервации. Но потом женщин и детей полиция перестала трогать. Теперь ими никто не занимается, ибо власти сами стали жертвой своих противоречивых законов. Правда, время от времени правительство заявляет, что дома в Олд Бриксе будут снесены; эти дома — как бельмо на глазу у тех, кто разглагольствует о партнерстве и о том, что африканцы, несмотря ни на что, все же люди. Но вместе с тем правительство даже не заикается о том, что здесь нужно построить новые дома. Оно продолжает строить бараки для холостяков. И вдоль дорог к Олд Бриксу и центру Харари вырастают все новые казармы и хижины из гофрированного железа. Против этого протестуют даже религиозные организации: они заявляют, что перенаселенные дома в Олд Бриксе даже с их безнравственностью все же лучше, чем казармы, где женщинам вообще запрещено бывать. В Олд Бриксе полно детей. Но никто из них не учится в школе. Служащий министерства информации, показывая экскурсантам новую реальную школу, построенную недалеко от этого района, делает вид, что не имеет об этом ни малейшего представления. Ведь у всех желающих поступить в школу ректор спрашивает адрес. Дети, естественно, называют Олд Брике и номер своего дома Но, по закону, в этой части города живут только холостяки. Таким образом, дети считаются незаконнорожденными, и их не принимают в школу… Африканцы, с которыми я разговаривал, обычно жалуются, что из-за тесноты и отсутствия помещения они не могут принимать столько гостей, сколько бы им хотелось. Считается, что на попечении солсберских африканцев находится примерно 55 тысяч родственников, живущих вне города, чаще всего в резервациях. Две трети — это дети так называемых «холостяков», которые женаты уже много лет, и дети африканцев, живущих в Солсбери и вынужденных из-за существующих в стране социальных порядков находить себе «городскую» жену. В Харари, как и в обоих Конго, есть так называемые «свободные женщины» (femmes libres), объединившиеся в своего рода профсоюзные организации. Они устали перебиваться на низкие заработки мужей. Но это — не обычные проститутки. Они продают свое тело молодым людям, которые могут кормить и одевать их, например, в течение месяца. Так как мужчин в африканских локациях большинство, то незамужние женщины часто могут жить здесь значительно лучше, чем замужние, поэтому брачная жизнь становится презираемой. После первой же ссоры женщина оставляет своего временного содержателя и находит другого. Сколько таких женщин — никто не знает. Официально считается, что в Леопольдвиле и Браззавиле они составляют четверть всего женского населения. В Родезии сложнее уйти из резервации, и потому здесь их, наверное, меньше. Они протестуют против своего подчиненного положения как в родном племени, так и в городе. Многие женщины проходят через это, прежде чем выйдут замуж. Ежедневно все новые потоки мужчин направляются в локации — одни с настоящими паспортами, разрешающими им искать работу в течение тридцати дней, другие с фальшивыми. Они болтаются без дела, живут за счет родственников, а иногда образуют шайки. Урожаи на землях покинутых ими резерваций не спасают от голода. В то же время премьер-министр Южной Родезии как-то заявил, что именно Южная Родезия владеет природными богатствами, которые могли бы обеспечить высокий жизненный уровень 60 миллионам людей. Возможно это и так. Но и сам сэр Эдгар и в еще большей степени его избиратели далеки от мысли о том, чтобы отдать африканцам, хотя бы в аренду, ту землю, которая была когда-то выделена для белых, но до сих пор еще не нашла своих покупателей. Ведь эта земля хранит в себе не только хромовую руду — она могла бы спасти большую часть населения от голода. Конечно, это было бы возможно только при условии отмены самых дискриминационных законов в мире. Солсбери не стал бы новым Иоганнесбургом. А десятки тысяч голодающих семей, вынужденные подаваться в город, могли бы обеспечить себя, трудясь на земле, которую ни белый, ни африканец не тронули еще ни плугом, ни киркой. По официальным данным, не менее 60 процентов африканцев Харари, в том числе почти все жители Олд Брикса, страдают от различных болезней, связанных с недоеданием. Исследования, проведенные в 1955 году, когда стоимость жизни была ниже, чем сейчас, говорят о том, что семья может избежать голода, если будет тратить на питание и на дрова 165 крон в месяц. Предполагается, что холостой человек, зарабатывающий 120 крон в месяц (этот заработок считается выше среднего), тратит на питание половину зарплаты. Но на самом деле, если он сам готовит себе пищу, ограничиваясь второсортным мясом (так называемым boy’s meat), молоком, небольшим количеством овощей и маисовой мукой, питание ему обходится примерно в 65 крон, кроме того, 15 крон в месяц он тратит на дрова. Мало кто выдерживает подобную диету. Одни поддаются искушению и пьют чай с хлебом или вареньем, другие иногда обедают в кафе или буфете своего барака; и тогда уж на одежду, транспорт, лекарства, сигареты и т. п. остается совсем мало. Мы заходим с Джошуа в одно африканское кафе, которое, как и многие другие кафе, называется «Отель Банту». Название довольно неподходящее, так как здесь никто не живет. Каждый из нас берет по чашке чаю и по маленькой булочке за 18 эре. Большинство из стоящих у прилавка или за шаткими столиками едят то же самое, и только один позволил себе купить порцию рыбы с жареным картофелем за 1 крону 10 эре. — Вас следовало бы, собственно говоря, обслужить с черного хода, — шутливо обращается к нам с женой Джошуа. За несколько дней до этого я предложил зайти в дешевую чайную «Родс Ти Рум» на Джеймсон-авеню; там можно полакомиться вкусными пончиками. Я подошел прямо к прилавку и купил пару таких пончиков. Но когда я обернулся, Джошуа рядом не оказалось. Вскоре он вынырнул откуда-то с липкой пышкой в руках. — Где ты был? — На заднем дворе у мусорных бочек есть специальное окошко для африканцев, — он кивнул головой в сторону стрелки, указывающей направление. А между тем деньги Джошуа имеют такую же ценность, как и мои, и белая женщина, обслуживавшая посетителей, с одинаковым удовольствием опустила бы их в карман передника. За столиком несколько африканцев играют в карты, которые они взяли у владельца чайной. Брюки на коленях протерты до дыр, рубашки — сплошные лохмотья… Чай, прохладительные напитки, пшеничный хлеб на столах. Я вспомнил одну из излюбленных тем разговоров среди белых: — Если бы они покупали себе только питательную и дешевую пишу, все было бы хорошо. Но здесь, как и в Европе, этим бездельникам нужны еще пирожные и бутерброды. Так говорят многие. Об этом я сказал Джошуа. Он рассердился. — Сначала нас берут на работу за два фунта в неделю, а потом не разрешают свободно распоряжаться даже этими деньгами. Белые считают, что африканцы должны довольствоваться маисом, горохом и простой водой. Некоторые африканцы действительно так и делают, их подбадривает надежда на лучшее будущее и интересную работу. Но для большинства вопрос о здоровой пище, так же как и хорошей работе, — предмет грустных размышлений. Пить содовую воду и есть белый хлеб — это одно из немногих удовольствий, которое они могут себе позволить, ведь в добрых советах и популярных лекциях забывают о том, что вовсе не тело, а душа пытается найти удовлетворение в кока-коле. На рынке, неподалеку от Олд Брикса, торгуются, покупают, обмениваются мнениями хозяйки. Здесь можно купить самые разнообразные товары: огурцы, покрытые колючками; тапиоку; бобы, напоминающие серебряные монетки; сушеные и толченые овощи для супа, похожие на чай; дыни, нарезанные тоненькими, прозрачными, как лед, кусочками — их продают по полцента; мясо — сплошные кости; жир и внутренности, из которых варят суп. В стороне на низеньких столиках продаются лекарства. Городская цивилизация зашла не настолько далеко, чтобы люди в тяжелые минуты не вспомнили о том, чему они научились у себя в племени. Даже принявшие христианскую веру на всякий случай хранят кое-что от язычества. За одним столиком старик в меховой шапке и очках, внушающих уважение, демонстрирует разные колдовские штучки. Он говорит, что змеиная чешуя в овощном соусе помогает от изжоги и астмы. Суеверие! — ужасаетесь вы, и это вполне естественно. Вот что считается лекарством: птичьи головы, молоко годовалой давности, обезьянья шкура, совиные клювы, крокодильи головы, кроличьи лапки, коленные чашечки зебр, скелет щенка, растительные масла и различные смолы. Кусочки слоновой шкуры в вареном виде рекомендуются от коклюша. Детям дают это вместо бульона. Отвар из шкуры питона применяется при желудочных заболеваниях. Здесь вы найдете и очень редкое лекарство— «сушеный ленивец». Мясо ленивца ест обычно предводитель племени, чтобы принести счастье своим соплеменникам. Утверждают, что, если женщина съест кусочек такого мяса после выкидыша, она снова может забеременеть. — Бог методистов не позволяет мне верить во все это, — говорит Джошуа. — Но пережженная смола по-прежнему остается самым дешевым лекарством от кашля. Потом мы заходим к местной прорицательнице. Это самая популярная гадалка в Харари — седовласая шестидесятилетняя женщина с лицом, морщинистым, как гофрированный шланг. Только для тех, кто сначала рассказывает ей историю своей жизни, открываются врата будущего. Она очень редко встает со своего плетеного стула, но много знает о людях. Говорит гадалка звучным, меланхолическим голосом. — С рождением человека начинается его подневольная жизнь. И бедные и богатые — все мы очень плохо обращаемся друг с другом. Мужчины рассказывают мне. что они часто готовы убить своих жен, жены же хотят убить своих мужей. Живите мирно, — говорю я им, — любите бога и друг друга. Но они приходят ко мне не за такими советами. То, что я говорю, иногда сбывается. Люди ведут себя так, что это непременно должно сбыться; они невольно помогают мне в моей профессии. Мой муж оставил меня, моя дочь работает уборщицей в Голландском банке, но я не верю, что она ведет добропорядочную жизнь. А сын шофер. Он все время находится среди богатых и видит, в какой роскоши живут их любовницы и жены. Богатые — это одно из наших несчастий. Мы долго беседуем с гадалкой. В комнате без окон полутемно. Днем, возвращаясь с рынка, сюда заходят женщины, чтобы узнать, верны ли им мужья и что ожидает их детей. А вечером к ней приходят мужчины и просят наколдовать им деньги и успех в жизни. Когда вместе с Джошуа мы уходим из Олд Брикса, нам встречается толпа африканцев из «армии спасения» Они маршируют под духовой оркестр. Это тоже своего рода лекари. Сейчас апрель, на улице приятная прохлада — это месяц грехопадения. Африканцы поют хвалу Иисусу, который очистит их души, и небесам, где нет места грехам.Сзр Джилберт Ренни — Верховный комиссар Федерации в Лондоне.Июнь, 1959 года.
Сердце империи
Дом, в котором мы живем, принадлежит миссис Литл, маленькой, коренастой женщине с белыми, чуть отливающими синевой волосами и любопытными голубыми глазками. Передник на ней туго затянут. Словно из-под земли возникает она у перил нашей веранды, страстно желая узнать, что у нас на обед. А мы едим авокадо. — Неужели вам в самом деле достаточно двух уборок в неделю? — спрашивает она. — До сих пор все было хорошо, — отвечает Анна Лена. — Следите за Мильтоном во время уборки: он крадет все, что плохо лежит, и если вы обнаружите пропажу, скажите сразу же мне или заявите в полицию. Вы заметили, как изменились туземцы за последнее время? — Нет, нам не с чем сравнивать. — Ну как же! А эти общие почтовые отделения? Сегодня я уже брала с собой духи в пульверизаторе. Уж если эти кафры становятся в очередь, то хотя бы принимали с утра душ. Хорошо еще, что многие из них по привычке ходят в свои отделения. Она и другие женщины с этой улицы — важные фигуры в Родезии, этом эталоне «белой» демократии. В их распоряжении избирательные бюллетени, и поэтому члены парламента, партийные деятели и государственные советники вынуждены уделять им половину своего времени, убеждая их то в одном, то в другом. При самой незначительной реформе они должны прежде всего обращаться к чувству самосохранения женщин: поймите же, если мы будет поступать так же, как в Южной Африке, и не построим им хотя бы какого-либо жилья, они взбунтуются. Все это делается для вас же самих. А миссис Литл и другие женщины, вспоминая о своих слугах, озлобленно ворчат; — Избалованные, дерзкие, на них не найдешь управы… Вскоре она приглашает нас обедать; внешне миссис Литл очень приветливая женщина, когда мы входим, она сама угощает нас коктейлем из вина и крем-соды. — Университет? — удивляется она, — я знаю агента фирмы «Ремингтон», он поставляет туда пишущие машинки. Дверь в кухне открыта, ее подпирает черепаха в оправе из черного дерева. В гостиной масса фарфоровых безделушек: миниатюрная посольская карета, голубой рыцарь Стены украшены огромными картинами. Одна из них напоминает работу какого-то фламандского мастера, другая Утрилло, третья Тернера. А все они написаны голландцем, который, живя в Родезии, копил деньги для возвращения домой. Мистер Джонс, брат миссис Литл, тоже приглашен к обеду. Он живет в соседнем доме. Свою семью он отправил на Райские острова: это два песчаных холма с несколькими отелями, расположенные в проливе, отделяющем Мадагаскар от континента. За день до этого, 28 апреля, начались школьные каникулы, как раз когда парламент Южной Родезии окончательно принял репрессивные законы и, не беспокоясь больше за судьбу государства, одни члены парламента отправились к водопаду Виктория наслаждаться нетронутой Африкой, другие подались к Индийскому океану, чтобы там в масках нырять среди полосатых рыб. Миссис Литл обладает той откровенностью, которая, кажется, самим богом дана в подарок людям, переселившимся в колониальные страны. Поведение этих людей, даже не пытающихся скрывать свои чувства, ярко выделяется на фоне официального ханжества. Миссис Литл родом из Корнуэлла, одна из восемнадцати детей своих родителей. До совершеннолетия она жила вместе с восемью сестрами в одной комнате. В двадцатые годы вышла замуж и переехала в Родезию. Сначала жили бедно, но мало-помалу муж собрал деньги и купил этот дом. потом еще один, и они стали жить в достатке. Но потом муж умер, миссис Литл построила сыроварню, чтобы помочь своим сестрам, которым тяжело живется в Англии, но фабрика до сих пор приносит только убытки. Большинство ее братьев погибли во время войны, один из оставшихся в живых, мистер Джонс, живет в ее втором доме, где живут также две вдовы погибших братьев. Дом миссис Литл носит название Ранула. Меня интересует, откуда такое название? — Это искаженное Рэнли, — говорит миссис Литл, — виконт Рэнли мой отец. Он был учителем в Корнуэлле. Его не интересовали титулы. Двое из моих братьев — близнецы. Люди спрашивают, почему так важно знать, кто из близнецов родился первым. Но ведь именно тот, кто родился на пять минут раньше другого, получает титул виконта — виконт оф Рэнли. Я посмотрел на Джонса — она говорила, что он старший брат. Тот улыбнулся мне. — Он никогда не пользуется титулом, — продолжала миссис Литл, — мой дедушка по матери был француз, великий композитор Блесс, вы знаете его? Он был женат на немке, а мой дедушка по отцу был женат на итальянской графине. На этом кончаются мои познания родословной; в моих жилах течет кровь всей Европы. Я чувствую себя лучше с иностранцами, потому что во мне есть капля их крови. Миссис Литл взглянула на нас, проверяя, не чувствуем ли мы себя польщенными, и предложила еще по стаканчику крепкого вина. Некоторые женщины любят вплетать в свой рассказ без всяких пояснений имена знакомых им лиц, будто они известны собеседнику. В рассказе появляются все новые имена, воспоминания все время обрываются и сменяются другими. Вот картина детства: осел, нагруженный рождественскими подарками, шествует со станции; новогодние подарки под елкой, комната девяти сестер, куда не разрешалось входить братьям. Она достает альбом в бархатном переплете. Мне кажется, будто я уже видел где-то эти посеревшие фотографии давно разлетевшихся из своего гнезда неблагодарных детей. Здесь карточки всех родственников, сама хозяйка с пальцами, исколотыми швейной иглой. Этот спас какого-то утопающего, а вот эта обещала ухаживать за могилой брата, но никогда не приходила на нее, а этот заставлял свою племянницу платить за кофе, когда она приходила к нему в дом, а когда родители умерли, он переплавил их кольца. В гостиную молча входит мистер Найджел. Мы также молча пожимаем ему руку. Он то садится в кресло, то встает и наливает себе стакан минеральной воды. Затем он снова садится в другом конце комнаты у торшера. На него никто не обращает внимания. Через некоторое время он желает нам доброй ночи и уходит спать. Этот маленький пятидесятилетний мужчина в пенсне, с розовым, как у младенца, лицом и редкими седыми волосами, получает годовой доход примерно в два миллиона крон. Он владелец одной из самых крупных автомобильных фирм в Солсбери, на Кингсуэй. У него много магазинов готового платья и несколько гостиниц, в общей сложности девятнадцать предприятий. Он оставляет свой светло-голубой кадиллак на заднем дворе дома миссис Литл, у которой снимает комнату, предназначенную для прислуги, за 300 крон в месяц. В стоимость квартплаты входит ужин и право принимать гостей. Но у него нет друзей, он слишком скуп даже для того, чтобы покупать себе молоко или минеральную воду, костюм на нем поношенный, ботинки он чистит себе сам. Кадиллак, собственность фирмы, является единственным признаком его богатства. Миссис Литл так отозвалась о Найджеле: — Для меня он простой квартирант, не подумайте что-либо другое! Он, конечно, хотел бы совсем другого, он ревнует, когда у меня собираются гости, приходит сюда, молча садится, несколько минут пялит на нас глаза, а затем уходит. Я ужасно зла на него! Я хожу в кино не меньше двух раз в неделю, а он за целый год ни разу не пригласил меня. Мистер Джонс рассказал о себе сам. Он не поехал с семьей на Райские острова, потому что он ими уже сыт. Во время первой мировой войны он единственный из братьев остался в живых. После семилетней службы на рейсовом судне мистер Джонс приобрел пароход, курсировавший по линии Дурбан — Мадагаскар — Сейшельские острова. На этих отдаленных островах он прожил два года и основал там пивоваренный завод. Когда он переехал в Момбасу, то возглавил экспедицию, которая субсидировалась американским концерном: с кинооператором и журналистом он совершил поездку по континенту на грузовике. Эта поездка по маршруту: Момбаса — Уганда — Северное Конго — озеро Чад — Лагос заняла пятнадцать месяцев. Ехать приходилось по бездорожью. Это было в 1927 году, и фильм, который они засняли, был первым документальным звуковым фильмом, посвященным путешествию. Затем Джонс поехал в Англию, закончил там курсы по подводному плаванию и вернулся в Мозамбик как охотник за жемчугом. Когда однажды португальцы конфисковали у него улов жемчуга, он решил податься в Танганьику, где, по слухам, можно было ловить жемчуг таких же размеров. В тридцатые годы он был гидом американской охотничьей экспедиции, направлявшейся из Солсбери через Бечуаналенд в Юго-Западную Африку, потом в Анголу, где диких животных больше всего, и через южное Конго в Северную Родезию. Позднее, когда диких зверей стало мало, он иногда помогал путешественникам-фотографам. А сейчас он больше всего любит сидеть дома и, отправив детей в кинотеатр на открытом воздухе, принимать гостей и угощать их жареными кукурузными зернами. — Здесь уже стало почти как в Европе, тем не менее я никогда не уеду из Африки, такая уж у меня беспокойная натура. Вокруг Солсбери вырастают все новые промышленные предприятия. Его дом теперь находится уже почти в центре города. Сейчас мистер Джонс готовит свою машину к поездке на искусственное озеро в Карибе. «Смеющиеся чернокожие джентльмены» с их врожденной честностью его уже не интересуют. Благодаря Африке он прожил жизнь так, как хотел. Он не желал играть в виконта, культура и традиция для него ничего не значат, а Европа — мертвый континент. Биография мистера Джонса типична для многих белых в Африке. Судьба миссис Литл еще более типична. В Кению многие европейцы ехали с большими капиталами и покупали там крупные плантации; в Родезию же, где земля менее плодородна, но богата полезными ископаемыми, из Европы приезжали люди победнее, без образования, готовые упорно трудиться. Вскоре они создали там свою Англию, без нужды и классовых различий (для белых!), со своими клубами и женскими институтами, кинотеатрами и праздниками цветов. Миссис Литл не понимает, как это можно желать первым пересечь Африку от Момбасы до Лагоса. Она была всего один раз у водопада Виктория, один раз в Бейра, да и то только потому, что жителям высокогорья полагается время от времени отдыхать в долине расположенной на уровне моря. В остальном здесь всего достаточно: радио и газеты удовлетворяют духовные потребности, сыроварня не дает бездельничать. А все то, что она относит к «дикой и отвратительной Африке»— природу, змей, африканцев, — по ее мнению, следует уничтожить. Для миссис Литл, как, пожалуй, для большинства белых, Африка отличается от Европы только тем, что она более спокойная, более богатая и более цивилизованная. — Мы забрали из Англии все лучшее, — утверждает миссис Литл, — и поэтому нам незачем туда возвращаться. Да, подумал я, из Англии вы вывезли с собой пунктуальность и определенные часы уборки, бекон и яйца, внешнее приличие и великодушную привычку к известного рода благотворительности. Англия дала вам парики для парламента и суда, жилеты на восьми пуговицах для посещения клубов и таинственные буквы перед фамилиями. А старая английская идея о свободе и справедливости не была упакована среди того «лучшего», что вы взяли с собой. Но миссис Литл не огорчается: нет и не надо, без этого можно обойтись. Если прислушаться повнимательней, то среди обманчивой тишины в этой стране слышен какой-то шум, ивам кажется, что это удары сердца империи.Прислуга
У кухонной двери стоит женщина. В руках у нее корзина с салатом, помидорами и луком-пореем, на спине ребенок. Воспаленными глазками он поглядывает на нас из-за уха матери. Анна-Лена купила пучок лука. — Дайте что-нибудь для малыша, — неожиданно попросила женщина. — А где ваш муж? — В Иоганнесбурге. Он бросил меня. Мы поверили ей, ведь это судьба очень многих. У нас нечего было дать ребенку, и мы добавили немного денег… Сын садовника подошел к открытому окну и пристально посмотрел на меня. Я спросил, чего он хочет. — О чем ты пишешь, баас? — Об Африке. — О нас? — О некоторых из вас. Молчание и удивление. Он ушел и привел своих друзей. Их было пятеро, они ничего не говорили, ни о чем не спрашивали, а просто смотрели на того, кто пишет — <о нас». Но я ведь знал, что мой труд не может помочь им. Здесь легко чувствовать свою солидарность с массами, с огромным большинством, и это чувство опьяняет. Но оно и опасно. Я сознавал, что те, кто отождествляют себя с угнетенными, часто обманывают себя и обычно сознают это слишком поздно. Ты приветствуешь, как говорит Орвел, своих братьев-пролетариев с улыбкой, полной любви, но этим братьям не нужны приветствия, они хотят, чтобы ты отдал за них жизнь. То, чему я был здесь свидетелем, приводит меня в бешенство; мне, как и очень многим, кажется, что только гром орудий может с достаточной силой выразить это чувство. Сдержаться так же трудно, как пройти с переполненным стаканом, не пролив ни капли. Пока я смотрел на лица этих пятерых в окне (их взгляды были прикованы к моей пишущей машинке, как к чему-то магическому), мне более чем когда-либо стало ясно, что я и понятия не имею об их будущем. Поэтому я не хочу вместе с африканцами бороться за парламентскую демократию, в действительности которой я сомневаюсь, я хочу бороться против насилия и дискриминации, царящих здесь и с каждым днем увеличивающих вину западных государств перед Африкой. Я обратился к Мильтону, нашему слуге, — он рассматривал электрическую плитку для поджаривания хлеба (плитка имела форму миниатюрного ружья, мы взяли ее у миссис Литл): — Когда ты впервые увидел белого человека. Мильтон? — Дома, в резервации. — Что ты подумал тогда? — Он был грязный и очень громко говорил, у него были плохие манеры. — А сейчас ты думаешь иначе? — Я привык. Белые очень ругаются между собой, они едят три раза в день, а в промежутках пьют. Так делает скотина. Дома мы ели один раз в день. Мильтон улыбнулся и тут же исчез, чтобы избежать возможных последствий своей откровенности. Он ушел к себе, на другую сторону залитого цементом двора, который в Родезии называется «санитарной полосой» (the sanitary lane). Эта «полоса» отделяет белых хозяев от черных слуг. Домашняяприслуга, наделенная прозвищами Сикспенс, Виски и другими в том же роде (настоящие имена трудно произносить, объясняют хозяева), живет в так называемых киасах; это нечто похожее на комнаты размером два на три метра, с двумя кирпичами, вынутыми у потолка для вентиляции. От взора посторонних жители киасов защищены каменной стеной, у которой стоят бочки для мусора. Трудно представить себе, как живут в такой комнате: нары из цемента, велосипед, наполовину втащенный через всегда открытую дверь. Иностранцы, проезжающие по дороге, видят только живую изгородь из красного просвирняка и розового дерева, да виллу, а как живут слуги за каменной стеной — никого не интересует. «Санитарная полоса» не может полностью защитить господ, поэтому время от времени производится врачебный осмотр всей прислуги. Если кто-либо болен бильгарцией, малярией или страдает глистами, его не трогают— это не опасно, а вот заболевшего туберкулезом или сифилисом немедленно изгоняют. Когда небо чистое, вечера в Родезии мягкие, а вместе с облаками приходит тяжелый воздух и духота. Прислуга и няньки соседей сидят прямо на траве по другую сторону дороги и, наверное, обсуждают капризы своих хозяев, передразнивая их жесты и голоса. Беспрерывным потоком льется мягкий говор шона: словно слышишь забавную историю, которой, кажется, не будет конца. Мимо проходят и проезжают какие-то африканцы; те, у кого есть ботинки, — обычно в белых рубашках и черных брюках, а на босоногих — будничные рваные хаки. Никто не знает, куда они направляются. Джеймсон-авеню не ведет ни к одной из локаций. Из леса доносятся звуки кларнета и барабана — там расположен европейский клуб «Олд Харарианс», похожий на все кафе, где можно выпить пива, посидеть за маленьким столиком и послушать рассказы. Вдали как вулкан возвышается гора Копьен. Слышен лай сторожевых собак. С другой стороны доносятся смех, песни и звон гитары. Наш сосед включил на полную громкость радиоприемник, чтобы услышать результаты футбольного матча. Наконец я не выдержал, отложил газету, вышел и неожиданно встретил своего соседа. Он смотрел в сторону мусорных бочек и киасов для прислуг. — Готов пойти и перестрелять их всех, — сказал он, — я так взбешен… — Но ведь всего восемь часов, — заметил я, — пусть и они повеселятся! — У них там гости! Черт меня возьми, если у всех есть паспорта. — Я думаю, если вызвать полицию, то она их всех засадит. Он посмотрел на меня, стараясь разгадать мои мысли. Все еще были слышны звуки гитары, голоса стали более приглушенными. Что-то проговорила девушка. — Тварь, — возмутился сосед. — А может, это нянька? — У них нет паспортов, они живут в локациях. — До Харари далеко, два часа туда и обратно, и то если идти быстро. — Послушайте только, как они смеются. Мы не потерпим разврата у себя во дворах; подумать только, они могут заразить наших детей! — Может быть, они просто решили, что не стоит идти домой; ведь им надо в семь часов утра быть здесь опять, а путь дальний, по дороге на них могут напасть. Да они и проголодаются. — Я прибью кого-нибудь, если пойду туда; это уже не первый случай. — Он горько усмехнулся и с опаской посмотрел на меня. — Это вам не Англия, — коротко пояснил он и закрыл дверь. Вновь заговорило радио, репортаж о футбольном матче продолжался.Сказки для взрослых детей
«Самая черная Африка с самыми светлыми настроениями». «Ньясаленд предлагает вам совершенно необычный отпуск». «Ньясаленд всегда к услугам тех, кто ищет разрядки и нового общества». Девушка в туристическом бюро Солсбери дает нам брошюрку и застенчиво улыбается, в последнее время не очень многие интересовались этими брошюрами. На снимках — голубые водные просторы и белоснежные яхты; за португальскими горами, там, где стоит памятник первооткрывателю озера Ньяса, вас ожидает попутный ветер. В клубе работников прессы журналисты, возвратившиеся из путешествия по стране, говорят другое. Корреспондент крупной лондонской газеты рассказывает, как однажды он спросил у какого-то африканца дорогу, а потом этого африканца сильно избили за то, что он якобы снабдил иностранного журналиста пропагандистскими сведениями. Другой английский корреспондент рассказывает: — После обеда я послал телеграмму в свою газету, а вечером в ресторане услышал, как незнакомые люди обсуждали эту телеграмму. Тут, конечно, не обошлось без тайной полиции. Все говорили об опасном вакууме в атмосфере полицейского государства, о глухой тревоге, охватившей людей, хоть правительство и утверждает, что в стране все вздохнули с облегчением, когда избавились от неприятных крикунов. Говорили о людях на велосипедах, не поднимающих на вас глаз и дающих уклончивые отпеты, — оно и понятно, ведь всюду есть доносчики. Многие полагают, что за молчанием кроется еле сдерживаемое возмущение, готовое вот-вот прорваться. Но для большинства Ньясаленд — сказочный замок, где по воле злого колдуна все замерло, а люди превратились в камни. С тех пор как была образована Федерация, численность полиции в Ньясаленде увеличилась на 70 процентов, а население там возросло лишь на семь; то же самое произошло и в Северной Родезии. В Южной Родезии создан даже особый резерв «белой» полиции и в мирное время для европейцев введены военные сборы для так называемой «тренировки на случай мятежей и бунтов». Осенью 1958 года пятьсот таких солдат вылетело на учения в Ньясаленд. Условными наименованиями этих учений были фамилии руководителей Конгресса. Подобные факты наводят на мысль, а кто же на самом деле размахивает велосипедными цепями и организовывает заговоры? В течение двадцати лет над африканцами висела угроза образования Федерации. Столько же времени парод Ньясаленда стремился предотвратить вторжение с юга, используя все законные средства: парламент в Зомба, обращения к британскому правительству и генеральному секретарю ООН, делегации в Лондон. Руководители Африканского национального конгресса совсем не самодержцы. Это люди, которые рискуют потерять средства к существованию, а приобретают лишь право попасть за решетку. Активный член АНК, став известным полиции, лишен возможности поступить на государственную службу или на работу ко многим европейцам. Стать членом Конгресса — это все равно, что добровольно пойти на экономическое банкротство. Вот почему на пятьдесят сочувствующих Конгрессу приходится, наверное, всего один член этой партии. Важный предмет экспорта Ньясаленда — рабочая сила. Уход на золотые прииски Иоганнесбурга или на фабрики и усадьбы белых в Южную Родезию стал для молодежи своего рода обрядом. Молодежь постоянно сманивают тем, что по-настоящему оплачивают физический труд только на фермах и копях вдали от дома. В стране остаются только женщины и старики, то есть нарушается и личная и общественная жизнь. Национальный конгресс обвиняет правительство в том, что оно разрешает деятельность южноафриканских агентов по вербовке рабочей силы из Ньясаленда, тем самым лишая страну рабочих рук Соседняя страна — Танганьика пытается приостановить подобную эмиграцию тем, что стала допускать африканцев к видным постам. А в Ньясаленде правительство не решается поддерживать даже кооперативное движение, боясь, что оно может превратиться в политическое. Только объявив в стране чрезвычайное положение, правительство смогло запретить Национальный конгресс. По крайней мере, лорд Молверн заявил со своей обычной откровенностью, что Ньясаленду необходимо было объявить чрезвычайное положение. Ведь Конгресс был сильным объединением, имевшим 167 отделений, разбросанных по всей стране. Его программа отличалась, вероятно, самой высокой в Африке политической зрелостью. Это был пример того, что неграмотность не означает еще политической незрелости и что для многих даже недолгое пребывание в странах с апартеидом является своего рода политической школой. Африканцы работают на фабриках и усадьбах белых; в их домах они готовят пищу, стирают постельное белье, ухаживают за детьми. Они знают все, даже самые интимные стороны жизни европейцев. Но не они, а белые кричат: «Мы хорошо знаем наших туземцев! Тем, кто там, в Европе, сидя за письменным столом, пытается дать нам свои советы, следовало бы понять это. Мы-то живем среди них». И это несмотря на то, что почти никто из них не посетил ни одной локации; напротив, многие из них считают, что, если белый проведет хотя бы один вечер в африканском доме, его личность каким-то мистическим образом утратит свои достоинства и цельность. Насколько же хрупка эта личность! Когда в стране начались беспорядки, в распоряжении африканцев имелось 4665 пистолетов и винтовок, полностью оформленных по лицензиям. В это беспокойное время ими было сделано только два выстрела, никому не нанесших ущерба. Вооруженные же силы службы безопасности, насчитывающие шесть тысяч человек, убили пятьдесят одного и ранили семьдесят девять африканцев, не считая значительно большего числа легко раненных И только один европеец был избит толпой, да и того спас один из лидеров Конгресса, который на велосипеде отвез его в безопасное место. Правительство утверждало, что Конгресс не думал ограничиваться пассивным сопротивлением. Отчет же комиссии Девлина, опубликованный в августе 1959 года, говорит о другом: возможно, Конгрессу не была чужда идея насилия, но практически он делал все, чтобы избежать его, и являлся, скорее, сдерживающей силой. Какой путь будет избран, очевидно, покажет будущее. Но сейчас, в связи с арестами руководителей Конгресса, народом будет управлять не легче, а наоборот, еще труднее. Сначала создали концентрационные лагеря, а потом начали восстанавливать «порядок». Правительство разбросало по деревням полмиллиона листовок, пропагандистский радиоцентр Блю Банд надрывался с утра до вечера, в северных провинциях приговоренные к принудительным работам африканцы начали приводить в порядок государственную собственность, каждая семья бунтовщика была обложена налогом в 25 крон, что равняется недельному заработку. Реформы не привели к желаемым результатам. Школы закрылись, ведь учителей перевели в другие места. Теперь африканские матери уже не пугают своих детей чудовищами или злыми волшебниками, чтобы заставить их вести себя хорошо. Они говорят: «Читаганья» — и дети моментально становятся послушными. «Читаганья» означает — «федерация». Об этом нам поведала маленькая женщина в очках, с кожей светло-шоколадного цвета и волосами, уложенными пучком на затылке. Рассказывая, она тихо посмеивалась. Ее звали Грейс Кахумбе, она отправилась на машине из Ньясаленда в Солсбери с двумя белыми миссионерами. Они собрали деньги, чтобы поехать в тюрьму и навестить заключенных из Ньясаленда, надеясь, что тюремные власти еще не успели получить о них соответствующую информацию. Таможня у границы Южной Родезии без всякого основания конфисковала всю литературу, которую Грейс взяла с собой на время поездки: роман Вальтера Скотта «Кенильворт», популярно-психологический очерк «У молодежи есть свои тайны» и журнал с рисунками для вязания, принятый таможенниками за тайный код. Грейс арестовали в марте. Ее заставили признаться в том. чго она является членом незаконной организации Конгресса и потому достойна наказания, хотя эта партия была объявлена вне закона лишь в день ее ареста У нее были друзья в английской палате общин. Через некоторое время ее выпустили и разрешили вернуться в колледж, где она работала учительницей. Грейс Кахумбе описывала нам жизнь в Каньедже, огромном лагере для заключенных. Раньше там располагалось государственное ремесленное училище — единственное, если не считать миссионерских; об этом училище говорили как о «лучшем, что было сделано правительством». 3 марта сто тридцать учеников были распущены по домам. Их место заняли заключенные… Офицеры, которые до этого никогда не имели дела с образованными африканцами, всеми силами старались сломить их, сделать их более лояльными по отношению к Федерации. Когда комиссия Патрика Девлина прибыла в Ньясаленд, чтобы при закрытых дверях получить показания и сообщить английскому правительству о причинах волнений в стране, в лагерь были посажены полицейские, переодетые узниками. Они первыми заявили о желании дать показания в пользу властей. Но заключенные разоблачили их. Сначала всех африканцев, которых вызывали в комиссию, арестовывали. Жалобы, поступавшие к Патрику Девлину, приостановили аресты, но сыщики продолжали стоять у ворот и записывать имена приходивших. Один африканец зачитал на комиссии письменное заявление, которое он, конечно, не смог бы составить сам. Он служил в конторе областного комиссара, и какой-то белый написал ему текст этого заявления, где все говорило в пользу властей. Когда распространился слух о том, что католический епископ, европеец, собирается выступить в качестве свидетеля, представитель тайной полиции навестил его и уговорил послать показания по почте. Письмо было перехвачено и вскрыто. Комиссия Девлина вновь выразила протест. Все, что рассказала нам Грейс, показывает, как правительство Ньясаленда, находящееся в подчинении у Англии, мешало работе английской правительственной комиссии. Ее рассказ проливает также свет на то, почему, пожалуй, самый уважаемый судья Англии нашел возможным назвать Ньясаленд страной с полицейским режимом. Когда комиссия перенесла свою работу в Южную Родезию, в качестве свидетеля выступил также Харри Чипембе. Мы узнали об этом от него самого. Узнав, что он вернулся, я купил бутылку даоса, и мы с Джошуа отправились к нему в Харари Харри, маленький живой человек с усиками, заявил нам, что он трезвенник— бережет здоровье, но тут же добавил, что, собственно, беречь-то нечего, одним махом выпил полбутылки и весело рассмеялся. Его тесть сидел в том же углу и, казалось, ел ту же порцию каши, что и много недель назад, когда мы впервые посетили дом Харри. Только один раз он буркнул что-то на языке нианья и Харри перевел: — Экономика! Книги! Едите вы эти книги, что ли? Некоторое время назад Харри вернулся из Ньясаленда. Он добирался пешком и на грузовой машине. По его мнению, правительство делает вид, будто беспорядки в стране имеют не большее значение, чем запрещенный для детей фильм в кинотеатре «Лилонгве Кинема» — боевик, который не сходит с экрана две недели, а потом забывается. Однако ничто не забылось. Народ все хранит в своей памяти. И когда заключенные выходят на свободу, к ним относятся как к мученикам. К национализму, как политическому движению, прибавляется религиозная мистика и культ личности, который приносит только вред. А в горах Мисуку-Хилс, на севере Ньясаленда, добавил Харри, все еще стоят небольшие вооруженные отряды. — Разговаривая с тобой, я рискую попасть на четырнадцать лет в тюрьму или заплатить 15 тысяч крон штрафу, — заметил он. — Это штраф для африканцев, подрывающих общественное доверие к властям Ньясаленда или правительству Федерации; чрезвычайный указ номер 35. — Но это, наверное, касается и белых? — Возможно. Но ты не белый, ты иностранец. Я спросил его, почему Южная Родезия всегда была самой спокойной частью Федерации. — Южная Родезия была захвачена силой. Многие думают, что здешние африканцы больше довольны жизнью и более лояльны. На самом же деле они продолжают оплакивать то, что потеряли. Они пострадали больше, чем мы. Он бросил мне несколько правительственных «Информационных бюллетеней» и так называемых «Токинг Пойнте», выпущенных в последнее время. Это были небольшие рассказы и сказки. В одной из сказок говорилось о «злых людях», которые призывали идти за собой: «Пойдем и убьем добрых людей, а потом разорим их села! И вот они ушли в самую чащу леса и выработали там планы своих действий». Эта сказка, датированная 11 апреля 1959 года, кончается так: «Злые люди арестованы и находятся под надежной охраной… Так давайте же работать все вместе и превратим нашу страну в цветущий сад, где всем будет приятно жить и куда опять захочет вернуться лорд Перт, чтобы помочь нам всем идти дальше». Харри догадывался, что в этой сказке под «толпой злых людей» подразумевалось большинство африканцев с высшим образованием. В одном из правительственных бюллетеней давались советы «государственным служащим, землевладельцам и управляющим имениями». В случае, если они сами не знали, как ответить на вопрос — почему государству нужна такая многочисленная полиция, им рекомендовалось говорить: «Полиция нужна нам для того, чтобы иметь защиту от нарушителей закона. Лозунг: «Ухуру» (свобода), который так громогласно провозглашает Конгресс, лишен смысла — ведь мы имеем свободу вот уже много-много лет». В бюллетене от 6 мая 1959 года правительство опубликовало обращение, над которым уже не хочется смеяться. «Будет ли руководителям Конгресса предъявлено обвинение в преступлении или нет, они просидят в тюрьмах еще долгое время… Не знаешь ли ты какого-нибудь члена Конгресса, который живет по соседству с тобой и еще не арестован? Не знаешь ли ты какой-нибудь группы членов Конгресса, которая замышляет что-нибудь недоброе? Если ты знаешь таких, ты должен заявить об этом в Бома (контору областного комиссара) с тем, чтобы этих людей можно было арестовать и выселить из твоей местности. Назови имена членов Конгресса, которых ты знаешь, твоему областному комиссару или любому правительственному служащему. Ты можешь пойти лично к этому служащему или, если предпочитаешь оставаться неизвестным, послать без подписи письмо либо областному комиссару, либо офицеру полиции и указать в нем имя и адрес члена Конгресса, который еще находится па свободе. Марку на конверт можно не наклеивать». — Это обращение — признание своего поражения, — не скрывая удовольствия, говорит член Конгресса Харри Чипембе. — Когда официальная мораль и справедливость падают так низко, наступает время «смены караула». Приезжай сюда года через два и посмотришь, как мы справимся с этим делом. Но когда ты будешь писать о своем приезде, не забудь наклеить почтовую марку! Другие письма без марки не доходят.Аркадия для смешанного населения
Аркадия — это селение, в котором все знают друг друга. Ребята здесь играют в футбол стаканчиками из-под мороженого, девушки носят косички и выглядят очень мило. На холмике стоит мальчик и размахивает колесом от велосипеда. Собаки спят на огородах, и мы спокойно можем рассматривать все, чем богаты здесь люди. — Преимущество трущоб в том, — говорит Джо, — что в них не бывает заборов, и можно ходить, где хочешь. Здешняя Аркадия не то, что мы привыкли так называть: в ней нет насаждений розового дерева, нет гладко подстриженных ковров густой травы. Это городской квартал по пути к аэродрому Кентакки, в нем живут «цветные». (Я употребляю слово «цветные» в южноафриканском значении: мулаты, евро-азиаты и афро-азиаты). Закон разрешает цветным жить там, где они хотят. Но почти во всех частных и коммунальных контрактах имеются оговорки, разрешающие продавать наделы только европейцам. Свобода цветных тоже оказалась ограниченной неофициальными локациями. Джо Калвервелл окончил университет в Кейптауне по факультету психологии. Но сейчас он безработный: для цветного психолога нет работы ни в школах, ни на государственной службе. Лишь иногда ему удается написать что-нибудь для местных газет или для лондонского еженедельника «Обсервер». Глядя на Джо, сразу скажешь, что в нем течет африканская кровь, но его жену и детей можно признать за жителей любой средиземноморской страны. Когда жена Джо работала в одном из загородных магазинов, ее принимали за белую. Обычно цветному продавцу платят лишь половину зарплаты белого, но все же в два раза больше, чем африканцу. Не многим цветным девушкам, работающим в таких магазинах, как «Вулворт», «Экономи» или «О. К- Базар», удается выдать себя за белую. — Со временем ко всему привыкаешь, — полагает Джо. — Но когда появляются дети, которых любишь, и понимаешь, какие унижения им приходится терпеть, — становится невыносимо трудно. В Солсбери цветной редко женится на белой девушке. Но примерно раз в месяц один из 20 тысяч белых в стране женится на цветной девушке. Здесь, в противоположность Южной Африке, это разрешено законом. До недавнего прошлого Джо был членом Национального конгресса. Он один из той небольшой группы цветной интеллигенции, которая действует заодно с африканцами; большинство же цветных безразличны к политике и стараются походить на белых. Среди цветных есть еще одна группа людей, которые начали задумываться над расовыми проблемами и образовали собственное объединение. У Запада есть возможность экономического выигрыша — поскольку моральная сторона его не интересует, — следует только вернуть цветным веру в благородство белых. Так неужели Запад обманет надежды тех, кто, несмотря ни на что, верит в него? Стоит ли после этого удивляться, что коммунизм с его идеями братства и равенства оказывается привлекательнее идеалов Запада? Целый день Джо водил нас по Аркадии. Одна из сестер Джо имеет собственный просторный и хорошо обставленный дом; этот дом построил ее муж. В гостиной есть даже горка с фарфоровой посудой. На стене висит портрет покойного брата: у него тонкий профиль. Он умер от туберкулеза; во время войны вместе с Дорис Лессинг он руководил группой социалистов в Солсбери. Потом мы посетили миссис Эдвардс, жизнерадостную женщину, одетую по последней моде, жену владельца автобуса. Она пригласила нас на чашку чая с печеньем. Дом построен по стандартному для Аркадии образцу: стены и потолок из цемента, летом в нем жарко, зимой холодно; две спальни, кухня, гостиная — всего примерно сорок квадратных метров. По соседству живет мистер Карр, глубокий старик (ему девяносто один год), мы видели его на веранде в качалке. Он был участником войны с бурами, сражался под Мафекингом и преследовал мятежника Марица до самого Порт-Элизабета. Потом мы снова пили чай — на этот раз у Джонни Димеда и его супруги. У Джонни несколько автобусов и даже собственная мастерская. Он, хотя работает почти круглые сутки, всегда остается веселым, открытым малым, знающим массу историй и побасенок о Европе, которую никогда не видел, гордым за свою жену, подарившую ему двух голубоглазых малышей. Он рассказал нам о своих британских предках: коммерсантах и колонистах — одиночках, скучавших по белым женщинам. Они не знали, к чему стремились. Зашли мы в гости и к родителям Джо. Его почти ослепшему отцу уже за восемьдесят, он жил в одном доме с Роем Беленским и выступал вместе с ним на ринге еще в те времена, когда сэр Рой был кочегаром и тренировался в тяжелом весе. Как и многие другие цветные, родители Джо приехали сюда пятьдесят лет назад с острова Святой Елены. Мать Джо принимает активное участие в благотворительном обществе и по поручению жены генерального губернатора присматривает за нищими и сиротами Аркадии. У нее нет никаких иллюзий в отношении белых мужчин. По словам госпожи Калвервелл, среди тех, кто завел в Аркадии интимные связи, есть премьер-министры, государственные советники и десятки членов парламента. Она знала одного крупного дельца, у которого было здесь два сына. Он заплатил каждому по 500 фунтов только за то, чтобы они сменили свои фамилии. Женщины редко подают жалобы на таких отцов, так как мало кто из них знает, что имеет на это право. Для детей, не имеющих отцов, специально создан сиротский дом Святого Иоанна. Во время нашей мирной беседы в комнату вбегает девочка и что-то шепчет на ухо Джо. Он улыбается, внимательно смотрит на дочь с коричневыми, похожими на штопор локончиками и, повернувшись к нам, говорит: — Я воевал. В Конго и Судане. Но у меня такое чувство, будто война продолжается. Будто она никогда не кончится.Типография на Марнет-сквер
Аркадии у Калвервеллов мы встретились с Адри Матимба, живой веселой голландкой двадцати девяти лет. Она жила здесь со своей трехлетней дочерью Ханнеке, пока муж ее, Патрик, сидел в тюрьме. Каждую неделю она отправлялась в Булавайо, чтобы навестить его. Она ждала второго ребенка. — Многие утверждают, что первое время человек живет здесь словно в состоянии шока, — обратился я к Адри Матимба. — Только потом начинаешь привыкать. — Первый день в Родезии такой же, как и последний, — ответила она. — К ней никогда не привыкнешь. Но здесь живут и прекрасные люди. Вот кусочек истории Адри и Патрика Матимба, которая является частичкой истории самой Родезии. В 1951 году Патрик уехал в Англию, работал в кафе, был пацифистом, изучал историю и юриспруденцию в вечерней школе. В Лондоне в Интернациональном клубе он встретил Адри ван Хоорн, дочь коммерсанта из Гуда; они поженились. В Южную Родезию Патрик вернулся в 1956 году. Но для него не нашлось дома на родине. Закон не запрещает африканцу жениться на европейке, но он запрещает представителям разных рас жить вместе, даже если они находятся в законном браке. Исключение делается лишь для миссионеров. Отец Патрика был священником на миссионерской ферме «Святая вера» (St. Faith). Туда и отправилась молодая пара. В городе Рузейп, близ которого расположена ферма «Святая вера», две крупнейшие партии «отметили» приезд Адри Магимба собранием в городском клубе. Участники собрания потребовали издать закон, запрещающий смешанный брак, и заявили, что в противном случае они потребуют новых выборов. Многие из них даже удивлялись тому, что Адри впустили в страну. Объясняя, почему такой закон нежелателен, член парламента заявил: «Действия подобного рода отодвинули бы возможность добиться статуса доминиона и дурно повлияли бы на табачный рынок». Но какая-то женщина не унималась: «Не удивительно, что, когда она идет по улицам Рузейпа, от нее отворачиваются и белые и черные». В федеральном парламенте был принят закон, запрещающий связи между белыми мужчинами и черными женщинами, связи же между черными мужчинами и белыми женщинами еще раньше считались преступлением. На заседании парламента Южной Родезии один политик говорил о смешении крови, о детях цвета кофе и повторял измышления медицинских квакеров о том, что от смешения рас дети рождаются уродами и слабоумными. Если верить стенографическим отчетам, то его речь прерывалась аплодисментами. Нисколько не огорчаясь своим происхождением, Хан-неке играла с местными ребятишками. Патрик участвовал в кооперативном движении на ферме «Святая вера». У них было много друзей. Ферма была известна во всем мире как единственный образец подлинного партнерства в колониальной Африке; сюда приезжали люди из многих стран. Когда в 1957 году был создан Африканский национальный конгресс, руководитель фермы Гай Клаттон-Брок и Патрик стали его членами. Интерес Патрика к политике был чисто интеллектуальным и академическим — собраниям с большим количеством народа он предпочитал занятия на различных курсах и участие в дебатах в самой миссии. Но невежды из тайной полиции зорко следили за всеми обитателями фермы. Не личные качества Патрика и не условия, в которых он был вынужден жить, делают его судьбу такой значи-[пропуск текста в оригинале]Так Патрик оказался на свободе, в то время как другие остались в заключении. Но ему было оказано не милосердие, потому что, как сказал один из его друзей, там, где нет справедливости, нет и милосердия. Когда в ноябре 1959 года я встретил его в Лондоне, Адри была в Голландии и Ханнеке играла с белыми ребятишками на улицах Гуда точно так же, как она играла с черными па ферме «Святая вера». Сам же он очень раскаивался, что уехал из Родезии, ему казалось, что он предал своих друзей. В Африке был его народ, его близкие, и там еще все оставалось по-прежнему. Каждый раз, когда я слышу хвастливые заявления о новых школах, больницах и хороших жилищах для африканских рабочих, я думаю о том, как была принята в Южной Родезии семья Матимба и в каких трудных условиях она была вынуждена жить там. Одно имя Матимба заставляет скрежетать типографские машины Федерации, на которых печатают пропагандистские побасенки. Но в Солсбери была еще одна типография, на улице Маркет-сквер, где в основном принимались заказы на именную бумагу для писем. Как и многое другое, она была уничтожена летом 1959 года.
Первый репортаж из Солсбери
Обед в Милтон-парке в низеньком домике с верандой, окруженной желтой мимозой. Раньше хозяева жили в Южной Африке, глава семьи занимал там высокий пост в одном из крупнейших страховых обществ, обосновавшихся южнее экватора. В Иоганнесбурге черные более воспитанны и не так ненадежны, как здесь. — Ненадежны? В каком смысле? — Спросите Маргарет, она хорошо это знает. Четырнадцатилетняя девочка, ученица третьего класса реальной школы, рассказала нам о том, как на днях в ее комнату, не постучавшись, вошел слуга. Она как раз вернулась из школы и переодевалась. Когда вошел слуга с бельем, на ней была лишь блузка и нижняя юбка. — Я стала кричать, чтобы он убирался, а он начал ругаться. Ее двенадцатилетний брат заверил нас, что он в это время лежал в комнате напротив и слышал, как сестра кричала, а Чимбо ругался. — Здесь никогда ни в чем нельзя быть уверенным, — вставила мать, выжимая лимонный сок. — Африканцы — бесстыжая раса. Мы приучаем детей быть осторожными и сразу же кричать, если кто-нибудь из них приближается. — Чимбо долго пялил на меня глаза, — продолжала девочка. — Я хотела плюнуть в него. — Он даже уронил белье, — в восторге добавил брат. — Вы, конечно, его выставили? — спросил я. — Мы предоставили это дело полиции, его отдали под суд, — вставил отец. — Он получил месяц заключения. Й, конечно, он заявил, что не имеет ни малейшего представления, за что его арестовали. — Они хитрее, чем мы думаем, — сказала мать. — Это-то и усложняет дело, — сказал отец. — Нет, мы не имеем права ничего менять. Представьте себе только, что было бы, если бы лифты были общие для нас и для африканцев. — Таких лифтов уже много, — возразил я. — Я бы не хотел, чтобы моя жена попала в один лифт с африканцем. Вдруг ему вздумалось бы нажать на все кнопки и держать ее в лифте сколько ему заблагорассудится. Ведь за лифтом нельзя наблюдать снаружи. — Обычно в каждом лифте есть кнопка для вызова помощи, — сказал я. — Но ее можно загородить, — заметила жена. Раньше нам казалось, что такие разговоры можно встретить только в романах. Но «дикий африканец» в лифте вскоре стал для нас настолько реальным, что мы готовы были поверить в возможность такого случая. Лифты — это идефикс многих. Как-то раз в ходе дискуссии по лондонскому радио выступал один родезиец. Совсем уже прижатый к стене своими оппонентами, он в качестве аргумента привел этот же пример с лифтом. — Сначала мы были напуганы, так же как и вы, конечно, — рассказывала одна шведка в Солсбери. — Но мы обращаемся с нашими слугами хорошо и не собираемся уезжать отсюда. Климат здесь чудесный, а в отношении остального со временем начинаешь понимать, что расовые границы не праздная выдумка, к этому в конце концов приходишь, когда поживешь здесь подольше. 46 процентов белого населения Федерации прибыло сюда из Англии и других европейских стран после 1953 года. Более половины из них привлечены обещаниями о предоставлении стране независимости. Эти данные были приведены сэром Роем Беленским в марте 1959 года в статье, где он также писал: — Несколько лет назад мы были всего лишь Джонами и Смитами, бродившими по дорогам Англии. Неужели вы думаете, что, прибыв в Африку, мы сразу же превратились в дьяволов?На лестнице загородного дома, куда нас пригласили на вечер, стоял американец, ужасно грязный, насквозь промокший, и чистил свою куртку. Вот что он рассказал: какой-то автобус с африканцами, проезжая через мостик, провалился и упал в воду. Наш знакомый помогал перевязывать раненых, выбравшихся через окна. Мимо проходило много машин с белыми, и они видели, что случилось, но не останавливались. Это произошло всего в десяти километрах от столицы, но скорая помощь, вызванная одним из африканцев, не пришла даже через сорок пять минут. Американец уже вытащил из воды одного мертвого, он израсходовал весь свой запас бинтов на раненых и спирт — на потерявших сознание. Когда мимо проходила какая-то пустая машина скорой помощи, ее остановили. Американец поддерживал двенадцатилетнего мальчика: рука у мальчика была почти оторвана, обнажилась кость. Водитель скорой помощи покачал головой. Нет, он не может взять его, он не имеет права брать пациентов не по вызову; его машина только для белых. Американец буквально сунул руку мальчика под нос водителю. Но тот все же уехал. Стоявшие на дороге африканцы только смотрели вслед пустой машине. Наш знакомый сам отвез мальчика в городскую больницу в Харари. На следующий день «Санди Мейл» давала отчет о несчастье: «На месте происшествия быстро начались спасательные работы, автобус поднят. Из пятидесяти двух человек погибло пять». Пусть африканцев считают политически незрелыми, по форма партнерства, подобная этой, заставляет сделать соответствующие выводы даже самого глупого из них. Для белых это маленькая неприятность, для черных— незабываемое событие. Когда грянет следующий взрыв возмущения и новые жертвы падут на землю, на лицах белых вновь появится удивление; почему? почему? Ведь все идет как обычно. Что же особенное произошло?
На углу тихо разговаривают африканцы. Белые пожимают плечами: нет смысла учить их язык, они не говорят ничего важного. Но иногда господа, на которых возложена ответственность за страну, смотрят в их сторону с опаской и не без удивления. У лесов строящегося дома поют африканцы, подавая белым строителям доски. Им милостиво разрешают также таскать кирпичи и месить глину; но одно им запрещено: прикасаться к лопатке белого каменщика, воздвигающего стену. — Знаешь, что они поют? — спрашивает меня Джошуа. — Популярную песню на языке шона: «Катись ты к черту, белый человек!» Европейцы думают, что это какой-то старинный национальный гимн.
Энох Дамбатчена сидел в библиотеке и просматривал журналы «Харпере» и «Крисчен Сайнес Монитор». Библиотекарем здесь был молодой африканец. Мы были у Эпоха дома в Хайфилде в тот самый день, когда министр иностранных дел отказал в выдаче ему разрешения на выезд в Америку. В свое время Энох был учителем в шведской миссии в Мнене, а сейчас он писал для оппозиционных газет в Южной Африке. Молодой человек, шофер грузовика одной из фирм, зашел в библиотеку, чтобы почитать в обеденный перерыв. Это был кандидат философских наук, окончивший университет в Южной Африке. Когда он вернулся в Родезию, оказалось, что он «отстал от практической жизни» — ни одна школа не захотела иметь его в качестве преподавателя.
Банк «Стандард Банк оф Саут Африка» с филиалом на Сесил-сквере, где есть счет на мое имя, решил расширить свою деятельность, распространив ее на бережливых африканцев. С этой целью предполагается обучить четырех африканцев и посадить их за окошечки. Это многообещающее намерение заставило отказаться от работы восемь служащих, главным образом дам.
Параграф из действующих поныне муниципальных предписаний: «Туземец не имеет права пользоваться тротуаром на улицах и площадях Солсбери; каждый туземец, нарушивший это правило, облагается за подобное преступление штрафом, не превышающим двух фунтов». Жители локаций, появляющиеся в городе в часы пик, демонстрируют свое уважение к закону. На улицах африканские ребятишки продают еженедельник «Ситизен» — иллюстрированный, падкий на сенсации журнал Родезии, придерживающийся крайне правой ориентации. Они не обращают никакого внимания на сексуальные и расистские заголовки: «Белая женщина в африканском морге», «Черные конторщики с нашими женщинами». А после того как африканским врачам было запрещено вскрывать трупы белых, в правительственной газете появилась заметка читателя: «Вы оказали бы неоценимую услугу своим читателям, посоветовав им, как избежать контакта между расами после смерти. Невыносимо думать, что неевропейцы роют могилы для наших близких и забивают гвоздями их гробы. В нашем обществе должен быть установлен принцип rigor mortis[18]».
Но даже в этом городе можно иногда избавиться от постоянного напряжения и вкусить минуты безмятежной радости. Щебетание птиц в летний погожий день, яркие витрины, у которых стоишь и наслаждаешься, — сколько еще есть на свете прекрасного, чего раньше не замечал Вратарь на футбольном поле тщетно пытается достать мяч из верхнего угла ворот, точно так же, как и все вратари нашей планеты. Лицо девушки, встретившейся на улице, наполняет каким-то странным томлением: была бы она так же хороша, если бы прошла чуть-чуть медленней? День продолжается. Для тех, кто не был создан по образу и подобию божьему, деревья шелестят листвой так же, как и для нас. И ты замечаешь: я проснулся еще только наполовину.

ПРОСЕЛОЧНАЯ ДОРОГА

Жизнь под солнцем
Я БОЛЬШЕ не считал себя обязанным посещать как стипендиат званые обеды, клубы. «Изучи страну, принимающую тебя как гостя… Помоги твоим соотечественникам понять, что…» В требованиях, предъявляемых стипендиату, имелся двоякий смысл, это-то и дало мне право вести себя так, как я хотел. Меня все время преследовало желание вырваться за белоснежные стены, отбросить то, что мешает приблизиться к настоящей Африке. Африканец по имени Хенри, владелец небольшой мастерской в Харари, увидел как-то нашу машину и согласился поехать с нами, чтобы помочь нам изучить природу Южной Африки и жизнь населения в резервациях. На дорожных картах фирмы «Шелл», имеющей свои отделения во многих странах мира, эти резервации не обозначены; на них не нашлось места даже для самых густонаселенных районов Федерации. Один из первых белых поселенцев, не то Бейкер, не то Селоус, как-то записал в своем дневнике: «День без событий. Мы встретили лишь одного туземца и одинокого павиана. Обоих застрелили». Но в Солсбери, в клубе автолюбителей, мы нашли карту, где было обозначено все. Когда мы ехали, голубые зимородки кивали нам своими головками с телеграфных проводов. В небе парили птицы, похожие на куропаток; время от времени они, плотно прижав крылья, камнем падали вниз. Стаи цесарок проносились над полями, заросшими космосовыми цветами, самым красивым сорняком Родезии. Дорогу образую! лишь две тонкие асфальтовые ленты, бегущие среди ям и кучек гравия. Встречная машина вынуждена свернуть в сторону, подняв облако красной пыли. Часто встречались знаки, предостерегающие о пересекающем дорогу потоке воды — это означало, что за поворотом нужно будет либо замедлить ход, либо остановиться. Зверей мы видели мало. Иногда попадались дикие бородавчатые свиньи: тяжелое тело на тонких стариковских ножках, громадная вытянутая морда с опущенными вниз клыками, которыми свинья разрывает землю в поисках кореньев. На высокой мимозе семейство грифов свило гнездо из кусков кожи и шерсти. Грифы пепельно-серого цвета, с белой грудью и голубоватым клювом. Одна из птиц летит к своим птенцам, неся в клюве мясо какого-то животного, которого она только что нашла па дороге. В тропических странах можно встретить птицу, которую называют птица-час;ы. На Юкатане она называется так потому, что два длинных пера ее распушенного хвоста напоминают стрелки на циферблате часов. Здесь мы эту птицу не видели, но однажды услышали ее мелодичный звон, похожий на бой часов, потом скрежет — будто птица заводила часы, а затем с неба полилась мелодия, словно для того, чтобы разбудить нас. Посреди дороги стоял африканец и разговаривал с другим, который неподалеку пас стадо коров. Я дал сигнал, человек повернулся и поднял руку, растопырив пальцы — африканский способ останавливать машину. Поднятый по европейскому обычаю большой палец является символом борьбы за свободу, которую ведет Национальный конгресс, и потому этот жест запрещен. В независимых странах Африки часто пользуются попутными машинами, в Родезии — довольно редко. Мы пригласили африканца в машину. — Вы едете на тайную встречу или на стадион? — спросил я. — Я прошел уже сто миль, — ответил он. — В двадцати милях отсюда живет жена моего племянника, он родила первого ребенка. — Нам по пути. Хотите что-нибудь поесть? — Нет, спасибо. Мы вытащили бутерброды и начали есть. Наш пассажир прислушался к легкому причмокиванию. Он ждал, когда его будут упрашивать разделить трапезу — так принято в сельской местности. Я видел это по выражению его глаз в зеркале. — Ну, возьмите же! Бутерброд мгновенно исчез в бездне его рта, где зубы остались только с правой стороны. Когда пища начинала угрожающе соскальзывать в левую половину, он, сунув в рот большой палец, перекладывал ее на другую сторону. — У вас с собой Библия, — заметила Анна-Лена, — вы идете из церкви? — Мне она заменяет грамматику. Я учу члены предложения. — Но ведь вы, наверное, уже давно окончили школу? — Да. Но я ходил только в первые классы. А если мы когда-нибудь будем управлять страной… — Управлять? — Я имею в виду, что мы будем участвовать в управлении, — подчеркнул он и смущенно засмеялся. — Тогда нам надо будет хорошо знать язык С языком шона нетрудно Я даже написал роман на этом языке. Ему было около пятидесяти, это был не первый автор романа, которого мы здесь встретили. Большинство африканцев, занимавшихся этим, писали романы на своем диалекте. Я видел аннотации некоторых из таких романов. В них рассказывалось о скупом торговце, о разбойниках, о том, как мужчина, женившись в городе, вынужден возвращаться в деревню, так как его средств не хватает на удовлетворение запросов жены. Государственное литературное бюро, поощряющее местные языки, даже напечатало некоторые рассказы, в основном автобиографического характера, интересные с точки зрения изучения нравов и обычаев. Они написаны теми, кто обычно занимается выписыванием налоговых квитанций или поет в церковном хоре. — А ваш роман, — спросили мы, — о чем он? — Один человек построил школу для своего народа, но его тольковысмеяли, никто не захотел учиться. А потом пришли белые из Солсбери и сломали школу, потому что у этого человека не было разрешения на ее постройку. Тогда он бросился с обрыва. Но я лучше прочту вам из Библии. И он прочел: «Глазами вы смотреть будете, и не увидите». Это были слова Иисуса из Евангелия. Мы сидели молча и думали. — Ну, — сказал он нетерпеливо, — смотреть будете — сказуемое, глазами — дополнение, а что такое не увидите? Мы объяснили. — О, Ной, — упрекнул он себя, — ну и дурак же ты, ведь тысячу раз я пытался тебе это втолковать. Так мы узнали, как его зовут. Мы подъехали к резервации, где жил племянник нашего попутчика. Во все стороны ответвлялись узкие дорожки, ведущие к африканским наделам. Мы предложили нашему пассажиру подвезти его поближе и попросили быть нашим переводчиком. Он согласился, и мы поехали дальше между низкими деревьями мвунгути, продолговатые плоды которого глухо били по верху машины. Деревня похожа на крааль, какой можно встретить в любой части Африки: круглые глиняные хижины с травяной крышей конической формы, некоторые хижины — четырехугольные, как дома белых. Хижина напоминает клетку для птиц из тростника, сплетенную вокруг врытого в землю столба. Глина для стен берется, как правило, из термитников, там она уже чистая. Глину смешивают с водой, разминают ногами и затем, пока она еще сырая, ею обмазывают плетеные стенки. На местном базаре росло манго — дерево, которое дает самую прохладную и самую густую тень. Солнечные лучи в его ветвях танцуют, словно ртутные шарики, а под густой листвой всегда можно найти место для свиданий и задушевных бесед. Здесь, в тени, морщинки у глаз исчезают, зрачки расширяются. Прямо на голой земле раскладываются товары: бататы, бананы и бобы. Мы заговорили со стариком, который, казалось, весь состоял из костлявого позвоночника, темно-коричневого, словно дубленого лица да четырех кривых веток вместо конечностей При вдохе его губы растягивались, обнажая десны, будто он собирался громко засвистеть. Мы спросили, хотел бы он жить в городе. Нет, ответил он через нашего переводчика, там он никому не нужен; ведь там не делают того, что он умеет, его убили бы. Там живут люди, которые получают деньги за то, что сажают других в тюрьмы. Он сказал, что никогда не смог бы оставить землю и свой скот, но хотел бы научиться читать и писать, хотя теперь уже поздно. Он больше доверяет своим коровам, чем белым людям, так как знает, что нужно коровам, но не понимает желаний белых людей. Он дает коровам корм, они ему— молоко. А уплатив белым налог за хижину, он ничего не получил взамен, кроме недели голода. Мы заметили, что к старости голоса у африканцев становятся звучнее и окрашиваются в полутона, как звуки деревянных духовых инструментов. — Где ваши дети? — спросили мы у старой женщины. — В городе, — ответила она. — Женаты? Она кивнула: — Три сына. — А вы были в городе? Она качает головой. В глазах ее появляется тревога. Она никогда не видела своих невесток, и думы о них не дают ей покоя. Они, наверное, совсем не похожи на нее, ведь она никогда не думала ни о своей одежде, ни о красоте, ни о возрасте. Может быть, они носят даже нижние юбки по праздничным дням, для нее же дни делились только на сухие и дождливые. Она не знает и не может себе представить, что такое город. Перед ее домом стоит пресс для размола зерна — кусок дерева, похожий на песочные часы. На стенах под самой крышей сушатся маисовые початки. Пиво здесь делают так. Маисовую муку размешивают и холодной воде и выливают в сосуд с кипятком. В другом сосуде уже бродит в течение суток зерно, которое затем перемалывается и тоже выливается в эту смесь. Все оставляют на ночь. К утру смесь начинает слегка бродить, тогда ее вновь ставят на огонь, и на седьмые сутки пиво готово. Оно светло-коричневого цвета, вначале сладкое, но по мере брожения становится все кислее. Вокруг нас собираются ребятишки и с любопытством разглядывают машину. Они-то, кажется, не боятся города. Волосы самых маленьких тусклого рыжего цвета, что типично для истощенных и больных пупочной грыжей детей. Девочки на тонких, словно отполированных ножках; они переступают с ноги на ногу, стараясь удержать на голове огромные охапки дров и корзины с фруктами. Анна-Лена вырезала из пустого пакета несколько кукол и достала коробку из-под пирожных. К крышке коробки приделана фигурка рыжеволосого мальчика, стоящего на голове. Его можно заставить прыгать при помощи веревочек с обратной стороны крышки. Мы отдали это все ребятишкам, они захлопали от радости в ладоши и занялись подарками. Двое мальчиков крепко взялись за руки, а третий взобрался на них, как на качели. Мальчики поднимают и опускают его, будто качают воду, и поют песню: «Птица пьет воду клювом, птица пьет воду клювом». А малыш, сидящий у них на руках, вставляет: «Она это делает вот так». Переводчиком был наш дорожный знакомый, жители резервации говорили только на языке шона, и нам все время казалось, что они говорят о нас. — Девочки хотят спеть для вас, — сказал Ной. Мы подумали, что они поют шуточную песню: они притопывали ногами и смеялись. Но Ной перевел ее содержание примерно так:Разделенная земля
Мы побывали в Лунди, Чиби, Нданга, Саби и других резервациях. Мировоззрение африканца неразрывно связано с землей. Бог дал человеку воздух, воду и землю. Земля никому не принадлежит, и ее нельзя купить, тем более за деньги. Люди возделывают землю, чтобы все были сыты. Можно иметь много жен, детей, скота, но земля принадлежит общине. Африканская земельная община была прочной, пока белые не подорвали чувство коллективизма, заменив его понятием частной собственности. Любой африканский крестьянин знает, что такое за кон о земле, так называемый «ленд хасбендри акт». Он видел, как белые сначала ограничили земли, предоставляемые черным, а теперь завершают этот захват путем гак называемых реформ. Те, кто теперь правят страной, заявляют, что реформы необходимы якобы из-за перенаселения. Между тем, земли, выделенные для европейцев, остаются невозделанными. Фермы белых у границ с резервацией обычно занимают несколько десятков гектаров. Одни фермы принадлежат владельцам, которые постоянно живут здесь, другие фермы являются собственностью «Де Беерс» или другой крупной южноафриканской компании, а бывает и гак, что владелец фермы — какой-нибудь английский коммерсант— наезжает сюда раз в пять лет только ради инспекции. Мы видели фермы, где была обработана лишь одна десятая часть земли, остальные же девять десятых с нарастающей быстротой покрывались джунглями и кустарниковыми зарослями, превращая гранитный песок пограничных участков резерваций в плодородную землю. Европейцам принадлежат 48 миллионов акров (1 акр — 0,4 га), коренным жителям — 39 миллионов акров земли. Из 250 тысяч европейцев примерно 10 процентов — землевладельцы. Из 2,5 миллионов африканцев землевладельцы составляют свыше 80 процентов. В «европейских» областях возделано 1100 тысяч акров. В ноябре 1958 года сэр Эдгар Уайтхед заявил, что еще 307 тысяч африканцев должны быть готовы к тому, что станут землевладельцами в африканских областях. Но уже полгода спустя он рисовал, как я уже говорил, радужные перспективы для 60 миллионов человек, имея в виду будущих иммигрантов. Африканцы говорили мне, что им нет дела до плугов, эрозии почвы, удобрений. Если участок африканца будет выглядеть так же хорошо, как участок белого соседа, последний решит, что разница между ними слишком мала, и отберет землю. Можно убеждать их, что думать так — глупо. Но чему это поможет, если подобным образом с ними поступали настолько часто, что уничтожили у них всякое доверие. Официальная статистика сообщает, что в 1949–1956 годах 80 тысяч африканцев были переселены в «специально подготовленные для этого районы». Кроме того, 22 тысячи человек народности тонга были выселены из долины Замбези в связи с созданием Карибского водохранилища, не получив никакой компенсации. После 1956 года осталось переселить еще 30 тысяч человек. Государство понимает, что этим племенам не хочется покидать то, что они называют своей родиной; племя тонга, например, прожило в своей долине восемьсот лет. В некоторых случаях при переселении государство надеется, говоря словами отчетов, на «доверчивое послушание этого терпеливого народа», в других оно вознаграждает лояльность племени тем, что откладывает переселение. Оно, очевидно, считает, что африканцы подвергаются тому, что может случиться с белыми лишь во время войны и оккупации. Крестьянин больше привязан к своему родному дому, чем горожанин. Крестьянин кровно связан с землей, и когда его изгоняют из родных краев, то не только лишают его клочка малоплодородной земли, но и разрушают его привычки, традиции — все, что составляло основу его жизни. Карен Бликсен в своей книге «Африканская ферма» пишет об этом: «Постоянно лишать их всего, что они привыкли видеть и что надеялись увидеть, это все равно, что выколоть им глаза». Вот почему африканцы, переселившись на новые места, долго не могут к ним привыкнуть и дают горам и рекам названия, принесенные из родных мест. Многие умирают от болезней, другие чахнут от непривычной обстановки, которая для них равнозначна медленной смерти. В большинстве резерваций нет ни электричества, ни водопровода, нередко на их территориях распространена муха цеце. Обычно под резервации отводится худшая земля — песок. Есть, однако, и живописные места — там, где климат не позволяет жить белым, — вдоль границы с Южной Африкой и по соседству с Мозамбиком. Школы плохие, дороги отвратительные. Из-за отсутствия хороших дорог африканец не может сбывать свой урожай. Лишь по соседству с городом есть смысл выращивать овощи. По традиции, африканцы придерживаются многополья. Земля содержится, таким образом, в хорошем состоянии долгое время. Когда земля отдыхает от зерновых, ее засеивают травой. Современная наука говорит, что песчаная почва лучше всего сохраняется, если она занята травой столько же лет, сколько находится под посевами. В конце пятидесятых годов африканские крестьяне вынуждены были перейти на так называемый «интенсивный севооборот». Семья, располагающая лишь 2–6 акрами земли, не может позволить полю лежать под паром. Она вынуждена сеять каждый год, а так как искусственных удобрений нет, то земля вскоре становится неплодородной. Естественного удобрения тоже не хватает, так как количество скота ограничено до минимума, и он пасется на выгонах, принадлежащих общине. Кукуруза, бобы, рапоко — такова схема многополья в Южной Родезии. Европейцы приезжают в Родезию из стран, где эта система обычна. Но вместо пяти десятков акров земли в Англии или Голландии здесь они получают — с помощью государственного займа — тысячи акров. При этом они переходят на систему многополья, которую запретили африканцам. Гай Клаттон-Брок, лучший знаток сельского хозяйства и расовых отношений в Родезии, сказал как-то, что хорошего сельского хозяйства в стране не может быть просто потому, что в распоряжении африканцев слишком мало земли, а у европейцев ее слишком много. Комиссаром по делам аборигенов, управляющим одной или несколькими резервациями, может быть восемнадцатилетний европеец, даже не имеющий высшего образования. Иногда такой комиссар совсем не соответствует своей должности, иногда он отлично справляется с ней, но почти всегда он относится ко всему с отеческим превосходством. Африканцы редко идут к нему с жалобами, так же редко они обращаются к наместнику резервации, чаще всего несведущему человеку, находящемуся под непосредственным контролем правительства; многие утверждают, что те из них, кто успешно ведет работу против Национального конгресса, получают в месяц тройную заработную плату. Именно поэтому африканцы идут к руководителям Конгресса, ведь только они полностью сознают все опасности для будущего в связи с нынешним положением в стране и только они уберегают страну от отчаяния, в которое нетрудно впасть, когда видишь, как африканцы постепенно превращаются в безземельных бродяг. Закон о хозяйственных землях туземцев ограничивает не только наличие скота, полей и выгонов. До пятидесятых годов любой коренной житель резервации имел право возделывать землю. Теперь это право предоставляется только тем, кто официально зарегистрирован фермером. Цель этого мероприятия — вынудить африканцев переходить на работу к европейцам, на белые предприятия и фермы. Так обеспечивается постоянный приток рабочих рук в белые области. Белые работодатели не испытывают недостатка в рабочей силе и могут держать расценки на очень низком уровне. Ведь заработок сельскохозяйственного рабочего равен 37 кронам в месяц, то есть составляет около половины самой низкой заработной платы рабочего в Солсбери. Вне резерваций африканцам разрешается жить только в миссиях, университетском городке и локациях. Но практически каждый африканец, живущий в городе или работающий на фабрике или руднике, может быть в любой момент выселен из дома и выслан — ведь он полностью находится во власти местной администрации. При этом большинство из них теряют все, поскольку город не дал им никаких прав. Такого рода дискриминация ведет к еще худшим последствиям, чем та, которая заметна даже обычному туристу. Распадаются семьи, разрушается традиционная жизнь в деревне «во имя экономического развития», создаются трущобы и лагеря для холостяков в городах. В Северной Родезии и Ньясаленде не было такой сегрегации. Потому-то африканцы этих стран и были против объединения в федерацию. Они считают, что у них достаточно оснований бояться, что Южная Родезия как доминирующее государство может перенести апартеид и за реку Замбези. Африканцы мрачно смотрят на будущее своих детей, ведь молодежь утратила желание работать, так как она не уверена, что не будет лишена своих хозяйств. Если правительство намерено уничтожить «тупость» населения резерваций, то ему следовало бы прибегнуть к более гуманным методам, чем изгнание людей из собственного дома: например, улучшить систему здравоохранения и образования и дать африканцам возможность распоряжаться своим урожаем. Если государство хочет всегда иметь рабочую силу в промышленности и сельском хозяйстве, оно должно увеличить заработную плату, улучшить жилищные условия и условия труда. Но вместо этого страна, входящая в Британское содружество наций, пытается решить свои проблемы введением репрессивных законов, отнимающих у человека свободу.Он купил уединение
Ричардсон, Хьюз, ван Рин — фантазия начинает разыгрываться при виде всех этих имен на круглых жестяных вывесках и красных камнях витой лестницы, ведущей к уединенной фермерской усадьбе. Адрес фермы дал нам один американец из Каира во время нашего переезда из Умвума в Гвело. Мы провели много часов у ее владельца, не похожего ни на кого из встреченных нами ранее. Американца из Каира он, конечно, не помнил. — Если через несколько лет вы пришлете кого-нибудь, — сказал он, — я и вас не буду помнить. Он сбросил с себя бремя Европы, приехал сюда и арендовал «кусочек уединения», немного позже он купил еще одно «уединение» диаметром в несколько миль. Только тогда он увидел здесь чистый горизонт и легко вздохнул. Он приехал в Африку не для того, чтобы найти там людей, а чтобы избежать их. Он насаждал цивилизацию в диком крае, но не желание быть пионером заставляло его делать это, а желание бежать от культуры, которая преследовала его по пятам и гнала прочь из старого мира. Его тянуло в пустое пространство, где можно отдохнуть от расписаний и беспокойных дорожных перекрестков. И Африка была для него последней возможностью найти такое уединение. Это был маленький, неряшливый человечек, с клочками волос на затылке и загрубевшей коричневой кожей. Мы сидели в открытой побеленной гостиной с вентилятором на потолке и пили виски. Термиты беспрерывно атаковали дом, и, казалось, никакие химикалии не могли им противостоять. А между тем пол у книжных полок и в кладовой был пропитан скипидаром, ножки кроватей предусмотрительно были поставлены в консервные банки с керосином. Мы задали обычный вопрос, почему он уехал из Англии? — Чтобы не думать о респектабельности и месте в обществе, — объяснил он, — Я не люблю заниматься хозяйством. Я управляю фермой довольно плохо, но это никого не волнует. Кроме моей жены. Его жена выглядела довольно грустной и несчастной. Она и дочь вышли, чтобы поздороваться с нами, но фермер делал вид, что не замечает их. Они сели в сторонке, принимая, очевидно, нас за его деловых знакомых. Все время, пока мы находились на ферме, они сидели на веранде в плетеных креслах, подобные «вечным существам» — норнам: мать, полусогнувшись над пряжей и вытянув толстые ноги, возле нее дочь, с большой грудью и огромной охапкой каштановых волос; полузакрыв глаза, она вязала, время от времени обращаясь к рисунку. Они доверительно шептались, очевидно, это были сплетни или совет, затем длинная пауза и опять ответное слово — казалось, они никогда не отнимали от уха невидимой телефонной трубки. Мы ходили осматривать владения. Табака он выращивал вдвое больше, чем кукурузы, имел тридцать коров, белого надсмотрщика и около сотни работников африканцев. Таково было его «уединение». Двор занимал пять тысяч акров земли и был огорожен со стороны проезжей дороги. — Иногда бывают хорошие урожаи, иногда — плохие, — сказал он. — Счастье зависит от случая. Я ведь не специалист. В тридцатые годы я торговал железом в Ноттингеме. Я никогда не читаю сельскохозяйственную страницу в «Родезиа геральд», где пишут о картофеле на ферме Девидсонов в Гвинея Фоул, о турецком табаке у Брэдлей в Энкельдорне, о чьих-то экспериментальных курсах по свиноводству… В нем не было ни респектабельности, ни честолюбия; он приехал в Африку не для того, чтобы стать агрономом, он приехал сюда для того, чтобы быть никем. Мы осмотрели жилье для рабочих, оно было похоже на то, что я видел и раньше. Одеяла прямо на влажном земляном полу, тут же кухонная посуда, и хотя хижина новая, весь потолок в копоти. В большинстве хижин — низкий стол, иногда рядом коровья шкура, но нигде я не видел ни одного стула. Если не считать лохмотьев, висящих на гвозде, личных вещей вообще не было. Перед хижинами груды калебасов — сосудов для питьевой воды, стеблей сахарного тростника и сушеных диких фруктов. В сарае при ферме была школа. Учителю хозяин платил несколько фунтов в месяц. В этом сарае дети сельскохозяйственных рабочих сидели на деревянных скамейках, которые они сами сколотили. Когда мы вошли, дети обрадованно закричали: — Добрый день, сэр! Добрый день, мадам! Каждый из них хотел подойти к потрескавшейся лоске и написать несколько букв. Они едва могли спокойно усидеть на месте. Одной девочке нужно было написать «sky» — небо, но она сделала ошибку и написала «ski». Другая девочка бросилась вперед, чтобы исправить, но не смогла дотянуться до доски и чуть не расплакалась. Тогда длинноногий мальчик почувствовал, что может показать себя, стер букву «i» и под диктовку самой маленькой девочки написал «у». Учитель был очень молод и серьезен, около него стоял ящик с камешками, на которых он учил ребят считать. Помещение пропитано запахом табака, маисовой каши и куриного помета. Дети здесь занимаются во второй половине дня, с трех до шести часов. С утра до двух часов дня они укладывают в пачки табачный лист и затем в виде вознаграждения им разрешается идти в школу. Даже «не умеющий хозяйничать» фермер получал таким образом деньги. Когда мы уходили, дети стоя прощались по английски: — Good-bye, sir! Good-bye, madam! Когда побываешь в африканской школе, невозможно остаться равнодушным. Хочется, чтобы и ты сам, и другие научились этой детской радости и усердию, чтобы эти дети жили в стране, которая до неузнаваемости отличалась бы от той, в которой они живут сейчас. Через табачные поля мы вернулись к стоявшей на пригорке белой фермерской усадьбе. Мы стали доверчивей друг к другу. Мимо жены и дочери хозяина, все так же сидевших на веранде, мы прошли в рабочий кабинет, чтобы выпить по стаканчику виски. Только здесь мы познакомились с настоящими интересами хозяина. Подобно всем одиноким людям, он был всезнайкой. Каждый день один из его пяти слуг отправлялся на велосипеде на бойню и в почтовое отделение, расположенные в пятнадцати километрах от фермы. Из Солсбери на его имя приходили иностранные газеты и книги из магазина Кингстона и Шеферда. Он вырезал заметки о поступлениях в зоопарки мира, о строительстве новой плотины в Сибири или о сносе домов на площади Пиккадилли и даже о ценах на железнодорожные билеты по линии Булавайо — Лоренсу-Маркиш. Он презирал невежество. Он жил в одиночестве где-то между Гвело и Умвума только потому, что не выносил белых людей, бездумно прожигавших жизнь в перенаселенном мире. Сквозь пыль от старых газет, накопленных в кабинете, он с сожалением взирал на своих близких. Его интересовало буквально все: Светятся ли звезды сами по себе, или лишь отражают солнечный свет? Сколько пород птиц на Ян-Майене? Почему Дрезден называется Дрезденом? Мы обменялись обеспокоенным взглядом — да, он старался. Но не для этого мира; задавая вопросы, он смотрел на нас откуда-то издалека и словно говорил: о вашем существовании я забуду очень скоро. Вокруг его бессвязных знаний сами по себе росли кукуруза и табак, а жена и дочь мечтали об обществе и сетовали на несчастную судьбу, в которой их муж и отец видел триумф своей жизни. Мы выпили на прощание. Он взял со стола рекомендательное письмо от нашего американского друга из Каира: — Вы можете воспользоваться им в другом месте. — Но ведь на нем ваше имя! — Здесь много Ричардсонов. Напишите только другие инициалы! Он заставил нас взять письмо обратно. Казалось, он хотел закрыть дверь, которая раскрылась по ошибке. С письмом в руках мы вспомнили гоголевского Чичикова, разъезжавшего по русским имениям и встречавшего самый разный и необыкновенный прием. Родезия была открыта для нас.Встречи в Форт-Виктории
— О, я думал это Геоф! — воскликнул при виде меня владелец лавки. — Нет, наверное, он пропылил мимо… Вошел африканец, чтобы купить бутылку пепси-колы и несколько сигарет. На нем были жокейская шапочка и темные очки. Когда он ушел, хозяин заметил из-за прилавка: — Раньше они носили перья и маски дьявола и плясали вокруг костров у пещер и при затмениях. Что получил этот парень взамен всего этого? Кока-колу, сигаретные окурки, велосипед, который без конца ломается. Раньше он жил бы в Зимбабве. Никто из нас не знает, что потерял, достигнув нынешней стадии цивилизации, хотел заметить я. Но вместо этого сказал, что африканец, быть может, и не носил бы перьев и не жил бы в Зимбабве. И тогда он, наверное, был бы таким же незаметным, как и теперь. Да если бы мы и жили во времена Римской империи, то еще неизвестно, были бы мы среди тех древних римлян, имена которых дошли до нас. Потом мы зашли за продуктами в мясную лавку. Нас обслуживал очень приветливый молодой продавец. Но, увидев африканца, стоявшего за нами в очереди, он буквально зарычал: — Чего спишь, кафр! Африканец вздрогнул и от растерянности забыл, зачем пришел. — Ну давай говори что тебе нужно! Не могу же я возиться с тобой целый день! Привыкший сносить любые оскорбления белых, африканец вежливо попросил несколько колбасок. У молодого продавца был такой вид, словно он значительно вырос в наших и своих собственных глазах. Это случилось в Форт Виктории, самом старом городе Родезии. Главная улица города названа именем Алана Уилсона, первого белого человека, вступившего на его землю. Улица длиною всего в несколько сотен метров — часть шоссе Солсбери — Иоганнесбург. В здании, на котором развевается британский флаг, на первом этаже расположена почта, а на втором — библиотека. На этой же улице находятся гостиница «Виктория» и еще одна гостиница, несколько банков — «Стандард Банк», «Барклай Банк», «Провиденшиэл Иншуэренс», универсальный магазин «Майкл», булочная с залом, где можно выпить чашку чаю, винный магазин под зеленым навесом. Большинство городов этой части Африки выглядят так же, с такими же банками и универсальными магазинами вдоль главных улиц. Как и все города Родезии, Форт-Виктория имеет свою африканскую локацию и тоже на довольно большом расстоянии от белых кварталов. Вывеска у въезда в нее призывает вас сообщить белому управляющему о цели приезда; но мы не стали этого делать. Мы просто хотели передать привет мяснику Джосиа Гондо от его друзей из Харари. В его лавке толпился народ. Люди покупали сердце, печень, легкие, желудки — внутренности дешевле всего и покупаются наиболее охотно. — Они готовят пищу на кострах, — сказал Джосиа Гондо. Это был полный, добродушный, довольный собою человек; он был не только мясником, но и председателем футбольного союза африканцев южного района — один из важнейших постов, которого может добиться африканец. — Не говорите со мной о политике! — попросил он и погрозил пальцем. — У меня ведь покупают сотни европейцев. Но ни один из его белых заказчиков не показывался в локации. Он посылал им товар на дом. Форт-Виктория — центр сельскохозяйственной области, в которой большинство жителей являются членами реакционной партии Доминиона. Мы заговорили о других вещах, но чаще всего вместо ответа слышали его раскатистый смех. Перед уходом он сказал: — Люди из Европы нам по душе. — Почему же? — В Англии и Скандинавии нет расовых предрассудков, высокая зарплата и нет бедных. Европа представлялась ему Эльдорадо — сказочной счастливой страной, где все расы жили так же хорошо, как здесь белые. Еще до нашей поездки сюда я спросил одну девушку, что она думает об Африке. Она была продавщицей табачного магазина в Стокгольме, где я иногда покупаю газету. Африка в ее представлении была большой страной со многими провинциями, населенная дикими животными, язычниками, миссионерами, страна, где почти не нужна одежда. Как было бы хорошо, если бы моя знакомая из табачного магазина и этот добродушный мясник могли встретиться за стаканом пепси с соломинкой. Она внесла бы поправки в его представления о европейском Эльдорадо, а он смог бы рассказать ей, что он сам, как и она, мечтает увидеть льва, людоеда и пляски перед боем. И оба они согласились бы с тем, что рассказы людей — наполовину ложь и что учебники, по которым они изучают другие страны, уже устарели; они пытаются показать скорее различия, чем сходство в жизни разных народов, — так более занимательно; это знают все, кто снимает фильмы или пишет в газеты. Она бы поняла, что ее учебник отстал на несколько поколений, а он. быть может, понял, что для него учебник еще не написан. И он, может быть, сказал бы ей еще, что чем больше европейцы стремятся видеть Африку, состоящей из нескольких стран, тем больше сами африканцы желают видеть в ней единую страну — свое отечество. Покидая город, мы думали об эмигрантах послевоенного времени, привлеченных сюда грандиозными обещаниями. Им, видимо, не раз пришлось пережить разочарование. Воспитанные на ковбойских фильмах, они ожидали встретить здесь дикую природу, а нашли совсем другую картину: аптекарский магазин, начальная реальная школа, продавец грек в бакалейной лавке, крестьяне, говорящие на африкаанс. Надгробная надпись на загородном кладбище говорила о разочарованиях поселенца:Вечер на плато
Один за другим с деревьев падают листья, и сразу же их место занимают новые — так на одних и тех же ветвях встречаются осень и весна. Мы видели это на разных деревьях: на момбо, кора которого хороша для веревок; мхенга, из которого в Африке делают ручки для кирок и мотыг; марулаце, из плодов которого белые делают соки и желе, а черные — пряные напитки. Под колесами машины огромные, больше человеческой ступни, листья шуршат, будто мы едем по ржавому железу. Я выхожу из машины и, пробравшись сквозь кустарник, усаживаюсь на жесткой траве. Передо мной, словно покрытая серо-зеленым брезентом, лежит спокойная степь, готовая выдержать любые испытания. Вглядываюсь в небо, надеясь увидеть птиц, но тщетно — ведь до вечера еще далеко. Все замерло в ожидании живительной прохлады; в воздухе — бледно-розовое марево от раскаленной земли. В этих просторах чувствуешь себя одиноким, как в безбрежном океане. Такое чувство я испытывал в детстве, когда убегал от друзей и близких в лесную чащу, чтобы подумать, разгадать какую-то тайну. Люди, голоса, обязанности — все исчезает, остаются лишь загадочные зарубки на коре деревьев да таинственный шепот листвы. Здесь постигаешь значение слов: смерть, трава, облака. И вдруг в этом одиночестве появляется жизнь: мимо проходит, чопорно вышагивая, птица-секретарь, часто встречающаяся в африканских степях. Всем своим видом она напоминает писаря начала XIX века в его единственном, уже изрядно потрепанном костюме. Но и она исчезает, близоруко поверив манящему горизонту; ее помет, словно фосфор, блестит на камне.* * *
Ночные ласточки, запах гнилой древесины, еле слышное металлическое поскрипывание летучих мышей — кажется, будто никто не слышит этого, кроме тебя. Вечерний туман окутывает землю — и сразу становится холодно. Над головой появляются стайки светящихся тропических жуков. Май — осенний месяц на плато — месяц их танца. Поймаешь одного такого, зажмешь в кулак и, приоткрыв большой палец, смотришь, как в темноте он зажигает свой маячок — слабый зеленый огонек. Всюду мигают эти печальные огоньки, бестелесные и безмолвные, как призраки. Холмистая степь похожа на рельефную карту мира в школьном кабинете. Она коробится от вечернего ветра. Африканский можжевельник издает легкий запах хвои, колючие кусты колеблются в такт дыханию степи. Причудливые нагромождения гранитных глыб напоминают остатки алтаря, воздвигнутого в честь неизвестного бога. При виде их вспоминаешь, что Африка — древнейший континент планеты. Горы здесь предшествовали жизни — в них нет окаменелых остатков живых существ. Но многие ученые полагают, что человек родился именно здесь, где был хороший климат и где ему не приходилось вести жестокую борьбу за существование. Сверчки и цикады звонко стрекочут в темноте. Под кустом шевелится дикобраз, москитов мало, но какая-то муха оставляет на руке след в виде кровавой запятой, и я вдруг вспоминаю о свирепствующих здесь болезнях, но все обходится благополучно. Ночь зеркально чистая, Африка словно переселилась в бездонную глубину неба. Древние, как мир, созвездия светят здесь так ярко, как они не светят в Швеции даже в январе Мы много раз тщетно пытались узнать их названия у здешних старожилов, никто не знал их. На севере у горизонта, ковшом вниз висит Большая Медведица. Ветер затихает, успокаиваются тонкие длинные травинки, успокаиваешься и ты. Сам континент ни в чем не виноват. В этих краях я узнал новую поговорку: «Среди людей нет покоя; спокоен только лес». Впечатления дня сглаживаются. Исчезают волшебные видения. На небе остаются лишь звезды, но свет их уже не режет глаза.Гвело и его беспокойный заключенный
Один африканец в Гвело, которому мы должны были передать привет, обвинялся в том, что подбил толпу черных на оскорбление оратора от Федеральной партии. Сам же он утверждал, что прибыл на место происшествия слишком поздно, чтобы остановить толпу, и уж во всяком случае не мог быть зачинщиком. Он внес залог и находился на свободе в ожидании повестки в суд. В городе он отыскал адвоката, предпочитая иметь своего защитника, а не того, кого ему подсунут в суде. Он рассказывал, как его приняли. Адвокат внимательно выслушал своего клиента, играя цепочкой от часов, а потом сказал: — Я сочувствую вам, но я не могу взяться вести ваше дело. Как адвокат я завишу от своей клиентуры в Гвело, хотя на этом и трудно продержаться. Вы лучше поймете, почему я отказываюсь, если я скажу вам, что в течение многих лет моими клиентами были высшие круги Брайтона… Передавая этот разговор, наш африканский друг нарочно растягивал слова, передразнивая адвоката. Адвокату, видимо, хотелось, чтобы отблеск былой славы озарял его деятельность и в Гвело. Когда мы вспоминаем о Гвело, в нашем представлении возникает ресторан «Подкова», открытые до поздней ночи аптеки и запах поджаренной на свином сале картошки, доносящийся из маленьких, низеньких домиков. Кроме того, в Гвело — всегда пустующий кинотеатр, где при нас шла картина «Человек смотрит на проходящие поезда». Все удивлялись, как владельцу кинотеатра, куда не впускали африканцев, удавалось сводить концы с концами. В Гвело была и бакалейная лавка, на окне которой красовалось патриотическое стихотворение «Создатель» о Сесиле Родсе и унылая коллекция консервных банок с противозмеиной сывороткой. А еще в Гвело была гостиница «Мидлэнд». Там мы и заночевали. (Индийской торговой делегации обещали в гостинице обед при условии, что они не будут есть в присутствии белых.) Воспоминания о Гвело неразрывно связаны с голосами и звуком шагов на Мейн-стрит в половине шестого утра — черные заключенные колоннами шли по улице, унося бачки с мусором. Они напоминали нам, что как раз в это время в Гвело находился человек, с которым мы больше всего хотели встретиться — доктор Хэстингс Банда. Из всех политических заключенных Федерации он, вероятно, меньше всех удивлялся пребыванию в тюрьме. Ему не грозило забвение, он помнил, что Англия знает— без него для Ньясаленда нет будущего. А пока он изучал историю Америки, главным образом раздел о колониальных войнах. Все прочитанное он продумывал не менее глубоко, чем сэр Рой. Мы думали о его жизненном пути. Здесь, в Гвело, в тюрьме с побеленными стенами, он получил некоторую передышку. Как и большинство вождей национально-освободительного движения в Африке, он посещал когда то миссионерскую школу, затем стал верным прихожанином пресвитерианской церкви. Двенадцатилетним мальчишкой он без копейки в кармане прошел 250 километров по саваннам и добрался до Иоганнесбурга, чтобы получить там образование. Несколько лет работал переводчиком с языка ньяса в Южно-Африканском Союзе, а в двадцатые годы приехал в CШA, где прожил пятнадцать лет и получил звание доктора медицины. Перед самой войной он перебрался в Англию, стал практиковать в Лондоне, где имел четыре тысячи белых пациентов. Дом доктора Банда превратился в место встречи чернойинтеллигенции. У него бывали Нкрума из Ганы, Кениата из Кенни, Нкумбула из Северной Родезии… Сам же он казался обывателем, не имевшим ни грехов, ни страстей. Но оттуда, издалека, он руководил деятельностью Национального конгресса и поддерживал его материально. Когда возникла Федерация, он заявил: — Ньясалендцев обманули люди, которых они считали честными христианами, и предало правительство, которое они шестьдесят лет почитали как своего благодетеля. В 1958 году он прилетел в Южную Родезию, подвергся там унизительному допросу и преследованиям прессы, затем прибыл в Ньясаленд как официальный руководитель Конгресса. Таким популярным, как он, мог быть только человек, которого ненавидят белые. — Я похож на Моисея, вернувшегося к своему народу, — сказал он, чувствуя себя мессией, и похлопал по сумке с медицинскими инструментами. — Мой народ думает, что я ношу самостоятельность в этой сумке. Он не понимает, что за свободу нужно бороться. Доктор Банда не придерживался крайних взглядов, хотя его нельзя назвать и умеренным политиком. Он не предаст свой народ «за чай и виски в домах белых людей». Он никогда не настаивал на насилии, но считает, что его заставляют прибегать к крайним мерам: «Белые слушают нас только тогда, когда их заставляют слушать». За день до своего ареста он заявил: — Что бы вы ни услышали обо мне, ни я, ни партия Национальный конгресс никогда не были враждебно настроены к европейцам. Иначе я не прожил бы большую часть своей жизни среди белых. Все, чего мы хотим — это выйти из Федерации и образовать собственное правительство, в котором смогут принять участие европейцы доброй воли. Европейцам, желающим быть соседями, гостями или гражданами нашей страны, нечего бояться, что их выбросят в море. Мы только не хотим иметь дело с европейцами, владычествующими над нами. Тех же, кто согласен жить на равных правах с нами, мы приветствуем. Мы не собираемся отбирать у них чайные плантации и мешать белым обогащаться в Ньясаленде. Но любой ценой мы должны освободиться от господства Южной Родезии. В глазах сэра Роя доктор Банда и его сподвижники— «гангстеры, не имеющие представления о демократии, полные безудержной ненависти, готовые вернуть Африку к мрачным дням XIX века». Еще тогда в Гвело мы размышляли, сколько месяцев или лет пройдет, пока доктор Банда вернется в Ньясаленд в качестве премьер-министра африканского государства. Я заговорил об этом с одним человеком в баре гостиницы «Мидлэнд». Он рассмеялся, будто услышал веселую шутку, и заявил, что этот безумец сидит за решеткой и не может угрожать миру на земле. А потом добавил: «Вот послушайте, как умер мой приятель: он сидел в уборной у себя на ферме и вдруг вскочил, увидев змею. Он умер, но, вероятно, не от укуса змеи, а от шока. Священник, хоронивший его, сказал, что мы, живущие в Африке, всегда должны быть готовы к неожиданностям, уготованным для нас господом — и не только к радостным, но и скорбным…»За сетной от москитов
У нас было рекомендательное письмо к мистеру Райдеру от нашего общего друга. Однако мистер Райдер не стал нам другом. Прочтя письмо, он сказал: — Добро пожаловать! Мистер Райдер с трубкой во рту и пластмассовой табакеркой в руках сидел на низенькой веранде. Его лицо защищала сетка от москитов; небо, должно быть, теряло для него яркость красок, словно он смотрел на него через цветное стекло автомобиля. Он велел слугам подать напитки. — Здравствуйте! Удивительно приятный сегодня день, — услышали мы женский голос и негромкий смех. Это была жена Райдера. Они держались так, словно долго ждали нас и наше появление было настолько естественно, что и говорить-то не о чем, как в семье, где все всегда вместе и все знают друг о друге. А между тем, за минуту до нашего появления, они и не подозревали о нашем существовании — у них не было телефона, и никто не мог сообщить им о нашем приезде, да и мы завернули к ним на минутку, по пути. Мы пили мартини, а мистер Райдер — виски, которые почему-то никому не предложил. Веранда выходила в сад, где бурно разрослись дикие растения. В саду пытались выращивать ирис и африканскую цинию, лук и капусту, но их существованию угрожали буйно разраставшиеся кусты и одичавшие чайные деревья, вымахавшие метров в восемь. Откуда-то доносились приятные запахи европейской кухни. Мы наблюдали за осами с крылышками, отливающими металлической синевой. От жены Райдера мы узнали о необыкновенных вещах. Самка осы отыскивает крупного паука, оглушает его жалом и перетаскивает свою жертву в специально вырытую в земле ямку. На теле потерявшего сознание паука она откладывает одно-единственное яичко. Потом оса заполняет ямку землей и хорошо маскирует ее. Через несколько дней вылупится ее чадо, и так как паук жив, то для молодой осы будет вдоволь свежей пищи. Рассказывая, миссис Райдер негромко смеялась. Она как будто радовалась тому, что знает такие вещи. В молодости она работала учительницей в Бирмингаме; она захватила с собой в Родезию целый воз тетрадей — последние сочинения ее класса. Муж ее молчал, поглядывая на нас сквозь сетку от москитов — так он, наверное, сидел на веранде изо дня в день весь год. Он рано отошел от дел, его вполне удовлетворял доход, получаемый от двух домов в Булавайо, и акций, вложенных в небольшие разработки меди и асбеста. Предметы в его комнате больше говорили о хозяине дома, чем он сам. На одной из фотографий он был снят в Дамфрисе двенадцатилетним мальчиком, в штанишках до колен, с саблей поверх школьной куртки и томиком избранных стихов Бёрнса в руке — премия в день окончания школы. На стене под стеклом висела медаль, полученная от министерства сельского хозяйства за рекордный урожай кукурузы с акра пашни. Но теперь фермы нет — она продана. — Тебе пора гулять, — сказала миссис Райдер. Тогда мы поднялись и отправились все вместе. — Я дойду до бензоколонки, поболтаю там со стариком буром. А потом зайду в бакалейную лавку и поговорю с греком. Это займет всего час, — деловито сказал мистер Райдер. Мы пошли проводить его до дороги. Он повеселел, предвкушая встречи и возможность поболтать. Вдруг он схватил нас обоих за руки и сказал тихо, но с волнением в голосе: — Если бы вы видели, какие были раньше поезда! Замбезийский поезд люкс! Отличные поезда! Можно было занять отдельный вагон с тремя спальными купе, двумя туалетами, ванной и салоном. Пять тысяч крон в месяц — в эту цену входили повар и еда, — и можно было отправиться куда угодно по дорогам Родезии, останавливаться на любое время. Если только была боковая ветка, можно было остановить поезд и потребовать отцепить вагон. Где угодно… На какое угодно время… В Родезии… Это привело меня в ужас: странная форма туризма. Может быть, бумеранг судьбы забросит мистера Райдера обратно в Дамфрис? Нет, он предпочитал после обеда поболтать часок с буром и греком, а остальное время ничего не делать. Кто хоть раз отведал африканской воды, — утверждают арабы, — непременно вернется, чтобы попробовать ее вновь. Иначе его изгложет тоска. Мистер Райдер указал на поля и кусты по ту сторону дороги. — Несколько лет тому назад здесь была туземная деревня. У них был вождь, они изготовляли великолепные калебасы. Земля была плодородной и ее купило одно предприятие. — И что же, вождь получил что-нибудь за землю? — Нет. Оказалось, это государственная земля. Вождь думал, что он ее хозяин, ведь здесь всегда жил его народ. Но он узнал, что им предоставляется резервация в другой провинции. Там он и умер от огорчения. Говорили, что он отравился ядовитым растением, какого нет в его родной местности. Мистер Райдер улыбнулся. — Ну, я пойду дальше, к гаражу. Прежде чем он вернулся на свою веранду, мы успели уехать за много миль от фермы.Исчезнувшая надпись
На холме, где покоятся руины Зимбабве, космосовые цветы покачиваются от зимнего ветра совсем как колокольчики и ромашки на шведских курганах. Перед нами классический африканский пейзаж: мягкие очертания гор, долины, расходящиеся в виде звезды от развалин, потоки, бегущие с гор, цитрусовые рощи, мохнатые зеленые смоковницы. Ясным утром веет приятной прохладой, вдалеке слышен крик петуха. Руины молчат. По гранитным стенам плавно изогнутой арки взбирается каменный зверобой и влажный мох. К траве приникают надгробные камни и остатки алтарей, а на высоком крутом холме возвышается акрополь Зимбабве — вот так же под защитой какой-нибудь высокой горы располагались античные города. В начале века эти развалины принимали за творения арабских и финикийских рудокопов, бродивших по стране Офир в поисках природных богатств. Португальский историк XVI века упоминает крепость Мономотапа с древней надписью над воротами, которую никто не мог понять. Когда руины были открыты вторично, около 1860 года, никаких письменных знаков не нашли, но многие продолжают думать об исчезнувших загадочных словах. Найденная в развалинах керамика была либо традиционным искусством банту, либо имела восточные орнаменты, характерные для XVII века и более позднего времени. В самой глубинной стене акрополя нашли кусок дерева тамбути. Его исследовали и решили, что до того, как оказаться здесь, он был частью более древней постройки, примерно начала VI века. Но доказать этого никто не смог. Руины Зимбабве вдохновили Райдера Хаггарда на роман «Она» и стали одним из самых популярных в Родезии мест, привлекающих туристов не менее чем водопады Виктории. Загадка этих руин еще не решена и порождает самые фантастические теории. Но в общем руины свидетельствуют о не очень высокой ступени цивилизации — вероятно, африканской; путаные ходы в стенах, изображения символов плодородия и птицы, отчеканенной теперь на монетах Федерации. От Зимбабве на восток идет пустынная дорога, по ней можно ехать часами и никого не встретить. Кое-где на скалах сохранились рисунки: мужчины с узкими бедрами, жирафы и болотные птицы. Какой-то неизвестный народ, живший среди скал, — не бушмены — когда-то создал эти вечные памятники искусства. Возвышенность понижается, и на дороге перед самым автомобилем неожиданно появляются мартышки и павианы. Баобабы в драматической позе грозят небесам. Блестящая, отливающая лиловым кора с наростами прикрывает дуплистый ствол. Баобабы смешны как клоуны, но, когда их много, они напоминают слонов. На баобабе африканцы пристраивают пчелиные ульи: на ветвях укрепляется свернутый в трубку кусок коры. В нем поселяются пчелы. Потом их выкуривают, поджигая сухую траву. Вот так и возникают лесные и степные пожары. Нам часто приходилось видеть пелену дыма, а если уж начинали гореть телефонные столбы, нужно было либо поворачивать назад, либо прибавлять скорость. Вдоль дороги, ведущей к мосту Бирченаф, тянутся убогие резервации: песок, кактусы, козы, наглые павианы. Дети по традиции машут руками, растопырив пальцы, это означает — в руках нет ничего, что может свидетельствовать о недружелюбии. Некоторые женщины почему-то отворачиваются. Пожилые мужчины стоят в смиренной позе у обочины дороги, сняв шляпу — ведь в машине мог оказаться и комиссар по делам туземцев. Если не поприветствовать его, можно заработать наказание. Гостиницы «Гнома», «Мкапа» стоят на сваях, там подают маисовое пиво и фруктовые напитки. Путник африканец, идущий из Ньясаленда или Мозамбика, может переночевать в бамбуковой хижине. А таких странников сколько угодно. Они обычно несут на голове невероятно тяжелую ношу. Нам попался человек, идущий из Танганьики. У него не было с собой ни денег, ни еды. Он рассчитывал на гостеприимство в любой деревне, в любом племени. Многие африканцы напоминают кочующих дьячков или подмастерий, направляющихся на работу, учение или просто бредущих в поисках приключений и жизненного опыта. Африканцы встречают всех с таким гостеприимством, какое, говорят, существовало в средневековой Европе. По мере приближения к реке Саби плато становится ниже; звенящий воздух наполнен легкими пузырьками, как бывает, если открыть глаза в воде и смотреть на освещенный солнцем предмет. Не то туман, не то солнечная дымка вдруг приводит в движение застывшую в мертвой зыби землю, и она кажется катится вам навстречу. В маленькой гостинице у моста Бирченаф сидели люди, обмахиваясь носовыми платками. С низкой веранды с колоннами они смотрели вниз на речные отмели, где африканцы мылись и стирали свою одежду. Было время ленча, но все хотели только пить. В надежде заманить кого-нибудь в столовую, хозяйка отказывалась подавать бутерброды. Всех охватила апатия, обычная в жаркую погоду в низине: никто не был в состоянии спросить, почему в баре лежат два десятка львиных черепов; никто не был в силах попросить ложечку для сахарницы, поэтому сахар скоро стал коричневым от ложечек, вынутых из чашечек с кофе. От реки Саби мы едем к поливным чайным плантациям у Чипинга, затем к лесу, окружающему горы Маунт-Селинда, где нас встречает дождь. Дорога вьется между тропическими Альпами, мимо миссий, вдоль границы с Мозамбиком. Обуглившиеся стволы деревьев — свидетели лесных пожаров — подпирают небесный свод со стороны португальской колонии. Здесь, в восточных горах, природа очень похожа на природу, которую мы видели когда-то в Кении и Конго. Встречаются редкие породы деревьев; у птиц клюв напоминает расплющенную пластинку, звуки они издают странные: что-то вроде стука шарика пинг-понга, скатывающегося по лестнице. Здесь тоже часто встречаются маленькие уютные гостиницы: в британских колониях, как и в самой Англии, лучше всего жить в сельской местности. Когда мы очутились на узких дорогах Вумбы, с обрывами по обе стороны, поднялся ветер. Перед автомобилем бежал красный столб пыли. В гостинице, расположенной высоко в горах, нашлись и комнаты, и тропический сад, и горькое пиво из Лоренсу-Маркиша, и трогательно примитивная столовая. Кроме нас здесь были разъезжающий по делам торговец и владелец фабрики из Энкелдорна. Они не обращали на нас никакого внимания. — Родезия удивительная страна, — сообщил один из них. — Я здесь уже два года и принял местное гражданство. — Я скоро сделаю то же самое, — сказал другой. Они старались превзойти друг друга, расхваливая достоинства страны. Гордость за молодую страну понятна. Правда, мы ждали большей иронии от англичан, но оказалось, что они так и не выросли из старых школьных курток своей родины. Они строили здесь новую империю в миниатюре и находили водопады Виктории красивыми только потому, что они громыхали в Родезии, а не в Анголе. Чтобы не слышать продолжения дифирамбов, которые мы знали наизусть, мы вышли на террасу. В этом заброшенном уголке с цветущими рождественскими розами, произведениями Черчилля на полуфранцузском языке и ручьями, бегущими с крутых горных склонов, мы остро почувствовали, насколько мы безнадежные личности: никак не можем научиться уживаться с людьми. Из рощи доносился тихий говор африканцев, возвращавшихся домой. Они так легко ориентировались в темноте, будто был ясный день. Выпив несколько рюмок, мужчины вышли на террасу гостиницы. — Что там за чертовщина? — спросил один из них, тыча куда-то в темноту. Пионеров Африки мы представляли себе иначе. На следующее утро воздух под грейпфрутовыми деревьями был свежим. Крыжовник, поданный к завтраку, напоминал по вкусу землянику. Мы помчались вниз с гор к Умтали, третьему по величине городу Южной Родезии, лежащему на дне зеленой котловины. Там есть превосходная гостиница «Сесиль», где подают баранье сердце и дыни с имбирем. В клубах «Браунс» и «Роил» можно пострелять из лука.Рудник без золота
В асбестовый город Шабани мы прибыли на несколько часов раньше Макса Колли — «лучшего гипнотизера Европы», как вещали яркие афишы со стены горняцкого клуба. В кафе «Сесиль» меня обслужили прямо за прилавком, а африканцев с рудника «Не отчаивайся» отсылали к окошечку в стене. Женщина, обслуживавшая нас, была одинаково невежлива со всеми. Мы поспешили в гостиницу «Нильтон». Там уже сидели фермеры с загорелыми лицами. Удивительно, до чего они похожи друг на друга — все в шортах с кожаными подтяжками поверх рубашек, с оттопыренными карманами, из которых торчали толстые пачки сигарет (в каждой штук 40, не меньше), под коротко подстриженными волосами — жирные затылки, мятые шляпы на полу. У стойки, подняв лапу, мочилась собака. Подвыпивший мужчина в рубашке с изображениями этикеток от вермута, никого не стесняясь, орал на жену. У двери гостиницы «Нильтон» мы впервые увидели нищего африканца, который, молитвенно сложив руки, просил милостыню на ндебельском наречии. Мимо него прошел какой-то человек, обернулся, прицелился и ловко запустил ему прямо в затылок пенни. Потом около старика остановилась белокурая девочка лет пяти. Она медленно вытащила из кулька конфету, положила ее в рот, а открытый кулек протянула старику. Когда тот хотел взять конфету, она рывком отдернула кулек, а потом долго и серьезно наблюдала за выражением его лица. Позже мы рассказали об этом эпизоде одному шведскому промышленнику в Солсбери. Но он никак не реагировал. Ведь уже много лет его ничто особенно не волновало; да и не для того он приехал в Родезию, чтобы глазеть по сторонам. А может быть, он специально закалил свою душу, чтобы ничем не возмущаться — это могло помешать его делам. Но, к счастью, миновало то время, когда мир верил россказням о том, будто в Африке все так таинственно и непохоже на то, к чему мы привыкли. Наш шведский знакомый, да, пожалуй, и многие другие подтверждали выраженную как-то лордом Пальмерстоном мысль: «Если я захочу что-нибудь узнать о стране, то к человеку, прожившему там тридцать лет, я обращусь в последнюю очередь». О затхлости жизни в Шабани можно было бы написать многое. Я не нашел там ничего, что соблазнило бы меня связать свою судьбу с асбестовым рудником «Не отчаивайся». Ждать гипнотизера Колли нам не захотелось, и мы поехали дальше в Селукве. Тяжелые машины разбили дороги, а дожди завершили дело и превратили их в сплошное месиво. Передние амортизаторы, растеряв все свои болты, стучали о землю. Я полез под машину и снял их совсем. Вскоре запахло горелым маслом, давление упало до нуля. Ни телефона, ни одной встречной машины. Дав мотору остыть, я снова завел его. Наконец, измученные и вспотевшие, мы, грохоча словно трактор, ввалились в Селукве, значившийся на нашей карте как большой город. День был праздничный, и я спросил африканца, работавшего у гаража «Джекки», есть ли в городе механик. Он указал нам на домик самого Джекки. Здесь мы обнаружили рыжего англичанина, лакомившегося со своим семейством воскресной индюшкой. Послушав мотор, он всплеснул руками: еще один километр — и даже утильщик отказался бы от него. Нам пришлось оставить свой «Моррис» до понедельника в гараже «Джекки». Африка — это вам не парк для прогулок, и нам совсем не хотелось оставаться в Селукве только для того, чтобы поесть мороженого. Городок лежит на высоте 1600 метров, окружен зелеными холмами и напоминает такие шведские местечки, как Гетене и Грэсторп. В то воскресенье было очень тихо. За всю вторую половину дня через город прошло не больше восьми-десяти машин. Мы бродили по городу целый час и только тогда наткнулись на белых. Это был наш знакомый механик с дочерьми. Он сказал, что в городе живет еще несколько сот белых, но теперь они перебрались в горы. Люди уезжают, потому что сейчас здесь действуют лишь два хромовых рудника, а все золотые прииски — их около десятка — закрыты. В Селукве всего четыре короткие улицы. Их можно обойти за десять минут. В полицейском участке спал африканец, на двери — список найденных вещей, предназначенных для распродажи с аукциона. В основном это саквояжи африканцев примерно с одним и тем же содержимым: дегтярное мыло фирмы «Лайфбью», пакет кукурузной муки, брюки и рубашка цвета хаки. Городской парк в Селукве занимает столько же места, сколько его застроенная часть. В Родезии парки закладывают одновременно с первыми домами. Ведь здесь рассчитывают на то, что город разрастется и станет крупным — так, по крайней мере, обещают брошюрки для эмигрантов. Мы гуляли по парку под зелеными аркадами, слушая шорох пальм. На кегельной площадке в одиночестве тренировалась какая-то женщина. Африканские ребятишки завтракали на траве. У входа в парк висела афиша: приезжает Босвелл, первый цирк за восемь лет. В Селукве у нас невольно возник вопрос: почему большая часть переселенцев всячески избегает африканцев? По самым различным причинам они селятся отдельно, в унылых эмигрантских поселках. Вся остальная страна остается для них пустыней. Гранд-отель — самое монументальное здание города. В столовой мы оказались под взглядами целой армии нетерпеливых официантов. Как только они отводили от нас глаза, мы переставали жевать и чувствовали себя бездельниками, увиливающими от работы. Обед стоил четыре кроны: луковый суп, копченая макрель, пирог с сыром, жареная говядина с луком, холодный язык со свекольным гарниром, бланманже, сыр и чай. Коридоры гостиницы — бесконечно длинные и прямые, словно разминированный фарватер, обозначенный на морской карте. В наш коридор выходило пятьдесят комнат, из них сорок семь пустовали. Ящик письменного стола был выстлан страницей из журнала «Булавайо Кроннкл» за 1956 год. Я увидел знакомое лицо — фотографию Вильгельма Муберга и рецензию на его роман «Эмигранты». Мы расположились в зеленой гостиной, пили вино и читали газету. Мне попалось на глаза объявление о продаже небольшого золотого прииска. Владелец его не говорил на языке шона и поэтому не мог найти надежного управляющего. Он хотел продать участок за 16 тысяч крон. «Гвело тайме» — единственное, что могли здесь предложить почитать До отъезда из Европы у нас были явно преувеличенные представления о недостатке книг в Африке — но ведь тогда неправильное представление было у нас почти обо всем. Мы уложили в чемоданы несколько томиков. Выбор пал на самые легкие и самые захватывающие: «Посол» Генри Джеймса, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста и что-то Достоевского. Я, конечно, не мог предполагать, что в Селукве у нас сломается машина, но рассчитывал на долгое путешествие в поезде и длинные вечера в африканской степи, где совершенно нечем заняться. За многие месяцы пребывания в Африке я так и не прочел ни одной из привезенных книг. Этого со мной еще никогда не случалось. Здесь происходило много такого, с чем раньше я никогда не сталкивался. Может быть, ничего особенного, о чем стоило бы писать, и не было. Но я стремился запечатлеть и удержать в памяти все, боясь хоть что-нибудь упустить. Я делал заметки о том, что видел или что мне казалось видел — это был мой способ успокаиваться, многократно испытанный и оправдавший себя. А моя жена хваталась за книги, как утопающий за соломинку, стараясь уйти от действительности, которую человек не в состоянии долго выносить. Иногда она зачитывала мне из книги какую-нибудь фразу, совершенно нереальную для Селукве. И тогда родезийский мир становился неосязаемым, его проблемы — никому не нужными, а люди утрачивали плоть и кровь. И мной овладевала необъяснимая тоска по искусству, фантазии, по гармонии и логике. В Селукве было пять собак; мы увидели их на следующий день: два нечистокровных терьера, борзая, спаниэль и жирный мопс. Этакие злобные владельцы рудников, превращенные в собак. На улицах не было ни души, не считая белого ребенка с черной нянькой. Зато псы маршировали взад и вперед в поисках приключений. Мы видели, как они после инспекции своих владений собрались на солнышке перед полицейским участком, чтобы посоветоваться. Они важно постояли несколько минут носом к носу, затем борзая выбрала направление, и все отправились под тюльпановые деревья. В банке «Стандард Банк оф Саут Африка» нас спросили, с какой целью мы приехали в Селукве — не собираемся ли мы здесь поселиться. — Нет, наш автомобиль… — В каком гараже его чинят? — У Джекки. — Отлично. Я вчера играл с ним в гольф, второй механик уехал в Карибу. Мастерская Джекки — одна из лучших в Федерации. — Прекрасно. — И вы, значит, пользуетесь случаем, чтобы ознакомиться с Селукве. Жаль, что плавательный бассейн закрыт из-за холодной погоды. — Мы были в москательной лавке, купили пленку у мистера Ли. Он показал нам свою библиотеку. Там нечего взять почитать, кроме «Ридерс Дайджест» и «Лондон иллюстрейтед ньюс». И почему-то на каждом углу нам встречался один и тот же инвалид. — Крокодил откусил ему ногу. Я здесь уже целый год. А до этого два года служил в Солсбери в отделении банка в гостинице «Королевская». О Солсбери этот человек говорил так мечтательно, словно о далекой столице мирового значения. — Банк постоянно переводит нас из одного места в другое, — сказал он. — Если хочешь как следует знать страну, полезно посмотреть новые места. Но дети не любят менять школу. У девушки на почте были усталые глаза. Прежде чем разложить открытки по полочкам, она прочитывала их. В Гранд-отеле, наискосок от почты, африканцы повесили над главным входом цветные лампочки: сегодня здесь состоится турнир игроков в вист. Мы поспешили в гараж и попробовали поторопить с машиной. Не собираются же они дотянуть до вечера, чтобы заставить нас принять участие в игре? Передок машины был приподнят, задний мост снят. В Гвело за деталями послали человека. Когда-то наш механик мыл машины в гараже в Лидсе, а в свободное время изучал мотор. В один прекрасный день он услышало Федерации, где на каждую семью приходилось по два автомобиля. Вот он и приехал сюда. Селукве в то время был цветущим рудничным городком. Здесь ему дали в обучение пятерых черных. А разве он не мог завести мастерскую в Англии? Может быть, и мог, но ведь там налоги… — Работать приходится много, устаешь, — сказал он. — Воздух очень разреженный. И потом — шахты. В Англии одну угольную шахту разрабатывают несколько сот лет до тех пор, пока она не истощится, и только тогда переходят к другой Здесь же год-другой пороются в шахте, в городе масса людей настроят дома, а потом вдруг оказывается, что никто не хочет больше покупать руду. Тогда люди продают свои автомобили и переезжают в другое место. Ждешь, пока они вернутся, а ребятишки за это время подрастают. И мастерскую теперь продать некому. — Он сжал лоб пальцами. — Здесь легко разориться, — сказал он. — Но с умом можно и скопить кое-что, если все пойдет хорошо. Чтобы он поторопился с ремонтом машины, мы пригласили его в гостиницу на стаканчик холодного вина. — Вы знаете, чего здесь не хватает? — спросил он. — Людей, которых мы не знаем. Такое проклятье знать каждого человека. А как было в Англии? Стемнеет — пойдешь в трактир, поболтаешь. Поглядишь на витрины, на людей Здесь же ничего нет. Разве что футбольные матчи по воскресеньям: двадцать два человека играют, остальные — смотрят. Ничего увлекательного, никогда не найдешь незнакомца, с кем можно было бы поспорить, заключить пари… Механик был самым непатриотичным родезийцем из всех, с кем нам довелось встретиться. Он не хотел задерживать нас в Селукве. К вечеру наша машина была готова; мы надеялись добраться на ней до Солсбери. Перед отъездом в вестибюле гостиницы мы нашли брошюру, дававшую советы «Путешественнику, ищущему приключений». В ней советовали, если сам по себе город не показался достаточно интересным, начать отсюда поездку по стране и непременно взять с собой носильщика, который будет разбивать палатку, носить воду и расчищать топором дорогу от поваленных слонами деревьев. С нашей точки зрения, такому путешественнику, хотя его и восхваляет всячески государственное информационное бюро, грош цена. Ибо ему ничего не стоит написать книгу о стране, населенной самыми невероятными существами, и пройти мимо реальной будничной жизни. Весь смысл его книги свелся бы к тому, чтобы сохранить в представлении читателя Африку как загадочный континент, дающий пищу фантазии. Читателю было бы приятно воображать себя смелым путешественником, купившим входной билет в увеселительный парк «Африка». Честно говоря, я благодарен и за такие книги: подделка и выдумка тоже могут пригодиться. Черный Джон в Африке, комиксы о Джиме из Конго и о Тарзане, Хэмфри Богарт в джунглях и Густав Болиндер среди всякой чертовщины — я рад, что познакомился с ними. В парке Грена Люнд в Стокгольме, возле «Канала влюбленных», у мальчишек есть потайная пещера. Детская фантазия, протестующая против будничной романтики взрослых, превратила ее в сторожевой пост у «истоков Голубого Нила». Через дыры в мешковине там можно наблюдать за теми, кто, обнявшись, катается за 35 эре в жестяных лодчонках. Уже стемнело, когда мы отправились из Селукве на север. Скоро мы перестали различать колючие акации, камельдорн, из шипов которых делают превосходные патефонные иголки. В небе торчал рог молодого месяца и звезды мерцали, словно светящиеся пылинки. Один раз нам пришлось затормозить из-за совы, сидящей на дороге, другой — из-за ночной обезьяны галаго, разновидности большеглазого лемура. Мы беспокоились не столько за себя, сколько за машину. Вокруг нас лежала незнакомая пустынная местность. Но она не была необитаемой: хотя мы ничего не видели, мы прекрасно ощущали это. Вокруг словно свершалось какое-то таинство, и чем ближе оно было, тем, казалось, труднее разгадать его. После Африки я всюду чувствую себя как дома. Швеция, волею случая оказавшаяся моей родиной, всего лишь полустанок на моем пути. Дом человека там, где человеческие судьбы решаются в том же свете и под тем же знаком, что и его собственная. Поэтому я не доверяю тем, кто разъезжает по свету в поисках различий. Ибо главное состоит в установлении сходства. Жить в Африке — все равно, что сменить имя. Даже трудно представить себе, насколько сильно это тебя меняет. Знаешь лишь одно — что утрачиваешь либо реальность, либо нереальность. Вот почему так чудесно ехать ночью по бесконечному убаюкивающему плато. Призрачный лунный свет едва касается земли. И тебе кажется, что луна движется, а ты стоишь на месте или, наоборот, что ты летишь над вечно неизменным и неподвижным континентом. Дорога становится все уже, нам кажется, что мы заехали в кустарник и потеряли направление Мы стараемся отыскать ее, эту ясную дорогу — кратчайшую для Африки и для нас.
ОТЪЕЗД

Второй репортаж из Солсбери
— СЭР, — сказал Милтон, когда мы вышли из автомобиля у дверей нашей кухни, — ваши ботинки хуже моих. Дай бог, чтобы они не развалились через неделю. Я посмотрел на свои ноги: ботинки не почищены, подошва сносилась. — А разве что-нибудь не в порядке? Тут я взглянул на его ноги и все понял. Оказывается, таким способом он хотел обратить мое внимание на свои новые ботинки. Они были замшевые, их украшали блестящие колечки из латуни. — Поздравляю, — сказал я, — они стоят, наверное, фунта три. — И два шиллинга, — добавил он с гордостью. Это было чуть поменьше его месячного жалованья. — О, их надо носить только по воскресеньям, — сказала Анна-Лена. — Мадам, с этой минуты я не сниму их целую не делю — ни днем, ни ночью.Домик на склоне Копьена, где живет индийская семья, пропитан сладковатым запахом кэрри и манговым чатни — острыми индийскими пряностями. Эта местность теперь не пользуется популярностью у европейцев: участок земли, купленный индийцем, тотчас же падает в цене. Мы встречаемся с индийским промышленником, женатом на девушке из Лондона. Они ждут ребенка, и после его рождения собираются вернуться в Англию. Их не особенно волнует расовый барьер, так как они в основном общаются с людьми либеральными, но не хотят, чтобы их ребенок рос в Родезии. Жить в Родезии — значит, называться «неевропейцем», ходить в кино «Нэшнл», куда пускают только выходцев из Азии и не пускают африканцев, отдавать детей в плохие школы, испытывать трудности при устройстве на работу, постоянно терпеть неудачи, повсюду наталкиваться на презрение.
Больше всего нам нравится старая часть Солсбери: Моника-роуд и улицы, ведущие в промышленный район. Низкие дома затенены колоннами с натянутыми на них маркизами. Здесь разместились индийские лавки: велосипедный магазин, химическая чистка. Перед магазином мужского готового платья стоят африканцы, разглядывая элегантные жилеты и пятнистые, как шкура леопарда, рубашки за 20 крон. Новый Солсбери пустеет в десять часов вечера, когда закрываются кинотеатры. Но здесь всегда можно зайти в кафе, где подают рыбу с жареным картофелем, в бильярдный зал Шалета, где к услугам игроков восемь столов, в любое время там можно встретить людей, которые спорят, расхваливают старый автомобиль и играют в шахматы. Трубы электростанции проступают на сером небе, как кляксы на промокашке. Где-то здесь, где кончается Резенде-стрит и начинается степь, прячутся могилы, забытые дорожные знаки, закрытые фабрики. Чудесно бродить здесь без всяких дум, ощущая полную безмятежность, как бывает обычно в безветренный пасмурный день. В часы, когда уже запрещено ходить по улице, кое-кто из африканцев остается у железной дороги, в тени товарных вагонов, возле грязных луж между колесами. В небе висит ржавый месяц, иногда вспыхивает неоновая лампа. Африканцы сидят между буферами, тихо переговариваясь. Голоса их звучат тише, чем жужжание москитов.
В кафе на улице Моника-роуд мы разговорились с пятидесятилетним европейцем. Он был десятником в бригаде каменщиков. О своей жизни он говорил так же откровенно, как и большинство тех, с кем мы встречались. Он зашел сюда в обеденный перерыв. Англию он покинул в тридцатые годы из-за безработицы и депрессии. Был социалистом. Сначала он поселился в Северной Родезии, помог создать на одном руднике профсоюз и затем вступил в Рабочую партию, где познакомился с Роем Беленским. Это был профсоюз белых, и наш знакомый разделял взгляды товарищей: своим врагом он считал не капиталистов работодателей, а африканцев, которые своей многочисленностью и низкими требованиями угрожают сделать белых безработными. Рабочая партия была самой реакционной и расистской партией в стране. Но вскоре она прекратила свое существование — белые рабочие стали причислять себя к господствующему классу. Человек, встретившийся мне в кафе, был несчастлив. То, за что он боролся в Англии, приобрело здесь другой смысл. Чтобы не обмануть своих белых товарищей, ему пришлось отречься от идей братства, провозглашаемых социализмом. В качестве вознаграждения он получил дом и машину, но денег было недостаточно для того, чтобы бросить все и вернуться домой. По воскресеньям он писал воззвания, призывающие вносить деньги в фонд благотворительности для больных и бедных белых рабочих. Он жаждал вернуться в Англию. Но в стране свободного предпринимательства некапиталисту приходится туго. Здесь налоги невысокие; сам он совсем не платит их. Но если он потеряет работу, то не получит почти никакого пособия. Надо крепко стоять на ногах, а к своим ногам он не питает особого доверия: — ощущение такое, будто в них поселилась его совесть, лишавшая его уверенности и покоя.
В старом уединенном домике, принадлежавшем одному полковнику, жили три девушки. Две приехали из Канады, одна из Англии. Они проработали здесь год и собирались скоро уезжать. Девушки, как мы поняли, так же безразлично относились к цвету кожи, как другие к свободе. В их дом, где любили повеселиться, часто приходили люди, чтобы поговорить друг с другом, не боясь, что скрытое недовольство властями может прорваться в каком-нибудь агрессивном акте, не боясь ни доноса, ни анонимок. Гай Клаттон-Брок, жилистый и загорелый, как человек, часто бывающий на открытом воздухе, с проницательным взглядом серых глаз, заговорил однажды вечером, стоя под апельсиновым деревом и перебивая стрекот цикад: — Не является ли принуждение, в той же мере как и бедность, причиной неразвитости страны? Не кажется ли вам, что нам следует заботиться о свободе людей больше, чем об их благосостоянии, хотя их свободолюбивые устремления проявляются порой, на наш взгляд, очень неразумно.
Однажды на улице меня остановила одна дама. — Я слышала, вы плохо пишете о нас. У меня есть подруга шведка, и она рассказала, о чем говорится в ваших статьях. Как вы можете? Что мы сделали вам плохого? — Вы заставили меня пересмотреть свои взгляды. Выбили у меня почву из-под ног. Вынудили начать все сначала. — Сколько времени вы пробыли здесь? — Скоро три месяца. — Разве вам здесь плохо? У вас есть стипендия, есть все. — Плохо? Наоборот! Однажды мне сказали: «Остерегайтесь оставаться здесь слишком долго. В один прекрасный момент вы вдруг обнаружите, что не можете жить без этой страны». Я уезжаю, но я не смогу без нее жить. — Вот как. Пробыли здесь несколько месяцев и уже пишете книгу. — Кто-нибудь должен же это сделать. Вы ведь сами ничего не пишете. — В Европе не понимают наших проблем. Мы приглашаем их сюда, но они думают, что это ни к чему. — Просто они не хотят слушать того, что услышал я, приехав сюда. — Чем дольше вы здесь пробудете, тем меньше вы будете понимать. — Но ведь это же прямая противоположность тому, что вы только что сказали! Значит, лучше пробыть здесь всего неделю-другую? — Я хочу сказать, что нет готовых решений. Очень скоро начинаешь понимать, что еще ничего не знаешь. И тогда уже не будешь говорить о расовых проблемах с такой самоуверенностью, как вы. Вам следовало быть чуточку поснисходительнее и поговорить с простыми людьми, а не только с экстремистами. — Я пытался… — Люди не любят иностранцев, шныряющих по локациям. Вам не следовало бы этого делать! Интересно, многие ли знают, что у вас на уме? Наш разговор происходил в Солсбери на улице Гордон-авеню. Там я встретился с такими закоснелыми взглядами на жизнь, которые противоречат самой жизни.
Мы на благотворительном бале Ротари в Атенеуме. Это громадный зал со стенами шоколадного цвета, розовыми колоннами с коринфскими капителями из гипса. Пока зал не наполнился людьми, в нем стоял запах мастики от натертого до блеска скользкого пола. За отдельными столиками сидели со своими гостями члены клубов Ротари. За один стол с нами сел вместе с семьей оптовый торговец бумагой; оба его сына только что вернулись из похода в Ньясаленд, привезя в своих ранцах дубинки и другие «сувениры». Жена торговца заявила, что у них неспокойно на душе, но Южная Африка, откуда они недавно приехали, еще хуже — настоящая страна кафров. Девочки школьницы развлекали нас балетом. Девочек обучают в Родезии балету и актерской игре. Они живут в интернате в нескольких милях от города; там они играют в мяч, обучаются домоводству и ходят в церковь. О событиях внешнего мира школьницы ничего не знают. Когда они становятся взрослыми и впервые голосуют, то знают о проблемах Центральной и Южной Африки не больше, чем население самых отдаленных резерваций. После исполнения балетных номеров девочки подражают певицам из ночных клубов, хотя они могли видеть их только в кино да еще во сне. Раскачивая бедрами, они запели: «Я хочу быть другом учителя…» Родители хлопали в ладоши: — Молодец, Эвелин! — Девочки нашли выход своей энергии, — сказала одна мамаша другой. — В следующий раз они будут выступать на небольшом вечере, после того как лорд Молверн откроет выставку орхидей. Хотя мое турне с чтением доклада на тему «Страна благоденствия Швеция» было запланировано по маршруту Родезия — Ньясаленд — Южная Африка, оно закончилось в Родезии, и в Африке я больше не присутствовал ни на одном вечере, организованном Ротари.
У въезда в огромный кинотеатр на открытом воздухе швейцар проверяет, не прячутся ли в автомобилях африканцы. Только между машинами нет никаких барьеров: на асфальтовом поле тесно сбились самые разные автомобили — и неряшливые, грязные, и элегантные. В павильоне, где продают сосиски и жженый сахар на палочке, и на туалете для безопасности висят таблички: «Только для европейцев». Дети забираются на крыши автомобилей или собираются на площадке для игр, откуда с качелей и каруселей могут смотреть фильмы. На многих только пижамы— сразу же после кино им нужно домой, в постель. Тихий вечер, на небе радуга после недавно прошедшего дождя. В воздухе долго держится запах жареных зерен кукурузы, запах Америки и современной цивилизации. Фабрика искусственных удобрений на расстоянии кажется волшебным замком. С холма на экран смотрят в бинокли африканцы. Слов, конечно, не слышно. Белым не нравится, что на них смотрят, и в парламенте по этому поводу поднимают вопрос. В качестве целебного средства предлагают закрыть кинотеатр или поставить для охраны холма полицейских.
По воскресеньям белые выходят из своих вилл в шортах, пестрых рубашках и в резиновых спортивных туфлях. В руках клюшка для гольфа или теннисная ракетка. Африканцы же выходят из лачуг в своей лучшей одежде; мужчины в темных брюках, белой рубашке, в кашне или при галстуке, женщины в наглаженном платье, с серьгами или с украшением в волосах. По воскресеньям белые раздеваются, африканцы одеваются. В этом — одно из различий в поведении высшего и низшего классов.
Когда мне было шестнадцать лет, я жил в Лондоне в студенческом общежитии. Мой товарищ по комнате сказал как-то: — Мои родители умерли. Я всегда мечтал уехать в Родезию. Он говорил еще о многом, но я плохо знал английский и не все понял. Из-за нашего общего стремления поехать в Родезию мы подружились. Это было в августе. Мы жили на Примроуз Хилл. Когда мы расставались, я уже смог сказать по английски: — Увидимся когда-нибудь еще! Он ответил, как всегда, серьезно: — Не надеюсь. Родезия для меня дело решенное. Что с ним стало? И сколько людей теперь, десять лет спустя, думают: «В Родезию — вот куда надо поехать». Однажды вечером, когда около полсотни человек из Скандинавского клуба собрались за обеденным столом в спортивном клубе «Александра», я вдруг услышал его имя. Я вздрогнул — ошибки не могло быть. Имя не совсем обычное, а судя по описанию, это был именно он. — Да, он агент фабрики медикаментов и живет в Идоле. Говорят, что ему нравится тут. Да ведь от Идолы рукой подать до Элизабетвиля с его ночнымиклубами. Я написал ему несколько строк, но ответа не получил.
Солсбери или Родезия, о которых я пишу, может быть, не узнают в моей книге своих жителей. Ио я уверен, что настоящему Солсбери суждено пережить тот город, который создали в своем воображении его белые обитатели. Они знают так мало и так много намеренно скрывают от себя. Грязь из помоев Харари удобряет землю, а не прямые авеню, но многие люди не замечают почвы, на которой прорастают семена будущего.
Между двух миров
По вечерам мы вели долгие разговоры у Стэнлейка и Томми Самканге в Беатрис Коттедж, лучшем районе Харари, правда, окруженном высокой решеткой, так как во время войны здесь был лагерь для интернированных итальянцев. В четырехкомнатных домиках живут африканцы, добившиеся положения в обществе: адвокат Херберт Читепо, автор большого цикла стихотворений на языке шона, министр Джеспер Саванху, которому отказались предоставить виллу в пригороде для белых. Томми — молодая негритянка из Джексона в штате Мисиссипи, получившая диплом доктора философии в университете штата Индиана Когда она встретила Стэнлейка Самканге — африканского журналиста, получившего образование в Южно-Африканском Союзе и приехавшего в Америку для получения степени, она занимала должность профессора психологии. Они поженились, Томми оставила свою профессуру, и в конце 1958 года они переехали в Харари. Она приехала сюда, чтобы увидеть еще не родившуюся Африку, более новую, чем Новый Свет, а нашла там викторианский образ жизни с его жестокостью. Томми не сумела закалиться за прожитые в Африке месяцы, она готова заплатить втройне, лишь бы не жить за решеткой, ее ничуть не утешает, что она достигла почти вершины африканской иерархии. Она изучает местные диалекты в целях психологических изысканий, чтобы составить новые тесты для оценки умственных способностей. Она живет какой-то странной жизнью на границе двух миров — африканского, который смотрит на нее как на ученую американку, и европейского, который причисляет ее к сословию слуг. — Я редко бываю в Солсбери, — говорит Томми. — Выучить, в какие лавки можно заходить, а в какие нельзя, — целая наука, ведь вывесок почти нигде нет. Она заметила, что белых обслуживают в магазинах быстрее, чем черных, и привыкла, что ее называют «нэн-ни», нянюшка. За покупками она ходит не в те магазины, где товары самые дешевые или самые лучшие, а в те, где ее меньше всего унижают. Томми приходится здесь хуже, чем борцам за национальное движение, хотя у нее есть друзья среди белых. Она чувствует себя посредственностью в стране, застывшей на одном месте, где жизнь липкая, как клей… да, как клей, иногда покрывающий письма из Ньясаленда, вскрытые цензурой. В Стэнлейке больше боевого духа — он привык к расовому угнетению. Он работал корреспондентом английских газет и сейчас занимается изучением спроса среди африканцев для различных фирм. Он думал, что в феврале его арестуют — ведь он был видным деятелем партии Африканский национальный конгресс. Вместо него арестовали его брата, а он после разгрома партии примкнул к Гарфилду Тодду. Самканге (на языке шона это означает «тот, кто хорошо жарит мясо») влюблен в еду, приготовленную женой. Он с удовольствием угощает своих гостей крепкими напитками, а сам, как многие другие интеллигенты из африканцев, предпочитает «мазо», апельсиновый сок. Это полный мужчина с хрипловатым голосом, возмущенный всеми нелепостями, наблюдаемыми в обществе. Академическая степень дает ему право не носить паспорта, но вместо него он должен носить с собой бумагу стоимостью в фунт стерлингов, подтверждающую, что он освобожден от ношения паспорта. Стэнлейк не питает иллюзий по отношению к настоящему, он делает ставку на будущее и уверен, что выигрыш обеспечен. После жаркого из вырезки он становится задумчив: — Мы так долго боремся за вещи, которые хотим иметь, что уже не уверены, сумеем ли воспользоваться ими, когда получим их. В их доме всегда полно людей. У нас было такое чувство, словно сказанное здесь имело такое же значение для будущего страны, как то, что происходило в парламенте в каком-нибудь десятке километров отсюда. Английские журналисты приходили сюда, чтобы прощупать настроение африканцев — так делал, например, Антони Сэмпсон, писатель и корреспондент газеты «Обсервер». Здесь бывали африканские врачи, которым власти постоянно запрещали что-нибудь делать: например, проверять процент содержания алкоголя у пьяных европейцев; националисты из Северной Родезии, учителя, священники… Был здесь и Блоук Модисейн, известный журналист из газеты «Драм» в Иоганнесбурге, — он бежал оттуда на север. Он говорил о Южной Родезии, как о родной сестре Южно-Африканского Союза, правда, несколько отставшей от него в своем развитии. Люди из Харари налаживали здесь контакты с африканцами и белыми либералами, живущими в Северной Родезии. Однажды ночью друзья перевезли Модисейна по неохранявшейся дороге в Танганьику, где его ждала свобода. В последний раз я встретил его в Лондоне в книжной лавке на Лейчестер-сквер. Как и многие другие, он писал в то время роман. Собираясь в доме Самканге, мы думали о любимой идее Беленского, Майкла Бландела в Кении, бельгийских и французских колонистов: создать африканскую буржуазию, которая явилась бы буфером, смягчающим столкновение с пролетариатом. Несмотря ни на что, в локациях все-таки процветает социальная и общественная жизнь. Это говорит об инициативе и предприимчивости африканцев. Согласно одиннадцатому разделу коммунального закона, семьи, проживающие в локациях, могут в любую минуту быть выброшены из своих лачуг, если они занимаются противозаконной деятельностью или если власти решат, что им вообще почему-либо «не подобает проживать там». Африканцы получают низкую зарплату; они не могут скопить деньги, чтобы вложить их в дело, способствующее процветанию страны. Если они хотят открыть какое-нибудь предприятие, им не предоставляют щедрых займов, как белым. Гай Клаттон-Брок заметил, что если бы экономическая, социальная и политическая жизнь в европейском районе сопровождалась такими же ограничениями, эмиграция и капиталовложения прекратились бы и в Федерации воцарились нищета и застой. Когда-нибудь судьба белых будет определяться тем, насколько представления африканцев об общественной справедливости не похожи на представления белых. В это время в Родезию прибыли с визитом лорд Хоум, лорд Перт и другие члены английского консервативного правительства. Их лица мелькали на страницах «Родезиа геральд», посвященных светской жизни: коктейли у генерал-губернатора, африканцы-официанты в белом подают сухое мартини и улыбаются. Они осмотрели достопримечательности, что заняло день или два — больше не нашлось ничего достойного внимания высоких гостей, — и никто не догадался сказать им, что следует остаться на несколько лет, чтобы понять эту страну. Когда официальные гости хотят осмотреть «простой африканский дом», из департамента информации звонят в наиболее респектабельные дома и спрашивают — не примут ли они высоких посетителей. Откуда-то вдруг появляются цветы, начинают суетиться слуги, все прибирают и начищают. Когда генерал-губернатор недавно пожелал посетить дом цветного, позвонили Джо Калвервеллу, но он отказался от этой чести, и предложение досталось его соседу. Тот, в восторге от того, что высокий гость нанесет ему пятиминутный визит, продал всю старую мебель и купил новую. Перед лордами лебезят, потому что, как весной сообщалось в одной из статей «Родезия геральд», наш главный враг находится в Англии» (читай: не в Претории). Милостиво кивнув головой, они быстро проходят по сцене, как в опере Джильберта — Салливэна, и затем с доброжелательной миной дают отзыв: все хорошо, между расами нет недоразумений, наоборот, здешние отношения между расами могут служить примером всему миру… Однажды вечером у Самканге кто-то начал танцевать, напевая «Мы партнеры, мы партнеры…» на мелодию псалма. А двое других начали диалог: — Я согласен с тем, что недавно сказал наш уважаемый Вилден. Я тоже чувствую себя беспомощным. Ведь нашей цивилизации всего семьдесят лет. Я до сих пор верю в средство из земляных червей; я сжигаю их, перетираю в порошок и даю своей жене. Это для того, чтобы она родила дочерей, которых я смогу продать. — Для африканцев гораздо лучше оставаться на той стадии, на какой они находятся. Мы продолжаем искать в золе знаки предзнаменования и верить в привидения. Или, может быть, вы, господин доктор, можете вспрыснуть в мои вены культурные традиции нескольких веков? — Я работал на ферме. Однажды ко мне подошел хозяин и сказал: «Джонни, ты получишь в день на пенни больше, здесь Федерация». Рядом с ним стоял, улыбаясь, новый надсмотрщик. Я повернулся к нему и сказал: «Благодарю вас, господин Федерация». Белые много выгадывают от того, что здесь горькие мысли пытаются отогнать смехом. Подобные вещи мы слышали много раз и от белых и от черных. Их надо бы превращать в песни и шутки — ведь на севере нигде не услышишь таких забавных историй. Смех — тоже форма сопротивления. В нем заключена своего рода перестраховка; этого не стоило бы принимать всерьез, если бы за этим не скрывались столь серьезные вещи. Но наступит время, когда мы всерьез посмеемся, вместо того чтобы смехом скрывать страдания. Важно не впадать в патетику. В доме Стэнлейка и Томми кто-то сказал: — Борьба за свободу — нечто более великое и вдохновенное, чем свобода, которую мы, может быть, обретем в результате этой борьбы. «Мы партнеры». Африканец ритмично танцует, напевая, и его пение напоминает нам о треске пустых, шаблонных фраз, высказанных дельцами и политиками, к которым почтительно прислушивается весь мир.Мы на острове
Шелах Рейнджер опоздал на ленч. Его пальцы были запачканы типографской краской. Студент африканец укрепил на доске несколько объявлений. Одно из них приглашало на дискуссию о свободе печати, другое призывало отправиться на рассвете вместе с женами с визитом к политическим заключенным, взяв еду и книги. «Я был в тюрьме, а вы не навещали меня» — упрекал плакат. На другой день увидел свет новый номер «Диссента», который занимал двадцать страниц текста, отпечатанного на скверной бумаге. Если бы эта газета попала на глаза родезийцу, он наверняка швырнул бы ее в корзину для бумаги. Но в газетах и парламентах разных стран мира эти страницы вызывали оживленные дискуссии— ведь только они стояли на страже демократических идей, предостерегали о будущем, предлагали правительству конструктивный план. Только «Диссент» давал глубокий политический и психологический анализ событий, происходящих в Федерации. Когда в 1957 году был создан университет, некоторые (кто знает, может быть, и сама королева) надеялись, что он не будет островком, а представит собой часть «Родезийского материка». Эта надежда оправдалась, но не так, как многие хотели. Здесь, на Маунт-Плезент, воздух был чистым и перспективы будущего ничем не омрачались. Только здесь да еще в локациях для африканцев я чувствовал себя свободным в Родезии. Пожертвовав на создание университета крупную сумму, Англия потребовала, чтобы в него были допущены африканцы и вступительные экзамены для них не отличались от экзаменов для белых и чтобы в основу были положены требования Лондонского университета. Протестов и письменных заявлений со стороны родителей белых студентов было немного; спокойно и без шумихи здесь соединились расы: все едят в общих столовых и живут в общих домах — правда, в разных коридорах. Предрассудки — если они не переходили в политические разногласия — чаще всего исчезали, как только студенты ближе узнавали друг друга. Юноши и девушки уезжали домой к родителям и рассказывали им о жизни, о какой те не решились бы и подумать. Так университет стал самой прекрасной картиной партнерства, какую только могла предложить Федерация, единственным местом, где расы встречались на равных условиях. В пропаганде для заграницы без стеснения используется эта картина: смеющиеся черные и белые в университетских столовых и аудиториях. Однако эта картина полна фальши и лицемерия, так как не отражает положения, в котором находится громадное большинство населения. У Оливера Ндокони дядя сидит в тюрьме; у многих африканцев там родственники и друзья. Одна белая девушка сказала, что после того как сдаст экзамены, она не сможет больше встречаться со своей подругой, африканской студенткой, — этому мешали условности, которым подчиняются и ее родители и все общество. Поэтому роль преподавателей здесь была особенно ответственна. Их значение в это напряженное время едва ли сводилось только к чтению курсов африканской истории или английской литературы. Гораздо большее значение имело то, что они утверждали нерушимый человеческий идеал. Они не выступали ни за, ни против африканцев, а анализировали идеи тоталитарного господства, возникавшие у белых и в дальнейшем одинаково угрожавшие и белым и черным. Ежедневное общение с африканскими студентами помогало представить себе проблемы, стоявшие перед коренным населением. Большинство преподавателей приехали из Оксфорда и Кембриджа, из Южной Африки и Австралии, привлеченные лучшим положением и зарплатой, а также перспективой активного участия в культурной жизни страны. Когда они выступали против чрезвычайных законов, их обвиняли в том, что они вмешиваются в дела, в которые иностранцам нечего соваться. Но, несмотря на кратковременное пребывание здесь, некоторые из них изучили условия жизни африканцев, их образ мыслей — то, чего не знали ни премьер-министр, ни его приближенные, и не только не знали, но даже игнорировали в течение долгой жизни в Родезии. Новости о том, что происходит в Харари или Ньясаленде, часто поспевали к ленчу в университетской столовой еще до того, как они доходили до ведомств и газет. Официальные и общественные круги по-своему реагировали на либерализм университетских преподавателей. В мае 1959 года табачные предприятия Ньясаленда заявили, что они не будут больше предоставлять средства на студенческие стипендии. Муниципалитет Солсбери прекратил выплату ежегодного пособия в 23 тысячи крон. Член магистрата Чарлз Олли высказался по этому поводу так: учителя «не имеют права использовать наши деньги на промывку мозгов». Один из редакторов «Диссента», пастор Уитфелд Рой, был отстранен от прихода и остался без работы. Причиной его отставки, как сообщала «Санди Мейл», был его «ультралиберализм». Пожалуй, только африканцы обратили внимание на то, что методистская церковь замяла дело Роя, — ведь он отстаивал их интересы. В Ньясаленде «Диссент» запретили. Газета опубликовала сведения о концентрационном лагере Канеджа и поставила перед английским парламентом ряд щекотливых вопросов. Случилось так, что федеральное правительство в это же самое время издало брошюру, предназначенную для рекламы Федерации за границей. Родезийцы, уезжавшие на лето в Европу, получили по экземпляру брошюры, чтобы быть в состоянии отвечать на вопросы. Брошюра называлась «Факты», однако не стоило бояться, что ее запретят, ибо некоторые из этих «фактов» были, если не употреблять более сильных выражений, недостоверными и только вводили в заблуждение. «Диссент» призывала правительство либо говорить всю правду о жизни в Родезии, либо молчать. Правительство, заявляла газета, не имело права исходить из того, что «они все равно не поймут», и потому замалчивать некоторые факты, наводящие на размышления, что нередко случалось во всякой полемике с иностранными критиками. Кто же поверит такому правительству? Дело ведь не в том, что люди чего-то не понимают. Они, наоборот, понимают все слишком хорошо, потому-то правительство и умалчивает о многом.Вечерами собирались за столом, уставленным пятилитровыми бутылками вина, вели те же разговоры, что и повсюду во всем мире: книги, фильмы, мировоззрения. Здесь встречались за одним столом католический священник из Претории, девушка в коротких узких брюках с острова Маврикий, «цветной» механик, скопивший деньги на годовой курс юридического факультета в Лондоне. Комната имела такой вид, будто здесь разбила лагерь археологическая экспедиция: везде разложены бумаги, карты и пепельницы. Один англичанин сказал, что им с их преимуществами империалистов труднее, чем другим, разглядеть исторический процесс, происходящий в мире. — Мы сидим на фруктовом дереве, и кто-то, движимый чувством справедливости, убрал лестницу. Обычно приходил какой-нибудь лектор, прибывший из Англии, которому удавалось провезти некоторые из запрещенных книг: профсоюзную литературу, «Тропик Козерога» Генри Миллера. — Ни одна из этих книг не является ни коммунистической, ни порнографической, — говорил он. — Но цензура заставляет людей думать, будто между эротикой и радикализмом существует соблазнительная связь. Студент африканец горько сетует на свою судьбу. Даже непринужденное общение с белыми становится ему в тягость, и нам приходится успокаивать его. — Я был дома на каникулах, мои родители не поняли меня. Я оказался чужим в деревне и не хочу возвращаться туда. А потом, когда закончу курс, какую работу я найду? Мы пытались утешить его. Время идет, а в крайнем случае есть другие страны на континенте, где любой образованный африканец — желанный гость. Африканский континент надо рассматривать как единое целое, и, пожалуй, нигде на земле человек не сможет внести такого заметного вклада в общее дело, как в Африке. Но легко понять, как тягостна была для африканского студента жизнь в университете. Здесь он жил словно в роскошном отеле, но как только покидал его пределы, он не мог даже сесть в автобус, чтобы попасть в Солсбери. Зеленый холм Маунт-Плезент казался островком будущего, который окружен настоящим, где нет ничего, кроме унижений и оскорблений. А домашняя среда — резервация и деревня — лежат в прошлом, по другую сторону ущелья, и к ним нет возврата. — До 1948 года в Кейптауне дышать было легче, чем в Солсбери, — сказал Артур Рэвенскрофт во время диспута в клубе Джозефа Конрада. Он приехал из университета Стелленбоша в Капской провинции. Там, при министерстве, он преподавал английский язык, но однажды, за недостаточную лояльность, был уволен профессор Литлвуд, и с преподавателями английского языка перестали здороваться из страха перед полицией. Рэвенскрофт сжег то, что могло показаться подозрительным, главным образом чешские книги и журналы. Ходили слухи, будто он католик и на стене у него висит якобы портрет Эразма Роттердамского, хотя на самом деле это был портрет герцога кисти Гольбейна. Но в Южной Африке не видят большой разницы между католицизмом и коммунизмом, и Рэвенскрофт пошел по следам других преподавателей — переехал в университет Солсбери. Вино кончилось, священник из Претории успел перепугать девушку с острова Маврикий своими рассказами с разных кошмарах, а владелец книжной лавки обещал выставить свою кандидатуру на муниципальных выборах, чтобы покончить с дебатами о туалетах для разных рас. И кто-то сказал: — Если вы представляете будущую Родезию как нынешнюю, но без расовых предрассудков, без несправедливости и с массой хорошо одетых африканцев в ресторанах, то вы обманываете себя. Все, что делает Родезию тем, что она есть, связано с несправедливостью, и без этого ее нельзя представить себе. Перед тем как разойтись по домам, мы погасили свет, но темно не стало. В окна колледжа на Маунт-Плезент светила луна, на склоне холма квакали лягушки. Мы остались еще на часок. Над головами вились причудливые, как мысли, кольца дыма.
Прощай, Родезия
Я получил уведомление с просьбой явиться в федеральное министерство внутренних дел. Моя жена пошла со мной. Мы думали, что нас ждет что-нибудь интересное— в департаменте информации нам как-то обещали поездку в учебных целях на строительство Карибской плотины. В человеке, принявшем нас, я узнал государственного секретаря министерства (он бывал в клубе Ротари), между прочим, одного из авторов конституции Федерации. — Министр внутренних дел поручил мне сообщить, что он глубоко огорчен вашими статьями в шведской, финской и датской прессе. По достоверным источникам из Стокгольма нам известно, что до сих пор в печать поступали из Родезии только объективные сведения. А эти статьи чересчур уж подкрашены вашими собственными измышлениями. Он похлопал рукой по внушительной пачке телеграмм. В его комнате кроме нас сидел старый, приятного вида священник. Он был председателем поэтического общества в Солсбери; вероятно, его позвали сюда, чтобы быть моим наставником и духовным отцом во время допроса. Было ясно, что мне хотели предоставить возможность попросить прощения и написать опровержение в газеты — сообщить, что все мною написанное было ложью, или же расплакаться, как мальчишка, и тогда священник стал бы меня утешать — ведь все мы можем сделать неверный шаг. Государственный секретарь прочел вслух несколько фраз из моих статей и начал расспрашивать: — Кто это сказал? На кого вы намекаете? Я отказался дать ему разъяснение и в свою очередь спросил, считает ли он невозможным, что кто-то мог сказать это. Он не ответил, но и не стал возражать. Он, казалось, все время хотел показать, что речь идет о целом ряде недоразумений между мной и Родезией. Больше всего его интересовало, что я пережил, что заставило меня писать так, кто обманул меня? — Мы знаем его как либерала, много сделавшего для своих африканских рабочих, — сказал он о ком-то, кого, как он думал, узнал в статье. — Может быть, он пошутил? Его нарочито грустный голос и сознательная или неумышленная фальшь, звучавшая в нем, испортили мне настроение. Как легко было дать запутать себя этими с виду безобидными вопросами! Государственный секретарь повернулся к Анне-Лене, которую он никогда раньше не видел, и процитировал кусок из моих первых впечатлений о Родезии. — Здесь сказано: «Моя жена отходит в сторонку — на ее глазах слезы». Это правда? — Да. Что за дурацкий вопрос! Анна-Лена могла быть неврастеничной или ее могла охватить тоска по дому. Что доказывали ее слезы? Но когда она ответила, государственный секретарь задумчиво посмотрел на нее. Из этой первой беседы стало ясно, что я провинился перед государством, перед этикой Федерации. На меня смотрели полные упрека глаза: как вы можете настолько не понимать нас и поступать так? Для чего вы подрываете нашу работу, направленную на установление покоя и гармонии в Центральной Африке? Поступки отдельных людей не могут ставиться на одну доску с политикой правительства. У нас ведь есть в правительстве министр африканец… Возможно, меня хотели заставить подписать документ— так, как заставляют делать политических заключенных, прежде чем выпустить их на свободу: они должны были признать в таких документах, что правительство действовало правильно, что они сами допустили ошибку и теперь поняли, в чем она состоит. Здесь, в министерстве на Джеймсон-авеню, я думал о мягких уговорах, которые ведутся в тюрьмах с целью, как гласит излюбленный здесь термин, «реабилитировать туземцев и изменить их образ мыслей». Тщетные усилия! Два дня спустя меня снова пригласили в министерство; прибыли новые статьи, переведенные на английский язык. Теперь я не был больше озорным школьником, я был закоренелым преступником. Государственный секретарь поинтересовался, с какими людьми я поддерживал знакомство. Я отказался ответить. После этой беседы я попросил, чтобы в дальнейшем контакт между нами поддерживался в письменном виде. Мне хотелось спросить, сколько звездочек поставят перед моей фамилией, расценивая мои политические прегрешения — одну, две или три. Но вместо этого сказал, что не слышал, чтобы других журналистов вызывали на допрос. Нет, в большинстве случаев они уезжали, но сэр Рой собирался привлечь к ответственности одного из них. Какое наказание ждет меня? Об этом еще не было речи. Но так или иначе они дадут знать о себе. В министерстве внутренних дел сказали, что они сообщили клубу Ротапи в Солсбери о моем поведении. Я, по мнению министерства, предал идею этого общества о международном понимании и доброй воле и слишком вольно истолковывал условия моей стипендии. С этим, очевидно, согласились в клубе, так как с того момента они не подавали никаких признаков жизни. Международный центр Ротари в США, предоставивший мне стипендию, обошелся со мной более великодушно, но к тому времени я уже покинул страну. А тогда я шел домой, тротуары были устланы лепестками тюльпанов, которые прилипали к подошвам. Казалось, будто идешь по свинцовому сурику. Когда я подходил к дому, хлынул дождь, он смял кусты гортензии, росшие у балкона. Помойка наполнилась водой. Через косой дождь с трудом пробивались африканцы на велосипедах. Собаки на этот раз не нападали на них — они попрятались в свои конуры. — Нас выслали или мы можем еще пообедать? — спросила жена. — Мы успеем поесть, — ответил я. — Пожалуй, им больше всего хочется, чтобы мы уехали отсюда без лишнего шума. В комнатах стало душно, освещение было скудное — сестра хозяйки дала нам маленькую лампочку, и мы переносили ее от письменного стола к обеденному, потом к кровати. У нас не было телефона, мы вполне удовлетворялись телефоном в моей университетской комнате, но сейчас мы вдруг почувствовали себя одинокими. У нашего дома остановился мотоцикл. Из него вышел полицейский и направился через сад. Мы переглянулись— он мог идти только к нам. Высылка?! Сердце начало биться от страха и бешенства. Мы слышали долгие звонки к соседу, но никто не открыл. Полицейский пошел обратно к калитке. На конверте в его руках было написано: «Именем ее Величества». Обед остыл. Дождь лил сплошным потоком, как бы склеивая небо и землю. Из леса, напротив дома, выбежали две африканки. Одна, в красном платье, прилипавшем к телу, побежала вперед, другая, с зонтом, пошла сзади. Мы вдруг заметили, как равнодушны стали к тому, что происходит в Швеции и в Европе. Сейчас там весна, почти лето, а здесь времен года нельзя различить. И все же нас не тянуло туда. Как там наши друзья? Какие вышли книги? Какие ставились спектакли? Обо всем этом мы редко говорили, хотя за границей часто испытываешь чувство страха, словно что-то теряешь навсегда. Причина этому — не любовь к Родезии, мы покинули бы ее без сожаления. Здесь мы впервые в жизни столкнулись с работой государственного механизма, с тем, как кучка обычных, часто приятных, а нередко и полных предрассудков людей пользовалась своей властью. Мы встречались с ними, слушали сплетни, видели их за кофе, разглагольствующими о свободе других людей — словно они с удовольствием воздвигали собственные виселицы. Они властвовали над всем, кроме самих себя. Неизбежность столкновений с событиями делает жизнь в Федерации захватывающей и интересной. В этом ее заманчивость. В молодой стране предприимчивый человек, будь то дурак или идеалист, демагог или реалист, всегда имеет редко встречающуюся возможность оставить после себя какой-то след. Никогда раньше проблемы другой страны не волновали меня так глубоко, как здесь, в Африке. Я чувствовал себя так, как бывало в детстве, когда, заигравшись, засыпал где-нибудь на заднем дворе, а после не мог понять, что происходит. Вдруг я начал различать те вещи, те цвета, которые раньше не замечал. Теперь я занял определенную позицию, от моих сомнений и колебаний не осталось и следа. За короткое время вы здесь можете приобрести друзей на всю жизнь. Если у вас никогда раньше не было настоящих врагов, то здесь вы поймете, как сильно люди умеют ненавидеть. Раньше вам было легко сохранять хорошие отношения со многими, но вот вы делаете решительный шаг — и мир раскалывается надвое. Люди начинают относиться к вам по-другому, иногда вовсе не замечают вас; во многих домах вы больше не появляетесь. Но вы чувствуете облегчение. Страх и равнодушие, словно путы, обвивающие вас в вашей собственной стране, здесь исчезают. Поймите разные стороны нашей проблемы! — взывали к нам в министерстве. Но ведь понимание может быть и обманчивым, когда всё понимают и поэтому всё прощают. Дойти до всепрощающего понимания — значит, впасть в детерминизм, слепо распределяющий добро и зло между людьми. Пребывание в стране расового угнетения — тяжелое бремя для чувств. Невозможно дольше довольствоваться собственным благополучием и событиями личной жизни. Вас охватывает жажда деятельности. Но, вместо того чтобы писать, агитировать, раздавать хлеб, вы вдруг становитесь бездеятельным от охватившего вас бессилия. Вас окружают мелкие узколобые люди, тогда как время и чувство огромны и их не охватить взглядом; терпимость, переходящая в усталость, горечь, изнуряющая и доводящая до изнеможения. Ничего не сделано, все только предстоит. Впереди ждут все нерожденные, позади — все, кому пришлось умереть. Несправедливость так велика и так осязаема, что мне кажется, будто я мог взять ее, слепить в огромный снежок и запустить в лицо виновным, если бы у них было только одно лицо. И в то же время африканским проблемам трудно придать осязаемый вид. Обычно они принимают форму избитых фраз о том, что африканцам не разрешается делать того-то и того-то. Но само по себе запрещение ходить в кино или ресторан еще не так много значит. Самое страшное — это внутренние раны. Удар хлыстом не столько повреждает кожу, сколько ранит душу. Существование слепых расовых границ наносит людям неизлечимые раны. Мы не можем требовать, чтобы те, кто живет в таких условиях, выступали и рассуждали бы так, как мы. «Моих детей заставят ходить в школу вместе с черными?» — когда много раз слышишь этот вопрос (даже от шведов, эмигрировавших сюда), начинаешь думать, что перед большинством стран нашей земли стоит совсем другая проблема. Там ничего не знают о будущем. Но белым в Родезии, определяющим свою жизнь мелкими расовыми вопросами и из ограниченности требующим, чтобы и другие смотрели на это так же, как они, можно спокойно ответить: «Для вас нет будущего». Дождь прекратился. Далеко отстоящие друг от друга фонари освещали дорогу красным светом. С дерева над нашим окном сползла серебристая кора. На земле валялись ее кусочки. Будто взволнованный чем-то художник разорвал и разбросал свои наброски. Мы знали, что здесь, в Солсбери, нам не придется платить квартплату за следующий месяц, даже если не поступит приказ о высылке. Мы чувствовали себя так, словно прожили в Африке несколько лет. Мы не могли больше жить в стране, где действительность постоянно заставляет страдать. Теперь, когда нельзя сделать ничего полезного, лучше всего уехать.Раздел имущества
В последние дни, когда мы уже знали, что уедем, мы чувствовали себя очень одинокими в «белом» городе. В винной лавке напротив гостиницы Джеймсона я продал пустые бутылки, скопившиеся за последний месяц. Я заметил, что люди, увидев нас, ускоряли шаг. Может быть, они это делали не потому, что не одобряли нас, а потому, что им казалось бессмысленным разговаривать с людьми, собирающимися уезжать. Они не хотели иметь дела с чем-то чуждым, не ставшим для них своим. Они жили по расписанию, у них было время только для тех, кто был лоялен. На нас они попусту растратили свои заботы, напитки и ростбифы. Однажды, когда Эснет, жена Джошуа Мутсинги, была свободна от дежурства в больнице, мы выехали после обеда на озеро Макилвейн. Мы говорили о том, что африканцам некуда деться во время отпуска. Южная Африка закрыта для небелых, а у Карибского водохранилища и в национальных парках мало гостиниц для африканцев. Недавно одному преподавателю африканцу не разрешили даже записать свои впечатления в книге отзывов у руин Зимбабве, чтобы не нарушить порядка в статистике. Эснет не была за городом целый год. Мы остановились и вылезли из машины на сжатом поле, напоминавшем небритую щеку великана. Кое-где торчали низкие колючие кусты шиповника. Сухой мерцающий воздух делал расстояние обманчивым: деревья и гранитные глыбы вдвое увеличивались в размерах, горизонт надвинулся, трава переливалась неясными отблесками. Как всегда, мы ощущали легкое волнение перед природой Африки. Здесь, на берегу озера Макилвейн, мы однажды переехали огромную мамбу. Ядовитая зеленая змея лежала с переломленным хребтом на дороге. Эснет сбросила свою обычную застенчивость и в восторге захлопала в ладоши. — Вот если бы начался дождь. Сколько красок! Тогда мир будет похож на яркую ткань. Джошуа срезал несколько веток и развел костер. Клещами, которые мы достали из ящика с запасными частями, мы захватили несколько кусков мяса, поджарили их над огнем, потом с удовольствием съели, накапав на мясо ананасного сока и сильно поперчив его. Эснет рассказывала о своей работе в больнице в Харари. В то утро одна женщина родила ребенка. Ребенок был некрасив, и говорили, что он никогда не будет видеть. А мать производила впечатление здоровой. Другая родила близнецов и пришла в ужас, не оттого, что одного из них убьют — теперь этого не делают» а оттого, что у нее и без того много детей. Мы сидели вокруг пылающего костра. На гладкой земле лежал упавший кактус, похожий на сложную монограмму на простыне. Эснет потирала свои озябшие темные руки. Джошуа, как всегда, был задумчив. — Мы, африканцы, надеемся, что лучше сработаемся друг с другом, чем вы, европейцы. Личность, индивидуальность не так уж много значат для нас. Только колдун бродит в одиночестве. Вам важно сохранить индивидуальность. Мы же ценим то, что делает нас похожими друг на друга, что объединяет наши семьи и не оставляет нас одинокими. Если я буду другим, то я надеюсь, что другие захотят стать похожими на меня, и опять я не буду отличаться от них. — Джошуа уверен, что есть особая африканская психология, — сказала Эснет и засмеялась. — Да, — подтвердил Джошуа, — возможно, я ошибаюсь. Но если мне хоть раз удастся побывать в другой стране, лучше всего в Европе, это будет счастливейший день в моей жизни. Мы вернулись в город. Это была наша последняя поездка на нашем «Моррис Оксфорде» модели 1950 года. Оставаться в стране в качестве «свободного» писателя с моими взглядами не стоило. В редакции африканских газет нас ждал Хэй Малаба, школьный учитель из местечка Маранделас, лежащего за много миль от Солсбери. Джошуа уговорил его купить наш автомобиль. — Вы долго ждали? — спросил я. — Восемь часов, — ответил он с кроткой улыбкой. Кто-то из нас перепутал время, и его выходной день пропал. Он заверил нас, что это ничего не значит, он с удовольствием посидел в редакции. Нам это было знакомо: для нас скука — это время, которое некуда девать, для африканцев время — союзник, которым нельзя злоупотреблять. Хэй Малаба только посмотрел на машину, он не заглянул в мотор и не захотел опробовать ее на ходу. Он решил, что ни к чему показывать ее и дорожному инспектору. — Джошуа мой очень хороший друг, а вы его хорошие друзья, и этого достаточно, — заявил он. — Я знаю, что Джошуа не посоветует мне купить то, что он считает плохим. Но Джошуа ничего не понимал в машинах, он бросил взгляд на кузов и начал хвалить автомобиль, а может быть нас. — В машине может быть сколько угодно недостатков, я все равно возьму ее, — объявил Хэй Малаба. — Я сразу же решил это сделать, как только Джошуа позвонил. Стоимость автомобиля была равна его учительскому жалованью за три месяца. — Вот наш адрес в Швеции, — сказал я. — Если обнаружится какой-нибудь страшный дефект, который мы не заметили, мы вернем часть денег. — Я буду писать вам о том, как хорошо быть вашим другом. О недостатках машины я никогда не напишу. Мы направились в страховое общество. В воротах мистера Малабу задержал грубый сторож. На лифте было написано: «Только для европейцев». Потом мы были в бюро регистрации автомобилей. Пока все эти процедуры не кончились, Хэй Малаба все время будто опасался чего-то. На его месте мы, как все белые, не доверились бы заверениям прежнего владельца машины и прислушивались бы к каждому звуку, проверяли бы все болты и уж обязательно осмотрели бы мотор. Для него же это было делом чести. Когда в редакции произошел обмен бумагами и деньгами, всем стало весело. Все были довольны. Мы — потому, что получили деньги, Джошуа — потому, что совершил хорошую сделку между друзьями, а Малаба — потому, что Джошуа передал наше предложение именно ему. Вошел редактор газеты «Африкэн дейли ньюс», попытался в шутку стащить пачку денег и сказал Малаба: — Поздравляю тебя с покупкой автомобиля, который, по мнению Джошуа, так хорош! Рядом с нашей комнатой сидели журналисты за высокими ремингтонами. Африканцы писали и редактировали газеты на английском языке, на шона, синдебеле и ньяньа, расходившиеся затем по всему континенту. Эта форма партнерства теряет свое значение оттого, что газетами владеют и определяют их политическое лицо европейцы из правительственной партии. Газеты сообщают сведения познавательного характера, они слегка идейно окрашены и допускают немного социальной критики, но политические события, такие, как чрезвычайное положение, не обсуждаются на их страницах так подробно, как в белой прессе. Родезийские газеты, как африканские, так и европейские, подогнаны под одну мерку даже больше, чем в Южно-Африканском Союзе. Другое дело, что журналисты, работающие в редакции африканских газет, редко думают так, как пишут. Это всем известно, и во время операции «Солнечный восход» шестерых из них забрала полиция. Среди них много наших друзей. Журналисты вышли, чтобы взглянуть на проданный автомобиль. Они пытались внушить бедному учителю, что его здорово надули. Когда мы уезжали, я видел в зеркале их оживленные лица: можно было подумать, что они дерзко смеялись, бросая вызов будущему.Те, кто остаются
Мы шли по улицам Харари. По мнению большинства людей, это мрачные трущобы. Но здесь есть и своеобразная, таинственная красота. Может быть, она заключалась в смехе детей, в их веселых играх между лачугами, в свете керосиновых ламп в дверях, а может быть, в чувстве свободы, в полной уверенности, что люди здесь владеют чем-то драгоценным, чего многие никогда не сумели и не смогут обрести. И во многом другом, что следовало бы выразить проще и прямее.Флейта
Вечером накануне отъезда мы в последний раз побывали в Харари. Небо окрасилось в зимний шафрановый цвет, дым очагов казался на этом фоне ярко-синим. Дети плясали вокруг костров, женщины перебирали свои стеклянные бусы, портной склонился над швейной машиной и продолжал работу при свете карбидной лампочки. В такой вечер Харари кажется родным домом, а не локацией, порожденной бесчеловечными законами. Держась за руки, прошли две девушки-подростка, впервые в своей жизни надевшие туфли на высоких каблуках. На ногах их напрягались жилы. Чтобы не потерять равновесия, они напряженно смотрели перед собой. Нам показалось, что в доме Джошуа голо и пусто. Уют придавали дому только люди. Казалось, что в их квартиру либо въезжают, либо выезжают из нее. Правда, у них был гобелен, натянутый над кроватью. Он был привезен из Европы и когда-то украшал виллу белого, который приобрел его на распродаже имущества какого-то знатного африканца. В доме Джошуа мы чувствовали себя так, словно листали огромный том энциклопедии, посвященной Африке, великану с тысячью лиц. Эснет вязала, загадочно улыбаясь, клубок тихо шуршал в пустой тыкве. Мюкайи, крошечный сын Джошуа, только что поел и от удовольствия надувал щеки. Он озабоченно морщил выпуклый лобик. Ребенок напоминал котенка, проглотившего слишком большую для него канарейку. В первый раз мы видели его двух дней от роду. Тогда он был похож на почерневшую мудрую мумию, не был таким нежно-розовым, как другие новорожденные африканские младенцы. Мюкайи — почти ровесник чрезвычайного положения. Джошуа философствовал: — Монеты, бренчащие в моем кармане, существуют для того, чтобы ими пользоваться… авторучка, которую я наполняю… Бог, о котором мне рассказывал священник… Буквы, изобретенные по другую сторону моря… Мои глаза могли бы увидеть и многое другое, но я уже никогда не узнаю, как бы они восприняли иную жизнь. — Дело случая, — сказал я. — Варварство и цивилизация, невинность и утонченность, жестокость и любовь — каждый, кто способен заглянуть в себя самого, может заметить, как расплывчаты границы между ними. — Но почему именно нам выпала на долю эта проклятая жизнь? — воскликнул Джошуа. — А почему ты не Оливер Кромвель? — А ты не Фрэнсис Дрейк? — Тогда уж мы наверняка не встретились бы с тобой, — сказал я. Мы могли долго так разговаривать, и никому, кроме нас самих, разговор не был интересен. — Вы правильно делаете, что уезжаете, — сказал Джошуа Анне-Лене и мне. — Мне стыдно, что вы увидели мою страну такой, какая она сейчас. — Вы приедете сюда еще раз, как вы думаете? — спросила Эснет. — У вас за это время, может быть, появятся на свет еще двое детей, но мы приедем. Если, конечно, нам позволят. Почему бы и нет? — Я чувствую, что мы никогда больше не увидимся, — мрачно заметил Джошуа. — А здесь так многое надо сделать. А у вас, в Швеции, все есть. Там, наверное, и делать нечего? — Есть, конечно, что делать, но сейчас, когда мы здесь, трудно вспомнить, что именно. Мюкайи сказал что-то веселое на своем особом языке и лукаво подмигнул, как бы подтверждая свою причастность к прегрешениям этого мира. — Вы, белые, — шутливо сказал Джошуа, — либо остаетесь и превращаетесь в дьяволов, либо бросаете нас на произвол судьбы. И все же вы для нашей страны, как дрожжи для хлеба, как говорит Даути Ямба в парламенте, когда ему хочется увидеть свое имя в газетах. — У вас так хорошо дома, что вам вряд ли захочется когда-нибудь вернуться сюда, — сказала Эснет. — Вы, пожалуй, не поймете нас, — возразил я, — но мы все же вернемся. Мы получили в подарок несколько салфеток с кружевами, сделанных Эснет, и их свадебное фото — копию только что получили от фотографа, она была еще влажной. Мы отдали им все вещи, которые оставляли в Южной Родезии: несколько стаканов, мешочек луку, бутылку сидра, кофе, соль, щетку и книгу о Ливингстоне. Стаканы были небьющиеся, и один из них дали Мюкайи поиграть. Он тотчас же водрузил его себе на голову. Мы не хотели, чтобы наши друзья провожали нас на аэродром — мы помнили о табличке с надписью: «Право допуска ограничено». Мы пожали им руки и распрощались. В тот вечер у соседнего дома, как всегда, кто-то сидел и играл на флейте. «Когда на Занзибаре поет флейта, все к востоку от озер должны танцевать», — говорят на берегах Танганьики. Флейта играла уже долго, и все больше людей начинали прислушиваться к ее мелодии. Смысл этой пословицы таков: то, что происходит где-либо на Земле, касается всех живущих на ней. Звук флейты преследует нас, мы не можем от него отделаться. Африка — весь мир, и в этом мире мы должны попытаться жить, ибо другого не существует.
Новое открытие Южной Родезии
«Куда ни бросишь взор, повсюду Англия, куда бы глобус ты ни повернул…» — писал на заре XX века английский поэт Джилберт Кейс Честертон. С тех пор земной шар совершил немало оборотов вокруг оси, и если бы певец британского империализма взглянул на глобус сегодня, то убедился, что от былого величия Британской империи не осталось и следа. Теперь уже никто в Англии не может похвастаться тем, что над Британской империей никогда не заходит солнце. Шагреневая кожа английских колоний сократилась к настоящему времени до размеров нескольких территорий в Центральной и Восточной Африке, да и там позиции колонизаторов вот-вот готовы рухнуть. Такова, например, Южная Родезия. Эта самоуправляющаяся колония принадлежит к числу тех африканских стран, которые еще мало знакомы советскому читателю. Под тройным запором иммиграционных ограничений, фальшивой пропаганды и цензуры, она, как и многие другие африканские страны, долго оставалась для внешнего мира «запретной зоной». Только в самое последнее время завеса, скрывавшая Южную Родезию от постороннего взора, стала подниматься. Этому, в частности, способствовало обсуждение положения в Южной Родезии на XVI и XVII сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Книга Пера Вестберга — по существу первое произведение очеркового жанра, знакомящее читателя с положением в Южной Родезии. Путешествие автора совсем не похоже на те «африканские сафари», которые совершают «знаменитые охотники» и «исследователи» Африки, жаждущие экзотики в духе романов Хаггарда и кинофильмов о Тарзане. Путешествуя вместе с Вестбергом по далекой африканской стране, вы знакомитесь не только с удивительной красотой этого края, но и узнаете, чем живет эта страна и что волнует ее народ* * *
Вся история захвата Южной Родезии англичанами связана с именем Сесиля Родса — авантюриста и колонизатора. Сын священника из графства Хертфордшир, он еще в юности дал клятву, что все свои силы посвятит укреплению могущества Британской империи. Руководствуясь этой целью, он в конце прошлого века приехал в Южную Африку, где, став одним из самых богатых людей страны, основал Британскую Южноафриканскую компанию. Действуя где хитростью, где силой, Родс скупает за бесценок земли у коренного населения. В октябре 1888 года он заключил с вождем народа матабеле, населявшего большую часть территории нынешней Южной Родезии, Лобенгулой, соглашение, по которому тот передавал Южноафриканской компании все права на добычу полезных ископаемых в Матабелеленде. Это была одна из самых выгодных сделок Родса, которая стоила ему тысячу ружей, несколько ящиков виски и… обещания подарить Лобенгуле канонерку, которое Родс так и не выполнил. Удачная сделка, по-видимому, разожгла аппетиты Родса. В его голове созрел план захвата земель Матабелеленда и соседних с ним территорий. Агрессивные устремления Родса и его единомышленников подогревались банкирами Сити, британской земельной аристократией, промышленной и торговой буржуазией. Спровоцировав пограничные инциденты, английские войска начали военные действия против африканцев. Коренные жители оказали захватчикам отчаянное сопротивление, но их дротики и луки не смогли противостоять новейшим скорострельным винтовкам, пулеметам «Максим» и динамитным бомбам, находившимся на вооружении у британских солдат. Преследуемый отрядами генерала Джемсона, Лобенгула с остатками разгромленных войск укрылся в гористом районе, расположенном к северу от Булавайо, и там в 1894 году умер от оспы. До конца своих дней он не мог простить Родсу и его сообщникам их коварства. Впоследствии англичанам еще не раз приходилось пускать в ход оружие, чтобы «усмирять» африканские племена, восставшие против оккупантов. Одним из самых крупных выступлений африканцев было восстание народов матабеле и машона в 1896 году. С большим трудом колонизаторам удалось подавить это восстание и принудить вождей осенью 1897 года подписать соглашение, закреплявшее власть Южноафриканской компании над их землями. Подписание этого акта состоялось на холме Матопос (в окрестностях Булавайо), где впоследствии были погребены останки Родса.
…Новые земли приглянулись колонизаторам. О несметных богатствах этих мест ходили целые легенды: по преданию, именно здесь, в Южной Родезии, находилась библейская страна Офир, откуда вывозил золото царь Соломон. Привлеченные этой легендой, в Южную Родезию хлынули потоком английские авантюристы, жаждавшие быстрого обогащения. Вслед за «легкими стрелками» колониального бизнеса в страну двинулась «тяжелая артиллерия» английского финансового капитала: банки, монополии, крупные промышленные и торговые фирмы, которые довершили экономическое порабощение страны. «Родезия, — писал в те годы Марк Твен, — удачное название этой страны разбоя и грабежа, вырази тельное, как настоящее клеймо». Южную Родезию взяли в экономические тиски несколько крупных англо-американских компаний Это компании «Ланкашир стил корпорейшн», «Стартс энд Лойде», «Родезиан селекшен траст», «Англо-америкен корпорейшн оф Саут Африка», асбестовая монополия «Тернер энд Ньюол», хромитовая «Родезиан кроум майнз» и ванадиевая «Родезиан ванадиум корпорейшн». Первые переселенцы, искавшие в стране золото, вскоре обнаружили, что богатства лежат не только в земле, но и на ее поверхности. Сочетание плодородных почв, благоприятного климата и обилия влаги сулило быстрый и надежный источник обогащения тем, кто решился бы вложить деньги в сельское хозяйство. Колонисты начинают распахивать пастбища и поля африканцев под плантации кукурузы и табака, который быстро завоевывает мировой рынок, а исконных владельцев земель — африканцев — сгоняют с насиженных мест, переселяя их в засушливые, бесплодные районы. Чтобы африканцы не подумали протестовать против этого произвола, южнородезийские власти проводят через парламент ряд актов, узаконивающих земельный грабеж. Самый важный из них — закон о распределении земель, принимавшийся в разных редакциях в 1930, 1941 и 1950 годах. К 1930 году сгон африканцев с их земель был в основном закончен: сотни тысяч жителей были вытеснены в так называемые резервации, составляющие всего одну пятую территории страны. Голод и нищета коренного населения вскоре достигли такой степени, что власти были вынуждены прирезать к резервациям дополнительно 6,7 миллиона гектаров земли (разумеется, наименее плодородной). Эта куцая реформа не облегчила положения крестьян, которые до сего времени жестоко страдают от безземелья. В настоящее время на долю 2,3 миллиона африканцев, проживающих в Южной Родезии, приходится около 15 миллионов гектаров (47 %) пригодных для обработки земель. Оценивая эту цифру, не следует забывать, что в хозяйствах коренного населения господствует подсечно-огневая система земледелия, при которой, для восстановления плодородия почв в условиях Африки, после снятия нескольких урожаев поля приходится оставлять под паром на долгие годы 215 тыс. европейских колонистов владеют примерно 24 миллионами гектаров (53 %), то есть в пересчете на душу населения в восемнадцать с лишним раз больше. Тяжелое положение африканских крестьян, вызванное несправедливым распределением земель, усугубляется дискриминационным законодательством, направленным на то, чтобы обеспечить привилегированное положение европейским плантаторам. Так, например, закон о контроле за кукурузой устанавливает высокие закупочные цены для поселенцев и низкие для африканцев. Правительство лишает африканца права на государственную помощь, вынуждает его сокращать поголовье скота и так далее. Все эти меры направлены к тому, чтобы принудить африканцев покидать свои деревни и наниматься на работу на плантации, заводы и рудники, которые испытывают острую потребность в дешевой рабочей силе. Той же цели подчинена налоговая политика южнородезийских властей. Система налогообложения, введенная ими, обязывает каждого взрослого африканца под страхом тюремного заключения платить высокие подушный и подоходный налоги. Налоги столь велики, что африканец зачастую должен расстаться со своим клочком земли и отправиться на заработки в город. Дешевый труд рабочих-африканцев обеспечивает монополиям колоссальные сверхприбыли, в десять и больше раз превышающие барыши компаний, орудующих в Европе. «Мы и пяти минут не просуществовали бы без туземца», — как-то в минуту откровенности признал бывший премьер-министр Южной Родезии лорд Молверн… До 1922 года Южная Родезия формально управлялась британской Южноафриканской компанией, детищем Родса, и считалась ее «частной собственностью». Этот прием европейские страны нередко использовали для того, чтобы замаскировать свое господство в Африке. Бельгийское Конго в свое время также, например, считалось частным владением («доменом») бельгийского короля Леопольда II, пока тот не «сбыл» свою ставшую дефицитной собственность своему же государству. Так же поступила в 1923 году и Британская компания, продавшая право собственности на Южную Родезию Великобритании за 3750 тысяч фунтов стерлингов. Так Южная Родезия была включена в Британскую империю. К тому времени в этой стране сложилась уже прослойка европейских поселенцев, которых британский империализм резонно рассматривал как своих союзников и опору в борьбе с национально-освободительным движением. Естественно поэтому, что британские власти согласились разделить с ними и власть в колонии. По конституции 1922 года поселенцы получили право иметь свой парламент (законодательное собрание) и свое правительство, наделенное довольно широкими полномочиями в области внутреннего самоуправления. Англия оставляла за собой лишь контроль над внешней политикой, финансами, вооруженными силами. Разумеется, коренное население не получило никаких гражданских прав и оставалось на положении париев. Правда, британские власти милостиво согласились взять на себя обязательство «охранять его права и интересы», но, как показало будущее, они не только ни разу не воспользовались этими полномочиями, а, напротив, используя свои «обязательства», поощряли расистские действия местных поселенцев. Такая обстановка создала благоприятные условия для развития в стране бациллы расизма, которая быстро проникла во все сферы политической, общественной и экономической жизни страны. Расистская идея превосходства белого человека получила практическое воплощение в многочисленных дискриминационных законах, принятых южнородезийским парламентом. Эти законы наделяют европейцев практически неограниченной властью над жизнью и судьбами африканского населения. Так, закон о туземных делах предусматривает, что африканцы, живущие в резервациях, подчиняются департаменту по делам туземцев, состоящему исключительно из европейцев. Белыми являются также окружные комиссары по делам туземцев и коменданты резерваций. Они вершат суд, собирают налоги, наказывают тех, кто «ведет себя дерзко или неуважительно» по отношению к властям. Комендант осуществляет контроль за передвижением африканцев во вверенном ему районе. «Туземец» может покинуть резервацию только с его специального разрешения. Получив такое разрешение, африканец должен вернуться в резервацию до истечения срока его действия — в противном случае он будет осужден за бродяжничество. Если африканцу удается найти в городе работу, он обязан получить специальное удостоверение, куда заносятся сведения о месте его работы, заработной плате, уплате налогов, месте жительства и так далее. Малейшее нарушение системы пропусков влечет за собой арест и осуждение на каторжные работы: каждый год 10–15 тысяч африканцев попадают в тюрьму за нарушение «паспортного режима». Закон об устройстве туземцев в городских районах и регистрации запрещает африканцам селиться в европейских кварталах. Для них отведены поселки, расположенные вне черты города, — так называемые локации. Духом расовой сегрегации проникнуто трудовое законодательство страны. Заработная плата африканского рабочего более чем в десять раз меньше заработной платы европейца, выполняющего ту же работу. Специальный закон об урегулировании в промышленности резервирует все должности, требующие более или менее высокой квалификации, за европейскими рабочими. Дело доходит до того, что, например, в строительстве африканцам запрещают пользоваться молотком, кельмой, мастерком — это привилегия белых рабочих. Африканские рабочие не получают ни пенсий по старости, ни пособий при утере трудоспособности. Забастовки считаются незаконными, африканские профсоюзы подвергаются преследованиям. Зараза расизма проникла в широкие слои местных поселенцев. Европеец, разговаривая с африканцем, требует, чтобы тот встал и снял головной убор. Обращаясь к африканцу, он никогда не называет его по имени, а просто «мунт» (человек), «кафр» (чернокожий) или «бой» (мальчик), даже если тот втрое старше его. Белые господа дают слугам унизительные клички, так как они, видите ли, не могут запомнить их «варварских» имен. Расовая сегрегация преследует африканцев даже после смерти: в стране запрещено хоронить рядом черных и белых. Таковы порядки, существующие в Южной Родезии. Нужно ли удивляться тому, что именно здесь родилась поговорка, которая предельно точно характеризует деятельность колонистов в Африке: «На Черном континенте нет ничего чернее дел белого человека!»
* * *
«Равные права для всех цивилизованных людей». Эти слова, принадлежащие «отцу страны» Сесилю Родсу, избраны девизом Федерации Родезии и Ньясаленда. Их любят приводить защитники южнородезийских порядков, когда сравнивают свои порядки с режимом, царящим в Южно-Африканской Республике. Сходство этих порядков действительно бросается в глаза. Правда, к северу от Лимпопо не принято употреблять термин апартеид, взятый на вооружение правительством Фервурда. Здесь в ходу другой — «партнерство». Но это обстоятельство не способно затушевать разительное тождество этих двух понятий. Что означает партнерство? Апологеты этой теории утверждают, будто бы они вовсе не расисты, а совсем напротив — они за укрепление отношений между расами. Все дело только в том, что, мол, различные расовые группы стоят на разных уровнях развития, а это затрудняет контакты между ними. Вот когда африканцы, заверяют они, поднимутся до уровня цивилизованных европейцев, тогда-то и наступит гармония в расовых отношениях. Что касается южнородезийского правительства, то все его помыслы и стремления направлены-де на достижение этой гармонии. Так выглядит партнерство на словах. А на деле? Обеспечивает ли правительство равные возможности развития европейцев и африканцев? Отнюдь нет. Может ли, например; достичь уровня «цивилизованного человека» и получить избирательные права рабочий, получающий 5—10 фунтов в месяц, или крестьянин, доходы которого считаются одними из самых низких в мире? Могут ли рассчитывать на получение такого «звания» дети африканцев, если их даже не пускают на порог школы, потому что у родителей нет средств дать им образование и еще потому, что не хватает учителей и школ, в которых разрешено учиться африканцам? «Образование и заработная плата, — делает вывод Пер Вестберг, — регулируются белыми. Значит, они могут регулировать и число избирателей». Следует подчеркнуть, что сами расисты не обманываются на счет истинного смысла партнерства. «Это верно, что у нас существует дискриминация по отношению к черным», — признавал Р. Беленский в 1952 году, а один из «изобретателей» партнерства лорд Молверн цинично охарактеризовал его как «партнерство всадника и лошади». Любопытно вспомнить, что и сам Сесиль Родс весьма отрицательно относился к перспективе цивилизации африканцев. Он был решительно против того, чтобы «кафрам» давать образование «Ученых негров, — писал он, — пекут дюжинами… В результате получается следующее: поскольку для этих господ нет никакого дела, они становятся агитаторами, начинают толковать о том, что правительство плохо и что народ их порабощен. Одним словом, ученый негр — крайне опасное существо». Так выглядит партнерство на деле. Пер Вестберг правильно подметил, что партнерство отличается от апартеида только одним: в нем больше фарисейства, фальши. «Нынешние правители сделали лицемерие официальной политикой», — констатирует он. Быть может, именно в этом секрет того парадоксального явления, которое отметил шведский журналист во время пребывания в Африке. «Мир направляет острие своей критики на Южно-Африканский Союз, — писал он, — а Южная Родезия не подвергается нападкам, хотя ее общество построено на тех же расовых принципах». Хозяевам колонии удавалось фальшивыми лозунгами о партнерах отводить. от себя в течение некоторого времени огонь критики, с которой международная общественность обрушивается на расистов. Впрочем, теперь расистские действия южнородезийских властей перестали быть тайной.* * *
«Когда людей ставят в условия, подобающие только животным, — писал Фридрих Энгельс, — им ничего не остается, как или восстать, или на самом деле превратиться в животных»[19]. Народ Южной Родезии предпочел восстать. Он вступил на путь решительной борьбы с колониализмом еще в довоенные годы. В послевоенные годы отдельные, разрозненные, плохо организованные, а подчас просто стихийные выступления африканских крестьян и рабочих уступили место широкому, организованному движению народных масс против колониализма и расизма. В горниле этой борьбы родилась первая массовая политическая организация африканцев— Африканский национальный конгресс Южной Родезии (АНКЮР). Эта партия объединила широкие массы африканцев: крестьян, рабочих, интеллигенцию, национальную буржуазию, недовольную расистскими порядками. Партия выдвинула в ходе борьбы опытных и талантливых руководителей — таких, как, например, Джошуа Нкомо. Самой активной и боевой силой антиколониального движения в Южной Родезии является африканский рабочий класс, объединенный в профсоюзы. Большинство африканских профсоюзов входит в крупнейшее профсоюзное объединение страны — Конгресс африканских профсоюзов (основан в 1953 году в городе Гвело). На счету у рабочего класса много удачных выступлений против колониального режима: забастовка железнодорожников в 1945 году, всеобщая стачка в 1948 году, забастовка горняков угольных копей Уэнкие в 1954 году и др. Нарастание освободительной борьбы, грозившее развалить британское господство в Центральной Африке, вызвало серьезное беспокойство на берегах Темзы. В поисках спасительных средств, которые смогли бы оградить британские позиции от сокрушительного вала антиколониальной революции, родился план объединения английских владений в Центральной Африке — Ньясаленда, Северной Родезии и Южной Родезии. Этот план был встречен с одобрением не только в Сити — логове британского монополистического капитала, но и в Солсбери, среди поселенцев. Создание Федерации позволяло объединить силы поселенцев всех трех территорий под руководством южнородезийских расистов и укрепить их позиции. Кроме того, образование Федерации давало колонистам и британским компаниям большой экономический выигрыш: присоединение Ньясаленда с его «избыточным» населением обеспечивало надежный источник дешевой рабочей силы для горных разработок и плантаций Северной и Южной Родезии. Роль политического и экономического центра Федерации отводится Южной Родезии, где процент белого населения самый высокий (около 8 %). Режим расовой дискриминации, процветающий здесь, сделал ее особенно пригодной для такой роли. Со временем колонизаторы надеялись распространить эти порядки на Северную Родезию и Ньясаленд, где степень расового гнета (при меньшей численности поселенцев) несколько слабее. Понятно, что планы объединения трех колоний в Федерацию были встречены решительными протестами африканской общественности. Многочисленные демонстрации протеста служили ярким доказательством того, что народ не одобряет образование Федерации Тем не менее в августе 1953 г. Федерация была провозглашена. Это не означало, разумеется, прекращения борьбы африканцев против Федерации Напротив, лозунг «Долой расистскую Федерацию» становится наряду с требованием демократических свобод и независимости основным в политической борьбе африканцев. Слово «федерация» стало едва ли не самым ненавистным в лексиконе африканцев. «Теперь африканские матери, — свидетельствует Вестберг, — уже не пугают своих детей чудовищами или злыми волшебниками, чтобы заставить их вести себя хорошо. Они говорят: «Читаганья» — и дети моментально становятся послушными. «Читаганья» означает «Федерация». Борьба африканцев Южной Родезии за ликвидацию Федерации, демократизацию страны и независимость развивалась в тесном единстве с борьбой народов Ньясаленда и Северной Родезии. Наиболее ярким эпизодом этой борьбы было народное восстание в Ньясаленде, вспыхнувшее в феврале 1959 года и громовым эхом отозвавшееся на других территориях, входящих в Федерацию. Искрой, из которой разгорелось пламя восстания, был расстрел колониальными войсками безоружной демонстрации африканцев в местечке Чилека. Этому событию предшествовал бурный подъем освободительной борьбы в стране, связанный с общим усилением освободительного движения в Африке. В стране проходили митинги, демонстрации, забастовки, участники которых требовали выхода Ньясаленда из Федерации. Одна из таких демонстраций, состоявшаяся в Чилека 24 февраля, и была расстреляна колониальными войсками. Стремясь запугать участников освободительной борьбы, власти, очевидно, не рассчитывали на тот эффект, который произведет эта расправа на африканцев. Весть о кровавой бойне в Чилека с быстротой молнии облетела маленькую страну, вызвав бурю негодования. Группы африканцев в Блантайре взялись за оружие, овладев грузом винтовок и револьверов, ввезенных в страну для борьбы с бешеными собаками. В ход пошли палки и камни. В течение нескольких дней вся страна превратилась в кипящий котел. Колонизаторы ответили на эти выступления усилением террора. В стране было объявлено чрезвычайное положение, мобилизованы резервисты. Власти бросили против повстанцев танки, военную авиацию, бронемашины. Расчеты на быструю ликвидацию восстания, однако, не оправдались. Наоборот, волнения перекинулись и на другие части Федерации. Почти одновременно с выступлением народных масс в Ньясаленде объявили забастовку рабочие-африканцы на строительстве гидротехнического комплекса в Карибе, на границе Южной Родезии и Северной Родезии. Колонизаторы поспешили объявить чрезвычайное положение в Южной Родезии — центре Федерации. 26 февраля они запретили деятельность Африканского национального конгресса Южной Родезии, арестовали его руководителей и активистов. Это был сигнал к массовой кампании террора и расправы над африканцами, которая длилась несколько месяцев. Пер Вестберг, стипендиат Ротари[20] прибыл в страну в самый разгар этих событий. Целью его поездки в Южную Родезию было изучение африканских мотивов в литературе, но то, что он там увидел, заставило его забыть на некоторое время о литературе и обратиться к политике. Вестберг становится очевидцем того, что он называет в своей книге «предпоследним актом драмы о старой и новой Африке». Мы, правда, не найдем в его книге подробного изложения хода событий, происходивших в Южной Родезии в тот период, но не это занимает его в первую очередь. Куда важнее для автора найти те внутренние пружины, которые приводят в действие механизм политической жизни Южной Родезии и Федерации в целом. И он в основном справляется с этой задачей. Беседы с людьми, поездка по стране, раздумья, обращение к газетам и книгам — все это позволяет Вестбергу составить довольно правильное представление о характере событий. «Я уверен, — говорит Вестберг, — придет день — и это будет скоро, — когда за руль станет тот, кто покончит с этим трагическим спектаклем и сильными ударами гребного вала, оставляя за кормой медленно накатывающиеся волны, всколыхнет косность и невежество в этой стране».* * *
Пер Вестберг словно и в самом деле заглянул в будущее. Лавина репрессий, бесчинства уголовной полиции Си-Ай-Ди, массовые аресты не смогли остановить освободительной борьбы, а, напротив', еще сильнее раздули ее пламя. Знамя национального освобождения, поднятое Конгрессом, подхватила Национально-демократическая партия, основанная в 1959 году, вскоре после запрещения Африканского национального конгресса. Опираясь на поддержку широких масс народа, партия потребовала отмены чрезвычайного положения, пересмотра расистской конституции, ликвидации Федерации, осуществления лозунга «один человек — один голос» (то есть всеобщего избирательного права) и, наконец, независимости. Власти усилили террор. В июле 1960 года они арестовали активистов партии, а затем запретили ее организацию в ряде городов. 24 июля патриоты организовали митинг протеста в Булавайо, но крики «Ухуру!» (Свобода!) потонули в залпах. Правительственные войска, открывшие огонь по участникам митинга, убили десятки африканцев. Эта расправа еще больше разожгла ненависть африканцев к колонизаторам. Кровавые столкновения с полицией и солдатами произошли в Солсбери, Гвело и других городах. Иногда страх действует отрезвляюще. В конце 1960 года британские власти и представители колонистов, напуганные размахом борьбы, согласились, наконец, сесть за стол переговоров с африканцами, чтобы пересмотреть конституцию Южной Родезии. Конференция открылась в Лондоне в декабре 1960 года, но вскоре была прервана по вине колонизаторов. Она возобновилась только в феврале 1961 года — уже не в Лондоне, а в Солсбери. К тому времени колонизаторы и поселенцы оправились от страха и вновь обрели присущую им твердолобость. Они отвергли требования африканцев установить всеобщее избирательное право, ликвидировать расовую дискриминацию, решить аграрный вопрос, а затем просто перешли в наступление. Представители европейских поселенцев потребовали изъятия из текста конституции пунктов, предусматривавших право английского губернатора налагать вето в отношении дискриминационных законов. Этот ход понадобился английским колонизаторам и поселенцам для того, чтобы запугать африканцев, заставить их принять условия, диктуемые Лондоном. Африканские представители, однако, не поддались шантажу. Они отвергли предложение участвовать в составлении нового варианта конституции, сохранявшего в неприкосновенности привилегии белых поселенцев и британский контроль над страной. Конференция, таким образом, практически провалилась. В июне 1961 года власти Южной Родезии все же опубликовали новый проект конституции, составленный в соответствии с рекомендациями, подготовленными колонизаторами. Никаких существенных изменений в положении африканцев по сравнению с конституцией 1922 года она не предусматривала: большинство африканцев по-прежнему были отстранены от участия в выборах ввиду высокого имущественного и образовательного ценза, власть сохранилась в руках белых поселенцев и английского правительства — независимо от исхода выборов за европейцами резервировалось 50 мест из 65. Стремясь прикрыть свои расистские действия видимостью народного одобрения, южнородезийские законодатели организовали 26 июля 1961 года референдум. Собственно говоря, это был не референдум, а пародия на него. Общее число участников референдума составило 42 тысячи (на 3 миллиона жителей!), причем к избирательным урнам допускалось лишь белое население. Понятно, что результат референдума оказался таким, какого и ожидали: проект конституции был одобрен. Африканцы, однако, не примирились с ролью пассивных наблюдателей, на которую обрекали их организаторы референдума. В июне 1961 года они созвали внеочередной съезд Национально-демократической партии, который охарактеризовал новую конституцию «как злостную попытку со стороны правительства Южной Родезии и английского правительства укрепить господство меньшинства поселенцев в стране». На съезде было принято решение провести «неофициальный референдум» по вопросу о новой конституции, в котором могли принять участие все африканцы старше 21 года. Летом 1961 года этот референдум состоялся. В нем участвовало свыше 400 тысяч человек. Подавляющее большинство их отвергло проект расистской конституции. Этого, однако, оказалось недостаточно для того, чтобы заставить колонизаторов отказаться от своих намерений. 6 декабря государственный совет Англии, несмотря на протесты африканцев, утвердил закон о введении новой конституции в Южной Родезии. Возмущенное произволом британского правительства, африканское население Солсбери в тот же день устроило перед канцелярией верховного комиссара Великобритании мощную демонстрацию протеста. «Есть пушки или нет пушек — мы намерены править завтра!», «Свобода!», «Правление большинства!» — гласили надписи на плакатах, которые несли демонстранты. Полицейские разогнали демонстрацию, но на следующий день она возобновилась. Волнения перекинулись в Булавайо и другие города страны. Во многих населенных пунктах между полицией и африканцами разыгрались целые сражения. Эти расправы послужили началом широкой кампании репрессий, которой правительство Южной Родезии ознаменовало вступление в силу новой конституции. 10 декабря премьер-министр Уайтхед объявил вне закона Национально-демократическую партию, запретил по всей стране митинги и демонстрации. Полиция арестовала 10 тысяч человек, в том числе 2 тысячи женщин, многие из которых были приговорены к длительным, срокам заключения. Попытка обезглавить освободительное движение в Южной Родезии (Национально-демократическая партия к тому времени насчитывала уже 300 тысяч членов) не удалась. Африканцы быстро перестроили свои ряды и уже через несколько дней объявили о создании новой партии — Союза африканского народа Зимбабве (Зимбабве африканцы называют Южную Родезию). Программа Союза, опубликованная в последних числах декабря 1961 года, включала три важнейших пункта: а) борьба за немедленную и полную ликвидацию империализма и колониализма, сотрудничество с любыми международными силами, участвующими в этой борьбе; б) создание демократического государства с правительством, избранным на основе принципа: «один человек — один голос»; в) укрепление африканского единства и установление тесных связей с правительствами других африканских стран. В руководство партии вошли многие активисты запрещенной организации, в том числе ее председатель Джошуа Нкомо. Пытаясь подавить нарастающую волну освободительной борьбы, южнородезийские власти предприняли в начале 1961 года новый маневр. Пропагандистский аппарат Уайтхеда организовал кампанию под лозунгом: «Создадим нацию!». Цель этой кампании заключалась в том, чтобы привлечь зажиточную часть африканского населения к сотрудничеству с правительством, расколов, таким образом, освободительное движение. Правительство, в частности, обратилось к наиболее состоятельным африканцам с призывом принять участие в выборах в парламент, намеченных на конец 1962 года. Дабы привлечь на свою сторону определенные слои африканцев, власти даже приняли решение отменить наиболее вопиющие формы расовой сегрегации, в частности открыть для африканцев двери кинотеатров, отелей и ресторанов, разрешить им хождение по тротуарам и так далее. Эта «уступка», разумеется, мало что давала африканским массам: расовая дискриминация, сохранявшаяся в области заработной платы и трудового законодательства, как и прежде, прочнее всяких запретов отгораживала европейцев от африканских масс. Приманка была рассчитана в основном на разбогатевших африканских лавочников, предпринимателей и других представителей зарождающейся африканской буржуазии, которых рассчитывали соблазнить возможностью «получить приглашение на чай и виски в доме белых людей». Впрочем, таких отступников оказалось очень немного. Из 60 тысяч африканцев, получавших по конституции право голоса, свои имена в регистрационные списки внесли только 2 тысячи. Остальные поддержали призыв Союза африканского народа Зимбабве бойкотировать выборы. Взбешенные провалом своей затеи, власти обрушили гнев на Союз африканского народа Зимбабве. В конце августа 1962 года они протащили через парламент Южной Родезии поправку к закону о запрещенных организациях. Эта поправка давала властям право объявлять вне закона любую политическую организацию, если они сочтут, что эта организация придерживается взглядов ранее запрещенных партий, а в ее руководстве есть члены этих партий. Хотя в поправке и не указывалось, против кого она конкретно направлена, каждому человеку, знакомому с политической ситуацией в Южной Родезии, было ясно, что речь идет о Союзе африканского народа Зимбабве. Подготовив, таким образом, почву для осуществления своих планов, колонизаторы стали искать повод для открытого наступления на Союз африканского народа Зимбабве. Такой повод вскоре представился. 12 сентября, в День пионеров (официальный праздник европейских колонистов Южной Родезии), в стране состоялись многочисленные выступления африканцев против расистского режима в Южной Родезии. Организованные Союзом африканского народа Зимбабве, они были призваны не только дать почувствовать властям Южной Родезии единство и волю народа в борьбе с колониализмом, но и привлечь внимание мировой общественности к порядкам в этой стране накануне открытия XVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой вопрос о Южной Родезии, в числе других вопросов, связанных с ликвидацией колониализма, должен был стать предметом обсуждения делегатов. Выступления африканцев носили мирный характер: они включали такие средства борьбы, как пикетирование, демонстрации, бойкоты лавок и магазинов, забастовки. Тем не менее власти сочли эти выступления достаточным поводом, чтобы учинить вооруженную расправу над патриотами. Реакционная южнородезийская пресса, как по команде, подняла шум о мифических актах диверсии, которые якобы кто-то собирался организовать, о таинственной «освободительной армии» Южной Родезии и самими колонизаторами выдуманном генерале Чака, будто бы призывавшем убивать всех белых. Сценарий заговора, как видим, не отличался оригинальностью. Он был переписан почти буквально с тех инструкций, которыми и прежде руководствовались колониальные власти для подавления освободительного движения. Последующие события подтвердили, что колонизаторы ни на йоту не отступили от этого сценария. С 12 сентября страну захлестнула волна репрессий. «Черные Марии» — полицейские машины — каждый день увозили десятки арестованных патриотов в полицейские участки. С 20 по 25 сентября, по данным корреспондента агентства Рейтер в Солсбери, было арестовано 1094 африканца. Усиливая террор против патриотов, власти призвали на службу полицейских резервистов, военнослужащих национальной гвардии, а также резерв военно-воздушных сил. Из Северной Родезии в страну были переброшены дополнительные воинские части. В Солсбери, Булавайо, Гвело и других городах страны произошли столкновения африканцев с войсками и полицией. 20 сентября премьер Южной Родезии Уайтхед в выступлении по радио объявил о запрещении Союза африканского парода Зимбабве. Африканцы ответили па репрессии усилением борьбы. «Никакая сила не сможет уничтожить Союз африканского народа Зимбабве, — заявил Нкомо, — он будет существовать до тех пор, пока те, кто желает уничтожить справедливость с помощью военной силы, не будут разбиты. Наша партия не побеждена». Освободительная буря колеблет устои английского владычества и в других частях Федерации. Борьба народа Ньясаленда достигла такой стадии, когда колонизаторам не остается ничего другого, как приступить к упаковке своих чемоданов. Партия Конгресс Малави, принявшая в Ньясаленде эстафету освободительной борьбы от Африканского национального конгресса Ньясаленда, добилась того, что власти были вынуждены отменить чрезвычайное положение, выпустить на свободу Хэстингса Банду и других патриотов и, наконец, осенью 1961 года провести выборы в Законодательное собрание. На выборах полную победу одержал Конгресс Малави, выступавший под лозунгом выхода из Федерации и борьбы за независимость. Он получил 22 места из 28. В ноябре 1962 г. в Лондоне состоялась конференция по вопросу о новой конституции Ньясаленда, на которой было принято решение о предоставлении этому протекторату внутреннего самоуправления. После этого вопрос о ликвидации колониального статута и выходе Ньясаленда из Федерации стал лишь вопросом времени. Острые формы приобрела борьба африканцев и в Северной Родезии. Летом 1961 года здесь вспыхнуло антиколониальное восстание, которое заставило англичан согласиться напересмотр конституции. Но и новая конституция, составленная по образу южнородезийской, не удовлетворила африканцев. Под руководством Объединенной партии национальной независимости они продолжают освободительную борьбу. Крупным поражением расистов явился бойкот выборов в федеральный парламент, состоявшихся в конце мая 1962 года. Объединенная федеральная партия (правящая партия Федерации, возглавляемая Беленским) получила на этих выборах лишь 9 тысяч голосов (при девятимиллионном населении Федерации). Так как она не имела соперников, то сторонники Беленского все же сохранили власть в своих руках, но практически это означало их поражение, ибо выборы вскрыли их полную изоляцию в Федерации. Потерпев фиаско, Беленский и не подумал, однако, уходить с политической авансцены. Напротив, профессиональный боксер-тяжеловес, он заявил после выборов: «Я говорю тем, кто воображает, что бой проигран, что я еще даже не натер туфель канифолью в своем углу ринга». Правительство приняло решение о закупке вооружения за границей, в том числе ракет и вертолетов, решило создать «чисто белые» воинские части и военно-воздушные силы, разработало планы мобилизации белого населения в возрасте от 31 до 50 лет. Эти мероприятия сопровождались активизацией крайне правых элементов Южной Родезии, южнородезийских «ультра», группирующихся в основном вокруг Партии доминиона, Ассоциации Южной Родезии и Партии реформы Родезии. В марте 1962 года эти партии объединились в Родезийский фронт, выступивший с требованием создания в Южной Родезии режима, наподобие того, который существует в Южно-Африканской Республике, то есть «установления открытой диктатуры европейцев». Правые элементы, помимо легальных организаций, действуют и через тайное общество, так называемую Республиканскую армию Родезии (южнородезийский вариант ОАС), цель которой — истребление прогрессивно мыслящих африканцев. В ряде районов страны созданы банды европейских поселенцев, терроризирующие африканцев. Все это накаляет и без того острую обстановку в Южной Родезии. Комментируя положение в стране, английский еженедельник «Экономист» констатировал: «Опасность возникновения в Родезии нового Алжира достигла критических размеров…»* * *
С тех пор как Пер Вестберг побывал в Южной Родезии (1959 год), многое изменилось не только там, но и во всей Африке и во всем мире. Мощный вал национально-освободительных революций, поднявшийся в Африке, сметает колониальную систему, подрывает устои империализма. «Национально-освободительное движение вступило в завершающую стадию ликвидации колониальных режимов»[21]. 1960 год принес освобождение 17 африканским странам. За несколько месяцев «зона независимости» в Африке выросла во много раз, а в последующие годы стала еще обширней. В истории освободительного движения колониальных народов 1960 год отмечен и еще одним знаменательным событием. Осенью 1960 года на XV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций глава советской делегации Н. С. Хрущев внес от имени советского правительства историческую Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам, в которой выдвигалось требование полной и окончательной ликвидации колониализма во всех его формах и проявлениях. «Кто может оставаться спокойным, — говорилось, в частности, в Декларации, — видя, как идет беспрерывная расправа с населением Ньясаленда, Анголы, Мозамбика, Родезии, Руанда-Урунди, Юго-Западной Африки, Танганьики, Уганды?..»[22] Декларация послужила основой для острой дискуссии, которая вылилась в беспощадный суд над современными рабе владельцами— колониальными державами. Важнейшие положения, предложенные Советским Союзом, вошли в принятый Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1960 года текст Декларации, который был разработан 43 странами Азии и Африки. Это была большая победа прогрессивного человечества. По инициативе Советского Союза XVI сессия Генеральной Ассамблеи ООН решила создать специальный комитет по осуществлению Декларации, в который вошли представители 17 стран. Весной 1962 года Комитет приступил к работе. Первым вопросом в повестке дня Комитета был вопрос о положении в Южной Родезии. Социалистические и афро-азиатские страны, участвующие в работе Комитета, потребовали отмены расистской конституции, предоставления народу демократических свобод, освобождения политических заключенных, прекращения расовой дискриминации, безотлагательной передачи власти народу этой колонии на основе всеобщего избирательного права и, наконец, немедленного предоставления ей независимости. Несмотря на противодействие Англии и Соединенных Штатов, Комитет принял рекомендацию подкомитета в срочном порядке обсудить на XVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о Южной Родезии, «положение в которой чревато взрывом и ставит под угрозу поддержание мира». Сессия Генеральной Ассамблеи, возобновившая свою работу в июне 1962 года, решительно осудила действия английских колонизаторов в Южной Родезии и потребовала положить конец колониальному произволу в этой стране. Так как английские власти не проявили желания выполнять эту резолюцию, XVII сессия Генеральной Ассамблеи ООН вернулась к рассмотрению положения в Южной Родезии. 12 октября 1962 г. она приняла резолюцию, требующую немедленной отмены запрещения Союза африканского народа Зимбабве и освобождения Нкомо, а 31 октября — резолюцию, осуждающую расистскую конституцию Южной Родезии. Попытка Уайтхеда, входившего в состав английской делегации, сорвать с помощью своих англо-американских покровителей эту резолюцию провалилась. За нее голосовало подавляющее большинство делегатов. Комитет 17-ти рассмотрел также положение в Северной Родезии и Ньясаленде. Большинством голосов Комитет принял решение о том, что Генеральная Ассамблея ООН должна решительно поддержать требование африканских политических партий Северной Родезии о немедленном предоставлении независимости этому протекторату и о немедленном установлении даты ее провозглашения. В качестве конкретных шагов в этом направлении Комитет предложил ликвидировать колониальную Федерацию Родезии и Ньясаленда, вывести войска из Северной Родезии, предоставить населению этой территории всеобщее избирательное право, уничтожить там все формы расовой дискриминации, освободить всех политических заключенных и так далее. Рассмотрев вопрос о Ньясаленде, Комитет поддержал требования его населения о роспуске Федерации и о предоставлении стране полной независимости. Комитет представил XVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН доклад, в котором высказался за предоставление колониям, в том числе Ньясаленду, Северной и Южной Родезиям, независимости «не позже будущего года». Обсуждение вопроса о положении в Южной Родезии, Северной Родезии и Ньясаленде явилось победой антиколониальных сил и послужило мощным стимулом к дальнейшему развертыванию освободительной борьбы в этих странах, ибо их народы почувствовали, что они борются против колониализма и расизма не в одиночку, а в союзе со всем прогрессивным человечеством.* * *
Пер Вестберг по своим убеждениям не принадлежит к сторонникам революционного переустройства мира. Он — либерал, верящий в возможность излечения буржуазного общества от присущих ему пороков с помощью таких средств, как проповедь добра и тому подобное. Что касается народа Южной Родезии, то он уже давно вступил на путь революционной борьбы. Вряд ли поэтому есть нужда доказывать неправоту Вестберга в этом вопросе, столько раз доказанную самой жизнью. Важно остановиться на другом — на неправильном толковании Вестбергом английской политики в Центральной Африке. Давая ее характеристику, Вестберг исходит из того, что политика английских колониальных кругов не совпадает, а подчас идет прямо вразрез с политикой поселенцев. Он считает, что Англии приходится действовать в Центральной Африке со связанными руками, принимает за чистую монету разговоры поселенцев о намерении порвать связи с Лондоном и так далее. Все это, конечно, самообман. Режим, существующий в Федерации, является законным детищем английской колониальной политики, и английский империализм несет за него полную ответственность. На его совести лежат и расовые законы, и аресты, и расстрелы патриотов, и бесчинства расистов, которые характеризуют обстановку в этой стране. Британское правительство сохраняло и продолжает сохранять контроль над Южной Родезией. Мы уже говорили, что во власти британского губернатора отменить любой пункт конституции или всю конституцию, внести в нее поправки и, наконец, наложить вето на любой дискриминационный закон. Колонизаторы ни разу не воспользовались этим правом. Почему? Вовсе не потому, что южнородезийские правители вышли из-под их контроля, как часто утверждает английская пропаганда. А потому, что такие порядки по нраву английским и американским монополиям, эксплуатирующим богатства Южной Родезии. Политический режим, существующий в Федерации Родезии и Ньясаленда, обеспечивает им дешевую рабочую силу, низкие издержки производства, а следовательно, высокую норму прибыли. В этом — ключ к пониманию политической ситуации, сложившейся в Центральной Африке, и той политики, которую проводят здесь колонизаторы. Как английское правительство, так и белые поселенцы, численность которых не превышает численности населения заурядного лондонского пригорода, заинтересованы в сохранении английского влияния в Центральной Африке. Разногласия между ними непринципиальны и касаются только форм и методов осуществления этой цели. Английское колониальное ведомство считает, что наряду с репрессиями не следует пренебрегать и другими средствами борьбы с национально-освободительным движением — такими, как раскол его рядов, сотрудничество с коллаборационистскими элементами из среды африканцев, привлечение на свою сторону «среднего класса», чего можно было бы достичь ценой некоторых уступок. Английские политики считают, что только так и можно в условиях всеобщего подъема освободительного движения сохранить свои основные позиции. Эта политика вызывает у части белых поселенцев, с трудом приспосабливающихся к новой ситуации, подозрение. Они боятся, что могут потерять свои привилегии в Центральной Африке, которые Лондон принесет в жертву «национализму африканцев». Отсюда и известное недовольство Лондоном, выражаемое в угрозах отделиться от него. Ситуация, как видим, несколько напоминает алжирскую, что дало основание западной прессе даже называть Федерацию «центральноафриканским Алжиром». Фрондерство белых поселенцев британские империалисты используют для того, чтобы изобразить себя перед африканцами их защитниками. Суть этой хитроумной тактики подробно обрисована в письме некоего видного консерватора своему другу в Федерации Родезии и Ньясаленда. В этом письме, опубликованном в ганском журнале «Войс оф Африка», подчеркивалось, что жесткая позиция поселенцев не только допустима, но прямо необходима, так как позволяет убедить африканцев, будто официальный Лондон идет им на уступки, хотя по существу «он не удовлетворяет ни одно из основных африканских требований». «Продолжайте кричать о предательстве, — пишет лорд. — Это только помогает нам, да и вам тоже». Так обстоят дела с английской политикой в Центральной Африке. Как видим, игра в разногласия между Солсбери и Уайтхоллом сильно смахивает на фарс, цель которого — одурачить африканцев. Возможно, жертвой этой мистификации стал и молодой шведский журналист. Как бы то ни было, ошибки, допускаемые Вестбергом в своей книге, не должны заслонить от нас то, что является ее бесспорными достоинствами — правдивость в освещении положения, существующего в Южной Родезии, искреннюю симпатию к африканцам, борющимся за свободу, веру в торжество их дела. Книгу закрываешь с таким чувством, словно расстаешься с давно знакомой тебе страной, чьи проблемы стали твоими проблемами и заботы — твоими заботами. И тот, кто прочитает эту книгу от начала до конца, убедится в верности арабской пословицы, которую приводит автор на ее страницах: «Кто хоть раз отведал африканской воды, непременно вернется, чтобы попробовать ее вновь. Иначе его изгложет тоска».Уже после того как книга была подготовлена к печати, в Федерации Родезии и Ньясаленда произошли следующие политические события. 10 декабря 1962 г. закончились проходившие в два тура выборы в Законодательный совет Северной Родезии. В них наряду с партиями белых поселенцев участвовали африканские политические организации — Объединенная партия национальной независимости и Африканский национальный конгресс. Эти партии нанесли поражение расистам, получив 21 место, то есть абсолютное большинство мест в Законодательном совете. 14 декабря того же года состоялись выборы в парламент Южной Родезии, в которых участвовали только партии белых поселенцев. На выборах ультраправая партия белых поселенцев — Родезийский фронт — нанесла поражение Объединенной федеративной партии Уайтхеда, получив 35 из 65 мест в парламенте. Лидер Родезийского фронта Филд, которому английский губернатор поручил сформировать правительство, заявил, что он отвергает все требования африканских патриотов и намерен усилить расовую сегрегацию в Южной Родезии.
Москва, декабрь, 1962 г.В. Сиденко
INFO
Пер Вестберг ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА
Редактор Е. В. Лаврентьева Младший редактор В. А. Мартынова Художественный редактор М. К. Шевцов Технический редактор С. М. Кошелева Корректор З. А. Логинова
Сдано в производство 22/VIII-62 г. Подписано в печать 10/I-63 г. формат 84 × 108/32. Печатных листов 8,75. Условных листов 14,35. Издательских листов 14,28. Тираж 115 000. Цена 71 коп.
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15, Географгиз
Отпечатано с матриц в Московской типографии № 5 Москва, Трехпрудный пер. 9. Зак. 686

Последние комментарии
3 часов 39 минут назад
7 часов 59 минут назад
9 часов 45 минут назад
10 часов 59 минут назад
12 часов 5 минут назад
13 часов 14 минут назад