Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов [Виктор Дмитриевич Володин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Виктор Володин Неоконченный маршрут Воспоминания о Колыме 30–40-х годов
Колымским геологам, горнякам — всем, кто отдал освоению этого края свои молодость, силы и жизнь.
Пролог

Так уж сложилось, что геологи-первопроходцы: Обручев, Билибин, Цареградский, Вронский, Болдырев, Вознесенский и с ними еще сравнительно небольшой ряд имен — уже канонизированы, они на слуху, их именами названы улицы и вершины гор. А вот с геологами «второй волны» все обстоит иначе. А ведь многие исследователи «второй волны» стали Героями Социалистического Труда: Н. П. Аникеев, И. Е. Рождественский, Д. Е. Устинов, Н. Е. Хабарова… лауреатами Сталинской, Государственной, Ленинской премий стали Б. Л. Флеров, Н. И. Чемоданов, Е. П. Машко, Б. Н. Ерофеев, Б. Б. Евангулов, И. Е. Драбкин… десятки награждены орденами. Геологи, горняки, историки хорошо знают этих выдающихся исследователей, а вот для рядового читателя, даже родившегося на Колыме, это как белое пятно на карте. Но ведь именно этой плеяде замечательных, воистину одержимых страстью поиска людей принадлежат на Колыме и Чукотке открытия более двух тысяч россыпных и рудных месторождений золота, 68 вольфрама и олова, 27 серебра, 9 меди и молибдена, 9 ртути, а еще радиоактивного сырья, угля, сурьмы, свинца… Имя Виктора Дмитриевича Володина известно узкому кругу людей, но в свое время эта фамилия звучала на Колыме, особенно на Золотой Теньке. Его брат Всеволод Дмитриевич Володин (1908–1970) работал главным геологом на Бутугычаге, где у него появилась на свет дочь, а родившийся в 1943 г. сын Дмитрий тоже стал геологом. Всеволод Володин за свою работу был награжден медалью «За трудовую доблесть», сам Виктор Володин был награжден орденом Ленина, высочайшей государственной наградой в СССР.
 Всеволод и Виктор Володины — молодые геологи. Февраль 1932 г.
Всеволод и Виктор Володины — молодые геологи. Февраль 1932 г.
 Родители Надежда Григорьевна Володина (Константинова) и Дмитрий Сергеевич Володин с сыновьями, будущими геологами, Виктором и Всеволодом.
Родители Надежда Григорьевна Володина (Константинова) и Дмитрий Сергеевич Володин с сыновьями, будущими геологами, Виктором и Всеволодом.
Воспоминания, которые оставил Виктор Дмитриевич (1909–1972), были начаты незадолго до его смерти. Он собирался рассказать о четверти века на Севере, но рукописные воспоминания в 42 ученических тетрадках обрываются 1947 г., хотя существует и план-черновик будущих глав до 1961 г. Эти тетради — ценнейший материал для живущих сегодня, невозможно оценить его значение и для тех, кто будет интересоваться историей освоения территории завтра. Из присланного письма невестки старшего брата Всеволода Дмитриевича Тамилы Петровны Володиной мы узнаем, что «Виктор Дмитриевич Володин родился в 1909 г. в г. Екатеринославе (ныне Днепропетровске). Его родители — Дмитрий Сергеевич и Надежда Григорьевна Володины. Отец — инженер-путеец». В автобиографии Виктора Володина, написанной ранее и приложенной к письму, мы читаем: «После окончания Горного института в 1931 г. я работал рудничным геологом на Первомайском, потом на Красногвардейском рудниках Кривого Рога, а в 1938 г. подписал договор с Дальстроем и поехал на три года (вернее, на 28 месяцев) на Север. Там я работал преимущественно на мелкомасштабной геологической схемке с поиском золотых и оловянных месторождений. В 1943 г. партия, которую я возглавлял, открыла хорошее оловянное рудопроявление и довольно крупную золотоносную россыпь (месторождение «Сталинградец» в нынешнем Тенькинском районе и месторождение на ручье Вилка с его притоком ручьем Победа, в верховье водораздела реки Бахапчи. — Ред.), и я с другими сотрудниками получил денежную премию за первооткрывательство… До конца апреля 1939 г. и далее с мая 1941 помай 1943 г. я работал, соответственно, начальником оловорудной разведки и старшим инженером отдела подсчета запасов, а с мая 1949 г. — начальником отдела россыпных рудников (разведок. — Ред.). Все остальное время, повторяю, я занимался полевыми работами, продолжая это дело и после награждения. Последние годы (с 1957 по 1964 г.) перед переездом на Украину я составлял геологическую карту масштаба 1:200 000, подготовив за это время для издания с защитой в Научно-редакционном совете ВСЕГЕИ (Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского. — Ред.) два листа карты… Орденом Ленина меня наградили уже очень давно… Навсегда запомнилось это. Как-то вечером в конце сентября 1951 г. я пришел в отдел, которым тогда заведовал, чтобы заняться составлением проекта разведок россыпей на следующий год. Я опаздывал. Уже наступало время предъявить проект на утверждение в Технический совет Геолого-разведочного управления Дальстроя, а он у меня был еще не закончен. Поэтому я и сидел вечерами, составляя пояснительную записку. Вскоре после моего прихода раздался телефонный звонок. Я взял трубку и услышал голос начальника нашего районного управления Г. А. Кечека, который попросил меня зайти к нему в кабинет. Ну, подумал я, начинается. Сейчас он будет прорабатывать меня за то, что я долго тяну резину с проектом! Переступаю порог кабинета и слышу слова Г. А. Кечека: «Звонил В. А. Цареградский (наш генерал-майор) и просил меня…». Это я принял за вступление к разговору от генеральского имени, готовясь обороняться. Но услышал дальше совсем неожиданное: «…поздравить вас с высокой правительственной наградой, с награждением вас орденом Ленина. Я тоже поздравляю вас». Все это было слышать гораздо приятнее, чем то, к чему я приготовился. Все это было очень неожиданно, несмотря на то что еще полгода назад я знал, что меня представили к награждению. Но, повторю, что это прозвучало настолько неожиданно, что впору было просить, чтобы Г. А. Кечек повторил сказанное. Впервые в жизни я не верил ушам своим. Лишь позднее, слыша в течение нескольких дней от всех сотрудников и знакомых поздравления, я постепенно привык к тому, что это правда.
 Так выглядит хранящаяся в Государственном архиве Магаданской области личная карточка ГУСДС НКВД СССР Виктора Володина из личного дела № 19292.
Так выглядит хранящаяся в Государственном архиве Магаданской области личная карточка ГУСДС НКВД СССР Виктора Володина из личного дела № 19292.
А месяца через полтора в торжественной обстановке в нашем клубе состоялось вручение орденов и медалей большой группе награжденных. Перед этим меня позвали в политотдел и проинструктировали, чтобы я принял награду левой рукой, а правую держал свободной для рукопожатия вручающего награду, начальника политуправления Дальстроя, а затем мне полагалось произнести слова благодарности. Я всегда считал, что Правительство слишком высоко оценило мои скромные заслуги в деле, которым я занимался, вручив мне высшую награду страны, и поэтому мне очень трудно ответить на вопрос: за что меня наградили. Подвигов я не совершал. Геологи знают, что полевые работы — это не только умственный, но и физический труд. Особенно на Севере, или, как принято называть, Крайнем Севере, в горных и высокогорных районах, при недостатке транспорта, при полном отсутствии спальных мешков, при недостатке продовольствия, при отсутствии подходящей обуви и одежды. Особенно трудно, когда выпадет дождливое лето. Дождь день за днем шуршит по палатке, и трудно решиться выйти в такую погоду в маршрут. Трудно, но бывает нужно. Трудно решиться нырнуть в кусты и, продираясь сквозь их заросли, собирать всю воду своими плечами и спиной, по которым она течет холодными струями под одеждой. Приходится, добравшись до верхней границы растительности, остановиться, развести костер для просушки, а затем идти по водоразделу в тучах, опять мокнуть и дрожать от холода, с большим трудом укрываясь от дождя, делать записи в полевую книжку и отмечать на карте точки наблюдений.
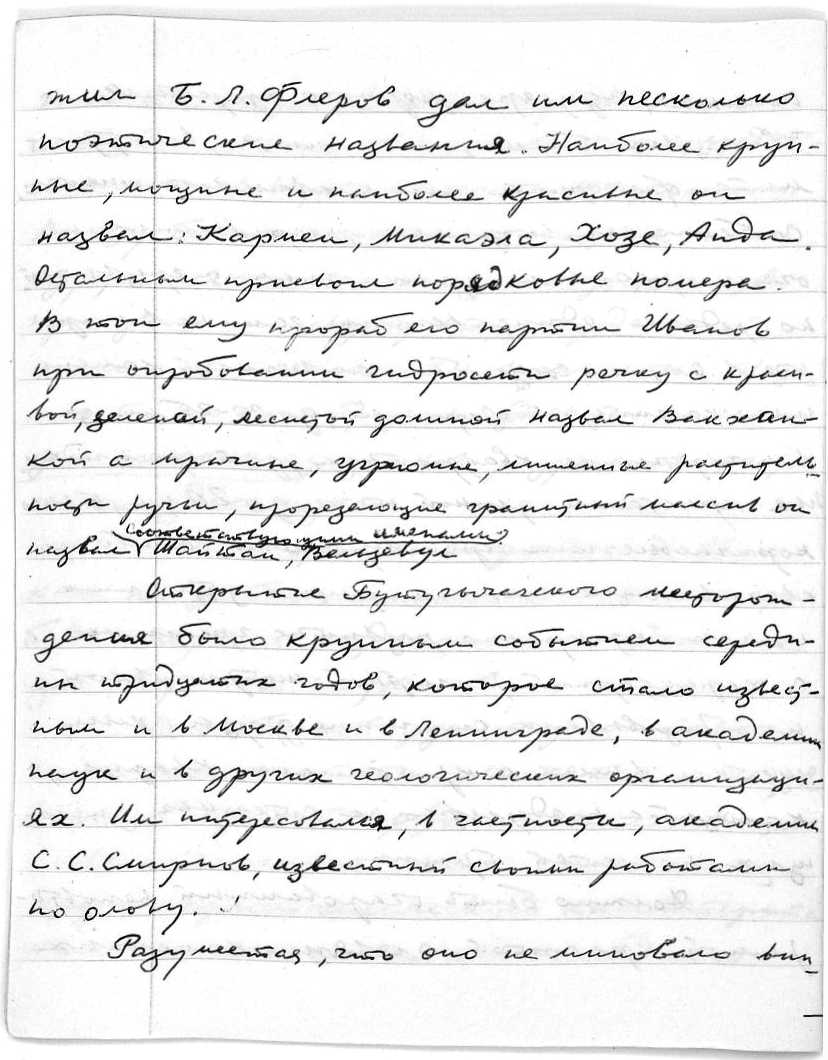 Страница из рукописных воспоминаний Виктора Володина.
Страница из рукописных воспоминаний Виктора Володина.
А в хорошую солнечную погоду жить и работать мешают комары. Даже мошка, которая лезет в глаза и в нос, ничто по сравнению с комарами, которые не оставляют тебя ни днем, ни ночью и лезут даже в рот — вместе с супом, который ты ешь в дыму у костра. Много невзгод приходится переживать полевику. Всех не перечислишь. О самом, пожалуй, главном я не вспоминаю — о том, что маршрут приходится проходить, ничуть не считаясь со временем. День кончается, солнце заходит, а водораздел еще тянется дальше, и приходится торопиться, поднимаясь на очередные вершины и потом уже в темноте брести к своей палатке или ночевать у костра. Вот и приходится выкладывать все свои физические силы, чтобы успеть, чтобы дойти, потому что завтра тоже будет рабочий день». Как и любые воспоминания, написанные спустя достаточно большой срок, отдельные места могут быть переданы в некоторой трансформации. Вот, например, как описывает свой путь в мае 1939 года на Бутугычаг через Иганджинский перевал на Тенькинской трассе Виктор Володин: «Ближе к вечеру мы все же тронулись в путь и только 20 км успели проехать, пока было светло и тепло. Дорога была неплохая, но перевал 92 км, из-за которого дорога считалась закрытой, я и сейчас спустя 32 года помню отлично. Помню полого спускающуюся вдоль крутого склона узенькую дорожку, круто обходящую выступы склона, и многочисленные таблички, поставленные через каждые 10–15 метров с надписями, выхватываемыми светом фар из тьмы: «Осторожно!» «Опасно!». Потом площадка, где дорога поворачивает на 180 градусов. Если до поворота правый борт машины прижимался к склону, то теперь он нависал над пропастью, а прижимался левый.
 Фото из геологического отчета Виктора Володина о работе Тенгкелийской геологической партии 1943 г. Подпись под фотографией: «Задернованный участок на гранитном водоразделе».
Фото из геологического отчета Виктора Володина о работе Тенгкелийской геологической партии 1943 г. Подпись под фотографией: «Задернованный участок на гранитном водоразделе».
Стало понятно, почему перевал был закрыт, площадка действительно оказалась еще совсем не очищенной, сплошь заваленной крупными обломками взорванной породы. Поэтому мы поворачивали там, где не было завала, то есть не на площадке, а не доезжая до нее, там, где с верхнего на нижний марш серпантина пришлось съехать по очень крутому откосу с большим риском скатиться, кувыркаясь, в пропасть. Был момент, когда передние колеса машины оказались намного ниже задних, и автомобиль очень круто наклонился вперед. При этом я, сидя на высоко наложенных и обвязанных веревкой ящиках, ногами упирался в верхний край кабины, а руками крепко держался за веревки. Помню мысль, что при этом в кабине было бы опаснее, что оттуда не выскочишь «в случае чего», а здесь останешься на «земле» после первого же переворота машины, правда, может быть, будешь раздавлен, если угодишь под компрессор. Ночью мы проехали еще Иганджу и Беренджу, а к утру оказались на перевале 130-й км…».
 Фото из геологического отчета Виктора Володина о работе Верхне-Хейджанской геолого-поисковой экспедиции 1953 г. Подпись под фотографией: «Проходка разведочных канав с оттайкой мерзлоты пожогами. Ручей Перевальный».
Фото из геологического отчета Виктора Володина о работе Верхне-Хейджанской геолого-поисковой экспедиции 1953 г. Подпись под фотографией: «Проходка разведочных канав с оттайкой мерзлоты пожогами. Ручей Перевальный».
А вот как этот же эпизод описывает в своих воспоминаниях, хранящихся в Тенькинском историко-краеведческом зале поселка Усть-Омчуг, Алексей Никонович Парфенюк, ехавший в этой же машине: «… весной 1939 г. пришлось прокатиться и нам — геологам Володину Виктору Дмитриевичу, Шапошниковой Анне и нам, 10 новоиспеченным прорабам-съемщикам, направленным на практику на рудник «Бутугычаг», а затем на разведку и в полевые партии Теньки… От Палатки путь лежал по зимнику. Часто продвигались по руслу, по пойме, поднимались на 2–3-метровую террасу, подсыпали под колеса гальку, рубили ветки. Получалось, что мы не ехали, а проталкивали машину. Перед Иганджинским перевалом — на правом берегу р. Армань — двое суток ожидали, когда спадет вода. В Палатке нас предупредили — быть осторожными на Иганджинском перевале, так как там часто бывают аварии, а иногда с гибелью людей. При подъеме на перевал мы следовали за машиной, держась за нее для облегчения хода. На последнем крутом повороте внезапно машина передними колесами начала сползать с проезжей части дороги и чуть было не полетела под откос. Благодаря быстрой реакции водителя и нашей помощи машину задержали. Быстро натаскали со склона сланцевых плит под машину и закрепили ее. Володин спустился в долину к пос. Иганджа, и начальник культурно-воспитательной части лагеря послал на помощь бригаду. Я пошел на 72-й км, перебравшись через реку Армань, и прорабство дорожного участка послало на помощь грейдер. Приехали к месту аварии, когда все вспомогательно-подготовительные работы были окончены. При сопровождении грейдера мы спустились в долину р. Иганджи, а вскоре достигли и Детрина».
 Торжественное прощание Виктора и Всеволода (на фото в центре) с Колымой в 1961 г., справа — О. X. Цопанов.
Торжественное прощание Виктора и Всеволода (на фото в центре) с Колымой в 1961 г., справа — О. X. Цопанов.
Но от этих различий в деталях или при отсутствии некоторых фактов воспоминания Виктора Володина не перестанут быть отражением мировосприятия человека эпохи 30–50-х гг., ценнейшим свидетельством времени. Эта книга называется «Неоконченный маршрут», потому что она, как и некоторые настоящие геологические маршруты, прерывается на середине повествования. Как и геологические маршруты могут прерваться по причине обстоятельств — природных ли, жизненных ли… Но чтение и этой части захватывает, заставляет соучаствовать в каждом эпизоде этой воистину драматической геологической повседневности. Большинство фамилий и имен, встречающихся на страницах книги, удалось уточнить, но вероятны и какие-то неточности в написании некоторых. Географические названия рек, ручьев, долин, населенных пунктов приведены в соответствии с современным написанием, чтобы читатель смог при желании найти на географической карте точное расположение тех или иных мест, где происходило действие. Приложенные карты-схемы помогут читателю представить размах и масштабы геологических исследований, выпавших на долю исследователей в конце тридцатых — сороковые годы. Эта книга — не просто мемуары геолога, это воспоминания, написанные языком, которому может позавидовать профессиональный литератор. Жизнь на Колыме предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в воистину подвижническом труде, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении. Несколько десятков геологов: Борис Флеров, Валентин Цареградский, Дмитрий Васьковский, Сергей Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Николай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, руководители и рабочие предстают перед нами в этой книге. И образы эти реальны, наделены человеческими чертами, ясны характеры этих людей, мотивы их поступков…
Павел Жданов
Часть 1 Мирные годы

1938
Транссибирский экспресс
30 сентября 1938 года мы отправились в дальний и очень долгий тогда путь из Москвы на Колыму, или в теперешнюю Магаданскую область. Мы — это я, мой брат Всеволод и его жена Лиля. Всего за 2 или за 2,5 месяца до этого я «завел шашни» с Дальстроем, потом, месяц назад, мы приезжали в Москву специально для подписания договора с этой организацией, а теперь уже уезжали на работу. В Москве мы прожили недолго, всего лишь 7 дней, ночуя у сестер Лили — Ангелины на даче, на платформе Правды, Северной железной дороги или реже у Ларисы — на улице Карла Маркса. Приблизительно столько времени провели мы в Москве и месяцем раньше, когда приезжали подписывать договоры. В первый наш приезд в Москву в августе стояла сильная жара. Нагретые солнцем стены домов до позднего вечера излучали тепло, поддерживая жару. Тогда мы с двоюродным братом Шурой Гейзером и его женой Литой ездили на целый выходной день на автобусе в Серебряный Бор и весь день провели в воде Москвы-реки, почти не вылезая из нее. Теперь, напротив, в Москве было довольно холодно. По ночам случались и заморозки, а днем без пиджака было уже неуютно. Москва мне нравилась своей обновленностью или даже модернизированностью. Нравилось, прежде всего, метро, красота чудесной, богатой архитектуры, неповторимость и разнообразие форм его станций, которые, по-моему, вполне справедливо сравнивались с дворцами. Нравились удобства этого современного вида городского транспорта, комфортабельность и скорость передвижения по городу. Хороши были и все другие виды городского и пригородного транспорта: троллейбус, автобус, трамвай, электричка, такси и особенно аккуратное движение его строго по графику. Нравились новые, перестроенные и расширенные улицы с асфальтом вместо булыжных мостовых на старых улочках, обновленная широкая полноводная Москва-река с вознесшимися над нею свободными и высокими мостами, сменившими старые узкие и низенькие. Я все ходил по городу и сравнивал то, что видел, с тем, что помнил из виденного в 1935 и в 1929 году. Перемены были разительными. Но наряду с улучшением перестроенных улиц города кое-что вызывало и сожаление. Например, исчезновение Китайгородских стен и Сухаревской башни заставляли жалеть об уничтожении московского колорита и о насаждении безликости города. В предыдущий наш приезд в Москву, когда мы оформляли договоры с Дальстроем, нам было предложено, чтобы мы повезли с собой в Магадан теодолиты, за что нам обещали забронировать билеты до Владивостока на курьерский поезд. Мы, конечно, согласились, потому что были рады возможности получить билеты без особенных хлопот. Теперь же оказалось, что теодолиты уже отправлены без нашего участия, а билеты нам все же взяли. Мы могли только радоваться этому, потому что и без теодолитов у нас багажа было немало. А теперь нас провожали на перроне Ярославского вокзала Шура Гейзер с Литой, Лариса и Ангелина. Звучали прощальные возгласы, сердечные пожелания. Ведь всем нам казалось, что уезжаем мы надолго. Как будто все мы знали, что пробудем на Севере не 2 года и 4 месяца согласно договору, а ровно в 10 раз больше, как пробыли там в действительности. Поезд наш был транссибирский экспресс, который, впрочем, назывался курьерским № 2 и проходил свой путь от Москвы во Владивосток за 9 суток и несколько часов, делая в сутки более 1000 км. Помню, я тогда с удовлетворением отметил про себя прогресс, вспоминая, что за 9 лет до этого, в 1929 году, когда я, еще учась в Горном институте, ездил на практику на Урал, скорый поезд Москва — Владивосток проходил свой путь за 13 суток. Наконец прозвучали звонки, и наш экспресс тронулся, набирая скорость. Впереди лежал длинный путь, который я раньше видел только до Урала, а брат — до Кузнецкого каменноугольного бассейна, где он побывал на практике. Мы предвкушали перспективу увидеть всю остальную часть пути: степи Западной Сибири, великие сибирские реки, Байкал, гористое Забайкалье, тайгу. Все это казалось очень интересным. Интересна была и перспектива пятидневного морского путешествия из Владивостока в Магадан. Там предстояло и преодоление трудностей, холодов, новое перетаскивание собственного багажа, жизнь в новых непривычных условиях. Но пока еще 9 дней можно было не думать об этом и отдыхать от беготни Москвы, от хлопот и перетаскивания багажа из камеры хранения Курского вокзала в тесную камеру Ярославского. Можно было отдыхать от всего этого, сидя в удобном купе, где кроме нас троих был только один пассажир, ехавший, как и мы, на Колыму. У всех остальных пассажиров нашего вагона и всего поезда общим было то, что они ехали далеко и надолго. Многие из них ехали, подобно нам, в Магадан, но немало было и направлявшихся в Восточную Сибирь, в Забайкалье и в другие районы. Все везли с собой много багажа, и почти у каждого были с собой патефоны и множество пластинок к ним. Мы представляли собой даже некоторое исключение среди других, так как у нас не было ни того ни другого. В нашем купе тишина не нарушалась патефоном, но об этом можно было не жалеть, потому что кругом надрывались соседские патефоны. Кругом звучали популярные тогда «Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась…», «Где же ты, моя Сулико?», «В моем письме упрека нет», «На рыбалке у реки тянут сети…», «У меня есть сердце, а у сердца…», «Листья падают с клена…», «Мне немного взгрустнулось без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться…», «Ваша записка в несколько строчек». Запомнился мягкий перестук колес на стыках рельс, не прекращающийся сутки за сутками, и большую часть дня и вечера — звуки популярных песен. Однообразно тянулось время час за часом и день за днем. Разнообразие вносилось только меняющимися картинками за окном вагона и укороченными в связи с движением на восток сутками и часами. Через три-четыре дня после начала пути стала уже заметной разница во времени. Стало заметно, что мы просыпаемся поздним утром, а ложимся спать поздно ночью. Изменилась и погода, заметно похолодало, появились довольно крепкие заморозки. По утрам можно было видеть иней на заиндевевших за ночь шпалах и рельсах и на щебне. Много интересного видели мы в дороге, но самое интересное, оставляющее неизгладимое впечатление у всех, — это выход дороги из узкой долины Ангары на просторы Байкала. Я и сейчас помню, что брат Сережа по пути на Лену специально ездил сюда из Иркутска и потом восторгался в письме увиденным. Мы проехали Иркутск, затем ехали по долине Ангары к ее истокам. Долина становилась все уже и теснее. Слева от нас навстречу быстро текли реки. Этот участок пути незабываемо красив именно при движении с запада на восток. Дорога вырывается из темной тесной долины Ангары на берег Байкала как-то неожиданно, несмотря на то что знали об этом задолго. Неожиданно темную узкую долину Ангары сменяют светлые просторы славного моря — священного Байкала. Слева открывалось необозримое голубое сверкающее зеркало неподвижного штилевого Байкала, когда мы достигли истоков Ангары и остановились на станции Байкал. Нам пришлось простоять здесь несколько часов, потому что впереди шел товарный поезд с негабаритным грузом на открытых платформах, который медленно проползал через все 48 туннелей на берегу Байкала. День клонился к вечеру, когда мы прибыли на эту станцию, и можно было еще любоваться безбрежными далями озера, горами со снежными шапками, виднеющимися слева. Потом наступил вечер, стемнело, взошла луна, а мы все стояли. Спать не ложились, во-первых, потому, что еще не перестроились на дальневосточный лад, а по московскому времени было еще не поздно, а, во-вторых, потому что многие хотели сами посчитать туннели, не верили, что их здесь так много, думали: врут бывалые рассказчики. Считал их и я и так же, как другие, сбился со счета, насчитав их около 40. Утром проехали станцию Мысовую, на которой железная дорога прощается с Байкалом, отклоняясь влево от его берега. Началось гористое Забайкалье. Медленно продвигался здесь поезд, преодолевая извилистый путь по пересеченной горной местности. На одной из станций в Забайкалье я был очень удивлен, увидев продающиеся арбузы. Удивлен был, конечно, только потому, что считал само собой разумеющимся, что это местные, а не привозные дары природы. Поэтому я даже никого об этом не спросил и лишь потом стал думать, что этим допустил ошибку. Наконец прибыли в Хабаровск. Был вечер, и бросились в глаза тускло освещавшие перрон и залы синие огни затемнения. Тогда только недавно еще отгремели Хасанские бои, и затемнение продолжалось, так как можно было ожидать подлых поступков от коварного врага. Амура почти не видели, потому что было темно, когда мы пересекли его по длинному мосту. Потом еще почти сутки катили на юг, миновали Ворошиловск-Уссурийский, и, наконец, в наших окнах заблестели синие воды залива Петра Великого. Мы прибыли в далекий «нашенский город» (высказывание В. И. Ленина. — Ред.) Владивосток. Затемнение было и на улицах Владивостока все две недели, проведенные там в ожидании теплохода.Твиндек № 4
Это была довольно обширная каюта, вмещавшая без малого 300 пассажиров. Пассажиры были договорники, привлеченные заманчивыми условиями, подписавшие индивидуальные трудовые договоры на 3 года и теперь отправлявшиеся на Крайний Север на работу. Среди них значительно преобладали молодые люди, не достигшие 30 лет. Были и пожилые, но их было мало, и это были почти исключительно бухгалтеры. Вообще люди этой специальности составляли мощную прослойку среди ехавших. Кроме них было много шоферов, трактористов, экскаваторщиков, а также людей, не имевших профессии (из демобилизовавшихся солдат). Мало было геологов и горняков. Они составляли редкую вкрапленность. Очень мало было женщин. Совсем не было детей. Кончалась золотая осень во Владивостоке. Две недели, проведенные там в ожидании рейса «Феликса Дзержинского», прошли не нужно. Погода все это время стояла чудесная, город был интересен своей незнакомой новизной, красивы его окрестности: бухта Золотой Рог, Чуркин мыс, берег залива Петра Великого. Поэтому, несмотря на то что жили мы в далеко не комфортабельных условиях, в дощатых бараках «транзитного городка», в верхней части Волочаевской улицы, нам вовсе не хотелось поскорее двинуться дальше. Мы ждали терпеливо, хотя нас и беспокоила мысль, что время идет, приближается ноябрь, а путь еще не близок и не скор. Пароход «Феликс Дзержинский», на котором Виктор и Всеволод Володины прибыли в Магадан, в бухте Нагаева.
Пароход «Феликс Дзержинский», на котором Виктор и Всеволод Володины прибыли в Магадан, в бухте Нагаева.
И вот, наконец, объявлена посадка. С вечера еще эта весть распространилась вдруг среди обитателей бараков, заставив почти всех их повыползать со своими тяжелыми багажными тюками на улицу и выстроиться там в ожидании грузовиков. Но машины пришли лишь утром, привезли нас в порт, а там, непонятно зачем, тогда же на барже нас перевезли через бухту Золотой Рог на Чуркин мыс, где мы очень долго, целый день ожидали посадки. На теплоход нас пустили только вечером, голодных и усталых. Но, наконец, мы в своем твиндеке, на своих нарах, расположенных в два этажа, сколоченных из неоструганных досок и снабженных надежными бортиками, не позволяющими, должно быть, с них падать во время сильной качки в штормовую погоду. До сих пор помню соседа по нарам, низенького коренастого человечка, он, едва обосновавшись на месте, первым делом засуетился в поисках воды, которой можно было бы развести спирт. Видно было, что человек едва дотерпел до посадки на теплоход, чтобы теперь отпраздновать наконец отплытие с Большой Земли. Кажется, во второй день морского путешествия на «Феликсе Дзержинском» мы, приближаясь к проливу Лаперуза, прошли между двумя маленькими японскими островками; не помню, как они назывались. Пролив был узким, и берега островков были нам хорошо видны. На берегу правого по ходу острова был виден небольшой город. В проливе густо сновали японские кавасаки — рыбацкие лодки. Японцы махали нам руками и приветствовали нас криками, но когда один из наших пассажиров тоже что-то крикнул им в ответ, на него все зашипели, как гуси. Середину нашего твиндека занимал большой длинный стол, за которым могли одновременно сидеть, должно быть, больше 20 человек. Здесь пили чай, закусывали всухомятку, читали книги, и многие по вечерам писали письма, вероятно, рассчитывая отправить их из Магадана обратным рейсом нашего корабля, и многие делали записи в своих дневниках. Я заметил тогда, что многие систематически делали записи в толстых тетрадях. Правда, может быть, их было и не так уж много, а мне просто потом стало так казаться, когда я вспоминал и жалел о том, что сам ничего не записывал. Многие за этим же столом и в других закоулках твиндека развлекались настольными играми в шашки, шахматы, домино и карты, стараясь скоротать или убить время вынужденного безделья и скуки. Плавание наше протекало без происшествий при благоприятной, хорошей погоде. Не оправдались опасения пассажиров, слышанные во Владивостоке, что поздней осенью Охотское море часто штормит и что редко в эту пору длительное плавание проходит спокойно. Но дни проходили за днями, а погода держалась вполне удовлетворительная. В третий или четвертый день плавания ветер посвежел, появилась порядочная волна, но качка была умеренная, и я видел только единичные проявления признаков морской болезни, по-видимому, у людей, лишь впервые совершавших морскую поездку. Правда, некоторые еще сосали кусочки лимона или сидели с угрюмым, хмурым видом, тоже, по-видимому, испытывая неприятное ощущение, когда «мутит» и приближается тошнота. Но сам я и Воля этого не ощущали и чувствовали себя хорошо. Лиля сосала кусочек лимона и жаловалась на неприятное ощущение от качки. Помню, что я гордился тем, что сам хорошо все переношу, несмотря на то что когда-то на Черном море уже испытывал жестокие приступы морской болезни и считал себя подверженным ей. Когда-то, в ранней молодости, я мечтал о морском путешествии вдали от берегов. Черное море мне казалось тесным, везде видны берега, и только два перехода из Новороссийска в Ялту и из Севастополя в Одессу я проделал в открытом море, не видя берегов по нескольку часов. Мне казалось тогда, что интереснее плыть вдали от берегов, не видя их по нескольку дней. Но здесь, на «Феликсе Дзержинском», я понял, что глубоко заблуждался раньше. Мы плыли день за днем, время тянулось однообразно. Скучно было сидеть в тесном твиндеке, густо начиненном пассажирами. Тянуло на воздух, на палубу, несмотря на то что она была тесно заставлена московскими грузовиками ЗИС-5 и другим палубным грузом, а также на то, что на палубе давно уже похолодало, когда мы из теплого Японского моря вышли в холодное Охотское. А картина с палубы открывалась унылая и совсем не интересная: небо и вода везде вокруг нашего судна. Волны довольно большие, но не очень, нередко с пенными гребнями, и небо, сплошь закрытое тучами. Все серое: и небо, и море, и только клочки пены белеют на этом фоне. Земли не видно давно. Ее видели в последний раз в тот день, когда проходили японские островки. Вечером того дня вдали мы видели мыс Элеоноры, тоже японские тогда берега Сахалина. Заснеженные берега острова Завьялова мы увидели только в последний день нашего плавания. В Магадан или, вернее, в порт Нагаево на левом, северном, берегу бухты мы прибыли вечером, когда было уже совсем темно. Поэтому мы совсем не видели берегов на подходе к порту, так же, как не видели и берегов залива Петра Великого и Русского острова, потому что из Владивостока вышли тоже, когда уже совсем стемнело. Но мы были рады тому, что выгрузку нас на берег отложили до утра, давая нам возможность еще раз переночевать в казавшемся теперь гостеприимным и уютным твиндеке. Вдень прихода в Магадан 29 октября, вернее, в бухту Нагаева, мы праздновали на теплоходе двадцатилетие ВЖСМ. Был митинг на палубе. Настроение у всех было повышенным, так как близился к концу наш путь в новые края.
В Магадане
Утром 30 октября на заснеженном берегу бухты гремел духовой оркестр, который не особенно согревал наши души, пока мы выгружались, медленно продвигались по палубе и сходням, где происходила проверка документов. Потом мы долго ожидали машину, на которой нас, наконец, отвезли в поселок Веселый на берегу бухты Гертнера — ее все почему-то называли бухтой Веселой. Там мы жили еще 9 дней, пока не прошли праздники и не закончилось оформление необходимых документов в отделе кадров и в других отделах. Мы ежедневно ходили за 5–6 километров из нашего поселка в город в отдел кадров, который располагался тогда в одном из бараков на правой (северной) стороне Пролетарской улицы. Большого четырехэтажного каменного здания Главного управления Дальстроя, построенного перед войной, тогда еще не было, и Главное управление располагалось в двухэтажном деревянном здании на правой стороне Пролетарской улицы (ныне на этом месте расположен кафедральный собор Животворящей Троицы. — Ред.), которое позднее занял отдел кадров. Главная бухгалтерия, в которой мы получали расчет за дорогу, помещалась в одноэтажном, тоже деревянном, доме рядом с этим зданием управления. Почти целый день мы потратили на покупку необходимых теплых вещей в промтоварном магазине. Это был единственный такой магазин в городе. Помещался он в подвале одного из домов на Колымском шоссе, вход в него был со двора. В сенях у стенки валялось много флаконов от тройного одеколона, который по карточкам в этом магазине получали магаданские алкоголики и выпивали здесь же, не выходя из магазина. В Магадане мы повидались с главным геологом Дальстроя, будущим генерал-майором инженерных войск Валентином Александровичем Цареградским. Узнав, что мы с братом по нескольку лет работали на рудниках Кривого Рога, он предложил нам поехать в новое, только что выделенное Юго-Западное горнопромышленное управление, которое, по замыслу, должно было объединить все оловянные предприятия и стать в дальнейшем исключительно оловянным управлением. От этого замысла в дальнейшем отказались, но об этом позже.Валентин Александрович Цареградский (1902–1990)
 Геолог. На Колыме с 1928 г. Заместитель Ю. А. Билибина в Первой Колымской экспедиции. Впоследствии руководитель ряда геологических экспедиций. С 1939 по 1955 г. руководитель ГРУ Дальстроя. Автор ряда научных работ в области геологии. Герой Социалистического Труда (1944 г.). Лауреат Государственной премии (1946 г.). Награжден двумя орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.
Геолог. На Колыме с 1928 г. Заместитель Ю. А. Билибина в Первой Колымской экспедиции. Впоследствии руководитель ряда геологических экспедиций. С 1939 по 1955 г. руководитель ГРУ Дальстроя. Автор ряда научных работ в области геологии. Герой Социалистического Труда (1944 г.). Лауреат Государственной премии (1946 г.). Награжден двумя орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.
Мы согласились с предложением В. А. Цареградского, и он посоветовал нам связаться с Александром Михайловичем Фишем, который тоже направляется в это управление в поселок Усть-Утиную, куда должны были ехать и мы. А. М. Фиша нужно было найти на улицах города по приметам, указанным В. А. Цареградским: рыжеватый, краснолицый человек ниже среднего роста, коренастый, одет в коричневый нагольный полушубок, с полевой сумкой через плечо, шапка пыжиковая с длинными ушами. Сначала мне показалось непосильной задача по таким признакам опознать незнакомого человека в незнакомом городе, даже в маленьком. Но я смело пустился в розыски и очень скоро где-то на улице увидел человека с внешностью, подходящей под описание. Он оказался словоохотливым и рад был поделиться со мной тем, что знал о месте нашего назначения, и вообще интересовавшими меня сведениями, накопленными им за время длительной работы на севере. Магадан был тогда невелик. Население его составляло приблизительно от 20 до 25 тысяч человек, за два года до этого оно, по данным статуправления, равнялось 10, а два года спустя, по сведениям Всесоюзной переписи населения, — 27 тысяч человек. Однако площадь, которую занимал этот город, мало отличалась от той, на которой он располагался на четверть века позднее. Границы города мало раздвинулись за это время. Город рос больше ввысь, чем вширь. Деревянные одно- и двухэтажные домики, главным образом, в послевоенный период уступали место каменным четырех- и реже пятиэтажным. Но это было позднее. Тогда уже существовали почти все улицы, известные в городе и теперь. Новые улицы появились не за околицами старого города, а большей частью за счет пустырей, которые они прорезали. Таковы улицы Горького и две улицы, окаймляющие площадь Горького и прорезавшие пустырь вдоль флангов здания Главного управления Дальстроя. Тогда же на этом большом пустыре между улицами Пролетарской, Дзержинского, Колымским шоссе (ныне проспект Ленина. — Ред.) и Парковой, в центре его и в центре города располагался большой лагерь, обнесенный высокой оградой из колючей проволоки и охраняемый сторожевыми вышками на углах. Это сооружение сообщало всему городу непередаваемо унылый колорит, настраивавший вновь прибывшего на определенный, очень невеселый лад и оставлявший гнетущее впечатление. На центральном перекрестке города при пересечении Колымского шоссе Пролетарской улицей на юго-восточном углу, там, где теперь стоит гостиница «Магадан» (вернее, так называется ресторан при ней, гостиница же названия не имеет. — Ред.), находилась фабрика-кухня. Это была большая, единственная в городе столовая, занимавшая большое двухэтажное здание с неоштукатуренными, как и во всем городе, успевшими посереть бревенчатыми стенами. Это кулинарно-индустриальное название нарпитовской столовой было чрезвычайно популярно еще во времена первой пятилетки, когда я впервые познакомился с таким учреждением на Днепрострое. Почему-то это учреждение в Магадане уже через три года захирело и перестало существовать. Весь второй этаж и часть первого заняло какое-то бюрократическое заведение. Продолжала влачить жалкое существование небольшая столовая. В 1950–1952 гг. эта столовая называлась рестораном «Арктика». Недалеко от этого места, направляясь вечером первого проведенного в Магадане дня на фабрику-кухню вместе с братом Волей и его женой Лилей, чтобы утолить ненасытный голод, я вдруг увидел среди встречных прохожих знакомое лицо Кирилла Матвеевича Васюты — горного инженера-маркшейдера, которого хорошо знал по работе в Криворожском бассейне, познакомившись с ним больше восьми лет назад на Ленинском руднике, когда приехал туда на последнюю практику. Меньше всего ожидая здесь увидеть столь хорошо знакомого человека, я сперва, как говорится, глазам не поверил, подумал, что это только похожий на Васюту человек, но потом увидел, что он тоже, улыбаясь, смотрит на меня. Оказалось, что он уже отработал свой договорной срок три года в Оротукане и теперь уезжает домой в отпуск, после которого решил приехать опять. Он приглашает нас к себе, вернее, в квартиру своего знакомого, в которой временно остановился с женой и дочкой. Конечно, нам было очень интересно выслушать там рассказ о первых годах, проведенных им на Колыме, о работе, об условиях жизни, о климате и, главное, о том, как человек переносит свирепые колымские морозы. Маленький поселочек Веселый в 5–6 километрах от Магадана на берегу бухты Гертнера, в котором мы жили 9 ночей и несколько дней, имел только одну улицу и не больше 2 десятков домишек. Он почему-то пустовал и поэтому давал приют таким, как мы, временным жильцам. Пять дней живя в нем, мы его почти не видели, уходя утром в Магадан и возвращаясь вечером в темноте, но потом наступили три праздничных дня, когда и в Магадане делать было нечего и выехать в дальнейший путь было нельзя. Пришлось бездельничать, отдыхая в поселке. Один из этих дней мы с братом посвятили экскурсии в окрестностях поселка. Поднимались мы с несколькими такими же, как мы, молодыми людьми на одну из низеньких сопок, кажется, с правой стороны долины Магадана. Я не помню, что видели мы с ее вершины. Помню только, что сопка была низенькая, но с довольно крутыми склонами, покрытыми глубоким снегом, рыхлым и мягким, через который мы торили свой путь. Сопка была очень близко к поселку. Спутники наши мечтали вслух о находке золота. Возле поселка было устье реченьки Магадан, или Магаданки, как называли ее жители, а на берегу морской бухты громоздилась узкая полоса грязного серого льда. В бухте вдали, в правой ее части, торчали из воды над морской гладью довольно высокие скалы, напоминающие паруса. Кажется, их называли «Сестры» или «Три сестры» (видимо, имеется в виду о. Кекурный в бухте Гертнера, в которую впадает Магаданка. Этот остров жители Магадана называют Монах, острова же Три Брата находятся в правой части бухты Веселая на оконечности м. Восточный, и их с устья реки не может быть видно. — Ред.). В праздничные дни мы собирались к отъезду, так как сразу после них нам предстояло двинуться в дальнейший путь, на этот раз в зимнюю замороженную тайгу. Естественно, что при отъезде из Магадана одним из наиболее интересовавших нас предметов был мороз. Нам сообщили, что на трассе уже минус 40 градусов, а в Магадане с его мягким морским климатом зимой ниже минус 20 мороз бывает не часто. Помню, один из магаданских бухгалтеров выразил сомнение, что на трассе такие холода. Несомненно, он руководствовался магаданским опытом.
Белое безмолвие
Наконец, наступает и день, когда нам приходится отправляться дальше. Едем мы на трехтонном грузовике ЗИС-5, одном из царствовавших тогда на всех автомобильных трассах Дальстроя. Мы с трудом помещаемся в его тесном кузове, сидим на дне, вытянув ноги и прислонясь спинами к стенкам. Сверху нас защищает фанерная коробка, или так называемый каркас, — ящик, устроенный над кузовом. Он не имеет задней стенки, никаких окошек или отверстий впереди и по сторонам, а также никакого отопления. Вся задняя часть кузова занята багажом едущих. Им заложены и боковые части большого заднего отверстия, чем частично заменена отсутствующая стенка. Между чемоданами и багажными тюками оставлен только узкий проход, позволяющий с трудом проползать на коленях. Это окошко сзади и отверстие величиной с ладонь в передней стенке нашего вагона левее кабины грузовика позволяет мне, сидящему у левой стенки, изредка бросать тоскливые взгляды вперед или назад. Снаружи, за фанерной стенкой нашего собачье-человеческого ящика, было до 40 градусов мороза. Немногим меньше, должно быть было и в нашем помещении, согреваемом только дыханием двенадцати или четырнадцати человек. Но нам не было холодно, потому что мы были сравнительно тепло одеты: в ватных брюках и телогрейках, в овчинных нагольных полушубках, в таких же шапках и рукавицах и в валенках, которыми нас снабдили в Магадане. Вероятно, немалую роль играло и то, что машина все время шла, трясла нас на ухабах и не оставляла нас в неподвижности. Кроме того грела, должно быть, и молодая еще тогда кровь. Мне теперь трудно объяснить, почему же нам, и мне в частности, почти совсем не было холодно, несмотря на то что мороз был немаленький, отопления не было никакого, одежда наша была лишь относительно теплой, и за весь наш путь, продолжавшийся больше суток, мы лишь 2 или 3 раза останавливались в трассовских столовых, чтобы подкрепиться там горячей пищей. Путешествие наше в Усть-Утиную длилось долго. Больше суток потребовалось, чтобы преодолеть эти 550 километров. Долго тянулась ночь на заснеженной белой дороге, и, помню, мне все время вспоминалось «Белое безмолвие»Джека Лондона и, собственно, не содержание повести, а только название ее, и притом оно каждый раз как-то выплывало в памяти и каждый раз с ошибкой — «Белое молчание», а не Безмолвие, и каждый раз я себя поправлял. Мне вспоминался Север по описаниям Джека Лондона, унылые пейзажи, которые я видел теперь воочию. Чахлая растительность, изуродованные ветрами мелкие лиственницы на громадных водораздельных пространствах Дедушкиной Лысины (название перевала на 230-м км основной трассы, где ранее находился поселок дорожников Поворотный, федеральная дорога М56. — Ред.) и других — невеселые картины. Я коротал эту длинную ночь без сна, смотрел и смотрел на зимние северные пейзажи. Помню остановки на заправочных станциях, где стояли грузовики с работающими моторами. Нередко на таких станциях наблюдались устройства для заправки радиаторов горячей водой. Здесь стояли машины с неработающими выключенными моторами. К каждому месту стоянки автомашины была подведена труба, подающая горячую воду для того, чтобы легко можно было завести двигатели на морозе. Настроение у меня было невеселое, потому что все время помнилось о продолжительном сроке, который отделял нас от ближайшей возможности вернуться домой. Мы не знали еще, что этот срок в действительности растянется почти во много раз, окажется таким бесконечно длинным и отнимет если не всю жизнь, то все лучшие ее годы. Потом морозная зимняя ночь уступила место такому же морозному утру и дню. Стало светлее, и можно было уже смотреть не только в переднее узенькое отверстие, где ночью подсвечивали фары, выхватывавшие участки леса на обочинах дороги, но и в заднее окно между чемоданами, где обзор был шире и лучше. Ехать все еще оставалось далеко. Но все на свете имеет конец. Дождались и мы конца этой длинной поездки. День склонялся к вечеру. Наступили вечерние сумерки, когда наш ЗИС-5 остановился перед двухэтажным деревянным домом из неоштукатуренных бревен, потемневших от времени, в небольшом таежном поселке, стоявшем на берегу Колымы. Помню, мы еще не выбрались из нашего неуютного собачьего ящика, остро диссонирующего с модным тогда ходульным выражением «забота о живом человеке», как в нашу незакрытую дверь заглянула «фифа» из отдела кадров и спросила, какие специалисты прибыли. Как будто нельзя было подождать с этим вопросом до завтра.В Усть-Утиной
Итак, в сумерки 10 ноября 1938 года мы прибыли в Усть-Утиную — временную резиденцию Юго-Западного горнопромышленного управления (ЮЗГПУ), где мы должны были получить назначение на работу. Еще не кончился рабочий день, и мы еще успели повидать знакомого по Магадану А. М. Фиша, который здесь был начальником отдела россыпных разведок, и немного знакомого по Днепропетровску Б. Л. Флерова, учившегося когда-то с одним из наших двоюродных братьев в Горном институте и служившего здесь начальником геолого-поискового отдела. Борис Леонидович Флеров отвел нас в одну из комнат на первом этаже и познакомил с геологами начальниками партий Виктором Тихоновичем Матвеенко, Ильей Романовичем Якушевым и Борисом Борисовичем Лихаревым. Все трое работали на олове и, по мнению Б. Л. Флерова, разговор с ними был бы для нас интересен. Но они продолжали начатый до нашего прихода разговор, который не касался, правда, геологии, а вертелся вокруг таежных приключений, романтики, экзотики. Рассказывал В. Т. Матвеенко о нападении беглецов на базу его партии на берегу Колымы и о том, как ему удалось решительными действиями отнять у беглецов украденное ими продовольствие партии. Разговор шел в длинной узкой комнате за столом, стоявшим у средней части правой глухой стенки, вдали от окна. В. Т. Матвеенко сидел на стуле возле этого стола, И. Р. Якушев сидел на столе, свесив ноги, а Б. Б. Лихарев стоял, как и мы. Нам было интересно слушать рассказчика, и мы не перебивали его вопросами. Из этих троих геологов только И. Р. Якушев приехал месяца на четыре раньше нас, а два других работали на Колыме уже по нескольку лет и казались нам местными старожилами.Борис Леонидович Флеров (1906–1986)
 Геолог, ученый. Закончил Днепропетровский горный институт. Работал в Восточно-Забайкальской геологической партии. На Колыме с 1931 г. Участник Второй Колымской экспедиции. С 1939 г. работал главным геологом Тенькинского и с 1941 г. Янского ГРУ. Первооткрыватель месторождений олова и золота на Колыме, в частности Бутугычагского.
С 1958 г. работал в Якутском филиале АН СССР. Лауреат Сталинской премии I степени (1946 г.). Доктор геолого-минералогических наук. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.
Геолог, ученый. Закончил Днепропетровский горный институт. Работал в Восточно-Забайкальской геологической партии. На Колыме с 1931 г. Участник Второй Колымской экспедиции. С 1939 г. работал главным геологом Тенькинского и с 1941 г. Янского ГРУ. Первооткрыватель месторождений олова и золота на Колыме, в частности Бутугычагского.
С 1958 г. работал в Якутском филиале АН СССР. Лауреат Сталинской премии I степени (1946 г.). Доктор геолого-минералогических наук. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.
На другой день познакомились мы с начальником управления Ткачевым, его заместителем Матвеевым и главным инженером Овечкиным. Главного геолога я не помню. Его, по-моему, почему-то не было, и его обязанности выполнял Б. Л. Флеров, который был здесь заслуженным человеком, ведущим специалистом по олову, открывшим два года назад довольно крупное и в своем роде уникальное оловянное месторождение «Бутугычаг». Именно на рудник, работавший теперь на этом месторождении и имевший тоже труднопроизносимое название, был назначен Всеволод с женой, а меня решили отправить в другую сторону, на рудную разведку имени Лазо на Сеймчане. Путь брата лежал теперь обратно к Магадану и, не доезжая до него 90 километров, поворачивал направо на запад и продолжался еще около 230 км. Сборы их были недолги, и вскоре они отправились на свой рудник, а я остался в управлении готовиться к своей работе. Мне нужно было прочесть довольно большой отчет Владимира Алексеевича Титова, открывшего это месторождение в предыдущем году, и познакомиться с полевыми материалами Дмитрия Петровича Васьковского, работавшего в текущем году там же, производя крупномасштабные детальные исследования склонов и поиски рудных тел. Выслушивал я и рассказы Д. П. Васьковского о работе на этом месторождении. Помню, рассказывал он мне и о коде, обусловленном им с прорабом Бандурой, руководившим теперь разведкой на рудном месторождении. Этот код нужен был для передачи по радио рекомендаций, полученных в результате камеральной обработки данных исследований. Помню, рекомендация заложить канаву на участке № 3 звучала так: зарезать корову в стаде № 3. Впрочем, не ручаюсь за то, что коровой называлась у них именно канава, а не, скажем, штольня.
Матвеенко Виктор Тихонович (1913–1976)
 Геолог. Окончил Ленинградский горный институт. В 1935 г. приехал в Магадан. В первые же годы его деятельность в должности начальника геолого-поисковых партий увенчалась открытием ряда промышленных месторождений олова. В 1939–1941 гг. он возглавлял геолого-поисковый отдел Тенькинского райГРУ. В эти годы выявлены Хетинское и Кандычанское промышленные месторождения олова. В дальнейшем работал в геологических организациях Магадана, занимался научной работой. Лауреат Государственной премии. Доктор геолого-минералогических наук. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями СССР.
Геолог. Окончил Ленинградский горный институт. В 1935 г. приехал в Магадан. В первые же годы его деятельность в должности начальника геолого-поисковых партий увенчалась открытием ряда промышленных месторождений олова. В 1939–1941 гг. он возглавлял геолого-поисковый отдел Тенькинского райГРУ. В эти годы выявлены Хетинское и Кандычанское промышленные месторождения олова. В дальнейшем работал в геологических организациях Магадана, занимался научной работой. Лауреат Государственной премии. Доктор геолого-минералогических наук. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями СССР.
В общем, после отъезда брата с женой на рудник я еще довольно долго жил в Усть-Утиной, готовясь к работе, а потом ожидая попутного транспорта. Усть-Утиная — это небольшой поселок при обогатительной фабрике, построенной на живописном и тогда еще мало испорченном человеком лесистом берегу Колымы. Фабрика, первоначально золотоизвлекательная, и поселок были построены за три или четыре года для переработки руд известного месторождения речки Утиной, где вместилищем золотого оруденения являются кварцево-порфировые дайки. Месторождение оказалось неперспективным, разработки были прекращены, а работа фабрики была возобновлена в 1937 году для обогащения оловянных руд месторождения «Кинжал», открытого тогда партией В. Т. Матвеенко. Теперь здесь временно помещалось новое, совсем еще недавно выделенное Юго-Западное управление. Его курьезное название, совсем не соответствующее географическому положению его и его предприятий, разбросанных в разных частях территории, было обусловлено именно тем, что управление предполагалось сделать специализированным, оловянным, и базу для него предполагалось построить вблизи самого крупного из имевшихся тогда оловянных месторождений — Бутугычагского, которое действительно расположено в юго-западной части территории, где находились предприятия горной промышленности Дальстроя. Этому замыслу, как говорится, не было суждено сбыться, потому что бассейн Теньки, где расположен рудник «Бутугычаг», оказался перспективным на золото, через год с небольшим после организации Юго-Западного было создано новое, Тенькинское горнопромышленное управление, куда первоначально вошли только два предприятия: уже известный нам оловянный рудник «Бутугычаг» и золотой прииск «Дусканья», всего только год эксплуатируемый Южным управлением Дальстроя.
Владимир Алексеевич Титов (1912–1999)
 Заслуженный геолог России, ученый. В 1936 г. окончил Ленинградский горный институт, в этом же году начал заниматься геологическими съемками и поисками полезных ископаемых на Северо-Востоке. Руководил отделом геологического картирования, возглавлял Пенжинское РайГРУ, был главным геологом ЦКТЭ СВГУ. Крупнейший специалист в области геологии и полезных ископаемых, первооткрыватель многих месторождений золота, олова и ртути. Автор более 50 научных работ, один из основателей школы геологов Северо-Востока. Награжден многими государственными орденами и медалями.
Заслуженный геолог России, ученый. В 1936 г. окончил Ленинградский горный институт, в этом же году начал заниматься геологическими съемками и поисками полезных ископаемых на Северо-Востоке. Руководил отделом геологического картирования, возглавлял Пенжинское РайГРУ, был главным геологом ЦКТЭ СВГУ. Крупнейший специалист в области геологии и полезных ископаемых, первооткрыватель многих месторождений золота, олова и ртути. Автор более 50 научных работ, один из основателей школы геологов Северо-Востока. Награжден многими государственными орденами и медалями.
А Юго-Западное управление, хотя и лишенное своего главного детища, было оставлено оловянным и переселено в новый поселок Нижний Сеймчан, построенный возле старинного якутского поселка с таким же названием, то есть поближе к оставшемуся в управлении наиболее крупному оловянному месторождению имени Лазо. Так родилось курьезное явление — Юго-Западное управление оказалось на северо-востоке территории, на которой развита горная промышленность Дальстроя, и находилось там, сохраняя то же название, более 30 лет. В Усть-Утиной стояла уже настоящая зима, лежал глубокий снег, покрывавший застывшую Колыму и украшавший мощные ветви толстых многовековых лиственниц, стоявших пока между домами поселка. Стояли уже большие морозы, не достигавшие, правда, пока 50 градусов. По утрам над трубами домов тянулись ввысь вертикально тонкие дымки, сливавшиеся наверху в большое облако. На усы, брови и бороды людей садился иней. Помню, что в день отъезда Воли и Лили термометр показывал минус 49 градусов.
Дорога
В середине 20-х чисел ноября днем я с попутчиками отправился из Усть-Утиной на рудную разведку Лазо. Путь предстоял сложный, и только первую его часть, вероятно, меньше половины, то есть до устья реки Среднекан, можно было проделать на автомашине. Дальше дороги не было, и по льду Колымы, а затем Сеймчана машины не ходили, и нужно было ехать конным транспортом, а потом на тракторе. Из Усть-Утиной отправились на таком же трехтонном ЗИС-5, как тот, на котором прибыли из Магадана. Разница была только в том, что здесь не было каркаса, спасавшего нас тогда от ветра. С нами была женщина-геолог, тоже из Днепропетровска, Ольга Соколова (не помню отчества), которая занимала место в тесной кабине грузовика, а мне и еще ехавшему так же, как и Соколова, на прииск имени Лазо пожарному приходилось сидеть на грузе в кузове машины. Я спасался от морозного режущего ветра, укрываясь бывшей у меня железнодорожной форменной шинелью, которую я накидывал на голову и спину, обращенную вперед. Ехали долго — остаток дня и всю ночь. Часами мучились, подсовывая палки под буксующий, бешено вращающийся в рыхлом снегу скат, и возмущались тем, что на автомашинах нет приспособления, выключающего на время дифференциал и позволяющего преодолевать участки скользкой дороги. Это очень нудное занятие — часами подсовывать снова и снова палки и смотреть, как их опять выбрасывает вращающийся скат, в то время как другой в это время сохраняет неподвижность. База разведрайона им. Лазо. Фото 1952 г.
База разведрайона им. Лазо. Фото 1952 г.
Утром нам все же удалось прибыть на перевалочную базу прииска в заброшенном поселке Усть-Среднекан, еще незадолго до этого являвшемся центром Золотой Колымы. До возникновения Дальстроя здесь был центр разведочных работ экспедиции Союззолота, а потом здесь же размещалось первое горное управление Дальстроя, когда оно еще не разделялось на Северное и Южное управления. Здесь нам повезло, так как не пришлось задерживаться. Попутный конный транспорт до поселка Верхний Сеймчан отправлялся в путь часа через два после нашего приезда, и мы, погревшись и подкрепившись, поехали дальше. Ехали, впрочем, только наши чемоданы, а люди шагали пешком. Это продолжалось целый день. Все время шли и только один раз остановились, чтобы накормить лошадей на левом берегу Колымы. Остановка называлась Половинка (автор по прошествии лет ошибается, остановка называлась «Партизанка».— Ред.). Здесь были барак для отдыха путников и, кажется, конюшня. Здесь мы отдыхали часок-другой, подкрепляясь чаем. Тем временем у меня успели украсть рукавицы. В этом виноват был я, так как к тому времени еще не привык ктому, что кругом воры и что именно поэтому они здесь и находятся. Там было, кроме нас, всего человек 5 или даже меньше, и я, естественно, никак не ожидал, что они могут что-нибудь украсть. Особенно меня подвело рассуждение, что ведь чемоданы я оставляю на санях, уходя пить чай в барак так же, как и мои спутники. Эти вещи действительно оставались в сохранности, но я не сообразил, что это вовсе не потому, что люди честные или сознательные, а только потому, что в таком месте украденную большую вещь некуда спрятать. В общем, это была наука, а, как говорится, за науку деньги платят. Рукавиц было не жалко. Они были паршивые, купленные в Магадане и дешевые. Главное было в том, что без них в пути было невозможно. Но меня выручил мой попутчик пожарный. У него нашлись какие-то запасные рукавицы или, кажется, перчатки, которые он любезно предложил мне. Вечером мы пришли в поселок Верхний Сеймчан. Лошади дальше не шли, и нам предстояло проделать оставшийся путь на тракторе, который в это время, как оказалось, еще ремонтировался, и нужно было ждать конца ремонта. Как нельзя кстати, одним из наших спутников оказался старший пожарный с прииска имени Лазо, ездивший по делам в управление и теперь возвращавшийся к себе на прииск. Он сразу же предложил нам идти с ним ночевать в пожарный сарай, куда мы и отправились. Конечно, если бы не было пожарного, мы не пропали бы, так как, наверняка, на здешней перевалочной базе тоже было помещение, где можно было прожить 3–4 дня в ожидании ремонта трактора. Но, наверняка, в сарае было лучше. Там мы и жили дня четыре в этом уютном, теплом, чистом и просторном помещении, в котором, кроме нас, жило человек 6 или 8 пожарных, и где-то далеко под стенами стояли насосы и еще какие-то пожарные механизмы. Все было хорошо, но за это время нам до смерти надоели патефон и те немногочисленные пластинки, которые были у пожарных. Никаких других развлечений у них не было, пожаров тоже не было, и поэтому патефон крутился все время, пока люди бодрствовали. Пожарные уходили в наряды на какие-то посты, но там их было один или два, а остальные сидели с нами в сарае и развлекались, слушая музыку. Поселок Верхний Сеймчан, в котором помещается база одноименного совхоза, расположен на левом берегу Колымы, километрах в 20 от Нижнего Сеймчана, лежащего близ устья реки Сеймчан. Это молодой поселок, построенный всего лет за 5 до моего приезда. Нижний Сеймчан, который до возникновения Верхнего, назывался просто Сеймчаном, — поселок старинный, крупнейший из четырех якутских поселений на Колыме, другие назывались Оротук, Санга-Талон и Берелех. В нем издавна существовали якутская школа и единственная виденная мной на территории церковь. Она, правда, была уже закрыта, и ее помещение занимал какой-то склад. Поселок этот был более похож на поселок, чем другие поселения, состоящие из разбросанных на большой площади якутских хотонов. Но всему приходит конец. Кончилась и наша веселая жизнь в пожарной команде. Как-то под вечер в первые дни декабря мы погрузились на верх высоко нагруженных тракторных саней и двинулись дальше. В начале пути вечером мы остановились возле одного из якутских хотонов поселка Нижний Сеймчан. Заходили в это якутское жилье, и это был единственный случай, когда я был в обитаемом, а не в покинутом жилище якутов. Это был обыкновенный якутский хотон, то есть длинная деревянная изба, построенная из наклонно стоящих, прислоненных верхними концами к горизонтальной обвязке каркаса бревен, обмазанных снаружи глиной. Большую часть избы занимает рогатый скот, меньшую — люди. Отопление людской половины осуществляется очагом наподобие камина с трубой из деревянных жердей, обмазанных глиной. Трактор шел быстро. В этом я убедился на опыте, проделанном невольно. Озябнув сидя на грузе саней, я решил согреться ходьбой и спустился для этого на лед, вместе с еще одним пассажиром. Сначала мы с ним неторопливо шагали позади нашего транспорта, не беспокоясь тем, что мы медленно, но непрерывно все более и более отстаем от него. Искрился при лунном свете снег, все было бело вокруг, и только трактор с санями чернел, удаляясь от нас по снежной дороге. Спутник мне что-то рассказывал о жизни на Колыме, и мне было это интересно, так как все было ново и почти незнакомо. Когда обратили внимание на то, что расстояние от нас до трактора увеличивается, оно уже порядочно выросло. Прибавили шагу, думая, что настичь трактор будет не очень трудно. Однако вскоре убедились в обратном. Для этого пришлось напрячь все силы, пришлось даже бежать. В дальнейшем я уже старался не отставать от трактора, чтобы не надрываться в погоне за ним. Снова пыхтел и стрекотал мотором трактор, скрипел на морозе снег под его гусеницами и визжал под полозьями тяжело нагруженных саней. Я изредка спускался на дорогу, чтобы согреться ходьбой, но уже был осторожен и не позволял себе отставать. Мне навсегда запомнилась дорога, хотя ничего особенно примечательного в ней не было. Трактор шел большей частью по льду Сеймчана, покрытому пушистой, толстой пеленой снега. Нередко он, сокращая дорогу, выходил на тот или иной берег и ломил напрямую через лесные участки, прокладывая себе дорогу через лес, подминая гусеницами и полозьями саней толстые лиственницы и тополя. В начале пути в первой половине ночи мы где-то долго стояли. Тракторист жег керосиновый факел и при свете его долго что-то починял в машине, орудуя молотком. Но потом мы уже нигде не останавливались, да и негде было, так как совсем не попадалось жилья человеческого. Тракторист не отдыхал и не спал всю дорогу, которая заняла сутки с небольшим. Только к вечеру на другой день после отъезда из Сеймчана мы, наконец, прибыли на прииск имени Лазо, который, впрочем, тогда уже был переименован в «Третью пятилетку», чтобы не путать его название с рудником, который вскоре должен был открыться. Однако все называли прииск по-старому, так как уже привыкли к старому названию, несмотря на то что прииск существовал совсем недолго. Ночевать я остался у старшего геолога Кондрашова и на другой день, взяв на прииске лошадь с санями, чтобы довезти свой багаж, отправился на рудную разведку — место моей новой работы. Это было 7 декабря 1938 года.
Прииск
И рудная разведка
Оловянный прииск имени Лазо был совсем молодым предприятием, организованным в конце истекшего лета, то есть всего за 3–4 месяца до моего приезда. Я застал там подготовительные работы: вскрывались торфа («торфа» — профессионализм, слово, обозначающее слой природных отложений и пустой породы, не содержащей драгоценного металла. — Ред.) на участках, где в первую очередь должна была начаться будущим летом эксплуатация, строился поселок горняков. Месторождение было открыто годом с небольшим раньше полевой партией, возглавляемой геологом Владимиром Алексеевичем Титовым. Россыпь оловянного камня была за истекший год разведана шурфами, определены были запасы металла в ней, и теперь она подготавливалась к разработке. Вся работа велась вручную. Механизмов не было никаких. Лишь оттайка мерзлого грунта или речников так называемых торфов велась при помощи пара, подготовляемого котлами-бойлерами и направляемого по трубам в так называемые пойнты — трубчатые буры, забитые в грунт. Оттаявший грунт разрыхляли кайлами и нагружали лопатами в большие короба, укрепленные на деревянных полозьях. Каждый такой короб двое рабочих тащили из вырабатываемого карьера-углубления на отвал. Для того чтобы лучше скользили полозья коробов, дорожку часто посыпали снегом и поливали водой. Верхом механизации или последним словом техники считалась так называемая мехдорожка, то есть скреперная лебедка с бесконечным канатом или тросом, к которому крюками прицеплялись те же короба или ящики на полозьях, вытаскиваемые этим устройством из карьера на отвал, где они разгружались людьми, которые их опрокидывали. Прииск располагался в долине левого притока Сеймчана, речки Дерас-Юрега. Мне он очень нравился своей живописностью — пленяла почти нетронутая многовековая лиственничная тайга. Лес — толстые трехсот-четырехсотлетние лиственницы — совсем недавно начали рубить в долине упомянутой речки, и только на участке прииска, выше устья ручья Лазо, впадающего в речку слева, он был совсем не тронут. Бегали белки, горностаи, зайцы. С места на место перелетали белые куропатки. Рудная разведка Лазо — место моего назначения — располагалась в 3–4 километрах от прииска, в верховьях одноименного ручья. Летом 1938 года, то есть за 3–4 месяца до моего приезда, поиски рудного месторождения производила здесь геолого-разведочная партия Дмитрия Петровича Васьковского, которой удалось найти пока только две жилы с промышленными концентрациями оловянного камня, их и разведывали, когда я туда приехал. В это время проходилась штольня № 1, по другой жиле добивалась глубокая траншея № 4. Кроме того, добивались 3 или 4 канавы, в которых тоже были признаки кварцево-турмалиновых жил с касситеритом. Управлял или руководил разведкой до моего приезда молодой техник-геолог Василий Иванович, или просто Вася Бандура, за 3 или 4 года до этого окончивший Киевский геолого-разведочный техникум и успевший 4 года назад побывать на кратковременной практике или, лучше сказать, на экскурсии в Кривом Роге, на руднике, где я тогда работал. Впрочем, я его к этому времени совсем забыл, потому что группа студентов, в которой он был, насчитывала человек 30, и пробыли они у меня совсем недолго, не более 3–4 дней. Он был единственный вольнонаемный работник на разведке. Все остальные, как рабочие, так и младший технический персонал: коллектор Бауман, десятник Петин и взрывник Кондаков — были заключенные. Рабочих, помнится, было около 20 человек. Жильем на разведке служили два барака таежного типа, в одном из которых, побольше размерами, стоящем в средней части долины, жили все рабочие, а в другом, построенном вплотную к правому склону долины, жили Бандура, коллектор, десятник и взрывник. Барак был как бы отгорожен от всей долины канавой глубиной метра полтора, по которой протекал ручей или пролегало его русло, теперь совсем замерзшее. В нескольких шагах выше барака русло ручья прижималось к тому же правому склону, у которого он стоял, образуя как бы мыс или полуостров. На берегу росла большая кривая лиственница, уцелевшая именно потому, что она была кривая, непригодная для постройки. Весь остальной лес в долине ручья был вырублен, когда строили бараки. Снег в ту зиму, когда строили, был очень глубок. Это было видно по высоким, оставшимся от деревьев пням. Один из них особенно высокий, более двух метров, торчал на другой стороне ручья почти против барака. В этом же бараке поселился теперь и я. Он был разделен жиденькой перегородкой из жердей на две части, из которых в одной, меньшей, помещались теперь я и Бандура, а в другой — остальные трое. Барак таежного типа — это рубленная в «лапу» постройка из неокантованных и неошкуренных бревен лиственницы с пазами, заполненными так называемым строительным, или зеленым сфагновым, мхом. Крыша сооружается из жердей или тонких бревен — накатника, опирающегося одним концом на стенку, а другим — на «матку» — длинное толстое бревно, опирающееся концами на средние участки коротких стен. Эти стены наращиваются двумя-тремя бревнами, чтобы «матка» лежала выше и скаты крыши были круче. Накатник покрывается слоем мха, засыпаемым грунтом. В окна при отсутствии стекла вставляются рамки, затянутые белой бязью. Такое окно пропускает свет, но через него, конечно, ничего не видно. Такие окна были и в нашем бараке. Объекты рудной разведки располагались метрах в 300–400 выше наших бараков, в верховьях ручья. На правом склоне долины находились траншея № 4 и шурф, заложенный, скорее, после моего приезда для разведки той же жилы в глубину. На склоне сопки, разделяющей распадок Белкин и другой ручей, названия которого я не помню, располагалась жила, разведываемая штольней № 1. Вскоре после моего приезда в середине декабря, должно быть, числа 15–20-го, на прииске состоялось профсоюзное собрание. Это было весьма своеобразное собрание, единственное в своем роде. Никогда за всю мою жизнь, ни до того, ни после ничего подобного я не видел. Демократия совершенно невообразимая. На этом собрании присутствующие члены профсоюза выдвигали кандидатов на награждение правительственными наградами. Собрание явно было не подготовлено. Выступившие с предложениями явно не были назначены, не выполняли поручение, а высказывали свое собственное мнение. Царила полнейшая демократия. Меня поразило то, что кандидатов было выдвинуто много. Чуть ли не все вольнонаемные были включены в этот список. В число их не попали главным образом те, кто совсем недавно приехал и еще кое-кто. Например, в список не попали почему-то ни Бандура, ни Кондрашов. Это мне было непонятно. Ничего подобного я больше никогда не встречал. Награждения были и позднее, но никогда больше я не видел, чтобы кандидатов для этого выдвигали на собраниях. Это всегда было прерогативой высокопоставленных руководящих лиц и делалось шито-крыто. Еще удивительнее было то, что очень многие из выдвинутых кандидатов, если не все, были вскоре действительно награждены. Среди них оказался и сменивший меня на месте начальника разведки Д. И. Овчинников, вернувшийся только что из отпуска. Как-то в разговоре по радио из Усть-Утиной сообщили фамилии награжденных орденами, и среди них была фамилия Овчинникова. Он был счастлив, как ребенок. Просто блаженствовал от счастья, по нескольку раз в день повторяя: «Орденоносец! Просто не верится!». Впрочем, это было бы действительно слишком несправедливо, если было бы правдой. Но этого не произошло. Выяснилось, что ему дали не орден, а медаль «За трудовое отличие». Он был не только разочарован, а по-настоящему оскорблен в своих лучших чувствах. До того он привык к мысли, что он орденоносец. Было непонятно, почему же он говорил, что ему не верится, когда сам был уверен, что он орденоносец. До того высокое у него было самомнение, что он не сомневался в том, что, только что окончив техникум и проработав всего два с половиной года, он вполне заслужил орден. Комментарии здесь не нужны. В действительности, конечно, он получил и так больше, чем заслужил.Северное сияние
Я, наконец, приступил к работе. Ее было мало, но я понимал, что летом, когда можно развернуть поиски новых рудных жил, возрастет и фронт разведочных работ, работы будет больше и она станет интереснее. Проходила середина зимы. Довольно устойчиво держались очень сильные морозы. У меня был спиртовый термометр, привезенный из Владивостока. Я регулярно измерял температуру до тех пор, пока у меня не попросили одолжить свой термометр на прииск, потому что у них не было, а им нужно было актировать дни, когда морозы были очень сильные — ниже 55 градусов мороза. Я постепенно привыкал к местному климату, к свирепым морозам, к тому, что работы на открытом воздухе прекращаются только при такой низкой температуре. Привыкал и к другим довольно неожиданным вещам. Например, к тому, что у нас на рудной разведке и особенно там, где велись работы наверху, на склоне сопки бывало заметно теплее, чем на прииске. Впрочем, это было не всегда. Исключение составляли дни, когда разыгрывалась пурга и воздух различных слоев, отстаивающихся и разделяющихся в тихую погоду, перемешивался. Это всегда было заметно — только подует ветер, сразу же становится теплее в домиках за счет упомянутого перемешивания воздуха. Удивляло меня и то, что при очень низких температурах потепление или похолодание всего на 1–2 градуса всегда очень заметно. Вскоре после приезда я увидел и северное сияние, правда, слабое, тусклое и некрасивое, одноцветное. За эту зиму я видел сияние несколько раз, и всегда почему-то оно бывало таким же тусклым, одноцветным и слабым. Цвет его был каким-то желтовато-зеленовато-серым, причем слабо светящееся пятно, довольно большое, с нерезкими размытыми очертаниями, дугообразной верхней границей, похожее на облако, занимало всегда нижнюю четверть или треть северной части небосвода. Оно неподвижно стояло на севере, не меняя места. Позднее в другие годы и в других местах, в поселках Иганджа и Усть-Омчуг мне приходилось видеть гораздо более красивое сияние, непрерывно движущееся и притом цветное или багровое, неподвижное. Но, в общем, явление это редкое, и наблюдать его приходилось не каждому. Конечно, это должно быть только в наших относительно низких широтах. Несомненно, что в более высоких оно наблюдается чаще. Вероятно, играет роль и то, что явление это происходит ночью, чаще во второй ее половине, когда люди спят, и видят его немногие. Чаще оно бывало не в середине зимы, а в конце ее или ранней весной. Помню, однажды в марте 1941 года в поселке Иганджа я видел особенно красивое сияние. Именно только о таком сиянии можно сказать, что оно играет, и, вероятно, только к нему применяется название «сполохи». Вероятно, незадолго до полуночи я увидел световые столбы, немного напоминающие лучи прожектора, но более слабые, вертикально торчавшие в северной части неба. Я сразу же обратил внимание на то, что они постепенно вытягиваются вверх и что их становится все больше, и что, наконец, они охватили весь горизонт и достигли зенита, сошлись там, образуя звезду. Потом они как бы оторвались от горизонта, а в центре звезды в зените, состоящей из довольно сильно светящихся желтовато-зеленовато-серых лучей, появилась другая звезда, вписанная в первую, багровая или темнокрасная, кажется, еще с одной — алой звездой в середине. Все эти изменения формы и цвета сияния происходили быстро, потому что я успел увидеть все это, вероятно, недолго находясь под открытым небом на морозе. Два или три раза я наблюдал сияния в Усть-Омчуге. Впрочем, этих случаев было, вероятно, больше, но они забылись. Один из таких случаев был в начале зимы 1946 или 1947 года в начале ночи. Это было обычное неподвижное облако, тускло светящееся в нижней части северного небосклона, а в правой части этого пятна или облака тоже неподвижно сияло другое, меньших размеров пятно темно-красное или темно-багровое, вытянутое в вертикальном направлении. Итак, я часто посещал свои разведочные объекты, часто бывал и на прииске, так как скучно было сидеть в своем бараке. Впрочем, развлечений никаких не было и на прииске. Часто ходил на охоту, большей частью в долине своего ручья Лазо, где нередко появлялись куропатки-горняшки. Их было довольно много, и подстрелить одну-две иногда удавалось. Ходил я и за перевал в долину смежного ручья Заманчивого, в котором стояла нетронутая тайга, лежал глубокий снег, испещренный следами белок, горностаев, зайцев и куропаток. Но карабкаться туда по крутым склонам на лыжах было трудно, а первая моя вылазка туда в выходной день была неудачна, да и лыжи были плохие. Поэтому я так и не собрался пойти туда вторично. Ставил я как-то с Бауманом проволочные петли на заячьих тропах, но поймать зайца мне не удалось. А Бандура как-то поймал зайца. Но это было уже к концу зимы, должно быть, в феврале, когда приехали Овчинников и два коллектора из Криворожья — Пухкало и Барабанов. Жил у нас тогда временно и механик Калинин, строивший маленькую электростанцию у нас для освещения штольни и бараков. Помню, он с брезгливостью отнесся к пойманному в петлю и задушенному, по его мнению, все равно что дохлому зайцу. И вот тогда мы, чтобы проучить его, нажарили куропаток и вместе с ними сжарили зайца и зайцем накормили Калинина, который ел его, думая, что это куропатка, и не заметил даже, что кости в том мясе, которое он ел, были толстые, явно не птичьи. Бандура как-то заметил возле нашего барака на снегу следы горностая и решил его поймать в ледянку. Ледянка — это остроумная ловушка, которую нетрудно сделать зимой. Он наполнил водой ведро и поставил его на морозе. Часа через полтора, когда вода покрылась толстой коркой льда, достигающей 4–5 см толщины и образующей сплошную оболочку как сверху, так и с боков и со дна ведра, он ножом проделал сверху во льду небольшое круглое отверстие и вылил через него оставшуюся воду. Затем он внес ведро в помещение и поставил на печку. Через несколько минут, когда ведро согрелось, ледяная банка легко от него отделилась. Потом он бросил внутрь нее приманку — кусочки мяса или рыбы и поставил в стороне от барака, утопив в снег до верхнего края. Следы горностая у самого отверстия ледянки я видел на другой же день, но он поймался не сразу. Я не помню, как это было, потому что прошло уже почти 33 года, но это было, потому что по поручению Бандуры я сдал на факторию при проезде через Нижний Сеймчан шкурку этого зверька. Помню даже, что получил за нее охотничьи боеприпасы на 9 рублей.1939
Случай
В январе я составил проект на постройку санного бремсберга для спуска в долину распадка Белкина для обогащения промывкой оловянной руды из отвала штольни № 1. Осуществить его мне не удалось, потому что в это время подоспел вновь назначенный на место начальника разведки Д. И. Овчинников. После его приезда сооружение бремсберга и организация обогащения оловянной руды стало не моим делом. Им занялся новый начальник. Он переделал мой проект. Вместо низких и широких саней для перевозки руды вниз по склону, которые, по моей идее, нужно было сделать устойчивыми против опрокидывания на ходу, он заказал узкие и высокие, которые легко опрокидывались. Кроме того, он решил продлить запроектированный бремсберг на другую сторону ручья через эстакаду. В связи с этим каждый раз, когда груженые сани начинали движение вниз по склону, трос с порожними санями на конце натягивался, выпрямлялся и сильно дергал переднюю часть этих саней вверх, в результате чего они делали один-два прыжка вперед и непременно опрокидывались. Их ставили вновь, и они опять и опять опрокидывались. В общем работа сооруженного устройства оказалась очень трудоемкой, требующей затраты большого количества вспомогательного ручного труда. Но тем не менее оно работало, руду доставляли в большую палатку и промывалась вручную на лотках в больших железных зумпфах в предварительно нагретой воде. Мы давали продукцию — оловянный концентрат. После приезда Овчинникова я остался на разведке в качестве старшего геолога. Должно быть, для того, чтобы я не опечалился тем, что я теперь уже не буду начальником и старшим геологом, чтобы я не воспринял это как понижение в должности, мне даже повысили зарплату. В феврале наш состав пополнился еще топографом Виктором Дмитриевичем Маньяковым. К весне в нашем бараке кроме меня жили: Бандура, Овчинников, Пухкало, Барабанов и Маньяков. Питались общиной. Вел наше хозяйство и готовил пищу дневальный — пожилой сибиряк, который объяснял, что чалдон — это значит человек с Дона, то есть донской казак. От него я слышал рассказ о случае со свиньей и волком, который он сам наблюдал. Вот этот рассказ. Это было давно, — начал он. — Я был молод и нередко возвращался домой не вечером, а поздней ночью. Так было и тогда, когда я, подойдя к своей избе, услышал вдруг в полной тишине донесшийся до меня из-за огородов от реки тоненький протяжный негромкий звук, похожий на плач ребенка. Как будто младенец негромко тянул: «И-и-и-и…». Я не мог сообразить, откуда может происходить такой звук, кто или что его издает? Поэтому я тихонько, стараясь не испугать издающего этот звук маленького, как мне казалось, зверька и для этого стараясь не шуметь, по возможности мягко ступая по тропинке, боясь топнуть каблуком или наступить на сухую веточку, медленно продвигался к берегу. И вот, наконец, в слабом, неверном свете Луны я увидел что-то живое и притом большое, широкое, медленно двигающееся вдоль берега. Звук, как нетрудно было понять, доносился от этого широкого живого предмета или чудовища. Медленно и осторожно приблизившись, я увидел, что это были свинья и волк. Волк держал свинью за ухо своими зубами и, прижавшись боком к ее боку, сильными ударами хвоста подгонял ее вперед. Заинтересовавший меня тоненький звук издавала именно свинья. Было странно, что, чуя смертельную опасность, она не визжит во все горло, а так не по-свински тихонько и жалобно скулит. Рассмотрев их как следует, я все же решил спасти свинью от волка и для этого, громко закричав, подбежал к ним. Волк сразу же бросил свою добычу и, отскочив в сторону всего шага на 3–4, обернулся ко мне и злобно зарычал, щелкая своими зубами. Мне стало жутко, так как ничего у меня в руках не было, а злобный зверь был совсем близко от меня. Но я понимал, что мне ни в коем случае нельзя показать ему мой страх, и поэтому я продолжал во всю силу кричать, размахивая руками. Не знаю, долго ли это продолжалось, но, наконец, мне как-то удалось прогнать его, и он удалился.Опять в Усть-Утиной
К концу февраля я подсчитал запасы олова в рудах делювиальной россыпи и с этим подсчетом съездил в управление. Дорогу помню довольно плохо. Ехал я с каким-то комсомольским работником с прииска на одной лошадке, запряженной в санки. Это имущество было на ответственности моего спутника. Ехали мы почему-то не прямо в Нижний Сеймчан, а сначала заехали на угольную разведку на Эльген, так называемый Эльген-Уголь. Я совсем не помню ни этого поселка, ни дороги дальше до Нижнего Сеймчана, ни того, куда делся мой попутчик. Мне кажется, что оттуда я добирался до Нижнего Сеймчана на попутном грузовике, оставив моего попутчика с лошадью на Эльгене. Вероятнее всего, что так и было, но вспомнить я не могу. В середине дня я был в Нижнем Сеймчане и, кажется, обедая в столовой, встретил прораба россыпной разведки Мирского, который ехал с женой на работу на прииск имени Лазо. У него оказалось письмо мне от моего брата Сережи, который до этого очень долго не писал и домой в Днепропетровск. Поэтому для меня эта встреча была настоящим праздником. Письмо это я читал, уже трясясь в кузове грузовика, идущего по льду Колымы на Усть-Среднекан. Попутчиком моим на этом грузовике от Нижнего Сеймчана был прораб-разведчик Герасимович, направлявшийся в Усть-Утиную. В Нижнем Сеймчане помещение, в котором я встретил и познакомился с Мирским, мне смутно помнится, что это была столовая, располагалась напротив находившихся на другой стороне улицы старинной деревянной якутской школы и, вероятно, еще более древней такой же деревянной церкви, единственной виденной мной на Севере. На следующий день к обеденному перерыву мы с Герасимовичем заехали в Оротукан и успели пообедать в столовой. Помню еще, что сидел в ожидании попутной машины на Ларюковой и дальше ехал в кузове на руде с Кинжала, которую везли на фабрику в Усть-Утиную. Со мной возвращался домой Илья Романович Якушев, ездивший за чем-то в Оротукан. На те дни, которые заняли мои дела в управлении, я поселился в комнате, в которой жили геолог Павел Николаевич Котылев, маркшейдер Павел Павлович Ивасих, которого я немного знал по работе в Кривбассе, и геодезист Сепин, имя и отчество которого я забыл. К этим предвесенним мартовским дням относится один эпизод, который я помню. Как-то вечером, когда все мы были дома, Ивасих спросил Сепина, когда он собирается вернуть Ивасиху «должок». Сепин долго молчал, напряженно о чем-то думая, а потом ответил, что не помнит, о каком «должке» может идти речь. Ивасих, сохраняя полнейшую серьезность, ответил, что речь идет о тех самых десяти тысячах рублей, которые Сепин взял у него два месяца назад, обязуясь вернуть их сегодня. Сепин, сохраняя спокойствие, ответил, что если бы он взял деньги взаймы, то дал бы расписку. Ивасих ответил, что именно так оно, конечно, и было и что он без расписки, конечно, не дал бы такую большую сумму. Он тут же вынул из своего бумажника расписку Сепина и показал ему. Подпись последнего, хотя и сделанная простым карандашом, была подлинная. Сепин посмотрел и ничего не сказал. Он, видно, и раньше, еще с самого начала этого очень неприятного, должно быть, для него, разговора догадывался, о чем идет речь, а теперь у него не оставалось уже никаких сомнений. Вид у него был очень скучный и, можно сказать, жалкий. Очевидно, он принимал эту шутку Ивасих всерьез и думал, что «плакали его денежки», так как ему невозможно будет доказать, что это фиктивная расписка, сфабрикованная кем-то, ведь подпись его подлинная! Доказывая свою правоту в таком положении, если дело дойдет до суда, поставит себя в глупейшее положение и все равно ничего не докажет. То обстоятельство, что подпись карандашная, хотя и подлинная, — лишь очень слабая зацепочка, на которую надеяться нельзя. Вряд ли суд придаст большой или решающий вес ему. А дело было в том, что Сепин имел глупейшую привычку упражняться в начертании своей подписи на попадающихся под руку клочках и листах бумаги и потом не обращал внимания на то, куда эти листы девались. Происходило это в рабочее время и на рабочем месте, «в порядке уплотнения рабочего дня». Ивасих однажды подобрал один из таких листов, сфабриковал на нем расписку, оставив одну подпись Сепина и потом долго изводил его, заставляя как следует прочувствовать вредность собственнойглупой привычки. Во всяком случае за день или два, пока Ивасих настойчиво продолжал требовать от Сепина возвращения «долга», у того было время обдумать все как следует. Кончилось дело тем, что Ивасих отдал Сепину поддельную расписку, проведя с ним назидательную беседу. Сепин, должно быть, крепко надеялся на порядочность Ивасиха и на то, что этим кончится, но полной уверенности в таком исходе у него быть не могло, и, наверное, много крови испортила ему эта выходка товарища. Впрочем, несомненно, что это было очень полезно для Сепина. Вернулся я на свою рудную разведку в середине марта и удивился перемене погоды. Еще держались крепкие утренники и ночные морозы, но дни были солнечные и днем на солнце уже заметно подтаивал снежок. И еще запомнились мне утра, удивительно светлые и какие-то светозарные.Снова в путь
Нужно сказать, что, еще будучи в Усть-Утиной в первый раз, когда меня назначили на Лазо, я в беседе с Б. Л. Флеровым выражал желание работать в полевых партиях. Флеров даже обещал мне что-то, но позднее этот вопрос не возбуждался вновь и мне, пожалуй, уже не очень хотелось менять место, потому что я уже привык здесь. Здесь стало лучше — появилось электрическое освещение в нашем бараке, приисковые плотники начали строить уже не таежный барак, а настоящий дом немного ниже нашего барака на том же правом берегу ручья. Поэтому я не очень обрадовался, когда около 20 апреля или даже позднее получил выписку из приказа по управлению, в которой говорилось, что я назначен начальником партии в районе рудника «Бутугычаг». Впрочем, радовала предстоящая встреча с братом и его женой, которых я не видел уже почти полгода, да и работа в полевых партиях влекла. Впрочем, раздумывать над этим вопросом было некогда. Был приказ, в котором говорилось, что выехать я должен немедленно, даже не заезжая в управление, потому что от Палатки до Бутугычага была не дорога, а лишь зимний проезд, который скоро станет совсем непригодным для езды. Также по бездорожью нужно было добираться и от нашего прииска до устья Среднекана, где существовал тоже только зимний проезд. На другой же день после получения приказа я выехал на попутной машине в указанном направлении. Это было, кажется, 25 апреля. Хорошо помню, как в день получения приказа, то есть накануне отъезда, шла пурга и прямо к нашему бараку прилетели куропатки, усевшиеся низко на склоне, и я убил четырех. Выехал утром на санках, довезших меня с багажом до прииска, оттуда сразу же двинулся дальше на тракторных санях и вскоре пересел на грузовик. До устья Среднекана проезд был еще хорош, и я без задержек довольно быстро добрался до этого пункта. Но здесь мне не повезло, пришлось засесть в ожидании попутной машины. Долго ее не было. Ждать пришлось трое суток, и оставалось только радоваться тому, что есть где ожидать. Я, конечно, очень волновался, боясь, что не успею проехать и что придется возвращаться. Но все равно не было ни одной машины, и я ни на чем не мог уехать. Помню, приехал зачем-то Д. П. Васьковский. Я как раз в это время писал письмо в Днепропетровск, надеясь, что скоро откроется навигация, и думая, что поэтому нужно послать письмо, пользуясь тем, что нахожусь на дороге, откуда оно скоро дойдет до Магадана. Д. П. Васьковский с каким-то пренебрежением спросил: «Что это Вы дневник пишете?», и я ответил, что не дневник, а письмо, но меня удивил пренебрежительный оттенок вопроса. Как будто ведение дневника — предосудительное дело или недостойное серьезного человека. Наконец, кажется, 28 апреля мне удалось уехать в кузове попутного грузовика дальше. У меня был попутчик — молодой парень, освободившийся недавно из лагеря на Лазо и оттуда ехавший со мной на обогатительную фабрику «Вакханку» при руднике «Бутугычаг». И вот наш длинный путь приблизился к концу, и 29 апреля к вечеру мы со спутником прибыли на Палатку. Оставив этого парня возле багажа, окруженного ворами, я побежал к диспетчеру, чтобы узнать о возможности дальнейшего продвижения к руднику, и тот сказал мне, что дорога на Бутугычаг уже совсем закрыта и что проехать по ней просто невозможно, потому что сегодня строители дороги взорвали скалу на повороте при спуске с перевала 92-й км. Ответ диспетчера был категоричен и не оставлял никакой надежды на то, что мне удастся закончить свой путь и достигнуть цели. Казалось, что единственный правильный выход из положения — это сесть на обратную машину и ехать в Усть-Утиную за другим назначением. Так и поступил мой попутчик, а я проявил выдержку. Я просто решил, что этим выходом можно будет воспользоваться и позже, тем более что спешить в Усть-Утиную незачем, так как наступают три праздничных дня, в которые там просто нечего делать. Да это и легче всего было: подождать здесь какого-нибудь непредвиденного случая, который авось подвернется. И вот, уповая на то, что вообще утро вечера мудренее, я стал хлопотать о том, чтобы мне разрешили переночевать в шоферской ночлежке, которая официально претенциозно именовалась Домом отдыха водителей. Впрочем, там было тепло, чисто, нешумно, и я решил, что вряд ли украдут мои чемоданы с книгами и другим довольно убогим скарбом. Добиться разрешения было нелегко. Почему-то дело осложнялось тем, что наступают первомайские праздники. Но в конце концов мне удалось устроиться на ночлег, и я залег отсыпаться за бессонную дорогу. Был вечер накануне первомайских дней, шоферам, остановившимся на ночлег, хотелось промочить горло, как, впрочем, хочется и в другие, совсем не праздничные дни. Но спиртного у них не было, и они на моих глазах, кажется, втроем, осушили флакон хинного мыла и заметно охмелели, но почему-то все остались в живых. Ночью я хорошо выспался, а утром мне повезло. Оправдалась эта самая надежда на русское авось да небось. Когда я подошел к окошечку диспетчера, возле него стоял невысокий человек, почему-то внимательно смотревший на меня. И, вероятно, именно поэтому я обратился с вопросом не к диспетчеру, как собирался, а к этому самому человеку. Я спросил у него, не знает ли он о том, пойдет ли какая-нибудь машина или трактор сегодня на Бутугычаг. Помню и сейчас, что, задавая этот вопрос, я твердил себе, что напрасно трачу время на разговоры, что спрашивать нужно диспетчера, а не случайных встречных или прохожих, но, к моему величайшему удивлению и радости, услышал в ответ, что машина пойдет, а мой собеседник является заведующим материально-хозяйственной частью этого рудника Левченко. В свою очередь он спросил меня, не брат ли я Всеволода Дмитриевича Володина, и был очень рад, услышав мой положительный ответ, подтверждающий его проницательность. Оказывается, что совсем не случайно он смотрел на меня, когда я его увидел. Мне помогло сходство с братом, хотя мне всегда казалось, что я не очень похож на него. Машина оказалась полностью загруженной спиртными напитками и различными вкусными вещами, называемыми на торгово-снабженческом языке «деликатесами». Впрочем, изрядную часть полезного объема занимал небольшой компрессор. Меня удивило, что машина, заполненная в основном грузом, предназначенным для «праздничного стола», не так уж спешила на рудник, хотя наступило уже 30 апреля, а до рудника оставалось еще 230 км. Мне, конечно, не терпелось поскорее тронуться в путь, чтобы скорее закончить, наконец, эту нудную дорогу, но я терпеливо ждал, радуясь, что мне не придется «поворачивать оглобли», почти достигнув цели, и проделывать длинный путь обратно. Поэтому меня совсем не раздражало и не вызывало досаду то, что мы не очень спешили и что мне приходилось долго-долго караулить машину, чтобы кто-нибудь не украл бутылку-другую перцовки, зубровки или коньяка. Заведующий МХЧ еще с утра рассовал по карманам бутылки четыре спиртного, куда-то отправился, сказав, что идет «уламывать диспетчера», чтобы тот выпустил машину на закрытую трассу. Но диспетчер оказался крепким орешком. Спирт и другие напитки пил целый день, деликатесы наши поедал, а машину не выпускал. Несколько раз через каждые 2–3 часа прибегал Левченко, вновь и вновь рассовывал бутылки по карманам и опять отправлялся продолжать уламывать диспетчера. Я удивлялся тому, что сам Левченко оставался трезвым, несмотря на то что кое-что из бутылок, конечно, перепадало и ему. Ведь не все же выпивал диспетчер, не бочка же он. Удивлялся я и тому, как собирается Левченко свести концы с концами. Неужели он угощает того за свой счет? Моими попутчиками до Бутугычага были ехавшие из Магадана жена прораба Петра Емельяновича Станкевича и, кажется, главный бухгалтер рудника. Они тоже целый день где-то пропадали, и я сидел на машине голодный. В конце дня пришел бухгалтер, и я смог сходить в столовую пообедать наскоро. Ближе к вечеру мы все же тронулись в путь и только 20 км успели проехать, пока было светло и тепло. Дорога была неплохая, но перевал 92-й км, из-за которого дорога считалась закрытой, я и сейчас спустя 32 года помню отлично. Помню полого спускающуюся вдоль крутого склона узенькую дорожку, круто обходящую его выступы, и многочисленные таблички, поставленные через каждые 10–15 метров с надписями, выхватываемыми светом фар из тьмы: «Осторожно!», «Опасно!». Потом площадка, где дорога поворачивает на 180 градусов. Если до поворота правый борт машины прижимался к склону, то теперь он нависал над пропастью, а прижимался левый. Стало понятно, почему перевал был закрыт, площадка действительно оказалась еще совсем не очищенной, сплошь заваленной крупными обломками взорванной породы. Поэтому мы поворачивали там, где не было завала, то есть не на площадке, а не доезжая до нее, там, где с верхнего на нижний марш серпантина пришлось съехать по очень крутому откосу с большим риском скатиться, кувыркаясь, в пропасть. Был момент, когда передние колеса машины оказались намного ниже задних, и автомобиль очень круто наклонился вперед. При этом я, сидя на высоко наложенных и обвязанных веревкой ящиках, ногами упирался в верхний край кабины, а руками крепко держался за веревки. Помню мысль, что при этом в кабине было бы опаснее, что оттуда не выскочишь «в случае чего», а здесь останешься на «земле» после первого же переворота машины, правда, может быть, будешь раздавлен, если угодишь под компрессор. Иганджинский перевал, или перевал 92-й км. Ныне 90-й км Тенькинской трассы. Фото 2014 г.
Иганджинский перевал, или перевал 92-й км. Ныне 90-й км Тенькинской трассы. Фото 2014 г.
Ночью мы проехали еще Иганджу и Беренджу, а к утру оказались на перевале 130-й км. На рассвете первого мая мы несколько часов барахтались в снегу близ этого перевала, собирали на дороге ветки и вновь, и вновь подсовывали их под бешено вращающийся скат, глядя, как они стрелой вылетают оттуда назад. Когда подъехали к дорожной столовой на 169-м км, было уже обеденное время, и «хозяин груза» предложил отметить праздник. Выпили по этому случаю перцовки и чем-то там закусили. Помню, что, когда поехали дальше, причем машина неслась (говоря о скорости, можно предположить, что она у ЗИС-5 не превышала 50 км на спуске, но для средней скорости движения по трассе 12–15 км в час в то время скорость в 50 км казалась огромной, особенно человеку, находящемуся в кузове автомобиля. — Ред.) на этом участке быстро, я засыпал и очень боялся свалиться, цепляясь за канаты. Потом мы опять медленно ползли к последнему перевалу (имеется в виду невысокий Нелькобинский перевал, расположенный между поселками Усть-Омчуг и Нелькоба. — Ред.) и дальше до самого рудника, куда мы прибыли перед вечером.
 Нелькобинский перевал, поворот дороги идет параллельно ручью Подумай. Фото 2014 г.
Нелькобинский перевал, поворот дороги идет параллельно ручью Подумай. Фото 2014 г.
На Бутугычаге
Встретился я с братом, и через час он меня повел в красный уголок, где был праздничный пир. Познакомился с рудничным начальством: начальником рудника Николаем Ивановичем Карпенко, главным инженером Марковым, старшим геологом Николаем Евдокимовичем Сушенцовым и еще некоторыми другими. В праздничные дни ходил с Волей на охоту через перевальчик и ручей Зигзаг в верховья Террасового. Снега было много, он еще только начал таять, лыжи скользили хорошо, день был отличный солнечный, теплый. Куропаток мы набили до десятка, и Воля хотел их сохранить до возвращения Лили, которая была в это время на операции аппендицита в Магадане. Но мы неправильно обработали куропаток, по ошибке вымыв их после ощипывания и смоления, и они у нас испортились; пришлось их выбросить. Я сразу же приступил к подготовке к полевым работам — читал отчет Б. Л. Флерова, М. С. Венчуговой и Д. В. Вознесенского. Составил списки необходимого снаряжения, инструментов, то есть составил заявки. Управление кое-что сделало со своей стороны для организации партии. Прислали на Бутугычаг еще до моего приезда двух подготовленных на курсах коллекторов Алексея Никоновича Парфенюка и Владимира Ивановича Орловского. Оба они были демобилизованные красноармейцы, участники недавних Хасанских боев. Прорабом назначили работавшего пока здесь на россыпной разведке прораба Виктора Степановича Рощина, но оказалось, что он уезжает весной в отпуск, а в управлении этого не учли. Пришлось его заменить другим человеком из местных работников.Дмитрий Владимирович Вознесенский (1904–1956)
 Геолог. На Колыме с 1951 г. Участник Второй Колымской экспедиции под руководством В. А. Цареградского. Работал главным геологом Северного ГПУ Дальстроя. Репрессирован. Уехал с Колымы в 1940 г. Работал главным геологом треста «Главзолото». Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени.
Геолог. На Колыме с 1951 г. Участник Второй Колымской экспедиции под руководством В. А. Цареградского. Работал главным геологом Северного ГПУ Дальстроя. Репрессирован. Уехал с Колымы в 1940 г. Работал главным геологом треста «Главзолото». Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени.
Брат порекомендовал на это место Александра Ивановича Чащина, которого я и зачислил в партию. Когда вернулся из отпуска В. С. Рощин, он смеялся, что все равно в лесу остались, рощу заменив чащей. Поселок на Бутугычаге был тогда совсем еще маленький. Большую часть построек составляли бараки, построенные еще партией Флерова и потом разведчиками, когда там хозяйничал Израиль Ефимович Драбкин с Марией Сергеевной Венчуговой. Брат жил в приземистой избушке, построенной для парикмахерской, но занятой сначала Петром Емельяновичем Станкевичем и уступленной им Воле. Геологическое бюро, в котором мы занимались, помещалось в большой палатке, стоящей посреди поселка. В мае, когда мы в ней сидели, там не было холодно, за исключением дождливых ненастных дней, а зимой я в ней не бывал. Поселок располагался в верхней части узкой долины ручья Блуждающего, круто поднимающегося в среднем течении, где ручей пересекает контактовую зону гранитного массива, становящуюся пологой вверху, где она пролегает по контакту гранитов и роговиков. Русло ручья прижимается к правому крутому склону, сложенному роговиками, тогда как левый гранитный склон поднимается относительно полого, оставляя у своего подножья, еще более полого опускающуюся к ручью террасу. На ней и ютился поселок, состоявший из полутора-двух десятков бараков таежного типа, образующих единственную короткую улицу (улочку). Слева, в верхней части поселка, располагался склад, и против него ютился магазин или лавочка. За ручьем, против поселка, стояла маленькая электростанция, служившая только для освещения поселка, и баня. На нижней околице стояла деревянная арка — единственное украшение поселения, увенчанная выцветшим на солнце транспарантом с надписью «Добро пожаловать». Ниже арки позднее построили клуб, который казался нам большим и хорошим, хотя таким и не был. Еще ниже на половине дороги между поселком и устьем ручья — там, где кончается крутой спуск и долина значительно расширяется, и появляются кусты кедрового стланика и редкие тонкие лиственницы, которых нет ни в поселке, ни вблизи него, находилась конбаза. Дорога протягивалась, извиваясь то по левому, то по правому берегу ручья, часто прижимаясь к правому склону, подножье которого украшают большие гранитные глыбы. Редкие кусты стелющегося стланика были разбросаны и здесь, выше конбазы. В долине ручья Террасового, в который впадает Блуждающий, меньше чем в километре ниже устья последнего и в 9–10 км от поселка была устроена временная посадочная площадка, принимавшая маленькие самолеты (У-2), которые почему-то называли тогда кукурузниками. Работники рудника называли эту площадку не иначе, как нашим аэродромом и очень гордились тем, что у них есть аэродром. Гордились, впрочем, не зря, потому что в годы, когда еще не было дороги, а рудник уже работал (1938–1939 гг.), единственным путем сообщения в летнее время мог быть только воздушный путь. Мне пришлось быть свидетелем работы аэродрома в последний год его существования. В дни, когда я работал вблизи аэродрома, я видел с сопок, как заходили на посадку, садились там и взлетали маленькие юркие У-2 или По-2. В следующем году дорога уже протянулась до рудника, и воздушным путем перестали пользоваться. Выше поселка слева в Блуждающий впадает ручей Шайтан, на правом водоразделе которого в 2 км от поселка находился рудник. В устье Шайтана, в долине Блуждающего находился лагерь. Место было тоскливое и безрадостное. Полное отсутствие древесной, кустарниковой и всякой другой растительности характерно для этого места, так же как и для поселка вольнонаемных. Голые склоны сопок, покрытых лишь осыпями крупного оскольчатого ржавого щебня там, где были роговики, и развалины крупных серых глыб с пятнами лишайника на гранитных сопках. Даже мох не растет здесь, ни ягель, ни сфагнум. Только лишайник можно увидеть на гранитных глыбах. За водоразделом, на котором находился рудник, в долине притока Детрина речки Вакханка располагалась обогатительная фабрика, перерабатывавшая добываемую на руднике руду. Поселок фабрики был на расстоянии немногим более 10 км от рудничного. Но не только расстояние разделяет их. Между ними лежит высокий перевал, особенно труднодоступный он со стороны обогатительной фабрики. Здесь гораздо круче и гораздо выше, чем со стороны рудничного поселка. Высота перевала со стороны Вакханки в два с лишним раза выше, чем со стороны Бутугычага.
 Поселок Бутугычаг. Начало 50-х гг. ХХ века.
Поселок Бутугычаг. Начало 50-х гг. ХХ века.
Обогатительная фабрика и ее поселок располагались на гораздо более живописном и привлекательном месте, чем рудничный поселок, не говоря уже о руднике. Здесь намного ниже и теплее. В довольно широкой долине протекает речка, и хотя лиственничный лес здесь в значительной степени тоже вырублен, все же остается много молодняка и вообще много зелени. Склоны долины покрыты кустарником кедрового стланика и лиственничным молодняком в нижней части. На берегах — заросли лозы и тальника. Кое-где растут травы. До 1942 года в поселке была единственная собака, которую звали Штрек, и не было больше никакой живности — ни кошек, ни кур. Я это хорошо знаю, потому что родившаяся там моя племянница Нэля, которую в возрасте 2 года 9 месяцев привезли в Усть-Омчуг, долго звала всех собак единственной известной ей кличкой, пугалась куриц и кошек, а о деревьях спрашивала: «Что это?», и на лице у нее при этом было написано большое удивление. Скучно было в это время в рудничном поселке. Развлечений не было никаких, не было кино, потому что не было клуба, и нельзя было привезти фильм, так как дороги не было. Аэродром еще не подсох как следует, и потому самолеты не могли здесь садиться, чтобы доставить хотя бы газету. Один раз на моих глазах над поселком появился У-2 и сбросил почту. Я видел, как от самолета отделился белый комочек и понесся к земле. Потом он исчез, а на этом месте, на крыше большого больничного здания, стоявшего посреди лагеря, появилась черная дыра, пробитая этим комочком. В середине мая мы с братом два раза ходили на аэродром встречать его жену. В первый раз сходили впустую, так как рейс самолета тогда не состоялся, кажется, из-за того, что площадка еще недостаточно просохла. Кажется, второй наш поход был успешным. Мы встретили Лилю, а потом она ехала верхом на лошади, которую Воля там достал, а мы шагали пешком. Я продолжал готовиться к полевым работам, комплектовал партию, два или три раза ходил на субботник по сбору касситерита. На этом руднике оловянный камень был (именно был, потому что теперь его уже нет) особенно необыкновенно красив. Крупные (20 мм в поперечнике) квадратные, дипирамидальные кристаллы образовывали красивейшие сплошные друзы или щетки с горным хрусталем и с исландским шпатом. Должно быть, далеко не все геологические музеи мира, а лишь некоторые, редкие из них имеют такие экспонаты. Во всяком случае подобных им нет в нашем горном институте. Должно быть, можно было бы больше пользы извлечь из эксплуатации этого месторождения, если бы продавать всю руду в виде образцов для музеев всего мира. Но стране нужен был этот военный металл, и никто не думал о том, чтобы из него извлекать больше пользы. Наконец в конце мая мне подобрали рабочих: Алексея Ивановича Сазонова, Галина, Евпанешникова, Сафронова, Галаудзе и промывальщика, бывшего конокрада Василия Рукаса. Можно было начинать работу.
Первый маршрут
4 июня прямо с рудника, без лошадей, нагрузивши рюкзаки консервами и другим продовольствием, мы вышли в первый маршрут, который занял около недели. Нас было 5 человек: я, Парфенюк, Орловский, Евпанешников и Галин. Все остальные во главе с прорабом А. И. Чащиным оставались пока в поселке, так как опробование речных отложений долин еще нельзя было начинать, — борта русел еще не оттаяли. С нами была палатка, но печку мы с собой не взяли, о чем очень скоро пришлось пожалеть, потому что на другой же день испортилась погода, пошли дожди, похолодало. В первую ночь погода была отличная, и надобности в палатке не было. Когда устраивались на ночлег, Евпанешников сказал, что он будет сейчас спать, как директор на «материке». Он же рассказывал тогда какие-то эпизоды из того периода своей жизни, когда служил моряком и плавал, кажется, на рыболовном сейнере близ Магадана. Тогда же мне врезалась в память и нелепая поговорка, которую он непрерывно повторял: «Наш брат кобылка…». Что это значит — не знаю. На другой день, когда уже нужно было останавливаться на ночлег, неожиданно стал накрапывать дождь. Пришлось быстро растянуть палатку между деревьями прямо на ягеле, который только что был сухим и хрустел под ногами, а теперь очень быстро отсырел. В палатке было холодно и неуютно. Утром мы пробудились под шепот дождя по скатам палатки. Тогда я слышал этот шуршащий шорох впервые, а как много раз потом приходилось мне его слушать и как много чувств испытывать в связи с ним. Вызывал он главным образом досаду. Бывало, кончается лето, близится конец полевых работ, вернее, приближается срок их окончания, а задание еще не выполнено, а дожди заставляют опасаться того, что оно может остаться незавершенным, если не принять крайних мер, то есть не начать вести маршруты под дождем. А работа под дождем — дело невеселое, уже даже не говоря о том, что мокнуть на ветру холодно, сыро и неприятно; плохо вести наблюдения, трудно делать записи, оберегая бумагу от струй воды, особенно плохо и трудно писать, когда бумага рыхлая, вроде газетной, промокающая и распухающая. Трудно также делать отметки на карте, тоже оберегая ее от воды. В этом первом маршруте всего лишь на четвертый день работы мы встретили медведя, который шел по нашему хребту, но встречным маршрутом. Он увидел, что нас много, а он один, и что лучше нам не мешать идти туда, куда мы хотим. Придя к такому решению, он очистил нам дорогу, скромно удалившись даже с некоторой поспешностью. В первое время после этой встречи я долго ждал второй, надеясь, что в следующий раз успех будет большим. Но дождаться второй встречи я очень долго не мог. Трудно тогда было заниматься геологической съемкой, не имея карт и ведя одновременно с геологической и глазомерную топосъемку. И все же эти карты на глазомерной основе позволили работать промышленности этой большой области вплоть до Отечественной войны, то есть больше 10 лет. Первое лето в тайге оставило наиболее яркие впечатления и воспоминания, несмотря на то что никаких особенно значительных событий тогда как будто не происходило. Многое запомнилось просто потому, что все приходилось делать впервые в жизни. Все: и образ жизни, и работа, связанная с постоянной непрерывной ходьбой по сопкам, лазаньем на скалы и крутые обрывы, ночевки у костров, переправы через бурные реки или через вздувшиеся после дождя ручьи, муки от холода, комариный писк, непрерывно стоящий над головой и вызывающий зуд на уже пострадавших от их укусов участках кожи, — все было ново и потому оставляло яркие впечатления. Впрочем, были тогда и события, заслуживающие упоминания. Таким являлся, например, большой паводок, вызванный проливным дождем, продолжавшимся почти непрерывно четверо суток. Но главное, были трудности, вызванные другими обстоятельствами, но попробую рассказать обо всем по порядку.Натеньке
Я упоминал уже о том, что полевая партия, которую мне пришлось тогда возглавлять, комплектовалась на руднике «Бутугычаг», заброшенном в далекой тайге, отрезанном бездорожьем. Поэтому все, что нужно было партии и чего на месте не было, заблаговременно было завезено на рудник. Здесь все это имущество прочно прилипало к цепким рукам рудничных хозяйственников и с очень большим трудом от этих рук отрывалось. С большим трудом, например, удалось получить только две из привезенных для нас палаток, да и те оказались без тентов, из-за чего все лето нам пришлось мокнуть и в палатках на стоянках. Понятно, что во всем этом была значительная вина и работников управления. Они не сообщили мне, какие предметы, предназначенные для партии, высланы ими в адрес рудника, оставив за рудничными деятелями свободу действий. Трудней всего получить от рудничного начальства было лошадей. Если они запросто присваивали и очень неохотно отдавали мне то, что было прислано специально для полевых работ, то легко представить себе, как они могли поступить, когда вопрос касался принадлежащих руднику лошадей. Естественно было, что вместо шести лошадей, которые были необходимы для работы, я получил только две. Конечно, на них можно было только подвозить продовольствие с рудника, пользуясь тем, что мы работали невдалеке от него. Перевозить же партию с одной стоянки на другую с их помощью было нельзя, так как для этого не хватало бы каждый раз дня. Поэтому пришлось воспользоваться другими видами транспорта. Протекавшая вдоль западной границы района река Нелькоба, впадавшая затем в реку Теньку и сливающаяся с нею, позволяла применить для перемещения стоянки партии сплав на плотах. К этому решению пришлось прибегнуть, пренебрегая тем, что река Тенька немноговодна, изобилует галечными перекатами и мелями и даже имеет пороги. Но пороги находятся, хотя и всего в 1,5–2 км, но все же ниже устья Бургагы — пункта, где нам следовало прекратить сплав; преодолевать мели и перекаты должна была помочь нам специальная конструкция плота. Поэтому мы и решили двигаться сплавом, делая остановки на устьях правых притоков Теньки. Всего нам нужно было двигаться сплавом около 25–30 км до устья самого крупного притока Теньки на нижнем участке ее течения реки Бургагы. Сплав по Теньке, хотя и оказывал нам большую помощь, но все же не мог полностью заменить лошадей, потому что работа на берегах Теньки составляла только часть всего задания, нужно было до этого выполнить работу в бассейне р. Бутугычага и Нелькобы, а после — в бассейне Детрина. Все это не охватывалось сплавом. Кроме того, работа таким способом вынуждала делать мало стоянок, не позволяла забрасывать стоянки в сторону от реки и заставляла удлинять маршруты. Она ставила нас в очень трудное положение, вынуждая делать длинные многодневные изнурительные маршруты с коротанием бессонных ночей у костров под открытым небом «на комарах» и с тасканием тяжестей на себе. В результате мы сами заменяли лошадей, но, конечно, в меру сил. От этого выигрывали, пожалуй, комары, которые рады были пить нашу кровь. У костров это им делать было гораздо легче, чем в палатке. Сейчас, оглядываясь назад через прожитые 30 лет, я сам себе удивляюсь — как мог я согласиться на такое издевательство над собой, как мог его допустить? Начальник рудника Н. И. Карпенко вместе со своими прихлебателями — заведующим МХЧ, зав. кон-базой и бухгалтерией действовал по-бандитски, воспользовавшись моей неопытностью новичка в окружении уголовников. Получилось, что я как-то сам добровольно согласился на такое ненормальное положение, принявшись работать без лошадей, даже не жалуясь на разбой Карпенко и его сотрудников. Осенью, когда наступило время переходить с Теньки на Детрин, мне даже удивиться пришлось, потому что как-то слишком легко, без сопротивления мне дали еще пять лошадей вместе с двумя возчиками — заключенными воришками, должно быть, карманщиками. Но это была ловушка, а я не разглядел коварного замысла начальства и легко поймался в нее, став жертвой своей доверчивости, веры в порядочность людей. Мне дорого обошлись и эти лошади, и воришки, за которых пришлось платить из своей зарплаты. Лошадей мне дали больных, со сбитыми спинами. Они до передачи мне находились на специальном пастбище и не работали из-за этого. Все это не было оговорено в передаточном акте. Прораб А. И. Чащин, принимавший лошадей, поверил на слово ветеринарному врачу, заведовавшему конбазой, что тот знает о состоянии лошадей и учтет это при приемке их обратно. Однако сдавать лошадей пришлось нам не на руднике, а на обогатительной фабрике, близ которой мы закончили свою работу. Комиссия определила продолжительность простоя лошадей, необходимого для их лечения, а я заплатил за ту работу, которой лошади не сделали за дни простоя. Можно было судом отстаивать свои права, но я не стал затевать это дело. А за воришек пришлось мне заплатить потому, что, находясь у нас в партии, они не получали своего лагерного пайка и кормить их пришлось за мой счет. И мне потом не удалось добиться, чтобы мне вернули деньги. После первого маршрута, проделанного в начале июня с рудника и продолжавшегося неделю или 8 дней, мы все, то есть я, Парфенюк, Орловский, Галин и Евпанешников, вернулись на рудник и, кажется, 14 числа выехали с палатками, снаряжением и небольшим запасом продовольствия в район работ. Первую стоянку разбили в долине ручья Таборного, впадающего в Бутугычаг слева, против устья Террасового. Для этого переезда нам дали еще трех лошадей, которые вернулись сразу же обратно на рудничную конюшню. Н. И. Карпенко пообещал, что и при следующих переездах будет давать нам лошадей. Но обещать всегда легче, чем выполнять обещания. Тем более легко это делать, когда не собираешься делать того, что обещал, как это делал Н. И. Карпенко. В первый же раз, когда понадобилось менять место стоянки, он вместо трех-четырех лошадей прислал одного человека. Это можно было рассматривать только как насмешку, а имущество на устье Бутугычага пришлось перетаскивать два дня. Продовольствия под отчет я не брал ввиду близости рудничного поселка. Все необходимое мы брали там, в магазине, за наличный расчет. Тяжелы были многодневные и многокилометровые маршруты. Некоторые из них вспоминаются отчетливо и теперь, спустя три с лишним десятка лет. Например, возвращение из маршрута в верховья Бутугычага по водоразделу между ручьем Таборным и Нелькобой, после ночлега в долине этой реки. Продукты у нас кончились почему-то раньше. Мы брели почему-то вдвоем с Орловским. Не помню, где были в это время трое остальных.Маршруты
После первого маршрута, проделанного в первых числах июня из рудничного поселка, я продолжал ходить в маршруты с тем же составом группы работников. Со мной ходили, как и тогда, в первом маршруте, 2 коллектора — А. Н. Парфенюк и В. И. Орловский и 2 рабочих — Галин и Евпанешников. А. Н. Парфенюк производил глазомерную или полуинструментальную съемку и составлял глазомерную карту или основу для геологической карты. Ему помогал носить его имущество, предназначенное для работы, один из ходивших с нами рабочих. Обычно это был Евпанешников. А имущества у Парфенюка было не так уж мало. Главным его предметом был планшет — квадратная деревянная доска размерами 60×60×2 см. К ней был приклеен лист ватмана, на котором вычерчивалась карта. Ватман был сверху затянут листом обыкновенной писчей бумаги, предохраняющей ватман от загрязнения. В этом месте прорезалось отверстие, открывающее тот участок, на котором в первую очередь производилась работа. Потом оно постепенно увеличивалось. На обратной стороне планшетной доски в центре ее привинчена четырьмя шурупами круглая латунная гайка, которая крепит планшет на треногом штативе. При переноске с места на место планшет вкладывался в футляр, состоящий из внутреннего матерчатого и наружного клеенчатого чехлов. К футляру прикреплены лямки для ношения его за спиной. Рабочие почему-то назвали планшет Парфенюка вместе с футляром иконой. Евпанешников носил за Парфенюком треногу и ружье, а иногда Парфенюк давал ему и икону, которую почти всегда носил сам. Кроме того, в футляре, по карманам Парфенюка и в рюкзаке были рассованы: визирная линейка, анероид, буссоль Шмалькальдера, эклиметр Брандиса, горный компас, уровень, резинки и карандаши и пращ-термометр. Придя на новую точку где-нибудь на вершине сопки, Парфенюк устанавливал там свою треногу с планшетом, выравнивал его по уровню, ориентировал по горному компасу. Затем при помощи визирной линейки с обратными засечками он наносил на карту эту новую точку. Затем брал засечки, тоже обратные, на старые, ранее нанесенные на карту точки при помощи буссоли, которые нужны были ему для контроля и эклиметром определял углы превышения новой точки над ранее заснятыми и вычислял это превышение. Кроме всего проделанного по анероиду он отмечал абсолютную отметку новой точки и температуру по пращ-термометру. Начал свою глазомерку А. Н. Парфенюк в том первом маршруте на ручей Террасовый, проведенном из рудничного поселка. Там на водоразделе ручьев Террасового и Блуждающего пролегла граница крупномасштабной геологической съемки М. С. Венчуговой, произведенной на два года раньше на топографической основе. Две вершины этого водораздела, лежащие на расстоянии около четырех километров одна от другой, послужили А. Н. Парфенюку базой, от которой он и развернул сеть своих засечек. Ходил я вместе с А. Н. Парфенюком для того, чтобы иметь возможность привязывать свои точки геологических наблюдений к точкам глазомерной основы. В. И. Орловский — малоподвижный, неторопливый человек тоже, как и Парфенюк, только что демобилизованный солдат, окончивший краткосрочные коллекторские курсы, помогал мне отбирать и документировать образцы горных пород. Рабочий Галин носил рюкзак с запасом продовольствия, которое в процессе маршрута постепенно заменялось образцами горных пород. Такой же груз, кроме инструмента Парфенкжа, носил в своем рюкзаке и Евпанешников. Выходя в маршрут, мы обыкновенно брали с собой запас продовольствия, которого, по расчету, было достаточно на намеченную продолжительность маршрута для всей нашей группы. Хлеба в то первое время мы с собой не брали, заменяя его галетами. Остальные продукты, которые мы брали с собой, — это консервы мясные, рыбные, овощные, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, чай, крупы. Носили с собой и посуду для приготовления пищи. Ходили мы почти всегда по водоразделам, почти не опускаясь в долины, конечно, если поблизости к водоразделу встречались остатки снега или если поблизости от седловины можно было набрать воды. Поэтому для ночлега выбирали седловины пониже, где была вероятность встретить воду поближе. Сначала мы укладывались спать обыкновенно просто возле костра на ветки кедрового стланика или лиственницы, мечтая о том, чтобы ночь была достаточно прохладной и комары были вынуждены спасаться от холода, укрывшись в своих норках, и дали нам возможность отдохнуть от них и выспаться. Но в летние ночи это сбывалось редко. Комары большей частью работали без устали всю ночь напролет. Спрятав лицо под накомарник и всунув руки рукав в рукав, укладываешься, стараясь не нарушить свою упаковку, и только сознание начинает выключаться, мысли уплывают, начинает одолевать сон, как вдруг где-то над ухом раздается писк, переходящий в громкое «пи-и-з-з-з» в нарастающей тональности. Сон моментально слетает с тебя, ловишь и уничтожаешь комара, прорвавшегося под накомарник, за ухо, потом опять пытаешься заснуть, и иногда повторяется это опять и опять. Потом выходит солнце, и начинается новый день, и ты, плохо отдохнув и совсем не выспавшись, принимаешься за продолжение прерванного вчера маршрута. Идем, смотрим на щебенку, по которой шагаем, стучим по ней молотком. Останавливаемся, вынимаем из полевой сумки свою полевую книжку, описываем горные породы, берем образцы их, встретив коренные выходы пород, ищем слоистость в них или едва заметные признаки положения поверхностей напластования, чтобы замерить горным компасом элементы залегания пород. Делаем другие наблюдения, регистрируем высыпки жильных пород, высыпки даек и гидротермальных кварцевых жил. Определяем по положению простирания жил и даек, по количеству и величине обломков их приблизительную мощность. Ищем и опять не находим фауну — остатки окаменелостей организмов. Конечно, хочешь найти и «кусок золота с конскую голову» или жильные обломки с кристаллами оловянного камня. Но только хочешь, а не мечтаешь об этом, потому что знаешь о нереальности этого, так как и золото, и оловянный камень легче обнаруживаются в шлихах речных отложений, чем в жильных свалах. Поэтому если встретится тот или другой металл в шлихах проб, которые берет и промывает отряд прораба Александра Ивановича Чащина, если заблестит он на дне лотка в руках бывшего конокрада, а ныне трудящегося промывальщика Василия Тимофеевича Рукаса, тогда нужно будет искать эти металлы или руды в свалах жильных обломков на склонах сопок, а так это бесполезно. Так проходит еще один день, и наступает следующая ночь, похожая на предыдущую. В холодные ночи мы пробовали устраивать себе ночлеги на нагретом месте, столь излюбленные очень многими колымскими старожилами, таежниками, причем большей частью опытными. Вскоре после приезда на Колыму я прочел небольшую книжку Бориса Ивановича Вронского об особенностях полевой работы в этих краях. Именно в ней я и вычитал о таком способе ночевки в холодные ночи. Способ состоит в том, что где-нибудь на галечной косе или на щебеночных россыпях разводится большой костер, хорошо прогревающий почву. Потом место очищается от углей и золы и после некоторого остуживания поверхности на нее настилаются ветви деревьев или кустарников и на них укладываются спать. Мне с самого первого раза очень не понравился этот способ, и я от него отказался. Плох он тем, что очень велика разница температур между горячим грунтом под тобой и холодным воздухом над тобой. Один бок находится в жаркой, парной, мокрой бане, а другой дрожит от холода. Перевернуться сразу, для того чтобы побыстрее согреть свой остывший бок, нельзя, потому что тогда распаренный раскаленный бок быстро остынет, что может привести к воспалению легких. Поэтому переворачиваться можно только в несколько приемов. Несмотря на предосторожности, однажды я сильно простудился в маршруте, возможно, именно при переворачивании. Поэтому в дальнейшем я совсем отказался от этого способа и применял его лишь как исключение. Лучше уж мерзнуть у маленького костерка с риском, что на тебе загорится ватная телогрейка от попавшей на нее искры, чем спать всмятку с пропариванием. Лучше всего иметь обыкновенное суконное солдатское одеяло, которое не может затлеть от попавших на него искр, и спать у костра на подстилке из веток. Одеяло к тому же спасает от дождя, если укрываешься им, не снимая телогрейку и шапку. Дождь мочит только одеяло, а костер сушит его и согревает тебя. При этом, правда, приходится раза два-три за ночь подниматься, чтобы подложить дров в костер, но зато нет риска простудиться. Летом и в начале осени мы строили для ночлегов шалаши из веток кедрового стланика по способу, которому научил нас А. Н. Парфенюк. Он говорил, что такие шалаши строят зимой карельские охотники и лесорубы и что называются они «рокотули». Строятся они так: на расстоянии двух-трех метров друг от друга ставятся два треножника, связанных или как-то скрепленных из трех жердочек каждый. Одна жердочка в каждой из них должна быть в полтора-два раза длиннее, чем две другие. Ставятся они так, чтобы длинные жердочки были направлены параллельно в одну сторону. На них укладываются горизонтальные жерди, к которым потом прислоняются ветви кедрового стланика комлями вверх. Сначала ставят нижний ряд, потом внахлестку следующий, чтобы он вершинами ветвей перекрывал комель предыдущего ряда, и так далее. Тогда вода во время дождя стекает, и в палатке можно укрыться. Перед шалашом разводится костер из толстых бревен. Наклонный потолок отбрасывает тепловые лучи вниз на спящих людей, и в шалаше становится теплее. Но это, собственно говоря, только половина рокотули. Когда людей много, ставится и другая такая же половина, обращенная открытой стороной к первой, а костер оказывается между ними.Чудо-плот
Наш бывший конокрад Вася Рукас оказался обладателем незаурядных способностей, которых за ним никто и не подозревал, — мастером по изготовлению плотов. Я уже говорил, что для передвижения вниз по Теньке мы решили воспользоваться сплавом, а для этого необходимо было построить плот. Вот его строительство и возглавил Рукас, который за два дня вместе со своими подручными и помощниками построил превосходный плот, способный буквально переползать чуть ли не через сухие галечные косы, мели и перекаты. Он имел высокую плавучесть, потому что был сооружен из сухих лиственничных бревен. Особенностью плота, повышающей его проходимость через галечные перепады и позволяющей ему переползать через мели, было то, что только крайние с обеих сторон плота бревна были цельные, длиной 12 метров. Ширина плота была около 3 м. Каждая часть состояла из бревен длиной 6 м, то есть была как бы разрезана на две равные части по длине. Каждое из коротких бревен было привязано только к одной поперечной жерди — к передней или задней, к которым были прикреплены и длинные, крайние бревна,«усы», как называл их В. Рукас. Короткие бревна, и передние и задние, были привязаны другими концами в средней части плота к двум другим поперечным жердям, к которым «усы» не прикреплялись. Поэтому задний край передней части плота и передний край задней были между собой не скреплены и могли свободно «играть», то есть подниматься и опускаться независимо один от другого: когда передняя часть плота надвигается на мель и садится на нее задняя его часть, оставаясь на плаву, начинает толкать ее вперед при помощи «усов», а потом, когда садится на мель задняя половина плота, передняя, уже освободившаяся от мели, оказывается на плаву и начинает тянуть заднюю часть. Работал плот очень хорошо и на мели почти совсем не садился. Я помню только один случай, когда пришлось его разгружать на перекате и переносить груз на берег, чтобы дать возможность плоту сняться с мели. Было это поблизости к устью ручья Эрике. На нем мы сплавились сначала по нижнему отрезку Нелькобы, ниже устья Бутугычага и затем по Теньке сперва до устья ручья Таганка, затем до устья Эрике и, наконец, до устья Бургагы. Здесь во время большого паводка его оторвало и унесло сильное течение реки утром четвертого дня дождя, когда сила течения многократно возросла. Хорошо еще, что мы к этому времени уже окончили сплав. Дальше нам нужно было расставаться с Тенькой и переходить на Детрин. Плот уже отслужил свою службу и был нам больше не нужен. Управлялся плот при помощи двух длинных четырех-пяти-метровых весел, или гребей, опиравшихся на некоторое подобие уключин: прорези или гнезда на козлах, укрепленных на переднем и заднем краях плота. Козлы были как бы односторонние, имели только по две ножки и опирались поэтому на плот тремя точками — двумя ножками и бревном. При помощи этих «гребей» можно было любой конец плота перемещать влево или вправо или же весь плот передвигать к левому или правому берегам реки. На каждой «греби» во время сплава должны были работать два или три человека, так же, как и на кунгасах. Связан был плот тросом. Это, конечно, было надежнее, чем традиционная вязка распаренной лозой, применяемая обычно при постройке плотов. Кроме того, плот был укреплен немногочисленными строительными скобами.Большой паводок
Кажется, 21 августа мы в последний раз воспользовались своим чудо-плотом — сплыли от устья Эрике до устья Бургагы, где кончается наш маршрут по Теньке. Приплыли мы к берегу Теньки слева от устья Бургагы, а палатки свои поставили на шестиметровой террасе на правом берегу этого притока Теньки. День был ясный, солнечный, вода держалась на самом низком уровне. По Теньке мы плыли, переползая через перекаты, а когда носили свои вещи с плота на стоянку через узенькое русло Бургагы, переходили вброд по щиколотку. По нашей оплошности на плоту осталась одна из двух железных печек и еще какие-то железные вещи, которые потом были унесены вместе с плотом. Несмотря на то что в день последнего сплава по Теньке вода в ней стояла на низком уровне, течение на некоторых ее участках было быстрое. Помню, как на одном из крутых поворотов реки налево мы не успели вовремя отвести передний край плота в эту сторону и его сильно ударило передним правым углом в скалу. От удара по инерции свалился передний козелок, а плот перекосило, он принял вместо прямоугольной формы форму параллелограмма в плане. Кроме того, плот развернулся здесь. Задний конец занесло влево и вперед, и дальше плот двигался уже так. Дождь начался в самом начале первой же ночи, проведенной на этой стоянке. Он сразу же перешел в обложной и устойчиво продолжался без перерыва всю ночь и не прекратился ни утром, ни днем, ни вечером, ни следующей ночью. Он не лил интенсивно, а медленно, неторопливо и нудно моросил, не вызывая, впрочем, никакой тревоги, так как ничто не говорило о том, что он будет идти не переставая четыре дня и вызовет такой большой подъем воды. Казалось, что он скоро иссякнет и вновь восстановится хорошая погода. Но он продолжался, и уже к концу первого дня вода в Бургагы уже сильно поднялась. Эта спокойная чистая накануне речка превратилась в мутный ревущий поток. К утру второго дня было уже слышно, как по этому потоку течение несет большие валуны, подпрыгивающие после каждого удара о дно. Под эту музыку — рев бурного потока и стук прыгающих и катящихся в потоке валунов — мы заснули и во вторую ночь, а утром третьего дня, проснувшись, я поразился вдруг наступившей тишиной. Не было больше слышно ни стука прыгающих в водном потоке и катящихся по его дну валунов или рева воды, даже ни малейшего шума, подобного обычной неумолчной песне говорливых речных перекатов. Только выйдя из палатки, я, наконец, увидел, почему умолкла Бургагы. Оказывается, поднялась вода в Теньке и подпрудила Бургагы. Бурный поток превратился в тихий спокойный пруд с неподвижной зеркальной поверхностью. Тогда же мы увидели, что плот наш исчез. Дождь продолжался и в этот третий день, настолько редкий и мелкий, что я даже ходил на охоту в обыкновенной ватной телогрейке без плаща и не особенно сильно промок. Мне удалось убить тогда трех глухарей. Вода в Теньке к вечеру стала прибывать еще быстрее, чем было это раньше; стала заливать террасу, на которой стояла наша летняя кухня и которая была метра на полтора ниже, чем та терраса, где стояли наши палатки. В это время наш повар Алексей Иванович Сазонов жарил оладьи, и нам пришлось прийти ему на помощь, чтобы спасти от потопления кухонное имущество. Но не успели мы еще разделаться с оладьями, как вода поглотила и остававшиеся полтора метра, достигла верхнего края нашей шестиметровой террасы и подступила к палаткам. Нам всем пришлось срочно хватать все свое имущество, включая и мокрые палатки, и тащить все это дальше от воды и от края террасы по полого поднимающейся к далекому склону ее заболоченной поверхности. Казалось, что вода скоро подойдет и сюда и что спасаться от нее придется еще выше за болотом. Но она сюда уже не пришла и нас больше не беспокоила. Еще в день последнего сплава, до начала дождя я послал А. И. Чащина с возчиком и лошадьми на прииск «Дусканья», который был гораздо ближе к нашей новой стоянке, чем рудник «Бутугычаг». Прииск был от нас всего километрах в 10 ниже по течению Теньки в долине ее притока на той же правой ее стороне, где находились и мы. Но идти туда, а тем более с лошадьми, необходимо было по другому берегу Теньки, переправившись два раза через реку. Наш берег был непроходим из-за того, что, не достигая Дусканьи, река на большом участке прижимается к склону долины, образуя длинный высокий обрыв, который пройти или обойти с лошадьми невозможно. Это так называемый прижим. Дождь застал посланных на прииске, где им и пришлось теперь отсиживаться, ожидая, пока кончится дождь, а потом ожидать, когда схлынет высокая вода. Лошади были на конбазе на берегу Колымы и стояли там на конбазе вместе с приисковыми лошадьми, спасаясь от паводка. Они вернулись, когда уже сильно упал уровень воды и уже можно было переправиться через Теньку на маленьком плотике, сделанном на скорую руку. Вода, наконец, упала и обнажила неузнаваемо обезображенные берега реки. Они были теперь сплошь завалены плавником, то есть большими толстыми лиственницами, вывороченными вместе со своими широкими зонтичными корнями, застрявшими между деревьями, растущими на берегах главным образом вблизи края террасы. Отличная тропа, пролегавшая по нашему берегу вблизи края террасы в лиственничном бору, теперь совсем исчезла. Позднее мы узнали, каких бед натворил этот паводок в других районах Колымского нагорья. Писали тогда, что такого паводка не было, кажется, 50 лет. Слышал я, что в районе Усть-Утиной уровень воды в Колыме поднимался то ли на 16, то ли на 26 метров и что этот поселок почти полностью уничтожен паводком. Говорили, а не писали, и то, что в предыдущий большой паводок, который был на 50 лет раньше нашего, погибла половина всего населения в бассейне Колымы. С трудом отстояли Колымский мост. Говорили, что он дрожал от бурного течения реки и, казалось, готов был рухнуть в воду. Для того чтобы отстоять его, на мосту были поставлены автомобили, груженные балластом. В кабинах сидели водители, чтобы можно было спасти машины, если мост начнет разрушаться. Говорили даже, что моторы машин все это время работали. Мост уцелел. Но трудно сказать, в какой степени помогла этому нагрузка из машин с балластом. Рухнул бы мост без этой нагрузки или нет? И какой процент автомашин и их водителей удалось бы спасти, если бы мост начал разрушаться. Думаю, что если бы мост разрушился, то часть машин неизбежно погибла бы вместе с шоферами, а другая часть спаслась бы совсем не потому, что в этих машинах сидели люди, а потому, что, вероятно, не весь мост разрушился бы. Во всяком случае, сидеть в машинах люди не должны были. Это был ничем не оправданный риск, тем более что эта мера могла помочь спасти только небольшую часть тех машин, которые подвергались бы риску в случае катастрофы.Тенькинский порог
Несколько ниже устья Бургагы Теньку преграждает порог, состоящий из нескольких скал, принадлежащих одной мощной дайке кварцевого порфира или серии таких даек. Мощность этой дайки достигает, вероятно, 6 метров. Скалы ограничены трещинами отдельности (геологический термин. — Ред.), пересекающимися почти под прямым углом. Дайка вытянута поперек течения Теньки. Порог представляет собой как бы густой гребень, непрерывно прочесывающий стремительный поток. Со стороны порог кажется страшным, а я на него смотрел только со стороны, и он мне именно таким и казался. Особенно страшной казалась первая скала, находящаяся вблизи от правого берега, должно быть, в 5–6 шагах. Впрочем, я не уверен в правильности оценки расстояний по воспоминаниям, так как слишком давно видел это порог. В действительности порог, вероятно, не так опасен, каким кажется со стороны. Я думаю так на основании того, что за два десятка лет, когда я жил и работал в том районе, на пороге погиб только один человек. Вернее, я слышал о гибели только одного человека, тогда как очень возможно, что были и другие случаи, о которых я не знаю. В 1940–1941 годах, когда лесорубы прииска «Дусканья» изводили на дрова многовековые лиственницы девственной тенькинской тайги и потом сплавляли маленькие плотики по реке, многие из них близко познакомились с этим порогом, побывав не раз на той самой страшной скале, о которой я уже упоминал. Познакомился с порогом и геолог Сергей Иванович Кожанов в 1941 году, когда возвращался из маршрута на свою стоянку. Кожанов решил подплыть на попутном плоту, на котором, кроме него, были еще три лесоруба. Тенькинский порог. Фото 2014 г.
Тенькинский порог. Фото 2014 г.
Плот, несшийся в стремительном потоке, ударился именно о пресловутый камень и стал быстро наползать на него, причем задняя часть плота стала так же быстро погружаться в воду. Все люди выскочили на камень проворно, а С. И. Кожанов, замешкавшись, вылезал на камень, карабкаясь вверх по уже круто наклонившейся поверхности плота, прижатого течением к камню. При этом он сильно порезал руку об острые зубья поперечной пилы, привязанной к плоту. Освободившийся от людей плот начал быстро огибать камень справа, и опять все проворно успели вскочить на плот за это короткое время, а у С. И. Кожанова опять не хватило проворства и расторопности, и он оказался один на камешке, отделенном от берега бурным, хотя и нешироким потоком. Жалеть о том, что он замешкался и не решился сразу прыгнуть на плот, было поздно, и оставалось только ожидать, когда ему окажут помощь, чтобы перебраться на берег. Оказалось, что это не так уж трудно и что существует специально разработанная для этого методика. На берегу, против этого злополучного камня находились специальные «удочки», состоящие из длинной жерди и привязанной к ее концу веревки. Такую «удочку» забрасывали сидящему на камне потерпевшему кораблекрушение, а ему оставалось только обвязать себя веревкой под мышками и смело броситься вниз головой в воду, которая сама, вернее, сила ее течения, проделывала остальное, то есть выбрасывала пострадавшего на берег, потому что конец «удилища» находился в крепких руках стоящего на берегу спасателя. Эта операция, должно быть, для пострадавшего была не особенно приятной, потому что вода в Теньке даже в наиболее знойные дни оставалась холодной и не было желания мочить всю одежду, но другого выхода не было. Вся эта операция была проделана и с Сергеем Ивановичем, когда он дождался помощи. Впрочем, ему долго ожидать не пришлось, потому что плотик, на котором плыл он со своими спутниками, причалил недалеко и его быстро вытащили на берег, после чего в палатку он явился мокрый до последней нитки и позже рассказывал мне об этом.
Девственная тайга
Почти совсем не тронутая человеком, девственная, многовековая лиственничная тайга покрывала долины, террасы и склоны водоразделов Теньки и ее притоков. Она царила пока всюду, потому что человек, добывающий горные богатства и для этого уничтожающий тайгу и все живое в ней, пришел сюда еще совсем недавно и поэтому еще не успел ничего напортить или уничтожить. В тайге пока все оставалось так, как было много-много лет тому назад. Коренного населения здесь было очень мало. Оно состояло из живших оседло якутов, которых по всему Колымскому нагорью насчитывалось, по данным 30-х годов, около 600 душ ороченов (правильнее «орочоны» или «орочи». — Ред.), эвенов, ламутов, или тунгусов, кочевавших по колымской тайге на оленях. Их было, по тем же данным, приведенным в книге Скорнякова и Тупицына (Я. И. Скорняков и Н. В. Тупицын «Геоморфологический очерк Охотско-Колымского края». М., 1936. — Ред.), раз в 8 или в 9 больше, чем якутов. И те и другие промышляли охотой, а тунгусы пасли на мху своих оленей, когда кочевали на них зимой, добывая в тайге белку и горностая. Поэтому они были заинтересованы в сохранности тайги и способствовали такому сохранению. Они не рубили лес, обходясь в своей хозяйственной деятельности сушняком или сухостоем, которого им с избытком хватало, и только частично успевали очищать от него тайгу. Они не допускали и лесных пожаров, которые уничтожали бы ягель и делали бы тот или иной район тайги лишенным оленьего корма зимой и недоступным для охоты на пушного зверя Поэтому 8 лет простояли в тайге, дождавшись нас, деревья с затесями, сделанными начальником поисковой подпартии геолого-рекогносцировочной партии Дмитрия Владимировича Вознесенского Леонидом Андреевичем Кочетковым-Коффом. На затесях были написаны названия притоков Теньки рек и ручьев, в устьях которых были они сделаны, а на одной из затесей роняла слезы расставания запомнившаяся надпись: «Прощай, Тенька, прощай…» и дата. Дорога на прииск «Дусканья» тогда еще не строилась, потому что она еще не была дотянута и до рудника, куда ее стремились построить раньше. По долинам Бутугычага, Нелькобы и Теньки не была еще выбрана трасса дороги, не было еще сделано просеки. До начала полевых работ в середине или в 20-х числах мая Петр Емельянович Станкевич, старый и опытный таежник, возглавлявший на руднике «Бутугычаг» участок россыпных разведок и хорошо знавший окрестную тайгу, предложил мне проехаться с ним в низовья ручья Террасового, на речку Бутугычаг и ручьи Таборный и Подумай, то есть в район, где мне предстояло вскоре начать полевые работы. Я был рад такому случаю, потому что был новичком в тайге и на полевых работах и считал, что полезно будет выслушать и воспользоваться советом опытного полевого работника. Он действительно много советов давал мне в этой поездке, и я ими потом воспользовался. Теперь, правда, я их не помню, много с тех пор прошло времени — больше чем половина жизни. Все же я немного помню о том, что часть из них касалась «линии поведения» в тайге, в частности «взаимоотношений» с медведями. Совет состоял в том, чтобы я не забывал, что в руках или за плечами у меня не винтовка, не штуцер, не берданка, винчестер или карабин, а только совсем ненадежное оружие — гладкоствольная ижевская бескурковка, которая, ко всему прочему, имеет слабые курки, делает осечки и может сильно подвести, когда раненный мною медведь полезет на меня и будет меня терзать. Короче говоря, он советовал не вступать в конфликты с медведями, которые могут встретиться. Я действительно довольно долго следовал этому совету, правда, тогда не встречал медведей, а потом, спустя шесть лет, убил тоже из гладкоствольного ружья одного, потом через месяц с небольшим второго и еще через 9 лет третьего медведя. Стрелять в них из нарезного оружия мне так и не пришлось. Мы с ним поехали почему-то именно на тех двух лошадях, которые потом попали в мою партию. Петр Емельянович ехал на небольшом сером якутском коньке, а я — на более рослой ярко-пегой кобыле, завезенной сюда с юга морем. На ней было приблизительно поровну светло-серых и ярко выделяющихся на их фоне темно-рыжих или коричневых участков. Именно в этой поездке я убил, стреляя с седла, куропатку. Я прицепил ее к поясу и прошел мимо конька Станкевича, конь успел понюхать куропатку, и на него почему-то странно подействовал запах крови; конек стал бояться выстрелов и потом за все лето не мог к ним опять привыкнуть, несмотря на то что раньше, до этого случая, он совершенно их не боялся, позволяя Станкевичу стрелять с седла. Теперь же он стал бояться не только выстрелов, а даже от одного вида ружья терял спокойствие. На правом берегу Террасового мы застали отряд строителей, сооружавших поселок для строителей дороги. Они уже заканчивали постройкутакого поселка здесь и сворачивали свою работу до следующей зимы или до весны. Начальник строителей угощал Станкевича и меня чаем. Разговор между нами вертелся вокруг вопроса, как пойдет трасса дороги на этом участке Террасового, будет ли она обходить прижим, переходя через русло на левый берег, а потом снова возвращаться на правый или дорожники разработают прижим, сделав проезд по правому берегу? (В 2000-е гг. узкий участок трассы в месте прижима к скале был значительно расширен. — Ред.) И еще — как дорога пойдет по долине Бутугычага? Ее удобнее и легче проложить по левому берегу, но это опять-таки требует постройки двух мостов. (Дорога именно так и прошла. Мосты были построены, ныне можно, не без труда, найти части их конструкций по бортам реки. — Ред.) В конце дня мы с Петром Емельяновичем, побывав в долине ручья Таборного, где мы выбрали место для первой стоянки партии, заехали, наконец, на разведочный участок в среднем течении ручья Подумай, где тогда вели шурфовку долины. Там мы переночевали, а утром отправились восвояси, то есть в рудничный поселок. Особый колорит придавали тайге часто встречавшиеся где-нибудь на открытых редколесых террасах или на полянах, на участках с хорошим ягелем под ногами орочские стоянки, многократно служившие своим постояльцам. На этих полянах стояли на своих местах узенькие шалашики, особым образом искусно сложенные из 15–20 сухих жердей длиной около 3 метров каждая. На каждой стоянке было до 6–8 таких шалашиков. Наши рабочие называли эти стоянки якутскими деревнями, не обращая внимания на то что я старался им объяснить, что это тунгусские, а совсем не якутские стоянки. Каждый из таких шалашиков служил опорой, на которой держалась средняя часть большого круглого шатра, чума или яранги диаметром 5–6 м. Обогревались люди, сидевшие в таких шатрах из оленьей замши, маленькими костерками из сухих дров, пыдавшими в центре шатра. О том, что все виденные мною в районе многолетние стоянки подобного типа были зимними, говорило то, что они располагались всегда вдали от русел рек или ручьев и их протоков. Было ясно, что люди не пользовались водой из реки или ручья, а добывали ее, растапливая снег. Летние стоянки были в долине Нелькобы у большой наледи, где олени могли пастись, спасаясь от гнуса и паутов. Тогда я как-то не представлял себе, что нетронутая многовековая тайга доживает здесь свой век, что дни ее уже сочтены, и что совсем скоро она превратится в свою противоположность, в мертвую, почти безжизненную пустыню с толстыми пеньками, напоминающими о существовавшем здесь лесе, с мертвым, уничтоженным неоднократными пожарами подлеском, кустарником и мхом. Огромна была разница между первозданной девственной тайгой на Теньке, какой она была еще в середине 1939 года, когда я там работал, и лишенной жизни пустыней, в которую она очень скоро превратилась. Говоря о тайге, я многократно употреблял слово «многовековая». Это вовсе не преувеличение, как может показаться сначала. Лиственница в этом северном крае растет очень медленно из-за краткости вегетативного периода. Дерево толщиной 30–35 см насчитывает не меньше 200–250 годовых колец. Два толстых пня сантиметров по 80 в диаметре украшали собой до недавнего времени берег озерца возле поселка Усть-Омчуг на другом берегу реки Детрин. Я подсчитывал годовые кольца на одном из них. Их было больше 700. Среди птиц тенькинской тайги преобладали кедровки. Эта небольшая птица меньше галки, но с большой головой, имеет серую окраску. Замечательна тем, что очень любопытна, и тем, что спешит оповестить весь животный мир тайги о том, что ей что-то удалось увидеть и узнать. Идешь, бывало, на сопку, когда припекает солнце. Жарко, тяжело дышать под спущенным накомарником, но жужжащие возле ушей кровососы не позволяют поднять накомарник. Вдруг раздается громкое карканье, и прямо над твоей головой на высоте 1–1,5 метра усаживается громко кричащая кедровка. Ей отвечает другая, торопящаяся прилететь, чтобы покаркать на тебя с близкого расстояния. Такой же громкий концерт они затевают, завидев медведя, ходящего по тайге. Однажды их слетелось десятка три, когда мы устанавливали палатки после переезда. Рассевшись на деревьях над головами и вокруг, они начали свою спевку и вскоре вывели нас из себя. Пришлось открыть огонь и, не сходя с места, за 5 минут настрелять 15 штук. Зажарили их на противне и съели. Запомнились их огромные головы и тощие, сухие мускулы. Гораздо меньше, чем кедровок, но тоже довольно много было в тайге соек (вероятно автор говорит о птице кукше, так как соек в Сибири нет. — Ред.). По величине они немного мельче кедровок, имеют желтую окраску. После вырубки они либо совсем исчезли, или поголовье их сильно сократилось. Во всяком случае, они после этого перестали показываться. Я их больше не видел. Нередко в тайге встречалась желна — вид дятла с черным оперением и с красной или ярко-красной, алой головой. Она громко стучит своим мощным деревообрабатывающим клювом, рассыпая далеко вокруг похожую на автоматные очереди дробь своих частых ударов и оглашая округу переливчатыми, похожими на звук милицейского или железнодорожно-кондукторского свистка трелями. Из-за этих трелей, а также за свой франтовской наряд она получила от наших остряков А. Н. Парфенюка и В. И. Орловского прозвище «начальник станции». Много было в тайге боровой дичи и меньше водоплавающей, которая появлялась только перед началом перелета. Но у нас не было озер, где можно было бы наблюдать и стрелять ее. Среди боровой много было куропаток, особенно горных. Глухарей было мало, а рябчики за все лето встретились нам только один раз на Бургагы. Водоплавающей, представленной гусями, утками и лебедями, много было при перелете, но гусей мне не удавалось убить, а лебеди летели уже в конце перелета, оглашая тайгу мощными мелодичными криками-песнями. Их я видел только издали. Четвероногие были представлены травоядными, всеядными, хищными и грызунами. К первым относятся лось, снежный баран и кабарга; ко вторым — медведь; к третьим — волк, рысь; к четвертым — белый заяц, летяга, бурундук, евражка, или суслик, пищуха, или крыса-каменушка. Видеть за лето мне пришлось хозяина тайги, или прокурора, то есть медведя, только один раз. Медведя так называют заключенные по распространенной среди них поговорке: закон — тайга и прокурор — медведь. Также только один раз видел я и сохатого, несмотря на то что лосей в районе, судя по следам их кормежек на тальниковых участках, было много. Не попадались же они потому, что имеют хорошо развитые органы чувств: зрение, обоняние и слух — они слышат, чуют и видят человека издали, когда человек не может увидеть их за препятствиями. А мы их не видели потому, что они, услышав и почуяв нас, а вероятно, даже увидев, успевали всегда вовремя уходить в сторону. Много раз за лето приходилось видеть белку, которая каждый раз выдавала свое присутствие, громко, сердито крича на человека, издавая еще какой-то треск и свист и громко топая своими маленькими лапками по веткам дерева. Интересно было наблюдать хозяйственную деятельность зверька, приготовляющего ближе к осени грибы (маслята, подосиновики, грузди, белые) для сушки, защемляя каждый грибок в развилке между веточками. Еще чаще встречались маленькие полосатенькие бурундучки, напоминающие белок своим тонким пушистым хвостом и больше — своим нахальным криком и свистом при виде человека. Нередко встречались в камнях и красноватые или ярко-рыжие пищухи, прячущиеся в развалах крупных или средних камней, где они, взобравшись на камушек, начинали свои пронзительные песни-крики или писк, переходящий в свист. Единственный раз за лето видел шкурку убитого Чащиным молодого маленького зайчика. Ему даже вырасти не дали. При мне рабочие набили шкурку травой и, поставив чучело среди кустиков, потихоньку позвали Чащина и показали ему зайца, а он поторопился выпалить еще раз по уже съеденному зайцу, вызвав дружный смех зрителей. Один раз видели и летягу. Этот вид белки встречается в тайге гораздо реже. Отличается она способом передвижения. Оказавшись в нижней части ствола лиственницы, летяга очень проворно, пользуясь своими острыми коготками, взбегает на вершину, быстро выбирает направление и бросается вниз, набирая скорость при пикировании. Оказавшись на высоте около 2 метров, она начинает горизонтальный полет с подъемом в конце и дотягивает до ствола намеченной лиственницы. Там весь цикл повторяется. Крылья летяге заменяют широкие плоские складки кожи, натягивающиеся между передней и задней лапками, как справа, так и слева. Каждым залетом она покрывает, должно быть, до 50–60 м. в зависимости от высоты лиственницы, с которой ей приходится пикировать. Суслики, или евражки, встречались мне довольно редко, что, вероятно, обусловлено не повсеместным распространением грызуна, роющего норы. Горностаи встречались, но нечасто. Ценный из местных пушных зверьков, серый летом и белый зимой. Остальные из перечисленных зверей — росомаха, рысь, волк, кабарга и снежный баран — мне не попадались в этом году, а все они, за исключением последнего, вообще никогда не встречались. Только снежного барана я видел несколько раз — в 1947, 1953, 1954 году, но убить его мне и тогда не удавалось, хотя я несколько раз пытался это сделать. Видеть шкурки волка и рыси мне удалось в 1940 году, когда знакомый тунгус охотник Иван Громов вез их на факторию в поселок Оротук и по дороге заезжал на базу к нам с Н. Н. Масловым на Урен. Вынужденное безделье, связанное с длительными дождями и ненастьем во время ливней, вызвавших большой паводок, породило у В. И. Орловского лирическое настроение, и он принялся сочинять стихи. Довольно легко сочинялось:Сарапуловская база
Так называли в 1939 году базу Тенькинского разведрайона, находившуюся на левом берегу Теньки в нескольких сотнях метров выше устья впадающей в нее справа Нелькобы. Это место интересно тем, что здесь сливаются две реки, почти равновеликие по длине, по площади водосбора и по водоносности. Одна из них лишь очень немного превосходит по упомянутым величинам другую. Это Тенька. Выше слияния с Нелькобой она течет с запада на восток, а еще выше опять принимает меридиональное направление, как и ниже устья Нелькобы. Последняя имеет то же направление, что и Тенька ниже ее устья, и правильнее было бы считать, что Тенька впадает в Нелькобу, а не наоборот, кактеперь принято. Можно было бы пренебречь тем фактом, что Тенька выше слияния с Нелькобой на несколько километров длиннее ее. Ведь пренебрегли же тем, что Миссури длиннее, чем Миссисипи выше ее устья. Но приоритет в данном вопросе оставили за местными жителями: тунгусами или орочами, кочевавшими в этом районе. Именно они привыкли называть ее Тенькой. Правильное название Теньке, что на их языке обозначает, кажется, локоть, реку, делающую два крутых поворота под прямым углом сначала направо, а потом налево, пренебрегая тем, что нижние отрезки Теньки и Нелькобы лежат на прямой линии и являются фактически одной рекой. База называлась по имени своего строителя. Она была одной из тех, что построил некий Сарапулов лет пять назад. Кроме этой базы, находящейся близ устья Нелькобы, я когда-то успел познакомиться и с другой, которую тоже так называли. Она стояла на левом берегу Бахапчи, выше устья Богусчана и недалеко от Солнечного озера. Гильотинированная Бахапча течет там узеньким немощным ручейком по широкой долине. База была давно уже покинута людьми, пустовала, а зачем и когда были построена, я в свое время не выяснил. Сарапуловская база на Теньке была построена именно для Тенькинского разведывательного района и лет 7–8 использовалась по своему назначению. Еще рекогносцировочная геологопоисковая партия Дмитрия Владимировича Вознесенского с поисковой подпартией Леонида Андреевича Кочеткова-Коффа в 1931 году обнаружила знаковую золотоносность ручьев бассейна нижнего течения Теньки. Поставленная на основании этого разведка обнаружила промышленную золотую россыпь в долине ручья Дусканья.Михаил Георгиевич Котов (1899–1950)
 Геолог. Родился в Томске. Учился в Томском политехническом институте, с 1922 по 1950 г. — в Московской горной академии. Проходил полуторагодичную практику на Алдане. В 1950–1951 гг работал начальником геологоразведки в Средней Азии, с 1951 г, — в Колымском главном приисковом управлении на Среднекане. В 1952 г, — начальник Тенькинской геолого-разведочной полевой партии. В 1955 г. — начальник группы полевых партий, работавших в бассейне р. Кулу. В 1957 г. — в Московском управлении Дальстроя в должности инженера-геолога. Весной 1941 г. назначен главным геологом Охотской экспедиции Дальстроя, а затем, с началом войны — начальником геолого-поискового отдела. В 1946 г. в связи с болезнью вернулся в Москву. Награжден орденом «Знак почета».
Геолог. Родился в Томске. Учился в Томском политехническом институте, с 1922 по 1950 г. — в Московской горной академии. Проходил полуторагодичную практику на Алдане. В 1950–1951 гг работал начальником геологоразведки в Средней Азии, с 1951 г, — в Колымском главном приисковом управлении на Среднекане. В 1952 г, — начальник Тенькинской геолого-разведочной полевой партии. В 1955 г. — начальник группы полевых партий, работавших в бассейне р. Кулу. В 1957 г. — в Московском управлении Дальстроя в должности инженера-геолога. Весной 1941 г. назначен главным геологом Охотской экспедиции Дальстроя, а затем, с началом войны — начальником геолого-поискового отдела. В 1946 г. в связи с болезнью вернулся в Москву. Награжден орденом «Знак почета».
Первые хорошие знаковые пробы золота были получены М. Г. Котовым на притоке Теньки Омчаке, а разведка ручьев Игуменовского, Клина и Родионовского, поставленная на основании знаковой золотоносности, выявленной партией Бориса Ивановича Вронского, обнаружила золотые россыпи, разрабатываемые начиная с 1940,1941–1948 годов приисками Игуменовским, Пионером и им. Ворошилова (верно приисками «Пионер» и им. Ворошилова, а Игуменовский входил в то время в состав прииска «Пионер». — Ред.). Разведка в долине Омчака и его притоков обнаружила крупные россыпи, которые разрабатывались четырьмя приисками, начиная с осени 1941 года, в течение всей войны и значительно позднее. В конце войны был организован и рудник имени Матросова для разработки рудного месторождения. Когда были организованы прииски для разработки россыпей Омчака, база разведрайона была построена там, а Сарапуловская база была покинута в конце 1941 года, так как надобности в ней уже отпала.
Сохатый
В то же лето 1939 года произошла и моя первая встреча с сохатым. Впрочем, встречей ее можно назвать разве только с некоторой натяжкой. Дело в том, что я его увидел издали, на расстоянии не менее 200 метров, тогда как он меня не видел, не чуял и не слышал. Было это, кажется, 31 августа после прошедшего наводнения, когда я заканчивал маршруты по Теньке и готовился к переходу на Детрин. Нужно было найти перевал, пригодный для прохождения лошадей из ручьев, впадающих в Теньку в какой-нибудь из притоков Детрина. Дело осложнялось тем, что мы работали, ведя одновременно глазомерную съемку поверхности, карт у нас не было и поиски перевала по карте исключались. И вот в маршруте по водоразделам одного из ручьев, спустившись в очередную седловину, которая мне показалась более низкой, чем те, которые мы проходили до этого, я подошел к склону ее, чтобы посмотреть крутизну подъема по нему и высоту, думая, естественно, в эту минуту о лошадях, которые должны здесь подниматься. Оказавшись уже на краю седловины, я, наконец, глянул вниз и удивился тому, что у самого подножья подъема на седловину увидел вдруг одну из лошадей, занимавших тогда мою голову. Сходство представшего передо мною зверя с лошадью увеличивалось из-за неверного тусклого света серого пасмурного дня, не дававшего возможности его как следует рассмотреть. Поэтому огромные рога с широкими сошниками я увидел далеко не сразу. Самообман продолжался все же недолго. Тускло блеснули рога, и я узнал, что передо мною совсем не лошадь, а лось-бык. Разумеется, что я совсем и не подумал о том, что неплохо бы было убить этого зверя на мясо, потому что находились они тогда под охраной более сурового закона, чем теперь. Тогда за подобный проступок полагался не денежный штраф, а тюремное заключение сроком на 10 лет. И лицензий на отстрел лосей никому не давали. Свободно убивать их разрешалось только аборигенам края. Этот сохатый оказался не только первым, но и последним. Никогда больше увидеть быка мне не удавалось даже издали. Еще только один раз в следующем же, 1940 году мне удалось увидеть корову и телка. Это уже больше было похоже на встречу, хотя я и стоял неподвижно и только смотрел во все глаза, а звери неторопливо, не теряя собственного достоинства, не видя и не чуя нас, легкой размеренной рысью бежали мимо. Они пробежали очень близко от меня, не более 12 шагов разделяло нас, и я не понимал, почему же ни зрение, ни чутье не подсказали лосихе о том, что рядом человек, и не заставили ее повернуть назад или резко поддать ходу. Эта встреча состоялась в результате стечения ряда счастливых для меня обстоятельств. Стояло дождливое грибное лето, и в том маршруте мы опять набрали грибов — маслят, наполнив ими свои накомарники, и здесь остановились, чтобы перебрать их, выбросить червивые, если они попались. Коллектор и рабочий, сидя на земле, перебирали грибы, а я стоял и курил, ожидая конца выполняемой ими операции; именно потому, что мы не двигались и не производили никакого шума, а ветерок, возможно, тянул в нашу сторону, унося с пути зверей наши запахи, включая и запах табачного дыма, лоси и вышли нам навстречу. Когда они неторопливой рысцой трусили мимо, у меня в руках была двустволка, но я и в этот раз совсем не подумал о возможности выстрела, хорошо помня о запрете. Я только смотрел и ничего не делал, забыв даже о том, что на ремешке у меня висит «ФЭД» и что, пожалуй, можно успеть щелкнуть один или пару кадров. Но, вероятно, именно потому, что я смотрел, а не распылялся, пытаясь в то же время сфотографировать их, я и успел хорошо их рассмотреть. Запомнил безрогую бородатую корову бурой масти и ее маленького сынка, кажется, немного более светлого, чем она. В районах, где приходилось работать, сохатых обыкновенно бывало много. Я постоянно видел следы их пребывания в различных долинах. Это были обычно заломленные, обглоданные вершины кустов тальника, отпечатки их парных копыт, много помета. Не встречались же они нам сами, очевидно, потому, что они очень осторожны и имеют хорошо развитое чутье, слух, зрение. Находясь под ветром, они не только не попадутся идущему человеку, но и почуют его, находящегося в неподвижности. Слух их так же хорош, как чутье. Длинные, поворачивающиеся вокруг своей оси уши их постоянно находятся в работе, прослушивая звуковой фон и выискивая в нем признаки опасности. Врагов у этого зверя много. Вернее, не врагов, а охотников до его вкусного мяса. Кроме человека, это и медведи, и волки, и рыси, и росомахи. Вот природа и побеспокоилась об их безопасности, снабдив их превосходными органами обоняния, слуха и, должно быть, зрения. Впрочем, доказательств отличного качества их зрения я не имею. Мне кажется, что зрение стоит у них на третьем месте после слуха и обоняния. В одном случае на собственном примере, когда я стоял почти на открытом месте, а корова с телком совсем близко пробежали. Близко она меня почему-то не увидела, даже несмотря на то что была совершенно спокойна, никем не испугана и никуда не спешила. Что могло ей помешать увидеть опасность? Второй подобный случай я знаю из рассказа одного знакомого. Тогда тоже была лосиха, и она тоже почему-то не увидела человека, который был перед нею.Комары (гнус)
Самым злым врагом человека и всех теплокровных животных в колымской тайге являются комары. Они страшнее всех хищных зверей, водящихся там: волков, рыси, росомахи, страшнее медведя. Это тем более справедливо, что все упомянутые звери встречаются редко. Все они, кроме медведя, держатся в районах оленьих пастбищ, потому что в других местах им нечем питаться. Комары же докучают человеку и в солнечный полдень, и теплой ночью, и в долинах рек и ручьев, и в густых зарослях тайги, и на вершинах самых высоких сопок, даже безлесых, голых, лишенных растительности. Отдохнуть от них удавалось иногда в ветреный день где-нибудь на открытом месте, в холодную ночь или на солнцепеке в самые жаркие дни. Этого забыть нельзя. Поднимаешься утром жаркого дня на сопку. Солнце припекает все больше, а над головой и вокруг нее звенят, поют комары, вызывая привычный зуд кожи. Поднимать черный тюлевый накомарник, спасающий тебя от них, но мешающий тебе дышать и заставляющий мучиться от жары, нельзя, потому что загрызут. А спасает накомарник мало, потому что очень узок и из-за этого прилегает к ушам, которые уже давно распухли и воспалились от комариных жал, вонзаемых сквозь ячейки тюля, и очень короток — комарам легко забираться под него. То и дело где-нибудь за ухом слышишь громкое зудение комара. Это вызывает особенно неприятное ощущение. Сидишь, бывало, вечером у костра, сварил себе суп, который нужно съесть, прежде чем уляжешься здесь же спать. Вокруг твоей головы вьется и гудит густой рой комаров, несмотря на идущий от костра густой черный дым. Зачерпываешь ложкой, зажатой в правой руке суп, а левой быстро поднимаешь накомарник, чтобы отправить ложку в рот. Но комары не дремлют и действуют еще быстрее тебя. За это мгновение несколько из них успевают впиться в разные участки твоей кожи на лице, а два-три оказываются в ложке с супом. Раздражаешься и нервничаешь по этому поводу, но кончаешь тем, что ешь суп с комарами. Впрочем, я так и не привык к этому. Мне до конца казалось, что они не особенно вкусные. Сильно искусывают они и руки. Особенно достается рукам, когда они вынуждены сохранять малую подвижность, например, делая записи наблюдений в полевой книжке или в дневнике. Первое лето я работал в кожаных перчатках, так и в них комары успевали находить швы и сквозь них вонзали свои длинные жала и напивались крови. Не служит для них препятствием и толстый брезент, в котором они быстро находят просветы между толстыми нитями и сквозь них напиваются крови. Новая белая брезентовая куртка покрывалась алыми пятнами от комаров, которых ты успевал раздавить на себе. Но уши в первое лето страдали у меня больше всего. Я даже пробовал поверх накомарника набрасывать на голову полотенце, чтобы оно защищало уши. Мне казалось даже, что это я придумал удачно, но очень скоро мне пришлось признать, что выдумка моя непригодна. Жарко и без этого полотенца. Трудно заснуть в теплую ночь на открытом воздухе. Спасает в таких случаях тюлевый полог, но у меня его не было, и приходилось обходиться без него. Упакуешь, бывало, как следует лицо, закрыв все подступы к нему, спрячешь от комариных укусов руки, засунув их в рукава навстречу одна другой, и только начинаешь засыпать или только дремать, забываясь, как вдруг тебя пугает громкий страшный писк комара, забравшегося под накомарник и успевшего там взлететь. Очнувшись, ты старательно ловишь и давишь его, а потом опять восстанавливаешь всю твою систему защиты, повторяя все сначала, и часто проделываешь это много раз. Дорого обходится отдых. Устаешь еще больше от этих попыток отдохнуть, поспать. Хорошо, когда можно ходить однодневными маршрутами, возвращаясь каждую ночь домой. Тогда и днем тебя согревает мысль о том, что вечером придешь домой и укроешься от комаров в палатке. Это создает прилив бодрости и энергии, помогающий преодолевать невзгоды. Но если приходится из-за отсутствия транспорта работать многодневными маршрутами, по четыре-пять дней и больше, не возвращаясь в палатку и коротая ночи у костра, тогда остается только мечтать о ветре или о холодной ночи, которые позволили бы хоть немного отдохнуть от кровососов. Но и палатка не очень хорошо спасает от комаров. Перед сном обитатели ее тщательно закрывают входной клапан, стараясь не оставить ни малейшей щели. Затем все приступают к поголовному уничтожению находящихся в палатке комаров, которые при этом стараются спрятаться куда-нибудь в угол, у пола. Затем гасится свеча, и все укладываются спать, не забывая защититься накомарником. А утром, проснувшись, всегда видишь одну и ту же картину. На скатах палатки сидят и дремлют несколько десятков комаров, напившихся нашей крови. Среди них никогда не бывает ни одного голодного, с пустым желудком. Так же, как и людей, комары изводят животных. В теплые ночилошади не могут пастись. Оставаясь голодными, они ищут спасение от гнуса в дыму костра — «дымокура», разведенного специально для них. Нередко можно видеть лошадь, обжегшую свою шерсть при попытке спастись в дыму костра от комаров. Собаки пытаются прикрыть свои голые носы передними лапами, ложась для этого на землю и охватывая лапами морды. Рассказывали очевидцы, что яки, которых в 30-х годах пытались акклиматизировать на Колыме, искусанные комарами, ревели и заходили поглубже в холодную воду Колымы. Этих животных увидеть мне не пришлось, потому что к моему приезду выяснилось, что акклиматизировать их не удается, что им не подходит этот суровый климат. Оставшихся из них в это время резали, и мне раза два удалось их пробовать. Помогают комарам изводить летом в тайге человека и животных оводы, которых в Сибири и на Урале называют паутами. Летом в самый-самый солнцепек они многочисленны и злы. Кусают очень больно. Их, вероятно, больше, чем комаров боятся олени, находя себе спасение от них на наледях. Оленям достается от паутов больше, чем людям, потому что те кусают их не только, чтобы напиться крови, но и, чтобы отложить там свои яйца, из которых выходят личинки — черви, развивающиеся потом до взрослого овода, живя под кожей оленя и питаясь его плотью. Человек, терпящий комариное бедствие, пытающийся утихомирить нестерпимый зуд искусанной кожи, всегда утешает себя мыслью, что эти муки не так уж продолжительны, что комары не живут все лето и почему-то в начале августа, числа 8–10 исчезают, уступая место мошке. Некоторые, даже бывалые и видевшие свет таежники, утверждают, что мошка еще хуже комаров, но в действительности это не так. Мошка досаждает человеку только тем, что залезает в нос, в уши и попадает в глаза, садясь под закрывающиеся веки. Проникает и под одежду. Особенно неприятны ее укусы, когда они приходятся в слизистую оболочку губ, которые от этого сильно зудят и вспухают. Вообще же укусы мошки гораздо слабее комариных. Водится она не повсеместно, как комары, отсутствуя совсем, или почти совсем в некоторых районах. С наступлением темноты она перестает кусать, давая человеку отдохнуть. Наверное, она тоже укладывается спать на ночь. Против нее не обязательно иметь накомарник, можно и отмахнуться от нее веточкой или чем-нибудь. Я слышал, что некоторые якуты делают такую большую кисть из конского хвоста и отмахиваются этим орудием не только от мошки, но и от комаров. Не любит мошка и похолоданий, уходя в случае их на покой. Все это позволяет считать, что мошка далеко не так страшна, как комары, а гораздо более смирна. Появляется она в начале лета, приблизительно одновременно с комарами, все лето ее бывает очень мало, но она очень быстро размножается, когда комары исчезают. Комары появляются во второй половине мая, когда возникают проталины на снегу. На тающем снегу можно часто видеть ползающих и больше замерзших комаров. Эти комары крупные, темно-серые и очень вялые. Кусают вяло, с долгими приготовлениями. Можно десять раз задавить его, прежде чем он, сидя где-нибудь на руке, соберется, наконец, вонзить свое жало. Настоящие комары гораздо более мелкие, чем эти первые, быстрые, легкие, появляются лишь к началу июня и потом два месяца своей жизни работают, как следует, отравляя жизнь в тайге. В долине Колымы среди комаров преобладают крупные рыжие. В других районах колымской тайги я таких комаров не видел. Там везде были только темно-серые. До сравнительно недавнего времени, то есть почти до конца 50-х годов, человек не имел в своем распоряжении совсем никакого средства в виде мази или жидкости, отпугивающей или отгоняющей своим запахом или вкусом комаров и других кровососов. Было достойно удивления, что такого средства нет и в середине XX века, как не было его и в древности. И вот только в 1956 году у нас на полевых работах стали применять впервые действенное противокомариное средство, которое называется «диметилфталат». Немного позднее появилось и другое, совершенно такое же или очень похожее, приготовленное тоже на глицерине, как и первое, но называющееся уже «репудин». Страница геологического отчета Виктора Володина о работе Таборной геологической партии летом 1939 г. в районе месторождения «Бутугычаг» на ключе Ачча.
Страница геологического отчета Виктора Володина о работе Таборной геологической партии летом 1939 г. в районе месторождения «Бутугычаг» на ключе Ачча.
Это было похоже на наступление новой эры в тайге. Человек наконец, становился хозяином. Но в те далекие довоенные годы ничего подобного не было и не предвиделось. Об этом можно было только мечтать тогда и еще много лет позднее, продолжая страдать от кровососов, позволяя им питаться собственной кровью. Мы и мечтали, и возмущались тем, что наша отечественная химическая промышленность ничего не делает для того, чтобы помочь нам, работникам дремучей тайги, в этом отношении. Много раз вспоминали ходульное выражение: «забота о живом человеке».
Ачча
Еще до начала сплава по Теньке и до постройки для этой цели плота, когда мы стояли на устье Бутугычага, А. И. Чащин как-то сообщил мне, что в одном из первых притоков этой речки, ручье Ачча, в речных отложениях обнаружено весовое содержание оловянного камня. Не откладывая дела в долгий ящик, я сразу же отправился туда с Орловским и Парфенюком. Без всякого труда придя на место, быстро нашли и коренной источник, питавший касситеритом речные отложения. В самой южной части крутого левого склона глубокой долины был виден коренной выход гранит-порфира, прорывающего здесь туффиты. Гранит-порфир был рассечен параллельными тонкими прожилками кварца с касситеритом (оловянной рудой — Ред.) на расстоянии 1–2,3–4 см один от другого. Они составляли два параллельных прожилка (геологический термин. — Ред.), располагавшихся почти под прямым углом между собой. Это было типичное оруденение штокверкового типа. Вскоре после этого мы еще раз побывали на этом месте, спустившись сюда в конце маршрута с соседнего высокого водораздела, сложенного ороговиковаными туффитами, обогащенными пирротином. В этот раз мы детально осмотрели и описали обнажение с оловянно-рудным проявлением, взяли образцы и пробы, осмотрели и прилегающие места. Недалеко от этого обнажения был найден еще один коренной выход гранит-порфира, очевидно, принадлежащего тому же самому интрузивному телу. Мы особенно радовались тому, что наш предшественник Л. А. Кочетков-Кофф, опробовавший на 8 лет раньше этот ручеек, назвал его Ачча, что по-тунгусски обозначает «нет», а вот у нас теперь тут кое-что было. Было оловорудное проявление, хотя и не обещавшее промышленного скопления. Правда, я понимал, что, называя так ручей, Леонид Андреевич имел в виду, что в нем нет золота, а у нас было тоже не золото, а олово, но все же было приятно найти и непромышленное проявление полезного ископаемого. Я побывал в этом месте и в третий раз, когда в начале сентября на Бутугычаг приехал Борис Леонидович Флеров, главный геолог только что организованного Тенькинского районного геолого-разведочного управления, которому уже была передана наша партия. Раньше он был главным геологом Юго-Западного управления, хотя и числился лишь начальником геолого-поискового отдела. Я в дни его приезда проделал длинный маршрут с выходом на рудник «Бутугычаг» к брату и там застал Б. Л. Флерова. Приехал он специально, чтобы инспектировать мою партию. Добрался до рудника он уже не на самолете, а на грузовике по только что проделанной дороге, еще очень плохой, но уже пропускавшей автомобили. Я и повез его на Аччу, так как ничего другого показать не мог. Доехали мы с ним благополучно до поворота дороги с ручья Террасового на ручей Подумай, то есть недалеко за аэродром, и оттуда сделали быстрый марш-бросок, срезая невысокие водоразделы и двигаясь вдоль подножий высоких сопок. Вел Б. Л. Флеров. Он ходил лучше меня. Но оказалось, что мы впустую проделали этот тяжелый путь, так как на месте уже ничего нельзя было увидеть. Большой паводок поработал и здесь, перепахав долину ручья. Русло ручья, пролегавшее раньше у левого склона долины, теперь располагалось в средней ее части, а старое было полностью завалено галечником, валунами и другими рыхлыми отложениями ручья. Коренной выход гранит-порфира исчез под завалившими его рыхлыми отложениями ручья. Пришлось нам возвращаться, так ничего и не увидев. До рудника добирались тем же путем, затратив на это остаток дня и весь вечер. Флеров шагал все еще быстро, так же, как и туда. Мне же было, по-моему, труднее. Я заметно устал. И плелся сзади. Но нам повезло, так как на аэродроме удалось дождаться автомашины и не пришлось тащиться оставшиеся 10 км на своих усталых ногах. Та же Ачча вызвала еще раз брожение умов через год. Осенью следующего года, вернувшись с полевых работ, я слышал рассказ Виктора Тихоновича Матвеенко, начальника геолого-поискового отдела, о том, как разведчики или, кажется, Валентин Иванович Буриков, привезли оттуда образцы жильной породы с касситеритом и вели, как он выразился, пляс вокруг привезенных образцов. А ему пришлось достать соответствующие образцы из моей коллекции и показать им, чтобы они стали спокойнее.Палатка
В последний день, проведенный нами на устье Бургагы, во время длинного дождя, вызвавшего большой паводок мы, то есть я, Орловский и Парфенюк, решили соорудить палатку для маршрутов, так как в сентябре ночевать в шалашах, прячась в них от дождя, довольно неуютно. Такая палатка нужна, конечно, была нам давно, но сделать ее мешало, прежде всего, отсутствие подходящего (да и неподходящего) материала, времени на ее изготовление и, главное, нам казалось, что сделать ее не так уж просто. Казалось, что это более сложное дело, чем оно есть в действительности. Но во время вынужденного сидения под дождем мы, наконец, решили, что ее можно «слепить» из пяти простыней и матрасной наволочки, которые у нас были. Сначала мы сшили простыни и, соединив их, получили крышу палатки. Затем, когда перестал, наконец, лить дождь, мы при помощи веревок растянули то, что получилось, между деревьями и пришили к этому остову палатки пятую простыню, которая составила часть задней, вертикальной ее стенки. А из матраса сделали недостающие части задней стенки и нижние вертикальные полы палатки. Передней стенки с дверным клапаном мы решили не делать, так как совсем уже не было для этого материала, и, главное, мы решили, что она не нужна потому, что, во-первых, палатка будет очень мала и в ней смогут поместиться только люди, а печку поставить будет некуда. А, во-вторых, без передней стенки палатка нам казалась просторнее, так как каждый мог входить непосредственно на свое место в ней и выходить так же наружу, минуя перемещения вдоль передней стенки, чтобы достигнуть дверного клапана. Палатки геологов шили из подручных материалов: скатертей, простыней и т. п. Геологическое снаряжение, обувь, рюкзаки, одежда, с точки зрения современного человека, были не просто аскетическими, а убогими. Фото 40-х гг. XX века.
Палатки геологов шили из подручных материалов: скатертей, простыней и т. п. Геологическое снаряжение, обувь, рюкзаки, одежда, с точки зрения современного человека, были не просто аскетическими, а убогими. Фото 40-х гг. XX века.
Генеральное испытание палатки прошло само по себе вскоре после того, как мы ее сшили. Когда, сделав маршруты близ устья Бургагы и в ее нижнем течении, мы отправились в верхнее течение ее, откуда нужно было перевалить на Детрин в ручьи Турист, Мечты, Лесные братья, мы, наконец, нашли низкую седловину, через которую можно было пройти с вьючным караваном, и поставили там палатку, потому что наступил вечер и пошел дождь. Утром мы не пошли дальше из-за того, что мокрая палатка обмерзла и была засыпана снегом, а потом опять начал моросить дождь. Это продолжалось еще две ночи и день, которые мы проводили, лежа в палатке. А мы — это я, Парфенюк, Орловский и рабочие Евпанешников и Сафронов. Палатка хорошо спасала нас от дождя, хотя было тесновато. Можно было, сохраняя неподвижность, сидеть и лежать в ней. От холода спасал костер, разведенный против открытой стороны. Это сидение под дождем памятно тем, что за эти два дня было съедено огромное количество галет. Их было во время выхода в маршрут по подсчетам, кажется, Парфенюка 300 штук, и они занимали целый рюкзак. Все единодушно приписывали уничтожение львиной их доли Парфенюку, который действительно жевал их непрерывно, предварительно поджаривая их у костра или подогревая на плоской каменной плитке, нагретой у костра. Сам А. Н. Парфенкж не оспоривал, что любит покушать, и по этому поводу даже рассказал, как однажды, еще до службы в Красной Армии, когда он работал на рыбных промыслах на Белом море, ему где-то пришлось долго оставаться одному и несколько дней голодать из-за отсутствия пищи. Потом, когда привезли хлеб, а его было 54 кг, он набросился на эту пищу и разделался с ней за 9 дней. Получалось, что он съедал в среднем ежедневно по 15 фунтов. Мы ему не верили, а он клялся, что это правда. Рассказывал, что хлеб ему привезли белый и черный, и что он жарил на растительном масле гренки то из белого хлеба и ел их с черным хлебом, то, наоборот, для разнообразия жарил гренки из черного хлеба и тогда ел их с белым. Хотя эпизод с галетами и подтверждал вероятность рассказанной Парфенюком хлебной эпопеи, мы все принимали это за анекдот и не верили ему. Сам Парфенюк по своей комплекции был вовсе не огромный и не толстый, а скорее небольшой, ниже среднего роста и ниже средней упитанности или даже худощавый человек. Мне было досадно, что произошел такой случай, когда уже кончилось лето, а нужно было выполнить еще кусок работы и теперь приходилось возвращаться на свою стоянку за галетами. Я, конечно, винил себя в том, что допустил такой вредительский акт со стороны Парфенюка, хотя предусмотреть и предотвратить такой случай было невозможно или очень трудно. Я был убежден, что он проделал это преднамеренно, думая, должно быть, что это остроумная выходка. От стоянки мы сделали маршрут с выходом на рудничный поселок Бутугычаг. Там встретил я Б. Л. Флерова, который рассказывал мне, брату и его жене о том, что уже подписан приказ об организации нового Тенькинского районного геолого-разведочного управления, в которое переведена и моя партия. Уже чувствовалось, что прошло лето, что наступило новое время года. Чувствовалось и приближение холодов и ненастной погоды. Помню и сейчас, как мы выходили в первый маршрут к перевалу, из которого вынуждены были вернуться из-за галетной диверсии А. Н. Парфенюка. Было ясное солнечное утро начала сентября, когда мы собрались выходить. Помню, наварили компота из красной смородины и пили его перед выходом. Уже выйдя, я увидел, что по небу потянулись перистые облака — верный признак надвигающегося циклона — дождя и непогоды. Этот прогноз полностью подтвердился дождями на перевале с галетной диверсией.
Гуси
Ненастье наступило сразу же после нашего выхода из рудничного поселка, в первую же ночь. Утро следующего дня было дождливое. Опять мы радовались тому, что сшили себе палатку, и поэтому можем в ней, а не под открытым небом, встречать ненастную погоду. Летели гуси. Наша палатка стояла на седловине в истоках ручья Днепропетровского на гусиной трассе. Гуси шли из долины Детрина по Вакханке и ее левым притокам, обходя с юго-запада Бутугычагский гранитный массив и частично переваливая через него. Гусей было много, и была, конечно, реальнейшая возможность убить парочку или даже больше, но я, к стыду своему, осрамился, расстреляв все свои патроны, не убив ничего. У меня довольно быстро опустел патронташ, когда гуменники и казарки шли довольно высоко, а когда они пошли пониже, действительно налетая на выстрел, у меня оставались лишь считанные патроны, которые я все до одного израсходовал тоже впустую, продолжая все так же позорно мазать. Не везло мне. А когда мне стрелять было уже нечем, гуси обнаглели и шли уже совсем низко, чуть не задевая своими брюхами вершины низеньких лиственниц. Было досадно, и не утешало, а наоборот, было еще досаднее, что так же, как и я, позорно мазал и А. Н. Парфенюк, который тоже, израсходовав все свои патроны, не убил ни одной птицы. А флегматик В. И. Орловский в это время дремал или просто валялся в палатке, накапливая энергию. У меня ружье было того же калибра, что и у него, но он мне не дал ни одного патрона, когда я у него их попросил. Он заявил, что гуси его не трогают, ну и он их не будет трогать — пусть себе летят, а патроны ему, дескать, нужны самому. Он только не мог объяснить, для чего. Правда, потом он все же дал мне несколько патронов, но и эти патроны я израсходовал впустую, когда налетели очень близко гуси во время нашего спуска в долину Детрина и утром следующего дня, когда мы уже с тем же Орловским, который теперь тоже заболел охотничьей страстью, подкрались к берегу большого озера в долине Детрина, в котором плавала большая стая гусей. Но они плавали и сидели за пределами выстрела. Мы стреляли по взлетающим гусям, летящим на нас после того, как мы потревожили стаю, и вновь не убили, и ни с чем пришли на свою стоянку в устье ручья Мечты. Непростым делом оказалось убить гуся. Как оказалось потом, наши патроны были непригодными для этого, так как были неправильно снаряжены.Лебеди
Наконец, полевые работы были закончены, и я вскоре выехал с Бутугычага в поселок Иганджу, где месяц тому назад разместилось вновь организованное районное геолого-разведочное управление, которому теперь подчинялась моя полевая партия. Все остальные работники партии кроме меня, были в соответствии с распоряжением Б. Л. Флерова отправлены в это самое управление раньше, а рабочие уволены и переведены на работу на рудник. На Иганджу раньше меня поехали А. И. Чащин, А. Н. Парфенюк, В. И. Орловский, В. Т. Рукас. По совету Флерова я отправил с ними одну из наших полевых палаток, так как в новом управлении, созданном на голом месте, жить было негде. Увезли они и один из наших полевых ящиков, в который была уложена часть нашей коллекции. Мне не приходило в голову, что это может вызвать какие-то возражения рудничного начальства, потому что делал я это не только с ведома, но и, можно сказать, по распоряжению главного геолога. Но, несмотря на то что эти вещи и палатка, и ящик были присланы на рудник вместе с другим полевым снаряжением из Юго-Западного горнопромышленного управления специально для полевых работ нашей партии, теперь оно почему-то принадлежало руднику, которому, как оказалось, я должен был его сдать и не имел права увозить его в новое управление. Из-за этого возник конфликт с рудничным начальством. С меня потребовали возвращения имущества и не выплатили зарплату. Я был вынужден вскоре, то есть перед днями празднования Октябрьской революции, съездить еще раз на Бутугычаг, сдать им палатку и ящик. Заодно провел праздничные дни у брата. Сходил с ним на охоту за куропатками, на устье ручья Террасового. Но это было позднее, а в середине октября, выехав с рудника на попутном грузовике на Иганджу, я к вечеру прибыл к паромной переправе через Детрин. Мост здесь еще не строили, потому что только первый год действовал здесь летний автопроезд, дорога еще только строилась, была совсем узкая, а переправа с «паромом-самолетом» вполне удовлетворяла грузооборот. Мы прибыли неудачно, потому что в это время производился ремонт одного из причалов парома, того, который был на противоположном берегу реки. Пришлось холодную октябрьскую ночь коротать на берегу реки без костра. Немного спасали от холода полушубок, валенки, шапка и рукавицы, но ежиться от него приходилось крепко. Возле переправы были кучка сена, на которой дремали попутчики, а я пытался задремать в кузове, удивляясь сквозь полусон, откуда и почему так долго до меня доносятся и как бы преследуют меня заунывные трубные звуки лебединой песни. Долго-долго у меня над головой стояли тягучие, но звонкие звуки серебряных труб и почему-то не затихали, умолкая вдали, как всегда бывает, а оставались все время вблизи и звучали все также звонко. Но, наконец, до сознания дошло, что это стая лебедей сидит где-то совсем близко на водной глади холодных струй Детрина. Открыв глаза и поднявшись на ноги, я увидел пламя двух костров, один из которых пылал на противоположном берегу у ремонтируемого причала, а другой двигался по реке то в одну, то другую сторону, ярко отражаясь в воде. Я понял, что это дорожники, вероятно, те, которые ремонтируют причал парома, «лучат» рыбу в прозрачных в водах Детрина. На носу лодки в специально устроенной проволочной корзине, нависая над водой, горит небольшой костерок, освещая прозрачные воды реки до галечногодна и спящую рыбу, неподвижно стоящую в струях воды. Один человек, сидя на корме лодки, шестом медленно подталкивает ее против течения, а другой, стоя на носу, выбирает мишень и старается попасть острогой в рыбу. Лебеди действительно сидели на реке. Когда лодка приближалась к ним, они взлетали, освещаемые костром, и белели на темном фоне другого берега реки. Они не улетали далеко и садились здесь же на воду. Утром наш грузовик переправился и часа через три прибыл на Иганджу.Палаточный городок
Иганджа был небольшой палаточный поселок, приютившийся на правом берегу одноименной реки на 92-м км Тенькинской трассы. Деревянных построек здесь совсем мало. Это были столовая, магазин и четыре маленьких дома, построенные дорожниками, а теперь занятые нашим начальством, женщинами и некоторыми из семейных работников. Была еще баня. Большая часть людей жила в палатках. Палатки были большие (5×10 м) и маленькие (З×4 м). И тех и других было примерно по полдесятка. На улице, состоящей из ряда палаток и вытянутой вдоль берега реки, стояла на каркасе и наша палатка, в которой я и поселился 17 октября. К северу от нашей палатки стояла еще только одна такая же маленькая палатка, в которой жил недавно вернувшийся из отпуска геолог Александр Алексеевич Аврамов с женой Вандой Адамировной. С другой стороны от нашей палатки стояли подряд четыре большие палатки, из которых в самой большой были бухгалтерия, спецчасть и «золотой кабинет», а остальные были жилые. Дальше за палатками стояла баня, а еще дальше на отшибе, но не в ряду палаток, а как бы запирая улицу, стоял грубо сколоченный, больше похожий на барак таежного типа, чем на другие дома, дом начальника нашего управления Александра Михайловича Фиша. Можно сказать, что по сравнению с этим домом все остальные, построенные хорошими плотниками-дорожниками, радовали глаз. Против первой из больших палаток, стоявшей рядом с нашей перпендикулярно этой палаточной улице, протягивалась другая улочка из нескольких деревянных построек. Первой из них на расстоянии 5–6 шагов от упомянутой большой палатки, в которую я вскоре переселился и прожил в ней до начала апреля, стояла большая столовая, построенная дорожниками, а теперь служившая нам. Вход в нее располагался с ее узкой стороны, обращенной к нашим палаткам. Дальше стоял жилой дом, затем магазин и еще один жилой дом. Еще два жилых дома стояли против первых двух, в 50–60 метрах от них к югу. Все четыре домика были маленькие, одно- и двухквартирные. Эта улочка своим продолжением выходила на автодорогу, которая соединяла тогда рудник «Бутугычаг» с поселком Палаткой — тот стоял на так называемой Центральной трассе. Нашу дорогу тоже никто не называл дорогой. Все вместо этого слова говорили «трасса», хотя большинство знало, что это неправильно, так как это слово вовсе не синоним слова «дорога». (Слово «трасса» использовалось вместо слова «дорога» по причине переноса в обиходную речь пунктирного изображения автопролазов, а затем автопроездов на картах Дальстроя до введения в строй дорог и прижилось, став синонимом. — Ред.) Дорога, или Тенькинская трасса, как ее именовали официально, пролегала приблизительно параллельно берегу Иганджи на расстоянии 100–120 метров от нее. Там, где она была ближе всего к нашему поселку, она круто поворачивала направо, удаляясь от поселка, и начинала круто подниматься к перевалу. Это именно здесь был страшный спуск с перевала, где я проезжал накануне 1 мая и где на выступах скалы белели дощечки, кричавшие об опасности и взывавшие к осторожности. Здесь же была площадка, заваленная крупными глыбами взорванной породы, которую мы объехали, грубо нарушая все правила техники безопасности. С этой же площадки весной следующего года, то есть когда мы жили в этом поселке, свалился, кувыркаясь к подножью сопки, грузовик, оставивший после себя след из битого стекла. Тогда погибли, помнится, 3 человека, ехавших в кузове. Шофер как-то уцелел, хотя трудно себе представить, как это ему удалось. Долина Иганджи на участке, где стоял поселок, и выше была широкая, с широкой наледной поймой и террасами на левой, более пологой стороне. Правый склон был крутой. Ниже поселка долина резко сужается, так как река пересекает здесь твердые породы. В этом районе исчезают террасы, склоны становятся крутыми, скалистыми. Узкую долину замыкает наледная пойма. Выше поселка в 2–3 км долина Иганджи раздваивается. Влево, то есть на северо-запад (на юго-запад. — Ред.), продолжается долина собственно Иганджи, а на север или северо-восток (северо-запад. — Ред.) — долина Беренджи. В первой из долин сохраняется характер правого склона, который остается крутым. Таким же становится и левый склон долины. В долине Беренджи тоже сохраняется характер левого склона долины Иганджи, сравнительно пологого и осложненного террасами, тогда как правый склон делается похожим на правый склон долины Иганджи. Приблизительно в одном километре выше поселка по течению реки автодорога пересекает ее по мосту. В середине этой лесной полоски между дорогой и берегом реки стояла наша радиостанция, соединявшая нас с Большой землей. В южном конце поселка, вернее, к югу от него развернулось строительство двух больших одноэтажных домов и здания управления. В нашей палатке жил прораб А. И. Чащин, и по доброте его два места были заняты прорабами-поисковиками Мирским и Спиваком. Второй из них был когда-то учителем. Он любил копаться в печке, повторяя: «15 лет по-печному, и вся деревня этим занимается». Он происходил из забайкальских казаков и часто рассказывал о быте и нравах забайкальских и приамурских казаков. Во второй половине октября в этих краях стоят уже большие морозы, нередко достигающие 30–35 градусов. Умываться же приходилось из проруби обжигающе холодной водой. Делать это нужно было проворно, не мешкая и, что очень важно, нельзя было на морозе вытираться полотенцем, особенно боялись этой операции руки, которые после этого начинали мерзнуть как следует. Это связано с тем, что вытертые охлажденные водой руки отдают остатки тепла на испарение увлажняющей их воды и обжигаются морозным воздухом, а невытертые защищены слоем воды, температура которой выше нуля. Меня поразило в первые дни приезда, что здесь пили, пели и плясали по вечерам гораздо больше, чем в других местах, где я успел до этого побывать и где по сравнению с этим поселком, можно было сказать, царил сухой закон. Особенно это касается рудника «Бутугычаг», где у начальника рудника Н. И. Карпенко была норма выдачи спирта людям — 30 граммов на человека. Он писал резолюцию на бумажке: «В магазин. Выдать по 0,03 за н/р», то есть за наличный расчет. А здесь было не так, и поэтому по вечерам и особенно под выходные дни неслись песни. Особенно запомнился мне вечер в день моего приезда, пришедшийся как раз в канун выходного дня, который был тогда не в воскресенье, потому что тогда действовала еще шестидневная неделя, введенная в 1931 году. Шум многократно усиливался тем, что все песни и другие звуки раздавались в палатках, а не где-нибудь за стенами, и поэтому свободно разносились по всей площади, занятой поселком. К голосам веселящихся в разных концах поселка присоединялся пестрый хор патефонов, которые громко на весь поселок и на все голоса кричали и пели. Все это усиливалось еще лязгом железных печек, труб, котелков и грохотом фанерных и деревянных ящиков, столов и табуреток, на которых наигрывали, как на ударных инструментах. Очень возможно, что у меня осталось несколько, а может быть, даже и сильно искаженное воспоминание об этом вечере, первом вечере в новом поселке, где я прожил полгода, потому что совсем недалеко от нашей палатки стояла особенно шумная палатка шоферов, в которой именно играли на ударных печках и ящиках, вероятно, кочергой, и громко пели, вернее, кричали. Особенно запомнился один голос, весело или даже, скорее, радостно громко выкрикивавший на весь поселок какие-то нелепые бессмысленные слова: «Алямс дрим пампули алямс алямс». Другие участники музыкального ансамбля ему как-то подтягивали. У меня почему-то было такое впечатление, что и поет, то есть кричит и стучит кочергой по чему попало, один и тот же весельчак. Возможно, что шум резко сократили бы, если бы кто-нибудь уговорил этого весельчака успокоиться или как-нибудь отвлек его от этого занятия, но этого не произошло, и шум продолжался, пока он не накричался досыта. В своей маленькой полевой палатке я прожил недолго, так как мне нужно было получить зарплату на руднике, а для этого нужно было сдать палатку, съездив для этого на рудник. Проделав эту операцию и вернувшись после дней Октябрьской революции в поселок, я поселился уже в большой палатке. Орловского, Чащина и Рукаса уже в поселке не было, так как их отозвали на новый разведочный участок — Купку, а на камералке у меня остался только Парфенюк, который поселился в одном со мной отсеке палатки. Жил там и третий жилец — прораб партии Павел Якушев. Якушев — коренастый, рыжий или скорее соломенно-желтый человек лет 20–23, одновременно с Парфенюком и Орловским демобилизовавшийся из армии. Наша палатка размерами 10×5 м, как и другие такие же жилые палатки, была разделена тесовыми перегородками, едва достигавшими высоты 2 м, следующим способом: вдоль всей палатки протягивался коридор шириной примерно 1,4–1,5 метра; остальная площадь была разделена на узкие, вытянутые вдоль коридора кабинки, отсеки или, как их называли некоторые, стойла. В коридоре круглые сутки без перебоев пылали две большие сварные печи из толстого железа. Размеры их позволяли закладывать в них толстые поленья длиной до 1 метра. Они стояли на железных ножках на высоте 30–35 сантиметров над ящиками с песком. Ниже печек была всегда отрицательная температура, хотя мы этого не чувствовали, так как ходили в валенках. Это позволяло хранить куропаток, припасенных в замороженном виде с охоты и брошенных под топчаны, на которых мы спали, столько времени, сколько было нужно. Объем холодильника нас не ограничивал. Отчеты писали в этих же кабинках, где жили, работая на неоструганных, грубо сколоченных столах, стоявших на козлах. В палатке было нежарко, несмотря на усиленную топку. Температура вряд ли поднималась выше 15 градусов тепла на высоте 1–1,5 м над полом. Нулевая изотерма лежала где-то на высоте около 0,4–0,5 м над полом. Во второй половине ноября и в декабре, когда морозы стали нередко превосходить минус 50 градусов, в палатке стало еще прохладнее. Начальство забеспокоилось, потому что к нему стали ходить жаловаться. Принялись утеплять палатку. Для этого ее обтянули изнутри портяночным сукном, прибиваемым гвоздями к каркасу. Кроме того, вертикальные стенки ее, высотой до 1,8 метра, обили горбылями и обложили снежными глыбами. Стало гораздо теплее, но дневной свет, ранее проходивший через крышу и стенки, теперь совсем не мог пробиться в палатку. Некоторое время мы пытались работать при электроосвещении, но от этого пришлось отказаться из-за перебоев в работе электростанции. Пришлось испортить палатку, прорезав в ней дыры-окна, в которые были вставлены остекленные рамы. Наступил, наконец, период более или менее нормальной жизни и работы. В конце ноября шлифовальщик Иван Крюков вдвоем с промывальщиком Григорием Кустовым построили хорошую просторную избу, в которой разместились шлифовальная мастерская, петрографический, минералогический и золотой кабинеты. Мне и сейчас приятно вспомнить время, когда появился у нас этот сравнительно просторный, теплый, светлый и чистый дом, в котором приятно было иногда работать, отдыхая от постоянного холода. В этом домике мы и встретили новый, 1940 год.Трагедия
24 декабря трагически погиб бухгалтер нашего управления, лыжник, финн, родившийся в Ленинграде, привезший собственные лыжи из дома. Казалось бы, что ленинградец, занимающийся лыжным спортом, да еще финн по национальности, должен был быть знаком с зимой, морозами и, следовательно, иметь хоть какое-то представление о Севере; должен был бы понимать, что на Севере недопустимо легкомыслие. Но в нем, должно быть, победил именно бухгалтер. Впрочем, история была похожа на самоубийство. В этот день были выборы в областные, районные и сельские Советы. Куда выбирали мы, я не помню, но у нас ни областного, ни сельского или поселкового Советов тогда не было. Вероятно, мы выбирали только в районный Совет. Поселок наш был совсем маленький, и народа в нем было очень мало. Всех избирателей сагитировали явиться на избирательный участок к его открытию. Почему-то это считалось чуть ли не наиболее ярким проявлением патриотизма. Сделать так, чтобы все избиратели проголосовали в первый час или даже в первые минуты работы избирательного участка, было легко, потому что почти все жили в палатках-общежитиях, где они были сосредоточены в немногочисленных точках. Семейных людей, живших в маленьких палатках или в домах, было мало. Все мы проголосовали в шесть часов утра с минутками. Проголосовал и бухгалтер, о котором начат это рассказ. По-видимому, не захотев продолжить прерванный сон, он решил проделать лыжную прогулку или поход в одиночку к своему приятелю, тоже бухгалтеру, жившему и работавшему на разведочном участке всего в 12 км ниже по течению Иганджи, на ее берегу. Казалось бы, что такая прогулка на лыжах продолжительностью при не очень торопливом движении в 1,5–2 или от силы 3 часа ничем грозить не могла, тем более что мороз был совсем не свирепый, не выдающийся. Было не больше минус 40–42 градусов. Я тоже в то утро пошел на охоту и в ту же сторону, куда пошел бухгалтер. Но я предварительно дождался рассвета. Только вечером начальник нашего управления А. М. Фиш узнал о том, что один из бухгалтеров ушел утром на разведочный участок и до вечера не вернулся. Он позвонил по телефону на тот участок и выяснил, что наш лыжник туда не приходил, то есть что он до цели своей не добрался. Немедленно была организована группа лыжников из 6 или 7 человек, которых сразу же отвезли на автомашине на тот же разведочный участок, откуда они двинулись навстречу бухгалтеру. Вскоре они нашли все следы трагической гибели человека и его труп. Прежде всего, они нашли воткнутые в снег лыжи, от которых в обратную сторону вдоль лыжных следов тянулись следы человека без лыж и следы лыжных палок. Видно было, что человек шел, опираясь на палки. Время от времени попадались следы, где человек падал или садился отдыхать. На таких местах попадались сломанные и брошенные незажженные папиросы. У человека не было спичек. Эти остановки дальше делались все чаще, и, наконец, нашли и труп его, окостеневший на морозе. В пустом заброшенном разведочном бараке на половине пути его к цели нашли следы его пребывания там. Он, по-видимому, хотел погреться, но в пустом промороженном бараке было не теплее, чем на открытом воздухе. Он не мог развести огня в печи, так как не было спичек, которые, может быть, он и искал в бараке. Потом, должно быть, тоже пытаясь согреться, он выпил маленькую бутылочку спирта, захваченную, вероятно, чтобы отметить встречу с приятелем. Из барака он пошел дальше на лыжах и затем, когда ноги у него уже совсем замерзли и, должно быть, когда он перестал их чувствовать, снял лыжи и попытался идти без них, опираясь на палки. Я видел его, когда его привезли на санях назад следующим вечером. Нетрудно было с первого же взгляда определить причину его гибели. Это была одежда. Он оделся так, как одевались тогда лыжники в его родном Ленинграде: на нем были свитер и молескиновая (из «чертовой кожи») куртка и такие же брюки, а на ногах ботиночки кожаные. На голове только трикотажный шерстяной подшлемник. Только руки его были как следует — в больших овчинных рукавицах с «крагами». Это, конечно, и поддерживало его до последней минуты жизни, давая возможность держать в руках лыжные палки. Глядя на него, я вспоминал распространенное заблуждение, будто замерзающему человеку становится тепло, что он засыпает, будто согревшись, и потом замерзает. Это, должно быть, не так. Замерзший лыжник окостенел, лежа на правом боку. Правая рука, прижатая к земле, была вытянута к коленям полусогнутых ног. Левая рука держалась за правую выше ее локтя. На лице у него застыло выражение, показывающее, что человеку нестерпимо холодно.Беглец
В тот же день выборов, когда трагически погиб бухгалтер-лыжник, наша бухгалтерия понесла еще одну утрату. В середине дня вдруг распространилось известие, что другой бухгалтер, Федяев, пытался бежать из поселка в связи с тем, что он был почти разоблачен как беглый заключенный. Еще в первые дни нашего приезда в поселок Иганджу мне этот человек показался странным. Почему-то запомнилось, как я, Рукас, Чащин и Парфенюк стояли на берегу Иганджи между палатками. Подошел к нам Федяев, а потом явился кто-то с фотоаппаратом и хотел снять нашу группу, но Федяев постарался избежать того, чтобы попасть в кадр, и это ему удалось. Странное впечатление произвел он и на нашего промывальщика бывшего конокрада Василия Рукаса. После разговора с ним Рукас удивлялся вслух при мне: «Не пойму, что за человек? Бухгалтер расчетной части, как будто интеллигент, договорник, а всех блатных в Харькове знает!». Мне очень странным показалось и то, что на левой руке у него вместо большого, указательного и среднего пальцев были обрубки, оставшиеся, несомненно, после сильного удара топором, нанесенного правой рукой. Странно мне было, что договорник, а я почему-то думал, что он договорник, может быть членовредителем-саморубом. В палатку, где находился избирательный участок, он явился, как и все другие, задолго до рассвета, то есть тогда же, когда и я был там, и я видел, что между ним и председателем избирательной комиссии П. Е. Станкевичем происходил какой-то разговор, связанный, как я понял, с тем, что у Федяева был не в порядке паспорт. Тем не менее мне странно было услышать об этом в столовой за обедом и узнать, что этот человек вдруг попытался бежать из поселка, выехал на попутной машине в сторону Палатки и уже схвачен за перевалом по дороге. Когда это произошло, у нас вдруг появилось много доморощенных Шерлоков Холмсов, которые стали заявлять, что они давно о чем-то там догадывались и что-то подозревали. Таким умным в первую очередь оказался наш инспектор спецчасти, которому в действительности нужно было быть умнее. Ведь он был чуть ли не самым ответственным среди тех, кто принимал на работу беглеца без документов, да еще явного саморуба-членовредителя, не желавшего когда-то работать в лагере. Именно он тогда хлопал ушами. А беглеца, как оказалось, приняли на работу прямо с улицы, чуть ли не совсем без документов. За несколько дней до этого он бежал из лагеря. Карта-схема районов работы геологических партий Виктора Володина.
Карта-схема районов работы геологических партий Виктора Володина.
1940
Вторая весна
Наступила весна 1940 года — вторая весна на Колыме. Припекало солнце, таял снег, оживала тайга. Я закончил отчет о работе на Теньке и занимался подготовкой к новым полевым работам, читая немногочисленные отчеты по району предстоящих изысканий. Исследовать предстояло около полутора тысяч квадратных километров на правом берегу реки Кулу в бассейне рек Неча и Хатыннах. Путь туда намечался сплавом по рекам Берелех, Аян-Юрях и Колыма. Но это все еще только предстояло, а пока еще шла весна. Я жил уже не в палатке на берегу Иганджи, а в недавно построенном доме, куда переселился в начале апреля и на котором еще не было крыши. Для того чтобы ее сделать, нужно было еще наладить станок для производства финской стружки, изготовить достаточное количество ее, а уж потом строить крышу. Но этого всего пока еще не было, не было даже и стропил на нашем доме, когда начались майские дожди. Начался потоп в доме, текло с потолка, и каждый из простыней сооружал теперь пологи над своим топчаном. Под струи, текущие с потолка и с тентов, подставляли тазы, ведра, кастрюли и консервные банки. Над домом ставили палатки, что было совсем уж глупо, потому что они защищали только отдельные участки комнат, как тенты. В комнате со мной жили Крюков, Кустов и главный бухгалтер, фамилии которого я уже не помню. Наша опустевшая палатка, как и некоторые другие, стояла покинутая и казалась какой-то ободранной без уже растаявших снежных стен. Оголившиеся горбыли придавали ей удивительно унылый вид. Все это являло собой настоящую мерзость запустения. Я тогда не ходил на охоту, потому что на куропаток охота уже закончилась, а на водоплавающую дичь не мог охотиться из-за отсутствия резиновых сапог, которых я почему-то не мог достать. На охоту ходил и иногда приносил уток Г. Кустов. Однажды в мае я принял участие в поездке на охоту на Армань. Ездили также В. Т. Матвеенко, И. Р. Якушев и еще кто-то, кого я не помню. В каком-то бараке пили чай. Потом бродили по наледям реки, не стреляли и ничего не видели. Домой мы с В. Т. Матвеенко брели пешком по дороге через перевал, обсуждая сообщения о немецких военных успехах. Другие, кажется, уехали раньше. Когда поднялись к перевалу, услышали очень отдаленный шум попутной машины. Но она нам уже была не нужна. Уезжал в отпуск Федор Фролыч Павлов. Собирался не торопясь Горелышев, работавший предыдущее лето прорабом в партии Колтовского, а зимой трудившийся в отделе подсчета запасов, занимался определением предельного веса самородков и анализом золота. В район открытых Ф. Ф. Павловым оловорудных проявлений выезжали партии Резника, Климова и Авдеева. Собирались партии Аврамова, Красильникова, вернувшегося из отпуска Павла Николаевича Котылева, Якушева, Василия Ивановича Шкрабо. Приехали новые геологи — Иван Иванович Тучков и Варвара Сергеевна Ракитина, они тоже собирались в поле. У меня выкроилось свободное время из-за того что материалы по району предстоящих работ были скудны, и Б. Л. Флеров поручил мне заняться подготовкойматериала по тематической работе, которую он сам собирался выполнить: о связи аллювиальных россыпей оловянного камня, разведанных в долинах ручьев Шайтан, Блуждающий, Кармен и Первач через коллювиальные и делювиальные россыпи с оловорудными жилами Бутугычага. Я погрузился в эту работу, строил планы россыпей в изолиниях вертикальных запасов, кривые изменения линейных запасов, разрезы россыпей в изолиниях содержания оловянного камня, планы коллювиально-делювиальных россыпей и так далее. Закончить эту работу до выезда в поле я не успел. Трудился я в одной комнате с рыжебородым Горелышевым, имевшим огненную бороду, украшенную широкой седой прядью волос. Он называл то, что я делал, наукообразной работой и рассказывал о том, как работал когда-то в партии В. А. Цареградского, как они целыми днями не слезали с седел, проделывая все маршруты верхом. Я спросил его: «А как же вы брали образцы?». Он ответил: «Мы их презирали». Я вспомнил тогда разговор с Г. Г. Колтовским, производившим ряд лет геолого-рекогносцировочную съемку в масштабе 1:500 000. Он тоже рассказывал, что маршруты проделывает верхом, что лошадь способна пройти везде, где может пройти человек, и что он давно решил, что лучше заплатить за лошадь, если она где-нибудь погибнет в маршруте, чем изнашивать на полевой работе собственное сердце. Но я не поверил ему, что лошадь так способна преодолевать крутые подъемы и спуски и другие трудности пути, которые встречаются в геологических маршрутах. Кроме того, мне всегда казалось, что ехать на лошади где-нибудь над пропастью опаснее, чем проделывать такие маршруты пешком, и что речь следует вести не о том, чтобы заплатить за лошадь, если она погибнет, а о собственной готовности сложить свою голову вместе с конской, сохраняя свое сердце. Но я не внял тогда голосу разума, может быть, из-за трусости, из-за боязни убиться, сорвавшись где-нибудь. Я никогда даже не думал о том, чтобы попробовать хотя бы проделать один-два маршрута на конях. Впрочем, я не думал об этом, скорее, не из-за трусости, а из-за того, что у нас всегда не хватало лошадей даже для перевозок от стоянки к стоянке, а думать о маршрутах на лошадях, конечно, не приходилось. Лошадей не хватало, и их почти всегда приходилось заменять собственным хребтом, а мысль о возможности обратного была бы несбыточной мечтой. Шла первая весна Второй мировой войны. Газеты пестрели сообщениями о победах немцев, стремительно наступавших во Франции, внезапно оккупировавших Бельгию и Голландию, потом Норвегию и Данию, о разгроме английского экспедиционного корпуса в Дюнкерке. Наконец и Гитлер въехал в Париж на белом коне. В Компьенском лесу в знаменитом вагоне, в котором в 1918 году был подписан акт о капитуляции Германии, теперь был подписан другой — о капитуляции Франции, а вагон был увезен в Берлин. Наш выезд некоторое время задерживался из-за несогласованности вопроса о кунгасах, необходимых нам для сплава, и об автомашинах для их перевозки от Колымского моста до моста через Берелех, откуда нам нужно было начинать сплав в район работ. Но вот, наконец, кунгасы были доставлены сплавом из Санга-Талона к Колымскому мосту, была выделена и автомашина с прицепом для их перевозки, и мы в середине июня двинулись на Берелех. Недели за три до выезда я ездил на Бутугычаг, чтобы взаимообразно взять анероиды, буссоли и другие инструменты. Был у брата и его жены, видел свою новую племянницу Нэльку, или Наташку, которой было тогда около полугода.Впервые в Усть-Омчуге
Еще в январе того же года на Иганджу с Бутугычага приехал брат по делам подсчета запасов. Наше начальство удовлетворило его просьбу о том, чтобы меня на некоторое время откомандировали ему на помощь для проведения подсчета запасов по месторождению. Работы было много, и я, должно быть, две или три недели занимался подсчетом запасов, помогая брату. Значительную часть этой работы нужно было выполнить в Тенькинском горном управлении, которое было недавно создано и базировалось в не построенном еще поселке, в котором не было домов и вообще почти ничего еще не было. Но название уже существовало. Будущий поселок назывался Усть-Омчугом по названию речки, на устье которой в долине реки Детрин он строился. Хорошо помню сумерки зимнего дня, когда мы на попутном грузовике прибыли с братом в этот будущий поселок. Покинув свой транспорт на левом берегу Детрина, мы пошли по дороге, уходящей вправо от главной сопки под прямым углом. Она вела вниз по течению Детрина в лес. Мы бодро зашагали по ней, но вскоре увидели, что дальше по ней ничего нет. Лишь слева светились окна домика радиостанции, стоявшей в стороне от дороги на невысокой террасе. Справа тут же бойко стучал движок крохотной электростанции. Зайдя туда, мы расспросили людей и узнали, что в поселке нет пока ни одной готовой постройки, кроме радиостанции и электростанции, что там пока только строятся два двухэтажных дома ИТР и здание управления (на месте здания управления сегодня в Усть-Омчуге стоит памятник В. И. Ленину. — Ред.), а управление сейчас ютится в большой палатке, которая стоит немного дальше по дороге на террасе, и поэтому ее снизу не видно. Живут же все вольнонаемные служащие управления в нескольких больших палатках, стоящих возле лагеря. Туда мы и отправились. Поселили нас в специально отведенной для командированных палатке, стоявшей среди других таких же. Располагались палатки вольнонаемных служащих возле обнесенного колючей проволокой лагеря, в котором стояли бараки, населенные дорожными рабочими и плотниками, строившими поселок. Лагерь и палатки находились в полутора километрах от палатки управления на другом (левом) берегу впадающей в Детрин реки Омчуг. (Еще недавно в этом месте располагались склады торговой конторы поселка Заречный, ныне заброшенного, здесь же было управление прииска Курчатовского. — Ред.) Поселок строился на участке, ограниченном с юго-востока берегом Детрина, вытянутом с юго-запада на северо-восток, с юго-запада — правым склоном долины реки Омчуг, а с северо-запада, севера и северо-востока — широкой излучиной русла реки Омчуг. Весь этот участок, на котором в дальнейшем рос поселок, имел площадь около 1 км2. Тогда в нем строились, как уже упоминалось, первые два двухэтажных дома, располагавшиеся рядом параллельно берегу реки и метрах в 50 от него. Здание управления строилось метров на 100 дальше от берега реки и приблизительно на 150 метров ближе к берегу Омчуга.На Берелехе
В середине июня, погрузивши в трехтонку продовольствие, которого в Нечинском разведрайоне для снабжения двух партий было недостаточно, я, И. И. Тучков, М. И. Дорохин, П. И. Авраменко, Г. Кустов и другие отправились на Берелех к исходной точке сплава. Часть груза, занявшая еще два грузовика, была подвезена из Хетинской разведки. Эти две машины сахара, муки, консервов и другого продовольствия доставили на Берелех позднее М. И. Дорохин и П. И. Авраменко, которых мы на этой разведке оставили. А. Н. Парфенюк на два дня раньше выехал к Колымскому мосту и уже охранял там кунгасы. Ручей Майский. Купинская трасса. Слева направо: П. И. Авраменко, А. Д. Чемерис, Г. Кустов. Фото 1961 г.
Ручей Майский. Купинская трасса. Слева направо: П. И. Авраменко, А. Д. Чемерис, Г. Кустов. Фото 1961 г.
В бассейнах Иганджи, Армани и других рек охотского склона было еще холодно. По дороге к поселку Палатка свежий снег лежал на уже зазеленевших ветвях лиственницы. Не было еще и признаков травы. Природа еще только начинала просыпаться от зимнего сна. Другую картину мы увидели за Яблоновым перевалом в бассейнах Гербы, Оротукана, Дебина, Берелеха, где уже, высокая трава и листва деревьев, цвели цветы, пестревшие на травяном ковре. Бросался в глаза разительный контраст между климатом бассейнов рек охотского склона и бассейна Колымы. На берегу Берелеха у шоссейного моста мы сложили привезенные грузы и поставили палатку, в которой и поселились сами. Вскоре привезли от Колымского моста кунгасы. Их сгрузили на галечной отмели близ палатки. Их необходимо было здесь проконопатить и осмолить, прежде чем пускаться на них в плавание. К этой работе немедля и приступили под руководством Григория Кустова. В ней я и Тучков принимали сравнительно мало участия, так как нам необходимо было ознакомиться с материалами геофонда Западного районного геолого-разведочного управления по району предстоящих работ.
 Яблоновый (Яблоневый) перевал. 50-е гг. XX века. Рисунок Н. И. Гетмана.
Яблоновый (Яблоневый) перевал. 50-е гг. XX века. Рисунок Н. И. Гетмана.
Для этого нам приходилось пешком ходить около 7 км в поселок Берелех, располагавшийся на устье речки Сусуман. Странно было, что другой поселок, в котором находилось Западное горнопромышленное управление, назывался Сусуман и находился ниже по течению Берелеха между, устьем Сусумана и мостом через Берелех. Помню широкую долину Берелеха, по левому берегу которого проходила дорога, пересекавшая поселки Берелех и Сусуман и выходившая к мосту, у которого мы обосновались. По этой дороге мы и шагали с Тучковым каждый день в геофонд и обратно, любуясь нависавшим над Берелехом с юго-запада большим горным массивом с одной из высочайших горных вершин Северо-Востока Азии Морджотом, которая была еще покрыта снегом, хотя уже «в июль катилось лето». На Берелехе мы познакомились с начальником геолого-поискового отдела Берелехского райГРУ Лузиным, его женой, которая работала оформителем. Помню еще начальника партии Петрова, который шутил, что у него происхождение смешанное — отец штабс-капитан, а мать грузинка. Был там еще чертежник-оформитель Витюк, которым все время командовала жена Лузина. Были еще два или три человека, которые почему-то совсем не запомнились. Остальные уже выехали на полевые работы. Познакомились мы еще с главным геологом Борисом Ивановичем Вронским и с петрографом Ольгой Сергеевной Грачевой. Занимались мы с И. И. Тучковым в большом и пустом помещении геолого-поискового отдела, в котором, кроме нас, работали Лузин с женой, Витюк, Петров и еще кто-то. Поэтому мы становились невольными слушателями громких разговоров остальных. Из них я и запомнил шутку Петрова о его смешанном происхождении. Но обычно, то есть почти непрерывно, разговоры вела Лузина, чаще всего со своим мужем или с Витюком. Почти все время раздавалось: «Витюк, Витюк». Я думал первое время, что это имя, но потом понял, что это фамилия. Помню, Лузин собирался выехать в полевую партию, работавшую в бассейне речки со звучным названием Тукаинка. Они его много раз повторяли, и поэтому оно надолго, вернее, навсегда застряло в моей голове. В связи с этой поездкой на обсуждение выдвинулся вопрос — где может быть паспорт Лузина. Помню, порешили, что он остался в кармане брюк, отданных в стирку в прачечную. Вдруг вспомнили о каком-то чертеже или карте и начали ее искать, иногда бросая на нас с Тучковым, как на чужаков и возможных похитителей, косые, подозрительные взгляды. Это нам даже неприятно было. Стояли очень жаркие дни. Даже комары вынуждены были спасаться от жары где-то в тени и не нападать на нас, когда мы купались в студеных струях Берелеха и загорали на солнцепеке. Вскоре приехал еще один начальник партии Никитин (кажется, Григорий Сергеевич), из новых, с прорабом техником-геологом Александром Ивановичем Сафоновым, которые направлялись в район Санга-Талона на реку Кюэль-Сиен. Никитин тогда в моих глазах был пожилым человеком, так как лет на 15 был старше меня, был участником Гражданской войны и старым коммунистом, кажется, с 1917 года, а потом в связи с передачей части нашего левобережья Колымы, на которой находился район работ его партии, смежному Южному (Оротуканскому) управлению, был переведен туда. Года через два или три после этого он погиб на полевых работах. Когда он переправлялся во время ливневого паводка через Буюнду на плоту, его вынесло сильным течением в Колыму, где он и утонул. Когда кунгасы уже были готовы к сплаву и спущены на воду, а мы уже начали грузить на них свою поклажу, пришла телеграмма от начальника нашего геолого-поискового отдела В. Т. Матвеенко, в которой он нам предписывал не отплывать до его прибытия. Было очень досадно, так как уходили самые лучшие дни лета, уже шел июль, а задание по полевым работам все еще даже не было начато. Помню, что, возмущенный этим шагом начальства, я написал ответную телеграмму с изложением своей точки зрения по этому поводу, но Г. С. Никитин отговорил меня ее отправлять. Но, наконец, истекло и время нудного досадного ожидания. Приехал В. Т. Матвеенко с новым радистом Булгаковым, который должен был сменить старого, отправлявшегося в отпуск, и с Николаем Васильевичем Овечко, назначенным в партию Никитина. Мы быстро погрузились и без промедления во второй половине дня пустились в путь по Берелеху, не обращая внимания на неожиданно нахмурившееся небо. Нужно было спешить. Слишком много времени было потеряно.
Путь на Нечу
Самым опытным сплавщиком среди нас был Н. В. Овечко, на которого и легли функции «адмирала» и капитана флагманского кунгаса, шедшего впереди. Обязанности капитана второго кунгаса, или старшего загребного, легли на Г. Кустова, тоже опытного таежника и сплавщика. На стремительно идущей реке нужно уметь предвидеть и быстро принимать решения, правильно выбирая направление, когда река делится на протоки. Опытный сплавщик должен вовремя определить, куда, по какой из проток идет главная струя, и успеть направить свой кунгас туда. Сплав на кунгасах. Фото 1949 г.
Сплав на кунгасах. Фото 1949 г.
Кунгас имеет в плане форму утюга — параллельные борта, заостренный нос, обрезанную широкую корму. Борта его вертикальны. Днище плоское. Передвигается он по течению быстрой реки. Управляется так же, как плот, перемещаясь в стороны для причаливания к правому или клевому берегу, для отчаливания от берега или для выхода на струю, идущую в правую или в левую протоку. Все упомянутые маневры осуществляются при помощи длинных весел, так называемых гребей, достигающих в длину 5–6 м. Они опираются на примитивные уключины-гнезда, врезанные в носу и в корме посудины. На каждой греби работают 2–3 человека. Один, наиболее опытный, стоящий на носу, подает команду «бей вправо» или «бей влево». При причаливании нос кунгаса, идущий впереди, подворачивается к берегу, когда кунгас находится уже близко от него — не дальше 2 метров, — и когда он упирается в берег, а корму начинает заносить вперед, два человека из работавших на носовой греби проворно выскакивают на берег, захватив конец привязанной к носу веревки. Они должны за то короткое время, пока течение разворачивает кунгас кормой вперед, прижимая его к берегу, успеть зачалить свою веревку за близрастущие деревья. Потом зачаливают и другую веревку (кормовую). При отчаливании от берега сначала освобождают носовую веревку и, пока течение заносит нос вперед, отвязывают и кормовую. Плавание продолжается. Итак, во второй половине дня числа 2 или 3 июля мы отплыли и до вечера мучились два или три раза, садясь на мель и с трудом переползая через многочисленные галечные перекаты. В наше оправдание нужно заметить, что «флагман», как и мы, садился на мели, и его экипаж тоже мучился, снимая его. Работали все, выскакивая быстро в воду, каждый раз, когда кунгас застревал на мели. Я тогда хорошо познакомился с коварным нравом быстрых колымских рек. Когда кунгас садится на мель, его необходимо быстро снять с нее, орудуя ломиками или короткими толстыми жердями, действуя ими как рычагами второго рода, подваживая кунгас и проталкивая его через мель по течению. Если люди замешкаются, течение очень быстро разворачивает кунгас поперек своему направлению, а затем быстрая струя начинает размывать галечник перед кунгасом и откладывает гальку по другую его сторону в защищенном от течения участке, в затишье, им образованном. Кунгас начинает довольно быстро крениться в сторону все углубляющейся ямы перед ним, которую «выкапывает» течение, и если его предоставить ненадолго самому себе или недостаточно интенсивно снимать с мели, он не более чем за час накренится настолько, что борт его уйдет под воду и он затонет. На втором кунгасе плыли Кустов, я, Тучков, Дорохин, Авраменко, Парфенюк. На первом — Овечко, Матвеенко, Никитин, Сафонов, радист Булгаков, Карякин и еще один коллектор. Мы с Кустовым и Тучковым работали на передней греби и выскакивали каждый раз, когда садились на мель. За первый день мы проплыли немного и заночевали, причалив к правому берегу Берелеха недалеко от устья знаменитой Чай-Урьи. Нам повезло: ночью как по заказу прошел довольно большой дождь, и к следующему утру уровень воды заметно поднялся, обещая более веселое плавание, чем накануне. Ведь тогда мы мучились из-за того, что перед отплытием очень долго не было дождей и уровень воды был меженным, очень низким. Кроме того, теперь нам предстояло плыть уже по более полноводному отрезку реки, так как мы были уже в нижнем течении ее. Плавание по реке в паводок веселее, чем в межень, но и оно таит в себе опасности и чревато неприятностями. В одном месте наш адмирал, или лоцман, допустил ошибку, из-за которой обе наши посудины оказались в узкой, тихой и маловодной протоке. Сначала, проявляя упорство и твердую волю к победе, мы продолжали пробиваться вперед, но, наконец, пришлось остановиться, чтобы разведать протоку ниже и принять благоразумное решение повернуть обратно и подняться против течения, отталкиваясь шестами, чтобы пуститься теперь по другой, более полноводной протоке. Заблудиться подобным образом даже в сравнительно небольшой паводок немудрено. Река делится островом на два русла, и лоцману нетрудно ошибиться, выбирая более широкое из них, которое на деле может оказаться не главным и потом вновь разделиться. В конце концов сплавляющаяся посудина оказывается в узкой маловодной протоке и вынуждена повернуть обратно. Это мы и проделали. До сих пор помню эту глухую тихую протоку, наш кунгас, причаливший к левому берегу, В. Т. Матвеенко с орденом Трудового Красного Знамени, привинченным к левому лацкану серого пиджака. Он сидел на корточках у берега и умывался, пытаясь холодной водой унять зуд от комариных укусов. Вытолкавшись из протоки на шестах, мы без новых приключений достигли устья Берелеха и поплыли по широкой привольной глади Аян-Юряха, который, сливаясь с рекой Кулу, образует Колыму. Быстро неслись наши кунгасы по высокой воде Аян-Юряха и Колымы. Мы их связали борт с бортом, беззаботно плыли, наслаждаясь хорошей погодой, здоровьем и жизнью. Пели песни. Особенную радость доставляло отсутствие комаров вдали от берегов реки, что позволило снять душные накомарники. Но путь наш по реке быстро близился к концу. Нужно было не прозевать устья Нечи, перед которым, как мы знали, по распоряжению начальника Нечинской разведки Николая Николаевича Малькова специально для того, чтобы мы не проплыли мимо, не заметив этого места, установлен большой флаг, сшитый из мешков и поднятый на высоком шесте. Но именно то, что он был серый, а не белый и не красный, и то, что шест был коротковат, мы увидели его поздно и неожиданно, когда течение стремительно несло нас на крутой излучине, прижимая кунгасы как раз к тому берегу, к которому нам нужно было причаливать. Обманутые неточной мелкомасштабной картой, составленной на основании тоже мелкомасштабных глазомерных карт, мы не ожидали, что находимся уже в непосредственной близости от цели, полагая, что нам предстоит еще проплыть несколько километров. Поэтому я и Авраменко сели на лодку и отправились вперед, чтобы разведать обстановку. Но мы не успели отойти от кунгаса и 100 метров, как увидели прямо перед собой флаг из мешка и встречавших нас двух человек. Кунгасы причалили здесь с большим трудом из-за особенно сильного течения. Наш кунгас причалил там, где было нужно, близ устья Нечи, а «флагман» протащило еще метров 200 прежде, чем его успели остановить. Это произошло потому, что выскочил на берег там какой-то нерасторопный и неопытный человек, который не успел зачалить веревку, когда было нужно, и поэтому остановить кунгас было трудно. Здесь мы принялись выгружать на берег половину привезенных продуктов, так как другая половина должна была плыть на тех же двух кунгасах с работниками партии Никитина до устья Кюэль-Сиена. Поэтому мне нужно было оформить передачу этой части груза Никитину, выписав необходимые фактуры. Для этого я пошел к кунгасу Никитина. Возвращаясь оттуда и продираясь сквозь прибрежную чащу, я вдруг увидел, что в 12–15 метрах от берега мимо нашего кунгаса быстрое течение несет маленький плотик, на котором на животе лежит человек, подняв голову. Увидев кунгас и людей на берегу, он поднял крик, взывая о помощи и о спасении, как будто он терпит кораблекрушение. Парфенюк быстро прыгнул в лодку, двумя взмахами весел достиг плота и спас утопавшего или, вернее, взял его в плен. Он сразу же признался, что он беглец, бежал вдвоем с другим заключенным с автобазы поселка Спорного, а так как в это время Овечко нашел у него в кармане два патрона от ружья 16-го калибра, он рассказал и то, что перед побегом ему или его приятелю кто-то из охотников поселка дал отремонтировать ружье, которое они прихватили с собой, уходя в побег. Сказал он также, что ружье с тридцатью патронами находится у второго беглеца, у которого есть также карта, вырванная из учебника географии, и компас. С тем беглецом он дошел до реки, но при переправе они потеряли друг друга. Он, конечно, не знал, где находится, об этом я сужу по вопросу, который он задавал: «Это какая река? Охота?» А потому, что плыл он по Колыме в сторону поселка, из которого бежал, вряд ли он делал это сознательно. Беглеца повез дальше на своем кунгасе Никитин, и мы с ним расстались. Потом мы поставили палатку и наметили план действий, решив затащить лодку в протоку, перебраться на берег и отправляться на базу, находящуюся в 40 км от устья Нечи. Грузы, привезенные нами, мы оставили на берегу под охраной двух рабочих, встречавших нас. На следующий день мы поздно вышли в свой пеший поход, главным образом из-за задержки с переправой через протоку. Но наконец, мы переправились и зашагали по тропе. Со мной шли: Авраменко, Парфенюк, Дорохин, Матвеенко, Кустов, Тучков и радист Булгаков. В этот день из-за позднего выхода мы не смогли пройти много. Пройдя, должно быть, не больше десятка километров, заночевали на косе у костра. Утром возобновили свой поход и лишь к исходу дня достигли цели. Мне почему-то этот переход показался особенно тяжелым. Даже до сих пор я помню об этом. Было жарко, донимали комары, мучила жажда, я пил воду, и мне очень тяжело было идти. Тропа была чрезвычайно плохая. Вернее, всю дорогу мы шли не по тропе, а по галечным косам, без конца переходя вброд русло реки. Лишь отдельные небольшие участки пути мы проходили по тропе. Я шел чуть ли не замыкающим и поэтому шагал за другими, не ища лучшей дороги. Думаю, что основная причина того, что идти тогда было так тяжело, была в неорганизованности нашего похода. Не было никакого порядка. Мы не отдыхали, не подкреплялись пищей, жевали что-то на ходу и перли вперед, каждый как мог. Матвеенко был среди нас главный и не распоряжался, а у меня было еще слишком мало опыта. Я был тогда, конечно, молодым, но почти старше всех в нашей группе. Только Кустов был моим ровесником, а остальные были хоть ненамного, но моложе меня. Это, впрочем, не играло роли, так как и другим тяжело доставалась ходьба, и я, кроме того, не отставал от других, и им не приходилось останавливаться, чтобы подождать меня. Одной из главных причин того, что поход показался особенно тяжелым, было, должно быть, отсутствие тренировок зимой. Очевидно, ходьбы на охоту было недостаточно, чтобы сохранить соответствующую форму, потому что охотиться тогда было слишком легко и для этого не приходилось сильно утомляться. Куропатки зимовали слишком близко к поселку. По дороге мы встретили группу солдат из вооруженной охраны лагерей. Их было всего четверо, и направлялись они, как и мы, на Нечу, откуда незадолго перед тем был побег трех заключенных. Солдаты бродили туда-сюда в поисках их и не торопились на базу. Поэтому они не присоединились к нам, а направились в другую сторону. Солдаты с большим уважением отнеслись к Матвеенко, украшенному орденом, и называли его не иначе, как «Товарищ орденоносец».
На Нече
Это называлось Нечинский разведрайон. Было там два разведочных участка: на ручье Промежуточном с притоками, впадающем в реку Большую Нечу, и на ручье Урен, в истоках реки Хатыннах. База, на которую мы пришли, где была радиостанция и небольшой склад продовольствия, стояла у русла Большой Нечи, протекающей у правого крутого склона широкой долины, прямо против долины ручья Промежуточного. Но ручей этот впадал в Большую Нечу не здесь же, а километров на 8 ниже базы, потому что по долине этой реки он тек не в поперечном к ней направлении, а под острым углом. Этого не заметил новый радист, приехавший с нами, и ему пришлось три дня сидеть голодным на тропе, ожидая, когда его спасут. День мы провели на базе, отдыхая от тяжелого вчерашнего похода, подсушивая свою обувь, сильно размокшую в русле Нечи при многочисленных переходах через нее. При нас добровольно вернулись из побега несколько дней находившиеся в бегах два из трех заключенных, ушедших недавно с разведки. Фамилия одного из них — генералов мне запомнилась, потому что была редкая. К вечеру того же дня, как говорят, на ночь глядя, мы распрощались с этой базой и отправились на другую через высокий гранитный перевал в долину впадающего в речку Урен ручья Барачного. Урен в свою очередь впадал в приток Хатыннаха Ченер. Пришли мы на Барачный ночью и еще один день занимались приготовлениями к полевой работе, в частности изготовив из одной палатки размерами 3×4 метра две — по 3×2. Для этого мы распороли ее на две части и из имевшейся у нас бязи изготовили к ним недостающие стенки. Таким образом мы обеспечили все три своих отряда: геологический, поисковый и глазомерно-съемочный индивидуальными палатками, так как третья маленькая палатка у нас была. Получили мы здесь на складе и все другие предметы из снаряжения и инструментов, необходимые на полевой работе, и на следующее утро отправились в первый маршрут по Нечинскому гранитному массиву. Там же, на Урене, состав нашей партии пополнился четырьмя заключенными рабочими и промывальщиком. Фамилии я помню только трех из них: Шатов, Мишин и Султанов. Шатов ходил в маршруты с Парфенюком, носил рюкзак и треногу в руках, когда плечи Парфенюка были заняты «иконой», которую, правда, тогда уже никто так не называл. Мишин был одним из двух рабочих, ходивших со мной и старшим коллектором Дорохиным, а Султанов был промывальщиком, работавшим в поисковом отряде у Авраменко. Фамилии еще двух рабочих — худощавого, средних лет человека, ходившего в маршруты со мной, и второго — рабочего поискового отряда, я забыл. В первый маршрут мы пошли вместе с Парфенюком, чтобы помочь ему разбить базу для начала глазомерной съемки. Для базы мы выбрали широкую плоскую вершину массивной гранитной сопки, на которой могла улечься трехкилометровая прямая линия. Построили, вернее, сложили, на концах базы каменные пирамидки, которые принято называть гурии (иначе — «туры». — Ред.), мы промерили расстояние между ними рулеткой. Затем, устанавливая на концах базы поочередно свой планшет и ориентируя его по горному компасу, Парфенюк сделал визирной линейкой первые засечки недалеко расположенных вершин, определил их превышение над базой с помощью эклиметра Брандиса, определил абсолютные отметки концов базиса анероидом. В дальнейшем А. Н. Парфенюк отделился со своим Шатовым от нас, так как нужно было, чтобы глазомерная съемка немного опережала геологическую, которая при этом получала бы готовую глазомерную основу для того, чтобы наносить на нее результаты своей съемки. С первых дней работ мы разделились и с поисковым отрядом П. И. Авраменко, так как времени для работ оставалось немного, на исходе была уже первая декада июля. Мы с ним встречались редко, и поэтому, когда он однажды увидел нашу группу, сидящую возле костра и уплетающую галушки без соли, он принял нас за беглецов и, подойдя за кустами поближе, взял нас на мушку и завопил истошным, дрожащим от страха голосом: «Что за люди? Руки вверх!». Услышав этот возглас, я оглянулся через плечо и, увидев наполовину высунувшуюся из-за куста кедрового стланика голову Авраменко, окликнул его по имени и отчеству. Он на мгновение опустил ружье и растерянно переспросил: «А? Что?», но, по-видимому, решив, что ему показалось, будто его назвали по имени и отчеству, вновь вскинул ружье, разражаясь грозными криками… В то лето нас еще два раза брали на прицел свои, принимая за беглецов. В первый раз это была встреча с нечинским завхозом Турко. Мы шли всей своей партией и, присев отдохнуть, увидели вдруг вдали цепочку из шести лошадей под вьюками, впереди которой на седле сидел человек, а позади лошадей шел другой. Мы сразу же определили, что это был завхоз Турко и, должно быть, потому не обратили внимания на то, что он вдруг снял из-за спины ружье и положил его на луку седла, придерживая правой рукой. Мы знали, что он скоро возвращается из поездки в Тенькинский разведрайон, откуда он должен был привести лошадей. Поэтому мы разговаривали между собой о том, что скоро можно будет отправиться в дальние маршруты на лошадях, спокойно глядя на приближающийся караван и совсем не ожидая от него никаких агрессивных поступков. И мы были правы, потому что, во-первых, знали, что завхоз тоже должен был знать о том, что в район прибудут две полевые партии, а, во-вторых, нельзя было ожидать, что, видя перед собой четверых вооруженных людей, он осмелится поднять на нас свое ружье. Ведь если бы он осмелился выстрелить, то тут же пал бы от двух-трех ответных выстрелов. Но он, конечно, втайне знал, что мы совсем не беглецы, и что стрелять ему не придется, и что он ничем не рискует, тем более что он видел полное отсутствие с нашей стороны какой-нибудь угрозы ему. Он, должно быть, хотел попугать нас и показать себя этаким хватом, когда, подъехав к нам шагов на 40, вдруг вскинул ружье, взяв кого-то из нас на мушку, и что-то грозно закричал. А мы, продолжая сидеть на земле, удивлялись тому, что он, видя в руках у нас ружья, не понимает, что, будь у нас какие-нибудь враждебные намерения, мы давно смогли бы разоружить его, взяв на мушку и забрав у него ружье или заставив бросить его на землю. Но он продолжал целиться из ружья в одного из нас, громко требовать, чтобы мы подняли руки. Мы не поднимали рук и, продолжая сидеть на земле, удивлялись тому, что тот может сам спровоцировать ответные действия с нашей стороны. В то же время мы помнили и о том, что он держит палец на спусковом крючке, целясь в нас, и требует, чтобы мы подняли руки вверх, и нам казалось, что он нервничает и поэтому может даже внезапно нажать гашетку. А время шло. Но, наконец, кто-то догадался крикнуть: «Турко!». Другой громко назвал его по имени и отчеству. Он опустил ружье, и инцидент был исчерпан. В третий раз с ружьем был Парфенюк. Он тоже подкрался из-за кустов, взял меня на прицел и что-то угрожающе кричал. Я в ответ крикнул: «Алексей Никонович!» И Парфенюк опустил ружье. Я в свою очередь тоже один раз наступал на лагерь Авраменко. Дело было так. Отправляясь однажды в маршрут, я поручил Мишину перенести нашу палатку из седловины на гранитном массиве, где она до этого стояла, на новое место в долине, куда я должен был спуститься, закончив маршрут. И вот, уже заканчивая маршрут, я посмотрел туда, где Мишин должен был поставить палатку, и увидел, что палатка там уже стоит. Я немного удивился расторопности Мишина, потому что он успел выполнить поручение быстрее, чем я рассчитывал. Поговорив об этом со своими спутниками, я продолжил маршрут. Потом, посмотрев в ту же сторону еще раз, я увидел в нижней части отрога смежного с тем, по которому нам предстояло спуститься, фигуру человека, идущего по отрогу вверх к нам. Естественно, я решил, что это поднимается Мишин, который поставил где нужно палатку, а потом увидел нас и пошел нам навстречу. Я дождался, пока он подойдет, и спросил, как ему удалось так быстро поставить палатку. В ответ он быстро заговорил вполголоса или даже зашептал, что это совсем не наша палатка, и рассказал, как он, придя со всем нашим имуществом на указанное ему место, стал готовить жерди, чтобы установить палатку, и вдруг услышал, что кто-то совсем недалеко рубит дрова. Выглянув осторожно из-за укрытия, он увидел палатку и человека, который возле нее рубил дрова. Тогда он спрятал все свое имущество и пошел к нам навстречу, чтобы рассказать об этом. Я сразу предположил, что это палатка Авраменко, потому что никого другого здесь теперь быть не может. Не может быть, чтобы это были беглецы, потому что они не носят с собой палаток. О таком я никогда не слышал. Не могут быть и орочи, тунгусы, потому что нигде не видно оленей. Все же подойти к палатке я решил скрытно и понаблюдать за ней со стороны. А вдруг это все же не Авраменко, а какая-нибудь банда беглецов? Поэтому мы сошли в ближайший распадок и пошли по нему. Встретилась куропатка, я с риском быть услышанным выстрелил и убил ее. Я правильно решил, что люди в палатке не услышат, потому что я стрелял в распадке, защищенном отрогами сопок. Потом, как я и хотел, подошел к такому месту, откуда можно было наблюдать за палаткой, не обнаруживая своего присутствия. Сначала возле палатки не было никого, потом появился Султанов, которого я сразу узнал. Мишин напрасно поднял тревогу. Вообще Мишин был порядочный трус, о чем свидетельствует еще один эпизод, который я помню. Закончив работу в бассейне ручья Промежуточного, я послал Мишина с ненужными теперь нам предметами и с палаткой на базу, а сам с другим рабочим и с Дорохиным отправился в заключительный маршрут по водоразделам упомянутого ручья с выходом тоже в долину Нечи. Когда мы пришли на базу, Мишин нам рассказал, что по дороге он слышал, как беглецы недалеко от тропы рубили дрова. Я тогда вспомнил, как кто-то из нас в начале маршрута пустил круглый камень вниз по склону. Как-то никому почему-то не пришло в голову, что от стука этого камня о стволы деревьев у Мишина может душа уйти в пятки.«Электросопка»
В. Т. Матвеенко первые дни провел, осматривая рудные проявления, вскрытые прежними работами на водоразделах притоков ручья Промежуточного. Там же начал свою работу и И. И. Тучков. В. Т. Матвеенко решил, что продолжать работы на ручье Промежуточном не следует, так как рудные проявления там не перспективны, и посоветовал сосредоточить усилия на рудных поисках на ручье Барачном и на Урене. Потом он и сам явился на Урен и пошел с нами в один из маршрутов с выходом на довольно высокий водораздел справа от Урена. Вершина на этом водоразделе сложена лежащими на гранитах ороговикованными туфами андезитов, заостренная с узкими ножевидными гребнями, увенчанными скалами и с обрывистыми склонами. Утро было жаркое, душное, подъем крутой и высокий. Матвеенко посоветовал мне отдать ружье шедшему с нами рабочему, чтобы развязать себе руки. Я так и сделал, согласившись с тем, что без ружья идти легче. Когда мы были уже в верхней части подъема и приближались к вершине, вдали загремело и засверкало. Небо потемнело, нахмурилось. Приближалась гроза. Она вскоре была уже рядом, когда мы еще не достигли вершины. Было страшно, что в нашу вершину может ударить молния. Я отбивал образец андезита и заметил, что, когда поднимаю молоток для удара, он начинает громко жужжать. Матвеенко увидел, что рабочий, шедший с моим ружьем за плечами, чему-то весело улыбается на ходу, и спросил его: «Чему ты радуешься?». Тот ответил: «Да вот овод залез в ствол ружья и жужжит там». «Сними скорее ружье», — крикнул Матвеенко. Тот снял, жужжание прекратилось. Потом мы сидели на вершине, рассматривали сверху мелкогорный район, расстилавшийся южнее, и сравнивали его с мелкомасштабной глазомерной картой, опознавая реки и ручьи. Когда мы при этом показывали пальцами различные объекты на местности, раздавалось сильное жужжание, особенно усиливавшееся, когда палец поднимали кверху. Матвеенко предложил тогда назвать эту горку «элекгросопкой». Позднее мне не раз приходилось бывать в подобной ситуации, и я вспоминал о подобных случаях, когда бывал на сопках, испещренных воронками от ударов молний, напоминающими воронки от ударов небольших авиационных бомб или артиллерийских шрапнельных снарядов, приблизительно 76 мм. Особенно много таких воронок видел я на большой липаритовой сопке на водоразделе Бахапчи и Детрина в истоках ручья Силинцовой. (На топографической карте — Слопцовый, на карте Авраменко — Силипцовый, а теперь на дорожном знаке этот ручей перекрестили в р. Солонцовую, а назван он был по фамилии красивой тунгуски, встреченной геологами в этом районе. — Ред.) На этой, против ожидания, совсем не острой, а широкой и довольно длинной столовой вершине с не резкими, а сглаженными массивными контурами я видел в 1943 году несколько десятков таких воронок. И, наоборот, не раз я вспоминал такие избитые молниями вершины, когда приходилось опять попадать на командные (вершины) высоты в грозу, и снова приходилось слышать жужжание поднятых в воздух предметов. А это случалось нередко, потому что грозы бывают чаще около полудня или немного позже, то есть именно в то время, когда успеваешь добраться до наиболее высоких и наиболее опасных в грозу вершин. И, несмотря на это, мне как-то удалось избежать удара молнии, которого ни я и никто из моих сотрудников никогда не испытывал. Не удалось ни разу наблюдать и близких ударов молнии или слышать о таких случаях на полевых работах. Все это позволяет сделать вывод, что удары молнии в вершины сопок не столь уж часты, если не сказать редки или очень редки. Будь это не так, то они были бы одним из факторов интенсивного разрушения наиболее высоких сопок. А ведь этого нет. Даже вершины, на которых можно насчитать не один десяток воронок от ударов молний, испытывали их, очевидно, редко, так как эти воронки сохраняются, вероятно, многие сотни лет. Правда, я видел и совсем свежие шрамы от ударов, но их было немного. Я объяснял себе, что это жужжание связано с истечением электрического заряда, вероятно, гораздо более слабым, чем то, при котором на заостренных предметах появляются так называемые огни святого Эльма. Какова опасность при этом удара молнии и существует ли она, я не знаю. Думаю, что есть, и немалая. Брат, несколько лет работавший на руднике «Бутугычаг», находившемся на вершине высокой гранитной сопки, рассказывал мне, что во время летних гроз там были нередки случаи поражения молнией людей, причем пораженных закапывали на некоторое время в песок, ил, в дресву рудничных отвалов, и они в подавляющем большинстве случаев после этого оживали. Для этого в песке заблаговременно приготовлялись ямки. Были случаи и со смертельным исходом. Рассказывал он, что видел человека, испытавшего удар молнии в голову. Он лежал в штольне без движения, как мертвый. При этом брат видел, как из разбитой головы того вытекала какая-то светлая жидкость, как ему показалось, мозги. А потом он встречал этого человека живого.Радист Булгаков
Матвеенко вскоре после начала наших полевых работ отплыл на лодке по Колыме вместе с Кустовым и Степанским — пожилым радистом, отправлявшимся в отпуск. К обязанностям радиста приступил приехавший с нами молодой радист Булгаков. Это был довольно интересный, во всяком случае, оригинальный человек. О своих курьезных приключениях он рассказывал сам. Первое было, собственно говоря, не приключение, а, скорее, просто курьезный случай, иллюстрирующий его обломовский характер и дремучую лень, развившуюся от привычки работать только один час в сутки, отведенный ему для связи. Он рассказывал, что долго слышал у себя под головой или под матрацем в изголовье возню и писк, давно хотел посмотреть, что там такое, и изо дня в день откладывал эту трудную операцию. Руки не доходили. Наконец он проделал ее и увидел большую кучу гречневой крупы, перенесенной туда мышами из продовольственного склада, находившегося за стеной того же дома. Второй случай — это действительно приключение. Булгаков как-то собрался сходить на охоту в тайгу. Выйдя из домика радиостанции, он напрямик пересек долину Большой Нечи, вошел в долину ручья Промежуточного. Побродив там недолго, он проголодался и заторопился домой. Возвращался он, идя вдоль русла ручья, и почему-то не оставил этого направления, даже выйдя в долину Большой Нечи. Поэтому он добрался до берега реки далеко от дома и еще продолжал идти по тропе, проторенной по течению реки. Наконец он увидел и почему-то узнал дерево, стоявшее возле устья Малой Нечи, перебравшись через которую мы отдыхали, идя с колымского берега. Он уже понял, что идет не туда, куда ему нужно, что он заблудился. Почему-то, даже узнав место, где он с другими сидел и отдыхал, идя от колымского берега, он не додумался до того, что и теперь ему нужно идти туда, куда мы пошли тогда, что было еще свежо в его памяти, то есть что ему нужно идти по тропе вверх против течения. Вместо этого он решил сидеть здесь и ожидать, когда его начнут искать и, наконец, найдут. Это было тоже правильное решение, облегчающее задачу ищущих. Действительно, здесь было легче найти, чем где-нибудь в притоках реки, где его нашли бы после его смерти от голода. Но и здесь ему пришлось претерпеть муки голода. Продуктов у него не было никаких, и он стал собирать грибы и жарить их на костре. И так, сидя возле костра и питаясь святым духом и червивыми грибами, он четыре дня дожидался, когда на базу придут солдаты и в конце концов найдут его. На базе в это время оставался один моторист, который, конечно, видел, что Булгаков не вернулся и не вышел на связь по графику. Понимал, что нужно идти искать его, но не мог понять, куда нужно идти, и не знал, как бросить радиостанцию без присмотра. Так, ничего не решив, он дождался прихода солдат. Мне пришлось побывать на базе еще один раз в сентябре. Булгаков рассказывая о своих приключениях, угостил нас брусничным вареньем и рассказал, что после своего похода он решил никуда больше не отлучаться, не уходить дальше того места, откуда видна база. Так он и бруснику для варенья собирал на склоне ближайшей сопки, откуда хорошовидна база. В это последнее посещение радиостанции и Булгакова я обратил внимание на то, что домик, в котором она находилась, стоявший раньше в густой живописной роще под сенью деревьев, теперь стоял на голом месте. Лишь в стороне у русла реки остались зеленеющие тополя, осины и ивы. На мой вопрос Булгаков рассказал, как в грозу поваленная ветром лиственница упала на домик. Боясь, что какая-нибудь из поваленных лиственниц развалит постройку, он вместе с мотористом, как только кончилась гроза, спилил все остававшиеся деревья.На Урене и на Нече
Лета на нашу долю досталось мало. Слишком много времени было потеряно на дорогу, заброску на Берелех, перевозку и подготовку кунгасов, ожидание начальства. При этом, как нарочно, на это время пришлись лучшие погожие дни, а на оставшееся для работы время выпало начало пасмурных, ненастных дней. Но времени больше уже нельзя было терять, приходилось работать и под дождями. Когда имелись у нас выкопировки из глазомерной карты Парфенюка, можно было прокладывать свои маршруты и в густом тумане или в тучах. Начинали мы свои маршруты, как я уже упоминал, с уренской базы, где был продовольственный и вещевой склад на ручье Барачном, из которого мы и брали продукты, выходя в маршруты. Первые маршруты по водоразделам верховьев Урена, главным образом по гранитным сопкам Восточно-Нечинского массива, были пешие с ежедневным возвращением на базу. Но вскоре пришлось и удаляться с базы на запад, на юг и на восток. Лошадей было мало. В разведрайоне их было только 6 голов, и давали нам их крайне неохотно. Обычно наше имущество только отвозили на одной или на двух лошадях на тот или иной участок, а потом мы уже сами перемещали свою стоянку, перетаскивая имущество на своих горбах. Работать было крайне тяжело. Из-за недостатка транспорта мы иногда оказывались без пищи, так как пополнить ее запасы за счет дичи удавалось редко. Ее было очень мало. Однажды мы продолжили свой маршрут, уйдя из палатки на несколько дней и уже израсходовав захваченные запасы продовольствия. В один из дней мы встретились с Парфенюком. Вернее, он нас увидел, подкрался и взял нас на прицел, какяуже рассказывал. Когда он узнал, что у нас нет продовольствия, он рассказал, где у него спрятана часть продуктов: мука и еще что-то, кажется, мясные консервы. Простившись с ним, мы отправились на указанное место, но из-за наступившей темноты поиски клада пришлось отложить до утра. Потом мы нашли его, сварили галушки без соли, и, когда приступили к завтраку, из-за кустов послышалось: «Что за люди?». Это уже Авраменко хотел взять нас в плен, как я уже вспоминал ранее. С уренской базы мы обрабатывали большую часть района, начав и закончив здесь работу. Какое-то время в середине рабочего периода мы трудились в бассейне верхнего течения Большой и Малой Нечи и их притоков. Где-то на водоразделе между этими двумя я видел невероятно красивый коренной выход очень мощной жилы молочно-белого кварца. Это скала высотой метров 8, длиною около 6 и шириной (мощность жилы) около 4 м. Издали она похожа на красивую церковь, возвышавшуюся среди темно-зеленых зарослей кедрового стланика. Другая, тоже мощная жила такого же молочно-белого кварца также образовала коренной выход, удивительно похожий формой, размерами и цветом на обыкновенную бязевую палатку. Мы шли где-то по водоразделу, кажется, между притоками Большой Нечи и вдруг увидели у себя на линии маршрута впереди палатку, полускрытую зелеными и высокими кустами кедрового стланика. Остановились, посоветовались о том, как быть: стоит палатка, людей не видно. Решили напасть — ведь не уходить же в сторону. Единственной вооруженной силой среди нас был я со своей ижевской бескурковой двустволкой. С двумя жаканами в стволах я подкрался через седловину между кустами кедрача, опять всматривался в палатку, подозревая — «не кварцевая ли это глыба?». Нет, мне показалось, что не кварц, а палатка. Тогда я бросился в атаку. С ружьем в руках я быстро выскочил на небольшой пригорок и оказался перед большой кварцевой глыбой. Встречались там же и скалистые останцы мощных даек кварцевого порфира, возвышающиеся подобно древним каменным стенам, покрытым лишайниками на вершинах и на склонах невысоких сланцевых сопок с плавными линиями очертаний. Перед своим отъездом В. Т. Матвеенко написал мне распоряжение о том, что в связи с поздним началом полевых работ продолжать их следует до снега и выходить из района с оленями, то есть с оленьим транспортом, когда начнется завозка в район запасов для зимней работы разведки. Но договора с орочами об оленьих перевозках все еще не было. Осенью они много раз приезжали по этому вопросу на уренскую базу, пили чай, разговаривали с Н. Н. Мальковым, что-то обещали, но договора не подписывали. Один раз уже по снегу приезжал к нам на оленях председатель или заместитель председателя Среднеканского райсовета якут Винокуров с солдатом, вооруженным винтовкой со штыком, и еще с каким-то сопровождающим. Винокуров тоже был вооружен крупнокалиберным винчестером. Тогда только стало мне понятно, почему не был еще подписан у нас договор с орочами о перевозках. Предстояло собрание не коллективизированных еще орочей по вопросу коллективизации. Они разбегались по тайге, а председатель гонялся за ними, уговаривал явиться на собрание. Роль солдата не совсем понятна, но он предназначался, должно быть, для защиты председателя от «элементов». Ведь не для убеждения же граждан явиться на собрание сопровождал он председателя. Но это было уже в октябре, а в июле приезжал как-то к Н. Н. Малькову ороч Иван Громов — охотник, который привез Н. Н. Малькову, как обещал, медвежью шкуру, содранную, как просил Н. Н. Мальков, с когтями и с хвостом. Не было на ней только ушей, а глазные, так же, как и ушные, отверстия, были тщательно зашиты из предосторожности, чтобы медведь не мог «подсмотреть или подслушать», какой охотник его убил, и чтобы не мог рассказать об этом какому-нибудь другому медведю, чтобы тот не отомстил за его смерть. Он взял за шкуру с Малькова 80 рублей. Показывал он нам еще шкуры волка и рыси, которые вез в Оротук, чтобы сдать на факторию. Запомнил я этого охотника потому, что встречал его еще 5,7 и 15 лет спустя.На Хатыннахе
В самом конце полевых работ мы исследовали западный край Оттахтахского гранитного массива, проделывая маршруты по отрогам правого водораздела Хатыннаха. Наша палатка стояла у русла этой реки недалеко от ее устья. Вокруг среди редкого леса в высокой траве были протоптаны торные заячьи тропы, образующие густую сетку. Зайцев было много. Они уже побелели, так как был уже конец сентября, а снега еще не было, и поэтому их было легко находить и стрелять. Мы это и делали, правда, только мимоходом, направляясь в маршрут или возвращаясь в палатку. Ели зайцев по нескольку раз в день и еще несколько штук привезли с собой на Урен. Убили там мы за 7 дней 18 зайцев. Парфенюк особенно наловчился бить их и убил 11 штук. Я убил пять, а Дорохин — двух. И ни одного дня мы не провели там, не ходя в маршрут. Кажется, в последний день перед отъездом кто-то из нас заметил горностая возле палатки. Он занимался перетаскиванием заячьих лап и голов, валявшихся вокруг палатки, к себе в нору. Вернее, это была не нора, а промоина в борту терраски. Она начиналась сверху и опускалась метра на 1,5 вертикально, а потом горизонтально выходила в борт. Вероятно, там горностай не жил, а решил просто использовать ее в качестве склада продуктов. Мы очень легко поймали этого горностая, подставив открытый пустой мешок к нижнему отверстию описанной промоины, пошуровав жердью в верхнем. Он моментально выскочил и оказался в мешке. Но потом я решил не возиться с горностаем и выпустить его на свободу. Для этого мы открытый мешок расстелили плашмя по земле. Сидевший в нем горностай сначала не двигался в мешке. Потом он осторожно сделал пару шажков к краю мешка. Достигнув горловины, он высунул на свободу свою изящную белую головку с черными бусинками глаз и таким же носом. Осмотрелся, повернув головку назад на все 180 градусов, и лишь потом побежал дальше, впрочем, не особенно торопясь скрыться. Вернувшись на Урен из-за того, что снегом покрыло уже все кругом, мы поселились в новом небольшом бараке, который был недавно построен. Теперь в нем жили я, Дорохин, Авраменко, Парфенюк, Пучков, Мальков и Турко. Однажды я проснулся от шепота Дорохина. Оказывается, он только что слышал, как кто-то у нас в бараке взвел курки ружья. В бараке была черная темнота, и Дорохин ходил от одного к другому, пробираясь ощупью, и шепотом выяснял, кто же из нас взводил курки. Но все спали, и ему приходилось каждого из нас будить. Было непонятно, как мог кто-нибудь чужой войти в барак, если дверь была заперта на крючок. Зачем понадобилось взводить курок, если в такой кромешной тьме не видно, куда нужно стрелять. Поэтому сначала было жутко. Но вскоре я додумался, что Дорохин, должно быть, в чутком полусне услышал, как за стеной барака, за окном или за дверью громко звякнула подкова одной из бродивших вокруг лошадей. Возле барака стояла палатка, в которой мы обедали, называя ее поэтому столовой. Она отапливалась железной печкой, которую Турко обложил гранитными валунами, чтобы они подольше сохраняли тепло. За несколько дней в местах, где камни прикасались к печке, она прогорела. Была у нас еще одна палатка, в которой мы занимались камеральной работой. Однажды я в ней возился с полевой геологической картой, когда зашел кто-то из знакомых тунгусов. Увидев карту, он издал какие-то радостные возгласы и стал громко называть изображенные на ней реки и ручьи. Меня это удивило — ведь они картами не пользуются, почему же он так легко, играючи умеет читать ее. Потом я сообразил, что этот район, как и очень многие другие, он, как и другие тунгусы, якуты, много раз видели сверху и отлично знают безо всяких карт, потому что держат их в своей памяти. Но все равно это было удивительно.Исход
Долго мы ожидали оленей. Наступила уже середина октября, давно уже лежала толстая пушистая пелена снега, морозы с каждым днем становились крепче, свирепее. Вода в Урене, на берегу которого стоял наш барак, по утрам исчезала, не текла и лишь днем, когда немного теплело, появлялась в русле вновь. После приезда Винокурова стало ясно, что нам не повезло, что орочи еще долго будут заняты делами коллективизации и ожидать оленьего транспорта можно еще не скоро. Может быть, и месяц, и больше пройдет в ожидании. Зимней одежды у нас с собой не было, а морозы в конце октября и в начале ноября могут достигать и минус 50 градусов. Стало ясно, что нужно уходить, и как можно скорее. Мы решили везти свои грузы — коллекции и личные вещи на оленьих нартах, целый штабель которых лежал у нас возле склада, запряженных лошадьми. Каждую нарту решили везти на лошади. Но грузов у нас оказалось много, тем более что с нами отправлялся завхоз Турко, уезжавший в отпуск на «материк». Он прихватил с собой продуктов: масла, сахара, консервов, чтобы обеспечить себя в отпуске хотя бы на первое время. Он знал, что время тяжелое, предвоенное и продуктов не хватало. Две нарты оказались у нас нагруженными тяжело, причем кладь лежала высоко. Теперь я удивляюсь тому, что тогда не додумался до того, чтобы разложить груз каждой из нарт на две нарты и запрячь их обе в ту же одну лошадь. Думаю, что это было бы удачным решением вопроса, выходом из положения, который позволил бы нам благополучно доставить свой груз. Но такая идея почему-то не осенила ни меня, ни никого из нас, когда мы уже тронулись в путь и были по уши заняты тем, чтобы вновь, вновь и вновь ставить опрокинувшиеся нарты на полозья и пытаться предотвращать их новое падение. Мы, конечно, понимали, что от частого опрокидывания у нарт быстро расшатаются и совсем вывихнутся копылья, и они выйдут из строя, и просто удивительно, как можно было не додуматься до того, чтобы разложить груз или хотя бы привязать к груженым нартам сзади запасные порожние. 15 октября мы, наконец, запрягли свои нарты и тронулись в путь. Впрочем, «запрягли» — это не то слово, ведь нарта не имеет оглобель или дышла. Впереди у нее так называемый барак, через который перебрасываются алыки — примитивная оленья упряжь. К этим баракам мы и крепили конские постромки. Хомуты нашим лошадям были не нужны, и мы их заменили чем-то наподобие оленьих алыков. С первых же шагов нарты начали опрокидываться, а мы стали бороться с этим, стараясь поддерживать их. Это, конечно, помогало, но все же обе нарты продолжали опрокидываться достаточно часто. Мы старались все время идти по обе стороны каждой из них, но нам далеко не всегда удавалось предотвратить опрокидывание, и мы опять и опять поднимали и ставили их на полозья. Омчакская долина, которую колымчане шутя называют «долиной трех маршалов» по названиям приисков, работавших в 40–50-е годы ХХ века и носящих имена маршалов Буденного, Тимошенко и Ворошилова. На фото хорошо видно место слияния рек Теньки и Омчака. Река Тенька входит в долину перпендикулярно слева. После слияния река имеет название Тенька. Фото 2013 г.
Омчакская долина, которую колымчане шутя называют «долиной трех маршалов» по названиям приисков, работавших в 40–50-е годы ХХ века и носящих имена маршалов Буденного, Тимошенко и Ворошилова. На фото хорошо видно место слияния рек Теньки и Омчака. Река Тенька входит в долину перпендикулярно слева. После слияния река имеет название Тенька. Фото 2013 г.
Километров пять от базы мы шли по целине, барахтаясь в рыхлом, пушистом, хотя и не глубоком снегу. Здесь особенно часто опрокидывались нарты. Потом стало немного легче, когда вышли из Урена и добрались до следа оленьих нарт, прошедших по долине Ченера. По этому следу мы и пошли дальше к перевалу в истоки Омчака. Идти было немного легче, чем в начале пути, но очень немного, потому что нарты опрокидывались так же часто, как и раньше. К ночи мы, наконец, вскарабкались на перевал, где и остановились на привал, развели костер, сварили борщ из фаршированного перца, мясных консервов и чего-то еще. Помню, что у нас не оказалось соли и взамен ее мы сыпали в борщ мясные кубики. Хлеб был сильно заморожен, и его приходилось долго держать у огня. Ночью мы не спали, потому что мороз был большой, а костер маленький. Только отдыхали сидя у костра. В дальнейший путь тронулись еще затемно. Спустились с перевала и, пройдя немного по верховьям Омчака, обнаружили, что одна из нарт уже непригодна к дальнейшему пути, так как у нее полностью вывихнулись копылья одного из полозьев. Решили оставить ее здесь на месте, идти с другой до Омчакского разведочного участка, там разгрузить вторую нарту, а потом вернуться за первой и, перегрузив груз на целую нарту, привезти и его на участок. Было еще довольно раннее утро, и казалось, что времени на все это у нас вполне хватит. Но когда разгрузили эту вторую нарту, которую до участка тащили уже две наши лошади, запряженные цугом (запряженные друг за другом. — Ред), оказалось, что и она уже требует ремонта, которым немедленно и занялся наш возчик-заключенный. Но он не очень спешил с ремонтом. Как потом выяснилось, делал он это намеренно, чтобы дотянуть до вечера, заставить нас отложить поездку за оставшимся грузом до утра и тем самым дать возможность своим сообщникам из заключенных Омчакского разведочного участка, которых он информировал об оставленном грузе, сбегать к брошенной нарте, чтобы там кое-чем поживиться.
 Тенькинская долина. Слева вверху устье ручья Буденного. Фото 2014 г.
Тенькинская долина. Слева вверху устье ручья Буденного. Фото 2014 г.
Но расстояние оказалось большим, и отправившиеся туда воры не успели вернуться вовремя, а утром, когда производилась поверка и наряд, выяснилось, что двух заключенных нет. Тогда же об этом было доложено прорабу. Сразу же стало ясно, куда они ушли и зачем, и что они скоро явятся. Они действительно скоро вернулись, едва наша нарта отправилась за оставленным грузом. Оказалось, что разграбили продукты Турко и перекопали пробы Тучкова, искали золото, но его не было. Украденное масло и сахар они спрятали на разведочной линии в снегу возле выкладок проходок и долго не признавались, где оно. Потом решили вернуть лишь часть украденного, так как они успели разделить его на части, когда прятали. Прорабом участка был один из участников Халхингольских боев с самураями. Он много успел рассказать мне, когда другие ездили за оставленным грузом. Рассказывал о том, что от их роты осталось в живых лишь несколько человек, о японских поджигателях танков, действовавших бутылками с бензином, и о прочем, чего я уже не помню. О том, что нам теперь делать, когда мы уже лишились транспорта, раздумывать не приходилось. Было ясно, что нужно не сидеть и не ожидать, когда появится транспорт. Нужно было действовать. Решили оставить груз там, где находились, на Омчакском разведочном участке с тем, чтобы его вывезли, когда начнут ходить конные транспорты, а самим отправиться дальше в пешем строю, захватив с собой только полевые книжки, дневники, карты и продукты на дорогу. Так и сделали и, захватив с собой по маленькой круглой буханке, по банке консервов и упомянутые материалы, двинулись дальше. Шагали бодро, но зимний день короток, и мы вынуждены были остановится на ночлег, выйдя в долину Теньки где-то вблизи устья ручья Буденного. Сидели возле большого костра, но спали урывками только некоторые. Я этого не мог себе позволить без теплой одежды, в телогрейке на 35-градусном морозе. Возобновили свой путь мы еще в темноте, доев остатки консервов и хлеб. Шли с намерением достигнуть в этот день Сарапуловской базы. Но нам не повезло. Новая неудача подстерегала нас. При переправе через узенькое русло Теньки Турко, тащивший свои чемоданы с пожитками и потому нагруженный больше всех нас, вместе взятых, вместо того чтобы быстро пройти с берега на берег, вступил на переброшенную через русло и вмерзшую в лед жердь. На ней он стал для чего-то испытывать прочность жерди и льда, вместо того чтобы идти не останавливаясь. Для этого он на середине русла остановился, присел два раза и быстро выпрямил ноги. Переправа рухнула, и он оказался выше колен в воде на 35-градусном морозе. Пришлось немедленно развести костер, чтобы он мог переодеться в сухое. Если бы такой же случай произошел с кем-нибудь другим, то ему не во что было бы переодеться, так как ничего ни у кого из нас с собой не было, но Турко тащил с собой в отпуск весь свой гардероб, и потому это не было для него проблемой. Правда, вместо намоченных щегольских торбасов ему пришлось надеть какие-то фасонистые хромовые сапоги, а в них тогда было ему, должно быть, нежарко. Поэтому мы были вынуждены остановиться на ночлег совсем рано, добравшись только до устья ручья Игуменовского, где стоял барак. Дальше нам идти было нельзя, потому что Турко отморозил бы при этом себе ноги. У нас совсем не было продуктов, но в бараке мы нашли полмешка овсяной крупы, соль и селедку. Поужинали и выспались всласть в теплом помещении в последний день, пройдя еще 14 километров, добрались до Сарапуловской базы. Там все остались отдыхать на пару дней, чтобы отъесться, а мы с Авраменко, отдохнув до вечера и переночевав, утром пошли дальше, вскоре перебравшись через Теньку, добрались до нового участка дороги, которого в прошлом году еще не было. По ней мы как-то быстро прошагали километров 16 и оказались на 223-м километре, где я был очень обрадован, пристроившись без промедления на попутный грузовик, идущий до Бутугычага, и через полчаса был у брата на руднике. Еще через пару дней я прибыл без новых приключений к себе «домой» на Иганджу. Приключение, впрочем, у меня в дороге было. Когда я дремал в столовой на 169-м километре, у меня украли мешочек с тремя десятками вкусных пирожков с мясом, которые напекла Лиля, и рукавицы. Жаль было пирожков.
Опять на Игандже
Наступала вторая зима на Игандже, или третья колымская зима. Нужно было приниматься за камеральную обработку материалов. Но мои коллекции еще не были доставлены на Иганджу, и начальство поручило мне продолжать и заканчивать ту работу, которую я выполнял весной по поручению Б. Л. Флерова, по россыпи Бутугычага. В поселке я застал некоторые перемены. Выстроили новый, уже второй дом ИТР, таких же размеров, как и первый. Он был тоже одноэтажный, из 20 комнат, расположенных по обеим сторонам длинного коридора, проходящего из конца в конец, и с общей кухней против «парадного подъезда». В этом доме я и поселился вместе с геологом П. Н. Котылевым в комнате размерами 3×4 метра, предпоследней направо по коридору в правом крыле. Была построена и камералка для полевиков, хотя и временная, наподобие барака таежного типа, но все же достаточно просторная, теплая и светлая. В ней было гораздо удобнее работать, чем в палатках, где мы жили и работали годом раньше. Я не измерял ее даже шагами, но приблизительно размеры ее составляли 5×8 метров. В средней части одной из узких стен камералки была одностворчатая входная дверь, по сторонам которой стена была занята широкими стеллажами для геологических коллекций, располагавшимися от пола до потолка. Остальные три стенки, прорезанные, кажется, 8 окнами, были заняты неподвижными стеллажами, заменяющими столы и имевшими соответствующую высоту. Стояли стулья и табуретки. В середине камералки стояла большая сварная печь из толстого железа и три или четыре столика, за которыми тоже сидели камеральщики. Начальники партий рылись в своих полевых материалах, перечитывая свои записи в полевых книжках и дневниках, просматривая карты и схемы, обдумывая разделы и главы отчета и дружно скрипя перьями. Прорабы и коллекторы вычерчивали карты или возились с образцами геологических коллекций. Вид на новый мост на Игандже с перевала. В верхней части хорошо видно место, где в 1939–1941 гг. располагалось Тенькинское райГРУ. Фото 2014 г.
Вид на новый мост на Игандже с перевала. В верхней части хорошо видно место, где в 1939–1941 гг. располагалось Тенькинское райГРУ. Фото 2014 г.
Сооружение камералки было заслугой В. Т. Матвеенко. Он затратил много труда, чтобы добиться согласия на это начальства и на то, чтобы организовать это строительство, которым он сам и руководил. Все мы были искренне благодарны ему за это. Через неделю с небольшим после приезда я знакомил начальство со своими полевыми материалами. Присутствовали при этом главный геолог Н. П. Аникеев и А. С. Красильников, уже принявший бразды правления отделом от уезжавшего в отпуск В. Т. Матвеенко. Материалы им понравились. Оба они полушутя уговаривали меня ехать и в будущем году в поле на стотысячную съемку, а я твердил, что поеду в отпуск с последующим увольнением. Не знал я тогда, что поеду только через 8 лет, да и то с возвращением. В это время на Игандже уже действовал клуб, построенный весной и открытый к 1 Мая. Там проводился первомайский митинг, там же мы слушали Указ Верховного Совета о назначении И. В. Сталина председателем Совета Народных Комиссаров, а В. М. Молотова — наркомом иностранных дел. Здесь мы посмотрели кинофильм «Подкидыш». В ноябре уезжали наши отпускники и с ними И. Р. Якушев, приехавший на 4 месяца раньше, чем мы с братом, и В. Т. Матвеенко, вернувшийся из отпуска лишь в прошлом году. Меня удивляло, что он так часто ездит в отпуск, но он имел на это право, потому что до войны договор позволял ехать во второй отпуск продолжительностью 6 месяцев через полтора года после возвращения из первого отпуска. Я был на дешевой распродаже вещей, которую по случаю отъезда устроил В. Т. Матвеенко. Это было традиционное мероприятие, выработавшееся к тому времени на Колыме и базирующееся на отсутствии в продаже в торговой сети очень многих вещей, например, таких, как патефоны, пластинки к ним, фотоаппараты, другие культурные, галантерейные и спортивные товары, особенно ружья. Все это уезжавшие стремились продать подороже. Не был исключением в этом отношении и В. Т. Матвеенко, который продавал патефоны с большой кучей пластинок, бельгийскую двустволку двенадцатого калибра и цейсовский фотоаппарат. Я ничего покупать не собирался, а пошел туда просто для развлечения. Смотрел на процесс купли-продажи, напоминавший аукцион. Помню, патефон с пластинками купил П. И. Авраменко за высокую цену. Кто-то купил и другие вещи. Тогда же я слышал о жутком происшествии, случившемся на стоянке одной из полевых партий гидрометеорологического управления, изучавшей озеро Джека Лондона. Ночью на стоянку партии проникли беглецы, вооруженные топорами. Они напали на спящих работников партии и топорами нанесли многим из них серьезные ранения и увечья. Как мне помнится, пострадало 13 человек. Некоторые из них умерли, когда всех их везли на кунгасе через Большие Колымские пороги к оротуканскому мосту, чтобы скорее доставить в ближайшую больницу. Рассказывал об этом прораб Санга-Талонской россыпной разведки Никитин, который принимал участие в доставке пострадавших к берегу Колымы и перевозке их на кунгасе к мосту и далее в больницу на машине.
1941
Соседи
Вместе со мной, как я уже упоминал, жил начальник партии Павел Николаевич Котылев, человек 42 лет, среднего роста, с покрасневшим от склонности к спиртному носом и лицом, подернутыми синеватыми жилками, часто с осоловелыми глазами навыкате; любивший выпить, очень неприятный в состоянии опьянения и не умевший остановиться, начав пить. Напившись, он всегда хотел пить еще, и лучшим способом остановить или усмирить его, найденным мною путем опытов, было повалить его на кровать и подержать некоторое время на ней, не позволяя вставать. Он засыпал и был в состоянии проспать потом сутки. Так было на Новый год, встретив который немного раньше, чем все остальные, и проснувшись потом вместе со всеми утром, он вспомнил, как сосед гидролог Шпак ходил по поселку в другие дома поздравлять знакомых с Новым годом в одних тапочках. Его почему-то ужасно веселила возникшая в его мозгу мысль о том, что «Шпачок, должно быть, отморозил лапки». Проверка этого предположения была хорошим поводом, чтобы с утра начать продолжение вчерашнего, и он, предвкушая это, заразительно смеялся, весело без конца повторяя свою фразу о Шпачке и его лапках. Потом он отправился в соседнюю комнату, где жил Шпак, и с ее жильцами повторил праздничные возлияния, напившись почти до невменяемости. Я вынужден был применить к нему упомянутый способ усмирения. Это нужно было, чтобы «поставить точку»; притащил его домой, повалил на кровать и придержал, потому что он продолжал рваться к соседу, пытаясь вскочить с кровати. Наконец он заснул и не просыпаясь спал до вечера и дальше до утра. За полчаса до выхода на работу я принялся его будить. Когда он проснулся, наконец, то был удивлен — зачем я его бужу, если сегодня праздник, и не хотел мне поверить, что праздник он проспал, а сегодня уже не первое, а второе января. В комнате справа от нас жили два геолога. Иван Иванович Тучков, приехавший весной после окончания Московского государственного университета, вместе со мной ездил на Нечу, хотя работал там в другой крупномасштабной, геолого-разведочной или рудно-поисковой партии. Он любил повторять, что окончил Московский государственный университет, особенно напирал на слово «государственный», как будто у нас в стране были еще какие-нибудь не государственные университеты. Любил он также повторять, что приехал на Колыму «по решению ЦК», что звучало очень веско. Вторым был тоже молодой геолог, также окончивший в этом году Иркутский государственный университет, Георгий Николаевич Чертовских. Он приехал под осень и в поле в этом году не попал. Теперь он занимался составлением самой первой сводной геологической карты по нашему управлению. Это было очень сложно, потому что, во-первых, топографической основы не было, все выполненные работы основывались на глазомерной съемке. Не было почти совсем находок руководящих окаменелостей, и возраст отложений почти всеми геологами определялся условно на основании сходства литологического состава пород с породами сравнительно отдаленных районов. Но он был самоуверен не менее чем И. И. Тучков, и думал, что сумеет завершить начатую работу. Но начальство смотрело на это дело как на ученические упражнения, и он действительно не успел закончить ее до выезда в поле в следующем году. В комнате по другую — левую сторону от нашей, кроме упомянутого гидролога Шпака, с которым на Новый год подружился П. Н. Котылев, жили еще А. Н. Парфенюк, уже два полевых сезона проработавший со мной на камеральной обработке материалов, а также экономист из планового отдела Виктор Копыткин и складской работник Гурновский, любивший постоянно повторять, что он «после операции». Эти трое ребят лет по 23–26 от роду среди зимы занялись такого рода физической зарядкой: в одних трусах и валенках, без шапок, рукавиц и другой одежды они выбегали на улицу и бежали по своему маршруту, проложенному во всем улочкам поселка под команду: «раз, два, три, четыре, раз…», подаваемую одним из них. Они проделывали это каждое утро, несмотря на свирепейшие морозы и оставаясь на морозе не менее 15 минут. В комнате напротив нашей вскоре поселился новый начальник геолого-поискового отдела, которого прислали из Магадана на место уехавшего в отпуск В. Т. Матвеенко — Александр Леонидович Лисовский с женой. В середине ноября в нашу комнату поселили третьего жильца, высокого рыжего снабженца. Я решил, что без него в нашей комнате будет лучше и что его нужно просто выморозить, как клопа. Без особых хлопот я осуществил свой замысел. Я просто перестал топить печку, а делать это, пользуясь сырыми дровами, нелегко. У П. Н. Котылева не хватало терпения на растопку, а рыжий наш тем более не умел этого делать. Он уходить не хотел, несколько дней спал не раздеваясь и наваливая на себя всю свою одежду, но в конце концов ему пришлось сдаться — он стал ходить ночевать в какую-то другую комнату, а потом и совсем ушел. На охоту я теперь ходил почему-то гораздо реже, чем в прошлом году. Должно быть, потому, что меньше стало таких любителей охоты, как Ю. В. Климов, и ходить теперь приходилось одному. Коридор нашего дома был всегда холодный, обледенелый. В нем было, конечно, заметно теплее, чем на улице, потому что, несмотря на отсутствие отопления, он обогревался воздухом, поступающим из комнат, а наружные двери не всегда были открыты. Но теплый воздух поднимался к промороженному потолку из непросушенного сырого леса и так создавал зону положительной температуры. Теплый воздух, просачиваясь сквозь щели, растапливал снег, лежавший на потолке, потому что дом недавно построили и крыши на нем не делали, считая, что зимой она не нужна. Поэтому с потолка непрерывно капала ввода, образуя на полу широкие приземистые ледяные сталагмиты, на которых скользили и спотыкались о них люди.Классная дама
Перед своим отъездом в отпуск В. Т. Матвеенко предложил начальству назначить его преемником Александра Сергеевича Красильникова. Это была вполне подходящая кандидатура, и начальство на это согласилось. Должно быть, месяца через полтора А. С. Красильников чувствовал себя руководителем нашего коллектива, начальственно поглядывая из угла нашего курятника и тем самым поддерживая «на уровне» трудовую дисциплину в отделе. Курятником мы тогда называли нашу камералку из-за того, что столы-стеллажи в ней были подобны насестам в курятнике. А мы сидели за нашими столами-стеллажами, напоминая кур на них. И. И. Тучков успел прозвать А. С. Красильникова «классной дамой», присматривавшего за соблюдением трудовой дисциплины в отделе и боровшегося с нарушениями ее, пресекавшего возникающие там или сям разговоры. Прозвище привилось, и многие работники отдела стали так называть нашего начальника, конечно, за глаза. Тем не менее Александр Сергеевич гордился тем, что ему доверили высокий пост начальника отдела, и это была законная гордость. Но почему-то магаданское начальство иначе взглянуло на этот вопрос и не утвердило А. С. Красильникова на этой должности, назначив на нее более старого геолога Александра Леонидовича Лисовского, вернувшегося недавно из отпуска. Его я знал по литературе еще во время работы в Криворожье, потому что он когда-то вместе с Музылевым работал у академика Н. И. Свитальского и Ю. И. Половинкиной при изучении криворожских месторождений. Естественно, что А. С. Красильников был до глубины души незаслуженно оскорблен этим нетактичным поступком начальства.Перемены
Большие перемены претерпел за год личный состав работников управления. Полностью переменился состав начальства. Я уже упоминал, что на посту начальника геолого-поискового отдела В. Т. Матвеенко сменил сначала А. С. Красильников, а затем А. Л. Лисовский. Это произошло уже в конце года, а гораздо раньше, еще перед моим отъездом в поле А. М. Фиш был куда-то переведен — кажется, в Тенькинское горнопромышленное управление, а на его место был назначен Николай Евгеньевич Заикин. Немного позже Бориса Леонидовича Флерова перевели на Яну во вновь организованное оловянное управление как одного из ведущих специалистов-оловянщиков. Его место занял у нас вновь прибывший с «материка» кандидат геолого-минералогических наук Николай Петрович Аникеев. На должности начальника отдела рудных разведок Бориса Борисовича Лихарева сменил Борис Багдасарович Евангулов. Лишь в россыпном отделе правил по-прежнему Виктор Михайлович Родионов, еще в конце предыдущей зимы сменивший здесь уехавшего в связи с болезнью Петра Емельяновича Станкевича. Но этим перемены в рядах начальства не ограничились. В один из дней начала декабря, вечером я вдруг услышал, что наш начальник управления сидит в изоляторе, карцере или так называемом кандее, как его называли заключенные. Оказывается, часа два тому назад судья, приезжавший специально для этого, разобрал его дело и осудил его на два года тюремного заключения. А дело заключалось в том, что он, будучи начальником управления, продлил на два дня командировку находившейся в Магадане сотруднице управления Евгении Николаевне Поповой, которая не смогла из-за отсутствия транспорта вернуться вовремя из командировки и прислала об этом телефонограмму. Автобусного сообщения тогда не было, и единственным видом транспорта для пассажиров, едущих в командировки и возвращавшихся из них, были попутные грузовые автомашины, на которых не всегда можно было уехать туда, куца было нужно. Но примерно за полгода до этого был издан Указ Верховного Совета о судебной ответственности за прогулы, за опоздания на работу и о пособничестве прогульщикам. Новая метла мела. Опоздание из командировки Е. Н. Поповой расценили как прогул, а действия Н. Е. Заикина — как пособничество. Е. Н. Попову почему-то не судили, а Н. Е. Заикину дали два года тюрьмы, которые он отсидел полностью, хотя и не совершил никакого преступления. Его тогда же куда-то увезли, и я больше никогда его не видел. Начальником управления стал тогда Н. П. Аникеев, а главного геолога временно замещал Евгений Пантелеймонович Машко. Вскоре главным геологом был назначен вернувшийся из отпуска Израиль Ефимович Драбкин. Произошли перемены и в составе начальников партий. Не вернулись партии Н. П. Резника, Ю. В. Климова, Авдеева, работавшие на Омсукчане и переведенные на вновь организованное предприятие, которое уже не подчинялось нашему управлению. В конце года был переведен в Южное управление Г. С. Никитин в связи с передачей этому управлению площади, на которой работала партия Никитина. Уехал в отпуск И. Р. Якушев. Пополнились ряды начальников партий П. Н. Котылевым, вернувшимся из отпуска и уже успевшим провести полевые работы, Евгением Пантелеймоновичем Машко, Галиной Александровной Топуновой и Алексеем Федоровичем Михайловым, тоже успевшим провести полевые работы, а также Варварой Сергеевной Ракитиной, приехавшей одновременно с Иваном Ивановичем Тучковым и отработавшей на Сеймкане по соседству с И. Р. Якушевым и уже упомянутым Г. Н. Чертовских. В декабре прибыли начальники переданных нам в связи с отторжением в нашу пользу бассейна реки Кулу трех полевых партий — Евгений Николаевич Костылев, Сергей Иванович Кожанов и Василий Михайлович Завадовский, или «чума», как называли его за глаза первые два его товарища. Явился также работавший ранее на Кулу и поэтому тоже переведенный к нам Христофор Иванович Калугин, который теперь считался руководителем трех упомянутых начальников партий.Николай Петрович Аникеев (1908–1993)
 Геолог, ученый, в 1950 г. окончил Ленинградский государственный университет, работал в Иркутске в Восточно-Сибирском геолого-разведочном тресте, преподавал в горном институте. Работал в Арктическом институте Главсевморпуги. В 1940 г. направлен на работу в Дальсгрой. С 1940 г. — главный геолог Тенькинского ГПУ, затем начальник райГРУ и ГРОТГПУ Под его руководством открыты золоторудные месторождения Омчакской долины. Позже работал начальником райГРУ Колымы и Чукотки. С 1956 по 1971 г, — главный геолог Северо-Восточного геологического управления. Кандидат геолого-минералогических наук. Автор ряда научных работ по вопросам геологии и полезным ископаемым Арктики, геологии и металлогении Северо-Востока России. Герой Социалистического Труда. Награжден орденами и медалями.
Геолог, ученый, в 1950 г. окончил Ленинградский государственный университет, работал в Иркутске в Восточно-Сибирском геолого-разведочном тресте, преподавал в горном институте. Работал в Арктическом институте Главсевморпуги. В 1940 г. направлен на работу в Дальсгрой. С 1940 г. — главный геолог Тенькинского ГПУ, затем начальник райГРУ и ГРОТГПУ Под его руководством открыты золоторудные месторождения Омчакской долины. Позже работал начальником райГРУ Колымы и Чукотки. С 1956 по 1971 г, — главный геолог Северо-Восточного геологического управления. Кандидат геолого-минералогических наук. Автор ряда научных работ по вопросам геологии и полезным ископаемым Арктики, геологии и металлогении Северо-Востока России. Герой Социалистического Труда. Награжден орденами и медалями.
Евгений Пантелеймонович Машко (1908–1955)
 Геолог, работал во Всесоюзном институте минерального сырья, в апреле 1940 г. прибыл по договору на пароходе «Феликс Дзержинский» на Колыму, с 1940 г. в Тенькинском райГРУ начальником геологической партии, зам. начальника по политической работе, в 1944 г. — начальник Омчакского разведрайона ТГПУ, в 1945 г. — старший геолог ТГПУ, с 1947 года — в ГРУДС (геологоразведочное управление Дальстроя). Первооткрыватель золоторудного Наталкинского месторождения. Лауреат Сталинской премии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Геолог, работал во Всесоюзном институте минерального сырья, в апреле 1940 г. прибыл по договору на пароходе «Феликс Дзержинский» на Колыму, с 1940 г. в Тенькинском райГРУ начальником геологической партии, зам. начальника по политической работе, в 1944 г. — начальник Омчакского разведрайона ТГПУ, в 1945 г. — старший геолог ТГПУ, с 1947 года — в ГРУДС (геологоразведочное управление Дальстроя). Первооткрыватель золоторудного Наталкинского месторождения. Лауреат Сталинской премии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Израиль Ефимович Драбкин (1907–1973)
 Геолог. На Колыме с 1935 по 1971 г. Работал прорабом-геологом, руководителем разведочных работ на Бутугычагском оловорудном месторождении, главным геологом Тенькинского РайГРУ, заместителем начальника ТГПУ по геологоразведке. Участвовал в открытии ряда месторождений золота, олова и кобальта. Автор научных работ по геологии Северо-Востока. Лауреат Ленинской премии. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени и «Знак Почета», медалями.
Геолог. На Колыме с 1935 по 1971 г. Работал прорабом-геологом, руководителем разведочных работ на Бутугычагском оловорудном месторождении, главным геологом Тенькинского РайГРУ, заместителем начальника ТГПУ по геологоразведке. Участвовал в открытии ряда месторождений золота, олова и кобальта. Автор научных работ по геологии Северо-Востока. Лауреат Ленинской премии. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени и «Знак Почета», медалями.
Мария Сергеевна Венчугова (1912–1968)
 Геолог. Родилась в Петербурге в рабочей семье. После окончания Ленинградского горного института по договору в 1935 г. приехала на Колыму. Работала в Оротуканском ГРБ, в 1937–1938 гг. руководила Бутугычагской геолого-разведочной партией, открывшей новые рудные тела на месторождении «Бутугычаг», в 1940 г. заведовала петрографическим кабинетом в Сеймчанском райГРУ, с 1941 г. — в ГРС ТГПУ. Первооткрыватель оловорудного месторождения «Отечественное», где впоследствии был открыт рудник «Хениканджа». С 1944 г. работала в Юго-Западном ГПУ, с 1945 г. — в ГРУ Дальстроя. Позже жила и работала в Ленинграде.
Геолог. Родилась в Петербурге в рабочей семье. После окончания Ленинградского горного института по договору в 1935 г. приехала на Колыму. Работала в Оротуканском ГРБ, в 1937–1938 гг. руководила Бутугычагской геолого-разведочной партией, открывшей новые рудные тела на месторождении «Бутугычаг», в 1940 г. заведовала петрографическим кабинетом в Сеймчанском райГРУ, с 1941 г. — в ГРС ТГПУ. Первооткрыватель оловорудного месторождения «Отечественное», где впоследствии был открыт рудник «Хениканджа». С 1944 г. работала в Юго-Западном ГПУ, с 1945 г. — в ГРУ Дальстроя. Позже жила и работала в Ленинграде.
Христофор Иванович Калугин (1913–1972)
 Геолог, ученый. Окончил 3 курса Ленинградского геолого-разведочного техникума, прибыл на Колыму на пароходе «Феликс Дзержинский» 18 июня 1933 г. по договору в качестве производителя геологоразведочных работ. Работал в 1935 г. прорабом-геологом в ЮГПУ (Южном горнопромышленном управлении), с октября 1936 г. в Северном ГПУ — геологом, с января 1941 г. назначен руководителем группы камеральной обработки ГРС Тенькинского ГПУ, в 1943 г, — старший инженер Тенькинского ГПУ, в 1945 г, — начальник ГПО ГРОТГПУ. с 1958 г, — главный геолог Тенькинской комплексной геологической экспедиции, затем — в Центральной комплексной тематической экспедиции Северо-Восточного геологического управления. В 1956 г. защитил диссертацию, не имея высшего образования. Награжден орденами «Знак Почета» и Ленина, его именем названа вершина в районе реки Кулу.
Геолог, ученый. Окончил 3 курса Ленинградского геолого-разведочного техникума, прибыл на Колыму на пароходе «Феликс Дзержинский» 18 июня 1933 г. по договору в качестве производителя геологоразведочных работ. Работал в 1935 г. прорабом-геологом в ЮГПУ (Южном горнопромышленном управлении), с октября 1936 г. в Северном ГПУ — геологом, с января 1941 г. назначен руководителем группы камеральной обработки ГРС Тенькинского ГПУ, в 1943 г, — старший инженер Тенькинского ГПУ, в 1945 г, — начальник ГПО ГРОТГПУ. с 1958 г, — главный геолог Тенькинской комплексной геологической экспедиции, затем — в Центральной комплексной тематической экспедиции Северо-Восточного геологического управления. В 1956 г. защитил диссертацию, не имея высшего образования. Награжден орденами «Знак Почета» и Ленина, его именем названа вершина в районе реки Кулу.
Наш коллектив пополнился также геологом М. С. Венчуговой, женой нового главного геолога И. Е. Драбкина. Оба они — и Драбкин, и Венчугова уже трудились в нашем районе на Бутугычагском месторождении в 1937 году в период, когда оно разведывалось, а сами они были студентами ЛГИ (Ленинградского горного института. — Ред.), а после окончания почти год работали в Юго-Западном управлении.
Memorando
Павел Николаевич Котылев, как я уже упоминал, был, на мой взгляд, пожилым человеком. Он был на 11 или 12 лет старше меня, успел еще до революции окончить гимназию и принять участие в Гражданской войне в качестве командира роты, хотя Московскую горную академию он окончил на несколько лет позже того как я — Днепропетровский горный. Из гимназического курса он еще помнил латынь и греческий, чего никто из нас остальных не знал нисколько.Георгий Амбарцумович Кечек (1903–1983)
 Геолог. Выпускник Ленинградского горного института. На Колыме с 1955 г. Работал главным геологом геолого-разведочного отдела Южного горнопромышленного управления (ЮГПУ) Дальстроя. После организации в 1959 г. геолого-разведочного управления Дальстроя назначен его главным геологом. С 1945 г. — зам. начальника по геологоразведке в ТГПУ. С 1944 по 1955 г. руководил геолого-разведочной службой на Теньке, сначала начальником ГРО ТГПУ, а после организации в 1947 г. Верхне-Колымского райГРУ — его начальником. Принимал непосредственное участие в открытии и разведке ряда россыпных и рудных месторождений, в частности, разведке Наталки некого золоторудного месторождения. Награжден государственными наградами. Лауреат Сталинской премии 1950 г.
Геолог. Выпускник Ленинградского горного института. На Колыме с 1955 г. Работал главным геологом геолого-разведочного отдела Южного горнопромышленного управления (ЮГПУ) Дальстроя. После организации в 1959 г. геолого-разведочного управления Дальстроя назначен его главным геологом. С 1945 г. — зам. начальника по геологоразведке в ТГПУ. С 1944 по 1955 г. руководил геолого-разведочной службой на Теньке, сначала начальником ГРО ТГПУ, а после организации в 1947 г. Верхне-Колымского райГРУ — его начальником. Принимал непосредственное участие в открытии и разведке ряда россыпных и рудных месторождений, в частности, разведке Наталки некого золоторудного месторождения. Награжден государственными наградами. Лауреат Сталинской премии 1950 г.
Пользуясь этим, Павел Николаевич решил однажды пошутить или почудить. Он написал однажды мотивированное заявление с изложением каких-то своих претензий, кажется, в отношении повышения заработной платы, озаглавив его латинским словом memorando, и подал его нашему начальнику А. Л. Лисовскому. Это событие совпало с приездом к нам заместителя главного геолога Дальстроя Георгия Амбарцумовича Кечека. Естественно, что заявление с таким претенциозным названием попало ему в руки. В нашем отделе по случаю приезда начальства состоялось собрание, на котором обсуждались различные вопросы, в частности об отпусках начальников партий и другие. Помню, что я, отвечая на вопрос о сроке моего отпуска, сказал, что право на отпуск у меня наступает 1 марта и что я поеду с началом навигации. Г. А. Кечек в своем выступлении сказал, что у нас дело дошло до того, что некоторые пишут уже меморандумы. П. Н. Котылев, по-видимому, только того и ожидал. Он сразу же выступил с разъяснениями. Объяснил всем нам, не знающим латынь, и в том числе высокопоставленным начальникам, что memorando — это совсем не то же, что memorandum. Если второе — это что-то вроде ультиматума, то первое — это только записка для памяти. Впрочем, он имел возможность как ему было угодно переводить латынь людям, не знающим ее. Было смешно, хотя смеяться было неприлично, потому что в смешном положении оказались Г. А. Кечек и А. Л. Лисовский, показавшие незнание латыни, и смеяться приходилось именно над ними. Котылев мне иногда по вечерам рассказывал какие-то старые анекдоты о своем учителе греческого языка, который плохо знал русский язык и, забыв однажды слово «корова», говорил: «быкова жена». Еще в его рассказах был эпизод из периода немецкой оккупации Украины в 1918 году. Он вместе с родственником ехал на извозчике к железнодорожной станции. У его спутника был наган, который он завернул в газету и положил на колени. Когда их остановил немецкий часовой и спросил, указывая на сверток: «Was ist das?», он ответил «Das ist der Buterbrod». Но в отношении меморандума он нам наврал. В латыни действительно имеются два таких слова, но разница между смыслом первого и второго не так уж велика, и меморандум — это вовсе не ультиматум…
Чума
В нашей с П. Н. Котылевым комнате одно время был приют для выгнанных женами мужей. Несколько дней спасался у нас выгнанный собственной женой или, может быть, ушедший от нее сам из-за невыносимой обиды прораб техник-геолог Миша Щепиков. Причиной ссоры было то, что его жена Елизавета, из-за чего-то разозлившись на него, вылила весь спирт, который он со своим другом П. И. Авраменко, уже пришедшим к нему в гости, собрался выпить по случаю праздника — годовщины Октябрьской революции. Кроме того, с обидой в голосе он говорил, что Лиза недовольна тем, что он только прораб, а не начальник управления. А ему было тогда 20 лет или 22 года. Потом, помирившись с женой, он ушел домой. Вскоре после этого или, может быть, не очень скоро мы приютили и «чуму». Василий Михайлович Завадовский обладал вздорным, ершистым и вообще неприятным неуживчивым характером, за что он и получил прозвище «чума» от своих товарищей Е. Н. Костылева и С. И. Кожанова. Было поэтому неудивительно, что он однажды крепко поссорился со своей женой. Помню, он в первый день заявлял о своем твердом намерении развестись с ней. Я его убеждал в том, что это пустяки, которые не должны портить жизнь ему и жене и особенно детям, и что завтра или послезавтра намерения его изменятся, и что в любом случае ему не следует разводиться, потому что потом он уже не женится. Он возмутился: «Почему же?». А я ему ничего не ответил. Кажется, на другой день он исчез, а потом пришел и сообщил, что «был допущен…». Потом он ушел домой. Помню, как он сидел в нашей камералке и наблюдал за тем, как чертежница татарка Фатька, жена прораба Данилевича вычерчивала его карту, и неприятным голосом делал какие-то придирчивые замечания.Камералка
Кончался последний предвоенный год. Все бойко скрипели перьями, строча свои отчеты, а я все еще не мог приступить к своему вплотную, потому что мои коллекции все еще были на Омчакской разведке и их не торопились привозить. Поэтому составив лишь те главы, для писания которых не требовался каменный материал, я продолжал заниматься россыпями Бутугычага, вернее, заканчивал эту работу. Я закончил составление всех картографических материалов, написал краткую пояснительную записку к ним и доложил на Техническом совете о проделанной работе и о своих выводах. Помню, что доклад мой вызвал какие-то недоуменные вопросы со стороны разведчиков-россыпников, которым трудно было его переварить. Происходило это, когда Красильников еще правил в отделе, потому что он возглавлял технический совет, а Лисовского еще не было, как не было еще и слухов о нем. Это было не раньше середины декабря. В это время привезли, наконец, мои образцы; я успел отобрать и отдать в мастерскую сколки на изготовление шлифов, но мне еще не пришлось заняться своим отчетом, потому что «горел» подсчет запасов и начальство — Н. П. Аникеев и И. Е. Драбкин поручили мне заняться составлением пояснительной записки, обработкой данных анализов золота и определением предельного веса самородков. Промышленных россыпей золота тогда еще в нашем управлении было мало, повозиться с порученной мне работой пришлось дольше чем до конца января. Помню, сидели в большой комнате отдела подсчета запасов в недостроенном здании управления, где был сооружен только первый этаж, а к строительству второго еще не приступали и как-то не собирались приступать. В нашей комнате стояло не меньше чем 8 столов, за которыми сидели люди, переписывавшие таблицы и ведомости подсчета запасов, подсчитывавшие и возившиеся с планами россыпей. В отделе правил Валентин Иванович Буриков, но основную работу выполнял Николай Васильевич Овечко, уже несколько лет занимавшийся подсчетом запасов золота в россыпях, но не имевший специального образования. Конечно, он хотел вникнуть в дело и пытался, не роняя своего начальнического авторитета и апломба, исподволь выведать у Н. В. Овечко основные производственные секреты. Овечко же не хотел рассказывать их. — Николай Васильевич! — начинал заискивающе В. И. Буриков. — Вы сегодня не могли бы прийти вечером? — Нет, — решительно говорил Овечко, приводя какой-нибудь выдуманный повод. — Не могу. Так продолжалось изо дня в день, и В. И. Буриков оставался в невежественном состоянии, боясь уронить свой авторитет перед сотрудниками, особенно перед женщинами, занимавшимися перепиской материалов и проверкой переписанного. Именно охраняя свое достоинство, он и не хотел спрашивать что-нибудь у Овечко в присутствии других, пытаясь проделать это как-нибудь вечером с глазу на глаз. Иногда он пытался вкрадчиво-заискивающий тон в разговоре с Овечко сменить начальственным с металлическим тембром. Но и это не помогало. Овечко и тогда умел отвертеться и выскользнуть. Но, наконец, я закончил свою работу, и Буриков отправился защищать в Магадане подсчитанные запасы, а я смог вплотную заняться своим отчетом. Было потеряно мною слишком много времени. Другие ушли далеко вперед, и мне необходимо было торопиться.Мария Сергеевна Венчугова
Евгений Николаевич Костылев, проводя стотысячную геологическую съемку в бассейне ручья Нерючи на Хениканджинском гранитном массиве, обнаружил хорошие рудные проявления олова. Опробование аллювиальных речных отложений показывало хорошее высокое содержание оловянного камня в шлихах. На водоразделах и склонах были найдены свалы обломков рудных жил. Естественно, что Евгений Николаевич в следующем году хотел сам продолжить работу по выявлению рудных жил, по детальному изучению месторождения, которое он фактически уже открыл. Но на его беду нашлись любители снимать пенки, открывать уже открытое и получать за это премии и награды. Такими оказались Мария Сергеевна Венчугова, жена главного геолога, и, разумеется, ее муж. Ведь открытие месторождения сулило не только славу и государственные награды, но и вполне материальную мзду — премию за первооткрывательство. Костылев сопротивлялся некоторое время, не соглашался уступить свое право на славу, орден и премию, да и просто интересно ему было довести свое дело до конца, самому открыть месторождение. Но на него продолжали нажимать настойчиво и неуклонно. Его сопротивления хватило ненадолго, и он в конце концов уступил. «Уступил даме», как острили некоторые. В результате М. С. Венчугова получила орден Трудового Красного Знамени за то, что Е. Н. Костылев открыл месторождение, ее прораб М. Щепиков — медаль «За трудовую доблесть», а Костылеву не досталось ничего. Конечно, у Марии Сергеевны был уже некоторый опыт по оловорудным месторождениям. Ей выпало счастье четыре года назад производить десятитысячную съемку и рудные поиски на только что открытом Б. Л. Флеровым уникальном, единственном и неповторимом Бутугычагском месторождении, и кое-чему она там научилась. Возможно, даже, что в связи с этим она провела работу лучше, чем сделал бы это Е. Н. Костылев, но это только допущение, потому что мы никогда не узнаем, каких результатов достиг бы он. М. С. Венчугова все же не даром ела свой хлеб. Она вместе с топографом Г. Г. Логиновым додумалась до того, чтобы инструментально засекать точки важных находок при крупномасштабной геологической или литологической съемке и рудных поисках исхаживанием. С благословения и при участии И. Е. Драбкина была написана инструкция, разработана система сигнализации флажками, Логинов вычертил таблицу сигналов, подаваемых геологом-реечником, как решили они назвать такого геолога, топографу, и наоборот. Вокруг этого вопроса в октябре стоял шум и ликование участников, включая И. Е. Драбкина, и клубилось восхищение Н. П. Аникеева. Но почему-то более высокое начальство в Магадане прохладно и безо всякого восхищения или ликования отнеслось к этому, конечно, не изобретению, как хотели бы его именовать авторы, а просто дельному рационализаторскому предложению. Нам не разъясняли этого вопроса, и мы остались в неведении. Просто ликования и восхищение постепенно улеглись, и это дело забылось. Даже авторы о нем перестали вспоминать вслух. Но Е. Н. Костылева мы все ругали за то, что он уступил свой орден Венчуговой за Хениканджу.Опять реорганизация
Меньше полутора лет прошло после выделения геологической службы в самостоятельную систему и организацию районных геологоразведочных управлений в ней, что было сделано для улучшения поисков и разведок месторождений полезных ископаемых и ускорения наращивания разведанных запасов их для обеспечения ими нужд горной промышленности, как последовала новая реорганизация. Очевидно, для устранения разрыва и разнобоя в работе разведывающих и эксплуатирующих предприятий и улучшения координации их работы было решено упразднить созданную «автономию» геологической службы и вновь влить ее в горнопромышленные управления. Наше Тенькинское районное геолого-разведочное управление, не так давно выделившееся из Юго-Западного горнопромышленного управления, вливалось теперь в Тенькинское горнопромышленное управление. В конце зимы в Усть-Омчуге был построен новый двадцатикомнатный одноэтажный дом для работников геолого-разведочной службы, которые переезжали сюда из поселка Иганджа в связи с реорганизацией. В конце марта большая часть работников расформированного райГРУ переехала в Усть-Омчуг и поселилась в упомянутом новом доме и частично в других новых домах: одноэтажном четырехквартирном и восьмиквартирном двухэтажном, построенных Тенькинским горнопромышленным управлением. К этому времени в Усть-Омчуге были построены, кроме упомянутых домов, еще одноэтажный дом шоферов, такого же объема, как дом ГРС, а также одноэтажное здание школы, пожарная команда, почта, столовая, баня. На Игандже оставались только работники полевых партий, которые заканчивали отчеты, подготавливались к полевым работам и прямо оттуда выезжали в поле. Помню, как П. Н. Котылев писал рецензию на отчет В. М. Шкрабо и возмущался тем, что В. Т. Матвеенко и Б. Л. Флеров додумались до того, чтобы послать такого малознающего и неопытного человека на такую ответственную и серьезную работу, как рекогносцировочная геологическая съемка и поиски в пятисоттысячном масштабе. Опустела Иганджа. Главным был здесь теперь А. Л. Лисовский, который, помню, занялся одно время борьбой с браговарением, распространившимся среди любителей спиртного. Помню, он обнаружил и конфисковал большую бадью браги у Г. Т. Кривошея, жившего тоже в нашем доме. Наступило время отъезда полевых партий. В поселке воцарились тишина и безлюдье. Бывшие мои сотрудники уехали теперь с другими начальниками партий. А. Н. Парфенюк поехал с А. Ф. Михайловым на Охотское побережье, М. Дорохин поехал с С. И. Кожановым на Теньку. Оставался только П. И. Авраменко, который, как и я, собирался ехать в отпуск на «материк», как было почему-то издавна принято говорить в этих краях. Это было связано с тем, что сюда и отсюда люди ездили только морем. Наконец я тоже окончил и сдал свой отчет, и мне нужно было ехать в Усть-Омчуг, чтобы оформить документы для поездки в отпуск и временно до отъезда работать в отделе подсчета запасов. По графику я, мой брат, который сдавал уже свои дела старшего геолога рудника «Бутугычаг» новому геологу Хамицаеву и П. И. Авраменко, должны были отправляться вторым рейсом теплохода «Феликс Дзержинский». Мой переезд в Усть-Омчуг совпал с весенним паводком и распутицей. Паром на Детрине уже несколько дней не работал, и потому на автодороге было пустынно — машины не ходили. Но нам нельзя было терять времени на ожидание, и потому мы с П. И. Авраменко решили двигаться туда пешком, надеясь втайне, что, может быть, попадется какая-нибудь попутная машина. Мы даже захватили с собой в виде валюты для расплаты за проезд алюминиевую фляжку со спиртом, выменянным мной у Е. П. Машко за винчестерские патроны. Приблизительно 19–20 мая перед вечером отправились мы в путь. Вещи свои я бросил у кого-то из остававшихся, попросив отправить их в Усть-Омчуг с первой оказией. Слева направо: Петр Авраменко, Виктор Володин и двое рабочих на ручье Именинник левого притока Бургагылкана. Фото 1951 г.
Слева направо: Петр Авраменко, Виктор Володин и двое рабочих на ручье Именинник левого притока Бургагылкана. Фото 1951 г.
Бодро шагали по пустой безлюдной дороге весь вечер и начало ночи. Потом в полуночных сумерках развели костер на берегу речки и пытались немного подремать. Но почему-то это не получилось, хотя комаров еще не было и они еще не могли мешать. Затем пошли дальше. У П. И. Авраменко было множество знакомых среди дорожностроительных прорабов. Поэтому утром мы зашли к первому из них, прорабу на 118-м км дороги, прошагав уже 26 км от Иганджи. Там мы отдыхали недолго. Поспали, выпили по «рюмке чаю» и зашагали дальше. К вечеру преодолели перевал 135-й км и на 143-м км дороги в пос. Росомаха, состоявшем из 2–3 домиков, зашли к другому прорабу. Там мы отдохнули, переночевали, а утром гостеприимный хозяин с женой уговорили нас не идти сейчас, а подождать дорожную автомашину, которая непременно должна пройти в сторону Усть-Омчуга около 2 часов дня. Уговорить нас было нетрудно, потому что перспектива оставшуюся часть пути ехать, а не идти, была заманчива и хотелось еще продолжить отдых после утомительного перехода, проделанного накануне. Я провел этот день за перечитыванием «Драмы на охоте» А. П. Чехова, сидя на свежем воздухе перед домом близ дороги. Погода была чудесная, и комаров еще не было. Ласково припекало солнышко, но машина так и не пришла до вечера. Пришлось переночевать там вторично, но утром, уже не слушая хозяев, уверявших, что сегодня уж машина будет обязательно, мы тронулись в дальнейший путь. Об этом нам пришлось слегка пожалеть, когда, пройдя около 20 км, мы были настигнуты машиной, которая подобрала нас и повезла к Усть-Омчугу на берег Детрина. Паром-самолет все еще не работал, мы переправились на лодке, потом долго брели по затопленному левому берегу Детрина и, наконец, прибыли в Усть-Омчуг. Паром-самолет — это остроумное устройство, применяемое на быстрых реках. Он укрепляется на длинном тросе, зачаленном на одном из берегов реки. Поворотом парома при помощи руля заставляют его принять положение под острым углом к направлению течения, и тогда он двигается очень быстро к противоположному берегу, подгоняемый тем же течением. По такому же принципу устраивается и переправа на лодках. По тросу, протянутому поперек реки, катится ролик с прикрепленными к его обойме двумя другими тросиками разной длины, из которых более длинный прикреплен к корме, а другой — к носу лодки. Разница в длине тросиков заставляет лодку принять положение под острым углом к направлению течения, которое и гонит ее от одного берега реки к другому. В Усть-Омчуге меня временно приютил наш начальник планового отдела Юрий Иванович Рождественский. Но я жил у него вместо уехавшего в командировку Виктора Ивановича Копоткина недолго, всего один или два дня, так как потом сам поехал на Бутугычаг, чтобы заказать там в кузнице геологические молотки. Но движения на трассе еще не было. Много часов провел я на ней у поселка в ожидании машины, но не дождавшись ее, поздним вечером начал неторопливо шагать по ней в нужном направлении, продолжая надеяться, что меня все-таки догонит и подвезет какая-нибудь машина. Но я шел и шел всю сумеречно-белую ночь и утро, встретив восход солнца на перевале, и шагал дальше, пока мне не подвернулась все ж таки попутная машина, везущая дрова на рудник. Я не дошел до рудничного поселка всего около 12 километров, прошагав за ночь и утро больше 40 км. Удивительно мне было и тогда, что я совсем не ощущал усталости. Дала себя знать тренировка в походе от Иганджи. Я уже втянулся в ходьбу. Шли уже последние дни предвоенного мира.
Часть 2 Годы Великой войны

В Усть-Омчуге. Война
Вернувшись в Усть-Омчуг после трехдневного пребывания на Бутугычаге, я поселился уже в доме ИТР № 2 у знакомого еще по Криворожскому бассейну главного геолога ТГПУ Андрея Михайловича Ковалева. В комнате у него жил и его помощник-маркшейдер Малыгин. Теперь нас стало трое. Усть-Омчуг уже в это время был гораздо более людным поселком, чем была Иганджа даже в дни своего полного расцвета. Здесь еще не было клуба, но была довольно большая столовая, в которой регулярно демонстрировались кинофильмы. Для этого после ужина столы убирали к стене, ставя их один на другой, в зале вешали экран и ставили скамьи. Народу в поселке было так много, что среди встречных на улице больше половины было незнакомых. Одна из сотрудниц отдела, в котором я стал работать, шутила, что здесь больше похоже на Москву и поэтому лучше, чем на Игандже. Я принялся трудиться на месте старшего инженера отдела подсчета запасов, занимаясь обработкой данных ситового анализа золота, составляя кривые ситового анализа и определяя предельный вес самородков и процент неучтенного золота. Так проходили последние дни довоенного мира. Эти дни я продолжал собираться в отпуск, предвкушая поездку в родной Днепропетровск, встречу с отцом, вышедшим уже на пенсию, оставившим годом раньше работу на паровозоремонтном заводе, но продолжавшим заниматься преподавательской деятельностью в Транспортном и Горном институтах. Предстояла также встреча с младшим братом Сергеем, тоже геологом, вернувшимся с Лены и работавшим теперь на Азово-Черноморской оползневой станции в Сочи. Как и многие другие советские люди, я надеялся, что войны не будет, вернее, что наша страна не будет ввергнута в войну, уже больше чем полтора года полыхавшую в Западной Европе. Это было, конечно, наивно — надеяться, что бесноватый фашистский вождь будет соблюдать верность договору о мире и дружбе с нами. В воздухе уже сильно пахло порохом. В «Советской Колыме» было напечатано сообщение ТАСС от 15 июня, в котором говорилось, что английские газеты сообщают, будто на советской западной границе производится концентрация германских и советских войск, и предсказывают близкую войну. ТАСС разъяснял, что английское сообщение имеет целью провокацию, что немецкие войска стянуты сюда для маневров, а советские вовсе не стягивались к границе. Помнится, что такой смысл имело это разъяснение. Тем не менее я не впадал в панику и продолжал надеяться, что мир будет царить по-прежнему. Моя надежда поддерживалась тем, что незадолго до выезда из Иганджи я слушал лекцию побывавшего у нас инструктора политотдела, говорившего нам о том, что «время работает на нас», война идет, но мы в ней не участвуем и не будем участвовать. Наконец существовал советско-немецкий договор о мире и дружбе, а В. М. Молотов недавно побывал в Берлине, и целый номер «Правды» был посвящен этому событию. Подробно освещались в нем детали посещения им Имперской канцелярии со всеми церемониями и беседами с фашистскими главарями. Поэтому надежда на продолжение мира не казалась тогда наивной. Война же, когда она грянула, казалась чем-то неправдоподобным, чем-то таким, чего не может быть. И сейчас помню, как, включив репродуктор радиотрансляционной сети, я вдруг услышал слова, от которых за последние больше чем полтора года почти отвык, привыкнув к другим. Например, жесткое, звучащее как позорная кличка, как ругательство, слово «фашист» у нас уже давно не употреблялось, заменяясь вежливыми словами «национал-социалист». А тут вдруг из репродуктора хлынули слова о фашистах, о фашистском вероломном нападении. Говорил В. М. Молотов. Передавалось его выступление по радио. После теплых майских дней наступило похолодание. Шел снег, перемежающийся с дождем, было холодно и мерзко. И не только на улице, так же было и в домах, и на работе, потому что центральное отопление уже давно не работало ввиду окончания зимы. 22 июня был солнечный теплый день, первый после затянувшегося похолодания. В этот воскресный день мы с А. М. Ковалевым и Малыгиным отправились с утра на прогулку по берегу Детрина, вниз по течению его, переправились через Омчуг и оказались в районе агробазы. Пригревало солнце, было тепло, и мы с Малыгиным решили искупаться, пользуясь тем, что еще нет комаров. Мы переплыли через узкую протоку не небольшую галечную косу, лишенную растительности. Там мы бегали и дурачились, наслаждаясь свежим воздухом, теплом солнечных лучей и, должно быть, отсутствием комаров. Именно в этот час упали первые бомбы на Киев, на Севастополь, раздались первые выстрелы на границах и с лязгом гусениц через них хлынули железные орды фашистских танков. Полилась кровь… Умирали те, кто не хотел умирать. А я как раз в те минуты раннего утра, когда у нас в Усть-Омчуге шел уже первый час дня, вдруг остановился в раздумье. Мне настойчиво стало лезть в голову содержание пьесы Киршона «Большой день», которую я видел в начале 1937 года в Днепропетровске в русской драме. (Владимир Михайлович Киршон — советский драматург (1902–1938 гг.), его последняя пьеса «Большой день» поставлена в 1937 году в ряде театров СССР; пьеса посвящена жизни военных летчиков. Весной 1937 года Киршон был обвинен в троцкизме, арестован и спустя год расстрелян. В 1956 г. его реабилитировали. — Ред.) В этой пьесе изображался первый день войны именно с фашистской Германией, хотя она и не была нигде названа. Фашистская авиация бомбит советские города или только пытается бомбить, но советское командование при помощи секретного оружия, какого-то газа, от которого глохнут двигатели самолетов, выводит их из строя. Дело кончается молниеносным разгромом врага. Я думал о том, что немцам теперь, когда у нас с ними дружба «не разлей вода», должно быть, не очень нравится, как мы их разгромили, хотя бы в пьесе. И о том, как звучит по-немецки ее название «Der grosse Tag» или «Ein grosse Tag» («Большой день» — пер. с нем. — Ред). Думалось и о том, за что же тогда же, в 1937 году, посадили в холодную самого Киршона, а пьесу его изъяли. Я решил, что, наверное, за какие-то другие дела, о которых ни я, ни другие ничего не знают, и что это не связано с пьесой «Большой день». Это было похоже на предчувствие, на явление телепатического характера. Я очень остро чувствовал тогда опасность фашистского нападения, думая о дурацкой пьесе, а в эти минуты падали первые бомбы на Киев и на Севастополь. Вернувшись с берега, мы сидели в своей комнате. А. М. Ковалев играл в шахматы с зашедшим к нам соседом-старшим инженером производственно-технического отдела горного управления Николаем Ивановичем Матвеевым. Радио у нас в комнате было выключено, чтобы спастись от надоевшей поп-музыки. Услышав, что за стеной заговорил включенный там репродуктор, я включил и свой и тогда услышал те самые мерзкие, ругательные слова, о которых вспоминал выше. Мы узнали, что началась война. Первой мыслью у меня было, что нужно послать отцу денег, потому что в первые же дни расстроится снабжение, начнется голод, а деньги, может быть, хоть немного помогут. С этой мыслью я в понедельник утром поспешил в сберкассу и там узнал, что денег взять нельзя, можно получить только 500 рублей, а я думал взять раз в 10 больше. Это же была смехотворная сумма. Послать ее отцу было бы равносильно насмешке. Я ничего не послал, несмотря на то что у меня на книжке лежало около 20 тысяч. А отец умер от голода. В этот же день мне позвонил брат Всеволод с Бутугычага, чтобы согласовать вопрос об отпуске, потому что еще не было указа о прекращении отпусков, о прекращении выезда с Востока на Запад и о других ограничениях, и мы не знали о том, что все это будет. Поэтому мы решили, что все равно поедем. Но через день или два стали известны все упомянутые ограничения, и мысли об отпуске пришлось оставить. В последние дни июня я отправился в командировку в Тенькинский разведрайон, на Сарапуловскую базу, чтобы руководить там полугодовым подсчетом запасов. Как раз к последним месяцам относится выявление крупных золотоносных россыпей в этом районе, и поэтому производить подсчет запасов здесь было интересно мне самому.Дмитрий Павлович Асеев (1914–1981)
 Родился в Санкт-Петербурге, окончил курсы коллекторов, начал работу в Ленинградском отделении треста «Дальстрой» по договору. С 1935 по 1935 г. работал старшим коллектором в Верхне-Колымской экспедиции, с 1935 по 1943 г. — в СГПУ (Северном горнопромышленном управлении) и ТГПУ (Тенькинском горнопромышленном управлении) Дальстроя прорабом, а затем начальником эксплуатационного участка на Хатыннахе, начальником разведрайона Большой Ат-Урях, с 1940 г. — начальником Тенькинского разведрайона, затем Бахапчинского разведрайона. С 1944 г. работал в Чукотском ГПУ, руководил Восточной (Ичувеемской) экспедицией, Раучанской ГРП. В 1956 г. — начальник Санга-Талонского разведрайона в ТГПУ, в 1962 г. — начальник Куэквеньской ГРП на Чукотке. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью за трудовое отличие.
Родился в Санкт-Петербурге, окончил курсы коллекторов, начал работу в Ленинградском отделении треста «Дальстрой» по договору. С 1935 по 1935 г. работал старшим коллектором в Верхне-Колымской экспедиции, с 1935 по 1943 г. — в СГПУ (Северном горнопромышленном управлении) и ТГПУ (Тенькинском горнопромышленном управлении) Дальстроя прорабом, а затем начальником эксплуатационного участка на Хатыннахе, начальником разведрайона Большой Ат-Урях, с 1940 г. — начальником Тенькинского разведрайона, затем Бахапчинского разведрайона. С 1944 г. работал в Чукотском ГПУ, руководил Восточной (Ичувеемской) экспедицией, Раучанской ГРП. В 1956 г. — начальник Санга-Талонского разведрайона в ТГПУ, в 1962 г. — начальник Куэквеньской ГРП на Чукотке. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью за трудовое отличие.
Это было тем более интересно, что тогда уже вырисовывались большие перспективы золотоносности и ручьев, впадающих в большую золотоносную долину. В мае того же года на полтора месяца раньше Аникеев, Драбкин и Асеев решили сами опробовать долину одного из крупных притоков золотоносной реки, впадающего в нее у верхнего конца россыпи. Взяв с собой промывальщика и вооружившись лопатой, кайлом, лотком и другими инструментами, они произвели поисковое шлиховое опробование и установили богатую золотоносность отложений ручья. Этот ручей они решили назвать именем 4-летней дочери Дмитрия Павловича Асеева и его жены Галины Михайловны, Наталки. В августе того же года прораб Друганов обнаружил хорошую весовую золотоносность и другого притока той же реки. Желая заслужить расположение к себе начальника разведрайона Д. П. Асеева, он назвал этот ручей именем его сына Павлика, недавно родившегося. Дороги на Сарапуловскую базу тогда все еще не было, как и два года назад, когда я был там в первый раз. Можно было по недавно проведенной дороге на прииск «Дусканья» доехать до ближайшей к моей цели точки — перевалочной базы прииска «Игуменовский», находящейся на правом берегу Нелькобы близ дороги, перебраться через названную реку и шагать дальше по болоту, прыгая с кочки на кочку, или брести, увязая по колено в размолотом тракторными гусеницами почти до состояния киселя сфагновом мху. Вода в Нелькобе после прошедших дождей была высокая, и я решил воспользоваться подвесной дорогой, устроенной для переправы грузов через эту реку у названной перевалочной базы. Когда я подъехал, там на опоре троса надрывался от крика солдат из вооруженной охраны лагерей, который пытался добиться, чтобы его подтянули на лебедке веревкой, привязанной к вагонетке, подвешенной на тросе. Но рабочие-заключенные, увидев ненавистного охранника, просто ушли в свою палатку и не высовывали оттуда свои носы. Я было присоединил свой голос к голосу солдата, но вскоре увидел, что напрасно трачу силы, и предложил ему действовать самостоятельно. Мы отвязали вагонетку от опоры и помчались по провисшему тросу. Потом остановились, не доехав до середины стремительной реки, и стали дальше подтягиваться на руках. Сначала это было легко, но постепенно все больше и больше увеличивалась крутизна провисшего троса, и подтягивать себя вместе с вагонеткой мне с попутчиком-солдатом становилось все труднее и труднее. Наконец, когда наша вагонетка или площадка была уже над самым краем левого берега, крутизна каната достигла предела. Дальше мы уже не могли тащить свою вагонетку. Тогда я придержал вагонетку, солдат спрыгнул на берег и в свою очередь придержал подвеску, чтобы мог соскочить и я. Третьего июля пришел радист Штыканов и позвал нас к рации, сказав, что будут передавать важное правительственное сообщение. Мы пошли и прослушали выступление товарища Сталина по радио с обращением к советскому народу. Неприятно резанули слух слова «братия и сестры», какие-то церковнославянские, поповско-евангельские слова, которых мы никогда не ожидали услышать от Сталина. Еще более неприятное впечатление оставил голос, какой-то неуверенный, нетвердый. Невольно подумалось, что, значит, положение уж очень плохо, раз дошло дело до обращения к народу и в ход пошла такая, никогда ранее не применявшаяся терминология. Да, так оно, конечно, и было. Было очень плохо тогда. Измена, предательство, никто не хотел умирать, а немцы, вооруженные до зубов, перли вперед, убивая всех — и военных, и мирных. Около месяца я пробыл на Сарапуловской базе и вернулся уже в начале августа. К этому времени относится решение об организации разработки новых золотых россыпей, об открытии сразу шести приисков: Ворошилова, Тимошенко, Буденного, Гастелло, Марии Расковой и Гвардейского. (Прииск им. Гастелло открыт в 1942 г., «Гвардеец» — в декабре 1942-го, а имени Марины Расковой — в октябре 1943-го. — Ред.) Вместе с открытыми годом раньше приисками «Ветреный» и «Игуменовский» и работавшим ранее прииском «Дусканья» их насчитывалось уже 9 (в это время работало 6, а не 9 приисков. — Ред.) — управление становилось крупным.
На помощь С. И. Кожанову
Геолого-поисковая партия С. И. Кожанова в самом начале лета открыла хорошие рудные проявления молибденита на водоразделах ручья Танкист. Добытые образцы рудоносных жил были настолько эффектными, что начальник геолого-разведочной службы, как он теперь стал называться, Н. П. Аникеев и главный геолог И. Е. Драбкин на свой страх и риск решили изменить задание этой партии. Взамен геологической съемки в стотысячном масштабе, которую должна была производить партия, С. И. Кожанову они поручили производить более подробные исследования с двадцатипятитысячной геологической съемкой и рудно-разведочные работы. Этот вопрос не торопились согласовать с магаданским начальством, думая, что те согласятся с изменением задания, так как это идет на пользу дела. Но наступила вторая половина лета, началась осень, и тогда только узнали, что изменение задания не утверждено и что от партии по-прежнему требуется выполнение геологической съемки в стотысячном масштабе в заданном раньше объеме. Чтобы в какой-то степени компенсировать потерянное время, руководство решило на помощь Кожанову «бросить» меня. Кажется, 20 августа я выехал опять на Сарапуловскую базу, чтобы там догнать отправившихся туда накануне Н. П. Аникеева и И. Е. Драбкина, которые направлялись дальше в бассейн Кулу в район работ партии М. С. Венчуговой, зарабатывавшей там отнятый у Е. Н. Костылева орден (см. главу «Мария Сергеевна Ветугова», с. 161. — Ред.). С ними я должен был идти по Теньке до базы С. И. Кожанова. Поразительную перемену я увидел на Нелькобе, через которую я меньше чем два месяца назад переправлялся в подвесной вагонетке по тросу, а, возвращаясь обратно, переезжал на лодке. Теперь здесь кипела работа, трудилось много людей, почти готов был мост, совсем не временный, а постоянный, вполне добротный, по которому теперь мы свободно перешли на другой берег, а на топком болоте, через которое я тогда с трудом перебирался, теперь были настелены толстые бревна и по ним частично отсыпано полотно дороги. Казалось, что лежавшая раньше за болотами, затруднявшими доступ к ней, база Тенькинского разведрайона приблизилась и стала легкодоступной. Аникеева и Драбкина я застал у начальника разведрайона Дмитрия Павловича Асеева, где был и старший геолог района Илья Исаевич Крупенский. Утром мы отправились дальше. С моими спутниками был возчик и три или четыре лошади. Я продолжал удивляться по дороге тому, что на всем протяжении нашего пути до устья ручья Игуменовского, куда мы с Драбкиным повернули на одноименный прииск, то есть на участке длиной больше 14 километров, кипела работа по строительству дороги. Здесь во многих местах настилались бревна, а в других — уже полностью настланы. Производилась выемка кюветов и отсыпка полотна дороги. Все делалось вручную, механизмов не было никаких. Только кайла, лопаты, тачки. На прииске «Игуменовский», где у Драбкина были какие-то дела, мы переночевали у старшего геолога, а утром через перевал добрались до базы С. И. Кожанова в устье ручья Танкист на ручье Чернецком (ручей Чернецкий проходит параллельно ручью Игуменовскому в 5 км западнее. — Ред.). Дня через два мы с С. И. Кожановым и М. И. Дорохиным отправились с этой стоянки в сторону Сарапуловской базы. Я шел маршрутом по правому водоразделу, и мне запомнилось, что тайга уже зазолотилась, а особенно ярко желтела, освещенная солнцем, одиночная березка среди еще зеленых лиственниц возле устья этой речки. В окрестностях Сарапуловской базы мы проводили маршруты дня четыре, а потом перешли ниже. Трудными оказались маршруты по гранитному массиву Улахан, особенно последний из них, который я проделывал после снегопада. Маршрут был, помнится, двухдневный, причем первый день был серый, и я не чувствовал никакой боли в глазах. Второй же день достался мне дорого. Солнце светило ярко, и ярок был свежий чистейший снег. Снеговых очков у меня не было, и мне нельзя было в таких условиях продолжать маршрут. Но я по-прежнему был неопытен. Сначала я не чувствовал боли в глазах, но к вечеру и особенно на следующее утро мне казалось, что у меня под веками песок. Глаза сильно болели, и мне пришлось три дня лежать в палатке, завязав глаза непроницаемой черной повязкой. Это было уже в последние дни работы, когда мы стояли возле агробазы близ устья Теньки. К нам заезжали тогда Аникеев и Драбкин, возвращавшиеся из поездки на Хениканджу. Помню, что даже сквозь черную повязку, закрытые веки и очки глаза сильно раздражало пламя свечи, когда оно попадало в поле зрения. В эти дни на устье Теньки я встретил Е. Н. Костылева, партия которого тоже уже кончила работу и сплавилась сюда на кунгасе. С самим Е. Н. Костылевым незадолго до этого случилось несчастье. Во время снегопада, после которого я повредил глаза, его кунгас и палатки стояли на берегу Колымы возле гранитных сопок массива Оттахтах. Костылев босой сидел в палатке. Увидев, что недалеко от берега сели утки, он, схватив ружье и всунув ноги в резиновые чуни, выскочил из палатки. Поскользнувшись на покрытом снегом гранитном валуне, он упал. Падая, он протянул правую руку к гранитному валуну, на который падал, но при этом не выпустил из нее заряженного ружья. Вся сила удара пришлась на последнюю фалангу безымянного пальца, которая оказалась между валуном и стволами ружья, на которое он навалился всем своим телом, фаланга пальца была при этом раздроблена. Пострадавшего быстро доставили на лодке на прииск Дусканья, где врач ампутировал раздробленный сустав пальца. Но палец долго не заживал, и Евгению Николаевичу пришлось ездить в Магадан, где ему отняли еще часть второй фаланги.Аникеевский «прииск»
В первые недели войны по инициативе Н. П. Аникеева систематически проводились субботники, вернее воскресники, на которых работники геолого-разведочной службы трудились, разрабатывая россыпь реки Омчуг. Даровую рабочую силу использовали крайне нерационально и расточительно. Работы производились на участке, где шурф показал промышленное содержание золота в пласте, лежащем под мощным слоем незолотоносного речника, или так называемых торфов. Такую глубоко залегающую россыпь можно разрабатывать только подземным способом, так как вскрывать ее невыгодно. Но не могли же мы пройти шахту. Вот и вкалывали, вскрывая мощные торфа. Мне пришлось потрудиться там только один день. Я тогда добросовестно катал тачки с породой, но сердце, по-видимому, и тогда у меня было неважное, или, может быть, в связи с отсутствием сноровки и тренировки я свалился тогда и лежал, пока не пришел в нормальное состояние, после чего был вынужден умерить свой пыл. В тот день, когда я работал, Борис Багдасарович Евангулов, или Боба Е., промыл на лотке самородочек весом до 3 граммов. Всего же было добыто порядка 20 граммов золота. Но, может быть, я и ошибаюсь. Ввиду мизерности результатов мы прекратили вскоре свое старательство.«Региональщик»
После возвращения с партией С. И. Кожанова я некоторое время работал старшим инженером геолого-поискового отдела. Занимались в новом, только что построенном деревянном одноэтажном здании, к которому пристраивались каменные крылья, складываемые из остроугольных обломков сланца. В одном из этих крыльев предполагалось поместить геофонд. В отделе начальника партий приступили к камеральной обработке материалов. Составляли проекты геолого-поисковых и геолого-разведочных партий на следующий, 1942 год. Кроме А. Л. Лисовского, продолжавшего возглавлять отдел, в нем распоряжался и командовал Михаил Георгиевич Котов, недавно прибывший сюда из Московского представительства Дальстроя и занимавший теперь должность помощника главного геолога ТГПУ. До своей службы в Московском представительстве Дальстроя М. Г. Котов несколько лет работал на Колыме на полевых работах на Теньке и Кулу. Теперь М. Г. Котов в связи с сокращением штатов в Московском представительстве поехал вместе с К. Д. Соколовым, В. Т. Матвеенко и И. Р. Якушевым. Все они, кроме В. Т. Матвеенко, который попал теперь в геолого-поисковый отдел геолого-разведочного управления Дальстроя, прибыли к нам. М. Г. Котов вскоре стал начальником геолого-поискового отдела, а А. Л. Лисовский из нашего управления удалился. Начальником геолого-поискового отдела в ГРУ ДС был много лет Владимир Алексеевич Титов, кажется, с 1938 года. Одна из партий 1942 г. планировалась для поисков золоторудного месторождения, денудация и эрозия которого привела к образованию больших и богатых россыпей, совсем недавно открытых. Начальником этой партии первоначально намечался Георгий Николаевич Чертовских ввиду того, что партия его в только что кончившемся полевом сезоне производила геологическую съемку стотысячного масштаба на площади месторождения и поисковое опробование ручьев за перевалом. Однако Г. Н. Чертовских от этой, можно сказать, чести, оказываемой ему, отказался, заявив, что он региональщик и крупномасштабными работами заниматься не хочет. Это звучало курьезно, потому что он только что закончил институт и не имел никакого сложившегося «профиля специальности». Кроме того, нелепо было то, что он отказывался от явно ожидавшего его успеха, от чести открыть большое месторождение золота. Имел возможность в то время удостоиться этой чести и я. Кандидата или претендента на это место не было, и если бы я предложил свою кандидатуру, то уверен, что ее приняли бы. Но какая-то глупая щепетильность помешала мне это сделать, я думал, что неудобно себя предлагать в кандидаты. Главная же причина, помешавшая мне предложить свою кандидатуру, была та, что я, несмотря на все трудности, поражения и военные невзгоды, продолжал твердо верить в скорую победу, не в победу вообще, а именно в скорую победу. В то время многие так думали, что война, ведущаяся такими темпами, с такими потерями со стороны немцев не может продолжаться долго. Поэтому я и надеялся, что в будущем году поеду в Днепропетровск. Надеялся, несмотря ни на что и на то, что там теперь были проклятые враги. В конце концов начальником этой партии был назначен Евгений Пантелеймонович Машко, проводивший там работы в течение ряда лет и получивший потом и премию за первооткрывательство и Государственную премию (речь идет об открытии Наталкинского, Омчакского и Павликовского месторождений золота; следует добавить, что в тот период Государственная премия называлась Сталинской. — Ред.).Всевобуч
В самом начале октября, вскоре после возвращения с полевых работ я был зачислен в подразделение всевобуча (всеобщего военного обучения. — Ред.). для прохождения обязательной 110-часовой программы военного обучения. Занятия проводились четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В будни занимались по три часа — с восьми до одиннадцати вечера, а в воскресенье — четыре часа, начиная с 9 утра. Только воскресенье был сравнительно легкий день, хотя он был и длиннее, чем в будни. Так нам казалось, конечно, потому что днем было теплее, было светло и, главное, мы приходили выспавшиеся, отдохнувшие, а не уставшие после восьмичасового рабочего дня. В будни приходилось нелегко. После длинного рабочего дня, заканчивающегося в 6 часов вечера, был двухчасовой перерыв, за время которого нужно было дождаться очереди в столовой, поужинать, потом сбегать домой, переодеться и спешить к 8 часам на сборный пункт. После 11 часов вечера, приходя домой, я заставал всегда одну и ту же картину. В комнате мороз, потому что в батарее замерз конденсат, и пар сквозь нее не проходит. Приходилось тут же отправляться в котельную, вызывать слесаря, который приходил, отвинчивал батарею и уносил ее в котельную, чтобы там ее разогреть, и, когда она оттаивала, приносил ее обратно и ставил на место. Всегда замерзала эта проклятая «исходячка»! На эту операцию уходило всегда полтора-два часа, ипонятно, что ни я, ни Ковалев не имели возможность делать это каждый день. А ведь спать тоже нужно было, и утром нужно было дожидаться очереди в столовую, и нужно было не опоздать на работу. Поэтому нередко приходилось ложиться спать на морозе и дрожать под двумя тонкими одеялами. И самым удивительным во всей этой истории было то, что я не простуживался и совсем не болел. Подавляющее большинство занятий происходило на открытом воздухе. Маршировки было мало или очень мало. Мы больше ползали по-пластунски, прижимаясь животом к земле. Особенно нравилось нашим командирам заставлять нас делать эти упражнения первое время, когда еще не было снега, который выпал в том году необыкновенно поздно, и ползать приходилось по толстому слою тонкой сухой пыли, что было особенно неприятно. Большая часть времени на наших занятиях посвящалась, пожалуй, военной игре. Одна из двух наших рот обороняла какую-нибудь позицию, а другая — наступала. Всего у нас было две роты, составлявшие батальон. Нашей ротой командовал Николай Иванович Матвеев, нашим взводом — Дмитрий Алексеевич Бубнов, батальоном — Кочин. Комиссаром батальона был Александр Сергеевич Красильников. Стояли свирепые морозы, нередко превышавшие 50 градусов. Одевались же мы в большинстве своем сравнительно легко. Мало кто из нас кутался в ватные брюки и полушубки. Я надевал на себя: две пары брюк, одну суконную и вторую, бумажную, сверху, еще пиджак и ватную телогрейкутакой же, как и пиджак, длины; валенки, рукавицы и треух довершали наряд. Я считал, что нужно закаляться на этих занятиях, а на войне этим заниматься будет поздно. Поэтому, чтобы не мерзнуть в своем довольно легком наряде на свирепейшем морозе, нам нужно было двигаться, да и невыносимо было сохранять неподвижность. Особенно трудно было стоять в строю, выслушивая разбор проведенного занятия, и терпеливо дожидаться конца такого разбора. И неудивительно было, что мы старались двигаться и что военная игра перерастала иногда в жаркие баталии в лесу. Кто-то из бойцов всевобуча пропорол в жарком столкновении деревянным штыком, прибитым тонкими гвоздиками к такой же деревянной винтовке, новый белый овчинный полушубок ветеринарного врача Денисенко. Занятия проходили очень однообразно. Постоянно повторялись военная игра в зимнем ночном лесу, ползанье по-пластунски и очень редко маршировка. Изредка в этот распорядок или программу, из которой мы мало чему могли научиться, вносилось некоторое разнообразие. Например, А. С. Красильников, преподававший нам также саперное дело, рассказал как-то об устройстве минированных лесных завалов на дорогах и сооружении других препятствий, мешающих продвижению противника. Вооружившись топорами и пилами, мы на практике соорудили такой завал на просеке по прокладываемому отрезку дороги, ведущему к строящемуся мосту. Весело было по воскресеньям практиковаться в подрывном деле, перебивая взрывами толстые деревья и изводя лес, хотя все равно здесь на дрова рубили чудесный мачтовый, корабельный лес. Так что наши художества никому вреда не приносили. Минируя иногда ряд деревьев, мы связывали заряды детонирующим шнуром, одним взрывом срубали ряд деревьев, валя их в одну сторону. Взрывали завалы или заломы леса на реке или лед на условных переправах, долбя для этого проруби в толстом льду и закладывая под метровый лед в воду пачки взрывчатки. Это было гораздо интереснее, чем ночная беготня в зимнем лесу, потому что здесь мы чему-то учились, что могло, как казалось, когда-нибудь пригодиться. И это время проходило не совсем даром. Гораздо меньше времени отводилось у нас занятиям в закрытом помещении. Это было изучение оружия: почти исключительно трехлинейной винтовки Мосина, гораздо реже и поверхностнее — ручного пулемета Дегтярева, револьвера системы Наган, ручной гранаты Дьяконова — РГД-33. С самозарядной винтовкой Симонова, пистолетом-пулеметом ППШ знакомились только по картинкам. Кроме того, занятия в помещении посвящались политинформации, изучению саперного дела, медико-санитарному инструктажу и так далее. Было у нас одно занятие, посвященное обучению борьбе с танками при помощи бутылок с горючей жидкостью. Были у нас три бутылки из-под шампанского, наполненные бензином. К ним была привязана вата, смоченная бензином, которую поджигали спичкой, и потом старались расколотить бутылку, многократно швыряя ее изо всех сил о дорогу. Долго ничего не получалось, потому что бутылки для шампанского были прочны. Наконец кто-то хватил бутылку о камень у склона сопки, и ему удалось ее расколоть. А вот как разбили две другие бутылки, я не помню. Программа всевобуча была нами закончена к Новому году, и сразу же вслед за ней начались у нас такие же военные занятия истребительного батальона. Занятия у нас проходили теперь так же, как и при прохождении программы всевобуча. Без конца продолжались мальчишеские военные игры в казаки-разбойники. Часто чувствовалось, что наши командиры не знают, чем бы нас занять. Соберутся в кучку, посовещаются и опять выделяют человек 6–8, которые должны играть роль вражеских парашютистов, то есть просто прятаться в каком-нибудь районе леса, а остальные должны были их искать. Помню, еще в начале декабря, когда у нас еще продолжалась 110-часовая программа всевобуча, в Усть-Омчуг привезли кинофильм «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» и всем нам были взяты билеты, а мы до начала сеанса на скорую руку занимались своим привычным делом, играя в парашютистов и истребителей. Я был в числе парашютистов, и нам удалось так хорошо спрятаться, что истребители никак не могли нас найти и уже начали проявлять беспокойство, боясь из-за игры опоздать на киносеанс. Они долго окликали нас, но мы вышли, только когда нас вызвал командир. Несмотря на то что мы подавляющую часть времени занимались чепухой, убивая время на детскую игру с беготней, прятаньем в лесу, мы понимали всю серьезность положения, реальность угрожающего нападения японских самураев, готовых вцепиться в спину нашей Родины. Мы сознавали необходимость быть наготове к отражению возможного нападения. Досадно было, конечно, что мы непроизводительно затрачиваем время, вместо того, чтобы посвящать его изучению современного оружия. Ведь мы держали в руках только винтовку Мосина и пулемет Дегтярева только один раз. Показывали нам еще японскую винтовку системы Арисака, когда мы начали заниматься уже в истребительном батальоне. Нам говорили, что на каждого из нас имеется такая трофейная винтовка из захваченных в боях на Хасане и Халхин-Голе и что при необходимости они будут нам выданы. В наших подразделениях были выделены связные, которые, когда понадобится, должны были обежать наших бойцов, извещая их о срочном сборе. Истребительный батальон просуществовал около года. В конце 1942 года он постепенно прекратил свое существование. Весьма существенным пробелом нашей военной подготовки было полнейшее отсутствие учебных стрельб. За все время, убитое на всю эту игру в подготовку, мы только одно занятие в воскресенье посвятили стрельбе, да и то только из мелкокалиберной винтовки, притом только по четыре патрончика дали истратить каждому бойцу-солдату. Как будто основной нашей целью была не военная подготовка возможных солдат, а скряжистая экономия несчастных жалких грошей. Это было более чем возмутительно. Как будто и в бой нас собирались посылать с теми самыми игрушечными деревянными ружьями-винтовками, с которыми мы бегали в лесу возле агробазы.1942
Тревога
Однажды в начале ранней весны под утро я услышал сквозь сон торопливый стук в дверь и такой же торопливый вскрик: «Володин! На площадку!». Затем по коридору застучали удаляющиеся бегом ноги. Я не сразу понял, что это тревога, что меня вызывают срочно на сборный пункт нашего истребительного батальона, на площадку ВОХР. В сонном мозгу возникла сначала мысль, что меня зовут на лестничную площадку нашего дома, где был телефон. Но вскоре я переварил полученный сигнал и, не поддавшись искушению сунуть босые ноги в валенки, оделся как следует, так как понимал, что предстоит провести несколько часов под открытым небом. Одевшись, я побежал на место сбора во двор вооруженной охраны, еще издали увидев грузовики с заведенными моторами и бегущих туда людей. Немедленно нам стали выдавать винтовки и подсумки с патронами. Это было уже неприятно, так как говорило о том, что нам, возможно, предстоит бой. Но вскоре подсумки с патронами у нас почему-то забрали, оставив винтовки. Все стало на свои места. Стало понятно, что тревога самая обыкновенная, учебная. Потом нам поставили боевую задачу: будто в районе 223-го км Тенькинской трассы высадили парашютный десант противника и мы должны занять линию обороны, не пропустив десантников в наш поселок. Затем мы сели на грузовики и нас отвезли не более чем на 10 км от поселка, хотя до места высадки десанта было 42 км. Там мы заняли линию обороны, даже не окапываясь, а лишь неглубоко зарывшись в пушистый снег. Совсем недолго посидев в своих ямках, мы по сигналу белой ракеты пошли вперед, в наступление, и пройдя шагов 100 или 150, по сигналу красной ракеты вышли на дорогу и отправились на машинах домой. Но мне и, кажется, четырем еще товарищам выпала задача остаться затем, чтобы вытереть намоченные и вываленные в снегу винтовки. Я не досадовал на это, потому что мог теперь детально ознакомиться с винтовкой Арисака и с модификациями, которые она претерпела.«Пригорочки»
Однажды в мае, собравшись после работы на занятия истребительного батальона, мы услышали, что пойдем в поход, переправившись через Детрин на подручных средствах, и будем подниматься прямо на сопку. Другим подразделениям сопки достались и пониже, и поближе, а наша же была далекая и высокая; и ясно было, что с заданием мы никак не успеем управиться за 3 часа. На это нужно было по крайней мере 8 часов. Сопка была за рекой и за широкой заболоченной долиной ее. Но возражать не приходилось. Река была глубокая, широкая и быстрая, и переправа через нее сама по себе представляла довольно трудную задачу, и казалось нелепой фантазией искать на ней какие-то подручные средства. Но, как это ни странно, как будто кто-то подстроил это, подбросив нам такие средства. На берегу Детрина мы сразу же наткнулись на лодку без весел и неподалеку от нее на бесхозную лопату зазевавшегося огородника. На этих двух средствах переправились через реку. Позднее я задумывался над вопросом, откуда могла взяться лодка, чтобы появиться именно там, где она была нужна нам, и почему наш командир Кочин направлялся прямо к тому месту на берегу, где стояла лодка, как будто он знал, что она там есть. И каждый раз я приходил к выводу, что именно так дело и было, что он знал, что лодка там есть, и что он сам заблаговременно с кем-то договорился, чтобы в нужное время и в нужном месте оказались и лодка, и лопата. Было нас человек 6–7, и командовал нами почему-то командир роты Кочин. На другом берегу реки мы долго брели через заболоченную поверхность террасы, обходя глубокие русла стариц. Это нас сильно задержало, и, когда мы подошли к подножью, были уже сумерки. Наш командир сказал, что мы должны подняться на эти пригорочки. Он хотел пошутить, подражая А. В. Суворову, чтобы казаться этаким бодрячком. Но получилось не очень удачно. Все мы понимали, так как незадолго перед тем видели фильм «Суворов» и знали, о каких «пригорочках» в Альпах шла в нем речь, видели и ту высокую остроконечную вершину, через которую лежал наш путь на широкую массивную гранитную вершину Геркулеса, на которую мы поднимались, и потому нам не стало веселее. Всем было ясно, что встряли мы в продолжительный походик. Пригорочки были на самом деле порядочные, и на восхождение к вершине потребовались часы. Сначала по крутому отрогу мы взобрались на остроконечную вершину, сложенную роговиками, потом в неглубокой седловине пересекли контакт грано-диоритов с роговиками и дальше поднимались по массивному широкому отрогу, шагая по крупным глыбам гранодиорита. Подъем был высок, и вершины сопки мы достигли после полуночи в начале второго часа ночи. Света этой сумеречно-белой ночи, было достаточно, чтобы я смог нарисовать схематичную карту нашего похода, долины Детрина, русла реки и т. д. Я быстро выполнил это поручение командира, и мы пошли назад, теперь уже беря направление к новому, недавно построенному мосту. Помню, что мы останавливались для того, чтобы закурить у костра лесорубов, потому что когда вышли в поход, выяснилось, что ни у одного из нас не было спичек, и все мы хотели поскорее добраться до костра. Домой пришли измученные и усталые в 4 часа утра, когда уже сияло солнце на небосводе. А ведь опаздывать на работу было нельзя, так как за это судили. Мне после этого похода трудным показался только первый день, так как ночь я прогулял в походе и не выспался. Потом все пришло в норму. А наш командир, затеявший этот походик на «пригорочки», дня три после него бюллетенил. Нас он больше не водил в походы. Для него он оказался труднее, чем для меня. В рядах истребительного батальона однажды мне довелось участвовать в тушении лесного пожара за Детрином выше по течению, чем Усть-Омчуг. Когда мы прибыли на место пожара, огнем был охвачен большой участок долины Детрина, где лес был срублен и сложен в штабеля. К пылающим штабелям невозможно было приблизиться из-за нестерпимого сильного жара. Мы пытались расталкивать их баграми, но почти все они так и сгорели дотла. Пожарные со своими насосами и цистернами с водой прибыли почему-то намного позже нас, когда штабеля дров уже очень сильно погорели, но все же они успели притушить огонь, залив водой некоторые из них, а мы растащили баграми то, что осталось. До приезда пожарных мы старались локализовать зону пожара, рыли канавы, создавая вокруг зоны пожара полосу, лишенную растительности. Трудились мы энергично, и нам удалось локализовать очаг пожара.В Магадан и в Ларюковую
Вторую половину первой военной зимы я опять работал в отделе подсчета запасов. В феврале мне пришлось поехать в командировку. Я не сразу вспомнил, почему в этот раз поехали туда и Буриков, и я. А это было связано с отсутствием в нашем управлении машинистки, которая смогла бы отпечатать пояснительные записки к подсчету. Это была почему-то очень дефицитная специальность, а зарплата машинистке полагалась мизерная. Поэтому мне и пришлось ехать в Магадан с рукописными записками, чтобы там их отпечатать, а Буриков поехал прямо на Ларюковую, куда в первые месяцы войны эвакуировали Геолого-разведочное управление Дальстроя (ГРУ ДС). В Магадане в Главном управлении Дальстроя, или в Главном управлении строительства Дальнего Севера (ГУСДС НКВД СССР), или в Главке оставался только начальник геолого-разведочного управления, являвшийся также главным геологом Главка, В. А. Цареградский, которого годом позже сделали инженер-полковником и еще позже, к концу войны, произвели в генерал-майоры инженерных войск. Но тогда он еще не был ни генералом, ни полковником, а оставался штатским геологом. Ехал я вместе с братом, который тоже вез в Магадан подсчет запасов по руднику «Бутугычаг». Автобус был собственностью рудника «Бутугычаг», и на нем, кроме брата, ехала еще группа рудничных работников. Мне он очень удачно подвернулся, вернее, это брат позаботился о том, чтобы автобус зашел в Усть-Омчуг и захватил меня. Ехали весело, потому что у рудничных работников были с собой бидончик спирта и какая-то закуска. Правда, спирт нечем было разводить, но их это не смущало, кажется, его заедали свежим снежком. Пили, конечно, понемногу, под предлогом, что нужно погреться, так как в автобусе было не особенно тепло, хотя в нем, кажется, была железная печка. В этот раз я попал в Магадан впервые после приезда, со времени которого прошло больше чем 3 года и 3 месяца. Поэтому в Магадане я застал довольно значительные перемены. Кое-что из замеченного тогда я помню и теперь, почти 30 лет спустя. Прежде всего, вместо «украшавшего» в 1938 году центр города и расположенного на большом пустыре, к юго-востоку от перекрестка двух главных улиц — Колымского шоссе (будущего проспекта Ленина) и Пролетарской улицы — большого, обнесенного высокой изгородью из колючей проволоки со сторожевыми вышками на углах лагеря теперь стояло высокое, построенное буквой «П» четырехэтажное здание ГУ СДС НКВД СССР, или Главка (ныне здание объединения «Северовостокзолото». — Ред.). Здесь и помещался теперь кабинет главного геолога Дальстроя нашего будущего генерал-майора В. А. Цареградского, у которого в 1938 году мы были в приземистом деревянном бараке на Пролетарской улице. Большой незастроенный пустырь лежал и теперь вокруг этого здания, больше простираясь к востоку и к югу от него. Мне очень нравилось это здание внутри, нравилось бегать вверх и вниз по широким лестницам, покрытым широкими ковровыми дорожками, укрепленными на ступенях латунными прутьями. Большую пояснительную записку к подсчету запасов я разделил между тремя или четырьмя машинистками на разных этажах, где они и печатали мне ее в сверхурочные часы, а мне для того и приходилось бегать с этажа на этаж, чтобы забирать напечатанный материал, уносить его в кабинет В. А. Цареградского, где стоял особенный, нигде и никогда ни до, ни после того мною невиданный огромный письменный стол, и там его корректировать. Стол был действительно огромный, метра 4 в длину и полтора в ширину и к тому же имел с одной длинной стороны полукруглую выемку шириной сантиметров 70–80. В этой выемке и заседал хозяин стола, когда он бывал в своем кабинете. Но сейчас он был в отъезде, а в выемке сидел я или Воля. Может быть, я несколько и преувеличил размеры стола, ведь я его не обмеривал, и даю их по воспоминаниям, а видел его давным-давно, полжизни назад, но во всяком случае мало сказать, что он был огромный, скорее, грандиозный или колоссальный. Это был какой-то апофеоз торжествующего военного бюрократизма. Как он мог попасть к нашему скромному будущему генералу, осталось загадкой. Вряд ли он стремился отхватить себе такую игрушку. В 1938 году в Магадане бросалось в глаза, и так и запомнилось мне, что все кирпичные дома были построены в квартале, ограниченном улицами: Колымским шоссе (теперь проспектом Ленина), проспектом Сталина (ныне Карла Маркса. — Ред.), Советской (вероятно, это ул. Коммуны, ныне — Дзержинского. — Ред.) и Пролетарской. Весь остальной город был деревянный и одноэтажный. Теперь же за пределами этого квартала кроме уже упомянутого здания Главка на другой стороне Колымского шоссе стояло двухэтажное красное кирпичное здание поликлиники с высоким крыльцом, сменившее одноэтажную деревянную поликлинику, которую я случайно запомнил с 1938 года, и теперь маленьким и невысоким островком возвышавшееся над посеревшими от времени некрашеными и неоштукатуренными приземистыми деревянными бревенчатыми постройками. Строились еще два больших пятиэтажных кирпичных дома на юго-западном углу Колымского шоссе и улицы Сталина и на северо-восточном углу того же Колымского шоссе и улицы Дзержинского (тогда улицы Коммуны. — Ред.). Эти два дома, построенные из красного кирпича, потом мозолили всем глаза своими неоштукатуренными стенами почти 20 лет до 1960 года, когда их, наконец, оштукатурили. После трех- или четырехдневного пребывания в Магадане я поехал на Ларюковую, куда прибыл благополучно без происшествий. Поселили меня там в общежитии в той комнате, где жил бывший наш начальник партии Александр Алексеевич Аврамов, уехавший перед войной в отпуск. Отправлялся он домой в Ленинград, но война застала его в поезде, когда он катил по сибирским просторам. Его не пустили дальше Новосибирска. Там он и обосновался, сначала поступил на работу в имевшуюся там геологическую организацию, купил дом, но потом стал жалеть, что не вернулся сразу же обратно на Колыму в привычную уже обстановку и к привычным материальным условиям. В представительстве Дальстроя, куда он обратился за консультацией, его заверили, что надбавки, которые он получал до отпуска, ему восстановят, если он вернется на прежнюю работу. Он вернулся, но надбавок его лишили, так как до возвращения он некоторое время работал в Новосибирском управлении. Тогда он стал хлопотать, чтобы его опять отправили в Новосибирск, где он оставил жену. Но и в этом ему отказали. Так он и провел всю войну и в 1944 году погиб, возвращаясь с полевых работ. Прыгнул с берега на лед реки, провалился, и его сразу утащило под лед. Кроме А. А. Аврамова в этой комнате жили другие знакомые геологи. Я почему-то совсем не помню процесса защиты запасов в Ларюковой и вообще очень плохо помню встречу с Буриковым там. Как будто я с ним совсем там не встречался, хотя хорошо знаю, что это не так. Помню, что, уезжая из Ларюковой, он взял с собой тубус с планами, а мне остался чемоданчик с пояснительными записками. Он почему-то уехал из Ларюковой, а я там еще оставался. В Ларюковой в одно из воскресений я был у В. Т. Матвеенко и хорошо помню, что, возвращаясь от него, видел занимавшихся на улице бойцов истребительного батальона. Особенно мне запомнились их деревянные винтовки с железными, похожими на настоящие, но самодельными штыками. Казалось, что эти штыки предназначались, чтобы ими действовать в боевой обстановке, но было непонятно, почему же они примкнуты к деревянным ружьям-палкам. Вероятно, железные штыки предназначались только для того, чтобы приучить бойцов истребительного батальона к тому, что в руках у них не палки, а ружья, хоть и деревянные, но с железными, такими же, как настоящие, штыками. Заслуживает упоминания еще совещание, на котором я даже выступил, хотя делать этого не любил и редко это делал. Я говорил о том, что у нас принят неправильный метод разделения россыпей на блоки, привязанные к шурфовочным линиям: на одну линию — один блок. При таком методе возможны случаи, когда в контуре более богатых золотом песков («пески» — профессионализм, которым называют любую золотосодержащую продуктивную часть россыпей, не руда. — Ред.), выделенных внутри контура, включающего также и более убогие содержания или концентрации золота в песках, запасы могут оказаться большими, чем, в общем, более крупном блоке. Это происходит за счет увеличения площади влияния контуров с высоким содержанием золота. Для устранения подобных парадоксальных случаев я предложил изменить порядок блокировки, считать запасы в блоках, ограниченных разведочными (шурфовочными) линиями. Каждый шурф в таком блоке имеет одинаковую с другими площадь влияния, поэтому от увеличения или уменьшения россыпи площадь блока не изменяется и, следовательно, невозможны при таком порядке и парадоксы. Такой метод блокировки был принят, но это случилось намного позднее, а тогда я не сумел убедить людей, привыкших к одному методу блокировки и подсчета, в том, что они делают это неправильно, и в том, что нужно делать иначе. Обратную дорогу из Ларюковой в Усть-Омчуг мне пришлось проделывать гораздо труднее, чем дороги из Усть-Омчуга в Магадан и из Магадана в Ларюковую, вместе взятые. Трудно она мне досталась. Я очень долго сидел на так называемом автовокзале — в холодном деревянном строении — хотя и просторном, но очень слабло обогреваемым полухолодными батареями. В первый день я до вечера ожидал машину, на которой можно было бы уехать в кабине, но такой машины не было. Не было у меня и спирта, чтобы расплатиться за проезд. Единственный автобус, который раз в сутки проходил тогда из Берелеха в Мякит, где он встречался с другим, приходящим из Магадана и туда возвращающимся, был, как и следовало ожидать, переполнен. Прождав до позднего вечера и продолжая свои попытки уехать в кабине какого-нибудь попутного грузовика, я, наконец, убедившись в их тщетности, решил пойти в общежитие, переночевать там, а утром ехать в кузове первого попавшегося грузовика, не обращая внимания на 54-градусный мороз. Это было безумное решение, но положение мне казалось безвыходным. Мне и теперь, впрочем, трудно решить, как я должен был поступить. Я не мог сидеть и ожидать, когда потеплеет и морозы за 50 градусов сменятся пургой, так как еще помнил судьбу Зайкина и то, что закон, по которому его осудили без всякой вины, продолжает действовать, хотя и пребывает в сонном состоянии. Утром я сел на первый же попутный грузовик, на котором, как и вчера на всех проходящих машинах, в кабине места не было. Это был так называемый дромадер, то есть обыкновенная зисовская трехтонка, переделанная на Магаданском АРЗе в трехосный грузовик с увеличенным кузовом. Очень скоро я почувствовал, что сделал очень большую и, может быть, непоправимую глупость. От общего замерзания меня спасал большой тулуп, но ноги мои в подтоптанных валенках очень скоро стали замерзать. Стала исчезать чувствительность пальцев, даже несмотря на то что я усиленно боролся с этим, бегал по машине, держась за борт руками, усиленно топтался в пустом кузове грузовика, делая быстрый бег на месте. Пытался даже снять валенок, оттирать онемевшие замерзшие пальцы, но это пришлось сразу же прекратить, надев валенок, так как нога стала еще быстрее замерзать — мороз был очень свиреп, а я к тому же был на сильном ветру, ведь сидел в открытом кузове быстро мчащегося по гладкой дороге грузовика. Это было ужасно — расплачиваться за свою ошибку и сознавать, что она очень легко может оказаться роковой. Была реальнейшая опасность потерять ноги или хотя бы пальцы на них, особенно большие. На всю жизнь запомнилась мне эта ужасная дорога и моя отчаянная борьба за собственные ноги, за собственную жизнь. Я работал как вол всю дорогу по долинам Оротукана, Гербы и Мякита. Мне все же удалось за три или четыре часа, тянувшиеся, как казалось, целую вечность, пока мы доехали до поселка Мякит, на 208-м км «Центральной трассы» (Мякитом автор ошибочно называет поселок Атку на 208-м км трассы M56. — Ред.) восстановить чувствительность большого пальца. Я боялся, что мне его придется ампутировать. Но, очевидно, еще беготней по машине и потом, оттирая снегом, а затем спиртом мне удалось восстановить кровообращение в пальце, но чувствительность вернулась лишь дней через 10–15. Еще задолго до прибытия в Мякит, может быть, даже в самом начале пути я решил расстаться с этой машиной, на которой чуть не лишился ног. Я почему-то наивно полагал, что в Мяките возьму билет в сторону Магадана до Палатки и уеду оттуда на автобусе. При этом я почему-то не учитывал, что на Мяките встречаются два автобуса с одинаковым количеством мест. Один из них приходит из Берелеха, другой — из Магадана. Там они обмениваются пассажирами и расходятся восвояси. Я это знал, но почему-то не додумался до вывода, что в обоих автобусах, когда они расходятся из Мякита, все места бывают заняты и что, следовательно, сесть в автобус там мне не придется. Радуясь, что живым и с целыми ногами добрался до этого далекого Мякита, я бодро вошел в коридорчик дома, из которого вели три двери: прямо, направо и налево. Дверь направо вела в диспетчерскую, куда было прорезано и окошко. Дверь прямо вела в комнаты отдыха водителей, а налево — в комнату отдыха пассажиров. В двери прямо тоже было проделано окошко, у которого стоял прилично одетый вор и разговаривал с дневальным, находившимся по другую сторону двери. Войдя, я положил на пол в левом углу коридорчика свои вещи: рюкзак, чемоданчик и рукавицы. При этом рукавицы бросил сверху. Сам же, отойдя от вещей к окошку диспетчера, обратился к нему с вопросом насчет автобуса. В этот момент я боковым зрением заметил, что вор быстро вышел на улицу. Привыкший к бдительности, развившейся с детства под влиянием постоянного воровского окружения и особенно в дороге: в поезде, в трамвае в толпе, на вокзалах, я, быстро повернув голову, увидел, что в углу остались только рукавицы и рюкзак, а чемоданчик как корова языком слизала. Не теряя времени, я быстро выскочил на улицу и успел увидеть только спину скрывающегося за углом вора, шагающего бодрым шагом с моим чемоданчиком в руке. Я моментально настиг его, бегом схватил одной рукой за воротник приличного пальто, а другой — за ручку чемоданчика. При этом я был настолько рад, что мне удалось вернуть украденное и предотвратить беду, что мне даже не пришло в голову ударить его чемоданчиком хотя бы слегка по голове, чтобы хоть нос расквасить. Такое желание или сожаление о том, что я тогда этого не сделал, появилось у меня позднее, а тогда я только сказал ему: «Эх ты! Знал бы ты, что там лежит, так, наверное, и не трогал бы». Он, как говорят, ни к селу, ни к городу вдруг сказал: «Хочешь выпить?». Я повернулся и ушел. Через непродолжительное время пришли оба автобуса одновременно, и все помещение моментально наполнилось пассажирами. Среди них я увидел брата, направлявшегося из Магадана на Ларюковую. Я рассказал ему только что пережитое приключение и, еще не кончив рассказывать, увидел, что мой знакомый уже вор крутится между пассажирами, выбирая «плохо лежащий» чемодан. Я, в этот момент говоривший о нем, сказал: «Да вот он» и показал на него пальцем. Брат подошел к нему, взял под ручку и повел в райотдел НКВД. Но он идти не хотел, на улице стал упираться, сопротивляться, и брату пришлось приложить к нему руки. В этом ему помог попутчик-прокурор. В Мяките мне пришлось обратиться к диспетчеру, сказав, что я везу секретные документы, и попросить, чтобы он помог мне уехать. Это помогло, и я быстро добрался до Палатки, где поступил также, чтобы добраться в Усть-Омчуг. Было это 8 марта. Эта моя памятная мне командировка совпала с наступлением наших войск под Старой Руссой, о котором печать и радио вдруг совсем перестали упоминать. Стало понятно, что произошла неудача. (Имеется в виду наступление Красной Армии весной 1942 г., бои за Старую Руссу продолжались вплоть до 1944 г. — Ред.)Зимние будни
Кончалась первая военная зима. Я в Усть-Омчуге продолжал трудиться в отделе подсчета запасов, ходил на военные занятия истребительного батальона. Было холодно и дома, где мало приходилось проводить времени, и на работе. Очень неумело и плохо устраивали тогда центральное отопление. Оно было не водяным, а паровым, и в этом был главный его недостаток. Из-за плохой работы центрального отопления в рабочих помещениях, особенно на первом этаже, приходилось ставить железные печки, выводя трубы в окна. Стояли такие печки и у нас в угловой комнате первого этажа двухэтажного здания управления, где помещался отдел подсчета запасов, и в смежном с ней «золотом» кабинете, через который мы ходили. Дрова для этих печек приходилось заготавливать самим. Для этого устраивались походы или вылазки в лес с санями для дров, пилой и топорами. Хорошо было, что дрова тогда были рядом. В тайге можно было недалеко от поселка найти и сухие дрова в заломах в протоках Детрина, и сухостой в лесу. В общем, в лесу в 1942 году были еще деревья. Помню один такой поход в начале февраля до моей поездки в Магадан и Ларюковую, в котором участвовал и Степан Семенович Герасименко, который почему-то не любил свое имя и называл себя Сергеем (как говорят лагерники, «хлябал за Сергея»). Тогда, читая его пояснительную записку, я заметил сначала, что мне нравится ее стиль, потом мне стало казаться, что я уже читал ее, и, наконец, я вспомнил, что сам написал ее в позапрошлом году, а Сергей Семенович только переписал. Зачем же сочинять новое о старом? После поездки на Ларюковую с заездом в Магадан я ездил еще на Бутугычаг, где произвел вновь подсчет запасов олова в делювиальных и коллювиальных россыпях, использовав все материалы первичной документации. По вечерам я перечитывал в квартире у брата «Войну и мир» и сам удивлялся тому, что очень быстро успел «проглотить» эту эпопею. Это было роскошное юбилейное издание к столетию Отечественной войны с иллюстрациями, выпущенное известным издательством Сытина в 1912 году. Тогда уже не было той большой палатки на руднике, которая стояла в самой верхней части террасы у левого гранитного склона долины, где когда-то работали геологи. Теперь в нижней части той же террасы стояло довольно большое двухэтажное здание, первый этаж которого был сложен из гранитных глыб, а второй был деревянный. Первый этаж был занят рудничной конторой, второй был жилой. Не знаю, как допустила такое сочетание пожарная охрана, но оно существовало. А сочетание служебных помещений с жилыми, особенно в условиях поселка, где каждую каплю воды «добывали», расплавляя снег и в лучшем случае лед, было, конечно, очень опасно и недопустимо. Тем не менее это здание существовало на рудничном поселке еще долго и почему-то до закрытия рудника не сгорело. В этом здании я и занимался подсчетом запасов. Незадолго до моей командировки на рудник там сгорел двухэтажный жилой дом. Пожар произошел ночью 8 марта, и на память о нем остался анекдот, как геолог Яков Зиновьевич Хайн, проснувшись в горящем доме, торопливо одевшись, хотел спасти что-нибудь ценное из своего обреченного имущества, но вместо этого схватил со стола пепельницу с окурками и, сунув ее в карман телогрейки, выбежал на улицу. Самое смешное в этой истории то, что Хайн не курил, а окурки и пепельница были чужие — его товарищей по общежитию.Оперетка
Немногим геологам выпадает в их жизни такое счастье, какое выпало в 1936 году Борису Леонидовичу Флерову, когда он во главе руководимой им геолого-разведочной партии открыл уникальное, единственное и неповторимое Бутугычагское месторождение оловянного камня, или касситерита. Спешу оговориться, что превосходными эпитетами я наградил это месторождение не из-за его величины или запасов. Оно, к сожалению, не было огромным или очень крупным, и запасы его тоже не были неисчерпаемыми. Они относятся к исключительно, подчеркнуто выраженной структуре рудного поля и закономерностям пространственного размещения рудных жил и промышленных зон, к его компактности, сосредоточенности параллельных между собой почти прямых, богатых оловянным камнем жил на относительно ограниченной площади и тоже исключительной сосредоточенности в вертикальном направлении. Внизу богатые оловом и мощные жилы вдруг иссякают и исчезают, достигнув при движении сверху вниз определенной наклонной и неплоской поверхности. Казалось, что они обрезаны, но на самом деле никаких признаков разрывной тектоники здесь нет. Все на этом месторождении было как на учебном плакате или макете, как будто оно нарочно создано или сделано для обучения студентов. В особенной, удесятеренной степени мои эпитеты относятся к несравненной красоте рудных жил. Мощные оловянно-каменные жилы состояли из крупнокристаллического касситерита, такого же кальцита, или исландского шпата, адуляра, горного хрусталя, свинцового блеска или галенита, вольфрамита, флюорита или плавикового шпата. Особенно неповторимым, несравненным и очень красивым уникальным и чрезвычайно редким, единственным если не в мире, то в Советском Союзе, был оловянный камень, или касситерит. Огромные, до 20–25 мм в поперечнике квадратные, дипирамидальные кристаллы длиной тоже до 20 мм, темно-коричневые или черно-коричневые, слабо просвечивающие в тонких участках у трещинок, имели прекрасно развитые грани с характерной рельефной штриховкой и образовывали сплошные друзы, или щетки вместе с кристаллами кварца, кальцита и адуляра на стенках зияющих полостей трещин. Должно быть, очарованный неповторимой красотой оловянно-каменных жил, Б. Л. Флеров дал им несколько поэтические названия. Наиболее крупные, мощные и наиболее красивые он назвал Кармен, Микаэла, Хозе, Аида. Остальным присвоил порядковые номера. В тон ему прораб его партии Иванов при опробовании гидросети речку с красивой, зеленой лесистой долиной назвал Вакханкой, а мрачные, угрюмые лишенные растительности ручьи, прорезающие гранитный массив, он назвал соответствующими именами Шайтан, Вельзевул. Открытие Бутугычагского месторождения было крупным событием середины тридцатых годов, которое стало известным и в Москве, и в Ленинграде, в Академии наук и в других геологических организациях. Им интересовался, в частности, академик С. С. Смирнов, известный своими работами по олову. Разумеется, что оно не миновало внимания и магаданского начальства. При этом майор Павлов возмутился: «Это что за оперетка? Кармен! Микаэла! Хозе! Аида! Вакханка! Ишь, распоясались! Подумать только, какое вольнодумство! Главное, кто позволил? С кем согласовано?! А еще: Колымский ишак, Бим, Бом, Турист, Мечты, Лесные братья, Первач, опять Кармен и другие неприличные слова! Никуда не годится! Это не пойдет! Приказываю переименовать! Жилы именовать порядковыми номерами, речку Вакханка — популярным звучным словом Ант, ручей Колымский ишак будет Поисковиком». Так распорядился майор. Кармен стала номером пятнадцатым, Аида — двадцатым, или Восточной жилой. Но напрасно пускало пену гнева начальство. Названия, продиктованные приказом, совсем не привились. Как бы вопреки приказу, наперекор ему названия, данные Флеровым и Ивановым, «пустили корни», привились и остались жить по-прежнему. Оставаясь популярными на всем протяжении жизни рудника, то есть почти два десятка лет. И Вакханку все называют так и до сих пор, а об Анте забыли сразу же после приказа. И еще, как бы в насмешку над майором, самого Анта (имеется в виду авиаконструктор А. Н. Туполев, «Ант» — название серии его самолетов. — Ред.) посадили в годы великих репрессалий, и название, данное приказом майора, отпало само по себе. Начальник Юго-Западного управления Ткачев рассказывал кому-то при мне, кажется, на прииске Лазо в первые дни моего пребывания там, пожимая плечами и всем своим видом выражая неудовольствие, удивление и неодобрение поведения Флерова, который защищал названия жил, говоря кому-то: «Понимаете — это настоящая Кармен! Представляете себе черную полосу на белом фоне? Как вы не понимаете, что это Кармен?». Должно быть, Флеров имел в виду черные глаза, брови и волосы Кармен на фоне белой шали, платья и лица. Провести аналогию и уловить сходство было можно, и я с ним согласился. А Ткачев не одобрял, потому что ему по чину было так положено. Ведь подумать только: сам майор запретил Вакханку и Кармен! И еще говорил он, что Флеров возмущался: «Почему же оперетта? Опера, а не оперетта!». Его почему-то особенно возмущала эта самая майорская «оперетка». Д. И. Овчинников, этакий бывалый парень, успевший проработать и на Бутугычаге, рассказывая в январе 1939 года на рудной разведке Лазо о Бутугычаге, вспоминал о героическом внеплановом маршруте на Детрин, проделанном М. С. Венчуговой, в котором Д. И. Овчинников принимал участие. Рассказывая о руднике, он вспоминал стишок, сложенный тамошним пиитом: «Кармен полого залегает, дон Хозе сбросами разбит, Аида косы расплетает, у Микаэлы грустный вид». «Все, — говорил он, — верно, и дон Хозе сбросами разбит, и Аида косы расплетает — отходят от нее ответвления-апофизы, и у Микаэлы грустный вид — паршивая жилетка оказалась (сплетения жил. — Ред.), а вот что Кармен полого залегает, — неверно». Это действительно было неверно, потому что она падала так же круто, как и другие жилы месторождения. Просто пиит не сумел подобрать какой-нибудь характерный штрих для этой жилы, который рифмовался бы с расплетающей косы Аидой.В Санга-Талоне
В начале лета 1942 года меня командировали по делам подсчета запасов в Санга-Талонский и Колымский разведрайоны. Когда я перед отъездом зашел к главному геологу нашего управления И. Е. Драбкину, он мне сказал, что я должен сделать из С. С. Герасименко котлету, которую никто не стал бы есть. Вероятно, именно из-за бессмысленной нелепости этого выражения начальства я запомнил его на все 29 лет, прошедшие с тех пор. Драбкин был тогда зол на Герасименко из-за того, что усомнился в его умственных способностях. Недавно ознакомившись с присланными из Санга-Талона составленными Герасименко паспортами месторождений, он увидел, что тот, переписывая форму паспорта, переписал буквально все, включая тираж, номер заказа, даты сдачи в набор и подписания к печати и т. д. Поэтому он решил, что С. С. Герасименко просто идиот. Я же был не согласен с Драбкиным. Ничего особенного в том, что сделал С. С. Герасименко, не было. Во всяком случае я не находил в этом ничего особенного. Просто ему дали форму, вернее, один бланк, отпечатанный в типографии, и сказали, что нужно переписать от руки, потому что бланков, отпечатанных в типографии, нет. Очевидно, что переписывал бланк не он. Зачем же стал бы он терять время на такую работу, которую можно было бы поручить любому школьнику. Он так, конечно, и сделал и не стал потом придираться к тому, что тот слишком буквально его понял и переписал все, включая и ненужное. Одним словом, я считал, что это такая мелочь, на которую никто не должен был обращать никакого внимания. В Санга-Талон я и поехал в первую очередь. Добрался туда быстро на попутном полуглиссере. Когда ехал ночью на попутной машине к устью Теньки, откуда должен был отправляться полуглиссер по Колыме, было холодно и, что удивительно, было много комаров. Это было особенно неприятно — комары на холоде. Котлет из С. С. Герасименко, как хотел И. Е. Драбкин, я делать не стал. Несколько дней я занимался с ним подсчетом запасов, помогал ему оконтуривать недавно разведанные шурфами россыпи и подсчитывать запасы. Когда мы заканчивали эту работу, начальник разведки попросил, чтобы я съездил на гранитный массив Уаза-Ина, где еще в 1936 году П. И. Скорняков собрал большую кучу кристаллов горного хрусталя, которую теперь поручил разведрайону погрузить на кунгас и доставить в Усть-Омчуг. Предполагали, что из этих кристаллов можно вырезать блоки пьезокварца. Но оказалось, что хрусталь очень трещиноват и никуда не годится. И вот на гранитном массиве Уаза-Ина, на ручье Умерших Ледников, впадающем в речку Кюэль-Сиен, в это время пытались вскрыть занорыши с кристаллами горного хрусталя в пегматитовых жилах. Возглавлял это дело прораб Петр Иванович Авраменко, уже хорошо нам известный. Моя задача состояла в том, чтобы, побывав на месте с С. С. Герасименко, оценить перспективность этого дела и решить, что делать дальше. Мы отплыли с Сергеем Семеновичем на лодке в послеобеденное время, и к вечеру течение принесло нас к устью интересующей реки. Там мы встретили авраменковского рыболова, у которого в лодке наполовинунаполненной водой, плавало множество хариусов. Мы сварили и наелись там ухи, но ночевать не стали и поспешили дальше. Еще не сошли вешние воды с не полностью растаявших снежников на гранитных горах цепи Анначаг, массива Уаза-Ина и других высоких гор. Кюэль-Сиен бурлил, пенился и ревел, катя свои полные воды по устланному крупными окатанными валунами гранита руслу. Через русло было страшно переходить по бревнам, так как от пенящегося, быстро, стремительно несущегося под бревном ревущего потока кружилась голова. Всю белую ночь мы были в пути. Прошли ручей Голубой Тарын, дошли и до ручья Умерших Ледников. Хорошо помню возвышающуюся в средней части долины подобную прорванной плотине конечную морену, прорезанную водным потоком, еще во время таяния действительно умершего, растаявшего когда-то ледника. В долине ручья Умерших Ледников, поднимающейся довольно круто к истокам, мы шагали по подтаявшей наледи. Помню, что идти было трудно из-за того, что длинные ледяные кристаллы, торчащие перпендикулярно поверхности наледи, были подобны щетинкам в щетке, и ходьба по наледи напоминала ходьбу, которую нетрудно вообразить, представив себе, что щетка стоит наклонно и что человек идет по этому склону снизу вверх. После каждого нашего шага ледяные щетинки под ногой отклонялись на полшага назад. Утром мы немного отдохнули в палатке П. И. Авраменко и полезли на сопку. Именно полезли, а не пошли, потому что склон был настолько крут и гладок, что на нем не держался рыхлый или обломочный материал. Гладкий голый гранитный склон был параллелен одной из систем трещин и проходил именно по одной из таких трещин. Один раз мне даже жутко стало, казалось, что я сейчас сорвусь и покачусь вниз. Как-то неуютно я чувствовал себя на этом склоне. Ощущалась неуверенность, и неприятно было смотреть вниз. Мы побывали на канаве, пройденной высоко на склоне в аплитовой жиле, в которой встречались лишь мелкие кристаллы горного хрусталя. Я посоветовал Герасименко добавить рабочих на проходке канав или прекратить работу. Потом мы проделали небольшой маршрут по горному массиву в поисках развалов аплитово-пегматитовых жил, побывали в типичном ледниковом троге, представляющем собой висячую долину одного из небольших протоков ручья Умерших Ледников. Потом мы спустились в палатку П. И. Авраменко, отдохнули там немного и вечером отправились в обратный пеший поход через протоки Кюэль-Сиена, озеро Танцующих Хариусов, протоку Вариантов, озеро Джека Лондона, ручей Сибик-Тыэллах и долину Колымы. Опять были белая ночь и длинная тяжелая дорога. Сначала мы шли к истокам Кюэль-Сиена по тропе, тянущейся по левому берегу ее, потом по конечной морене, подобной плотине и подпирающей озеро Танцующих Хариусов, и по мостику через прорезывающий морену проран (узкую промоину. — Ред.), по которому река вытекает из озера. Потом тропа исчезала, и мы шагали уже по целине по галечно-валунному берегу озера Танцующих Хариусов и протоки Вариантов. Но еще тяжелей была дорога по берегу озера Джека Лондона, где также не было тропинки, а идти приходилось вдоль довольно крутого склона по толстому слою мягкого сфагнового мха. И все же нам хватило ночи, чтобы дойти по правому или юго-восточному, берегу каскада озер до барака, находившегося на том же берегу озера перед низким подъемом на перевал в истоки ручья Сибик-Тыэллах, впадающего в Колыму. Дальше берег озера довольно круто поворачивал направо. До утра у нас осталось еще достаточно времени, чтобы сварить себе гречневую кашу из брикетов, позавтракать и передохнуть перед подъемом на перевал или, лучше сказать, перед переходом в истоки ручья Сибик-Тыэллах. Комары в этих двух ночных походах нам почти совсем не досаждали. Их было очень много на берегу Колымы, но это было уже следующим днем, когда мы продолжили свой марш, но на озерах их не было или, вернее, было не очень много. Хотя шла уже вторая половина июня, но озеро Джека Лондона было еще покрыто сплошным панцирем льда, очевидно, поднятого прибывшей водой. От берега край ледяного поля отделялся полосой воды шириной приблизительно 15–20 м. На этой полоске воды плавала пара гагар. Нам не удавалось приблизиться к ним на выстрел, так как они при этом ныряли и появлялись на поверхности опять далеко за пределами выстрела. На берегу озера лежал долбленный якутский челнок. Авраменко пытался приблизиться к гагарам на этом челноке, но это ему не удалось. Я упоминал уже, что озеро Танцующих Хариусов подперто конечной мореной. Озеро Джека Лондона имеет такой же характер, но высота этой морены, вероятно, значительно больше, чем у первого озера, так как и размеры озера Джека Лондона значительно превосходят размеры озера Танцующих Хариусов. Длина первого превосходит 8 км, а второго едва достигает 1 км. Кроме морен, подпирающих оба озера, существовали еще 3–4 прорванные размытые конечные морены. Они скрыты теперь в водах озера Джека Лондона, на котором признаки их существования проявляются в виде одного островка — останца морены и мысов, выдающихся от юго-восточного берега. Вероятно, потому что на этом большом озере мы были в конце второй бессонной ночи, проведенной, как и первая, в ходьбе, я был усталый, и меня совсем не удивило, что на берегу озера не было никакой тропы. Я принял это как-то пассивно, не удивившись этому и не задумавшись над тем, почему нет или не видно тропинок, тогда как на берегу сохранился один барак, в котором мы отдыхали, и мы видели еще другой полуразрушенный барак, возле которого стоял разграбленный медведем склад с разбросанными вокруг кусками вымокшего под дождем туалетного и хозяйственного мыла. Тропа вдоль берега озера, несомненно, была, но во время нашего похода она была, конечно, под водой, уровень которой тогда был высокий. Поэтому ледяной панцирь озера и отделялся от берега широкой полосой воды. Рассказ об этом нашем путешествии будет неполным, если я не упомяну о том, что всю дорогу по берегу справа перед нами за широкой ледяной гладью озера был виден широкий и длинный залив, отходящий к северу и названный почему-то озером Студеным, и был открыт красивый вид на горную цепь Анначаг с одними из самых высоких в восточной и средней частях Магаданской области вершинами: Шишаком, Властным, Аборигеном и Терпением. Всю дорогу по берегу озера в жидких сумерках белой ночи я не уставал любоваться этими типичными для Альп видами, этими типичными карлинговыми вершинами с острыми их пиками, укрепленными высокими вертикальными скалистыми зубцами или зубцами-скалами, и глубокими расселинами, водоразделами и их отрогами. Этими красивыми горами, высокими и видными издали, я любовался каждый день и из Санга-Талона, плывя туда по Колыме, но отсюда, с берега озера, они были намного ближе и, несмотря на недостаток освещения, гораздо виднее. Помню, что я как-то выразил свой восторг по поводу красоты этого жуткого вида с еще не растаявшими снежниками, венчающими и украшающими вершины, в своей записи в блокноте, и что там же выразил пожелание, чтобы на озере когда-нибудь построили дом отдыха. Перевал на Сибик-Тыэллах совсем невысокий, должно быть, не больше 3–4 десятков метров над уровнем озера. Здесь типичный моренный ландшафт, неровная поверхность с провалами и буграми и множеством торчащих малоокатанных валунов. Поверхность эта очень неудобна для ходьбы. Плохо было идти и дальше, по верхней части долины этого ручья, где нам почему-то не попадалась тропа. Поэтому я еще в верховьях откололся от своих спутников вправо и почти всю дорогу до долины Колымы прошел по низкому ровному водоразделу ручья, представляющему собой останец террасы. В результате этого я сократил дорогу и вышел в долину Колымы намного раньше своих спутников. Долго пришлось их ожидать, сидя у костра, разложенного у хорошо натоптанной тропы. Донимали комары, среди которых преобладали большие рыжие и злые как собаки. Наконец подошли Герасименко и Авраменко, с которыми мы двинулись домой. И хотя мы шли довольно бодро, и тропа не заставляла желать ничего лучшего, мы целый день шли до Санга-Талона. Только к вечеру мы дошли до переправы и покричали, чтобы нам пригнали лодку от поселка. Вся поездка на Кюэль-Сиен с возвращением заняла неполных три дня и две ночи. Наутро после возвращения я заметил, что у меня отекли ноги, да так сильно, что я сапоги не мог надеть. Они почти до колен были толстыми, как тумбы. Поэтому, кажется, два дня я ожидал, пока сойдут отеки, прежде чем отправился из этого поселка. Поселок Санга-Талон стоит на высоком правом берегу Колымы (сегодня этого поселка нет, так как он находился в зоне затопления водохранилища Колымской ГЭС. — Ред.), возле устья впадающей в нее речки Обо, располагаясь также на правом берегу и этой речки. Всего в нескольких сотнях метров выше поселка в Колыму и слева впадает довольно большой приток — речка Эльгенья. Поселок невелик, но и не так уж мал. В нем, должно быть, десятка полтора построек, причем в одном из домов было не меньше 12–14 комнат, а все другие были маленькие, по 1 квартире. Большой дом занимал и начальник разведки Петр, кажется, Яковлевич Злобин. Герасименко занимал одну из комнат большого упомянутого многокомнатного дома. У него в комнате останавливался и я. Этот дом стоял так же, как и дом начальника, у берегового обрыва. В одной из небольших построек в центре поселка была контора, в которой помещалось и геологическое бюро, или камералка геологов, где производилась обработка проб: отдувка шлихов, взвешивание золота, определение среднего содержания золота в пластах золотоносных песков по шурфам, оконтуривание золотоносных россыпей на планах и подсчет запасов. Здесь же обрабатывались и результаты топографической съемки и вычерчивались планы разведываемых долин. В нижней части поселка была конбаза. Название поселок получил по якутскому поселку, вернее, по урочищу, в котором были изредка разбросаны одиночные якутские хотоны. Якуты, как известно, держали очень много коров. Вообще, это были маленькие животные с длинной шерстью и почти без вымени. Молока они давали смехотворно мало. Боюсь соврать, но, кажется, по 2 литра или по полтора давали «рекордсменки». Поэтому каждая семья держала по десятку или по полтора десятка коров, которых надо было пасти, и, чтобы хватило травы, каждая семья селилась на солидном расстоянии от других. Я помню только один якутский хотон, стоявший на левом берегу Колымы выше Санга-Талона против устья Большого Сибердика. И этот в 1942 году, когда я его видел, был уже покинут своими прежними жильцами. Из Санга-Талона пришлось идти пешком, потому что полуглиссер почему-то несколько дней не ходил. Шел я с прорабом Иваном Петровичем Хабаровым. Дорога заняла два дня, причем первый переход — до устья Детрина был очень легок: тропа хороша, и путь короток, а второй — гораздо трудней. Расстояние здесь почти вдвое больше, а тропа хоть и немного, но хуже. Всю дорогу ужасно ели нас комары. Из-за этого я, несмотря на жару, шел в телогрейке, потому что рубашку на плечах возле лямок рюкзака они очень легко прокусывали. До сих пор мне приятно вспоминать, как, увидев упомянутый брошенный хотон против устья Большого Сибердика, мы зашли туда отдохнуть от комаров. Там были маленькие в 2–3 ладони окошки и стены, обмазанные снаружи глиной. Поэтому внутри держалась прохлада. Комары, которые большой тучей вслед за нами влетели туда, растерялись и перестали нас кусать, а когда мы закурили махорку, они один за другим полетели в окно, совсем оставив нас в покое. Стало так хорошо, что уходить не хотелось. Но пришлось! Ночевать мы остановились в помещении перевалочной базы на устье Детрина, для чего пришлось покричать, чтобы сторож пригнал на наш берег лодку. Помню, после дождей, прошедших в верховьях, вода в Колыме была мутная, грязная, а в Детрине, где из-за подпора поднявшейся Колымой образовалась тихая заводь без течения, вода была чистая как стекло, и в ней виднелось черное дно. Сильно нас ели комары в помещении этой перевалки. Вольготная жизнь у них там была. Несмотря на то что дальнейший путь от устья Детрина мы начали ранним утром, только поздней ночью добрались мы наконец до базы Колымского разведрайона, которая была близ устья Теньки. Не помню, как мы там переправлялись, кто и когда нас перевозил через Колыму. Помню только, как шли, как отдыхали только один раз за день и подкреплялись пищей у костра; помню, как торопились в сумерках наступающей ночи, чтобы не очень поздно прийти на переправу. Помню, что тогда только второй год работал прииск «Ветреный» на одном из притоков Обо, а леса в долине Колымы уже много успели испортить лесорубы этого прииска. Даже выше устья Детрина они тогда уже уничтожили лес. Потом несколько дней я провел на базе Колымского разведрайона, располагавшейся в нескольких километрах ниже устья Теньки между берегом Колымы и небольшим озерцом. В этом озерце было очень много маленьких, немного меньше ладони карасиков. Мне очень понравилось, что у них на базе был заведен такой порядок, что обеденный перерыв длился два часа. За это время можно было не только наскоро пообедать, но и отдохнуть, и поэтому послеобеденное время человек работал производительно. Один такой перерыв я с начальником разведрайона Виктором Михайловичем Родионовым ездил на лодке по озеру, и он переводил мелкокалиберные патрончики, пытаясь застрелить хотя бы одного карасика. Но это ему никак не удавалось. Никак не мог он правильно определить расстояние и угол преломления. Возвращался в Усть-Омчуг я, кажется, 2 июля и по дороге от кого-то узнал о падении Севастополя, о конце героической обороны, продолжавшейся 250 дней. Выехать с устья Теньки было трудно. Преодолев пешком расстояние до устья Дусканьи, то есть около 10 км, я и там не нашел машину. Был только один бензовоз, единственное место в кабине которого было занято. Никакой другой машины не было, и мне представлялось три варианта: первый — идти пешком 40 км до 239-го км, второй — ожидать, но на прииске у меня не было знакомых и переночевать было негде. Я решился на третий отчаянный вариант. Я попросил шофера, чтобы он меня взял на подножку. И он, как ни странно, взял меня, войдя в мое положение, хотя и оговорился, что не отвечает за последствия. А это действительно было связано с риском сорваться с подножки и оказаться под колесами или лететь, катясь по крутому каменистому обрыву берега с головокружительной высоты в Теньку. Но я был молод, здоров и надеялся, что замок дверцы меня не подведет и не откроется на ходу, сбросив меня в пропасть или под колеса. Так я и провисел всю дорогу, стоя на подножке и держась руками за запертую дверцу, у которой было опущено стекло, что давало возможность запустить внутрь руки и даже голову. Вот я и висел, разговаривая с пассажиром. Опасность была, конечно, большая, но мне повезло, я благополучно добрался домой.В доме отдыха
В первых числах сентября в Усть-Омчуг переехал мой брат Всеволод с женой Лилей и 2,5-летней дочкой Нэлей. Его перевели с Бутугычага на должность старшего инженера отдела рудных разведок, начальником которого был Борис Багдасарович Евангулов. Еще за несколько дней до этого я временно перебрался из комнаты Ковалева, в которой жил, в комнату И. И. Тучкова, который был в поле, а жена его, уезжая по путевке в дом отдыха на Талую, попросила меня, чтобы я пожил до ее возвращения в их комнате, чтобы не разворовали имущество. Ковалев тоже на некоторое время перебрался куда-то, а Всеволод с семьей жил это время в нашей комнате, пока ему не дали другую, такую же в том же доме. Примерно в то же время в Усть-Омчуг вернулся и знакомый еще по Игандже Юрий Владимирович Климов. Его я тоже приютил в тучковской комнате, где жил тогда и сам. Несколько раз ходили мы с ним по вечерам на охоту за Детрин, но перелет еще не начался, и мы ничего не видели. 17 или 18 сентября, когда после переезда Всеволода в другую комнату, отъезда Ю. В. Климова на разведочный участок и приезда Августы Васильевны — жены Тучкова, я только успел перебраться в свою, вернее, ковалевскую комнату, мне предложили «горящую» путевку в дом отдыха «Веселая» (правильное название «Стахановец». — Ред.) в бухте Гертнера близ устья Дукчи. Я, разумеется, согласился и без промедления выехал в Магадан. Ехал на так называемых перекладных, то есть на попутных грузовиках с пересадками. Поклянчишь, поклянчишь — «дядя, подвези», глядишь, и поедешь дальше. Со мной из Усть-Омчуга ехали две молодые женщины: зубная врачиха Зубко, жена врача Подоплелова, и техник-геолог, жена Афанасия Милованова. Дом отдыха «Веселая» в бухте Гертнера. Фото из журнала «Колыма» 1947 г. Подпись в журнале: «Дом отдыха «Стахановец» в бухте Веселая в 5 км от Магадана».
Дом отдыха «Веселая» в бухте Гертнера. Фото из журнала «Колыма» 1947 г. Подпись в журнале: «Дом отдыха «Стахановец» в бухте Веселая в 5 км от Магадана».
Ехали мы на газогенераторной машине. Тогда почти все наши зисовские грузовики были переделаны на газогенераторы. На всех заправочных станциях построили просторные сараи, где распиливали лес на чурки и сушили чурки, «расфасовывая» их в мешок. Вместо заливки горючего в бак шоферы забрасывали несколько мешков чурок в кузов и ехали дальше, по мере надобности подсыпая их в бункер газогенератора. Эти «самовары» газогенератора очень стесняли и без того узкое, малое «жизненное пространство» в шоферской кабине на ЗИС-5. Путь наш занял почти сутки, но наконец мы добрались до цели. Шел второй год войны. В Сталинграде велись ожесточенные уличные бои. Фашисты рвались к Волге, но защитники города упорно сопротивлялись. Положение защитников ухудшалось, все труднее становилось вести оборону против превосходящих сил врага. Война перепахивала город взрывами авиабомб, артиллерийских снарядов и мин. Рушились дома, валились стены, оставляя руины, груды кирпича и мусора. Кварталы города превращались в площади, усеянные руинами и кучами битого кирпича. Лилась кровь, умирали защитники города, уничтожая врагов. А здесь, в глубочайшем тылу, на другом конце земли, войны не было, но все наши помыслы постоянно обращались к ней и прежде всего к самому горячему участку ее — к Сталинграду. О ней здесь постоянно напоминало радио в нашем доме отдыха или большой репродуктор на здании телеграфа на перекрестке Колымского шоссе и улицы Пролетарской, учебные полеты пикирующих бомбардировщиков над центром города и его окрестностями и укрепления, разбросанные на берегах бухты Гертнера и прилегающих высотах. В Магадане в разгаре было бабье лето. Было еще довольно тепло, и хотя неласковое море вовсе не манило купаться, тем более что и берег был для этого неудобен, мне все же хотелось искупаться. Но пришлось воздержаться от этого только потому, что у меня не было необходимых для этого вещей. Здесь впервые в жизни я наблюдал морские приливы и отливы. Их постоянно можно было замечать по дороге из дома отдыха в поселок Веселый, через который мы первое время ходили в Магадан. Эта дорога, вернее, тропинка пролегала вдоль берега бухты от устья реки Дукчи до устья реки Магадан (или Магаданки, как ее все называли) по широкому, полого опускающемуся к морю пляжу, идя по которому нельзя было не обратить внимания на постоянные перемещения береговой линии. Но особенно хорошо приливы наблюдались в устье речки Дукчи, вблизи от дома отдыха. Однажды вечером, возвращаясь в наступающих сумерках с прогулки с сопки, расположенной на другом берегу Дукчи на небольшом мысе, я увидел, что речка потекла в обратную сторону, прямо на моих глазах изменив направление течения. Как раз там, где тропинка подошла к броду. Морские воды спешили заполнить речное русло, бурля между мелкими валунами. Я поторопился перейти речку, пока вода не успела подняться высоко и не заставила меня идти вверх по течению, чтобы перейти вброд там, куда еще не дошел прилив. Пока стояла хорошая сухая погода, я постоянно ходил на прогулки в окрестностях дома отдыха, часто ходил и в город, иногда один, как и на прогулки. Впрочем, в город почти всегда находились попутчики. Сначала ходили через тот самый поселок Веселый, в котором мы с Волей и Лилей прожили 9 дней четырьмя годами раньше, когда впервые прибыли в Магадан. По этой дороге было ближе, всего около 8 км, но всю дорогу необходимо было идти пешком. Потом мы узнали другую дорогу — она вела к совхозу «Дукча», расположенному в четырех километрах от устья одноименной речки и нашего дома отдыха и в 10 км от Магадана по главному шоссе, которое все называли «центральной трассой». Эти 10 км всегда можно было проехать в автобусе, подождав до 20–25 минут. Поэтому ходьбы было меньше. В доме отдыха мне все нравилось. Удобные комнаты, относительно хорошее для военного времени питание, которого мне вполне хватало, хорошие соседи. Все было хорошо, и недоставало только одного — развлечений. Поэтому было скучно, и название дома отдыха не оправдывалось. Киносеансы устраивались только 2 или 3 раза, причем запускали старые, виденные раньше фильмы. Помню, один из них умудрились вымочить, кажется, уронили в речку. Мокрую пленку сушили, развесив под открытым небом, хорошо еще, что не было дождя. Главным развлечением в доме отдыха был бильярд, пользовавшийся большой популярностью у отдыхающих. Стол был один, а желающих играть было всегда много. Поэтому всегда приходилось долго ожидать очереди, прежде чем удавалось сыграть одну или две партии в американку. Один раз разыгрывался турнир, в котором участвовало довольно много человек, причем играли пирамидку. Особенно сильно популярность этой игры возросла, когда испортилась погода, выпал снег, кончилась золотая осень. Это произошло в конце первой десятидневки октября. Директором дома отдыха был толстый венгр средних лет, носивший, впрочем, немецкую фамилию. Он пребывал все время в угрюмом настроении, печально сетуя на то, что его скоро должны интернировать. В доме отдыха жили и жена директора, дородная мадьярка, и их взрослая дочь, тоже служившие в доме отдыха, а также сын, работавший до недавнего времени на руднике «Бутугычаг», а теперь уволившийся оттуда в связи с тем же предстоящим интернированием. Несмотря на отдельные недостатки, я хорошо отдохнул в доме отдыха. Досадно было, что возвращение оттуда требовало затраты большого количества времени и нервов. Из Магадана я с попутчиком, коллектором партии Кожанова, быстро доехал до Палатки, но дальше автобус не ходил, а попутных грузовиков не было. Мы с попутчиком где-то устроились отдыхать, даже спали там, но там было очень холодно. Просидели мы в этом ожидании 2 или 3 дня. Хорошо еще, что закон о прогулах и опозданиях тогда уже потерял свою остроту, а не то нам же и досталось бы за перенесенные невзгоды. В первый день пребывания на Палатке я встретил на улице Льва Федоровича Сиверса, геолога и начальника партии, работавшего до сих пор у нас. Он был очень расстроен и подавлен в связи с тем, что его интернировали, так же, как граждан воюющих с Советским Союзом государств, несмотря на то что он был не только подданным Советского Союза, но и русским по национальности. Немецкой у него была только фамилия, но и на нее никто не обратил бы внимания. Главное было в том, что он при переписи населения несерьезно отнесся к вопросу о своей национальной принадлежности. На вопрос производившего перепись: «Что у вас за фамилия? Вы немец, что ли?». Он ответил: «Пишите: немец», хотя хорошо знал, что он русский. Теперь, конечно, каждый скажет, что если он поступил так непатриотично, то сам и виноват во всех бедах, которые ему в связи с этим пришлось претерпеть. А ведь он просидел в строительном батальоне вместе с немцами, среди которых были и настоящие фашисты, до самого конца войны, все время хлопоча о том, чтобы восстановить свою русскую национальность. У него был брат, майор Красной Армии. Он прислал ему справку, выданную командованием, о том, что он действительно русский и что у него есть брат Лев, разумеется, тоже русский. Но это никого ни в чем не убедило. Все его заявления были оставлены безо всякого внимания. Из лагеря стройбатовцев он вышел только после войны и вскоре безвременно скончался. Очень жестоко он был наказан за свой непатриотичный поступок. В сущности, пострадал он за то, в чем виноват был не только он. Он, конечно, неправильно понимал интернационализм, очевидно, путая его с безродным космополитизмом. А разве он был виноват в том, что такого понятия (безродный космополитизм) тогда совсем не было, и в том, что понятия «Родина», «Отечество» появились только за 7 лет до войны, а понятие «патриотизм» или тем более «советский патриотизм» — еще позднее? Нужно не забывать и того, что патриотизм русских очень многие малограмотные шишки незадолго до войны называли великодержавным шовинизмом. Из Палатки мы выехали только тогда, когда там наконец была проявлена «забота о живых человеках». Там накопилось много пассажиров, которые не могли выехать в сторону Теньки по той же причине, по которой сидели в Палатке и мы. Местное начальство вынуждено было наконец послать машину, в которую погрузили человек тридцать. Машина была с высокими бортами, большая, укрытая сверху брезентом, и мы сидели в ней на полу тесной толпой. В общем, комфорт был запоминающийся надолго. Нас везли, как негров в XVI или XVII веке работорговцы.
Вторая военная зима
Приблизительно 18 октября я вернулся в Усть-Омчуг и поселился опять на старом месте в комнате Ковалева. Опять принялся работать в отделе подсчета запасов, который, впрочем, как и все другие наши отделы, теперь назывался отделением, потому что наша геолого-разведочная служба стала вдруг называться отделом. Шли самые тяжелые дни Сталинграда. Продолжались упорные тяжелые бои. Немцы, имевшие все еще численное превосходство, продолжали рваться вперед к Волге, стараясь нахрапом добиться успеха. Первое время после моего возвращения еще продолжались занятия нашего истребительного батальона, но они стали теперь реже и вскоре почему-то совсем прекратились. Удивительно, что это произошло еще до начала большого наступления наших войск под Сталинградом и до перелома войны. Вероятно, уже тогда наступила полная уверенность в том, что фашисты не добьются успеха, что японцы не начнут нападение на наш Север текущей зимой, и в том, что скоро наши войска нанесут решающий удар и наступит перелом войны. Теперь мы с братом стали регулярно ходить на охоту на горняшек (горняшками и русловками охотники нызвают куропаток по месту их обитания и разнящимся повадкам. — Ред.), не пропуская выходных дней. Их мы всегда находили в долине притока Омчуга речки Неглинки и на ее притоках. Куропаток обычно приносили, хотя и немного. Одно время мы с ним приспособились бегать с утра в будни до работы, так сказать, на скорую руку. Но это было ближе к весне, когда день стал начинаться раньше и когда до девяти часов утра появилось светлое время. Мы искали русловок прямо возле поселка и иногда добивались успеха. Однажды во время такой вылазки брат вдруг увидел куропатку, неподвижно сидевшую на снегу. Он очень удивился, увидев, что после выстрела она не сдвинулась с места, а голова ее отлетела, как стеклянная. Оказалось, что она была подстрелена кем-то раньше и замерзла, сидя на снегу. Однажды в конце октября я пошел на охоту почему-то один. То ли брат куда-то в этот день уехал, то ли я «отгуливал» тогда после дежурства в будень. Мороз был обыкновенный для этого времени года. Было приблизительно 30 градусов мороза. И вот, возвращаясь по санному пути по пойме Детрина, я набрел вдруг на незамерзшую протоку шириной метров 15–20. Судя по тому, что санная дорога пересекала ее, я решил, что она мелкая — не глубже чем по колено. Время было уже позднее, и я решил не терять его на поиски обхода, а форсировать водную преграду здесь вброд. Подойдя к берегу, я быстро снял и положил на снег валенки, потом, стоя на них, быстро снял портянки и попроворнее засучил до колен брюки. Затем, держа в руках валенки и портянки, шагнул в ледяную воду. Перейдя на другую сторону, я, не вытирая ног, сунул их босыми и мокрыми в валенки и, когда они немного согрелись, надел портянки, лишь слегка вытерев ими же ноги. После этого на ходу ноги очень быстро согрелись, и я шел дальше как ни в чем не бывало. Оказалось, что можно и на морозе переходить вброд речные протоки. 19 ноября, как известно, начались наступательные бои советских войск под Сталинградом, начался перелом войны. Неимоверно быстро положение на Сталинградском фронте коренным образом изменилось. Немцы из нахальных ликующих победителей превратились вдруг в жалких замученных бродяг. Валентин Иванович Буриков в декабре был переведен в Нерючинский разведрайон, а на его место в отделение подсчета запасов был назначен некий Ткачев из Оротукана, имевший уже большую практику в работе по подсчету запасов. Еще годом раньше, в конце 1941 года, мне рассказывал геолог Тенькинского разведрайона И. И. Крупенский о том, что И. Е. Драбкин говорил ему о намерении назначить меня начальником нашего отдела, а В. И. Бурикова куда-то перевести. Не сделал же он этого из-за какой-то моей оплошности. Теперь я не могу вспомнить, какой. Помню только, что это была какая-то пустяковая оплошность, которой я сам не придавал никакого значения. Но я совсем не рвался к тому, чтобы куда-то выдвинуться, что-то возглавить, потому что не был карьеристом. Тем более что я относился к своей работе в аппарате управления как к делу временному. Поэтому я безразлично отнесся к тому, что И. Е. Драбкин раздумал меня выдвигать, а И. И. Крупенский удивлялся этому. Еще одна стычка с И. Е. Драбкиным случилась у меня незадолго до поездки в дом отдыха. В своей пояснительной записке тогда я отразил имевшие место парадоксы в подсчете, обусловленные неправильной системой блокировки золотоносных площадей, о которых я уже рассказывал (см. главу «В Санга-Талоне», — Ред.). Вопреки своему обыкновению, на этот раз он прочел мою записку, вызвал меня и начал разносить за то, что я не согласовал с ним содержание записки, которую он должен подписать. Он был неправ, потому что недостатки в системе, ведущей к ошибкам, нужно было срочно устранить, а он не понимал этого и мешал работе. Но мне не удалось объяснить ему это в доходчивой форме, и я плюнул, решил — черт с ним. Часть зимы я занимался приведением в порядок отчета Г. Н. Чертовских, который был оставлен автором в незаконченном виде, когда его в начале лета перевели в Южное управление. Во второй половине зимы М. Г. Котов предложил мне в новом году опять идти на полевые работы. Я охотно принял предложение. Мне предстояло произвести геологическую съемку в масштабе одна стотысячная в верховьях Бахапчи. Моим соседом ниже по течению был С. И. Кожанов, который должен был производить работу одновременно со мной. Базу Тэнгкелийской партии, которую возглавлять должен был я, по проекту предполагалось устроить на бывшей базе оленеводческого совхоза, которую потом уже занимал бывший Детринский разведрайон. Этот разведрайон с начальником Дмитрием Ивановичем Куриловым и старшим геологом Кириллом Ивановичем <…> (фамилия неразборчива. — Ред.) был переведен сюда с устья речки Неглинки близ Усть-Омчуга в конце 1941 года после того, как база около года пустовала. После непродолжительного и безрезультатного прозябания здесь, длившегося меньше года, эта организация была ликвидирована. Заброску грузов сюда для обеих партий было намечено произвести по зимнему пути конным транспортом Арманской обогатительной фабрики, которая была расположена на устье реки Светлой в долине Армани. Вся эта зима была как бы озарена ярким светом великих побед Красной Армии под Сталинградом, на Северном Кавказе, на Ленинградском фронте. Легче стало дышать, радостно было на душе. С этим чувством мы просыпались утром, с ним мы работали, ходили и жили. Даже во сне мы помнили об этом.1943
Колечко
В первые дни войны газеты и радио сообщали о том, что советские патриоты сдают в фонд обороны принадлежащие им драгоценности, золото, драгоценные камни и так далее. Слушая или читая об этом, я удивлялся, недоумевал, у меня в голове не укладывалось это. Я привык думать, что у нас в стране давно ликвидировано социальное неравенство, что у нас нет ни бедных, ни богатых. Откуда же, думал я, берутся драгоценности у советских граждан, если они лишились их давно. Я считал, что мои родители были среднего достатка люди, отец — инженер, занимал довольно высокие посты на железной дороге, но он и мать продали в голодные годы все свои немногочисленные золотые и серебряные вещи, как говорят, подчистую, так что в голодный 1933 год в торгсин уже нечего было сдать, чтобы купить хотя бы кукурузной муки. Разумеется, что, продав в голодные годы все, что у них было, они не мечтали никогда уже о том, чтобы купить себе какие-нибудь ненужные бесполезные безделушки. Зарплаты отца хватало только на питание, и с трудом всегда делались приобретения одежды и обуви. Я знал, что ни инженерно-технические работники, ни рабочие, ни служащие не имели драгоценностей и не могли их вносить в фонд обороны. А воры, спекулянты и разная другая нетрудовая мразь, у которых собирались склады золота и других драгоценностей, никогда ничем не поступились бы. Поэтому, естественно, я скептически относился к подобным сообщениям радио и прессы. Я считал, что они раздуты, преувеличены, и не понимал, для чего нужно это лицемерие. Трудно передать, как меня взволновало и, пожалуй, потрясло сообщение о том, что сам Буриков, да-да, именно наш Буриков, отличавшийся не только скупостью, но и скаредностью, любивший занимать деньги, оставляя свои лежать на сберкнижке, и не любивший отдавать долги, вот этот самый Буриков подарил или сдал в фонд обороны золотое кольцо. Из уст в уста передавалась эта весть. Все думали — вот единственный у нас человек, совершивший благородный поступок, единственный в Усть-Омчуге, единственный в нашем управлении и в районе и, должно быть, на всей Золотой Колыме. Во всяком случае мне не приходилось читать в наших газетах о таких благородных поступках. Люди вносили в фонд обороны облигации займов на большие суммы, сбережения, в том числе на большие суммы, собранные за годы работы на Севере, покупали на эти деньги танки, и некоторые даже воевали добровольно на собственных танках, как, например, супруги Бойко, но почему-то никому не пришло в голову купить колечко в ювелирном магазине и сдать его в фонд обороны. А это можно было сделать, потому что с первого дня войны прилавки не только ювелирного магазина в Магадане, но и промтоварных отделов маленьких поселковых магазинчиков наполнились золотыми вещами. Но ни у кого не хватало фантазии на то, чтобы затмить или хотя бы повторить славный поступок Бурикова, и наш Валентин Иванович оставался единственным и неповторимым. Но потом наступило для меня и некоторых других очевидцев трагическое падение и развенчание Бурикова, полное разочарование и прозрение. Однажды к нам в отдел явился начальник специального отдела, положил на стол Валентина Ивановича его драгоценный дар и сказал: «Я не знаю, куда мне девать вашу вещь, никто у меня ее не принимает, возьмите и сдайте сами!». И вот тогда только я успокоился за Бурикова, я понял, что ему не угрожала обильная потеря крови из зубов от жадности или скаредности, когда при утере какого-нибудь имущества «кровь идет из зубов». Это было только формально золотое кольцо. Потому что это было кольцо очень маленькое и очень тоненькое, хотя и было оно золотое. Это было самое дешевенькое, самое убогое из золотых украшений, когда-нибудь виданных мной. Только такое подобие Плюшкина, как наш Валентин Иванович, могло подарить своей молодой и глупой жене такую ничтожную вещь, подобную которой я не видел ни на руках, ни на ногах ни у одной из нищенок Индии. Это был кусочек тоненькой золотой проволоки сечением меньше 1 мм2, согнутый в кольцо и спаянный. К нему была припаяна тонкая золотая пластинка в виде сердечка до 55 мм в поперечнике. И вот наш скаред решил извлечь новую пользу из колечка: внести его в фонд обороны и заработать этим политический капитал. А колечко опять вернулось к нему, и он мог опять в третий раз подарить его жене или еще кому-нибудь другому.На Армани
18 апреля с машиной, груженной снаряжением и продовольствием двух партий, ранним утром я отправился на Арманскую обогатительную фабрику, стоящую на устье реки Светлой. Необходимо было добиться от администрации фабрики немедленного выделения лошадей для перевозки всего нашего имущества на место. Медлить было нельзя, потому что наступило резкое потепление, снег дружно таял и грозил сойти раньше времени. Груз сложили на базе Светлинского разведрайона в 3 км от фабрики в долине реки Светлой. Жил я несколько дней у старшего геолога разведрайона Бориса Ананьевича Иванова и почти каждый день ходил на фабрику, добиваясь от заместителя начальника по хозяйственной части Огурцова выделения лошадей. Это было нелегко, потому что у лошадиных хозяев всегда находились причины, чтобы оттянуть время. Я все ходил на фабрику, и сердце болело, когда замечал, как опускается снежная поверхность, как снег почти на глазах под горячими лучами солнца быстро, превращается в грязные снежно-фирновые иглы и пластины, наклонно торчащие в сторону солнца, и на отдельных участках исчезает совсем, оголяя мох и землю. Но наконец все было закончено. Кажется, 24 апреля наше имущество было погружено на сани, и транспорт из 8 саней с лошадьми и двумя возчиками тронулся в путь вверх по Армани в сторону Солнечного озера. С ними пошел рабочий моей партии с редкой и странной фамилией Индриков, которому предстояло выполнять роль кладовщика или завхоза. Я, расставшись с Индриковым, проводив транспорт, пошел по дороге, ведущей вниз по течению Армани к ответвлению дороги на фабрику от основной Тенькинской трассы. Радовало то, что только-только начал ходить автобус из Магадана в наш Усть-Омчуг, и теперь доехать туда стало гораздо легче, чем еще совсем недавно. Вспоминалось прошлогоднее возвращение из дома отдыха. Мне повезло. В подошедшем часа через полтора автобусе нашлось место, и скоро я прибыл домой.Огороды
Еще весной 1942 года среди жителей поселка Усть-Омчуг подобралась инициативная группа людей, решивших обрабатывать огороды. Возглавил и создал эту группу новый начальник россыпного отдела, сменивший летом 1941 года В. М. Родионова, Леонид Андреевич Кофф-Кочетков, который, впрочем, теперь назывался уже просто Коффом без Кочеткова. Кроме него в этом деле принимали активное участие маркшейдер Радзиевский и еще три-четыре человека, из которых помню еще только одну молодую женщину, фамилию забыл, но помню, что звали ее Людмила, а за глаза называли почему-то Родненькой. Кажется, у нас была привычка всех женщин называть этим словом. У них хорошо росли капуста, салат, редиска и даже картошка. В общем, их опыт вполне удался и был достоин подражания. Весной следующего, 1943 года огородничество приобрело массовый характер. Теперь огородников набралось уже несколько десятков. Под обработку выделили большой пустырь близ берега Детринской протоки, который был покрыт большими толстыми пнями лиственницы 400–500-летнего возраста. Пни были глубоко вросшими в землю с корнями, расположенными в три яруса. Лиственница — очень неприхотливое дерево. Растет она большей частью на площадях распространения вечной или многолетней мерзлоты. Поэтому корни ее не внедряются в глубь земли, а развиваются в горизонтальной плоскости над мерзлотой и под покрывающим ее сплошным одеялом мха. Но растет она и на участках талых грунтов, причем и здесь ее корневая система имеет такое же строение. Корни располагаются в одной горизонтальной плоскости и растут во все стороны от ствола, образуя звезду, которая служит и подставкой для дерева. Трехэтажные корни на наших огородах свидетельствовали о том, что корням нужен был, кроме питательных веществ, и воздух. Поэтому, оказываясь в результате отложения или при затоплении берегов в большие паводки погребенными глубоко, они заставляли дерево выпускать следующий, расположенный выше ярус корней. Корчевать эти пни было очень тяжело. Делать вручную было бы слишком трудоемкой работой, но на помощь пришла техника. Пни подкапывали со всех сторон и затем взрывали. Даже с такой помощью техники борьба с пнями растянулась на два года. Посадили огород и мы с братом. Посадили, как и другие, капусту, яровизированную, пророщенную в бумажных стаканчиках с землей картошку, редиску и прочее. Главное — посадили табачную рассаду. Табак давно стал дефицитным продуктом. Его было мало. Мало входило его в нормы снабжения. 150 граммов на месяц или 5 граммов — 5 папирос на день — это, конечно, мало. Поэтому его и выращивали индивидуальные огородники и курили, несмотря на то что качество его заставляло желать лучшего. Особенно табак вырос в цене в следующем 1944 году. В связи с этим появилось много воров, покушавшихся на похищение табака с огородов. Брат рассказывал мне, как он решил для отпугивания воров устроить шумовую мину. Продумал подробно, как ее устроить. Заряд пороха, капсюль, гвоздь вместо бойка, железная болванка, падающая на гвоздь, тонкая нитка, окружающая табачную грядку. Разорванная нитка освобождает настороженную болванку, она падает, происходит взрыв — хлопок, похожий на выстрел. Представьте себе обстановку: темная августовская ночь, зловещая тишина; вор, еще днем высмотревший, где растет табак, и выбравший себе объект для покушения, ползет к нему на животе. Он знает, что огород охраняет сторож с ружьем, поэтому ему страшно, нервы его напряжены, он боится. Вдруг он цепляет нитку — взрыв! Но все это было только в проекте, а на деле ничего не получилось, несмотря на то что брат сделал мину, как задумал, сделал и настроил взрывающее устройство, и все это сработало, как было нужно, но не тогда, когда требовалось, он сделал все это немного раньше, чем нужно было, — не перед самым уходом оттуда, а немного раньше. Потом, забыв о своей мине, он занялся каким-то другим делом, сам зацепил свою нитку и сам же испугался взрыва. Заново же устанавливать и настораживать всю свою музыку он не стал. Поэтому гениальное изобретение осталось не внедренным в жизнь. Но очистить почву от пней и обработать ее — это было еще половиной дела. Нужно было еще достать, привезти и внести в почву удобрения. А так как лошадей на Колыме мало, то и конского навоза тоже не хватало. Тем более что была там агробаза, на которой выращивалисельхозпродукцию для высокопоставленных особ, она и забирала весь навоз. Не было там также извести, тогда как почвы там кислые и требуют известкования. О том, что это так, свидетельствует буйный рост леса на гранодиоритовых сопках, тогда как гранитные сопки остаются голыми, безлесыми. Огородами мы с братом занимались долго — с 1943 до 1952 года. Позднее тоже сажали овощи, но гораздо меньше. Лучше всего в открытом грунте росла капуста. Она морозоустойчива. Рассада ее не погибала и при 3–5 градусах мороза. После таких морозов рассада, правда, некоторое время оставалась как бы оглушенная и не развивалась. Тем более не страшны ей были летние и осенние заморозки в июле, августе и сентябре. Росла хорошо и картошка, но не каждое лето удавалось собрать урожай, вернее — вырастить и отстоять ее от морозов в июле и в августе. В сентябре кончается ее вегетативный период, и первые сентябрьские морозы заставляют срочно убирать ее. Картошку приходится убирать всегда молодую. Она росла бы еще, если бы позволяли погодные условия. Поэтому она не успевает созреть. Кожица ее не успевает загрубеть, оставаясь тонкой, легко сдирающейся. Поэтому ее трудно сохранять от порчи зимой. Огурцы хорошо растут там в парниках, а помидоры — в теплицах и на подоконниках солнечных окон. Но и то и другое требует искусственного опыления. Большого труда требует там возделывание огородов. Но не все хотели трудиться, были и умные, хитрые, которые умели пользоваться советскими законами для спекуляции и присваивания плодов чужого труда. Например, человек поднял таежную целину: раскорчевал участок, обработал землю, где-то достал, привез и внес в почву драгоценный конский навоз. Год, два или три он трудился, сажал огород, потом уехал в связи с переводом на другое место. Тут на его труд накладывает руку огородная компания. Она распределяет землю — отдает нуждающемуся, но не желающему корчевать пни — зачем это делать умным людям, если есть дураки. После войны постепенно все основные обрабатываемые индивидуальными огородниками площади были в Усть-Омчуге постепенно застроены. Это, конечно, было необходимо, потому что поселку иначе некуда было бы расти, но все равно было жаль своего и чужого труда, затраченного на обработку таежной целины. Досадно было, что никто не хотел подумать о том, чтобы спасти драгоценную обработанную удобренную почву, использовав для этого имевшуюся мощную землеройную технику. В последние годы нашего пребывания там, в Усть-Омчуге, как и в других поселках области, сильно развилось строительство индивидуальных теплиц и выращивание в них помидоров и огурцов. Разумеется, что это дело было выгодное, потому что эти овощи там были очень дороги из-за того, что государственные теплицы на агробазах выращивали их очень мало, а есть их хотели не только начальники, которых ими снабжали, и спрос на них был высок. В газетах можно было найти глухое недовольство тем, что развивается такое вольное предпринимательство. Богатеют, обогащаются, мол, люди. Чувствовалось, что собираются запретить это. И действительно — кому это нужно — едят, видите ли, помидоры и дают купцам наживу, вместо того, чтобы покупать в кооперативе. Запретить, и дело с концом!Снова весна
Теперь я готовился к полевой работе по-новому. Работа предстояла на готовой карте вместо глазомерки, которую раньше нужно было тут же готовить. Комплектование партии не представляло трудности. Прорабом был назначен уже знакомый по 1940 году П. И. Авраменко, старшим коллектором — Шинкаренко, окончивший недавно курсы коллекторов, бывший солдат. Промывальщик Никита Коротков, кладовщик Индриков, возчик Демьянов, рабочие Иванов и Давыдов. Промывальщика и всех рабочих за исключением Иванова, которого мы наняли в Усть-Омчуге, порекомендовал П. И. Авраменко, так как знал их по работе в Санга-Талоне. Как раз в то время, когда я прорабатывал основной литературный или фондовый источник сведений о геологии, полезных ископаемых и других сведений о районе предстоящих исследований, явился сам автор этого сводного отчета о работах нескольких лет, еще совсем недавно законченного, Петр Николаевич Спиридонов. Он был назначен старшим инженером нашего геолого-поискового отдела, начальником которого уже третий год продолжал работать Михаил Георгиевич Котов. В этом году на Теньке было организовано много полевых партий. Количество их было максимальным за все время проведения здесь поисков, разведок и геологической съемки в довоенные, военные и послевоенные годы. В связи с этим появились в нашем геолого-поисковом отделе новые начальники полевых партий. Это были: Алексей Павлович Чекалов, Владимир Николаевич Плиев, Петр Сергеевич Петров, Дибров, Гонтарь, Кальченко. Первые трое продолжали и потом работать еще по два года, а остальные не стали продолжать свою работу здесь. В самом конце весны, когда уже все партии были укомплектованы, я получил письмо от С. С. Герасименко, работавшего тогда геологом прииска «Ветреный». Он просил меня о том, чтобы я оказал ему содействие в переходе на работу в геолого-поисковый отдел. Ему захотелось переменить профиль своей работы. Я выполнил его просьбу, переговорил с М. Г. Котовым. Он пообещал иметь в виду С. С. Герасименко и записал себе в блокнот об этом. В один из выходных дней в середине мая мы с Волей отправились искать глухариный ток. Пошли в субботу в конце дня, сразу после работы, поднялись на сопку возле лагеря и вышли на водораздел между Детрином и Неглинкой, держа путь в направлении течения Детрина. Короткие сумерки белой ночи провели у костра, разложенного вблизи снегового пятна водораздела. Этим снегом мы наполняли свой котелок при приготовлении чая. Во время чаепития к нашему костру вплотную подлетела куропатка-горняшка и уселась в 5–6 шагах от нас на снег. Мы не пытались стрелять в нее и предоставили ей возможность мирно улететь, полюбовавшись на костер и на нас. Утром мы спустились в долину Детрина, но найти глухарей нам не удалось. Ни я, ни брат до этого никогда не слышали так называемой глухариной песни, которую правильнее было бы называть ритмичным щелканьем, и поэтому нас сбивало с толку громкое щелканье или стук клювом по дереву, издаваемый желной — черным красноголовым дятлом. Первое мая впервые в этом году мы встречали в новом, только что построенном клубе. Еще предыдущим летом мы на субботниках расчистили от пней строительную площадку и вкопали столбики, которые в деревянных домах заменяют фундамент. В клубе было торжественное собрание и концерт художественной самодеятельности. Запомнилось выступление самонадеянного певца из инструкторов политотдела, веселившего публику, пуская петуха. Зал гремел аплодисментами, все плакали от смеха и не жалели ладоней, а певец старался еще пуще. Однако на лице его даже мне где-то в средних рядах хорошо было видно недоумение, когда он раскланивался после аплодисментов. Наверное, он все же подозревал, что над ним смеются, но, с другой стороны, ему хотелось верить, что публика оценила его талант.Солнечное озеро
Наконец наступило время отправляться в район полевых работ и приступать к выполнению задания. Примерно 10 июня я с С. И. Кожановым, его промывальщиком и коллектором Шинкаренко отправился пешком с базы Светлинского разведрайона на Бахапчу. По дороге зашли мимоходом к Ю. В. Климову, который теперь заведовал рудной разведкой на небольшом оловянном оруденении, открытом в прошлом году И. И. Тучковым. У него долго не задерживались, посидели, отдохнули после первого 12-километрового перехода, покурили и двинулись дальше. Шли мы налегке, имея при себе лишь легкие рюкзаки, ружья и телогрейки на плечах. Комаров было пока мало, и они нам не очень досаждали. Весенний паводок еще не кончился. Вода в реках и ручьях держалась на высоком уровне, тайга была еще труднопроходима. Приходилось переправляться с одного берега реки на другой, пользуясь для этого поваленными деревьями, нависающими над стремительным потоком. На одной из таких переправ вершина поваленного дерева далеко не достигала противоположного берега и, лишенная опоры, свободно раскачивалась. Достигнув вершины, нам приходилось спрыгивать в мелкую воду. У нас с собой был прихваченный из Усть-Омчуга деликатес — рулет из морзверя — нерпы, или морского зайца. Это было копченое, почти совершенно черное вареное мясо с инкрустациями из белого свиного сала. Мясо имело сильный специфический запах рыбы, к которому нужно было притереться и привыкнуть, чтобы можно было его есть и даже находить в нем приятный вкус. Без привычки же оно было неприятно и сначала вызывало отвращение. Типичный геологический дом. Фото 1949 г.
Типичный геологический дом. Фото 1949 г.
Не доходя истоков Армани, мы провели несколько часов ночных сумерек у костра, немного подремали, заправились рулетом, напились чаю, а утром были уже на подходе к Солнечному озеру. Это большое овальное озеро длиной 5–6 километров и шириной до 2–2,5 километра. Расположено оно в сквозной долине на перевале из истоков Армани в истоки Бахапчи. Армань, как и другие реки охотского склона, агрессивна. Она давно наступает на Бахапчу, приспосабливая ее долину под свое ложе, и успела уже захватить значительную часть ее бассейна площадью больше тысячи квадратных километров. Многие приписывают Солнечному озеру ледниковое происхождение, но я думаю, что это ошибочное мнение. Оно постоянно опровергается общностью расположения довольно большого числа озер разной величины вдоль современного подвижного Охотско-Колымского водораздела, непрерывно отступающего к северу в результате регрессивной эрозии рек Охотского склона. Эти озера с другой стороны расположены также в гильотинированных, обезглавленных долинах рек и больших ручьев. Это неоспоримо свидетельствует и об общности причин, обусловивших их образование.
 Озеро Солнечное. Фото 2007 г.
Озеро Солнечное. Фото 2007 г.
Таковыми являются резкое уменьшение транспортирующих способностей водного потока реки, сильно уменьшившегося в результате ее перехвата и не соответствующего выработанному ранее профилю равновесию. Это приводит к накоплению рыхлого материала, выносимого притоками в главную долину, образующего в ней конусы выноса и запруживающего хилый, немощный поток, неспособный даже прорвать возникающую преграду. Мы шли по восточному берегу озера, обходя его справа. Слева расстилалась неоглядная ширь голубой водной глади. Изредка можно было видеть одиночных уток, перелетающих с места на место, торопливо махая своими крылышками. Они в это время были заняты высиживанием птенцов и старались меньше времени затрачивать на собственное кормление и прогулки. Неподвижное серебристое зеркало лишь изредка кое-где подергивалось мелкой рябью от дуновения набежавшего ветерка. Берега озера были покрыты довольно густой порослью тальника. Близко к берегам подступал вековой лиственничный бор. Разительный контраст представляло это озеро по сравнению с виденным годом раньше озером Джека Лондона. Вместо виденного там мутного грязного льда здесь была сверкающая зеркальная водная гладь. Это было удивительно, потому что разница абсолютных отметок поверхностей озер невелика. Вряд ли озеро Джека Лондона больше чем на 150–200 метров превышает Солнечное. Должно быть, разница в состоянии одного и другого озер была обусловлена разными сроками наступления весны в этом и в предыдущем годах. В 1942 году весна была поздняя. Я хорошо помню, что, например, лиственница распустилась тогда 7 июня, тогда как обычно это происходит недели на две раньше, а в 1943 году весна нам наступала на пятки, когда мы спешили воспользоваться санным путем для заброски грузов на место работ. По берегу Солнечного озера под ногами у нас тянулась хорошо проторенная тропа, которой раньше в долине Армани мы не видели. Нам говорили, что раньше на этой тропе не редкостью были самострелы — настороженные луки или ружья, автоматически поражающие идущее по ней животное. Устанавливались они, конечно, чтобы убивать зверей, но огромную опасность представляли и для человека. Остерегаться самострелов призывала и надпись, сделанная краской на небольшой дощечке, прибитой гвоздем к лиственнице у тропы еще на подступах к озеру. Мы и остерегались. Шагали, внимательно глядя перед собой и под ноги, но, к нашему счастью, самострелов не встретилось. Впрочем, я не уверен в том, что нам действительно кто-нибудь что-то говорил о самострелах. Упомянутую надпись на дощечке я помню твердо. Она действительно была, но не исключено, что она была сделана просто из хулиганских побуждений. Может быть, смутные воспоминания о том, что кто-то нам будто говорил о самострелах, были навеяны именно памятью о дощечках. Странное впечатление произвела на меня долина Бахапчи в ее истоках, выше устья впадающей в нее слева из собственной долины реки Букэсчан. Это совсем не было похоже на истоки Кюэль-Сиена, вытекающего мощным потоком из озера Танцующих Хариусов. Из Солнечного озера не вытекало ничего. Узенький немощный ручеек, протекающий по широкой безлесой, слабозаболоченной долине, возникал ниже, может быть, из вод, фильтрующихся сквозь плотину. Возможно, что во время паводков избыточные воды сбрасываются в Бахапчу, но этого не было во время нашего похода. Зимой во время камеральной обработки собранных материалов геолог-полевик ведет малоподвижный образ жизни, даже если ему и удается постоянно ходить на охоту. Поэтому ему приходится каждый год в начале полевых работ заново учиться ходить, втягиваясь в ходьбу. Хорошо, если этот процесс протекает постепенно, если нет необходимости начинать работу с большого перехода. В противном же случае этот переход проделывать всегда тяжело, гораздо тяжелее, чем если бы его пришлось совершить в середине или в конце полевого сезона. Поэтому мы все вздохнули с облегчением, когда издали увидели нашу базу. Рады были ожидавшим нас бане, отдыху и сытному обеду. Встретились наконец с пришедшими сюда на два дня раньше Авраменко, Шинкаренко, Рудаковым и другими, включая заведующего базой кладовщика Индрикова, и после мытья в бане, обеда и разговоров выспались, а следующим утром, проводив Кожанова и Рудакова с промывальщиком дальше вниз по Бахапче, стали собираться в первый маршрут.
Первые маршруты
Начинать работу согласно полевому заданию партия должна была с бассейна речки Тэнгкели из-за того что в шлихах проб из долины этой речки, взятых партией П. Н. Спиридонова при проведении геолого-рекогносцировочных работ, были найдены «знаки» оловянного камня. Тэнгкели — это левый приток Бахапчи, первый, считая от Букэсчана. Чтобы добраться туда, нам нужно было переправиться через реку, и мы потеряли целый день, ища возможность это сделать. Но полая (высокая, разлившаяся после ледохода. — Ред.) вода заставила в конце концов нас отказаться от продолжения бесплодных попыток форсировать поочередно рукава там, где она на растаявшей наледи делилась на протоки. Посоветовавшись, решили, пока не схлынут полые воды, работать на правом берегу близ базы. В средней части верхнего течения Бахапчи справа в нее впадают ручьи Ингали и Бегущий и другие. Почти все они длинные, относительно прямые и текут приблизительно под прямым углом к Бахапче. На этом участке партия и начала свою работу. Первые маршруты приходилось выполнять в скверную пасмурную погоду, когда было довольно холодно, солнце не проглядывало совсем и временами начинал моросить дождь. Приходилось радоваться и тому, что дождь не льет как из ведра, а лишь изредка и слабо моросит. Эти первые маршруты были примечательны тем, что в первый же день я со своими спутниками Шинкаренко и Ивановым собрал десятка два кремневых конкреций, часто включающих в себя остатки раковин и других окаменелых организмов. В первый же дождливый день я занялся препарированием их на костре. Делается это так: конкреции нагревают в жаре костра и затем раскаленные почти докрасна бросают в холодную воду. Они при этом часто лопаются, и иногда излом проходит по поверхности заключенной внутри конкреции раковины. Этого не всегда удается добиться, но все же гораздо чаще, чем если разбивать их просто молотком. И мне тогда удалось таким способом отпрепарировать несколько отпечатков раковин аммонитов анизийского яруса среднего триаса. Особенно хорошо отпрепарировался моллюск, живший около 200 миллионов лет назад. В одном из этих маршрутов мы видели медведицу с медвежонком, которые шли по соседнему отрогу водораздела и не навстречу нам, а параллельным курсом. Это была всего только вторая моя встреча с медведями на Колыме, которую я описывал, и повторяться не буду. Скажу только, что и она не разожгла во мне азарт, не возбудила вновь желание убить медведя, горевшее во мне в первое лето работы в тайге. За прошедшие четыре года я успел усвоить внушаемые мне мысли, что схватки с этими зверями опасны, и тем более гораздо опаснее, если это медведица с медвежатами, и что для этого необходимо надежное, неизменно нарезное ружье. У меня же была совсем ненадежная ижевская двустволка-бескурковка со слабыми курками, часто не разбивавшими капсюлей. Поэтому к этой встрече я отнесся довольно спокойно.Тэнгкели
В 20-х числах июня мы наконец отправились на Тэнгкели. Уже схлынули вешние воды, появилась трава, прибыли и лошади, приведенные возчиком Демьяновым из Санга-Талона. Можно было приступать к нормальной работе, пользуясь лошадьми для перебазировки стоянок. Эта речка привлекала наше внимание и заставляла уделять время для ее изучения в первую очередь потому, что еще партией П. Н. Спиридонова при рекогносцировочных геолого-поисковых исследованиях за 4 года до нашей работы там была установлена знаковая оловоносность аллювиальных отложений ее. В шлихах, отмытых из отложений речки, наблюдались зерна касситерита. Поэтому первоочередной нашей задачей была локализация проявления оловоносности аллювия путем детального опробования оловоносного участка гидросети. Но мы с П. И. Авраменко ставили себе более высокую цель: не только определить место, где находятся коренные жильные источники оловянного камня, откуда зерна его попадают в речные отложения Тэнгкели, но и выявить хотя бы одну-две оловоносные жилы, чтобы определить элементы их залегания, минералогический состав и так далее. Это должно было облегчить дальнейшие работы по выявлению оловорудного месторождения и ускорить их. Поиски рудного месторождения — дело трудоемкое, требующее выполнения больших объемов работ, поисков рудных или жильных свалов и проходки канав и траншей для вскрытия рудных жил, определения их длины, мощности и содержания олова путем опробования. Все это требует затраты большого количества времени и труда и потому включается в задание более детальных крупномасштабных партий, создаваемых специально для проведения таких работ. Наша же задача состояла в исследовании большой площади, охватывающей около тысячи квадратных километров, на которой были известны еще и проявления золотоносности, тоже требующие нашего внимания. Бассейн Тэнгкели, занимающий большую площадь, имеет неоднородное строение. Меньшую, хотя и значительную часть его занимает гранитное высокогорье и среднегорье с ореолом контактово-метаморфических пород. Остальные площади занимают песчано-сланцевый мелкосопочник и частично эффузивное среднегорье. Пришлось затратить много времени, чтобы разобраться в сложном геологическом строении этой площади и составить ее геологическую карту. Маршруты приходилось делать длинные и тяжелые. Одолевали комары-кровососы, от которых плохо спасали тюлевые накомарники. Все же, вспоминая сравнительно недавние дни предвоенных лет, я постоянно чувствовал, насколько легче и удобнее стало работать теперь, пользуясь готовой топографической основой, и не прибегать к помощи глазомерной съемки. В холодные ночи у костров согревало сознание, что хотя до конца войны еще и очень далеко, но она теперь идет неуклонно к победе, к торжеству правого дела. Частично уже освобождена Украина, и скоро уже будет освобожден родной Днепропетровск. Большую радость принесла весть о великой победе Красной Армии на Курской дуге. Перед этим я был глубоко встревожен известием о начале наступления немцев под Курском. Невольно думалось: несмотря на сравнительно недавний Сталинградский разгром, они еще настолько сильны, что смогли наскрести силы, чтобы начать опять свое «традиционное летнее наступление». Но к нашей радости, планы их были сорваны своевременным началом контрнаступления Красной Армии от Орла и Белгорода. Радовали и сообщения о победах на Северном Кавказе, об освобождении Таманского полуострова, а также о высадке союзников на Сицилии, а затем и в Италии. Казалось, что хотя это и нельзя считать, за открытие Второго фронта в Европе, которого все мы уже очень давно ожидали, но все же это какая-то реальная помощь нашим войскам. Потому что если это и не заставит немцев оттягивать силы с Восточного фронта, то в какой-то степени скует резервы врага там, на Западе. Шлиховое опробование гидросети показало, что в долину Тэнгкели оловянный камень выносится двумя ее левыми притоками — ручьями Сталинградец и Марат. Первый из них протекает приблизительно параллельно восточному контуру гранитного массива за пределами зоны контактового метаморфизма. Опробование привело к устью его правого притока небольшого ручья Победа. Выше устья этого ручья в отложениях Сталинградца оловянный камень исчезает, а в долине Победы оловоносность аллювия прослеживается вплоть до его истоков, врезанных в граниты. Проводы партии 3. Караевой, 1953 г. Машина стоит на месте будущей столовой «Чихара». Геологи 50-х годов: Быков, Баркан, Закандырин, Березин, неизвестный, Шамская, неизвестная, Закандырина, 3. Караева, неизвестная, В. Володин, первооткрыватель месторождения «Сталинградское» в 1943 году. На снимке на левой стороне пиджака Виктора Володина хорошо виден орден Ленина.
Проводы партии 3. Караевой, 1953 г. Машина стоит на месте будущей столовой «Чихара». Геологи 50-х годов: Быков, Баркан, Закандырин, Березин, неизвестный, Шамская, неизвестная, Закандырина, 3. Караева, неизвестная, В. Володин, первооткрыватель месторождения «Сталинградское» в 1943 году. На снимке на левой стороне пиджака Виктора Володина хорошо виден орден Ленина.
Ручей Марат, впадающий в Тэнгкели километрах в четырех выше устья Сталинградца, режет внизу осадочные породы, выше — контактовую зону и далее — граниты и имеет в своих истоках общий водораздел с ручьем Победа. Шлихи, содержащие касситерит, тянулись здесь тоже на протяжении всего ручья, вплоть до его истоков. Местоположение коренных источников оловянного камня было, таким образом, локализовано и твердо установлено, что это водораздел между ручьями Победа и Марат и склоны этого водораздела. Наша задача была, таким образом, выполнена, но нам хотелось сделать больше, чем от нас требовало полевое задание. Мы стремились к тому, чтобы найти непременно промышленное месторождение, вскрыть хотя бы частично оловоносные жилы с промышленной концентрацией оловянного камня. Поэтому я решил посвятить целую неделю работы всего личного состава партии поискам свалов оловорудных жильных обломков и попыткам вскрытия хотя бы одной из двух жил. Это должно было помочь дальнейшим поискам оловорудных жил при определении направления поисково-разведочных канав. При нашей ограниченности во времени и в рабочей силе мы, конечно, не могли и думать о более основательных поисках рудных жил, таких, как систематическое шлиховое опробование рыхлых отложений на склонах (делювия) при помощи линий копушей. Поэтому мы с первого же дня начали исхаживание склонов водораздела в целях поисков жильных обломков. Эта работа делается так: идет человек, медленно шагая по крупным гранитным обломкам, покрывающим склон, и внимательно разглядывает горные породы у себя под ногами, выискивая жильные обломки, кварц с рудными минералами или хотя бы обломки чистого кварца. При первой же находке человек останавливается, садится на камни и начинает в них копать ямку голыми руками, постепенно вынимая и откладывая в сторону камень за камнем, один за другим обломки горных пород. Обломки рудных жил с тяжелым, как железо, касситеритом гораздо тяжелее гранитных обломков такой же величины. Поэтому, а также и потому, что они мельче, чем обломки гранита, они почти не встречаются на поверхности, а находятся на глубине 40–60 сантиметров от нее. Сделали за проведенное там время мы немного, но все же нам удалось найти обломки жил и даже вскрыть две касситеритоносные маломощные жилы неглубокой канавой, заданной по линии водораздела и выкопанной при помощи единственной лопаты и тоже единственного кайла, бывших на вооружении нашего поискового отряда, производившего шлиховое опробование речных долин. К этому времени относится получение дошедшего до нас печального известия о смерти одного из наших начальников партий, геолога Александра Александровича Тырченко и о назначении на его место С. С. Герасименко. Кончина Тырченко была безвременна. Он был еще молод. Ему было только тридцать лет. Невольно вспоминалось, как он совсем недавно весной возился с грядками на своем огороде.
В Усть-Омчуге
По завершении работ на Победе я решил съездить в Усть-Омчуг, захватив с собой добытые обломки оловоносных жил, чтобы доложить начальству о своих достижениях и предложить организовать еще в этом году поиски рудных жил, либо сформировав для этого специальный отряд, либо усилив для этой цели нашу Тэнгкелийскую партию людьми. Поехал я туда с возчиком Демьяновым по дороге через ручьи Чахали, Амын и долину Детрина, выбрав для этого дождливый день, когда все равно работать было нельзя из-за непогоды. День мы с ним мокли в седлах под дождем, вечером немного подсушились у костра, а ночью, уже довольно темной, продолжали свой путь по сильно заболоченной, как мне показалось, долине Детрина, где тропа у подошвы склона представляла собой широкую полосу месива из различного и размолотого ногами людей, лошадей и оленей бурого мха. Нелегок был тогда каждый шаг на этой тропе, хотя мы и ехали в этот раз верхом. После дождливого дня вечером, когда мы, обсушившись у костра в устье Амына у барака, тронулись в путь, распогодилось. Небо неожиданно очистилось от темных дождевых туч, засияло отмытой синевой, и на нем зажглись золотые звезды. Ударил июльский мороз. Я это хорошо ощущал, потому что висевший у меня на голове мокрый тюлевый накомарник замерз и отвердел. В Усть-Омчуге я не встретил взаимопонимания со стороны начальства, и напрасными оказались перенесенные трудности дороги и невзгоды этого пути. Со мной не согласились и не сочли необходимым сформировать уже в этом году отряд для проведения планомерных рудных поисков на выявленном участке. Не согласились, несмотря на то что прошло пока меньше половины полевого лета и еще не было упущено время для проведения этой работы. Наверное, И. Е. Драбкину было неприятно вспоминать, как ему «накрутили хвоста» за самовольное переключение партии С. И. Кожанова на рудные поиски всего лишь два года назад. Должно быть, он убоялся повторения этой операции. В Усть-Омчуге я видел недавно родившегося моего племянника Дмитрия Всеволодовича, тоже ставшего впоследствии геологом, работающим на Колыме с 1969 года.Повезло
 Виктор Дмитриевич Володин с племянником Димой и братом Всеволодом. Октябрь 1958 г. Тенька.
Виктор Дмитриевич Володин с племянником Димой и братом Всеволодом. Октябрь 1958 г. Тенька.
В самом начале пути из Усть-Омчуга обратно на Бахапчу мне «крупно повезло». Благодаря слепому случаю я остался жив. Дело в том, что ехал я не на обыкновенном вьючном седле, как ездят обычно все полевики, когда изредка выпадает возможность проехать немного верхом вместо пешего хождения. Одно из седел у нас было кавалерийское, старое, у которого было лишь одно стремя, а второе недостающее мой возчик заменил где-то найденным якутским деревянным. Якуты вообще довольно малорослые люди, и ноги у них небольшие. Поэтому мне это стремя было узко. Я надевал его на ногу, обычно помогая руками, и не подозревал о том, какой страшной опасности подвергался в связи с этим. На правом слегка заболоченном тогда берегу Детрина шедшая подо мною якутская кобыла Старуха вдруг упала на брюхо, провалившись одной ногой в болото. Не подозревая о смертельной опасности и забыв о том, что левая нога у меня прочно «приделана» к стремени, я моментально автоматически соскочил с седла, чтобы помочь лошади подняться и не заботясь о том, чтобы удержать хотя бы уздечку в руке. Освободившаяся от груза лошадь вскочила, как встрепанная, и рывком бросилась к сухому месту, сбросив меня на землю среди болотных кочек. Стремя не оторвало мне ногу только лишь потому, что сапог как-то легко одернулся с меня. Ни в то время, ни много времени спустя я не знал, какой большой опасности я в тот момент совершенно случайно избежал. Я совсем не подозревал, что лошадь вовсе не остановилась бы через два-три прыжка, как я думал. Если бы я не оторвался от нее и не остался бы на земле, то тащился бы за нею, а она продолжала бы таскать меня за собой, пока не превратила бы меня в бездыханное тело. О том, что я избежал случайно смертельной опасности, что я был всего на волосок от смерти, я узнал только 14 лет спустя, когда в нашем управлении в течение одного лета произошли два подобных случая, закончившиеся смертельным исходом. Летом 1957 года ученик 10-го класса сын геолога Лидии Дмитриевны Лебедевой Дима, работавший в партии матери, погиб при подобных обстоятельствах. Только у него на ноге было не якутское деревянное стремя, как у меня, а ременная петля, какими обычно пользуются при езде на вьючных седлах. Тем же летом на одном из разведочных участков взрывник подъехал, тоже верхом на вьючном седле с ременными петлями вместо стремени, к складу взрывчатых веществ и, соскочив с лошади подобно мне, небрежно держал в руке уздечку. Лошадь, испугавшись чего-то, шарахнулась в сторону в тот момент, когда он не успел еще освободить свою левую ногу из ременной петли. Его сбило с ног и потащило. В мгновение ока все было кончено. Только когда я узнал об этих двух происшествиях, я вспомнил и о своем случае и наконец понял, что лошадь пугается, когда чувствует, что за ней что-то волочится, привязанное к ее седлу, и в панике несется, таща за собой мертвое тело, пока ее не поймают. Если бы в 1957 году не было двух подобных случаев сразу, то я, конечно, не вспомнил бы о своем случае и не узнал бы, что это закономерно, что лошадь в подобных случаях всегда пугается, всегда несет и всегда убивает человека. Поэтому ездить верхом с ременными или веревочными петлями вместо стремени смертельно опасно. И нужно, чтобы все знали об этой опасности и не рисковали бы своей жизнью. Я же остался тогда случайно жив только благодаря тому, что кирзовые сапоги шились тогда только с низким подъемом и для того, чтобы их надеть, нужно было брать более крупные номера, потому что сапоги своего размера я не мог надеть на ноги из-за высокого подъема.
Рыбалка
Вскоре после моего возвращения из Усть-Омчуга мы с П. И. Авраменко решили применить к делу имевшийся у нас бредень, попробовать им ловить рыбу в тихих плесах на протоках Бахапчи на растаявшей наледи. Мы посвятили этому делу только один день и наловили довольно много рыбы. Много крупных хариусов и омулей натаскали мы бреднем из глубоких ям. В некоторых ямах пытали счастье дважды, а иногда и трижды. Так, из одной глубокой короткой ямы мы в первый раз вытащили 9 крупных хариусов, во второй — 6, а в третий раз бредень вытащили пустой. Рыбная ловля была у нас не пустым развлечением. Она была способом добыть дополнительное количество пищи, такой нужной нам на тяжелой полевой работе. Несколько дней после рыбалки мы с Шинкаренко ходили в маршруты, нося с собой вместо крупы и другой привычной пищи жареную рыбу в кастрюле. Это было очень хорошо. Жаль было, что время не позволяло уделить еще день рыбалке, чтобы подкормиться. Но лето проходило неумолимо, а времени было потеряно много на Тэнгкели. Оставалось его мало, а невыполненной работы было еще много. Приходилось нажимать и работать, не обращая внимания на погоду. Почему-то была большая разница между рыбой на Бахапче и в бассейне Детрина. В Бахапче хариус был почему-то жирный. Во время нашей работы там, на нашей базе жили два рыбака, ловившие рыбу для Светлинской (Армянской) обогатительной фабрики, они вытапливали из сальников рыбы (хариусов) жир и на нем жарили рыбу. А в притоках Амына мы ловили того же хариуса в 1944 году в одном из маршрутов, и я хорошо помню, что у него совсем не было жира в сальниках. В день рыбной ловли я читал, должно быть, только что привезенную газету «Советская Колыма», из которой узнал о немецких душегубках в Краснодаре.Шинкаренко
Один из рабочих, принятых по рекомендации П. И. Авраменко, и известный ему по работе в детально опробовательском отряде в Санга-Талоне в предыдущем году, вскоре после завершения полевых работ на Тэнгкели не пожелал больше переносить невзгоды полевой жизни и потребовал расчет. Пришлось его немедленно отпустить, так как нельзя было бы ожидать пользы от человека, работающего по принуждению, а не по собственной охоте, особенно там, где нужно преодолевать трудности и где нужны энтузиасты-добровольцы. Иванова я отдал в отряд Авраменко, а сам остался вдвоем с Шинкаренко, так как рабочих у нас больше не было. Нужен был новый рабочий, но должно было пройти много времени, пока его наймут и пришлют к нам. Пока же приходилось ходить вдвоем со старшим коллектором. Было трудно, особенно когда нам приходилось разделяться с ним и ходить в одиночку. Днем ходить одному по сопкам — это еще ничего, хотя теперь и запрещается правилами техники безопасности. Но тогда никаких правил не было, и они еще не мешали работать. Хуже было ночевать в одиночку у костра, особенно в первое время, когда не было привычки. Казалось, что, когда возишься у костра, готовя себе нехитрый ужин, на тебя из непроглядной тьмы кто-то смотрит, собираясь напасть. А тьма начиналась близко — в 3–4 шагах от костра, и казалось, что враг где-то рядом. Гонишь от себя эту мысль рассуждениями о том, что далеко вокруг никого нет и что самый страшный враг — человек — должен в это время не ходить, а так же, как и ты, где-то пристроиться спать. Во-первых, потому что спать когда-то нужно, а во-вторых, ходить в чернильно-черную ночь темно. Зверей же в тайге очень мало, и бояться их не следует. Это действует благотворно, ты перестаешь думать об окружающей тьме и не ощущаешь ничего похожего на страх, занимаясь своими делами. А дела несложны. Остановившись на ночлег, сначала разжигаешь костер, предварительно натаскав кучу сухих лиственничных дров. Удобней всего сухостой — молодые погибшие от пожара лиственницы, продолжающие стоять или поваленные потом ветром. Затем рубишь своим ножом-секачом зеленые ветки кедрового стланика или лиственницы и устраиваешь из них постель. Потом вытаскиваешь из рюкзака котелок, наполняешь его водой, а когда она закипает, насыпаешь туда крупу, солишь, заправляешь растительным маслом из пузырька и ешь, отодвинув котелок от огня и сидя на своей свежей постели из веток. Я любил носить с собой в мешочке манную крупу, потому что она, во-первых, очень быстро варится, а во-вторых, очень портативна, занимает мало места в твоем рюкзаке, а также с пузырьком масла, солью и хлебом мало весит. Вся возня с устройством ночлега, костром и ужином занимает совсем мало времени. После этого ты подкладываешь в костер дровишек потолще, укрываешься суконным одеялом и прямо в телогрейке на постели из веток быстро засыпаешь безмятежным сном, не нарушаемым сновидениями. Суконное одеяло спасает твою ватную телогрейку и тебя от искр, выбрасываемых костром, когда горящие поленья, потрескивая, «стреляют», и ты не рискуешь превратиться в факел, когда телогрейка затлеет от искры, а потом задымит. Кроме того, то же одеяло спасает тебя от дождя или от снега, которых ты даже не почувствуешь, продолжая мирно спать, а телогрейка не даст тебе продрогнуть. Но если ночь выдается особенно холодной, твой сон автоматически прервется, ты встанешь, подложишь дров, погреешься немного у вновь запылавшего костра и уляжешься опять досматривать сны, которых опять не увидишь. Утром, опять заправившись полужидкой манной кашей, напьешься чаю и вновь пойдешь на сопку, чтобы продолжить свой маршрут, опять будешь искать проявления полезных ископаемых, искать окаменелые остатки морских животных, главным образом моллюсков, живших на Земле сотни миллионов лет назад, будешь описывать горные породы, по щебню которых ступают твои ноги, искать их коренные выходы — скалы, чтобы определить, как они залегают, куда простираются, протягиваются их пласты, и куда и под каким углом они падают. Будешь на карту наносить точки твоих геологических наблюдений. Потом в условленной вчера при расставании с Шинкаренко точке ты вновь его встретишь и вновь услышишь звуки человеческой речи, от которой за сутки уже и отвыкать стал. Затем продолжишь маршрут с ним и будешь вести те же наблюдения, а он будет помогать тебе в этом по мере своих сил и умения. Новую ночь проведешь с ним, устроившись по обе стороны от костра. Будет лучше, потому что не каждый раз, когда прогорят дрова, будешь просыпаться ты, чтобы подложить их еще.Первый снег. Наша обувь
Он выпал в том году в ночь с 22 на 23 августа. Мы с Шинкаренко проделывали тогда, все так же вдвоем, последний маршрут по левому берегу Бахапчи, пролегавший по водоразделам ручья Осинового. Заночевали мы в одной из седловин у истоков этого ручья. Было пасмурно и довольно тепло. Ничто не предвещало близкого снегопада. Скорее можно было опасаться дождя. Проснувшись и откинув от лица одеяло, я удивился, увидев расстилавшуюся вокруг пушистую пелену, покрывающую все вокруг: и зеленые еще ветки лиственниц, и кусты кедрача, валежины, камни и мох, ягель. Снег меня не испугал — я знал, что он очень скоро растает, что это еще не «настоящий», не зимний снег, а что-то вроде репетиции, но перспектива шагать по снегу сегодня была не из приятных, потому что на ногах у нас обоих были литые резиновые или, вернее, каучуковые синтетические чуни, модернизированные нами. А в этой обуви ходить по снегу холодно. Литые синтетически-каучуковые чуни пользовались во время войны и до войны популярностью у полевиков из-за того, что они легки, прочны, не скользят на наклонных поверхностях крупных гранодиоритовых и реже гранитных глыб, как обувь на кожаной подошве, да еще с железными подковками. Главной же причиной этой популярности было отсутствие какой-либо другой подходящей обуви для полевиков. До войны также пользовались популярностью так называемые ичиги — кожаные сапоги с мягкой тонкой, тоже кожаной подошвой с пришитыми к задникам шнурками из сыромятной кожи для обвязывания у щиколоток. Но их я знаю главным образом понаслышке, потому что при мне они были всегда дефицитом. Я знаю, тоже понаслышке, что они быстро протирались и требовали постоянной и очень частой смены головок. К ним всегда полагалось иметь запасные сменные головки. За все время работы на Колыме (за четверть века) я только раз получил одну пару ичигов и то без запасных головок. Другая же обувь, сапоги, особенно с кожаной подошвой, или ботинки, неудобны тем, что кожаные подошвы на камнях горных склонов изнашиваются очень быстро и могут служить не более 5–6 дней, после чего требуют смены подметок и набоек. Кроме того, они скользят на наклонных поверхностях крупных камней, и ходящий в них постоянно падает, отбивая о камни бока и рискуя убиться совсем. Особенно трудно ходить в них после или во время дождя, когда намокает покрывающий камни лишайник. Лучше ходить в резиновых сапогах, но в них в самую жаркую погоду ноги все время мокрые, что тоже очень досаждает. Кроме того, они, как, впрочем, и кожаные сапоги, тяжелы. Хождение в них утомляет раньше времени. Но резиновые чуни тоже имеют недостатки, которых не меньше, чем достоинств. Они почему-то изготовлялись всегда одного «фасона» — остроносые, симметричные. Они были бы по ноге воображаемому человеку, у которого большой палец на ноге был бы расположен на месте среднего, а на месте большого был бы второй мизинец. А нормальным людям приходилось подбирать их на два номера больше, чем им положено по размеру ноги. Иначе они очень давят, выворачивают большой палец, и в них просто нельзя ходить, не рискуя лишиться ног. Такой обувью были снабжены мы и в описываемое лето. Но чуни были малы. Ходить в них было невозможно. Но голь на выдумки хитра. Додумались и мы до модернизации этой обуви. Сообразили, что если на каждой чуне против большого пальца и против мизинца сделать по два горизонтальных разреза длиной 2,5–3,5 см на расстоянии 8–10 мм от другого, то образуются каучуковые полоски, приобретающие при этом способность растягиваться. Это позволяло носить тесные чуни, которые раньше невозможно было надеть. Но чуни имели и другие отрицательные свойства. Это, во-первых, тонкие подошвы, из-за которых они сравнительно быстро выходили из строя, и, во-вторых, низкие борта их почти совсем не препятствуют попаданию внутрь мелких камушков, не говоря уже о воде. Но если последний недостаток сравнительно легко устраняется пришиванием коротеньких примитивных голенищ из брезента, то предпоследний совсем неустраним и иногда способен доставить неприятные часы (а не минуты) носящему чуни и даже поставить его в очень трудное положение. Я не упомянул еще, что из-за тонких подошв, особенно после того как они немного подносятся, сотрется протектор, и они утоньшатся, подошва ноги чувствует почти каждый камушек и каждый острый выступ скалы, по которым ступает нога. Из-за этого подошвы ног утомляются раньше времени и сильно болят при этом. Мы с этим боролись, подкладывая под ноги прослойки или стельки из войлока или сухой травы. Но это можно делать лишь, когда чуни достаточно просторны, а не настолько тесны, что приходится в них прорезать отверстия. Подошвы чуней дней за 40–45, проведенных в маршрутах, утоньшаются до критической толщины (0,5–1 мм), и после этого образуется всегда поперечный разрыв, а за ним очень быстро длина разрыва непрерывно увеличивается до тех пор, пока трещина не пересечет один из бортов. Тогда человек оказывается босым на одну ногу и с трудом способен сделать сотню-другую шагов, но не больше. Обувь современных геологов и путешественников исследователям 30–50-х гг. XX века показалась бы более фантастической, нежели сотовый телефон или даже Глонасс-навигатор. На фото первооткрыватель месторождения «Богатырь» Зинаида Караева, 1952 г.
Обувь современных геологов и путешественников исследователям 30–50-х гг. XX века показалась бы более фантастической, нежели сотовый телефон или даже Глонасс-навигатор. На фото первооткрыватель месторождения «Богатырь» Зинаида Караева, 1952 г.
Такие случаи бывали и со мной. Из них я помню два. Первый был в 1940 году, но тогда он мне не доставил неприятностей, потому что я предусмотрительно захватил с собой запасную чуню, которой и заменил вышедшую из строя. Во второй раз в 1945 году у меня не было запасной чуни, и дело осложнялось тем, что я был один и шел трехдневным маршрутом. На мое счастье, обувь порвалась, когда я, обойдя по водоразделам бассейн одного из ручьев, подошел к долине реки Таяхтах. Мне пришлось вместо продолжения маршрута срочно спуститься в долину упомянутой речки, по которой наш возчик должен был перевезти нашу стоянку из одного пункта выше по течению в другой, находящийся ниже того места, куда я вышел. Я надеялся, что он еще не успел выполнить эту операцию и рассчитывал на то, что он найдет меня, если я буду спать у костра, и перевезет на место стоянки. Время было еще до полудня, когда я спустился в долину и развел маленький костер на сравнительно чистом, мало залесенном месте. Было тепло, и костер мне был нужен не для того, чтобы греться у него, а лишь затем, чтобы возчик не проехал мимо, не заметив меня, если я буду спать в это время. Спать я хотел, потому что не выспался две предыдущие ночи у костров. Дождаться возчика и лошадей, коротая время таким способом, было бы лучше всего — это было бы соединением не приятного с полезным, как говорят обычно, а скорее полезного с необходимым, так как поспать для невыспавшегося человека было полезно, а ожидать возчика было необходимо, потому что идти босым на одну ногу 8 или 10 километров я, как мне казалось тогда, совсем не мог. Я сначала сжарил на костре куропатку, которую убил, спускаясь с сопки и хромая на порванной чуне. Для этого я разрезал куропатку на кусочки, которые натыкал на заостренную сырую палочку и жарил, держа не в пламени, а над жаром и поочередно по мере готовности ел эти кусочки без хлеба и соли. Впрочем, я не в первый раз таким способом расправился с куропаткой, и мне это было привычно. Потом я улегся и постарался как можно герметичнее закупориться с помощью имевшихся у меня средств от комаров, чтобы забыться сном. Но это мне никак не удавалось в течение всего дня. Несколько раз я был так близок к тому, чтобы впасть в объятия Морфея, веки смеживались, мысли путались и уплывали куда-то, забывалась обстановка, где я находился, но раздававшийся где-то у самого уха под накомарником знакомый писк «з-з-з-з» моментально развеивал сон и заставлял все начинать сначала. Я очень хотел спать, но мучился, изводимый комарами, до ночи. Заснуть мне удалось, когда над соседним болотом поплыл белый туман и загнал комаров в какие-то их убежища. Проснулся я только утром, но еще не успел выспаться и продолжал бы с удовольствием это приятнейшее занятие, если бы меня не разбудил кто-то свистом. Мне в первый момент было досадно. Только подняв голову и открыв глаза, я, наконец, увидел на другом берегу речки двух лошадей и сидевшего на одной из них возчика. Я очень обрадовался; вскочив и собрав свой скарб, отправился, хромая, через русло к лошадям. Экзотика с романтикой и комарами кончилась. Но вернемся после длинного отступления к нашему первому снегу, к 23 августа 1943 года, когда, проснувшись у догоревшего и потухшего костра, я и Шинкаренко увидели белую, ничем не запятнанную пелену снега. С утра слегка подморозило, и мы двинулись в путь по снегу в своих перфорированных чунях, идти нам было холодно. Ноги ощущали холод сквозь подошву, стенки чуней и тонкие портянки, но особенно мерзли у дыр перфораций или прорезей, в которые, естественно, забивался снег и таял. Особенно все это чувствовалось, когда мы поднимались на первую вершину по маршруту и затем спускались в следующую седловину. Потом постепенно потеплело. Снег из сухого постепенно превратился в сырой, а затем в мокрый, потом стал оседать, а в долине стал исчезать. Но он все же не растаял совсем за весь день на водоразделе. Вечером, подойдя наконец к долине Бахапчи, мы с низкой сопки, венчающей конец отрога, увидели совсем близко от себя светлое пятно палатки, которая сначала показалась лужей воды с какими-то странными геометрическими очертаниями. Обрадовались очень, заметив, наконец, дым и кого-то из людей. Теперь мы были дома, а это всегда бывает приятно.
Приезд П. Н. Спиридонова
Незадолго до первого снега, однажды под вечер, когда я только что вернулся на стоянку на правом берегу Бахапчи, к нам явился старший инженер геолого-поискового отдела Петр Николаевич Спиридонов. Он ознакомился с выполненной полевой партией работой, но больше всего заинтересовался проделанными на водоразделе Победы и Марата рудными поисками. Он очень хотел поехать посмотреть на проявления оловянного оруденения, свалы рудных жил и следы нашей работы — канаву с обнаженными в ней оловоносными жилами. Пришлось пожертвовать еще два дня, чтобы съездить с ним туда. Утром следующего дня мы с ним и возчиком Демьяновым отправились на Сталинградец верхом. Путь был неблизким, и мы только к концу дня его благополучно завершили. Схема района геологических исследований и открытий Виктора Володина в 40–50-е гг. XX века.
Схема района геологических исследований и открытий Виктора Володина в 40–50-е гг. XX века.
Остановились ночевать на устье Победы, на месте, где стояла наша палатка, когда мы искали рудные свалы. От осеннего холода спасались по способу, излюбленному многими полевиками и в том числе П. Н. Спиридоновым, нагрев предварительно место. Я не любил этого способа, но не возражал, хотя сам уже давно им не пользовался. Мы развели большой костер на галечной косе ручья Сталинградец и, когда он прогорел, смели угли и золу, и, дав немного остынуть раскаленной поверхности, настелили зеленых веток ольхи и березки и улеглись, укрывшись своими ватными телогрейками. Этот способ нехорош тем, что человек, лежащий на такой постели, одним боком испытывает невероятно влажную от нагретых сырых веток жару, как будто этот бок находится в парной бане, а другому боку тепла не достается, он мерзнет на холоде осенней ночи, под холодными золотыми звездами, горящими на черном небе. Этот бок заставляет спящего проснуться, чтобы перевернуться. Но это опасная операция, и ее нужно выполнять постепенно, разделив на 6–7 движений с короткими минутными перерывами и поворачиваясь каждый раз на 25–30 градусов. Я думал, что если не придерживаться этой предосторожности, то можно жестоко простудиться от резкого остывания раскаленного бока, но на себе я не делал подобного эксперимента и потому не вполне уверен, что был прав. Утром поднялись на сопку к канаве, пройденной нами вдоль водораздела между ручьями Марат и Победа, осмотрели обнаженные в ней жилы, вернее, я их только показывал Спиридонову, потому что сам их видел и раньше. Потом погонялись немного за куропатками без ружей, потому что мы их не взяли на сопку, спустились вниз и, перекусив, поехали назад. Помню, что по дороге нам попались глухари, и я из-за неимения заряда крупной дроби сразил сидящего на вершине лиственницы большого черного петуха с красными надбровными дугами медвежьим жаканом. Петух рухнул, ломая тонкие ветки, как тяжелый мешок. Мне тогда показалось, что это я здорово придумал — бить глухарей жаканами, думалось, что столько лет носим и носим их с собой как тяжелую обузу, а медведей нет как нет. И я не стал в дальнейшем беречь их, продолжая палить ими по глухарям, а потом, когда настала пора, я горько жалел об этом, потому что мне не хватило трех жаканов на первого медведя, и я тогда чуть было не пал костьми.
Осенние невзгоды
Главные невзгоды нам пришлось испытывать, когда мы работали уже в бассейне правого притока Бахапчи — небольшой речки Холоткана. Был там один тяжелый, запомнившийся на всю жизнь маршрут. После маршрутов близ устья этой речки я с коллектором Шинкаренко и рабочим Ивановым отправился в маршрут на высокие эффузивные водоразделы в вершине одного из притоков этой речки. Идти туда было довольно далеко, отправились мы нерано из-за того, что накануне поздней ночью закончили маршрут и не успели отдохнуть. День и особенно утро были хорошие, и грело солнце, и было тепло. Поэтому я не желал терять время на ожидание лошадей, которые перевезли бы палатку ближе к участку маршрута, решил идти туда без палатки трехдневным маршрутом. Нам нужно было спешить, чтобы закончить свое полевое задание. Мы не могли ждать, потому что уже и так потеряли слишком много времени, прежде всего, из-за позднего начала работ, связанного с неблагоприятной погодой и поздним паводком, затем в связи с рудными поисками, поездкой по этому поводу в Усть-Омчуг и поездкой туда же со Спиридоновым. Много пропало времени и из-за дождливой погоды. И вот, подойдя к подножию сопки с эффузивной вершиной, мы, несмотря на позднее время, сразу же стали подниматься, рассчитывая наверху найти дровишек, переночевать, а наутро продолжать маршрут. Сопка была высокая, склон крут и гол, подъем занял много времени. Мы не успели еще его закончить, когда без всяких предупреждений стал срываться снежок. Сначала редкие и очень мелкие снежинки моментально таяли на всем, куда падали: и на щебенке склона, и на одежде, и на лице, и на руках, но от этого все быстро остыло, и на щебне стал ложиться снеговой покров, уже не превращавшийся в воду от нагретых камней. Скоро остыли в мокрых телогрейках и мы. Особенно замерз Иванов, дрожавший на подувшем ветерке, как цуцик. Впрочем, и мы с Шинкаренко тоже мерзли и дрожали. Пришлось наконец прекратить подъем, который мы до сих пор упрямо продолжали, и срочно начать спускаться, чтобы, дойдя до кустов кедрача, найти сухие ветви и развести костер. Теперь на заснеженном крутом склоне было очень скользко, и спускаться с него было еще труднее, чем подниматься. Было особенно скользко, потому что подморозило и мокрый снег оледенел. Очень скользили по нему стоптанные чуни. Приходилось падать, стараясь помягче приземлиться. Мы довольно долго добирались до видневшихся внизу кустов кедрового стланика, и разжечь костер из сухих, но намокших сверху веток, чиркая спички дрожащими, не слушающимися от холода руками, удалось не сразу. Наконец это случилось, и у костра постепенно отогрелись, унялась дрожь, заставлявшая стучать зубы, мы ожили. Отогревались застывшие наши души, вспомнилась распространенная на Севере поговорка: «Люблю Север, а особенно солнце и костер». Действительно, на Колыме эти вещи особенно дороги. Так всю ночь и провели у костра, греясь, занимаясь чаепитием, а утром и почти половину дня шагали по заснеженной долине домой в палатку. Там отсыпались, пока таял выпавший вечером и в начале ночи снег, а следующим утром повторили свой выход туда же, но сделали это более удачно. Самый последний маршрут я проделывал с промывальщиком Никитой Коротковым, который работал здесь же, на Бахапче, еще со Спиридоновым четыре года назад. Помню, что это было 16 сентября. Мы пошли двухдневным маршрутом и поднимались по узкому водоразделу, совсем не имевшему отрогов между двумя длинными прямыми ручьями без притоков. На этом водоразделе был участок древней террасы, а выше острая каменистая вершина. На ней, отбивая образец кварцевого порфира из встреченного развала дайки, стуком своего молотка я выгнал зайца, который, должно быть, дремал, приютившись где-то за камушком. Зная по рассказам и отчасти из собственной практики, что, если свистнуть или хлопнуть в ладоши, заяц остановится, и тогда можно его убить, даже если ружье висит где-то за плечами. А у меня ружье висело именно за плечами, руки были заняты молотком и образцами, а губы пересохли, и попытка свистнуть была тщетной. Тогда я крикнул: «Ай!». Заяц замер шагах в двадцати от меня. Я, стараясь действовать попроворнее, но без суетливости снял ружье, переменил патрон. Прицелился и убил зайца. Я сам удивлялся, что у него хватило терпения дождаться, когда я все это проделаю. Он все это время сидел как загипнотизированный и как будто действительно к чему-то прислушиваясь. Удивительно было и то, что заяц выбрал себе место для сна на высокой острой каменной вершине, не имевшей никакой растительности. Когда пришлось остановиться на ночлег, мы развели костер в низкой седловинке, сварили и съели вдвоем в один присест зайца вместо обычной манной каши. Получился отличный ужин. Помню, дул тогда сильный пронизывающий ветер, резко менявший направление, и пламя костра металось в разные стороны, а дым все лез в глаза. Над головой кричали гуси — шел осенний перелет. Там у костра Никита удивил меня своей способностью брать голыми руками очень горячие вещи не обжигаясь. Например, заяц варился у нас в старой алюминиевой кастрюльке с отломанными ручками. Когда мясо сварилось, он спокойно, без суетливости взял кончиками пальцев раскаленную кастрюльку за верхний бортик. В ответ на выраженное мною по этому поводу удивление он сказал, что, работая промывальщиком на шурфовочной россыпной разведке, привык зимой нагревать воду из растопленного снега до кипения, прежде чем приступать к промывке проб из мерзлых пород. Это нужно, чтобы вода не остыла и не замерзала бы после первых же проб. Руки его привыкли и теперь не боятся горячего. Это мне ничего не объяснило, и я продолжал недоумевать, почему кожу и мышцы кистей рук не убивает и не обваривает кипяток или нагретый больше чем до 100 градусов алюминий кастрюли. Как можно приучить собственные руки к такому жару. Я понимал, что можно приучиться терпеть боль, терпеть нестерпимый жар, но как можно приучить руки к тому, чтобы они не сварились в кипятке и не обжигались о раскаленный металл, — не понимаю и теперь.Возвращение
Настал день нашего возвращения в Усть-Омчуг. Отправились мы по тому же пути, по которому я уже ездил с возчиком 1 августа, то есть по сквозной долине Чахали-Амын из долины Бахапчи прямо в долину Детрина. Строго говоря, здесь не сквозная долина, а подобный сквозной долине низкий перевал. Второй участок пути пролегал по долине Детрина. Дорога была сравнительно дальняя, тяжелая особенно из-за отсутствия хорошей тропы по долине Детрина, где тропа прижималась к правому склону долины и вся состояла из постоянно пропитанного водой, раздробленного копытами оленей, лошадей и ногами людей сфагнового мха. Но все же она была лучше, чем путь через Солнечное озеро, который приводил не в Усть-Омчуг, а только на автодорогу примерно в 100 километрах от этого поселка и притом был еще немного длиннее. Итак, мы двинулись в путь. Погода была ненастная, пасмурная, хотя дождя и не было. Не было ни снега под ногами, ни снегопада. Снег, уже неоднократно выпадавший в этом году начиная с 23 августа и покрывший не только водоразделы, но и долины, весь растаял, а темные тучи грозили скорее дождем, чем снегом. Но и дождь в этот день нас миловал. Пошел он лишь к вечеру и лил потом всю ночь, а потом еще и сутки напролет не переставая. Лил он, правда, несильно, больше моросил и временами ненадолго затихал. Во второй половине дня, перевалив через низкую седловинку и спускаясь по долине небольшой речки Амын к долине Детрина, мы вдруг увидели на берегу две палатки. Оказалось, что это стоянки партии Ю. В. Климова, который в это время находился в маршруте. Было уже время кормить наших проголодавшихся лошадей, да и самим нужно было подкрепиться. Поэтому, развьючив и расседлав лошадей, пустили их пастись, а сами тоже занялись чаепитием и отдыхом. Когда же мы стали собираться в дальнейший путь, явился Ю. В. Климов и начал уговаривать нас остаться на ночлег. Я согласился, хотя потом и жалел об этом. Ночью шел дождь. Моросило и утром, когда мы собирались продолжать маршрут. Из-за того, что в первый день мы прошли мало и рано остановились ночевать, теперь нам предстояло пройти гораздо больше. К тому же и дорога по долине Детрина была, как я уже упоминал, гораздо хуже и тяжелее, чем по Чахали и Амыну, пройденная накануне. При выходе из долины Амына в долину Детрина я допустил одну ошибку — сократил дорогу, перевалив через низкий отрог, отделяющий долину речки Абориген, притока Амына, от долины Детрина. Из-за этого я оторвался от лошадей, с которыми, кроме возчика остался только промывальщик Коротков. Со мной был только П. И. Авраменко, а все остальные разбрелись по долине Детрина, где дороги не было и каждый выбирал себе наиболее удобный путь. Мы с Авраменко все время пытались добраться до берега, вдоль которого раньше пролегала хорошо проторенная тропа, но нам все время встречались русла, пересекавшие путь и заставлявшие нас вновь и вновь отклоняться к склону. Пересекать эти русла мы не могли, потому что они были глубоки и теперь во время дождя наполнены медленно текущей водой. Помню курьезный случай. Мы шли по большой широкой поляне, где еще недавно спилили лес и торчали толстые лиственничные пни. Здесь совсем недавно работали лесорубы, и весь участок был захламлен обрывками брюк и телогреек, изношенной обувью. Поэтому я почти совсем не обратил внимания на белую тряпку, валявшуюся еще довольно далеко впереди. Я лишь отметил в своем сознании ее, но не стал в нее вглядываться и даже довольно долго совсем на нее не смотрел, а потом, когда глянул, она вдруг зашевелилась, вскочила на четыре длинные ноги и, обернувшись зайцем, резво поскакала направо в лес. Я настолько оторопел, что не вспомнил о магическом возгласе «Ай!», который мне помог убить зайца всего за неделю до этого случая. Удивительно, что я и позднее не вспомнил и не пожалел, что не воспользовался этим колдовским возгласом. Мне было досадно, что я так нелепо упустил зайца. Произошел классический случай, который называется «прозевал». Было еще одно приключение. Я оступился, переходя русло одного из мелких притоков Детрина, и упал на спину в воду. Мне удалось быстро вскочить и спасти от промокания большую часть спины, но низ промок. Вода наполнила и сапоги, откуда ее пришлось выливать. Меня не очень обеспокоило это приключение, потому что было не очень холодно, несмотря на уже не раннюю осень и на то, что много раз выпадал снег. Наконец мы с Авраменко добрались до берега, на котором, однако, уже не было тропы, которая была смыта вместе с частью берега. Лишь обрывки тропы мы увидели, пробираясь дальше вдоль берега. Мы еще долго пробирались по бездорожью, но день уже склонился к вечеру, стемнело, и мы, наконец, вынуждены были остановиться перед глубокой наполненной водой канавой, которую нужно было обходить, но было совсем темно. Пришлось развести костер и сесть возле него, любуясь на золотые огни Усть-Омчуга, сияющие за рекой. Так и сидели мы всю ночь, обсушиваясь и обогреваясь с одной стороны и продолжая мокнуть под моросящим дождем — с другой. Пищи у нас с собой не было, и мы были голодны как волки, потому что в последний раз ели еще рано утром, когда отправлялись со стоянки Климова. Но мы о пище и не вспоминали в течение всего дня, потому что шли, стремясь достигнуть дома и надеясь «разговеться» там. Не думали мы о ней и теперь, сидя у костра, пылающего под дождем. Было досадно, что сидим так близко от дома и не можем туда добраться. Когда стало светать, мы нашли узкое место на протоке, перебросили через него жерди, перешли на другую сторону и скоро были дома. Днем я был уже в геолого-поисковом отделе, разговаривал с М. Г. Котовым и П. Н. Спиридоновым. Вскоре пришел плачущий голодный Н. Коротков, рассказал, как они мучились с возчиком, пробираясь с лошадьми по бездорожью, и потеряли мелкокалиберную винтовку. Пришлось срочно посылать на поиски Авраменко с тем же Коротковым. Они пошли туда утром и быстро нашли потерю.Новый дом. В молодом Усть-Омчуге
Теперь я поселился в новом доме полевиков, который был только что построен, имел недоделки и в таком виде заселялся. В доме не были остеклены окна, не было, как всегда на новых домах, крыши. Поселиться в новом доме меня заставило то, что вернуться на свое место в комнату главного маркшейдера горного управления А. М. Ковалева я не мог, потому что он ожидал со дня на день приезда жены с дочерью, перенесших блокаду в Ленинграде. Новый дом был построен в самом центре поселка, на пересечении двух его главных улиц, которые позднее стали называть Горняцкой и Речной. Эти две улицы были самыми старыми в поселке, возникшими еще в самом начале его строительства. По первой из них пролегали просека в лесу и дорога на ней, когда морозным февральским вечером я с братом Всеволодом Дмитриевичем впервые приехал в этот будущий поселок за полтора года до начала Великой Отечественной войны. Сошли мы тогда с попутного грузовика как раз на пересечении шоссейной автодороги, или «трассы», с этой просекой. На ней тогда справа, недалеко от этого перекрестка, стояла временная электростанция, представляющая собой сарай, в которой стояли и работали небольшие движок и генератор. Немного дальше по просеке и в стороне от нее, слева, на возвышавшейся над ней невысокой террасе стоял только что срубленный красивый домик, в котором мы без труда угадали радиостанцию по торчавшим возле него мачтам с антенной. В конце этой просеки, почти в одном километре от автотрассы строилось тогда двухэтажное здание горнопромышленного управления. К началу войны на ней размещались электростанция, центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ), школа, отделение связи с почтой, телеграфом и сберкассой, магазин, столовая и Тенькинское горнопромышленное управление (ТГПУ). Кроме перечисленных построек, из которых только здание ТГПУ было двухэтажное, а все остальные — одноэтажные, были построены здесь только два, тоже одноэтажных, деревянных жилых дома: так называемый дом ГРС, расположенный недалеко от электростанции, и так же, как она, на правой стороне улицы и наискосок от него, немного дальше с левой ее стороны — дом шоферов. Остальные из перечисленных зданий размещались тогда так: ЦРММ — на левой стороне улицы, против электростанции, школа — на правой, в нескольких десятках метров от центрального перекрестка (с Речной улицей), отделение связи (почта) и магазин занимали, соответственно, его восточный и северный углы. Столовая стояла в глубине будущего квартала к северу от магазина и в 2–3 десятках метров от Речной и от Горняцкой улиц. Около десятка метров отделяло ее и от здания ТГПУ, стоявшего тоже на левой стороне улицы. Третий жилой дом появился на Горняцкой улице осенью 1941 года. Это был дом полевиков, построенный ко времени возвращения полевых партий против «дома ГРС» рядом с домом шоферов. Осенью 1942 года был построен второй дом полевиков, занявший западный угол того же центрального перекрестка. Наконец, в 1943 году на последнем пустовавшем еще южном углу его построили третий дом полевиков, в котором теперь поселился и я. Пустырей на улице было тогда больше, чем построек. На правой стороне улицы рядом со школой стояло еще здание пожарной команды, построенное в 1942 году, а на левой стороне — отделенная от нее большим пустырем, располагалась огороженная забором площадь, на которой были разбросаны казармы и другие постройки военизированной стрелковой охраны (ВОХР). Особняк начальника ТГПУ. Ныне это здание имеет пристройку и находится на улице Победы (в прошлом — Речной) в районе Дома культуры пос. Усть-Омчуг. Фото 50-х гг. XX века.
Особняк начальника ТГПУ. Ныне это здание имеет пристройку и находится на улице Победы (в прошлом — Речной) в районе Дома культуры пос. Усть-Омчуг. Фото 50-х гг. XX века.
Речная улица, возникшая одновременно с Горняцкой, вела на юго-восток к берегу Детрина и на северо-запад к излучине Омчуга от Горняцкой улицы. Длина ее, вероятно, 700–800 метров. Просека в многовековом лиственничном боре, по которой потом пролегла эта улица, вела первоначально к двум двухэтажным домам ИТР, строившимся здесь одновременно со зданием ТГПУ в самом конце 1939 и в начале 1940 года. Они располагаются недалеко от берега по обе стороны этой улицы и обращены к ней своими торцевыми сторонами. Фасады их из каких-то неизвестных мне соображений были обращены к реке, а задняя сторона смотрела на поселок. Оба эти дома вписались в возникшую намного позднее Комсомольскую улицу, протянувшуюся на юго-запад. Дома были казарменного типа с коридорной системой с комнатами по обе стороны. Против лестничной клетки на каждом этаже располагалась общая кухня. В одном из этих домов жил и я вместе с А. М. Ковалевым. Кроме этих двух домов и перечисленных построек на перекрестке Горняцкой и Речной улиц, на последней располагались еще так называемый восьмиквартирный двухэтажный дом, построенный перед самой войной, то есть законченный совсем незадолго до ее начала и расположенный на юго-западной стороне улицы вблизи от домов ИТР. Против него, то есть на другой стороне улицы, стоял одноэтажный дом гидрометеослужбы, который позднее был занят почтой. Дальше за Горняцкой улицей стоял маленький особняк начальника Теньлага, потом, тоже на правой стороне, — длинное деревянное здание с каменными крыльями — управление Теньлага; потом, тоже справа, на углу Тенькинской улицы стояло одноэтажное здание райотдела НКВД.
 Центральный клуб поселка Усть-Омчуг с памятником И. В. Сталину. Построен в 1943 г. Сгорел в 1980 г.
Центральный клуб поселка Усть-Омчуг с памятником И. В. Сталину. Построен в 1943 г. Сгорел в 1980 г.
На левой стороне улицы к северо-западу от перекрестка с Горняцкой стоял домик спецчасти с золотой кассой, затем тянулся забор, ограждавший территорию ВОХР. Зады этой территории с таким же длинным забором выходили на уже наметившуюся, но еще пустынную Тенькинскую улицу, на другой стороне которой стояла баня, действовавшая еще с 1940 года. В северо-западном конце Речной улицы с левой стороны ее за высоким забором стоял большой особняк начальника ТГПУ. Он возглавлял небольшую улочку, тянувшуюся вдоль берега излучины Омчуга и состоявшую тоже из особняков. Был там так называемый дом дирекции — гостиница для высокопоставленных персон и особняки начальствующего состава. Вероятно, в двух десятках метров от Речной улицы на первом ее квартале, то есть недалеко от домов ИТР, стоял открытый весной 1943 года клуб, отделенный от Горняцкой улицы площадью шириной до 50 м, в центре которой позднее в 1947 году была поставлена на постаменте скульптура И. В. Сталина, замененная открытым 30 апреля 1958 года бронзовым памятником В. И. Ленину. Все постройки поселка были деревянные, неоштукатуренные, и все первое время блистали еще не посеревшими желто-белыми бревнами вековых лиственниц, срубленных частично на месте постройки. Каменными, выстроенными из крупных обломков глинистого сланца были тогда только два крыла — пристройки у здания Теньлага. В одном из них помещался тогда Геофонд. Поселок был в те давние годы еще совсем молодой. Ему только-только исполнилось три года, шел четвертый год его существования. При строительстве поселка на месте четырех-, пятивекового лиственничного бора строители старались не рубить деревьев, не мешавших постройке. Их было оставлено очень много на пустырях и между домами поселка. Пустыри с невырубленными деревьями представляли собой участки настоящей корабельной рощи. Толстые, высокие лиственницы с прямыми стволами и зелеными кронами были очень красивы и украшали поселок в первые два-три года его жизни, но они стояли неустойчиво и падали при сильных шквалистых порывах ветра и даже угрожали иногда жизни прохожих. А стояли они неустойчиво и падали потому, что лиственница на Колыме не имеет корня, уходящего вниз, в глубину, потому что там обычно бывает мерзлота. Корни ее расходятся от ствола радиально во все стороны, образуя звезду, и располагаются почти на поверхности подо мхом или на глубине 10–20 см от нее. В густом лесу они служат опорой одна другой и потому выдерживают натиск ветра, а разреженные вырубкой, хотя бы и минимальной, связанной со строительством домов и прокладкой дорог и улиц, они этой взаимной поддержки лишаются. Летом 1942 года я был однажды свидетелем опустошительного шквала, вызвавшего массовое падение деревьев. Шли мы вдвоем с А. М. Ковалевым из бани перед вечером, и, когда пересекали большой пустырь перед двором ВОХР, где стояло еще много лиственниц, налетел шквал грозового фронта. Порыв ветра был очень сильный, и деревья вокруг нас стали группами падать. Трещали выворачиваемые из земли и ломающиеся при этом корни, и глухо ударялись о землю длинные стволы. Когда мы уже вошли в проход между школьным двором, огражденным штакетником, и так называемым четырехквартирным домом, на крыльце которого стояли Аникеев, Драбкин и приехавший из Магадана начальник рудного отдела геолого-разведочного управления Дальстроя (ГРУ ДС) Эпок Яковлевич Ляски, притихший, было, ветер налетел с новой силой. Стоявшие справа от нас и сзади у школьного забора лиственницы, которых здесь было больше десятка, громко заскрипели, и было понятно, что они валятся вдоль нашего пути нам вслед. Смерть висела над головой и быстро приближалась, громко свистя ветвями. Я твердо знал, что падает не одно дерево, потому что, когда мы еще проходили мимо этих деревьев, я видел что у трех-четырех из них или у большего количества корни были выворочены из-под земли с той стороны, откуда дул ветер. Поэтому я хорошо понимал, что, оглянувшись, только потеряю время, необходимое для спасения, потому что они падали каким-то веером, возможно, полностью накрывающим узкий проход между домом и забором, по которому мы до этого шли, а теперь мчались как ветер. Я считал, что дело нашего спасения в наших ногах (а не руках), и, когда шедший впереди Андрей Михайлович рванул по-спринтерски вперед, я не заставил его долго ждать себя и так же резво последовал за ним. Мы неслись с ним «ноздря в ноздрю», как братья Знаменские, покрывая дистанцию и слыша над головой быстро приближающийся жуткий свист деревьев, не слушая подаваемых вразнобой советов зрителями во главе с Драбкиным. До меня доносились их крики: «направо», «налево», но я не обращал на них внимания зная, что ничего, кроме пошлого сравнения с лошадью, несущейся по шпалам впереди догоняющего ее поезда, они придумать не могут. Я знал, что обязательно услышу это сравнение позже, но не боялся его, потому что аналогии тут не было. Я оглянулся, только когда услышал жуткий удар ствола о землю, и увидел, что вершина одного из деревьев была не больше чем в метре от моей спины. Вечером после грозы можно было наблюдать следы опустошений. Множество поваленных деревьев устилало землю, загромождая улицы и пустыри. Одна лиственница упала поперек крыши дома шоферов, разрубив ее, как гигантским топором, до верхнего венца стены. Летом 1943 года поселок быстро менял свой облик. Начали штукатурить и белить сверху стены домов, причем не только изнутри, но и снаружи. Застрельщиком, а может быть, и инициатором этого дела стал Леонид Андреевич Кофф, начальник россыпного отдела нашего ГРО ТГПУ, первым чуть ли не собственноручно оштукатуривший дом, в котором он жил.
 На фото одно из крыльев здания конторы Теньлага, затем Геофонда, выстроенное из крупных обломков глинистого сланца (в верхнем правом углу его хорошо видно) Фото 2013 г.
На фото одно из крыльев здания конторы Теньлага, затем Геофонда, выстроенное из крупных обломков глинистого сланца (в верхнем правом углу его хорошо видно) Фото 2013 г.
Жаль было, что при этом под штукатуркой бесследно исчезали особенности построек. Красивые, отлично срубленные в угол из окантованных, отесанных бревен первые постройки поселка с гладкими, ровными стенами становились совершенно такими же, как и срубленные «в лапу» или построенные «в забирку», то есть так, как строят конюшни, хлевы и скотные дворы. Правда, последние от этого сильно выигрывали и становились гораздо более приличными. А в поселковой столовой продолжала висеть нарисованная кем-то из художников-заключенных масляными красками, очевидно, еще в 1940 году картина, на которой были изображены та же столовая, только что построенная с неоштукатуренными блистающими свежей желтизной и пахнущими смолой бревенчатыми стенами. На картине, которая в первые годы войны мне очень нравилась, были изображены и ближайшие к столовой постройки, кажется, почта, магазин и особняк начальника Теньлага, а также еще невыкорчеванные пни от спиленных перед столовой лиственниц и много еще живых зеленых лиственниц вокруг. Нарисовано все было очень хорошо и очень похоже на натуру, которую в первые годы моих посещений столовой можно было наблюдать. Впрочем, пни перед столовой мы выкорчевали еще в начале осени 1941 года, в 1942 году исчезли деревья, а в 1943 году неузнаваемо изменились и столовая с покрытыми штукатуркой белеными стенами, и другие постройки. У меня сохранился снимок, сделанный Евгением Николаевичем Костылевым, на котором запечатлен момент выкорчевывания большого лиственничного пня вручную на месте, где потом был построен дом полевиков № 3. Происходило это на воскреснике в середине мая 1942 года. На снимке можно опознать меня, Михаила Георгиевича Котова и Льва Федоровича Сиверса, а также спины Н. П. Аникеева и И. Е. Драбкина. Кроме того, видны еще неопознанные: спина, возможно, принадлежащая Г. Кустову, и фрагменты неизвестных фигур. Я поселился в одной комнате со старым знакомым еще по 1939 году на Игандже Юрием Владимировичем Климовым. Окна нашей комнаты еще не были остеклены, хотя температура уже устойчиво перешагнула через ноль градусов. Стекла мы заменили пока листами восковки, которые кнопками прикрепили к раме. На ночь окно закрывали еще деревянным щитом, вставляемым изнутри и укрепляемым перекладиной. Восковка пропускала достаточно света в комнату, но только сквозь нее ничего не было видно. Впрочем, через не очень продолжительное время нам вставили и стекла. Рабочего помещения для камеральной обработки материалов у нас в это время не было, потому что хозяином здесь было ТГПУ, и оно изволило недавно забрать то помещение, которое два года назад нам предоставило. Поэтому все начальники партий работали на дому, а в управление все же ходили для того, чтобы перевесить свой табельный номер с гвоздя на гвоздь, два раза в день — в 9 часов утра и в 6 часов вечера. После того как номерки были водворены на доску утром, мы шли домой, выкладывали свои полевые материалы на столы и принимались за работу. Для чего производилась эта нелепая процедура с номерками, вряд ли кто-нибудь из начальства смог бы удовлетворительно объяснить. Ведь перевешенный номерок никак не смог бы предотвратить нарушение трудовой дисциплины, например, если бы человек захотел поспать без отрыва от производства. Ведь сделать это дома было достаточно каждому, и этого ни в какой степени не смог бы предотвратить перевешенный с гвоздя на гвоздь номерок. Наша комната была одной из выходящих окнами во двор или, лучше было бы сказать, «не на улицу», потому что никакого двора там не было. Справа от нас был узкий выход во двор, по другую сторону которого находилась общая кухня, а напротив нее — парадный подъезд — выход на улицу. По другую сторону от нашей комнаты жили прорабы и коллекторы: Рудаков, Семенов, Михоланов. В комнате напротив нашей жили начальники партий С. С. Герасименко и А. П. Чекалов. В конце коридора направо жил Дмитрий Павлович Асеев, производивший в этом году детальное опробование гидросети где-то внизу на Бахапче; в другом конце коридора были две квартиры по две комнаты, в одной из которых жил С. И. Кожанов с семьей, в другой — В. Ф. Коновальцев. Где-то жил и Петр Николаевич Спиридонов, тоже с семьей. Я теперь не посещал столовую, так как питался у брата. Поэтому там же я проводил и большую часть свободного от работы времени. Однажды темным зимним утром на нашу комнату было совершено покушение. Злоумышленники, зная распорядок нашего дня, решили использовать для налета наше отсутствие в комнате, когда мы оба удалялись для ритуальной процедуры перевешивания номерков. Но они плохо изучили запоры или были неопытны и самонадеянны настолько, что считали возможным сломать дверь с врезанным внутренним замком при помощи большого плоского напильника. Но, как и следовало ожидать, напильник не выдержал такого напряжения и сломался, тогда как дверь осталась невредимой. Обломок напильника длиной до 6 см остался в пазу двери. Я сначала удивлялся тому, что у человека оказалось достаточно силы, чтобы сломать напильник, но потом понял, что взломщик, вероятно, надел на напильник отрезок трубы и поэтому думал, что в его руках особенно мощное орудие для взлома двери, но мощи его хватило лишь на то, чтобы сломать напильник. Неудавшееся покушение на нас, вернее, на наше имущество нисколько не испортило нашего настроения, потому что мы знали, что если бы оно и увенчалось успехом для злодеев, то мы не очень пострадали бы, потому что никаких сокровищ ни у меня, ни у Климова не было. Нашлись бы там только какие-нибудь старые сапоги или брюки. А настроение у нас было хорошее, потому что радовали нас победы Красной Армии. Были уже освобождены и Днепропетровск, и Киев, взят Житомир. Фашистов гнали на запад, как свиней, забравшихся в наш советский огород. П. Н. Спиридонов потрудился, чтобы соорудить для нас новую камералку. Возможно, ему принадлежала и инициатива в этом деле. Во всяком случае, он провел всю операцию. Для этого он ездил по закрытым дорожно-строительным поселкам, осматривал постройки, подлежащие сносу, выбирая среди них подходящую. На какой-то дорожной командировке ему удалось найти подходящих размеров помещение бывшей столовой. По его приглашению я участвовал в выборе места для постройки. Потом плотники переметили бревна, разобрали постройку, перевезли на выбранное место и сложили вновь. Вторая, меньшая часть камерального периода прошла уже в новом помещении геолого-поискового отдела. Это было довольно большое пятистенное, то есть перегороженное капитальной бревенчатой стеной на две части, рубленое помещение. Одну из этих частей занимали начальники партий. В другой работали главным образом оформители, то есть те же прорабы, занимающиеся теперь чертежными работами. Я работал во второй из этих больших светлых комнат, где кроме меня, из начальников партий работал только С. И. Кожанов. Мое место было в южном углу этой комнаты, то есть у одного из окон юго-восточной стороны, справа. Справа от меня была глухая торцевая стенка без окон, которую занимали стеллажи для коллекций, начинавшиеся за моей спиной и располагавшиеся во всю ее высоту. Слева от меня у второго окна стояли, примыкая один к другому, четыре стола по два в ряд, за которыми сидели С. И. Кожанов, а спиной ко мне и лицом к нему — прораб Данилевич. За двумя другими работал прораб Кожанова Ниспевич и рыжий Павел Семенов, сидевший рядом с Данилевичем. Прорабы много разговаривали, но мне это не особенно мешало, потому что я мог и не слушать разговоров. По поводу собственной болтливости Павел Семенов балагурил, что она происходит от того, что чертежники-оформители трудятся, опустив голову вниз к столу. От этого языки отвисают вниз, становятся длиннее и начинают болтать. Данилевич рассказывал, как он женился три года назад на Фатьме, которая на Колыме его сразу же бросила, и любил повторять: «Опять хочу в Париж поехать». Это тогда звучало совсем дико, потому что никто из нас не ездил и не мечтал съездить за границу. Поэтому кто-нибудь иногда спрашивал его: «А вы разве уже ездили в Париж?». А он отвечал: «Нет, я уже хотел один раз». Ему это казалось остроумным. Ниспевич, сравнительно недавно освободившийся из лагеря, был интеллигентный еврей, бывший журналист и сравнительно молодой человек. Он рассказывал, как его с другими заключенными везли на Колыму. Ехали в товарных вагонах, по очереди стояли или висели у маленьких окошек. Иногда смотревший в окошко рассказывал, что он видит. Когда поезд стоял на станции Биробиджан, смотревший в окно, тоже еврей, воскликнул: «Братцы, вижу одного еврея. Его ведут под конвоем…». За спинами Данилевича и Семенова была свежая тесовая стена кабинета начальника геолого-поискового отдела, которым во второй половине зимы стал Христофор Иванович Калугин, а М. Е. Котов перешел в научно-исследовательский отдел, — тем, в свою очередь, заведовал Николай Иванович Ларин. В этом маленьком кабинетике сидел еще и П. Н. Спиридонов. Техником отдела был тогда кандидат геолого-минералогических наук, но удивительно бестолковый человек Турар Талысбаевич Кандыбаев. Он выдавал нам бумагу, карандаши и резинки, хранившиеся в шкафу все в том же кабинете, в котором из-за тесноты места ему самому не было. В средней части нашего зала располагалась большая двухсотлитровая бочка из-под бензина или из-под спирта, служившая печкой. Она была установлена в лежачем положении на большом, должно быть, размерами 1,8×1×0,3 метра ящике, заполненном галькой и песком. Топочное отверстие с дверцей было устроено в ее дне. У другого дна ее на верхнем боку было прорезано отверстие и приварен патрубок, на который надевались трубы, выведенные в потолок. Площадь у другой, северо-западной стены была тоже занята столами, за которыми работали прорабы. Выходная дверь находилась на нашей половине у средней стены против калугинского кабинетика, то есть в северо-западной стене. От выходной двери к двери, идущей на другую половину и к кабинету начальника, вел узкий коридорчик, имевший выход и в наше помещение, который тоже был отгорожен тесом. В средней части другого зала стояло такое же, как и у нас, отопительное устройство, а остальное пространство было уставлено столами, за которыми сидели геологи. В ближайшем углу справа у стеллажей, стоявших у глухой стены, подобно мне, сидел П. Н. Котылев и близко от него В. Н. Плиев и А. П. Чекалов. В дальнем правом углу работал В. Ф. Коновальцев, в дальнем левом — Евгений Пантелеймонович Машко и правее рядом с ним — И. И. Тучков. В средней части левой стенки сидел А. С. Красильников. Помню еще Г. Т. Кривошея, работавшего в левом ближнем углу. На охоту мы с братом, как и в предыдущую зиму, ходили на куропаток, отправляясь всегда на Неглинку и ее притоки для поисков горняшек. Кто-то рассказал мне о таком способе ловли куропаток-русловок: бутылкой в плотном надутом снегу делаются глубокие воронки, для чего бутылка втыкается горлышком вниз и затем вынимается, потом на снег возле воронок бросают бруснику так, чтобы и в воронки попало несколько ягод. Куропатки, бегая по снегу, поедают бруснику, находящуюся сверху, затем, заглядывая в воронки, видят ее и в них. Они вытягивают шеи, пытаясь достать ее оттуда, но это им не удается. В конце концов они будто бы, пытаясь достать ягоду, теряютравновесие, застревают головой вниз, не могут оттуда выбраться и замерзают. Все это чем-то очень напоминало рассказы барона Мюнхгаузена, и я с самого начала считал, что это шутка. Но однажды я решил проверить эту шутку на практике. Взял поллитровку в рюкзак, немного мороженой брусники и отправился на лыжах вниз по Детрину. Но я так и не вынимал бутылку из рюкзака, потому что начиналась пурга и я понял, что если я сделаю воронки, то их все равно заметет ночью. Другого раза не представилось, чтобы проверить эту маловероятную, даже неправдоподобную теорию.
Вырезка из старой газеты
В 1943 году из всех полевых партий нашего ГРО, количество которых тогда было максимальным за всю историю геологического изучения этой части Магаданской области, только моя Тэнгкелийская партия дала практические результаты. Кроме заслуживавшего внимания оловянного оруденения, которое сулило перспективы, мы обнаружили весовое содержание золота в шлиховых пробах из речных отложений одной из долин, что свидетельствовало о наличии промышленных россыпей золота. Эти россыпи позднее в течение несколькихлет разрабатывались прииском «Бодрый», а я, Петр Иванович Авраменко и группа разведчиков были премированы за первооткрывательство. Тем не менее наше начальство сделало все от него зависевшее, чтобы затереть, сделать незаметными наши достижения, вместо того чтобы «поднять их на щит». Передо мной вырезка из праздничного номера газеты «Советская Колыма» от 7 ноября 1943 года с заметкой главного геолога Тенькинского управления Н. П. Аникеева под заголовком «Успехи разведчиков». В ней, преследуя какие-то свои, не известные мне цели, автор, мягко говоря, допустил неточности. Он писал: «С замечательными показателями вернулась из тайги партия молодого геолога коммуниста товарища Тучкова, открывшая новое месторождение полезного ископаемого. Обнаружили за летний период месторождения различного, имеющего важное значение сырья партии геологов товарищей Котылева, Боровских, Асеева и Топуновой. Отлично справились с поисками партии товарищей Володина и Диброва». Неточность, допущенная в этих строках заметки ее автором, как раз и состоит в том, что они опять-таки не соответствуют действительности. Ни И. И. Тучков и никто из перечисленных в заметке геологов никаких месторождений, к сожалению, не открыл. Золотоносная россыпь была тогда открыта только нашей партией одновременно с признаками оловянного оруденения, а автор заметки даже не говорит о том, что она что-нибудь открыла. Слова «справились с поисками» можно понимать по-разному, так как это совсем не синоним понятия «нашли». Для чего нужно было нашему главному геологу тогда заниматься таким, прямо скажем, недостойным коммуниста жонглированием фактами, для чего выдающиеся достижения нашей полевой партии он поставил ступенькой ниже достижений пяти других партий и «на одну доску» с шестой из них, неизвестно. Думать, что он был недостаточно информирован, недостаточно ознакомился с результатами работ, нельзя. Он участвовал в приемке полевых материалов всех полевых партий, знал об их действительных достижениях и, следовательно, в заметке вполне сознательно допускал отступления от истины, будучи уверен, что никто не призовет его к ответу за это. Нечего и говорить, что я был тогда не только возмущен, а буквально потрясен этой вопиющей необъективностью и несправедливостью нашего совсем не уважаемого шефа. Думаю, что об этом достаточно красноречиво свидетельствует тот факт, что я тогда вырезал из номера газеты эту заметку, и то, что я ее сохранил до сих пор, берег на протяжении 28 лет. При этом долгие годы я носил ее свернутой вчетверо с собой. Она до дыр протерлась на сгибах, бумага истерлась и одряхлела, но на ней, кроме пресловутой заметки, можно и сейчас прочесть стишки и частушки магаданских поэтов, высмеивающие главарей фашистского рейха.Раковский
Осенью 1943 года в составе нашего начальства произошли перемены. Начальником нашего геолого-разведочного «отдела» назначили Сергея Дмитриевича Раковского, заслуженного ветерана-золотоискателя, одного из первооткрывателей Золотого Алдана и Золотой Колымы и одного из пионеров освоения обеих золотых областей. Его я уже давно знал политературе, как это ни странно, по художественной. Еще до поездки на Колыму и даже до принятия окончательного решения по этому вопросу я прочел содержательную повесть Евгения Юнчи «Конец Ольской тропы», напечатанную в одном толстых журналов; кажется, это был «Новый мир». Там описывалась и первая экспедиция Билибина, положившая начало исследованиям и освоению Золотой Колымы. Одним из участников этой экспедиции и был Сергей Дмитриевич. Повесть, как я сказал, была содержательной. В ней было кое-что, позволяющее немного познакомиться заочно с Золотой Колымой. Но, конечно, не обошлось в ней и без нелепого вздора, без головокружительной журналистской гиперболы и оголтелой фантастики. Помню описанную там сценку, выдуманную, конечно, автором повести очень неудачно. Вряд ли он консультировался по поводу описанного эпизода не только с геологом, но и просто с человеком, хотя бы поверхностно знакомым с элементарной физикой. Не исключено и то, что в погоне за сенсационной эффектностью сценки автор сознательно пренебрег правдоподобностью рассказа. Сергей Дмитриевич вышел будто бы утром из палатки, чтобы умыться в чистых прозрачных струях реки и вдруг, всматриваясь в отражение своего лица, увидел желтые пятна, которые будто бы оказались золотыми самородками, видневшимися сквозь прозрачную воду. В той же повести рассказывалось и о том, что С. Д. Раковский, будучи студентом юридического факультета университета (кажется, Иркутского), отправился в составе артели старателей на Алдан, когда там была открыта золотоносность и началась золотая лихорадка. Оттуда он и отправился на Колыму в 1928 году, чтобы принять участие в первой экспедиции Билибина. В какой-то степени эта повесть повлияла на наше с братом Волей решение ехать на Колыму, подтолкнула его. Когда я работал на Лазо, то слышал, что он работает на базе дальних разведок Северного управления, преобразованной тогда в Западное управление. Помню, тогда кто-то рассказывал, что жена Раковского Анна Петровна говорила кому-то, что они живут на Колыме уже 15 лет, и мне тогда казалось, что это очень долго, потому что мы к тому времени трудились там только 5 лет.Сергей Дмитриевич Раковский (1899–1962)
 Геолог. В 1920 г. поступил в Иркутский политехнический институт.
В 1923 г. работал старателем на Алдане; с осени 1926 г, — прорабом в гостресте «Алданзолото»; затем — начальником разведрайона. Принял участие в Первой Колымской экспедиции. 12 июля 1929 г. в ручье, названном им Юбилейным, в Среднеканском районе Раковский лично обнаружил промышленное золото. В 1943 г. работал начальником ГРО Тенькинского ГПУ. На Колыме — до 1959 г. Первооткрыватель колымского золота. Лауреат Сталинской премии 1946 г. Награжден орденами и медалями СССР.
Геолог. В 1920 г. поступил в Иркутский политехнический институт.
В 1923 г. работал старателем на Алдане; с осени 1926 г, — прорабом в гостресте «Алданзолото»; затем — начальником разведрайона. Принял участие в Первой Колымской экспедиции. 12 июля 1929 г. в ручье, названном им Юбилейным, в Среднеканском районе Раковский лично обнаружил промышленное золото. В 1943 г. работал начальником ГРО Тенькинского ГПУ. На Колыме — до 1959 г. Первооткрыватель колымского золота. Лауреат Сталинской премии 1946 г. Награжден орденами и медалями СССР.
Одновременно с назначением нашим начальником С. Д. Раковского И. Е. Драбкин освободил должность главного геолога ТГПУ в связи со своим назначением заместителем начальника горного управления по олову. Теперь в нашем управлении стало уже два оловянных рудника, увеличилось количество и золотых приисков. Поэтому управлять выросшим производством стало труднее и понадобился специальный помощник по олову. А Драбкин, как известно, был специалистом по олову, во всяком случае, считался таковым на том основании, что почти два года возглавлял разведку Бутугычагского месторождения и разведал его хорошо. Я никогда не пытался уточнить, что стало причиной этих перестановок. Не думаю, что причиной ее была необходимость учредить должность заместителя начальника горного управления по олову, потому что эта должность просуществовала недолго и в начале будущего 1944 года была упразднена, и Драбкин удалился из нашего управления. Не исключена, впрочем, и возможность того, что он не справился со своими обязанностями заместителя. Но, как бы то ни было, главным геологом ТГПУ стал теперь Н. П. Аникеев. Все выглядело так, как будто Драбкину выдумали должность заместителя по олову только для того, чтобы освободить место начальника ГРО для С. Д. Раковского. Непосредственное отношение к приезду в Усть-Омчуг С. Д. Раковского имел и неудачный дебют нашего Бобы Евангулова на клубных подмостках. Дело в том, что жена С. Д. Раковского была любительницей драматического искусства и постоянно участвовала в работе драмкружков. Поэтому и жена Евангулова Елизавета Афанасьевна тоже стала принимать участие в этом кружке и побудила к тому же мужа. И вот когда драмкружок принялся разучивать пьесу Г. Ибсена «Кукольный дом» («Нору»), он взялся играть в ней роль адвоката-шантажиста Крогстада. Я не знаю, почему на репетициях не обратили внимания на то, что роль ему совершенно не дается, но он участвовал в этой роли и в спектакле и выглядел там белой вороной среди других, тоже не блестящих самодеятельных артистов. Он никак не мог справиться со своим голосом, говорил совсем не подходящим тоном, не мог добиться, чтобы звучали интонации, соответствующие содержанию его речей. Впрочем, казалось, что он совсем и не стремится к этому. В нашей поселковой газете, которая называлась тогда «Большевик», была напечатана рецензия на эту постановку, где говорилось, что ему вначале роль не давалась, а потом он будто «вошел в образ». Это было искажение фактов. Он до конца спектакля портил своим присутствием на сцене всякое впечатление от игры всех других участников. Впрочем, неудачный дебют возымел свое действие и заставил злосчастного артиста отказаться от дальнейших попыток снискать себе славу на клубной сцене. Но это могло произойти и против его воли. Могли и другие члены кружка, которым вряд ли понравилось, что «Нору» так испортило участие в постановке этого дебютанта, выразить протест против его участия в постановках. В дальнейшем он продолжал ежегодно на смотрах художественной самодеятельности выступать с декламацией стихов В. Маяковского. Делал он это хорошо и успешно соревновался в этом деле с Н. П. Аникеевым, который, однако, на сцену не выходил, а читал стихи только в кругу близких знакомых.
 Сцена из спектакля Г. Ибсена «Нора и кукольный дом», поставленного в центральном клубе пос. Усть-Омчуга в 1947 г. В ролях: Б. Б. Евангулов и Г. А. Осепьян.
Сцена из спектакля Г. Ибсена «Нора и кукольный дом», поставленного в центральном клубе пос. Усть-Омчуга в 1947 г. В ролях: Б. Б. Евангулов и Г. А. Осепьян.
В театральных программках центрального клуба Усть-Омчуга кроме фамилий геологов и горняков вы найдете фамилии бывших политзаключенных, ссыльных и спецпоселенцев Теньки: А. А. Белова, А. А. Дзыгара, Э. Э. Валентинова, И. С. Варпаховского, Л. В. Варпаховской, Г. Г. Ветровой, Е. П. Докукина, А. Матусевича, П. С. Тенненбаума, Н. В. Тихановского. Евангулов правильно считал, что у него чтение трудных стихов Маяковского получается неплохо, слушателям и, в том числе, мне тоже так казалось, и это подтверждалось тем, что в течение ряда лет на смотрах самодеятельности его выступления благосклонно принимались комиссией. Но однажды, кажется, в 1945 году в комиссии оказался знаток тонкостей этой отрасли искусства, который подверг его выступление уничтожающей критике, артист обиделся и совсем покинул подмостки.
Щербаков
К этой третьей военной зиме относится гибель Щербакова. Он был геологом. Несколько лет работал на разведках небольших и убогих арманских месторождений оловянного камня. Я его знал на протяжении 4 лет. Помню любимую его поговорку «нужно масло в голове иметь», которую он довольно часто повторял, что означало приблизительно «головой думать надо». Произошло это на Чукотке, куда он был переведен всего около полугода назад. И вот едва началась полярная ночь, он трагически погиб, сгорел заживо. Жил он в большом деревянном одноэтажном доме. Дом был обычного казарменного типа, коридорной системы. Из конца в конец тянулся коридор, по сторонам которого располагались комнаты. Центрального отопления в доме не было. Топлива тоже не было, и поэтому железные печки, которые стояли в каждой комнате, топили бензином. Для этого в каждой комнате стояла какая-то канистра или жестяная банка с бензином. Понятно, что это было полнейшее игнорирование правил пожарной безопасности и было крайне опасно, как жизнь на краю кратера извергающегося вулкана. Дом был обречен, так как вероятность того, что в любую минуту может вспыхнуть бензин, неосторожно пролитый в какой-нибудь из комнат вблизи топящейся печки, была очень велика. Опасность пожара усугублялась еще полным отсутствием средств для тушения пожара, воды и тем, что дом был глубоко погребен под надутым снегом, вернее, под смерзшейся в плотную, твердую массу, под перетертой снежной пудрой. Это очень затрудняло вход и выход из дома, для чего нужно было опуститься или подняться по ступеням, вырезанным в плотном снегу в стене глубокой ямы, выкопанной у входной двери. Дом в конце концов вспыхнул и быстро сгорел, так как этому помогали бензин и топящиеся печи. Щербаков с членами своей семьи так же, как и другие обитатели, сначала благополучно выскочил из загоревшегося дома, но потом вдруг вспомнил о какой-то забытой вещи и бросился опять туда, несмотря на то что все уже было объято пламенем. Его не удержали и крики жены и соседей, которыми его попытались остановить. Выскочить оттуда ему уже не удалось, и больше его никто никогда не видел.«Я мало сведущ, но писуч»
Еще в начале зимы Дмитрий Павлович Асеев попросил меня, чтобы я написал рецензию на его отчет о детальном шлиховом опробовании речных отложений среднего течения Бахапчи, произведенном минувшим летом. Он уже заканчивал этот отчет и собирался уезжать туда же в качестве начальника нового разведрайона, который нужно было организовать. Он говорил, что отчету него получился довольно большим, потому что «я хоть и мало сведущ, но писуч». Не помню, как тогда сложились обстоятельства, в связи с которыми я так и не написал отзыва об отчете, о котором просил Асеев. Помню только, что я его действительно не писал, хотя отчет читал, но, кажется, не весь. Лучше всего мне запомнилось выражение Дмитрия Павловича о его «писучести», придуманное им, конечно, «для смеха», как нередко говорили в те времена и раньше.1944
Собиратели пенок
Приближалось окончание камеральных работ, близилось наступление весны и начало подготовки новых полевых работ. Тут, как и следовало ожидать, появился и кандидат в первооткрыватели, претендующий на право «собрать пенки» на нашем прошлогоднем участке. На этот раз претендентом на такое право оказалась Галина Александровна Топунова, вторая из наших «начальственных дам», жена Евгения Пантелеймоновича Машко. Она, вероятно, рассуждала так: если три года тому назад Е. Н. Костылев уступил свое право на первооткрывательство М. С. Венчуговой, то почему бы теперь В. Д. Володину не уступить мне свое право работать на перспективном участке. С таким предложением и обратилась она ко мне однажды в преддверии приближающейся весны. Но я твердо заявил, что сам намерен выполнять работы, проект на которые составил еще осенью. Я не намеревался повторить мягкотелый поступок Е. Н. Костылева, допустить повторение вопиющей несправедливости, проявленной тогда в отношении его в благодарность за уступчивость. Я знал, что нужно быть твердым и не уступать свое право любителям легкой наживы. Таким я оставался и тогда, когда подобный разговор возник опять с Г. А. Топуновой, потом с П. Н. Спиридоновым. Начальство почему-то в этом препирательстве поддерживало сторону Г. А. Топуновой. Наконец меня вызвал по этому вопросу главный геолог Н. П. Аникеев. Он предложил мне уступить Г. А. Топуновой Сталинградскую партию, а самому возглавить полумиллионную партию на Челомдже. Он рассчитывал, что я должен «клюнуть» на такую «приманку». И расчет его был правилен. Предложение было заманчивым, так как я никогда не работал на рекогносцировочной геологической съемке и хорошо понимал, что это последняя возможность, потому что «белых пятен» больше на нашей карте нет. Везде уже «ступала нога геолога». Но мне было ясно и то, что в этом предложении всего лишь тонкий ход Н. П. Аникеева, который хочет лишь одного: чтобы я отказался от права работать на Сталинградце, конечно, в пользу Г. А. Топуновой. А что Н. П. Аникеев умеет тонкой лестью найти путь к душе человека, уговорить его, я знал. Я уже не помню теперь примеров подобных уговоров, кроме разве костылевского, которые я знал тогда, но годом позже он подобным приемом обработал С. И. Кожанова и заставил его взяться за геоморфологическое изучение нашей громадной территории, в котором тот увяз безнадежно, и после двух лет работы, затратив много времени и средств, оставил ее незаконченной и уехал. А уговорил он его взяться за эту работу сказав, что, кроме него, Кожанова, никто в нашем коллективе не способен справиться с этой работой, и потому ее и предлагают ему. Сергей Иванович, как бесхитростный, доверчивый человек, не усомнился, что Н. П. Аникеев действительно так считает, проникся уважением к самому себе и уверенностью в своих силах и взялся за работу, которую не в состоянии был выполнить. Возможно, или даже вероятно, что Николай Петрович действительно искренне думал так, как говорил С. И. Кожанову, но опыт показал, что он ошибался, что он не проявил необходимой прозорливости при выборе кандидатуры исполнителя этих работ. Безусловно, в другое время я с радостью согласился бы выполнить предлагаемую рекогносцировочную геологическую съемку и поисковые работы, тем более на последнем «белом пятне», но теперь я помнил о том, что не должен уступать Г. А. Топуновой и никому другому из принципа. И я до конца проявил твердость, отстоял свое право производить на Сталинградце поиски рудного месторождения.Третья военная весна
Началась подготовка к новым полевым работам, разработка полевого задания, комплектование личного состава партии. В качестве прораба, руководящего копушением и канавными работами, по рекомендации брата я хотел назначить техника-геолога, работавшего на руднике «Бутугычаг» Шагова, так как знал, что П. И. Авраменко предполагали назначить в партию, где начальником был Г. С. Киселев. Но позднее прорабом Сталинградской партии был назначен все же П. И. Авраменко, а Шагов остался на Бутугычаге, и это оказалось роковым событием для него, так как он вскоре погиб на руднике. Мне было очень жаль этого человека, потому что мне казалось, что я, хоть и косвенно, в какой-то степени оказался виновным в его гибели. Прояви я больше твердости в отношении П. И. Авраменко, который вначале сам хотел идти в партию Г. С. Киселева, то Шагов не встретил бы тогда своего трагического конца. Старшим коллектором был назначен Акафий Ефремович Михоланов, десятниками — Шинкаренко и Новиков, топографом — Г. Г. Логинов. Рабочих помню далеко не всех, потому что их было сравнительно много. Все они были новые, раньше у меня не работавшие, так как все рабочие прошлогоднего состава вместе с другими рабочими Детринского разведрайона и с техническим персоналом были зимой отправлены на Индигирку для укрепления нового управления. Только Иванов вторично пошел в мою полевую партию. Кладовщиком был Чебудаев, возчиками — Бекашев и Фуре. Были еще рабочие Орлов, Гагарин, Романтеев. Весна выдалась ранняя. Снег начал таять рано. В начале апреля в поселке был уже мокрый снег и лужи стояли на дорогах. Снег быстро таял, и уже не только в поселке. Давно было выписано и получено снаряжение, продовольствие и другой инвентарь нашей партии, приближались первомайские праздники, но оленей для перевозки грузов все еще не было. Они прибыли только 2 мая, когда снег в тайге уже сильно растаял. Третьего мая тяжело нагруженный олений транспорт в сопровождении топографа Г. Г. Логинова и каюров-орочей тронулся, наконец, в путь. Но выезд оказался слишком поздним. Транспорт не смог преодолеть даже того небольшого расстояния, которое отделяло район работ партии от центра управления. Он не дошел около 20 км до намеченной базы и вынужден был остановиться, потому что олени не смогли дальше тянуть груженые нарты по каменистой почве, уже полностью освободившейся от снега. Пришлось хлопотать о дополнительных лошадях для перевозки вьючным транспортом недовезенного груза. К моему удивлению, лошадей я получил без особенно больших хлопот. С появлением подножного корма лошади были уже на месте, и возчик Бекашев приступил к перевозке. Мы с П. И. Авраменко, Шинкаренко, Михайловым и тремя рабочими вышли на Сталинградец на другой день после начала высадки союзников во Франции. Операция, на неотложности проведения которой настаивало советское командование, уже больше двух лет, наконец началась! Союзнички остались верны себе. Они не торопились с высадкой до последней возможности и начали ее лишь, когда всем стало ясно, что Красная Армия может обойтись и без их помощи. Торопиться заставило их только стремление спасти свое положение в Европе и не допустить распространения коммунизма в Германии и во Франции. Им это нужно было сохранить по возможности в целости нашего злейшего врага — Германию. Но тем не менее нас радовало, что, наконец, началась операция, которую мы бесконечно долго ждали. К вечеру первого дня пути мы с Авраменко и другими добрались до устья левого притока Амына ручья Тунгуски, где был сложен не довезенный оленями груз, переночевали там, а на другой день с возчиком Бекашевым и караваном завьюченных лошадей прибыли на свою базу в долину ручья Сталинградец на устье ручья Победа. Спустя день приступили к копушению склонов (от слова «копуш» — простейшая горная выработка для взятия пробы), к проходке начатой в прошлом году канавы № 1 и к поискам рудных свалов исхаживанием склонов. Логинова я застал в постели больным или, вернее, выздоравливающим после какой-то болезни. Он рассказывал, что за три дня до нашего прихода к базе подходил медведь, который, впрочем, оставался на склоне, не приближаясь на выстрел. В него не стреляли, и он, не дожидаясь этого, удалился.Будни
Итак, в первые дни полевых работ мы приступили к продолжению начатых в прошлом году поисков рудных жил. Но только теперь мы располагали всеми необходимыми для этого средствами: рабочей силой, инструментом и временем. Начали, как я уже упомянул, копушное опробование склонов и одновременно приступили к продолжению проходки канав и поисков рудных свалов исхаживанием. Копушное опробование склонов состоит в проходке копушей, располагающихся по линиям, в отборе проб из них, в переноске проб к воде, к ручью вниз по склону или к ближайшему водоему, яме или выемке с водой и в промывке этих проб. Цель его — выявление струй перемещающихся вниз по склонам вместе со всей массой рыхлого обломочного материала или делювия обломков оловоносных жил и обломков кристалликов оловянного камня, выкрошившихся из них. По положению струй касситерита в делювии задаются канавы и вскрываются оловоносные жилы. Струи в делювии протягиваются сверху вниз по склону. Следовательно, чтобы пересечь их и определить их положение, линии копушей располагают горизонтально, если склон высокий и копуши располагаются в две-три линии. А если склон невысокий и копуши проходятся в одну линию, она протягивается приблизительно параллельно дну долины. Каждый копуш — это небольшая и неглубокая открытая поверхностная горная выработка или, проще говоря, ямка глубиной 0,60–1 м, откуда берется около 30 кг рыхлого мелкого материала, который в качестве пробы промывается на лотке. Эти пробы насыпают в мешки и переносят на плечах вниз по склону к руслу ручья. Приступили к добивке начатой в прошлом году канавы № 1 и к проходке траншей по вскрытым канавой жилам № 1 и 2. Для проходки канав и траншей необходима была взрывчатка. Поэтому в первые же дни я отправил десятника Шинкаренко вместе с возчиком Фурсом и лошадьми за взрывчаткой в Детринский разведрайон. Одновременно с доставкой взрывчатки я поручил ему разведать новый путь, ведущий на 151-й км Тенькинской трассы. По длине эта дорога такая же, как и ведущая по долине Амына к Детрину, но больше половины ее пролегала по автотрассе. Мне посоветовал воспользоваться ею П. Н. Спиридонов. Шинкаренко выполнил с честью возложенную на него задачу. Транспорт доставил необходимые нам материалы и беспрепятственно прошел по кратчайшему пути вокруг гранитного массива Геркулес. Этот путь в ближайшее же время стал использоваться как часть дороги в Бахапчинский разведрайон. Около 5 лет он хорошо служил людям, но потом разведчики додумались пустить по нему транспорт с санями, и в течение одного года дорога была уничтожена эрозией. Водные потоки в истоках ручьев у перевала, покинув старые русла, устремились по тракторному следу, очень быстро прорыв в речных отложениях глубочайшие овраги, сделав перевал недоступным не только для тракторов, но и для пешего человека. Но это было позднее, а осенью 1944 года, о котором сейчас идет речь, близ устья ручья Силинцовой (на картах Силинцовый, Слипцовый, Слопцовый, на дорожном указателе ныне Солонцовый. — Ред.), то есть на 151-м км Тенышнской автодороги, была устроена перевалочная база, куда грузы для Бахапчинского разведрайона завозили автомашинами, а дальше направляли вьючным транспортом. От этой перевалочной базы, которую завхоз разведочного района называл не иначе как «сто полсотни», пролегала тропа, ведущая по ручью Силинцовой, затем через низкий перевал с почти незаметным подъемом переходившая в один из притоков впадающей в Бахапчу речки Тэнгкели. Далее тропа протягивалась по долине впадающего в ту же речку с другой стороны ручья Сталинградец и затем, перевалив через низкую морену, попадала в долину Саханджи-Сахали и затем выходила в долину Бахапчи к бывшей базе оленеводческого совхоза, служившей теперь тоже перевалочной базой на пути к Бахапчинскому разведрайону, основная база которого располагалась значительно ниже по течению Бахапчи на устье р. Малтан. Этот разведрайон был организован главным образом для разведки объектов, уже разведываемых раньше, переопробованных партией Д. П. Асеева в прошлом году (в 1943 г. — Ред.) и других, где золотоносность была вновь выявлена. Но из всех объектов, разведанных этой организацией почти зат 10 лет, главным оказался ручей, выявленный и рекомендуемых к разведке нашей Тэнгкелийской партией в 1943 году. Здесь было разведано месторождение россыпного золота, которое затем эксплуатировалось несколько лет одним из приисков нашего управления. Копушное опробование склонов и поиски рудных свалов при исхаживании позволили обнаружить несколько оловоносных жил, но их было немного, они имели небольшое протяжение по простиранию, и это не давало возможности предполагать значительное протяжение их и в глубину. Через несколько дней после начала работ на рудном участке начал я и геологическую съемку. Из-за нехватки людей ходил я первое время только со старшим коллектором А. Е. Михолановым, обходясь без рабочих. Первые маршруты проделали мы с ним непосредственно с базы и в один из них нашли остатки фауны карнийского яруса верхнего триаса. Каждый день, закончив свой маршрут, мы возвращались в свою палатку на базу. Тогда я впервые производил геологическую съемку в масштабе 1:25 000, привыкнув за ряд лет к мелкомасштабной, гораздо более тяжелой стотысячной съемке. Естественно, что она мне нравилась рядом своих преимуществ. Главное из них — это почти полное отсутствие «пустых» ходов, которые на стотысячной съемке, особенно при недостатке транспортных средств, неизбежны. Именно они выматывают силы, убивают время, не оставляя его на отдых, необходимый для восстановления сил, и заставляют организм работать на износ. На двадцатипятитысячной съемке «пустых» ходов можно избежать почти полностью, потому что у каждой точки здесь нужно сделать не один маршрут, как на стотысячной, а серию маршрутов. Поэтому даже при полном отсутствии транспорта для переездов и перемещения стоянок есть смысл даже «вручную», то есть на себе переносить свое имущество, избегая таким способом «пустых» ходов. Именно так, то есть таща на себе палатку, железную печку с такими же трубами, посуду, постельные принадлежности, одежду, запас продовольствия и инструменты, отправились мы с Михолановым за ближайший перевал, когда маршруты у базы были закончены. Отлично помню, что палатка у нас была старая, и, развернув ее, мы увидели, что она сильно изодрана, изобилует дырами, как будто нарочно устроенными для комаров. Прежде чем ставить ее, пришлось нам обоим размотать сначала сильно запутанный клубок ниток, потом, вооружившись иголками, капитально отремонтировать палатку, ругая себя в то же время за то, что не осмотрели ее раньше, до выхода с базы. Впрочем, сделать такую мелочь было легче, чем вести о ней переговоры с другими, заставляя их сделать это. Вблизи этой стоянки за два дня да нашего прихода туда Г. Г. Логинов встретил медведя, стрелял и тяжело ранил его, обратил его в бегство, преследовал и не догнал, а вернувшись, увидел на двух деревьях медвежат, а на третьем — пестуна. Он убил одного из медвежат, радуясь тому, что медведица убежала, вместо того, чтобы защищать свою семью, и не стал гоняться за пестуном и вторым медвежонком, опасаясь, что медведица может вернуться. Это происшествие, о котором нам только что рассказал Георгий Георгиевич, было настолько свежо в нашей памяти, что мы с Михолановым, закончив возню с устройством стоянки, отправились искать убежавшую позавчера от Логинова медведицу, которая, по его словам, была тяжело ранена и, как я думал, не могла уйти далеко. Но я тогда по неопытности не знал, что медведь действительно тяжело, даже смертельно раненный и потерявший много крови, долго еще сохраняет способность уходить от преследования. Ушла от нас и логиновская медведица. Вернее, ушла она, конечно, не от нас, а еще раньше от самого Логинова, а нам пришлось вернуться, не найдя и следов ее. Кажется, накануне прошел дождь, и они были смыты. Мы утешали себя мыслью, что Логинов виноват в том, что она ушла и что мы слишком поздно занялись погоней.Пожар
Однажды целый рабочий день мы с Михолановым и рабочим Бекашевым затратили на тушение пожара, который возник по неосторожности А. Е. Михоланова. Тогда мы закончили маршруты с предыдущей стоянки, и я накануне отправился на базу, прислал в тот же день лошадей для перевозки нашего имущества на новую стоянку, а сам остаток дня провел на рудном участке. Помню, вечером этого дня была сильная гроза с ливнем. Утром мы с Бекашевым шли с базы на свою новую стоянку. Нам нужно было преодолеть два перевала через гранитные сопки, на первой из которых был наш рудный участок. Мы шли, спрямляя путь, не обходя высоких сопок. И вот когда мы уже заканчивали отрезок пути через первый перевал и перед нами открылся второй, из-за него вдруг вырвались и стремительно понеслись ввысь к зениту плотные круглые клубы серо-черного дыма. Никакого сомнения в том, что это пожар на нашей стоянке, не было. Подумал я, правда, о том, что пожар мог возникнуть в отсутствие Михоланова, что он, может быть, ушел в маршрут, плохо затоптав костер, и что могла сгореть палатка со всем находящимся в ней. Но рассуждать об этом было некогда, потому что ноги уже сами неслись к пожару. Бегом пронеслись мы по спуску, потом на подъем и по второму спуску, откуда можно было рассмотреть только, что очаг пожара скрыт верхним краем террасы. Рассмотреть все и, успокоившись, перейти на шаг было нельзя. Нужно было продолжать бег, потому что по-прежнему неизвестно было, что впереди. Дым то затихал немного, то с новой силой рвались ввысь его шаровидные черные клубы, когда огонь достигал зарослей стланика и загоралась его смолистая хвоя. Наконец мы достигли места, охваченного пожаром, увидали Михоланова, сидевшего на берегу ручья, охватившего обеими руками голову, вещи и снятую палатку, лежавшие на другом берегу ручья. Не теряя времени на расспросы и почти совсем не отдыхая, бросились тушить пожар, стараясь и с Михоланова согнать охватившую его апатию. Он коротко рассказал о том, что произошло. Когда накануне в конце дня приехал с лошадьми возчик Фуре, они сразу же завьючили лошадей и отправились в путь, потому что вещи были уже связаны, и нужно было только убрать палатку. В это время надвинулась гроза, и ливень хлынул, едва они успели проехать половину пути. В результате все вещи, плохо укрытые, были сильно измочены. Возчик с лошадьми сразу уехал на базу, потому что близ этой новой стоянки не было травы для лошадей, а Михоланов поставил мокрую палатку на мокром мху и не стал растапливать печку мокрыми же дровами, а, продрожав до утра, решил утром подсушить вещи. Утро наступило безоблачное, ясное. На чистом голубом небе сияло горячее июльское солнце, и в лучах его всеми цветами радуги горели и переливались капли вчерашнего дождя, висевшие на кончиках ярко-зеленых лиственничных хвоинок. Палатка, все вещи в ней, так же как и ягель вокруг нее, были мокры, как и вчера вечером. Михоланов быстро развесил на жердях и расстелил на земле для просушивания телогрейки, куртки и другую одежду, ощипал и осмолил на маленьком костерке убитую вчера при переезде куропатку и спустился к руслу ручья, чтобы вымыть ее, прежде чем положить в котелок для варки. Все это заняло совсем немного времени, но когда он поднялся на ноги и обернулся к палатке лицом, то обмер: вокруг палатки пылал ярким пламенем мох, который на ярком солнце успел уже сверху высохнуть. Пламя уже совсем близко подступило к палатке, хотя она еще не успела загореться. Пылали вещи, расстеленные для просушки. Опомнившись от шока, Акафий прыгнул, как тигр, к палатке, оборвал шпагат на завязках, скомкав ее, утащил на другой берег ручья, быстро перенес туда и наши вьючные ящики и другое уцелевшее от огня имущество и одежду. Потом увидел, что от его курточки на «молнии» остались только железки от застежки. Проделав все это, он и сидел на берегу, охватив голову руками, и, вероятно, рассуждал о том, что же теперь делать. Когда прибежали мы с Бекашевым, то как-то не нашлось времени, чтобы спросить его, о чем же он размышлял там, сидя на берегу. Мне это не было интересно. Досадно было только то, что он не начал тушить огонь раньше, еще когда мы неслись к очагу пожара, дав ему разгореться. Он, конечно, мог бы этим задержать распространение огня, если не потушить совсем. Но его почему-то охватила какая-то апатия, вероятно, шок от испуга и досады. Помню, что, когда мы прибежали, и еще раньше, когда мы стремительно неслись с горы, потом на гору и опять с горы, в голове неотвязно стояла мысль: как я мог бежать, ни разу не упав, не поскользнувшись и не споткнувшись по такой неровной, каменистой, неоднородной поверхности, по которой ходил всегда, внимательно глядя под ноги и постоянно выбирая место, куда поставить то одну, то другую из них. Были и особенно трудные участки пути со скоплениями крупных гранитных глыб, покрытыми не просохшим еще после дождя лишайником или мхом. Они были скользки, а спасали нас от падения, должно быть, только наши резиновые чуни. Если бы мы были не в них, а в сапогах, то я сомневаюсь, что нам удалось бы благополучно добежать до пожарища. Итак, мы бросились на борьбу с пламенем, не имея в руках никакого подходящего инструмента, ни кайла, ни лопаты. Орудовали мы палками, которыми нам удавалось только сбить пламя, но тлеющий мох вспыхивал вновь, и пламя продолжало пожирать ягель, на котором редко стояли большие лиственницы. Пожар был сложный, многослойный, и бороться с ним было трудно особенно потому, что ни у кого из нас не было опыта. Кроме того, нас было только трое, а площадь пылающего ягеля была большая, и фронт огня, окружающий эту площадь, был большой и продолжал расти, несмотря на наши усилия. Действовали мы, вероятно, неправильно. Должно быть, не так следовало тушить такой сложный пожар, но рассуждать об этом было некогда именно потому, что нужно было делать это без промедления. Сложность пожара состояла в том, что мокрый ягель под лучами жаркого июльского солнца в этот ясный день быстро высыхал. Верхний слой ягеля быстро сгорал, обнажая лежащий ниже мокрый мох, который тут же быстро начинал подсыхать на солнце и вспыхивал от оставшихся тлеть в нем сухих гнилушек при первом же легком дуновении ветерка. Это повторялось много раз, и вся выгоревшая площадь вновь и вновь пылала с прежней неослабевающей силой. Сухой ягель горит очень быстро, давая большое яркое пламя от содержащихся в нем эфирно-маслянистых веществ. Пламя его неукротимо, трудно поддается тушению. Горящий ягель нельзя сравнить даже с горящей смолой. Пламя его ярче, дыма меньше. Ближе, чем смола, к нему, пожалуй, горящий целлулоид, в отличие от которого ягель не взрывается. В то же время ягель обладает большой гигроскопичностью. Укрытый от палящих лучей солнца, особенно когда оно зайдет или на непродолжительное время скроется за облака, только что бывший сухим, ломавшимся под ногами и рассыпавшимся с характерным хрустом в порошок, мох быстро становится мягким, а потом влажным и сырым на ощупь и очень неохотно загорается. Целый день ушел на тушение пожара. Трудились мы не покладая рук, без отдыха и без коротких передышек, спеша сбить пламя и преградить путь огню, локализовать пожар и затем задавить его. Нам удавалось сбить на том или ином участке пламя и даже прекратить расширение зоны огня, но вскоре подсохшая поверхность мха, подстилающего сгоревший слой, вновь вспыхивала. Поэтому заново и заново приходилось возвращаться к уже, казалось, обработанной площади, где пламя было уже неоднократно потушено. Лишь слабый дождь, начавшийся к утру следующего дня, позволил вздохнуть с облегчением, так как можно было надеяться, что он окончательно погасит оставшиеся тлеющие очаги. В результате пожара сгорел мох, погиб лес и кустарник на сравнительно небольшом участке в самых истоках речки Тэнгкели, где ручьи и стали естественными рубежами, оконтурившими края пожара, потому что на других рубежах, оконтуривавших более узкую зону, где мы пытались остановить огонь, нам это сделать не удалось — он победил нас. Лишь со стороны истоков этих ручьев рубежом стали мочажины (топкий участок болота. — Ред.) на линии, отделяющей склон сопок от долины. На этой линии оказались часто расположенные небольшие сырые участки, где, кроме ягеля, росли другие, более влаголюбивые мхи на маленьких участочках, трава и карликовая березка. В конце своей пожарной эпопеи мы именно здесь и сосредоточили свои усилия, чтобы создать непреодолимый рубеж, который, наконец, остановил распространение огня кверху, чтобы не выпустить его на водоразделы. На сгоревшем участке редко росли средние или небольшие лиственницы толщиной до 20–30 см, возрастом 150–200 лет, и участки кустарника, стелющегося кедра. Обширные поляны, покрытые белым оленьим мхом, были свободны от деревьев и кустов. Когда нам удалось, наконец, создать непреодолимый рубеж распространения огня, можно было уже спокойно наблюдать, как догорал участок поляны, поросшей ягелем и рощицами кедрового стланика. Я видел, как пламя быстрой змейкой скользило по мху, достигало группы кустов стланика, быстро облизывало длинными языками кору на стволах и их ветвях, как бы замирало, слегка подсушивая и подогревая зеленую хвою, которая тотчас же вспыхивала ярким пламенем, выделяющим черные шарообразные клубы дыма, рвущиеся к зениту.Радость побед
Не раз в течение лета я с чувством удовлетворения вспоминал о том, что мне удалось отстоять от пенкоснимателей свое право производить здесь те работы, которые я производил теперь. Хотя и было уже отчетливо видно, что промышленных скоплений олова здесь нет. Мне не было жаль того, что я не поехал на какой-нибудь другой участок вместо этого. Здесь радовала меня близость к нашему поселку Усть-Омчугу, дававшая возможность поддерживать более или менее регулярные сношения с ним и уж во всяком случае возможность довольно регулярно получать газеты. А они были интересны, эти газеты последнего года Великой Отечественной войны советского народа и прежде всего нашего русского народа против мирового гада, имевшего тогда образ европейского фашизма. Гады тогда уже истекали кровью, терпя поражения за поражениями, попытались даже прихлопнуть своего бесноватого главаря-фюрера, чтобы этим улучшить свое положение. Но бесноватый вместе со своими прихвостнями успел схватить и уничтожить противников и спастись от покушения. (Автор имеет в виду покушение на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года, в результате которого Адольф Гитлер чудом остался жив. — Ред.) Осталось неизвестным: что было бы, если бы заговорщикам удалось убрать бесноватого главаря и его ближайшее окружение? Можно сомневаться в том, что это ускорило бы конец войны, так как вероятно, что переворот мог стимулировать военную активность антигитлеровских кругов фашистской кодлы. Во всяком случае это было похоже на драку ядовитых пауков в стеклянной банке, и было интересно. Правда, может быть, было бы интереснее, если бы прихлопнули главарей, но мы понимали, что тогда они могли бы и уйти от суда народов, так как это все же удалось сделать бесноватому Геббельсу, Гиммлеру и еще некоторым. Но тогда неотвратимо близился конец войны, конец Третьего рейха и, казалось, приближалось начало новой эры истории человечества. Газеты постоянно возвещали о новых и новых великих победах и тем самым постоянно несли радость. Мы знали, что и тогда были не одни победы, были и поражения, но мы помнили, что и в самые трудные первые месяцы войны, когда мы терпели самые тяжкие поражения и горькие потери родных и близких, нас постоянно пытались подбодрить и развеселить тем, что старший сержант Иванов заколол штыком четырех немцев, а рядовой Петров удачно швырнул бутылку с керосином. А теперь, как говорится, «и сам Бог велел нам радоваться и веселиться». В середине августа приехал к нам мой брат Всеволод, рассказал, что только что проводил до Магадана Лилю, поехавшую в освобожденный от фашистов осенью прошлого года Днепропетровск за двумя старшими дочками Надей и Инной, перенесшими там оккупацию. Апочти пятилетнюю Нэльку и годовалого Димку на время поездки матери сдали на хранение в круглосуточный детский сад. В том, что в Магадане было тогда такое учреждение, и в том, что туда оказалось возможным сдать на время детей, был единственный и притом очень хороший выход из положения. Если бы такого учреждения не было, то Лиля не смогла бы уехать на такой длительный срок, а поехать за детьми ей было крайне необходимо, потому что недавно умер наш отец, раньше умерла мать и теперь за девочками не было нужного ухода.Акафий Михоланов
Ближайший мой помощник по геологической съемке старший коллектор Акафий Ефремович Михоланов был тогда молодым двадцатилетним человеком, уже четыре года трудившимся в нашем Тенькинском райГРУ, а потом ГРО ТТПУ. Он мне рассказывал тогда свою биографию, и я все почему-то помню, хотя, казалось бы, мне как будто и незачем держать все это в памяти. Прежде всего кажется странным, откуда он появился в нашей организации на Крайнем Севере в таком раннем возрасте. Ему ведь исполнилось только 16 лет, когда он весной 1940 года появился у нас на Игандже. Расскажу лучше по порядку вместо того, чтобы прыгать, подобно блохе, по годам и событиям. Отец его когда-то приехал в далекий таежный старинный город Ямск, находящийся северо-восточнее Магадана в устье впадающей в Охотское море небольшой реки Ямы. Это было задолго до того, как на карте появился Магадан и все с ним связанное. Отца Михоланова в Ямск привела рыбная ловля. Случайно помнится из рассказов Михоланова, что отец его работал механиком на рыбных промыслах или рыбных заводах Ямска. В этом городе (селе. — Ред.) он женился на местной жительнице и прожил всю свою жизнь. Здесь же в 1924 году родился Акафий. В это время отец его был где-то в длительном отъезде, и это стало причиной того, что мальчик получил такое редкостное имя. Назвал его так поп, которого мать пригласила окрестить сына. Вот он, порывшись в своих святцах, и нарек этим именем ребенка. Когда приехал отец, он не придал никакого значения совершившемуся событию, просто сказал, что это имя не годится, а сын будет Петька — Петро. О том же, чтобы оформить перемену имени документами, никто из родителей не подумал. Так и рос ребенок, которого в семье и в школе, а потом и в комсомоле, и в техникуме, и на работе звали Петром, совершенно забыв о том, что у него есть другое имя, занесенное в церковную книгу старинного русского города Ямска при крещении младенца. Не знаю, как было во время получения паспорта, который должны были ему выдать в 1940 году, но он почему-то продолжал носить имя Петр вплоть до описываемого 1944 года. Вероятно, это было связано с тем, что именно до этого года в поселках всей нынешней Магаданской области не было милиции, как не было и выборной Советской власти. Не было никаких паспортных бюро, и люди жили с просроченными паспортами, которые некому было обменять. Именно в этом 1944 году в нашем, как и в других поселках, появилась милиция, причем начальник ее свое появление на свет ознаменовал разоружением геологов. Отняли двуствольную бескурковую ижевку, привезенную с собой еще с «материка», и у меня, только за то, что я пришел в милицию немного позже, чем следовало, чтобы продлить разрешение на ружье. Жил без паспорта и Михоланов вплоть до 20-летнего возраста, а при получении им паспорта и всплыло, что он совсем не Петр, как все привыкли считать, включая его самого, а какой-то Акафий. Вот он и принялся менять своего привычного Петра на этого самого чужого Акафия и возился с этим долго, так как это оказалось непросто. Ему в связи с переменой имени даже зарплату одно время не выплачивали. Кажется, в 1939 году он поступил в Магаданский горный техникум и учился в нем до весны 1940 года, когда техникум закрыли. После этого он приехал в наше районное геолого-разведочное управление на Иганджу и работал сначала подручным топографа, потом — коллектором. Года два он работал в Кулинском разведрайоне. Мне частично запомнился один из его рассказов, относящихся к этому периоду. Рассказывал он, как однажды в середине зимы отправился пешком из разведрайона на один из объектов россыпной разведки. Идти было далеко, но где-то на полпути был брошенный барак с печкой, в котором можно было остановиться на ночлег. Вот в расчете на это он и шел, не особенно торопясь, зная, что до барака осталось недалеко, хотя и день уже кончался и наступила лунная морозная ночь. Мороз был свирепый. Привычно скрипел снег под войлочными подошвами валенок. По обе стороны от луны горели два ложных светила. Давала себя знать усталость от долгой безостановочной ходьбы. Хотелось отдохнуть и поесть. Наконец показался барак, озаренный светом луны. Михоланов открыл заскрипевшую дверь и вошел в промороженное помещение. Было темно, потому что маленькие, заплывшие льдом заиндевевшие окошки почти совсем не пропускали лунного света. Свет проникал только в оставленную Михолановым открытой дверь, и это позволило ему увидеть, что возле печки на полу сидит человек и что под мышкой он держит топор. Как будто он собрался сходить за дровами, но задумался или задремал, сидя у печки. Думая, что сидящий спит, Михоланов окликнул его и, не услышав ответа, толкнул его в плечо, и тот совсем неожиданно для Михоланова опрокинулся, откатившись от него, стуча по полу промороженными конечностями. Человек давно замерз и окостенел, сидя на полу возле холодной печки. Стало жутко. Хотелось выскочить из барака и ринуться дальше, к цели своего пути. Очень трудно было заставить себя успокоиться, нарубить дров топором, который для этого нужно было взять из-под мышки у мертвеца, растопить печку, поставить на нее котелок, наполненный льдом, нарубленным в русле ручья. Но он все же все это сделал и продолжил путь только утром, плотно подкрепившись пищей и отдохнув в бараке. Мертвец остался в таком же положении, в каком его застал Михоланов, то есть замороженный в сидячей позе. Его Михоланов вынес из барака, прежде чем растопить печку, и зарыл в снегу.Гагарин
Это был совсем не космонавт и даже не князь, а самый обыкновенный мелкий воришка, которого именно за это и привезли сюда на несколько лет перед войной. На проходке разведочных канав он работать не хотел, так как это было бы ниже достоинства лагерных аристократов. А в маршрутах на геологической съемке он пообещал честно трудиться, и я его взял в конце лета. Он некоторое время действительно честно работал, носил рюкзак с образцами горных пород, собранными в маршруте, готовил пищу на троих, главным образом тогда, когда я его не брал в маршрут, а оставлял на день в палатке, жарил на противне грибы маслята или варил пельмени из свежей рыбы, когда она была, и жарил оладьи, которые на воровском жаргоне назывались ландориками. С этим некосмонавтом и некнязем нам пришлось работать недолго. Его пришлось выгнать за кражу. Однажды, когда наша стоянка располагалась недалеко от базы, в дождливый день мы все пошли туда, оставив в палатке все имущество, которым мы пользовались, когда ходили в маршруты, включая и остатки продовольствия. Дождь лил два дня, и, вернувшись в свою палатку только на третий день, мы увидели, что остатки продуктов исчезли. Было ясно, что это работа «князя», хотя он, конечно, не сознался в этом мелком преступлении. Он знал законы, касающиеся воровства, так как неоднократно был судим за это, знал, что «не пойман — не вор», а его пойманным вором считать было нельзя. Но я ведь не собирался возбуждать против него уголовное дело за кражу, а оснований для недоверия ему было больше чем нужно. Поэтому я после крупного разговора расстался с ним. Когда мы ходили не вдвоем с Михолановым, а втроем, то есть с рабочим, я нередко отправлял Михоланова куда-нибудь в сторону по боковому маршруту от какого-нибудь развилка. Иногда же поручал ему небольшие самостоятельные наблюдения, описания обнажений, образцов горных пород. Однажды, будучи в маршруте с Гагариным, когда Михоланова я отправил в самостоятельный маршрут по другому отрогу того же гранитного водораздела, я со спутником вдруг услышал беглый огонь карабина. Именно не выстрелы, а беглый огонь, потому что выстрелы следовали один за другим с минимальными интервалами, необходимыми для того, чтобы передернуть затвор, проделывая это каждый раз со всей возможной скоростью. За четырьмя выстрелами последовал интервал более значительный, необходимый для того, чтобы пополнить магазин новыми патронами, и затем раздались еще два выстрела. По донесшимся до нас звукам выстрелов я понял, что Акафий встретил снежных баранов и что его бешеная пальба не увенчалась успехом, потому что охотничий карабин — недостаточно скорострельное оружие для того, чтобы выпустить побольше пуль в единицу времени. Если бы пулемет ручной ДП (Дегтярев пехотный) или ППШ… Вот тогда была бы какая-то вероятность зацепить какого-нибудь из баранов. Я думал, что прошло все именно так, потому что при таком беглом огне можно было надеяться на эффективность только первого выстрела, но когда за ним последовали торопливо другие, можно было понять, что идет пальба по несущимся вскачь и быстро удаляющимся баранам и что первый выстрел был сделан так же мимо, как и все другие. Это было понятно потому, что он не торопился бы продолжать пальбу, если бы первый выстрел был удачен, ведь никому не нужно несколько убитых баранов, было бы достаточно и одного. Так и оказалось. Закончив маршрут и зайдя в палатку, я увидел в ней Акафия, который лежал на спине, устремив взор сквозь палатку в мировое пространство. Когда я спросил его о стрельбе, он неопределенно махнул рукой и пытался отделаться односложными замечаниями, явно будучи не в настроении рассказывать. Но я настаивал, и в конце концов он нехотя поведал: пройдя участок заданного маршрута и набрав в карманы в определенном порядке образцы пород, он, добравшись до вершины водораздела, сел, чтобы описать пройденный участок маршрута, пользуясь собранными образцами. Он разложил перед собой на камнях образцы в таком же порядке, в котором они были в карманах и приступил к делу. И вот, когда он неподвижно и бесшумно сидел на земле или, вернее, на россыпи гранитной дресвы, тихо продолжая делать записи в полевой книжке, вдруг услышал негромкий звук, похожий на цоканье камушка о камушек. Он сразу понял, что сзади бараны и притом недалеко. Он говорил, что осторожно взял лежавший под правой рукой карабин и медленно, соблюдая всю возможную осторожность, повернулся лицом к баранам, которые действительно, как он и предположил, были недалеко. Прицелившись в одного из них, выстрелил. В первый раз будто бы он успел выстрелить до того, как они все понеслись со скоростью ветра. Я ему не поверил, потому что если бы у него хватило выдержки сделать все так, как он рассказал, он обязательно убил бы барана. Должно быть, он не сумел повернуться так осторожно, чтобы не испугать баранов или, скорее всего, он и не пытался этого сделать, решив, что «я быстро повернусь и они не успеют за это время далеко ускакать». Должно быть, так он и проделал эту операцию, открыв беглый огонь.Поездка в Усть-Омчуг
Однажды в середине августа я решил сходить по делам в Усть-Омчуг. Я говорю «сходить», потому что почти половину дороги нужно было идти пешком, чтобы добраться до автомобильной дороги. Можно было бы доехать туда на лошади, но это нисколько не ускорило бы моего путешествия, и, кроме того, лошади нужны были в этот день для другой цели. Попутно я хотел осмотреть и новую дорогу, проложенную впервые нашей партией по совету П. Н. Спиридонова. Собственно говоря, никакой дороги и даже тропы здесь еще не было. Прошел здесь в два конца один раз только Шинкаренко, и, кроме того, по-видимому, этим путем пользовались работники оленеводческого совхоза на Бахапче, но ездили они по нему, вероятно, только зимой и редко, потому что тропы не осталось. О том, что они здесь проезжали, я сделал вывод еще годом раньше, увидев на перевале потерянное или почему-то брошенное ими тележное колесо — обод и спицы глубоко вросли в мох. Тропа здесь появилась позднее, когда этим путем стали пользоваться для перевозки грузов для Бахапчинского разведрайона вьючным транспортом. Лошади, проходя по тайге без дорог, всегда выбирают свой путь лучше, чем это делают люди, предпочитая пролегающий здесь собственный след или след, оставленный другими лошадьми. Поэтому там, где пройдут лошади несколько раз, всегда образуется тропа, становящаяся в относительно сухой, незаболоченной местности все более торной и удобной для хождения не только животных, но и человека. Вероятно, идя по едва заметному следу, лошади пользуются главным образом зрением, потому что чутье у них, как известно, развито слабо. Отправляясь в путь, я думал, что отсутствие тропы будет задерживать мое продвижение, так как нужно будет тратить время на то, чтобы искать потерянный конский след. Но это оказалось не так. Я не искал следов, а шел просто вверх по долине к перевалу, потому что местность была исключительно удобна для передвижения и идти было очень хорошо и без тропы. Комары уже исчезли около недели назад, и было лучшее время колымского лета или ранней осени. Погода стояла отличная. Сияло солнце на голубом лазурном небе, где бродили лишь редкие мелкие белые облачка. Ветра не было. Тайга была еще изумрудно-зеленая, слабо испорченная желтизной ранней осени. Вышел я в путь со своей базы ранним утром и, пройдя около 4 километров, зашел на устье Сталинградца в палатку М. А. Беляева, остановившегося здесь несколько дней назад. Он производил тогда триангуляцию (один из методов создания сети опорных геодезических пунктов. — Ред.) в нашем районе. У него я сидел недолго. Мы пили чай, и разговор наш вращался вокруг военных событий. В частности, помню, говорили мы почему-то о противотанковых ружьях, которые тогда были новым оружием. Помню, в газетах тогда уже меньше говорилось о применении бутылок с горючей смесью, а больше о противотанковых ружьях. Потом я пошел дальше и не останавливаясь шагал до перевала, где присел покурить. Прошел я и место прошлогоднего ночлега в маршруте ниже по ручью, где остался черный круг от костра и кучки высохших веток — остатки постелей вокруг костра. Вспомнил, как нас тогда заедали кровожадные кровососы. Особенно наседали они на нас, когда мы, только что сварив суп, пытались есть его, сидя у костра. Делать это было очень трудно, потому что вокруг наших голов вились плотные рои комаров, которые стремительно бросались к лицам, едва кто-нибудь приподнимал накомарник. Они гудели, вызывая этим зуд кожи, даже в густом дыму, в котором люди задыхались и кашляли. Вот мы и исхитрялись, быстро приподнимая край накомарника, стараясь донести ложку супа до своего рта так, чтобы возможно меньше комаров успело утонуть в супе. Комары очень действовали на нервы, и не удивительно, что рабочий Иванов, которого за маленький рост и моложавое мальчишеское лицо многие называли «сынком», ругал комаров последними словами. «У, падло!» — бормотал вполголоса он. — «Видал падло, сам падло, но такого…». Из-за нелепой бессмыслицы этих слов они мне и запомнились навсегда. Старую, очень слабо проторенную тропу я видел только на перевале, в очень низкой седловине, где лежало уже упомянутое старое, вросшее в мох тележное колесо. Здесь же, как я помню, присаживался покурить и годом раньше, спустившись с высокой эффузивной сопки, изрытой воронками молний. В долине ручья Силинцовой, который П. Н. Спиридонов назвал так по фамилии понравившейся ему тунгуски, я заметил старую шурфовочную линию, где на старых выкладках «проходок» буйно росла брусника. На ягодах уже пунцовели стороны, обращенные к солнцу, но они были еще совсем зеленые. Помню, я решил, что это связано с тем, что шурфы в то время проходили на пожоги и в выкладки «проходок» попадало вместе с породой много золы от сожженных в шурфах дров, а брусника всегда очень охотно растет на старых пожарищах, питаясь там калийными солями золы. Потом я услышал шум проходящей впереди по дороге автомашины и решил, что я уже почти у цели, не больше чем в двух километрах от нее. Вскоре я действительно вышел и на дорогу, в долину р. Анманнанджи. Но дорога оказалась пустынной, и я, посидев возле нее, решил, что дальше ожидать попутную машину не стоит, и не торопясь двинулся в сторону Усть-Омчуга с тем, чтобы сесть на попутку, если она будет, или дойти пешком. Вскоре после того, как я пошел, мне стало казаться, что иду я напрасно, потому что до Усть-Омчуга далеко — почти 30 км, и что скоро обязательно будет попутная машина, и скорее всего, не одна. И еще вспоминалось, как три года назад мы вместе с Авраменко сидели у его знакомого гостеприимного дорожного прораба всего лишь на 7 км дальше от Усть-Омчуга, причем тогда дорога была закрыта, так как не работал паром на Детрине, а мы все же ожидали машину целый день, хотя и тщетно, а теперь дорога работает. Но я все же продолжал идти, так как не хотел терять времени — нужно было торопиться, чтобы скорее вернуться и продолжать выполнение полевого задания. Кроме того я помнил и о том, что попутная машина может и не взять меня, особенно если это будет бензовоз с цистерной вместо кузова или если в ней просто не окажется места. Гнало меня вперед и то, что сидеть на месте, ожидая машину, было бы слишком скучно, и мне казалось, что я просто не усижу без книги и без всякого занятия. Как и бывает довольно часто, все произошло по наиболее скверному сценарию. Машина меня все-таки догнала, но только тогда, когда я за несколько часов отшагал 23 или 25 километров, и мне оставалось до поселка не больше 6–7 километров. Это было очень похоже на то, как 3 года назад мы с Авраменко, в уже упомянутом походе, прождав целый день машину и не дождавшись ее, на другой день, уже не слушая уговоров гостеприимных хозяев, двинули пораньше утром пешком и, не дойдя до Усть-Омчуга тоже не более 10 километров, были подобраны попутной машиной, именно той, которую мы ожидали накануне. Помню, что, пройдя уже около 25 км пешком и выйдя на автодорогу, я чувствовал себя еще совершенно свежим, нисколько не уставшим, и что первые километры по полотну автомобильной дороги казались мне очень легкими по сравнению с ходьбой по бездорожной тайге. Но через несколько часов ходьбы по шоссе к концу пройденного пути я почувствовал, наконец, в ногах усталость. Стали все сильнее болеть подошвы ног, отбитые о твердое полотно хорошо укатанной сухой дороги, хотя и не имевшей твердого покрытия. Конечно, большую роль играло то, что новая усталость складывалась со старой, раньше не замечаемой, и что прошел я уже около 50 км. В Усть-Омчуге я никого из своих не застал, так как Воля оказался в командировке, кажется, в верховьях Детрина, в полевой партии Кальченко, а Лиля, конечно, еще не вернулась из Днепропетровска, куда она меньше месяца назад поехала за своими старшими детьми, которых нужно было тогда забрать. Поэтому мне пришлось воспользоваться гостеприимством старых знакомых — Софьи Давидовны и Семена Моисеевича Блиндеров и переночевать у них. Обратную дорогу я совсем не помню, потому что прошла она так же, как и путь туда, без приключений и показалась мне намного короче, потому что по дороге я теперь ехал на быстром «студебеккере», а не шагал пешком. Дорогу по таежным ручьям я уже знал и потому никакого внимания ей не уделял. Запомнилось мне еще, что большая часть долины ручья Аполлон, исключая только ее истоки, совершенно лишена древесной растительности. При этом в долине нет никаких признаков того, что лес здесь когда-нибудь погиб от пожара. Просто долина чистая, безлесая и вообще почти совсем лишенная кустарниковой растительности, как и травы, и мха. Вероятно, что причина этого заключается в какой-то особенности почвы, может быть, в ее кислотности. Тогда на колымских автомобильных дорогах только что появились американские грузовики-«студебеккеры», и можно было услышать на дорогах много похвал в их адрес. Говорили о них, что они очень быстроходны и мощны по сравнению с газогенераторными ЗИС-5, перестроенными в Магадане в так называемые дромадеры — трехосные машины с одной ведущей осью и большим удлиненным кузовом. Газгены, или «мозгены», как их называли шоферы, были тихоходными и маломощными, еле способными ползти на подъем по дороге. «Сгудики», или «студекакеры», нравились шоферам гораздо больше.Демидовская перевалка
Демидова я знал давно. Он был из той группы красноармейцев, демобилизованных в 1938 году и приехавших тогда в Дальстрой, с которой приехали А. Н. Парфенюк и В. И. Орловский. В отличие от них он не учился на курсах и был весной 1939 года прислан вместе с ними на Бутугычаг для зачисления тоже в Таборную геолого-поисковую партию, начальником которой был я, но в качестве рабочего. Но он не захотел поступать в полевую партию рабочим и выполнял вместо этого какие-то другие обязанности на том же руднике и еще где-то, а в конце 1943 года стал заведовать перевалочной базой Бахапчинского разведрайона на бывшей базе оленеводческого совхоза против устья Чахали, где летом 1943 года базировалась моя Тэнгкелийская партия. База стояла на правом берегу широкого наледного участка Бахапчи. В десяти с лишним километрах выше базы река была обезглавлена Арманью, захватившей у Бахапчи большую площадь ее водосбора. Поэтому от самого Солнечного озера до устья левого ее притока Букэсчана долина реки слабо заболочена, почти сухая и почти совсем лишена стока. Лишь ниже устья Букэсчана в долине появляются глубокие тихие протоки, имеющие значительные расширения и узкие перехваты, в которых протоки промерзают и закупориваются. Вода после этого изливается на поверхность льда, замерзает, вновь изливается и вновь замерзает. За зиму образуется многослойный ледяной пирог с прослоечками снега, вернее, белого непрозрачного льда, который образовался в результате замерзания пропитанного водой снега. Толщина этой наледи здесь обычно невелика, редко превосходит 2–2,5 метра. Летом наледь растаивает, и ее место занимают густые кустики голубики. В этих широких и глубоких тихих прозрачных протоках раньше водилось много хариуса и какой-то рыбы, подобной омулю. Геолог Борис Ананьевич Иванов, родившийся и выросший в Иркутске, уверял меня, что это действительно омуль, но я не вполне доверял ему, потому что слышал, будто омуль водится только в Байкале. Другие называли эту рыбу каталкой. Но в действительности омуль водится не только в Байкале, как известно из литературы, и очень возможно, что Б. А. Иванов был прав. Но рыбу здесь варварски истребили еще в первые годы работы прииска «Бодрый», когда ее стали глушить взрывчаткой. На дне каждой из этих глубоких заводей оставалось много убитой, но не всплывающей из-за того, что у нее были разбиты плавательные пузыри, рыбы и буквально устилающей участки дна. Во время осеннего перелета здесь собиралось много водоплавающей дичи, привлеченной обилием проток и озер, богатых кормом. Здесь была когда-то хорошая охота. Плохо было только то, что от нашей базы сюда было 17 километров и нужно было затратить около 4 часов для преодоления этих километров. Впрочем, иногда в ненастную погоду удавалось выкроить денек, чтобы сбегать сюда с ружьем.В пешем маршруте
Еще в предыдущем году, производя стотысячную геологическую съемку в бассейне верхнего течения Бахапчи, я обратил внимание на то, что нанесенный П. Н. Спиридоновым гранитный массив Геркулес в действительности имеет неоднородный состав и как бы составлен двумя частями — северо-восточной и юго-западной, сложенными, соответственно, порфировидным биотитовым гранитом и крупнозернистым биотитово-роговообманковым грано-диоритом. В пределах заснятой тогда площади эти две части массива не соприкасались. На линии водораздела расстояние между ними было больше 200 метров и с удалением от этой линии еще увеличивалось. Предполагалось, что обе части массива имеют общий контакт на северо-западе, то есть в бассейне притоков Детрина, но это требовало проверки. Решение этого вопроса было включено в задание нашей партии. И вот теперь, в последние дни августа, нужно было проделать маршрут, чтобы исследовать истоки и, вернее, течение речки Тунгуски, впадающей в приток Детрина — речку Амын. Перевалить из верховьев Тэнгкели в истоки Тунгуски было нельзя, так как там очень крутые подъемы и спуски по склонам роговиковых сопок. Поэтому маршрут туда пришлось проложить пеший. В августе было уже холодно, хотя и стояли солнечные дни. По ночам были уже крепкие заморозки. Это заставляло взять с собой палатку, печку и топор. Спальных мешков у нас не было. Поэтому вместо постелей взяли верхнюю одежду. Помню, что вместо телогрейки я взял американскую куртку из костюма лесорубов. Такой костюм состоял из длиннополого сюртука или куртки и полукомбинезона, то есть очень длинных, до груди, брюк на помочах. И то и другое было сшито из зеленого шинельного сукна и покрыто сверху брезентом защитного цвета. Одежда эта имела нелепый вид, была жесткая, как фанера, и производила впечатление сшитой не на людей. Вероятнее всего, эта одежда была заготовлена каким-то предпринимателем, долгие годы лежала на каких-то складах, так как не находила спроса и, наконец, была сбагрена какому-то нашему представителю-лопуху. До верховьев Тэнгкели наш скарб был довезен на лошадях, но оттуда мы его потащили на своих горбах, а лошадей вернули. Первая ночь, проведенная в истоках Тунгуски, была очень холодная, морозная. В палатке было холодно, даже когда в печке пылали дрова. Я тогда впервые видел, что пылающая печка постепенно заполняется жаркими красными углями от сгоревших поленьев, но в палатке становится заметно холоднее, потому что жар, наполняющий печку, дает гораздо меньше тепла, чем пламя горящих дров. Нам удалось установить, что сложенные различными породами, гранитами и гранодиоритами интрузивные тела почти полностью обособлены одно от другого и соприкасаются между собой только в одной точке — на одном из отрогов левого водораздела Тунгуски. По дороге дальше в долине Тунгуски было множество спелой крупной голубики, которую мы усиленно поедали. На устье Тунгуски мы вторично ночевали, ловили там маленьким бреднем, который у нас был для хариусов и омулей. Мне тогда бросилось в глаза, что там была сухая нежирная рыба, почти совсем не имеющая сальников с запасом жира, тогда как на Бахапче та же рыба — хариус и омуль — была настолько жирная, что рыболовы, ловившие там рыбу в 1943 году для Армянской обогатительной фабрики, растапливали внутренний жир, сливали его в бутылки и жарили потом на нем ту же рыбу. На вкусе это никак не отражалось, так как запах и рыбы, и ее жира был одинаков.Опять в Усть-Омчуге
Ко времени нашего возвращения в Усть-Омчуг уже вовсю действовала открытая нами новая тропа, по которой часто ходили транспорты на Бахапчу. Это нам даже пригодилось, так как у нас оказались излишки ВМ (взрывчатых материалов. — Ред.), которые мы и сдали бахапчинцам прямо у нас на базе, а они повезли их от нас к себе в разведрайон. Возвращение наше в один из последних дней сентября было ничем не примечательно. Не было ни снега, ни дождя и никаких приключений. Мы неторопливо добрались до трассы, потом я предполагал отправить Авраменко в Усть-Омчуг за машиной для перевозки нашего скарба. Но на перевалочной базе, построенной у автодороги, мы узнали, что скоро должна подойти машина с грузом для Бахапчи. Пришлось подождать ее и на ней ехать в Усть-Омчуг. В Усть-Омчуге я поселился теперь в квартире Воли. Лиля со старшими детьми была уже в дороге из Днепропетровска, а младшие продолжали еще жить в магаданском круглосуточном детском доме. Но вскоре наступил день, когда в Нагаево должен был ошвартоваться теплоход, на котором прибывали Лиля с детьми. Воля накануне выехал в Магадан и привез их всех в Усть-Омчуг. Поселились все, включая меня, в ту квартиру, которую дали Воле весной в новом, только что построенном доме. Квартира была неудобная, состоящая из двух комнат по 12 м2 каждая, в доме коридорной системы. Обе комнаты, соединенные дверью, выходили своими окнами на улицу. Одна из них была угловая. Мы все смогли поместиться в ней только потому, что все дети Воли и Лили были еще маленькие и занимали мало места. Самой большой из них — Наде недавно еще исполнилось 9 лет, Инне было 7 с половиной, Нэле не было еще пяти, а Димке был 1 год и 3 месяца. В этой квартире все мы жили временно, так как для Воли еще с лета начали строить новый дом. Вернее, он был не новый, так как до этого стоял в Детринском разведрайоне, и там в нем жили люди. Но район был закрыт, и с базы его, находившейся в 5 км, в Усть-Омчуг было перевезено несколько построек, в том числе и этот дом, который теперь был уже заново сложен на новом месте. Дом состоял из двух больших комнат, приблизительно размерами 5×5 м, разделенных капитальной стеной. Каждая из этих комнат была разделена теперь перегородками и превращена в отдельную квартиру, к которой была пристроена еще кухня. К своей квартире брат пристроил большую кухню размерами 4×4 метра с расчетом, чтобы она могла служить и столовой для большой семьи. Теперь все это было уже построено, и дом был оштукатурен снаружи. Нам предстояло еще обить квартиру изнутри дранкой под штукатурку. Этим мы и занимались с братом по вечерам после работы в ноябре и в начале декабря 1944 года. Помогали нам обшивать стены дранкой и штукатурили их вслед за этим два плотника из стройцеха. Кроме этой работы нужно было еще и высушить свежую штукатурку из речного ила с очень небольшой примесью из цемента. Для штукатурки использовался тогда именно ил, потому что на Колыме почти совсем нет известняка, так же, как и глины. Для сушки штукатурки использовалась большая железная печь, сделанная из двухсотлитровой бочки из-под бензина или спирта. Ее приходилось постоянно передвигать к стенам и в углы, где штукатурка особенно плохо сохла, когда «прижали» декабрьские морозы с температурой за минус 50 градусов. Вторая квартира в нашем домике устраивалась для Игоря Борисовича Ларионова, семья которого состояла из жены, дочери и свояченицы. Поэтому он кухню сделал себе поменьше, чем брат. Эта возня с квартирой, главным образом из-за сушки штукатурки, которая была трудоемкой из-за того, что приходилось дежурить в ней по ночам, чтобы не оставлять жарко топящуюся печь без присмотра, протянулась до середины января. И только тогда мы, наконец, смогли перебраться в нее. Надя и Инна вскоре после приезда поступили в первый класс школы и начали свою трудовую жизнь. Вскоре после возвращения с полевых работ я имел беседу с академиком Сергеем Сергеевичем Смирновым, известным ученым и крупным специалистом по оловянным месторождениям, издавна курировавшим оловянные месторождения Северо-Востока. Эта встреча с академиком почему-то заменила в этом году обычную приемку полевых материалов комиссией с придирчивой проверкой записей в полевых книжках и дневниках, проверкой километража маршрутов, проделанных различными работниками, проверкой полевой геологической карты, зарисовок обнажений и прочего. Моя беседа с Сергеем Сергеевичем была непродолжительной, потому что он не особенно заинтересовался непромышленным оловянным рудопроявлением, исследованием которого занималась моя партия. Новая квартира брата оказалась особенно удобной для меня тем, что домик этот стоял совсем близко к построенному годом раньше геолого-поисковому отделу. Расстояние здесь было меньше сотни шагов, и это позволяло тратить совсем мало времени на ходьбу на работу из дома и наоборот. При необходимости можно было сбегать и домой за чем-нибудь, забытым там. Помню, как один раз, зайдя домой, увидел сидящих на диванчике и дружно ревущих Нэльку и Димку. Лиля ушла в магазин, а им одним стало почему-то страшно ее дожидаться. Дом стоял недалеко от берега Омчуга на низкой надпойменной террасе, на которой не росла лиственница, а только тополь, осина и ива. Еще недавно, когда началась война, здесь так же, как и на месте, где был построен геолого-поисковый отдел, был молодой лесок, в котором росла красная смородина и встречалась изредка даже ароматная княженика. На другой площади были оставлены старые осины. Одна из них, толстая и большая, росла всего в четырех шагах от кухонной двери. Она оказалась дуплистой, с выгнившей серединой и однажды была повалена шквалом ветра перед надвигавшейся грозой. При этом она чуть не задавила Лилю, которая стояла к ней спиной и, занятая своим делом, не видела, что дерево падает прямо на нее. К счастью, это увидел Воля, шедший в этот момент домой и случайно оказавшийся уже близко. Он дико закричал, и это спасло Лилю, которая успела отскочить в сторону. В этой квартире, довольно тесной и не очень светлой, освещаемой днем маленькими подслеповатыми окошками, но чистой и теплой, я прожил с семьей брата до первого нашего отпуска и отъезда на «материк».Сергей Сергеевич Смирнов (1895–1947)
 Геолог. Крупнейший специалист по изучению рудных месторождений и разработке вопросов металлогении. Постоянный консультант Дальстроя по геолого-разведочным работам. Руководитель и инициатор проведения первых геологических конференций Дальстроя (1936, 1944 г). Академик, кавалер трех орденов Ленина, лауреат Сталинской премии СССР.
Геолог. Крупнейший специалист по изучению рудных месторождений и разработке вопросов металлогении. Постоянный консультант Дальстроя по геолого-разведочным работам. Руководитель и инициатор проведения первых геологических конференций Дальстроя (1936, 1944 г). Академик, кавалер трех орденов Ленина, лауреат Сталинской премии СССР.
Японская субмарина
Когда Лиля приехала с детьми из Днепропетровска, она много рассказывала о том, как она с другими женщинами из Усть-Омчуга плыла на пароходе, потом жила во Владивостоке, дожидаясь возможности ехать дальше, о том, как она прибыла в Москву и, наконец, о том, каким она увидела наш родной город, лежавший в руинах, об обратной дороге… Больше всего меня интересовал, конечно, вопрос, каким она нашла Днепропетровск. Она рассказала, что в городе не так уж много разрушений, что жилые дома сравнительно мало пострадали, что в руинах лежат вокзал и привокзальный район, что на проспекте К. Маркса сплошь стоят коробки сожженных домов, магазинов и что вообще в городе много осталось коробок от сгоревших больших зданий. Например, университет и все институты, здание управления железной дороги и множество других выгорели дотла. Все это, впрочем, я увидел своими глазами всего через четыре года, за которые ничего в городе не изменилось, потому что Днепропетровск не был в ряду городов-героев, как Одесса, Севастополь, Ленинград, Киев, Сталинград, и первые годы после войны еще не отстраивался, а скромно ожидал своей очереди. Страшные минуты и часы пришлось пережить Лиле вместе с другими пассажирами теплохода «Феликс Дзержинский», когда она возвращалась в Магадан. В первую ночь, когда они еще шли в Японском море, их разбудили, выдали всем спасательные пояса и предупредили, что нужно не спать, потому что за кораблем идет японская субмарина и не исключена возможность, что она будет торпедировать его. Поэтому и нужно было не спать, чтобы успеть выскочить из твиндека в случае чего и не пойти на дно вместе с кораблем. Но Лиля рассудила правильно, что если субмарина действительно пустит торпеду и теплоход будет тонуть, то бодрствующие будут иметь какое-то преимущество над спящими только в том случае, если их будет мало, а если все будут бодрствовать, то только больше будет паники. Поэтому нужно спать, а не впадать в панику заранее. Так она и делала и не мешала спать детям, не сея страх в их душах. Больше чем сутки конвоировала подводная лодка наш теплоход, непрерывно наблюдая за ним через перископ, непрестанно держа его пассажиров в страхе, доходящем до ужаса. Все же дальше этого дело не зашло. Натешившись над безоружными женщинами и детьми, насладившись их страхом, самураи прекратили преследование и отстали.Январской ночью
Еще осенью, в начале октября, вскоре после нашего приезда из районов полевых работ нас неожиданно облагодетельствовали. Всем начальникам партий выдали по отрезу шинельного американского темно-зеленого толстого сукна. Еще в начале войны у нас возникла мода шить из точно такого же сукна, которое добывали, распарывая «страхолюдные» робы, сшитые когда-то, должно быть, в XVIII веке для американских или канадских лесорубов, а может быть, и для марсиан и состоявшие из полукомбинезона, то есть брюк, удлиненных кверху почти до плеч и длиннополого сюртука, или «лапсердака». Из брюк шили френч или китель, а из куртки — бриджи или галифе. Почти такие же, полувоенного образца, были в моде в Дальстрое еще задолго до войны. Правда, вместо кителя или френча шили гимнастерки с отложным воротничком, военного образца, подобные армейским форменным. Естественно, что многие из нас сшили из полученного американского подарка подобные костюмы полувоенного образца. Сшили и мне такое одеяние из кителя и бридж, которое было готово буквально накануне Нового года, и я сразу же начал его носить, так как все мы к этому времени сильно обносились. Всеволод Дмитриевич Володин с семьей в Усть-Омчуге. Вероятно, фото 1955 г.
Всеволод Дмитриевич Володин с семьей в Усть-Омчуге. Вероятно, фото 1955 г.
У меня были тогда карманные золотые часы, купленные в самом начале войны, когда в ювелирные магазины и вообще в торговую сеть было «выброшено» много золотых вещей. Эти часы я всегда носил с собой, так как был тогда молод, считал себя достаточно сильным и потому был смел настолько, что не боялся возможности ограбления на улице или еще где-нибудь. Я вырос и провел молодые годы в постоянном окружении карманников и других воров, часто ездил по железной дороге, на трамвае, часто бывал в толпе, на вокзалах, в кино и в других местах, где паслись на воле воры. Можно сказать, что бдительность я органически впитал с молоком матери. Но я не думал о возможности ночного покушения, на квартире. Поэтому я, не укрываясь от глаз воров, всегда вынимал из кармана часы, когда нужно было на них посмотреть. Много раз это бывало в присутствии обоих плотников-штукатуров, работавших вместе с нами, когда я и брат помогали им делать обшивку стен квартиры дранкой под штукатурку. Не подлежит никакому сомнению, что оба они или один из них поручили кому-то третьему совершить нападение на квартиру. И вот числа 4 или 5 января 1945 года я безмятежно спал сладким сном в квартире брата, на своем месте на топчане, замаскированном под диван, стоявшем в простенке или, вернее, у правой стены комнаты, а голова моя находилась в углу комнаты между стеной и столом, прислоненным к окну. Передо мной стоял стул, на спинку которого я повесил свои новехонькие штаны из американского шинельного сукна, а такой же китель с золотыми часами в кармане повесил на гвоздь, вбитый в стену, у которой спал. Помню, что часы я большей частью носил в кармане брюк у пояса, и плотники видели, как я именно оттуда вынимал их, а в этот вечер я, посмотрев на часы, спрятал их чисто случайно в карман кителя, а не брюк. Этим я и подвел вора, который, кажется, накануне под каким-то предлогом заходил, чтобы разведать обстановку и уверенно нанести свой снайперский удар. Кажется, часа через два после полуночи я проснулся от звука сильного удара в окно. Я увидел, что в пробитую в оконном проеме дыру быстро просунулась длинная палка с гвоздем на конце, которая расшвыривала в стороны все находящееся на столе. Вор, орудовавший палкой, ухватил гвоздем мои бриджи и вытянул их в оконный проем. Мои брюки исчезли, без них я не мог выскочить на улицу, чтобы погнаться за вором. Это вор, должно быть, учел, когда обдумывал предстоящее покушение. Учел и то, что, выскочив из последней комнаты, человек не сможет быстро пробежать по темному неосвещенному коридору, загроможденному к тому же множеством различных железных и деревянных вещей, между которыми оставался только узкий извилистый проход, потом найти на ощупь дверь и выскочить на улицу. Все это было им рассчитано правильно, и я, конечно, не скоро смог найти и надеть другие брюки, чтобы можно было выйти на улицу. Гнаться за вором было уже, конечно, очень поздно. Брат, проснувшийся тоже из-за шума, производимого не столько вором, сколько мною, предложил мне пойти в райотдел и попросить собаку. А искать украденное было необходимо, потому что в кармане бридж остался мой бумажник со всеми документами, хотя и без денег. Предложение брата было единственно дельное, что можно было придумать в нашем положении. Мы сейчас же пошли с ним в райотдел. Дежурный, которому я рассказал всю историю, сказал, чтобы я сейчас же написал заявление, причем чтобы непременно указал, что в бумажнике были деньги, рублей 600, потому что иначе собаку не дадут. Я так и сделал. И вот мы уже в сопровождении собаковода, собаки и, кажется, еще одного солдата подошли к окну. Собака моментально взяла след и повела. К сожалению, нам с братом не удалось наблюдать за интересным зрелищем охоты на вора, потому что собаковод сразу же, как собака пошла по следу, сказал, что мы должны уйти, чтобы не мешать ему. Пришлось так и сделать — уйти домой и там дождаться собаковода с солдатом, которые на обратном пути зашли за мной, чтобы я сейчас же пошел с ними в райотдел и там, выполнив какие-то формальности, получил свой бумажник, который нашла собака. Она повела по следу за соседний с нашим дом шоферов, куда забежал вор, чтобы обшарить карманы своей добычи. Здесь, в снегу, в стороне от человеческих следов собака подняла бумажник, который вор только осмотрел и бросил, не тронув документов и не найдя денег. Потом собака вывела опять на Горняцкую улицу, повела дальше по ней прямо к котельной электростанции и дальше внутрь котельной, где у стены лежал, притворяясь спящим, какой-то человек. Собака бросилась прямо на него, не обращая никакого внимания на трех других, находившихся там же людей. Этого человека, который, конечно, и был вором, солдаты взяли с собой и вели под эскортом собаки, неотступно следовавшей за ним. Брюки мои, несомненно, сгорели ярким пламенем в топке котла, когда вор, должно быть, наблюдавший за подступами к котельной со стороны центра поселка, увидел еще издали приближавшихся солдат с собакой, быстро вбежал в котельную и, бросив мои штаны в топку, улегся под стенкой. Это, несомненно, было так, потому что в противном случае собака нашла бы их. Должно быть, он и в котельную побежал именно затем, чтобы было где уничтожить их, если придут с собакой. По этому поводу сильно веселился А. С. Красильников, находя что-то смешное в том, что у человекаукрали его единственные новые брюки. Смешно ему было почему-то именно то, что я лишился их ночью.
Американские подарки
В конце войны, но еще при жизни президента Рузвельта в Соединенных Штатах Америки среди населения производили сбор подержанной поношенной одежды для граждан нашей страны. Из этих вещей довольно много было завезено и на Колыму. Распределялись эти вещи, среди которых были предметы, в различной степени изношенные, но большей частью мало или сравнительно мало поношенные, бесплатно. Это разжигало алчность особенно среди жен всевозможных начальников. Среди них возникало даже своего рода соревнование. Пользуясь своим привилегированным положением, они проникали на склады, рылись в кучах ношеного американского тряпья, стараясь отыскать что-нибудь подороже, получше, покрасивее, поновее. Было стыдно за этих отнюдь не бедных и ни в чем не нуждающихся людей, которые проявляли такую падкость на дармовщину. Наше бывшее районное геолого-разведочное управление, которое после слияния с Тенькинским горнопромышленным управлением не претерпело никакого сокращения или преобразования, а просто стало именоваться службой, а года через два или три — отделом, было «пасынком» в горном управлении, и поэтому оно было последним и при дележе американских подарков. В частности, нам, начальникам партий, вообще ничего не дарили, учитывая то, что мы уже получили по отрезу шинельного сукна. Но я совсем не чувствовал себя обиженным в связи с этим, так же как не обиделся и годом раньше, когда некоторым из нас выдали (за деньги) какие-то старомодные длинные черные американские пальто из какого-то казавшегося особенно «добротным» драпа или кастора (от искаженного имени — американского актера, танцора, хореографа и певца, Фреда Астера (1899–1987), фильмы сучастием которого с успехом шли тогда в СССР. — Ред.), а мне такой вещи не досталось. Но я и тогда не унизился до того, чтобы ходить к начальнику и просить о чем-то. Только Воля получил еще довольно новый серый суконный пиджак с круглыми шарообразными пуговицами, обшитыми кожей, и дочки его тоже получили ситцевые платья.Американское снабжение
Вскоре после начала войны на Колыму стало поступать продовольствие из Америки, а потом мы и полностью перешли на американское снабжение, которое поступало в Магадан бесперебойно и в достаточном количестве, вполне обеспечивающем потребности. Поэтому никогда у нас не было никаких перебоев в выдаче нам продуктов по карточкам. Качество продуктов почти никогда не вызывало никаких нареканий. Лишь раза два всего в поле нам попадалось прогорклое и частично даже покрывшееся плесенью расфасованное по 1 английскому фунту сливочное масло. Но мы ели и его, обрезая лишь наружные части брусков, в которых была плесень. Все же другие продукты всегда были свежие и вполне доброкачественные. Мука была только белая, пшеничная в небольших мешках по 100 английских фунтов (43,4 кг). Мясные продукты были представлены всегда консервами: тушеной свининой или, как они назывались в составленных на русском языке этикетках: свиной тушенкой и колбасой, напоминающей, пожалуй, чайную, тоже в банках. Другие мясные продукты, в частности бекон и сосиски, были редки и до нас никогда не доходили. То же можно сказать и об индюшатине. Некоторые продукты были даже лучше, чем наши советские. Например, изюм или кишмиш были не грязными с песком и пылью, высушенными где-то на солнце и сваленными в большие мешки, а всегда мытыми, чистыми, высушенными, вероятно, в духовых шкафах и расфасованными в небольшие плоские ящички, кажется, фунтов по десять. Очень хорош был и сушеный лук, расфасованный фунтов по 5 в больших жестяных банках с откачанным воздухом. Он был очень сухой и хрустел на зубах, когда его пробовали из только что открытой банки, но быстро увлажнялся на воздухе и становился мягким, обнаруживая свою гигроскопичность. Почему-то очень мало было овощей: моркови, свеклы, капусты, запаянных в жестяных банках. Совсем не было картофеля. О сахаре почему-то говорили, что он не столь сладок, как наш советский… Чай в жестяных банках был довольно высокого качества. Промтовары почему-то завозились в весьма ограниченном ассортименте и количестве. Кроме уже упоминавшихся черных длиннополых пальто, пролежавших на каких-то складах несколько десятилетий, брезентово-суконной робы лесорубов, шинельного сукна завозили еще костюмы из искусственного меха, крытые плотной ветрозащитной хлопчатобумажной тканью, цвета хаки, состоявшие из коротких курточек на застежке-молнии с резинкой-поясом, большим воротником, превращавшимся при помощи застежки-молнии в капюшон, и с трикотажными шерстяными манжетами, таких же брюк из искусственного меха, крытого той же тканью, и таких же жилеток, тоже на молниях, но ничем не крытых. Несмотря на солидный «меховой» вид этих костюмов, они были совсем не теплые. Я однажды еле досидел до конца своего дежурства, продолжавшегося 15 часов, то есть с 6 часов вечера до 9 часов утра, причем не где-нибудь на морозе на улице, а в довольно холодном, плохо отапливаемом помещении, а на мне был весь этот костюм в полном сборе. У меня с тех пор осталось убеждение, что это мишура, подделка, рассчитанная на простаков. Нужной вещью, завозимой в очень малом количестве, были робы — спецодежда, состоявшая из курток и брюк со множеством карманов, которых насчитывалось 18 штук в каждом костюме. Они были сшиты из не особенно добротной ткани, напоминающей нетолстый брезент и выкрашенной в темно-синий цвет. (Речь идет о джинсовой ткани, которая, в частности, поставлялась и на швейные фабрики Дальстроя, из нее шили спецодежду и верхнюю часть специальных валенок. — Ред.) Сшиты они были почему-то белыми или красными нитками, но очень добросовестно, в три шва, идущих параллельно. Карманы были накладные и внутренние в брюках, сшиты из мягкой, белой, но очень прочной ткани. В них свободно можно было носить камни, и они от этого совсем не портились, а оставались целыми, даже когда уже изнашивались до дыр и брюки, и куртка. Сделана эта спецодежда была исключительно хорошо, и с ней ни в какое сравнение не шла наша брезентовая, из грубого, стоящего коробом материала с тремя накладными карманами — двумя на куртке и одним на брюках. Прямому своему назначению эти карманы служить не могли, и для чего они делались, было непонятно. Невольное сравнение нашей и американской спецодежды вызывало чувство глубокой досады — недоумения и возмущения. В самом деле: почему в нашей стране издавна и неизменно шьют такую отвратительную спецодежду — одежду для рабочего, в которой он проводит почти четвертую часть своей жизни, одежду неудобную, скверную, которую даже сравнить не с чем, тогда как американские капиталисты-собаки выпускают не для таких же рабочих, как у нас, а для эксплуатируемых и всячески угнетаемых и обездоленных, такую превосходную рабочую одежду, которую не зря мы очень полюбили. К сожалению, этих вещей завозили очень мало. Я за все время получил (за деньги, конечно) только один раз куртку и брюки. Остается назвать еще кожаные солдатские ботинки на двойной кожаной подошве, резиновые сапоги и, наконец, резиновые галоши огромных размеров. Завозилась еще подошвенная кожа, довольно плохая, хлопчатобумажная ткань, ходившая у нас под названием «хаки» из-за ее цвета… Были еще инструменты: пилы, топоры, лопаты. Из них заслуживали внимания превосходные лопаты, напоминающие известные в горном деле так называемые гамбургские, подборочные и в то же время пригодные для земляных работ, как штыковые, скажем, для рытья канав и выкапывания грядок. Хорошими были и пилы для распиливания дров одним человеком. Топоры были хуже русских.1945
Весна победы. Капитан Бурдин
Наконец прошла последняя военная зима и наступила желанная весна Победы, весна великой Победы русского народа над кровавыми немецкими собаками, над дурачьем, мнившим себя умниками и рвавшимся к мировому господству, к тому, чтобы сидеть наверху, сосать кровь из всех народов Земли и думать, что они — избранный Богом народ. Бандитский кровавый рейх истекал черной кровью, но еще был жив. Были живы и собачьи главари и похожий на борзого пса с усиками и косым черным клоком (Гитлер. — Ред.), свисающим подобно собачьему уху на один глаз, и толстый пузатый бульдог (Геринг. — Ред.), и маленький хромой обезьяномордый шпиц (Геббельс. — Ред.), и мрачномордый главарь гестаповских собак (Гейдрих, которого с 1942 г. заменил Мюллер. — Ред.), и все другие ГГГ… Они еще огрызались, и иногда это у них получалось. Крепко они огрызнулись в Арденнах, заставив американцев просить у Сталина срочной помощи. Но война велась уже далеко за нашими границами. Отгремели бои в Будапеште, на Балатоне, в Кюстрине. Конец ее уже был виден, приближался на глазах, и никакие силы уже не могли ни предотвратить, ни даже приостановить этого, хотя бесноватый фюрер все еще надеялся, что американцы и англичане вот-вот поссорятся с русскими, перестанут кормить их свиной тушенкой, и вот тогда Гитлер союзников стукнет лбами и победит. Наступила весна и на холодной Колыме, в суровом северном крае. Пригревало солнце, текло с крыш, и вырастали на краях их по вечерам длинные сосульки-сталактиты. Обзорная карта из отчета ГУС ДС МЦМ Верхнеколымского райГРУ «О работе Омчакской тематической структурно-геологической экспедиции на Наталкинском и Омчакском золоторудных месторождениях в 1954–1956 гг.», которую возглавлял Всеволод Володин.
Обзорная карта из отчета ГУС ДС МЦМ Верхнеколымского райГРУ «О работе Омчакской тематической структурно-геологической экспедиции на Наталкинском и Омчакском золоторудных месторождениях в 1954–1956 гг.», которую возглавлял Всеволод Володин.
Я готовился к новой, опять стотысячной съемке на площади, где на шесть лет раньше такую же геологическую съемку производила партия Николая Павловича Резника с прорабом Юрием Владимировичем Климовым. Теперь сочли, что их работа была недостаточно хороша, что она не соответствует стотысячному масштабу, и что ее следует сделать заново. Работа предстояла на правом берегу вверху Кулу и ниже — Колымы. Кулу омывает эту площадь с запада и с севера, а ниже ее впадения, вернее, слияния с Аян-Юряхом, Колыма ограничивает ее с северо-востока. Принимая во внимание такую исключительно удобную ситуацию, когда больше половины границы площади (проектировавшейся работы) составляли две сплавные реки, из которых одна являлась продолжением другой, партию решили оснастить кунгасом с тем, чтобы база ее была передвижной, перемещающейся вниз по течению реки, а для передвижения вдали от реки дать ей только пару лошадей. Работа проектировалась двумя отрядами: геолого-съемочным, пользующимся для передвижения внутри района лошадьми, и поисковым, сплавляющимся на кунгасе от ручья к ручью и проделывающим маршруты по долинам притоков Кулу и Колымы. Площадь, которую нужно было исследовать, была большая — 1300 км2. Поэтому в состав партии кроме основного исполнителя геологической съемки, которым является всегда начальник партии, вводился еще прораб, техник-геолог Лепихин. Прорабом-поисковиком намечался наш старый знакомый Петр Иванович Авраменко. Были подобраны и рабочие — кладовщик, уже известный нам Чебудаев, возчик, тоже знакомый — Бекашев, работавший у меня в прошлом году и вообще знакомый еще по одной встрече в ноябре 1939 года, когда мы с братом Волей, отправившись на охоту с рудника «Бутугычаг» на устье ручья Террасового, увидели склад перевалочной базы прииска «Дусканья», который охранялся как раз этим самым татарином Бекашевым. Были еще трое рабочих — Ручка, известный Петру Ивановичу по Санга-Талону, чуваш Лукьянов и украинец Карпенко. Промывальщиком попросился в нашу партию помощник шлифовальщика Малыгин. Кунгас, который нужен был нам для работы в течение всего лета, взялся построить П. И. Авраменко при помощи Малыгина, Лукьянова, Карпенко и Ручки. Они и приступили к этому в начале мая, отправившись с необходимыми лесоматериалами на Кулу и открыв там верфь недалеко от барака, в котором жил прораб, руководивший окончанием постройки моста через Кулу. Наша строительная бригада одновременно заложила постройку двух кунгасов, так как второй нужен был для партии Павла Николаевича Котылева, которая должна была работать на левом берегу Кулу.
 Так выглядела типичная ночевка геологов в 30–50-е гг. Справа П. И. Авраменко. Фото 1957 г.
Так выглядела типичная ночевка геологов в 30–50-е гг. Справа П. И. Авраменко. Фото 1957 г.
Авраменко мне потом рассказывал о постройке кунгаса. Начал он ее со сбора материала для сооружения шпангоутов — планок, которые на лодках подобны ребрам, так как имеют полукруглую форму, и к ним крепятся узкие доски. На кунгасах шпангоуты имеют иную форму, потому что днище у них плоское, а борта вертикальны. Поэтому шпангоуты здесь имеют прямоугольную форму. Изготавливаются они из пней лиственниц умеренной толщины с корневищами. Пни раскалываются так, чтобы разделить корневище, каждое из которых вместе с частью пня составляют одно целое. Из них и делают угольники, необходимые для соединения дна и бортов кунгаса. Они и являются основой судна, его скелетом. Затем сколачивают плоское днище судна, прикрепляют к ним угольники — шпангоуты, а к последним уже пришивают борта кунгаса. Кунгасы П. И. Авраменко построил большие. Каждый из них имел водоизмещение тонн по 8 или 10. Весна Победы ознаменовалась еще одним достопримечательным событием. В нашем поселке, как и в других поселках нынешней Магаданской области, появилась, наконец, милиция. Но она была создана отнюдь не для того, чтобы защищать права граждан, обеспечивать их безопасность, ловить воров, разбойников и других преступников. Самым главным выдающимся мероприятием, проведенным начальником отделения милиции капитаном Бурдиным, было поголовное разоружение начальников геологических партий. Люди в начале года шли в милицию, чтобы продлить имевшиеся у них разрешения на ружья, как и раньше, приходили для этого в райотдел НКВД, а он у всех подряд отнимал ружья, хотя это было не какое-нибудь там нарезное оружие в виде пистолетов или винчестеров, а обыкновенные гладкоствольные охотничьи ружья, причем даже зарегистрированные в НКВД, на которые у их владельцев были разрешения, ежегодно продлеваемые. В чем был смысл проведенного самодурского мероприятия, сам пресловутый капитан вряд ли сумел бы объяснить. Когда не было в поселке милиции, функции ее в части оформления разрешений на оружие выполнял райотдел НКВД, причем делал это не формально, а по существу. Там, например, не придавали большого значения, если человек являлся, чтобы продлить разрешение, не в первые дни января, а немного позднее. А Бурдин отнесся к делу формально. Проявил свою власть, а ружья присвоили милиционеры, потому что денег, которые после продажи отнятых ружей должны были нам отдать, мы не получили. Подрастал потихоньку Дима, мой маленький племянник. Ему исполнилось год и четыре месяца, когда он начал говорить: «Там дёва», что означало «там дрова», и в то же время он полюбил забивать гвозди молотком. Бывало, завладеет молотком и ходит, не выпуская его из рук, по всей квартире, разыскивая гвозди, которые ему иногда удавалось найти. Тогда он тут же и заколачивал найденный гвоздь в пол. Я наблюдал это, когда заболел и лежал дома.
Победа. Мир
Начался май. Уже кончались ожесточенные бои в Берлине, над Рейхстагом уже развернулось Знамя Победы. Я еще продолжал подготовку к полевым работам, а П. И. Авраменко с рабочими занимался постройкой кунгасов на своей верфи возле кулинского моста. В понедельник 8 мая был обычный рабочий день, только что началась трудовая неделя. У нас в геолого-поисковом отделе находился В. Т. Матвеенко, который был теперь старшим инженером геолого-поискового отдела ГРУДС в Магадане. Было еще утро, хотя, может быть, и не раннее, а, скорее, позднее. Раздался телефонный звонок. Кто-то взял трубку. Кажется, это была Зинаида Петровна Ларионова, наш техник отдела. Она сразу же бросила трубку на рычаг и закричала во весь голос, что Германия капитулировала, пришла Победа. Начинался Мир. Стихийно все выбежали на улицу и побежали к трибуне, стоявшей возле Доски почета в полутора десятках шагов от здания ТГПУ. Там почти тотчас же начался митинг, который, как позднее писали и говорили, возник стихийно, хотя на самом деле политотдел поторопился возглавить это дело, чтобы оно не пошло самотеком. Вот в эти минуты, когда мы бежали к трибуне, можно было наблюдать сцены подлинного ликования служащих Дальстроя. Все были радостные, веселые, напоминали пьяных, бежали по улице, поздравляли встречных и целовались с незнакомыми. После митинга многие стали «соображать» насчет выпить-закусить по такому законнейшему поводу «огненной воды», но спирта не было в торговой сети и на складах. Только на нашем складе для полевых партий была половина бочки спирта, и распоряжался этим спиртом теперь Н. П. Аникеев. К нему и обращались теперь многие алчущие, а он был добр к чужим и не давал этого зелья своим. Я, например, был глубоко обижен тем, что мне он отказал в выдаче его. Помню, в этот день многие вспоминали и произносили крылатые слова Ярослава Гашека из «Приключений бравого солдата Швейка» — «в шесть часов вечера после войны», уже использованные в одноименном фильме и потому уже затасканные. Тем не менее многие хотели отметить этот час, но было нечем.Часть 3 Первые мирные годы

Отъезд
Последние дни в Усть-Омчуге после работы я проводил с Волей на огороде за посадкой картошки, капустной и табачной рассады. Картошка у нас была яровизированная, хорошо пророщенная, заблаговременно рассаженная в бумажные стаканчики. У нее были длинные ростки с хорошо развитой корневой системой и даже с завязью, иногда крупной. Одной из наиболее ценных культур на нашем огороде была табачная рассада, потому что табак, особенно в эти годы, был очень дефицитным, и поэтому цены на него на «черном рынке» неимоверно взвинтились. Один грамм махорки или легкого табака постоянно котировался в 5 рублей, а иногда доходил до 10 и больше. Но вот я получил сообщение от Авраменко о том, что кунгас готов, можно было отправляться. Вот уже получены инструменты, снаряжение, инвентарь, спецодежда, продовольствие и материалы, погружено все на студебеккер, и мы готовы к отъезду. Утром я уезжал. Меня провожали через весь поселок к складу, находившемуся на его краю у дороги, где нас ожидала нагруженная машина, все три мои племянницы, на которых я развесил ружья, что я заблаговременно получил и хранил дома. Из всех племянниц только почти 10-летняя Надя была довольно рослая, а 8-летняя Инна и 5,5-летняя Нэля были тогда маленькие, и ружья, висевшие на их плечах, почти волочились по земле. Я их тогда сфотографировал, но снимок, к сожалению, затерялся. К концу дня мы доехали до кулинского моста и остановились в том же помещении, где жил Авраменко с рабочими, пользуясь гостеприимством дорожного прораба, производившего достройку моста.На Кулинской электростанции
Года на 3 раньше, то есть в первый и второй годы войны, когда разворачивались предприятия золотодобывающей промышленности нашего управления, была построена большая электростанция для обеспечения этих предприятий электроэнергией. Электростанция, работающая на дровах, от которой на предприятия тянулись высоковольтные линии электропередачи, была построена на высокой 40-метровой террасе правого берега Кулу вблизи моста. По проекту намечалось снабжать электростанцию дровами, заготавливаемыми в верхнем течении Кулу и доставляемыми на электростанцию молевым сплавом (сплав древесины без судовой тяги. — Ред.). Здесь они улавливались при помощи перегораживающего реку бона, состоящего из бревен, соединенных в узкие сплотки, укрепленные вдоль стального троса. Но ко времени нашего приезда туда уже давно никакого сплава по реке дров не было. Их возили тогда несколько десятков студебеккеров с полуприцепами, работавших на американском бензине. Не знаю, было ли это рентабельным делом — возить дрова, изнашивая импортные автомашины и расходуя импортный бензин, чтобы потом на этих дровах получать электроэнергию. Она обходилась, конечно, очень дорого. Мост черев р. Кулу. Фото 70-х гг. XX века.
Мост черев р. Кулу. Фото 70-х гг. XX века.
Здесь, на Кулинской электростанции, нашей партии следовало получить для работы двух лошадей. Этим вопросом я и занялся утром следующего после приезда дня. И вот когда я был в конторе электростанции, дожидаясь начальника, который должен был подписать распоряжение о передаче мне лошадей, произошел трагический случай. В конторе вдруг поднялся переполох. Прибежал один из сотрудников и сообщил, что только что погиб мальчик, сын одного из служащих на электростанции. Группа детей гуляла за окраиной поселка на краю обрыва террасы. Внизу борт террасы состоял из глинистых сланцев и был очень крут и обрывист. Верхняя часть террасы, состоящая из речных галечно-песчаных отложений, была довольно пологой и далеко не такой крутой, как нижняя. Здесь на некоторых участках можно было ходить и даже бегать. Дети и были как раз на одном из таких пологих участков, поросших мелкой лиственницей, и занимались своими играми. Мальчик лет шести погнался за другим, разбежавшись сверху вниз, не успел задержаться на краю обрыва и упал в протекавший внизу бурный поток. Вода после прошедших недавно дождей стояла на высоком уровне, течение было быстрым, и никого из взрослых людей, которые могли бы прийти на помощь, поблизости не оказалось, и ребенок утонул. Пока кто-то из детей прибежал и сообщил об этом, было, конечно, уже поздно спасать, но все же там принимались какие-то меры, но они не увенчались успехом. Даже труп мальчика не был найден. На Кулу мы прожили дня два, оформляя приемку лошадей. Раз или два ходили по мосту через реку в поселок, в клубе которого бывали киносеансы. Но скоро кончилось и это. Отправив лошадей через перевалы вдоль берега в сопровождении прораба Лепихина и возчика Бекашева, мы в полном составе отплыли вниз до устья речки Инякан, откуда нам предстояло начинать свои полевые работы. Дальше наш геолого-съемочный отряд в составе меня, прораба Лепихина, рабочих Карпенко или Лукьянова, которые поочередно, сменяя один другого, работали в нашем отряде и стерегли кунгас со всем нашим скарбом на берегу, а также четвертого члена нашего отряда, постоянно находившегося с нами возчика Бекашева с двумя лошадьми, двигался по берегу, переваливая через водоразделы из одного притока Кулу в другой. Поисковый отряд в составе прораба П. И. Авраменко, промывальщика Малыгина, рабочего Ручки вместе с кладовщиком Чабудаевым и Карпенко или Лукьяновым сплавлялся от устья одного из притоков Кулу к устью другого на кунгасе и производил опробование речных отложений, двигаясь по долинам притоков. В самом начале работы нам необходимо было преодолеть самый трудный перевал из долины речки Инякан в долину ручья Затон, смежного с названной речкой. Подъем на перевал был пологий, и мы преодолели его шутя, но спуск был высок и очень крут. К тому же это был северный склон, на котором под сфагновым мхом был мерзлый грунт со льдом и лед, не тающий под мхом все лето. Это был очень трудный спуск, но другого пути не было. Нельзя было и обойти перевалы, пройдя по берегу Кулу, потому что там были непроходимые прижимы. Когда я приехал на Кулу, Авраменко рассказывал, что дня за два до нашего приезда проезжала к месту работ начальница партии Татьяна Афиногеновна Боровских. Останавливалась она на часок, и он угощал ее жареной рыбой — хариусами, пойманными в Кулу. Она спросила: «А чем же вы ловите рыбу?». Он, подумав, ответил: «Да вот этим, как его, — лицом». «Каким лицом?», — спросила она в недоумении. Оказалось, что он «для смеха» притворился, что хотел заменить неприличное слово «морда» другим, более литературным. А рыбу ловили действительно так называемой мордой, то есть снастью, подобной обыкновенному вентерю, только сделанной из лозы или из ивовых прутьев. Эти сооружения, подобные корзинкам квадратного сечения, имели коническое окончание и входной, тоже конический ход и два полутора-двухметровых крыла, направляющие рыбу к коническому входу. Ставятся они на отмелой части речного берега входным отверстием книзу в начале лета, когда рыба идет к истокам реки, и наоборот — входом кверху, когда рыба ближе к осени спускается по течению. Поднимаясь в начале лета против течения и спускаясь осенью, рыба иногда заходит внутрь морды, причем почему-то найти выход она не всегда умеет и попадает на сковороду. Прораб-строитель, возглавлявший работы на мосту, был совсем молодой парень, лет двадцати с небольшим. Помню, в жаркие дни он любил спать на мосту, где-то на балках под проезжим полотном. Он говорил, что там нежарко, продувает ветерок и нет кровососов-комаров. В эти дни я прочел в газетах о награждении трудящихся, работавших во время войны в тылу, новой медалью — «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Затон
Восемь дней заняла у нас работа в бассейне Инякана. Погода стояла хорошая, и мы, боясь упустить хорошие дни, не делали выходных, напряженно работая. Потом, выбрав по карте наиболее удобный перевал в ручей Затон, отправились «на штурм» его. Наверх лошади с грузом поднялись легко по пологим отрогам, но наверху их пришлось освободить от вьюков, спустить последние вниз по заполненным снегом промоинам и на плечах, а лошадей пришлось вести вниз по крутому склону в поводу. Одну из них вел я, и справиться с этой задачей оказалось нелегко. А на другой день пошел дождь, и можно было отдыхать после более чем недельной работы и вчерашнего тяжелого перехода в палатке на Затоне. Вечером этого дня я убил своего первого медведя. Это было довольно неожиданно для меня, потому что за 7 лет, проведенных до этого на Колыме, я привык к тому, что встречи с медведями в тайге чрезвычайно редки… Закончили охоту мы поздно. Заметно стемнело, наступила белая ночь, когда мы притащили к палатке шкуру и мясо убитого зверя. Поставив на железную печку кастрюлю с водой, в которую была положена медвежья печенка, мы легли спать, а часа через два я проснулся от удушливого дыма. Дышать кое-как можно было только у самой земли. Поэтому ползком, прижимаясь к земле, я выбрался из палатки. За мной последовали и все другие, тоже проснувшиеся от удушья. Оказывается, на печку сбежало немного жирного навара от печенки и сало горело, наполняя палатку смрадом. Убитого медведя пришлось разделать, завьючить на лошадей и почти все мясо, за исключением оставленного себе на первые дни, отвезти к берегу Кулу на кунгас. Но на устье Затона кунгаса мы с возчиком уже не застали. Стояли здесь палатки и две лодки отряда Михаила Александровича Беляева, который производил нивелировку берегов Кулу и Колымы. Пришлось воспользоваться их лодкой, на которой хватило места и мне. С ними я и отправился вниз по Кулу. Лошадей и Бекашева я без задержки отправил обратно к Лепихину в верховья Затона. Уровень воды, когда мы плыли вниз, был повышенный. Я хорошо помню, как лодку, на которой плыл и я, из-за того, что она буксировала каркас палатки и была плохо управляема, затащило течением на затопленный остров в кусты тальника, через которые шла вода. Мы с трудом выбирались из этих кустов. Потом мы увидели кунгас, стоявший в протоке за маленьким островком, отделяющим от реки узенький рукавчик, и две маленькие палатки на берегу. Это были наши. П. И. Авраменко и Малыгин с Ручкой были в маршруте, а на берегу были только Чабудаев и Карпенко. Конечно, я рассказывал им о медвежьей охоте во всех подробностях под свежим впечатлением. Чабудаев принялся варить медвежатину, а всю остальную сложил в бочонок и посолил.Беглец. Робинзон
След простыл
Вечером пришли промывальщик с рабочим. Долго я и им с увлечением рассказывал о медведе, не упуская малейших подробностей. Возбужденный веселый разговор продолжался и после того, как все улеглись в маленькой тесной палатке. Я рассказывал о том, что совсем не собирался убивать медведя, что из палатки я вышел вместе с другими, просто для того, чтобы посмотреть на медведя, когда Бекашев, выглянув, увидел его, спускающегося с сопки. Это была единственная цель, потому что мне за годы, проведенные на Колыме, достаточно внушили, что для покушения на медведя нужно более надежное ружье, чем дробовая тульская двустволка. А с Лепихиным пошел я в указанном Бекашевым направлении, думая, что медведь нам скорее всего не встретится, а я между тем не покажу своей трусости перед рабочими. Когда же мы оказались с ним носом к носу на расстоянии 20 или 15 шагов, мне уже ничего не оставалось делать, как стрелять и убить. Река Кулу. Слияние рр. Кулу и Аян-Юрях образует р. Колыму. Фото 2014 г.
Река Кулу. Слияние рр. Кулу и Аян-Юрях образует р. Колыму. Фото 2014 г.
В общем, я вел себя почти точно так же, как Тиунов, который о своем подвиге рассказывал года три назад. В маршруте он с промывальщиком и рабочим встретил медведя тоже носом к носу. Вооружен был только он, но заявил спутникам, что стрелять не будет, что медведь ему, дескать, ничего плохого не сделал и что пускай тот идет своей дорогой. Но спутники не дали ему возможности осуществить свое намерение. Они просто взяли его под руки и потащили, а потом стали сзади подталкивать его поближе к медведю, пока он не убил зверя. Я хоть не пал так низко, как Тиунов, и то было хорошо. Так мы и заснули в ту ночь. Мне показалось, что я только успел закрыть глаза и забыться в сладких объятиях Морфея, не нарушаемых сновидениями, как почувствовал, что кто-то трясет мое левое плечо, будит меня и что-то шепчет. Я, наконец, очнулся и понял, что это Карпенко, наш караульщик. Он шептал: «Виктор Дмитриевич! У кунгаса хтось е», то есть в кунгасе кто-то есть. Я быстро разбудил, кажется, Авраменко, спавшего рядом, он — соседа и так скоро, но бесшумно, мы все проснулись, тихонько из палатки выбрались наружу и с ружьями наизготовку приблизились к кунгасу, стоявшему у берега, окружив его полукольцом. В нем действительно шевелился человек, сидевший на корточках и что-то делавший. Не сговариваясь, мы одновременно вскинули ружья и разными голосами закричали. Шесть голосов командовали: «Руки вверх!» и «Ложись!». Он, по-видимому, был озадачен тем, как ему одновременно выполнить оба приказа. Он стал на ноги и, сильно нагнувшись вперед, поднял вверх обе руки. Мы взяли его в плен. Стали тут же расспрашивать его, кто он, откуда бежал, как его имя и фамилия, зачем явился к нам и так далее. Он рассказал, что он заключенный, бежал с рудника «Хениканджа» или с обогатительной фабрики этого рудника. Проплывал вчера днем на плотике мимо нашей стоянки, причалил метрах в двухстах ниже, подошел в чаще леса поближе и лежал там до ночи, слушая все наши разговоры, и, дождавшись, когда мы все, уснув, замолкли, полез в кунгас. У нас он хотел только стащить продовольствие и немножко «прибарахлиться». Он действовал проворно и к тому времени, когда мы его взяли в плен, успел уже приготовить те вещи, которые хотел взять с собой. Помню, прихватил он с собой окорок, который мы почему-то не успели съесть сами, и еще консервы, сахар, крупу… На себя он успел надеть новую телогрейку, брюки и приготовил американские желтые солдатские ботинки на двойной кожаной подошве. Кроме того, он успел и поесть, опустошив банку тушенки и еще что-то. Он клялся, что ничего плохого против нас не замышлял, что если б он захотел, то смог бы угнать весь наш кунгас, обрезав швартовые концы, то есть веревки. Это на первый взгляд звучало убедительно, но только на первый взгляд, потому что в действительности если бы он и обрезал или отвязал швартовые концы, то течение вовсе не подхватило бы кунгас, стоявший в узкой и тихой протоке, как в заливе или в заводи. Чтобы отчалить, ему пришлось бы, орудуя одной из длинных гребей, отталкиваться от берега и выходить на струю, что вряд ли можно было бы сделать бесшумно. Но сейчас передо мной была другая задача: куда девать пленного беглеца? Начинался дождик. Моросило пока слабо, но можно было ожидать, что он усилится. У нас были здесь только две маленькие палатки размерами 2×3 м, а нас было шесть человек. Впустить беглеца в одну из палаток, чтобы он вместе с нами спасался от дождя, ожидая, когда я его отправлю на прииск в сопровождении рабочего Ручки, вооруженного мелкокалиберной винтовкой, я решил, не годится, так как он может зарезать кого-нибудь из нас и бежать. Пускай, решил я, он пока поживет, как Робинзон, на необитаемом острове один, без Пятницы. Тем более что остров, действительно необитаемый, был рядом, что называется, под рукой, за узенькой протокой, в которой стоял кунгас. Дров, притом сухих, на острове больше чем нужно — в головной его части был большой залом. Мы снабдили беглеца спичками и кормили все время, пока он жил на нашем острове. Случилось так, что дождь выдался большой и продолжительный. Вода в Кулу стала быстро прибывать, затапливая сначала нижнюю часть острова или, вернее, косу, на которой жил наш Робинзон. Скоро и она вся скрылась под водой, оставив над ее поверхностью только верхнюю часть залома из деревьев, большей частью лиственниц с корнями-подставками. Эти деревья во время дождей, когда река с особенно большой силой подмывает берега, обрушиваются в воду и, превращаясь в плавник, пускаются в путь. Когда наступает спад воды, они нередко садятся где-нибудь на мель, причем зачастую настолько запутываются корнями и ветвями, скрепляясь с ранее и позднее принесенным сюда лесом, что остаются здесь навсегда. Даже большой паводок не в силах поднять такой залом и унести. Вот на этой горке из деревьев и разного мелкого дровяного лома, высушенного на солнце и затем вымокшего под дождем, и жил теперь наш беглец, продолжая, с одной стороны, мокнуть под дождем, а с другой — подсушиваться у костра. Это было не страшно в конце июня и всем нам хорошо знакомо по собственной многократной практике. Он постоянно и почти непрерывно напоминал о себе, производя большой шум при заготовке дров для костра, и затихал, только когда засыпал. Над горой деревьев, где он жил, постоянно вилась струйка дыма от костра. Потом дождь перестал. Стала постепенно спадать и вода, и настал день, когда я решил, что завтра утром Андрей Ручка поведет беглеца на прииск и сдаст его оперативному уполномоченному, которому я уже заготовил соответствующую бумагу. Вечером Робинзон долго возился с костром, стучал дровами и долго не затихал, но, наконец, угомонился и, казалось, заснул. Не проснулся и не вылез наверх из-за своей дровяной баррикады он и утром, когда все наши были уже на ногах. На острове продолжал пылать костер, валил дым. Начали, как обычно, окликать беглеца: «Эй, Робинзон, вставай, лови передачу», но он в ответ не проявлял признаков жизни. Это показалось подозрительным. Малыгин поехал на плотике на остров и обнаружил, что Робинзона нашего и след простыл, а костер он оставил гореть нарочно для отвода глаз. Оказалось, что он так долго и возился накануне поздно вечером, что был занят сооружением плота. Как он это делал, не имея никакого инструмента, и чем он связывал свои два-три бревнышка, из которых мог получиться, очевидно, только самый примитивный плотик, на котором можно плыть, только лежа на нем животом, подобно сфинксу, и вымачивая свой окоченевший от холода живот в ледяной воде, осталось для меня загадкой. Загадочной осталась и дальнейшая судьба нашего Робинзона, вряд ли он оставался живым даже до осени того же 1945 года.
На Таяхтахе
Вскоре после начала полевых работ мы оказались в верховьях речки Таяхтаха, что в переводе с якутского языка означает «Лосевая» или «Сохатиная». Нужно сказать, что это якутское название речки было очень метким и действительно отражало положение вещей. Следов пребывания сохатых было здесь много. И отпечатки их копыт на влажном песке у русла реки и ее притоков, и заломленные, свисающие вниз ветви тальника с обглоданными листьями, и, наконец, следы их хорошего пищеварения — все говорило о том, что этих зверей здесь много. Правда, живых лосей я здесь не видел, но это, как я знал, происходило только потому, что зверь этот осторожен, имеет хорошее зрение, обоняние и слух, а геологу приходится шуметь, разбивать молотком камни, и соблюдать тишину он не может. Лепихину выпала честь открытия там, на Таяхтахе, окаменелости, датирующей осадочную толщу анизийским и ладинским ярусами среднего триаса. В тот вечер я тоже пришел с фауной. Но я собрал обыкновенную верхнепермскую, можно сказать, пошлую фауну, а Лепихин нашел и собрал среднетриасовую и притом обильную фауну и, что особенно было интересно, на заболоченном участке водораздела в депрессионном участке. Там, в выветренном элювиально-делювиальном слое, при его оттаивании весной образуются характерные для участков полигональных почв грязевые конвекционные токи, приводящие к образованию полигональных почв и каменных колец. В этих так называемых каменных кольцах среди редких и мелких обломочков глинистых сланцев довольно часто встречаются эллипсоидальные, овалоидные и круглые кремневые или глинисто-кремневые конкреции, нередко заключающие в себе остатки окаменелых аммонитов среднетриасового возраста. Вероятно, в связи с прокаливанием горных пород этого участка во время, возможно, неоднократных, лесных пожаров среди конкреций, носящих иногда явные следы ожогов, преобладают не целые, а расколовшиеся — обнажающие в изломах аммонитов. Последующими маршрутами мы с Лепихиным проследили те же отложения в ряде разрезов по отрогам водораздела, пересекающим полосу среднетриасовых отложений. В тот вечер, когда Лепихин, ходивший почему-то, как и я, один, в первый раз принес среднетриасовые окаменелости и показывал их мне. Когда я уже все посмотрел, он вынул еще что-то завернутое в тряпку и со словами: «А эта фауна как вам понравится?» подал мне. В тряпке оказался язык лосихи. Рассказал, как он шел по тому самому отрогу водораздела, на котором собирал окаменелости, и, раздвинув ветви куста ольхи перед собой, вдруг увидел лосиху, которая, вскинув голову и поставив вертикально уши, повернутые раковинами ему навстречу, широко открыв ноздри, нюхала воздух, слушала подозрительные шорохи и смотрела прямо в сторону Лепихина. Но его она почему-то не успела увидеть, когда он шел, раздвигая кусты, а теперь он уже сидел, не шевелясь, в кусте, и она уже не могла его видеть. Сидел он так недолго. Ружье — одностволка-ижевка, так называемая Ижевск-Джонсон Джонсон, выменянная минувшей зимой за две пачки махорки, — было у него в руках, и он решил стрелять, пока она еще не пустилась вскачь прочь от него. Прицелился в лоб, нажал гашетку — мимо. Корова сделала резкий прыжок в сторону и опять застыла, повернувшись на 90 градусов, обратив теперь к нему свой левый бок. Должно быть, ее обмануло эхо и ей показалось, что опасность ей угрожает с той стороны. Во второй раз Лепихин уже не промахнулся, и она была убита. Телок, который был с ней, долго не хотел уходить, но потом убежал. Этот поступок Лепихина я, конечно, осудил, — это было браконьерство, не вызванное даже необходимостью, потому что продукты у нас были в достаточном количестве. Долго говорили об этом. Но тем не менее мясо нужно было забрать и использовать, раз уж так получилось. Да и, кроме того, местному населению — якутам и орочам разрешается убивать лосей, и они это делают постоянно. Запрещается только нам. Поэтому на другой день я, Лепихин и Карпенко собрались с утра пораньше на то место. Ободрали и разделали тушу, разрубив ее топором и разрезав на части. Потом на северном склоне отрога сняли большим пластом мох, обнажив мерзлый грунт со льдом, сложили на этом участке все мясо, укрыли его мхом, нарезанным дополнительно на соседних участках, и сверху навалили ветвей с листьями, хотя, собственно, солнечные лучи не доставали до этого участка. Только шкуру мы развесили на просушку, вывернув ее мездрой наружу. Потом с мешком, наполненным мясом, вернулись к себе в палатку. По дороге я придумал, как сделать котлеты, не имея мясорубки. Я решил, что можно обойтись топором. Прежде всего, нужно было сделать толстую деревянную плашку, на которой потом рубить топором же мясо. Так и сделали, по неопытности рассчитали плохо, и котлет получилось больше, чем было нужно. В общем, их оказалось много, а нас мало. Лепихин тогда спросил Бекашева: «Это правда, что у татар есть такой праздник, который называется Байрам, когда все татары целый день едят не переставая?». А Бекашев, кажется, ответил, что в Байрам ничего не едят и не пьют от восхода до заката солнца и только вечером приступают к еде. Это лето в смысле питания у нас было исключительно хорошее. Только мы доели первого медведя, как Лепихин убил лосиху, съели и ее, как я убил второго медведя. Рабочие были все время рады и благодарили особенно за то, что эта пища не стоила им ни копейки.Работа с базой на кунгасе
Мне в то лето очень понравилась геологическая съемка с передвижной базой, находящейся на кунгасе. Передвигаясь по мере обработки площади, она постоянно оставалась на относительно небольшом расстоянии от объектов исследований, что очень облегчало работу сухопутного конного транспорта. Только благодаря этому нам почти вполне хватало наших двух кляч, полученных на Кулинской электростанции, — больной слабой кобылы гнедой масти и старого сивого мерина. Полевым партиям ведь всегда старались отдать тех лошадей, которые были слабы, больны, стары и являлись обузой в хозяйстве, в котором они находились. Я это давно и хорошо знал, так как еще на Бутугычаге в первый год работы мне преподали хороший урок. В это лето мне не приходилось тревожиться мыслью о том, как мы будем выходить из района работ после их завершения, так как мы были вполне обеспечены транспортом, имея посудину большого водоизмещения, во всяком случае, с запасом плавучести и грузоподъемности в несколько тонн. А летом за нами передвигался наш склад, передвигалась и хлебопекарня. У нас русской печью служила обыкновенная двухсотлитровая бочка от бензина, масла или спирта, у которой одно дно было вынуто, а возле другого было прорезано отверстие для трубы. Когда, сплавившись на новое место, кунгас причаливал к берегу, привязывали его веревками к растущим на берегу лиственницам,Чабудаев немедленно вооружался лопатой и принимался копать в борту террасы ямы для своей бочки. Яма должна была получиться такой глубины, чтобы в ней поместилась бочка лежа на боку и чтобы оставалось над бочкой еще сантиметров 30–40 для того, чтобы ее можно было засыпать песком и галькой. Затем он устанавливал над бочкой дымоход и принимался топить печку, чтобы просушить и прогреть песок и галечник, прилегающий к стенкам бочки-печки снаружи.Второй медведь
Прошло всего 39 дней после удачной охоты на первого медведя, и я совершенно неожиданно для себя (думаю, что и для других) при неправдоподобных и невероятных обстоятельствах убил второго. Начался этот необыкновенно счастливый день с того, что, едва проснувшись, открыв глаза и увидев, что уже светло и что все обитатели палатки еще спят, я тут же услышал шум ветра в ветвях над палаткой и только успел вспомнить, что мы стоим в горелой роще, вспомнить, как вчера поздно вечером в полной черной темноте шел сюда на свет костра, возвращаясь из маршрута и пробираясь среди путаницы поваленных деревьев. Только подумав, что сидеть в палатке в сгоревшем лиственничном боре при ветре смертельно опасно, я тут же услышал шум падающего дерева, треск лопающихся корней и веток и, должно быть, инстинктивно понял, что дерево валится на палатку. Времени для размышлений или хотя бы на то, чтобы растолкать спящих соседей, у меня не было. Оно измерялось секундами, и я, не успев ничего сделать, стремглав выскочил из палатки и увидел, что действительно прямо на нее почти поперек падает довольно большая сухая, горелая лиственница. Обитателей палатки спасло то, что накануне, переехав сюда, когда все другие были в маршрутах, Бекашев не нашел здесь тонких жердей, которые обычно используются для постановки палатки. Поэтому он соорудил козлы и матку из довольно толстых деревьев, которые поднимал один и перетаскивал с большим трудом. Это сооружение и приняло на себя всю силу удара упавшего дерева и выдержало с честью этот удар. К счастью, упавшее дерево было не столь уж велико и тяжело, сыграло роль и то, что оно было сухое, горелое, что удар оно нанесло не вершиной, а средней своей частью. Поэтому у нее не хватило живой силы, чтобы сокрушить мощный остов палатки и достигнуть костей лежавших в ней на полу трех человек. Они, проснувшись при этом, даже не выразили радости по поводу почти чудесного спасения. В этот день я шел в маршрут вдвоем с Карпенко, а Лепихин отправлялся один. Вечером, закончив маршруты по двум смежным отрогам левого водораздела Нечи, мы должны были встретиться с Лепихиным в условленном месте в долине этой речки, чтобы там ночевать в его миниатюрной портативной палатке, рассчитанной на одного, втроем. В конце маршрута Карпенко стал мечтать вслух о том, чтобы встретить и убить медведя. Я поддерживал этот разговор в шутливом тоне, считая его совершенно пустым, нереальным и ни к чему меня не обязывающим. Но прошло не больше часа после этого разговора, как Карпенко, непрерывно крутя головой и шаря своим ищущим взором вокруг вблизи и вдали, нашел-таки медведя, а еще через полчаса я убил его одним выстрелом издали без страха и каких-либо переживаний. Потом, заломив вершины молодых деревьев, чтобы найти это место в темноте, мы пошли на условленное место, забрав по дороге рюкзаки, которые мы сбросили, когда побежали наперехват медведю. Встретили Лепихина и с ним вернулись к убитому зверю, поставив тут маленькую палатку, переночевали, а утром, послав Карпенко на устье Нечи к кунгасу, где в это время находились и наши лошади, мы с Лепихиным принялись обдирать зверя, причем я был удивлен, во-первых, тем, что пуля пробила его навылет, и, во-вторых, тем, что выходное отверстие оказалось меньше, чем входное, а не наоборот, как бывает обычно. Ободрав тушу, мы отрезали кусок и поставили его на костер варить. Оно варилось бесконечно долго. Вернулись Карпенко с Бекашевым и лошадьми. С ними пришел и Авраменко с Ручкой и Малыгиным, а мясо все еще было твердым, как подошвенная резина. Четыре часа варится медвежатина! Большую часть мяса Бекашев в этот же день отвез на кунгас, чтобы там присолить его. Меньшую — дней на 10 оставили у себя. По опыту мы уже знали, что мясо, положенное в мешок, привязанный длинной веревкой к дереву и погруженное в холодные струи ручья или речки больше 10 дней остается совершенно свежим. Кто-то говорил, что мясо в воде вымокает и теряет свои вкусовые качества. Вероятно, что так оно и есть, но ни я, ни мои сотрудники этого не замечали. Нас теперь было не четверо, как раньше, а 7 человек, потому что Авраменко с промывальщиком и рабочим оставались жить в нашей палатке до тех пор, пока, обрабатывая бассейн Нечи, мы переносили свою палатку вдоль по ее долине. Однажды, я помню, что это было 8 августа, выдался очень дождливый день. Мы не пошли работать, оставаясь в палатке. Авраменко занялся варкой супа с фрикадельками из медвежатины. При этом между ним и Лепихиным возник какой-то разговор, во время которого Авраменко почему-то сказал, что он этот суп варит для себя. Я был возмущен услышанным, но промолчал, решив сделать вид, что пропустил мимо ушей, потому что не мог же я сказать, что медведей я тоже убивал для себя, а вы, дескать, варите из их мяса суп для себя. Это было бы неприлично. О том, что это происходило именно 8 августа, я запомнил потому, что на другой день, выйдя в маршрут, я вдруг заметил, что комаров уже почти совсем нет, тогда как еще позавчера черные тучи их висели над головой. Тогда я подумал, что нужно запомнить эту дату, после которой в тайге наступает новая жизнь, становится легче жить, дышать и работать. И хотя на смену комарам является мошка, которую некоторые считают даже большим злом, чем комары, она на самом деле ни в какое сравнение с ними не идет. Ее терпеть гораздо легче.Поездка в Усть-Омчуг с Андреем Ручкой
Однажды в середине августа я решил съездить в Усть-Омчуг и попутно отвезти брату и его семье кусок медвежатины. Утром я вышел из своей палатки, стоявшей на высоком четырехметровом берегу Колымы, и невольно залюбовался на красивую реку, спокойно катившую под безоблачным небом свои синие воды, озаряемые лучами недавно взошедшего солнца. Оно было сзади, и поэтому я не мог видеть ослепительного блеска спокойной зеркально гладкой поверхности реки, нигде не нарушаемой рябью от малейшего дуновения легкого ветерка. Внимание мое привлекла какая-то точка, белевшая вдали на прямом участке реки. Нетрудно было догадаться, что это человек в чем-то белом, скорее всего, в халате плывет на лодке, спускаясь по течению в нашу сторону. Потом на берег вышли другие обитатели палатки и стали выражать недоумение по поводу халата на человеке, плывущем в лодке по реке. Он уже приблизился и стал виднее. Он довольно быстро приближался, и уже можно было удостовериться, что на человеке в лодке был действительно белый халат, как мы и думали, но было до нелепости странно видеть такой наряд на человеке в лодке. Гадали о том, кто он может быть — врач, повар или парикмахер, но почему-то не могли решить этого вопроса, хотя он был не так уж загадочен. Ясно каждому, что ни врач, ни повар не могли бы оказаться в белом халате в тайге, в дороге, в лодке. И тому и другому нужно было бы сохранить халат чистым, первому до встречи с больными, а второму тоже до его работы. Парикмахер же, которому предстояла встреча с нетребовательными снисходительными клиентами, мог себе позволить путешествовать по таежной реке в таком красивом наряде, на который, должно быть, с берегов засматривались медведи. Но профессия речного туриста стала понятна по первому же оброненному им как бы невзначай словечку, когда он, причалив к берегу и подхватив из лодки чемоданчик, взошел на нашу террасу по сделанным в ее борту ступеням. «Позарастали», — сказал он вместо слов приветствия, и сразу стало понятно, что он парикмахер. Халатик на нем только издали под лучами солнца выглядел белым или даже белоснежным, а на самом деле был далеко не первой свежести. Оказалось, что он едет «обслуживать» бригаду сенокосчиков. Мы же для него оказались находкой. Он стал уговаривать и нас обслужиться у него. Некоторые согласились. Я тоже решил расстаться со своими только что с трудом отращенными красивыми рыжеватыми усами, которые мне казались похожими на усы Симонова в фильме Петр I (актер Николай Симонов в фильме Владимира Петрова «Петр Первый» (1937–1938 гг.). — Ред.), которыми он свободно шевелил, как кот. Я решил принести такую жертву, собираясь поехать в Усть-Омчуг, так что приезд парикмахера оказался кстати. Кстати пришлась и его лодка, которой я решил воспользоваться на первом этапе пути. И вот, взяв с собой кусок медвежатины в мешке и рюкзак с продуктами и вещами, мы с Андреем Ручкой вскоре уселись на лодку парикмахера и поплыли с ним вниз к устью Хатыннаха, где работали сенокосные бригады, к которым он направлялся. Оттуда поплыли дальше и остановились ночевать на стоянке отряда М. А. Беляева. На устье Теньки, откуда нужно было ехать автотранспортом, мы застали много грузовиков, что было нам на руку, так как было легче уехать дальше. А вызван этот наплыв автомашин сюда был амнистией заключенных в честь Победы. Против устья Теньки на левом берегу Колымы была большая агробаза, на которой работали заключенные-женщины. Многих из них, даже чуть ли не всех, в связи с амнистией теперь освобождали, и вот со всей округи как мухи на мед слетались туда всякие личности — и бывшие заключенные, и договорники, чтобы найти себе среди них «подруг жизни». Не знаю, какие предлоги выдумывали эти женихи и шофера, чтобы как-то оправдать поездки сюда. Скорее всего, они делали эти «крючочки» в 90 км в оба конца от 239-го км просто без всяких оправданий, а другие выдумывали какие-то предлоги, чтобы сгонять машину на прииск «Дусканья», и оттуда попутно заезжали на устье Теньки, находящееся рядом. Но на пути женихов лежала и водная преграда. Колыма преграждала им путь от конца дороги до агробазы. Там была принадлежавшая агробазе лодка, но перевозить на ней эту публику отказывались. И вот когда мы с Ручкой подъехали, они толпой хлынули к нашей лодке. Кого-то из них Ручка, кажется, перевез. А в Усть-Омчуге мы услышали другую новость — «комсомолок везут». Не помню точно, но, кажется, еще до выезда в поле, весной распространился слух о том, что «сегодня из Магадана приедет автобус с комсомолками». Но он почему-то не пришел тогда, а пришел уже после того, как мы уехали обратно. Уже на обратном пути, приехав на 239-й км и ожидая попутного грузовика, мы с Андреем, во-первых, слышали смешной телефонный разговор. Какой-то тип из служащих, кажется, диспетчер названивал «от нас», то есть с 239-го км, куда-то своему начальнику и жаловался, что «дают только 18 комсомолок, а этого для нас мало»; а во-вторых, мы видели еще женихов, направлявшихся на ту же агробазу и ожидавших попутного транспорта. Двое таких сидели за столом, что-то жевали, и один уговаривал другого, чтобы тот не ел или не пил чего-то там, приготовленного для тех женщин. Добравшись до Кулинского моста, мы взяли у кого-то поперечную пилу, отрезали часть сплотка от неработающего заброшенного бона и поплыли на нем, как на маленьком плоту. Он действительно был мал и сильно погружался в воду, когда мы на нем находились. Останавливались мы по дороге на базе П. Н. Котылева на левом берегу Кулу. Меня очень удивило, что там в это время находился сам П. Н. Котылев. Потом останавливались и, кажется, ночевали на стоянке С. И. Кожанова, который, как и мы, сплавлялся на кунгасе и проводил геоморфологическое изучение долины Кулу и Колымы с инструментальной съемкой поперечных профилей долин, с измерением высоты террас и так далее.Маршруты в одиночку
Лето 1945 года осталось для меня примечательным не только моими первыми двумя медведями, которых я убил, несмотря на то что, по крайней мере, года на 4 раньше перестал мечтать о том, что когда-нибудь отважусь на единоборство с таким зверем. Еще более, чем этими медведями, оно осталось для меня памятным маршрутами, которые я проделывал почти всегда в одиночку. Намного позднее я узнал о том, что такая работа запрещается правилами техники безопасности. В то же время, может быть, и совсем не было таких правил для геолого-поисковых работ. А если они и были, то их не популяризировали, проще говоря, прятали от тех, для кого они были составлены. Мне и до этого лета приходилось иногда ходить в маршруты в одиночку, но именно лишь иногда, то есть не систематически. Так случилось в 1943 году, когда строптивый рабочий бросил работу в августе и я некоторое время был вынужден обходиться без него, ходить в маршруты с коллектором Шинкаренко. Тогда я иногда разделялся с ним на некоторое время, и мы ходили порознь. А в 1945 году приходилось так работать все время. Связано это было в свою очередь с тем, что база наша была передвижная, на кунгасе, и для ее охраны по ночам на стоянках нужен был еще один человек кроме находившегося там постоянно кладовщика. А в соответствии с проектом весь личный состав партии у нас состоял из начальника, двух прорабов, промывальщика и пятерых рабочих, из которых один был кладовщик, один возчик и одного еще приходилось выделять для ночной охраны кунгаса. Таким образом, для работы в маршрутах можно было одалживать только двух рабочих, один из которых (Ручка) постоянно работал в поисковом отряде, а другого приходилось посылать в маршруты с Лепихиным. Я же оставался один. Проделывать в одиночку однодневные маршруты было еще не так скверно, а вот отправляться одному в маршрут хотя бы на два дня было уже совсем не так. Сначала было даже немного страшновато одному останавливаться на ночлег, варить себе пищу, сидеть у костра, ныряя ложкой в котелок, а вокруг тебя узкое, озаренное костром пространство, а дальше черная, непроглядная тьма, как кажется, когда глядишь от костра. Но к таким одиночным ночлегам с почти безмятежным сном у костра черной и холодной, иногда дождливой ночью я привык еще в 1943 году и почти совсем не боялся, зная, что люди в такие ночи спят, а не шастают в дремучей тайге в поисках случайных встреч, а зверей, в частности медведей, волков, рысей, росомах в колымской тайге очень мало, и встреча с ними ночью маловероятна. Особенно маловероятно, чтобы эти звери ходили ночью в поисках спящих людей. Двухдневные и, разумеется, еще более длительные одиночества в маршрутах в тайге и на сопках неприятны не только своими страхами, до тех пор, пока не привыкнешь к этому, но и скукой. Скучно целый день или больше не видеть ни одного человека и не произнести ни одного слова.На устье ручья Тасс
В конце лета мы уже дня три простояли на устье ручья Тасс, когда метрах в семистах, не доезжая нас на широкой длинной косе того же правого берега Колымы, остановилась партия С. И. Кожанова. Эта партия была большая, больше 20 человек… Однажды довольно поздним утром я пошел к С. И. Кожанову. Когда я сидел в палатке у них и разговаривал с Кожановым и прорабом Ниспевичем, вдруг прибежал запыхавшийся коллектор Ельницкий. Он был чем-то сильно возбужден, а мое присутствие оказалось некстати. Поэтому он начал что-то шептать на ухо Ниспевичу. Оказывается, Ельницкий, недавно отправившийся вместе с рабочим в маршрут, где-то, поднимаясь по распадку, встретил ловушку — привязанную к дереву петлю из тонкого стального троса, в которой оказалась недавно поймавшаяся, но уже неживая лосиха. Нужно было сейчас же забрать мясо, пока оно еще не начало портиться. Вот поэтому Ельницкий и прибежал, чтобы взять топор, мешки для мяса и ножи. А здесь в палатке он некстати увидел меня. И я оказался лишним, мешавшим им посекретничать. Эта туша была съедена партией Кожанова за три дня, как мне потом рассказывал Ниспевич. Каждый из них в день съедал в среднем около одного килограмма мяса. Поэтому неудивительно, что, по подсчетам того же Ниспевича, около 94 % партии болело эти дни поносом. Когда ставили на костер большие кастрюли с мясом, чтобы варить пищу для всех, вокруг них на тот же костер лепились консервные баночки, тоже с мясом, в которых каждый рабочий варил для себя отдельно. Ничего подобного не было в нашей партии, когда мы ели наших зверей. Я думал, что это было нормальное явление, и совсем не удивлялся тому, что все они не бросаются пожирать мясо наперегонки, как бы боясь, что другие съедят больше. У Кожанова же такое безобразие происходило, несомненно, потому, что зверь был общий, найден коллектором и рабочим, и все дело было пущено на самотек. Только поэтому каждый торопился «скушать» побольше мяса, за которое ничего не нужно было платить. Каждый боялся промедлить лишнюю минуту, зная, что за эту минуту другие съедят то, что, может быть, достанется тебе, если ты не будешь медлить. Коллектор Ельницкий, один из героев истории с сохатым, погиб в следующем году на Больших Колымских порогах. Тогда партия С. И. Кожанова почти в том же составе продолжала вести геоморфологическое изучение долины Колымы на участке между устьем Теньки и устьями рек Кюэль-Сиена и Конго. Этот отрезок реки пересекает большие гранитные массивы Малой и Большой порожных цепей. Именно здесь находятся участки врезания и пороги. Кунгасы через эти пороги, как через Малый, так и через Большой, проходят всегда благополучно, но плавать через них на лодке нужно очень осторожно. А Ельницкий плыл именно на лодке и, считая себя парнем бывалым и опытным, не проявлял, очевидно, особой осторожности. Он ловил рыбу с лодки на удочку, останавливаясь для этого то у одного, то у другого камня, отпуская кунгас вперед и затем догоняя его. Утонул он, когда кунгас уже находился далеко впереди, и поэтому никто не видел, как это произошло, и никто не мог прийти ему на помощь. Вероятно, неожиданно для него опрокинуло лодку, а потом или ударило его где-нибудь головой о камень, или затянуло в водоворот и заставило нахлебаться воды.Иван Громов
Когда мы сплавились к устью Оротукской протоки и наш кунгас пристал к высокому правому берегу Колымы, я, взяв ружье, пошел вдоль берега протоки посмотреть окрестности. Недалеко от своей новой стоянки я увидел палатку, стоявшую на берегу, заглянул в нее и, получив разрешение, вошел внутрь. В ней были орочи — мужчина и женщина. Он заговорил сначала об охоте, вернее, стал меня расспрашивать о ней, видя у меня в руках ружье. Потом стал рассказывать о себе, о том, что ему колхоз построил новый дом в поселке Тыэллах на другом берегу Колымы, почти напротив этого места, о том, что здесь они работают на сенокосе, что тут у них бригада орочей. «Моя, — говорил он, — не якут, моя ороч». И еще сказал, что он охотник. Во все время разговора, пока он мне рассказывал все это, я думал о том, где я видел уже этого человека раньше? Лицо его мне сразу же показалось очень знакомым, и вот я думал, слушая его и стараясь вспомнить, кто он, когда и где я его видел? И мне это удалось, даже имя и фамилию его я успел вспомнить. Поэтому в ответ на его последние слова я спокойно сказал: «Я знаю — ты Иван Громов». Он даже подпрыгнул, сидя на полу, так поразили его мои слова и радостно вскричал: «Почему твоя знает?». Он был очень удивлен моей осведомленностью о нем. И тут я напомнил ему, при каких обстоятельствах я видел его раньше, пять лет назад, и притом не один раз, кажется, это было. Напомнил, как в начале лета 1940 года он заезжал к начальнику Нечинского разведрайона Николаю Николаевичу Малькову, привез и продал ему медвежью шкуру, которую обещал ему раньше, что, кроме медвежьей, у него были с собой волчья шкура и шкура рыси, которые он вез сдавать на факторию в Оротук. Меня тогда так же, как и Малькова, удивило, что на медвежьей шкуре, содранной целиком с пальцами лап и когтями, были обрезаны уши и зашиты ушные и глазные отверстия. Он объяснил, что это обычай орочских охотников, которые делают это, чтобы убитый медведь не мог услышать и увидеть, кто его убил, и не мог бы рассказать другим зверям, чтобы те отомстили охотнику. Он все это вспомнил, кажется, вспомнил и меня. Выражал по этому поводу восторг и даже восклицал: «Жаль, ичпирта нету!». Потом он рассказывал, что зимой будет охотиться на белку и горностая на Детрине недалеко от нашего Усть-Омчуга. Я приглашал его заехать к нам с братом, дал ему адрес и нарисовал схематический план расположения нашего дома. Просил, чтобы он привез и продал нам мяса. Он обещал, и мы расстались друзьями. Потом и он не раз заходил на нашу стоянку, пил у нас чай, хвалил мои медвежьи шкуры, развешанные на солнце, и даже просил, чтобы я продал ему одну из них, снятую с первого медведя, недавно поднявшегося из берлоги, и поэтому еще не линявшую — пушистую и теплую. Он хотел сделать из нее себе одеяло. Но я сказал, что не могу этого сделать, потому что она дорога мне как память о первом медведе. Иван Громов действительно заехал, кажется, в один из январских дней. Верхом на оленях он и его жена подъехали прямо к дому, в котором мы с братом и его семьей жили. Помню, Инна и еще кто-то из детей садились на них верхом, и Иван покатал немного их, поводив оленей возле дома. Они привезли нам, как обещал Иван, кусок оленьей туши и целый мешок беличьих тушек. Мы долго потом ели этих ободранных белок, похожих, должно быть, на ободранных крыс. Хотя ободранных крыс мне видеть, конечно, не приходилось, но сходство ободранных белок с воображаемыми крысами несомненно, особенно это придают им ободранные тонкие длинные хвосты. Мы угостили их ужином, и они опьянели от самой малой дозы спиртного. При этом Иван опьянел гораздо сильней, чем его жена, и она еще возилась, ухаживая за ним. Он довольно долго лежал, прежде чем пришел в себя настолько, чтобы быть в состоянии добраться до своей стоянки, расположенной на берегу реки где-то недалеко от поселка. И вот прошло еще 10 лет. В 1955 году летом я стоял у дороги в поселке Транспортном, ожидая попутной машины. Подошла машина, идущая в противоположном направлении. Остановилась. Из ее кузова спрыгнули на землю несколько пассажиров. В одном из них я, присмотревшись, узнал Ивана Громова. На этот раз и он меня узнал. Подходит и говорит: «Балодин, что ли?». Орочи вместо «в» произносят «б». Он был очень рад этой встрече и во чтобы то ни стало хотел угостить меня в свою очередь. Я уж и так и сяк отказывался и пытался отвертеться от этого, но мне никак не удавалось это, так как он не мог или, вернее, не хотел понять, что я в дороге и что поэтому мне нельзя пить. Мне не удалось отвертеться от него и откуда-то взявшегося его приятеля — такого же ороча. Вынужден я был пойти с ними даже в магазин, где они хотели купить спирта или чего-нибудь спиртного. Но там, воспользовавшись тем, что мои знакомые тунгусы отвернулись, я позорно сбежал от них. Мне тогда показалось, что в этом единственный выход из положения и что я в самом деле не мог с ними пить спирт, когда мне предстояло ехать на попутной грузовой машине вечером или ночью, возможно, с попутчиками. Потом мне, правда, приходило в голову, что я, пожалуй, напрасно обидел человека, лишив удовольствия угостить меня. Ведь мне ничего не стоило посидеть с ними, выпить совсем без всякого на себя воздействия такую же крохотную дозу горючего, которая его свалила с ног десять лет назад. Сделал бы так, и меня не мучила бы совесть вот уже 16 лет… Больше я не встречал своего приятеля ороча, с которым виделся четыре раза на протяжении 15 лет. В последнюю встречу он успел мне рассказать, что пасет теперь оленей в верхнем течении Теньки. Стреляет волков, которые подходят к стаду.Начальники
Грустные новости
В то лето начальники приезжали ко мне дважды. Это, впрочем, совсем неудивительно, потому что летом на реке хорошо, а на лодке идти сплавом по течению особенно приятно и легко, потому что можно часами даже не шевелить веслами. Это совсем не то, что шагать или даже ехать верхом на лошади по таежной тропе, даже по хорошей сухой тропе, не говоря уже о тропе на болотистых участках, о ходьбе или верховой езде по бездорожью. Ходьба по таежной тропе и даже верховая езда по ней, особенно если тропа плохая, если она идет по заболоченной долине или приходится идти по бездорожью, — всегда тяжелая, утомительная работа. Плавание же на лодке по течению, особенно в хорошую недождливую теплую погоду, — это отдых, мечта усталого искусанного кровожадными комарами пешехода. Поездка на лодке — это отдых не только от ходьбы, от физической работы, но и от кровососов-комаров, которых на реке, над водой даже невдалеке от берегов бывает гораздо меньше или совсем не бывает. Особенно если веет даже слабый легкий ветерок. Проголодавшись, легко найти подходящее для остановки место, причалить, сварить пищу на костре, вскипятить чаю… Можно захватив с собой в лодку только что вскипевший чайник, «баловаться чайком», так сказать, на ходу, не теряя лишнего времени. Так делал, например, Христофор Иванович Калугин, большой любитель чая и водохлеб. Он говорил, что ему все равно — горячий ли чай, теплый или совсем холодный. Опустошив чайник, он причаливал к берегу, кипятил новый и с ним пускался в дальнейший путь. Устье рек Теньки и Дусканьи, которые ныне впадают в Колымское водохранилище, а не в р. Колыму, как это было до введения в строй Колымской ГЭС в конце 70-х гг. XX века. Фото 2014 г.
Устье рек Теньки и Дусканьи, которые ныне впадают в Колымское водохранилище, а не в р. Колыму, как это было до введения в строй Колымской ГЭС в конце 70-х гг. XX века. Фото 2014 г.
На остановках можно удить хариусов и в случае удачи варить из них уху. Осенью нередко случается и подстрелить утку. Хорошо летом и осенью на такой реке, как Колыма. Приятно проплыть на лодке этот довольно большой отрезок от Кулинского моста до устья Теньки, откуда можно уехать на автомашине, проделав эти две с половиной или три сотни километров за 3–4 дня. Хорошо оторваться от текущих начальнических дел и вырваться на лоно природы из тиши кабинета, нарушаемой звонками телефонов и треском пишущих машинок. Особенно хорошо, когда для этого не то чтобы благовидный предлог, а подлинная причина или повод есть — инспектирование работы ряда полевых партий. Например, в то лето на этом отрезке рек Кулу и Колымы работали, кроме моей партии, партии П. Н. Котылева, С. И. Кожанова, С. С. Герасименко, и посещать все эти партии действительно было необходимо. В первый раз начальство явилось к нам в образе X. И. Калугина, сопровождаемого в качестве рабочего сыном главного геолога Борисом Аникеевым, которому было тогда 15 лет, и он еще учился в десятилетке. Через десять лет Борис, окончив среднюю школу в Усть-Омчуге и затем Ленинградский горный институт, выполняя полевые работы в районе порогов, утонул в Индигирке. По счастливому стечению обстоятельств X. И. Калугин подплыл к нашей стоянке на берегу Колымы, как раз когда я подошел туда. Для X. И. Калугина это была удача, потому что если бы я не подошел, то ему пришлось бы потерять дня три, пока нашли бы меня и я подошел к берегу. Во второй раз, уже в середине сентября к нашей стоянке на берегу Колымы в устье Оротукской протоки подплыла и причалила лодка, в которой были тот же X. И. Калугин, главный геолог Николай Петрович Аникеев, старший инженер геолого-поискового отдела ГРУДС Виктор Тихонович Матвеенко и рабочий Фуре. Я в это время уже закончил свои маршруты и занимался полевой камеральной обработкой материалов, корректировал свою полевую геологическую карту и полевую геоморфологическую карту. Техника Лепихина с рабочим Карпенко незадолго до этого я еще с предыдущей стоянки отправил в маршрут через весь район работ, чтобы он составил разрез вкрест простирания осадочных толщ по коренным обнажениям в берегах рек. Естественно, что я подумал, когда они подъехали, что мне сделают замечание в связи с тем, что мы находимся уже за пределами своего района, так как закончили полевые работы и в то же время не возвращаемся в Усть-Омчуг. Единственное оправдание у меня было в том, что я ожидаю возвращения Лепихина и Карпенко из последнего маршрута. Но никаких оправданий с моей стороны не потребовалось, так как Аникеев сразу же сказал, что мы должны здесь дождаться выхода к берегу партии С. С. Герасименко и принять на свой кунгас все их снаряжение, инструмент, коллекции и все другие тяжести для доставки их на кунгасе на устье Теньки. Люди же вместе с лошадьми пойдут пешком. Но все это, как и другие разговоры и пешая экскурсия на базу С. С. Герасименко, в которой принял участие и я, происходило немного после. А в то ясное прохладное осеннее утро, когда подошла лодка с инспекторами, мы только что успели закончить завтрак. Предложили и им подкрепиться с дороги, и они не отказались. Через 10 минут, работая вилкой и расправляясь с омлетом из яичного порошка, Аникеев шутя сказал: «Партия хорошая, материалы отличные». Он, конечно, шутил, будучи просто в благодушном настроении. Материалов же тогда они еще не видели. Но материалы у нас тогда действительно были хорошие. Слабо было только в отношении полезных ископаемых. Были слабые признаки россыпной золотоносности, но промышленных месторождений не было. В. Т. Матвеенко рассказал мне тогда печальные новости. Во-первых, подробности трагической гибели А. А. Аврамова, произошедшей осенью прошлого года, и о гибели П. Н. Спиридонова, тоже трагической, произошедшей уже в этом году совсем недавно. Оба погибли преждевременно в расцвете жизненных сил. Александр Алексеевич Аврамов был знаком мне уже 7 лет. Два года перед войной он работал начальникам полевых партий в нашем управлении, которое тогда только организовалось. Перед самой войной он отправился в отпуск как раз тогда, когда собирался в отпуск и я. Но я, тогда уже сдав отчет и собравшись ехать, немного задержался из-за того, что мне необходимо было подождать брата, который сдавал тогда свои дела старшего геолога рудника «Бутугычаг» новому геологу Хамицаеву, чтобы ехать вместе с ним, с его женой Лилей и их дочкой, полуторалетней Нэлькой. Поэтому я предполагал уехать вторым рейсом теплохода «Феликс Дзержинский», а А. А. Аврамов со своей женой Вандой Адамировной и двухлетним сыном успел первым рейсом того же корабля отплыть на «материк». Поэтому они уже катили по необъятным просторам Сибири, когда грянула война. Они сначала продолжали катить, направляясь в Ленинград, но через день в Новосибирске он вынужден был остановиться. Дальше не пускали. Здесь он совершил опрометчивый поступок. Вместо того, чтобы сразу же повернуть оглобли и ехать обратно на свою родную уже Колыму, он стал устраиваться в Новосибирске. Купил дом и поторопился устроиться на работу в местную геологическую организацию. Проведя так совсем недолго времени, он стал раздумывать над тем, зачем же он не вернулся сразу же на Колыму, ведь там же и денег платили больше в два раза со 100-процентной надбавкой, и работа была привычнее и интереснее. И пошел он тогда в местное представительство Дальстроя на консультацию, и там ему сказали, что его процентные надбавки не пропадут, если он немедленно вернется на Колыму. Думая, что представители Дальстроя, то есть работники НКВД, знают свое дело и не лгут, он поверил их заверениям и поехал. И только добравшись до Магадана, он узнал, что его намеренно или не намеренно, но во всяком случае бессовестно обманули. Надбавки с него сняли, потому что он оформился на работу в другую организацию в Новосибирске и немного там поработал. Так он еще больше осложнил свою жизнь. Жену с сыном он оставил в Новосибирске, сам оказался в Магадане, и теперь его уже никак не отпускали из Магадана опять в Новосибирск. И он продолжал хлопотать об этом почти до конца войны, до самой своей смерти. Осенью 1944 года он, возвращаясь с полевых работ, шел с другими работниками своей полевой партии по берегу реки. Идти было плохо. Тропы не было. Берег был крутой, кочковатый, труднопроходимый. И он решил пойти по молодому гладкому льду, расстилавшемуся у берега. Но это было роковым решением. Едва он прыгнул на лед с берега, как моментально исчез с глаз шедших за ним следом работников партии, провалился сквозь тонкий лед, проломленный ударом, и был моментально затянут быстрым течением под лед. Люди, которые были рядом, никакой помощи ему оказать не сумели и не успели. А Петр Николаевич Спиридонов, работавший раньше тоже начальником партии, потом в 1943 и в начале 1944 года старшим инженером геолого-поискового отдела в нашем управлении, а позднее на той же должности в ГРУДС, был в инспекционной поездке в одной из полевых партий, находившейся в дальней тайге. Недалеко от базы этой партии было небольшое озеро, на которое садились гидросамолеты. На гидроплане прилетел и Петр Николаевич. Он отправлялся обратно, и самолет, едва оторвавшись после разбега от водного зеркала, стал вдруг падать из-за того, что у него заглох мотор. Летчик крикнул пассажирам: «Бегите назад, в хвост!». Все побежали, а Спиридонов этого сделать не успел, так как ему что-то помешало. Он остался на месте и во время удара о деревья леса на берегу был убит сорвавшимся с места бензобаком. X. И. Калугин «от имени и по поручению» ряда лиц из нашего поселка попросил меня, чтобы, используя большую грузоподъемность нашего корабля, мы привезли из Оротука картошки. Всего заявок поступило на 1,2 т. картошки. По неопытности я согласился на эту авантюру, думая, что это сделать будет не очень трудно. Казалось, нельзя было ожидать, что, прилагая к тому все силы, мы все окажемся не в состоянии выполнить это дело и довести его до конца. Потом я с этой делегацией начальствующего состава ходил на базу партии С. С. Герасименко, находившуюся километрах в 15 от стоянки нашего кунгаса, а вечером сидел с ними же на озере в ожидании уток. Но их мы не дождались. Ходили мы еще зачем-то с Матвеенко и Калугиным по старому Оротуку. Матвеенко искал какого-то старого якута-дагора («дагор» по якутски — друг, товарищ. — Ред.), а зачем тот был ему нужен, я совсем не помню. Поиски наши почему-то не увенчались успехом. Помню, поселок состоял из разбросанных без порядка двух-трех десятков обыкновенных якутских хотонов — длинных изб, состоящих из жилой части и коровника, занимающего большую часть постройки. Не все хотоны были обитаемы, так как население переводилось в новые деревянные избы, построенные на другом берегу Колымы вдоль берега ее притока Тыэллаха. Это название было присвоено и новому поселку. Старые якутские коровы были очень плохие, маленькие и давали очень мало молока. Поэтому коров держали много, и естественно, что для них хозяева отводили большую часть постройки, ютясь сами в меньшей.
Картофельная эпопея
Заголовок звучит вроде «яичной аферы» Джека Лондона. Автор собирается рассказать тоже довольно смешную историю, несколько напоминающую упомянутую аферу Смока Беллью. Сходство, разумеется, весьма отдаленное и главное — одностороннее. Оно только в том, что я на этой операции прогорел подобно Смоку и Малышу. Но другая сторона дела совсем не похожа. Упомянутые герои Лондона хотели разбогатеть за счет спекуляции яйцами, а мы хотели только привезти картошку людям, не собираясь спекулировать ею и богатеть на этом. Просто нас попросили об этом, потому что у нас был кунгас, на который можно было погрузить не только 1200 кг картошки, а по крайней мере в четыре раза больше. Поэтому, разумеется, мы не отказались от выполнения этой просьбы. Тем более что она казалась легковыполнимой. Трудно ли уплатить деньги, оформить документы, привезти картошку на транспорте колхоза и перетаскать мешки с картошкой на кунгас? Кажется, ну что же в этом деле трудного? Совсем ничего нет! Да это действительно было бы так, только при одном условии. Если бы картошку продавали тогда, когда ее копали и когда стояла хорошая погода, а не ожидали для этого наступления дождливых дней. Но, к сожалению, именно так и произошло. Я не знаю, случайно ли день начала продажи картошки колхозом совпал с началом дождей или же старший бухгалтер колхоза нарочно сделал так. Только дождавшись дождей, он начал продавать картошку. Мне кажется более вероятным предположение, что бухгалтер сделал это нарочно. Есть, к сожалению, еще под нашим небом такие ничтожные люди, которые наслаждаются своей в жизни общества ролью, которая им кажется значительной и даже большой. Вот не продал вовремя он нам картошку и этим самым устроил так, что люди не получили ее, обходились без нее, а я потерпел урон, потерял на этом деньги, заработанные тяжелым и опасным трудом. Конечно, он сделал это нарочно. Сколько прошло хороших погожих солнечных дней, когда картошка была уже выкопана, а мы ежедневно ходили в колхозную контору и получали стереотипные ответы: «Нет, еще не продаем, не готова калькуляция». Ведь, если разобраться, это же очень глупые отговорки. Если бы и в самом деле не была готова калькуляция, они могли бы продать нам картошку и тогда с расчетом позже — через 1–2 дня. Впрочем, это, должно быть, было бы нарушением каких-нибудь там порядков. Об одном следовало бы нам жалеть. Нужно было отказаться от картошки, когда пошел дождь. Тогда прогорел бы колхоз, а не мы, так как гнила бы мокрая, грязная картошка, принадлежавшая колхозу, а не нам. Но мы не сумели вовремя остановиться. Вместо этого мы обрадовались, что, наконец, дождались, когда колхоз будет продавать картошку. Купили, и совсем не так уж дешево, кажется, по 2 руб. 30 коп. за кило мы платили. Значит, больше чем 2700 руб. стоила наша покупка, мокрая и ужасно грязная. Ведь дождь шел немаленький, и мокрой стала не только картошка, но и земля, в которой она росла, и дорога, по которой ее нужно было привезти через лес на берег Колымы к кунгасу. Картошка была ужасно грязной, как в земляной или грязевой сметане. Наконец, ее именно в таком ужасном виде, но загруженной в мешки, приволокли при помощи колхозного быка с кольцом в носу. Что с ней нужно было делать? Оставить так ее было нельзя, потому что это была не обыкновенная картошка с толстой кожей, которой не особенно страшна сырость. Это была совсем молодая картошка, хотя и довольно крупная, с очень молодой и тонкой кожицей. Поэтому мне показалось очень дельным предложение П. И. Авраменко перемыть картошку, а потом высушить ее на солнышке, когда оно будет. Мы так и сделали — поставили на самом берегу у воды бочку, наполняли ее при помощи ведра водой, насыпали туда картошку, обмывали руками почти каждый клубень и потом вынимали ее из воды. Эту операцию мы проделывали быстро, несмотря на ее сравнительно большую, но еще больше кажущуюся трудоемкость, а вот высушить ее нам так и не удалось. Дни стали короткими, солнце стало плохо греть, и у нас не хватало брезента, чтобы расстелить всю картошку одним слоем. Поэтому высушить ее за день было нельзя, а ночи были уже холодные, морозные, и картошку на ночь приходилось вносить в палатку, а утром заново выносить. И так каждый день с этими 1200 кг. Она потихоньку начала портиться, а мы ее еще с самого начала принялись изо всех сил есть. Отъедались жареной картошкой, пили молоко, которое приносили с молочной фермы. И то и другое на Колыме было всегда в дефиците, а особенно в то время. Ни того ни другого попросту не было совсем, так как молоко давали только маленьким детям, а свежая картошка была только утех, кто ее выращивал на огородах. С картошкой мы расправились хорошо. Должно быть, только килограммов 300 мы привезли в Усть-Омчуг, но и то в замороженном виде, потому что, когда мы, наконец, дождались Герасименко и поплыли, были уже морозные не только ночи, но и дни. Я не знаю, как другие, а я питался тогда этими оротукскими продуктами с подлинным наслаждением. До сих пор, больше чем через четверть века, я помню божественный вкус жареной картошки и холодного густого молока, поглощаемого большими эмалированными кружками. Воспоминание сохранилось навсегда, несмотря на то что я давно уже стал равнодушен к жареной картошке и почти так же к молоку. Все ж таки у нас хоть приятные воспоминания сохранились от картофельной эпопеи. Кажется, у Малыша и у Смока Беллью их не было после яичной аферы.Последние дни осени
Итак, мы стали ожидать С. С. Герасименко. Давно уехали все начальники, вернулись и мой Лепихин с рабочим Карпенко, с которым я так неожиданно и удачно убил недавно своего второго медведя. Прошла и картофельная эпопея, а мы все еще ожидали. Но, наконец, приехал и сам Герасименко, поставил свою палатку внизу прямо на бичевнике (сухопутная дорога вдоль берега водного пути. — Ред.) и стал вместе с нами ожидать, когда перевезут сюда все его снаряжение и имущество, которое нам нужно будет везти на кунгасе. Не тратя даром времени, Сергей Семенович принялся солить капусту. Не помню, откуда он взял для этого кадку и как привез капусту. Но делал он это умело и споро и времени затратил немного. Еще за несколько дней до приезда Герасименко на противоположном берегу Колымы, почти против нашей стоянки, но на отмелом низком берегу, где до этого часто садились утки, я поставил скрадок и сидел в нем два вечера, но на третий день явился какой-то якут, поломал мой скрадок и из материала, из которого он был сделан, сделал другой, по своему вкусу, где уже нельзя было сидеть, а можно было только лежать. Кроме того, он принес много, наверное, не меньше 30 штукдеревянных, грубо сделанных и еще хуже того — раскрашенных чучел уток. Окраской они отдаленно напоминали чернеть. Охотник расставил уток в живописном беспорядке. Часть из них «плавала» на прибрежной тихой воде, удерживаясь на месте при помощи камушка, привязанного к концу веревочки, другим концом привязанной к утке, другие утки как бы сидели на галечной косе, третьи направлялись к воде или входили в нее, а четвертые выходили из воды. Все было сделано так как надо, за исключением одного — самих уток. Уж очень плохо они были сделаны и слишком мало были похожи на настоящих. Не похожими на уток эти пугала считали сами утки, которые свое мнение выразили тем, что не только садиться на это место, но и летать близко к нему теперь уже не решались. А охотник только дня три провел в своем, переделанном из моего, скрадке, упорно и настойчиво ожидая уток, но, не дождавшись, он ушел, оставив, должно быть, вместо себя свои деревянные чучела-пугала, которые прочно занимали место, не позволяя обосноваться ни другому охотнику, ни живым уткам, которые боялись деревянных, считая их слишком грубой подделкой под уток. Так и оставались деревянные пугала именно в таком положении, которое придал каждой из них охотник. Проходил конец осени, появлялись забереги (полосы ледяного покрова, окаймляющие берега ручьев и водоемов взаморозки. — Ред.), «утки» вмерзали по утрам в прибрежный лед, а хозяин, словно забыв о них, все не являлся. Один раз мы сидели в палатке, завтракая, подкрепляясь пищей, наедаясь жаренной на растительном масле картошкой, когда где-то на реке совсем близко грянул выстрел. Я, как и другие, выскочил наружу и увидел плот, поравнявшийся как раз с нашей палаткой. На нем стоял человек, держа в руках еще слабо дымившееся ружье, смотрел на живописную деревянную группу, должно быть, недоумевая, зачем сделана такая масса чучел, не похожих на настоящих уток. Стрелял он, конечно, из «хулиганских побуждений», как любят выражаться милиционеры и иже с ними. Конечно, днем или утром при хорошем освещении принять эти деревяшки за уток на расстоянии выстрела он не мог. Тем более что эта утиная стая «сидела» на берегу почти напротив палатки довольно близко от нее. Может быть, когда плот был еще сравнительно далеко, охотник и принял деревяшки за уток, но, приготовившись стрелять и наблюдая за утками, он, конечно, должен был заметить, что они неподвижны и, наконец, непохожи на настоящих живых уток. А когда плот подошел на выстрел, уже никому ничего не могло казаться — слишком хорошо были видны деревянные подделки — и то, что они поддельные и что деревянные. На другой день после своего приезда С. С. Герасименко буквально из-под моего носа увел гуся, который сел на русло Колымы недалеко от берега, и мне нужно было выбраться из палаток, подползти к краю террасы и стрелять. Я как раз и проделывал это — подползал к краю террасы, когда треснула мелкокалиберка Герасименко и гусь сник, распластавшись на воде. Герасименко стрелял прямо из палатки. А всего тремя днями раньше, другой такой же одиночный гусь сел на русло реки, но у противоположного берега ее, довольно далеко от нас. Я стрелял круглой пулей, но промазал, и гусь перелетел на оротукскую протоку и уселся там почти против палатки Ивана Громова. Я пробирался сквозь густые заросли тальника, вдоль левого берега протоки, то есть противоположному тому, где стояла палатка Громова. Мне уже оставалось недалеко, когда раздался выстрел мелкокалиберки и на берегу я увидел Ивана Громова с винтовкой. Этого, конечно, и следовало ожидать, что он опередит меня, так как гусь сел действительно совсем близко к его палатке. Герасименко угощал нас своим гусем. Он был очень худ и костист. Громов тоже жаловался, что очень худой гусь ему достался, что был он очень костлявым. Это и не удивительно, а вполне закономерно. Оба эти гуся были одиночные, отбившиеся от стай во время перелета, отставшие гуси. А отстают и отбиваются от стай всегда слабые, больные, исхудавшие гуси. Но мне даже и такого дистрофика убить не удавалось. На обоих из этих дистрофиков я покушался, но оба раза убивали гусей более ловкие и более удачливые и умелые. За свою жизнь я медведей убил больше, чем гусей, хотя и медведей было совсем немного. Наконец приехал прораб партии Герасименко, Мамонтов. Привезли остатки их снаряжения, и все было готово к отправке. Утром отчалили. Кунгас шел в сопровождении, кажется, четырех лодок. На дорогу было припасено молоко, нажарены утки, выпечен хлеб. Проголодавшись, мы подплывали к кунгасу и заправлялись пищей на ходу, как самолеты заправляются в воздухе, не делая для этого остановок. Шли последние дни сентября, прошло уже и осеннее равноденствие, день был уже короче ночи и надо было использовать каждый час светлого времени для движения вперед. В пути мы один раз останавливались на ночлег где-то на левом берегу реки. Помню, что была морозная ночь, в которую мы окончательно заморозили наши остатки картошки, кажется, в семи мешках. Плыл я всю дорогу на лодке с С. С. Герасименко, пытались мы с ним охотиться, но это дело у нас шло плохо, и мы убили, кажется, трех или только двух уток. На агробазе все еще продолжалась вакханалия и свадебная карусель. Толпы женихов так же, как и летом, осаждали подступы к бывшему лагерю, в котором жили теперь амнистированные женщины. Впрочем, может быть, волна свадеб уже и шла на убыль. Машин с женихами было здесь по-прежнему много, но нам все же пришлось посылать за своей машиной, потому что груза у нас было много. Встретил я здесь на берегу Левина — начальника топографической партии и еще того самого Гагарина, который работал у меня в прошлом году. Он теперь уже был вольнонаемным и работал экспедитором, что ли — доставлял грузы в Санга-Талон на лодках и успел уже что-то там утопить — сахар, кажется. Ожидать машину на берегу Колымы я оставил Авраменко, Лепихина и рабочих, а сам отправился в Усть-Омчуг. Кончилось поле, опять начиналась новая камералка. Приятно было ощущать вокруг себя некий ореол славы, как же — убил все ж таки двух медведей. Не каждый ведь может этим похвалиться. Впрочем, я, конечно, шучу. Никакой славы и никакого ореола не было, и ощущать, собственно, было нечего. Было, пожалуй, некое смутное ощущение, пожалуй, самодовольства или удовлетворения тем, что не проявил трусости, когда наступила минута испытания мужества, когда пришлось в первый раз в жизни целиться из ружья, с колена в медведя, проходившего всего в 18–20 шагах от меня. Но это было не страшно, потому что рядом со мной был Лепихин, и он тоже палил, хотя непонятно, почему ему так и не удалось попасть. Впрочем, гордиться особенно мне было нечем, да я и не гордился, считая, что все было случайно и что мне просто крупно повезло, особенно в случае со вторым медведем, которого нашел своим взором Карпенко. Ему и принадлежит большая часть лавров, а мне удалось только сделать тогда самый удачный в моей жизни выстрел. Но в случае с первым медведем мне тоже просто повезло, и только. А самодовольное ощущение было оттого, что, как мне казалось, я проявил видимое мужество, подавил или скрыл врожденную трусость, так как всегда считал себя трусливым человеком.Сметана
С. С. Герасименко расхвастался однажды тем, что чуть ли не всегда устраивался так, чтобы можно было все лето есть вареники с сыром и сметаной. Он на самом деле гордился своей хозяйственной распорядительностью, желая представить это все в выгодном для себя свете, как бы продемонстрировать этим пример, достойный подражания. Он говорил, что всегда мог выкраивать время, чтобы послать возчика с лошадьми в Оротук за творогом и сметаной. Прибыв туда, возчик выписывал все это и даже как-то сам участвовал в производстве творога, который при нем приготовлялся, так что он получал самый свежий продукт. Разумеется, я слушал разглагольствования и похвальбу этого любителя вареников с большим удивлением. Меня поражало, что он считает возможным похваляться своими злоупотреблениями служебным положением и ставить их в пример другим. Но я видел, что он из-за своей врожденной, что ли, наивности не понимает, что это именно злоупотребление служебным положением, использование транспорта партии в своих личных своекорыстных целях для удовлетворения своих личных прихотей и для самоснабжения и уж во всяком случае не по назначению. Конечно, я ничего ему не сказал об этом, считая, что он и сам должен был бы соображать, что удовлетворение своих прихотей или прихотей начальника партии, любителя вареников с сыром и сметаной, отнюдь не входит в круг задач внутреннего транспорта полевой партии. Кроме того, я не сказал ему и о несравнимости условий, в которых работают партии разных масштабов. Конечно, в крупномасштабных партиях гораздо легче перенести временное отсутствие транспорта. Там можно оторвать лошадей от работы на несколько дней и даже довольно длительные периоды обходиться без транспорта. Другое дело — на мелкомасштабных работах, например, в партиях стотысячного масштаба. Там гораздо труднее переносить даже кратковременное отсутствие транспорта. Без лошадей там можно обходиться только в дни вынужденных простоев, связанных с непогодой. Но этому самодовольному любителю сметаны и вареников с сыром пришлось бы забыть о своих прихотях, окажись он в моем положении в том же 1945 году. Две старые больные клячи и 1300 км2. О каких же варениках можно мечтать? В таком положении, как говорится, не до жиру — быть бы живу.Снова камералка
Опять я сидел в том же правом (южном) углу второй комнаты нашей камералки, в которой кроме меня из начальников партий сидели только С. И. Кожанов и А. С. Красильников. Перед моим столом по-прежнему было крайнее правое окно фасада, справа у глухой фронтонной торцевой стенки, не имевшей ни окон, ни дверей, стояли стеллажи с разложенными на них коллекциями горных пород. Слева от меня у второго окна стояли, как и раньше, четыре сдвинутых попарно стола, обращенных узкими сторонами к окну. За ними по-прежнему сидели С. И. Кожанов, Ниспевич, Ельницкий и Данилевич. Последние два спинами опирались на тесовую стенку кабинета начальника отдела, а двое других сидели спинами ко мне. А. С. Красильников занимался, сидя у одного из окон задней стены (северо-западной), выходящей не на улицу. Он сидел в полоборота к нам за столом, приставленным к окну узкой стороной, а напротив него, за другим столом, придвинутым к переднему краю его собственного, сидел его прораб N. В начале зимы А. С. Красильников постоянно подсмеивался над N. и поддразнивал его из-за того, что тот, следуя чьему-то совету, вымыл голову красным стрептоцидом для предотвращения дальнейшего выпадения волос. В связи с этим у него выкрасился лоб и все лицо покрылось неравномерными полосами красно-оранжевой краской, которая была заметна и на светло-русых волосах. Красильников говорил, что он пижон, франт и потому выкрасился, желая стать покрасивее, а тот, переживая свою неудачную операцию, молча переносил добродушное подтрунивание. В начале зимы я делал попытки обработать, выделать шкуру первого убитого мною медведя — ту, которая была лучше, снятая с медведя, еще не начавшего линять после того, как он пробудился от зимней спячки. У нас в отделе был один прораб, учившийся раньше в кожевенном техникуме. Он меня инструктировал, как это нужно сделать, и я проделывал то, что он советовал, но у меня ничего не получилось. Шкура не стала мягкой, не хватило у меня и терпения. Осенью, когда я приехал, племянницы научили Димку говорить «дядя Итя» и были очень рады тому, что это у них получилось. Состав нашего геолого-поискового отдела пополнился теперь начальниками партий — Игорем Борисовичем Ларионовым, Алексеем Александровичем Семеновым, Артуром Кристом и Лорви. Последние два во время войны были интернированы и сидели в стройбате, так как первый из них был настоящий ариец, немец с красной кожей лица, а второй был финн. Теперь оба они были уже на свободе. На свободе оказался теперь и Л. Ф. Сиверс, русский человек с немецкой фамилией, не придававший значения тому, какую национальность ему припишут во время Всесоюзной переписи населения за два года до войны. Он так понимал интернационализм и за это поплатился, просидев три года в стройбате и вскоре после освобождения преждевременно скончавшись.1946
Опять на Веселой
Весной 1946 года, когда я уже заканчивал отчет по Таяхтахской партии, мне предложили опять путевку в дом отдыха «Веселая» (правильное название «Стахановец». — Ред.) в устье речки Дукча, на берегу бухты Гертнера Охотского моря. Поехал я туда вместе с Алексеем Федоровичем Михайловым. Была вторая половина марта. В Усть-Омчуге и на дороге в Магадан, проделанной нами ночью в кабине грузовика, стояли еще крепкие морозы. Морозно было и в Магадане. Мы приехали туда очень рано на рассвете и были рады тому, что нас с нашими вещами впустили в прихожую так называемого общежития АХО, чтобы там дождаться утра и приступить к поискам попутной машины, которая отвезла бы нас на устье Дукчи. Я впервые попал тогда в послевоенный Магадан, который выглядел уже немного иначе, чем в годы войны. Заметно оживились строительные работы. Строительством занимались тогда пленные японцы, которые строили гостиницу на углу Колымского шоссе и теперешней улицы Горького, которой тогда не было. Строили и на другой, правой или западной стороне Колымского шоссе, которое теперь называется проспектом Ленина, два дома ниже продолжения улицы Горького и большой, тоже четырехэтажный дом, протягивающийся от угла улицы Портовой почти до угла улицы Сталина. Этот дом у магаданцев тогда и много лет позднее был известен как «каскадный» дом. Японские солдаты работали на стройке под надзором своих собственных офицеров. Последние не работали, а только присматривали за солдатами. Очевидцы рассказывали, что если какой-нибудь солдат, по мнению офицера-надзирателя, работал недостаточно хорошо, последний подходил к нему и отвешивал ему несколько ударов палкой, с которой он не расставался. В доме отдыха, как и три с половиной года назад, главным развлечением оставался бильярд, но теперь он пользовался еще большей популярностью, потому что тогда осенью, кроме бильярда, можно было развлекаться прогулками в окрестностях, а теперь этого не было. Кинофильмы в доме отдыха теперь пускали еще реже, чем тогда, но вместо этого нас раза два возили в театр. В доме отдыха мы жили в одной комнате с А. Ф. Михайловым. Магадан. Улица Ленина. Фото начала 50-х гг.
Магадан. Улица Ленина. Фото начала 50-х гг.
Одновременно с нами в доме отдыха были наш начальник политотдела Середкин, милицейский капитан Бурдин, мой старый знакомый, отнявший мое ружье, которого вскоре после этого я видел уже в подполковничьих погонах, и начальник отдела. Вообще, в отличие от прошлого раза, теперь в доме отдыха был заметно другой состав отдыхающих. Тогда народ был проще, больше было молодежи и мелких служащих. Теперь же преобладали разные начальники, начальники приисков, геологи приисков и другие. Выгодным отличием от 1942 года было хоть и нерегулярное, но довольно частое, чуть ли не ежедневное движение автобуса, подходившего почти прямо к дому отдыха. В столовой нас нередко кормили жареной свежей треской, которую тут же на бухте ловили подо льдом. Я как-то ходил гулять по льду бухты, смотрел, как заводят сеть под лед при помощи длинных шестов через проруби, подобрал выброшенного рыбаками большого охотского краба с острыми шипами на панцире, которого до отъезда домой сохранял в снегу на балконе дома отдыха. Собираясь уезжать в Усть-Омчуг, я купил в Магадане большую деревянную обтянутую клеенкой лошадь для Димки, кукол для девочек. Еще перед отъездом в дом отдыха Нэля как-то успела сунуть мне в чемодан какие-то лоскуты, потому что говорили, будто при покупке кукол обязательно нужно сдавать тряпки, из которых на фабрике шьют кукол. В доме отдыха было скучно. Главное занятие там было чтение, но библиотека была небогатая. Из-за этого я часто ездил в Магадан, бродил по его улицам, бывал в ГРУ и у знакомых. До сих пор помню силуэт японского офицера, стоящего спиной к улице на третьем этаже строящегося дома, сжимающего руками палку за спиной и надзирающего за работой солдат. Однажды, проходя мимо японских солдат, грузивших лопатами гальку в самосвал на морском берегу, я был очень удивлен, услышав от одного из японцев: «Покурим, земеля!». Возглас был обращен ко мне, потому что я курил в это время, и означал он просьбу дать ему покурить. Я много раз слышал эти слова от наших заключенных и привык считать их русскими или жаргонными. Поэтому я подумал тогда: «Научился-таки в плену русскому языку».
Гибель А. К. Болдырева
В начале апреля я услышал о гибели бывшего профессора Ленинградского горного института, известного минералога, автора учебников по минералогии, доктора геолого-минералогических наук Анатолия Капитоновича Болдырева. Меньше чем год назад, в мае предыдущего 1945 года, я видел его живым и здоровым в Усть-Омчуге. Он сидел тогда на завалинке дома, где помещался наш геолого-поисковый отдел, и беседовал с группой геологов. Помню, разговор шел об индивидуальных огородах и в частности о картошке, о том, что в прошлом году завезли семенную картошку неподходящего позднего сорта, которая на севере не успевает вырасти. А теперь он погиб. В конце 30-х годов А. К. Болдырев был арестован, осужден за что-то неизвестное нам и отбывал срок заключения на Колыме. Ему еще сравнительно повезло, потому что его вовремя разыскали руководители ГРУДС и перевели с дорожно-строительного участка, где он, несмотря на свой преклонный возраст, занимался тяжелым физическим трудом, на работу по специальности, где он приносил пользу. К концу войны он был уже давно освобожден из заключения и награжден орденом Трудового Красного Знамени. Погиб он при следующих трагических обстоятельствах. По поручению политуправления он должен был прочесть какую-то лекцию в поселке Ола на побережье Охотского моря невдалеке от Магадана. Он и ехал туда, кажется, на американской военной легковой машине «Виллис». Машина шла по зимней дороге, проложенной через бухту по морскому льду. Вероятно, шофер плохо знал эту дорогу или давно по ней не ездил или им обоим просто не повезло, но они въехали в полынью и провалились. Шофер погиб сразу, вероятно, захлебнувшись раньше, чем ему удалось выбраться из-за руля. Должно быть, машина повалилась на левый бок и шофер оказался на самом дне внизу. А может быть, при ударе, когда машина проваливалась сквозь лед, он ударился головой и, потеряв сознание, захлебнулся позже. Во всяком случае, он остался в машине, а старику А. К. Болдыреву как-то удалось выбраться на лед и даже отойдя шагов 100 от полыньи, взобраться для чего-то на торос. Там он и умер от сердечного приступа. Свидетелей этого трагического происшествия не было, и никто из его участников не остался живым. Поэтому не известно, что произошло с А. К. Болдыревым. То ли он действительно, как все предполагали, выбрался из машины, уже будучи под водой на дне бухты, выплыл на поверхность, вылез на лед или, может быть, он успел выскочить из машины в тот момент, когда она, ломая лед проваливалась в воду. И то и другое — почти в равной степени трудное для старика дело.Анатолий Капитонович Болдырев (1883–1946)
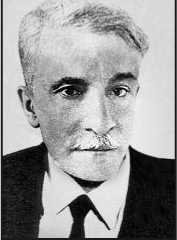 Геолог, всемирно известный ученый-кристаллограф. На Колыме оказался в 1959 г. в качестве зэка. С 1940 г. переведен в ГРУ Дальстроя, консультировал колымских геологов. Освобожден в 1945 г. Трагически погиб в марте 1946 г. Автор ряда работ по геологии Северо-Востока. Составитель «Каталога минералов Северо-Востока СССР». Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени.
Геолог, всемирно известный ученый-кристаллограф. На Колыме оказался в 1959 г. в качестве зэка. С 1940 г. переведен в ГРУ Дальстроя, консультировал колымских геологов. Освобожден в 1945 г. Трагически погиб в марте 1946 г. Автор ряда работ по геологии Северо-Востока. Составитель «Каталога минералов Северо-Востока СССР». Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени.
Одежда на нем была мокрая, но он мог замочить ее и не побывав на дне бухты вместе с машиной, а, выскочив из машины в воду еще в тот момент, когда машина проваливалась, но была еще на поверхности полыньи. О том, что он не замерз, несмотря на то что был в мокрой одежде, а умер от сердечного приступа, говорили в Магадане. Говорили и о том, что невдалеке от места его гибели были какие-то строения, кажется, жилища рыбаков. Но он до них добраться не сумел. Я был на его похоронах. Пошел отдать дань уважения старому профессору. Были там, шли в похоронной процессии, поднимающейся из города на гору к городскому кладбищу, только работники ГРУДС во главе с генерал-майором В. А. Цареградским. Над процессией возвышалась его единственная генеральская папаха из серого каракуля, и выделялась из пестроты других одежд голубая генеральская шинель. Кроме работников ГРУДС, на похороны не явился никто. Особенно бросалось в глаза, что не было никого из политуправления, не было и тех, кто послал его на смерть, послал читать эту дурацкую лекцию или политинформацию по газетному материалу, как будто нельзя было поручить это любому комсомольцу. Но они совсем не чувствовали себя виновными в его смерти. Наоборот, своим отсутствием они выражали свое пренебрежение «бывшему заключенному», хотя и незаконно осужденному, реабилитированному и награжденному орденом за выдающиеся заслуги… Несмотря на реабилитацию и орден, политуправление оставило его в касте изгоев, прокаженных, неприкасаемых и поэтому не сочло нужным снизойти настолько, чтобы отдать долг — последний долг погибшему при выполнении поручения, которое они сами ему и дали, погибшему по их вине. Не явился никто и из Главного управления Дальстроя, тоже, очевидно, относя погибшего к касте неприкасаемых. И на фоне всего этого безобразия, этой обструкции, организованной политуправлением Дальстроя, еще большего уважения заслуживал генерал В. А. Цареградский, имевший мужество показать, что у него на сей счет имеется собственное мнение, и наперекор всему присутствовавший на похоронах.
Диверсия в Находке
Поздней осенью 1946 года мы услышали о недавно произошедшей диверсии в бухте Находка. Говорили о том, что там взорвали пароход или теплоход «Дальстрой», стоявший у причальной стенки и нагрузившийся взрывчаткой. Говорили о том, что от взрыва сильно пострадали склады, стоявшие рядом с причалом, что там к тому же вспыхнул пожар, при котором сгорело много добра. Все это передавалось, конечно, известным агентством ОГГ (одна гражданка говорила). Никаких официальных известий об этом мы не слышали, но сообщение агентства ОГГ вскоре стало подтверждаться тем, что хлеб, выпекаемый из муки, очевидно, привезенной из Находки из обгорелых взорванных складов, был с заметной горечью и — главное — сильно трещал на наших зубах, что выдавало в нем заметное присутствие песка и свидетельствовало о том, что муку после взрыва и пожара собирали с земли и не смогли при этом уберечь ее от загрязнения песком. Но приходилось есть то, что нам давали. Вообще снабжение на Колыме продовольствием после окончания войны довольно резко ухудшилось. Прекратился завоз продовольствия в Магадан прямо из американских портов. В 1946 году на полевых работах мы ели хлеб уже не из белой американской муки, которой питались всю войну, будучи в этом отношении в привилегированном положении по сравнению со всей страной, а из канадской пшеницы, которую почему-то завозили в Магадан в неразмолотом виде. Хлеб из этой муки получался какой-то темно-серый, но мы вскоре сообразили, что если просеивать муку, то хлеб будет лучше. Пароход «Ягода Генрих», позже «Дальстрой» в бухте Нагаева. Фото 30-х гг.
Пароход «Ягода Генрих», позже «Дальстрой» в бухте Нагаева. Фото 30-х гг.
Это действительно подтвердилось, когда мы стали просеивать муку через те миллиметровые сита, которые у нас служили для просеивания проб при их дроблении. Интересно было, что отсеивались при этом совсем не отруби, а просто крупная фракция — пшеничная крупа, из которой мы варили хорошую кашу. Ничего при этом не пропадало. А эта ржаная мука из Находки, пострадавшая от взрыва «Дальстроя» и пожара на складах, которую мы ели теперь, была уже отечественной. Естественно, что в то тяжелое послевоенное время нельзя было и ожидать ничего более качественного. Хуже всего снабжение, особенно мукой и крупой в полевых партиях, было в 1947 году. Тогда в полевые партии давали по тем же нормам военного времени муку четырех сортов. Приблизительно 50 % ее была ржаная черная, по 20 % — кукурузной и смеси овсяной и соевой и около 10 % — белой пшеничной. Не лучше, если не хуже, обстояло дело с крупой. Большая часть ее была представлена гаоляном, а меньшая — самым низкосортным серым горохом. Гаолян — это один из видов сорго, злак. По внешнему виду он похож на гречневую крупу. Поэтому жители нашего поселка, увидев его, очень обрадовались, потому что с давних довоенных годов не ели гречневой каши. Но скоро они распробовали эту «кашу» и оценили ее по достоинству. Вкуса этот злак не имеет никакого. Поэтому, должно быть, недалеки от истины были те, кто сравнивал его с древесными опилками.
1947
Взрыв в Нагаево
В конце 1947 года незадолго до денежной реформы на рейде в бухте Нагаева взорвался недавно подошедший пароход или теплоход, кажется, носивший название «Ватутин», доставивший взрывчатку. Люди, слышавшие это от свидетелей, рассказывали, что днем, кажется, в обеденный перерыв на пароходе, стоявшем на рейде, начался пожар. В связи с этим рабочие порта высыпали на берег — посмотреть на пожар. Они, конечно, ничего не знали о том, что судно нагружено взрывчатыми веществами для всей горнодобывающей промышленности обширной Колымской области, и тем более не знали, что весь этот груз через несколько минут взлетит на воздух. Поэтому жертв было много, во всяком случае, гораздо больше, чем их могло бы быть. Рассказывали, что взрывной волной людей, стоявших перед каменным или железобетонным забором или стенкой, ограждавшей территорию складов, с огромной силой швырнуло на этот самый забор-стенку и буквально раздавило. Взрыв в бухте Нагаева парохода «Генерал Ватутин» вызвал сильнейшие разрушения и пожары в районе морского порта и поселка Нагаево. Фото 1947 г.
Взрыв в бухте Нагаева парохода «Генерал Ватутин» вызвал сильнейшие разрушения и пожары в районе морского порта и поселка Нагаево. Фото 1947 г.
 Убытки от взрыва парохода «Генерал Ватутин» по предварительным материалам специальной комиссии составили 116 млн рублей, огромную по тем временам сумму. На фото нефтехранилище после взрыва, 1947 г.
Убытки от взрыва парохода «Генерал Ватутин» по предварительным материалам специальной комиссии составили 116 млн рублей, огромную по тем временам сумму. На фото нефтехранилище после взрыва, 1947 г.
Случайно находившийся в этот день в Магадане наш геолог-один из начальников партий Григорий Семенович (Сергеевич? — Ред.) Киселев — рассказывал, что он, только что вернувшись из отпуска с «материка», остановился в Магадане у своего хорошего приятеля, жившего против больницы. После взрыва он, будучи дома, наблюдал, как к больнице подкатывали одна за другой грузовые машины с ранеными, доставленными из порта, потому что карет «скорой помощи» не хватало. На заснеженной дороге перед больницей, где машины стояли во время их разгрузки, остались буквально лужи крови. Несмотря на то что Магадан своевременно спрятался от моря, вернее, от бухты Нагаева, с которой зимой нередко дуют штормовые, валящие с ног ветры, как бы отгородившись от нее невысоким, правда, водоразделом между бухтой и р. Магаданом, он все же заметно пострадал от взрыва. Во многих домах города отголосками взрывной волны вышибло стекла в окнах южной стороны. В частности, здание Главного управления Дальстроя лишилось буквально всех стекол в окнах южного фасада. Жители города потом рассказывали, что им никогда в жизни не приходилось слышать ничего даже приблизительно напоминающего этот громоподобный колоссальной силы звук взрыва, который не с чем было сравнить и уподобить грому можно было только условно. Отдаленный гул взрыва слышали, как они уверяли, люди, находившиеся на одной из разведок нашего управления, находящейся на расстоянии приблизительно 250 км по прямой линии от Магадана. Если вспомнить, что взрыв первой атомной бомбы — то ли «Малыша», толи «Толстяка», наши газеты в августе 1945 года уподобляли по силе взрыву 20 000 тонн тринитротолуола, то следует сделать вывод, что слухи о том, будто взорвавшийся пароход был весь гружен взрывчатыми веществами: аммонитом, динафталитом или толом, были неверны, потому что если принять условно, что грузоподъемность его была всего 5000 тонн, то сила взрыва его равнялась бы одной четвертой части колоссальной силы взрыва каждой из бомб, повергнувших Хиросиму и Нагасаки. В Нагаево взрыв был гораздо слабее. Во всяком случае, взрывная волна не разрушала построек, не сметала стен.
Эпилог
На этом воспоминания обрываются. Из письма, датированного 19 марта 1972 г., родственнику Андрею, которое прилагается к 42 тетрадям воспоминаний, мы узнаем, что работать над воспоминаниями Виктор Володин начал сравнительно недавно. «…Сам тоже болею и потому ничего не делаю по делу, которое хотел бы кончить. Это письмо пишу, лежа на больничной койке. Незаметно подкралась ко мне и сразу набросилась на меня страшная болезнь, о существовании которой и тем более о существовании у меня, я ничего не подразумевал еще какой-нибудь месяц с небольшим назад. У меня вдруг отказали мои собственные ноги — превратились в чужие, какие-то ватные, что ли. Я не могу на них стать и тем более ходить. Началось все с того, что я вдруг упал на ровном месте без всяких причин и без головокружения, а потом все более и более развивалась скованность движений и отсутствие способности сохранять равновесие. Нарастало бессилие ножных мышц. Теперь лежу уже в третьей больнице. В первую попал накануне Нового года. Но поводом для этого служила совсем другая болезнь. Тогда я мучился от острой кишечной непроходимости — хотели резать, но обошлось, а в десятых числах января наступила эта новая болезнь. 13-го числа я лег. Дней через 10 выписался, но дома мне становилось хуже, и меня уговорили лечь опять. Вот и лежу, и не вижу никаких перспектив. Все лечение состоит в физиотерапии… А что должно принести исцеление, я не знаю. Разумеется, что надеюсь или, по крайней мере, хочу надеяться на то, что оно наступит, но откуда оно должно взяться…. Разумеется, что я тебе очень благодарен за тот сизифов труд, который ты затратил, читая мои литературные экзерсисы. Конечно, о твоих похвальных отзывах я уже и не говорю. Они чрезвычайно лестны для меня, но мне кажется, что ты слишком щедр в своих оценках. Большое спасибо тебе за это! А также и за то, что ты выражаешь готовность читать еще мои воспоминания. Я непременно воспользуюсь твоим любезным разрешением и пришлю в ближайшее время — у меня есть законченные тетради…». Виктор Дмитриевич Володин с племянницами Надеждой и Инной. Фото 50-х гг. XX века.
Виктор Дмитриевич Володин с племянницами Надеждой и Инной. Фото 50-х гг. XX века.
Повествование обрывается 1947 годом, хотя, судя по сохранившемуся черновому плану последующих глав, воспоминания предполагалось завершить 1961 годом, подведя итог 25-летнему пребыванию на Севере. — Первый отпуск в 1948–49 гг. — Возвращение из отпуска. В россыпном отделе — 1949, 50, 51, 52 гг. — Второй отпуск 1952–53 гг. — Опять в поле на <неразборчиво> в 1953 г. — 1954 — на <неразборчиво> — 1955 — на Кулу — 1955 — третий отпуск — Март 1957 г. — в Индию — 1957 — Лист геологической карты — 1958 — то же — 1959 — еще лист. Полевые работы. Командировка в Ленинград — 1960 — работа над картой — 1961 — завершение, май — отъезд в отпуск, декабрь — защита второго листа в Ленинграде.
Виктор Дмитриевич Володин (1909–1972)
 Геолог, родился в Днепропетровске, окончил горный институт в 1951 г., работал рудничным геологом в Кривом Роге, на Колыму прибыл 50 октября 1958 г. на пароходе «Феликс Дзержинский». Начальник разведки, геолог 1958 по 1959 г. на рудной разведке Лазо ЮЗГПУ; с апреля 1940 г. в геолого-поисковом отделе ГРСТГПУ в пос. Иганджа на 92-м км Тенькинской трассы, начальник полевой партии; в 1940–1941 гг. начальник полевой партии, старший инженер, старший геолог ТГПУ; в 1945–1945 гг, — начальник оловорудной разведки, первооткрыватель месторождения олова «Сталинградец», в 1945 г, — начальник полевой партии на правобережье Кулу; с 1946 г. принимал участие в выявлении урановых оруденений на Теньке, в 1948–1949 гг. работал в составе Первого управления; позже работал начальником геологических партий на Колыме, а в 1955 г. — начальником Верхне-Хей-джанской геолого-поисковой экспедиции в районе Охотска. Позже работал над составлением ряда геологических карт. С Колымы уехал в 1961 г. Награжден орденом Ленина.
Геолог, родился в Днепропетровске, окончил горный институт в 1951 г., работал рудничным геологом в Кривом Роге, на Колыму прибыл 50 октября 1958 г. на пароходе «Феликс Дзержинский». Начальник разведки, геолог 1958 по 1959 г. на рудной разведке Лазо ЮЗГПУ; с апреля 1940 г. в геолого-поисковом отделе ГРСТГПУ в пос. Иганджа на 92-м км Тенькинской трассы, начальник полевой партии; в 1940–1941 гг. начальник полевой партии, старший инженер, старший геолог ТГПУ; в 1945–1945 гг, — начальник оловорудной разведки, первооткрыватель месторождения олова «Сталинградец», в 1945 г, — начальник полевой партии на правобережье Кулу; с 1946 г. принимал участие в выявлении урановых оруденений на Теньке, в 1948–1949 гг. работал в составе Первого управления; позже работал начальником геологических партий на Колыме, а в 1955 г. — начальником Верхне-Хей-джанской геолого-поисковой экспедиции в районе Охотска. Позже работал над составлением ряда геологических карт. С Колымы уехал в 1961 г. Награжден орденом Ленина.
Многое осталось ненаписанным. Но это касается не только последующих лет. И в написанных воспоминаниях присутствует некоторая загадка. Кажется странным, что довольно подробное жизнеописание, включающее и 1945 год, вдруг становится очень скудным в повествовании о событиях 1946 года. В рукописи тот год был знаменателен только тем, что Виктор Володин отдыхал в Магадане в доме отдыха «Стахановец» на Дукче, погиб профессор Болдырев и случилась диверсия в порту Находка, а в 1947 году вообще ничего не происходило, кроме взрыва парохода «Генерал Ватутин» в Нагаево, о котором Володин мог только слышать… В автобиографии, приведенной в «Прологе», информация о деятельности с 1944 по 1949 г. вообще отсутствует. Если сопоставить сохранившиеся геологические отчеты этого периода, черновой план и записи в дальстроевских карточках, то можно понять причину этой странности. В плане записано: «Первый отпуск в 1948–1949 гг.», — при этом в отпуск братья Володины отправляются на девять месяцев буквально через 10 дней после перевода в Первое («урановое». — Ред.) управление, деятельность которого, как, впрочем, и весь атомный проект Л. П. Берия контролирует лично.
 Лист задания Сталинградской геолого-разведочной партии, руководство которой осуществлял Виктор Володин. Задание по поиску металла № 5 (так для секретности назывался уран) подписано главным геологом ТГПУ Н. П. Аникеевым. 1946 г.
Лист задания Сталинградской геолого-разведочной партии, руководство которой осуществлял Виктор Володин. Задание по поиску металла № 5 (так для секретности назывался уран) подписано главным геологом ТГПУ Н. П. Аникеевым. 1946 г.
Всеволод Дмитриевич Володин (1908–1970)
 Геолог, родился в Харькове, окончил горный институт, работал в тресте «Руда» в Кривом Роге, прибыл на Колыму на пароходе «Феликс Дзержинский» 30 октября 1938 г., с 1938 г. работал на Бутугычаге помощником старшего геолога, старшим геологом, затем — главным геологом; в 1942 г. старший инженер отдела рудных разведок. Постановлением СНК СССР от 13 октября 1945 г. на Дальстрой была возложена задача по разведке урановых руд. По этому поводу в телеграмме Наркома НКВД Л. П. Берия подчеркивалось: «необходимо принять все меры к тому, чтобы энергично развернуть поиски уранового сырья и уже в 1945 г. организовать добычу руды и выпуск концентратов урана». С февраля 1946 г. Всеволод Володин — начальник 5-го отдела ГРО ТГПУ, занимающегося поиском урана и тория. 22 февраля 1948 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 392–148сс на базе производства геолого-разведочных работ 5-го отдела ГРУДальстроя организовано Первое управление, так называемый 14-й Почтовый ящик. В. Д. Володин в 1948–1949 гг. работает в составе Первого управления. (Этому управлению передавался весь личный состав, а также оборудование, транспортные средства, здания и сооружения 5-го отдела ГРУДС. — Ред.) В 1954–1956 гг. В. Д. Володин — руководитель Омчакской тематической экспедиции на Наталкинском и Омчакском золоторудных месторождениях, геологический отчет получил отличную оценку у специалистов. В 1958 г. — руководитель Пионерской структурно-поисковой партии. Позже работал над составлением ряда геологических карт. С Колымы уехал в 1961 г. Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Геолог, родился в Харькове, окончил горный институт, работал в тресте «Руда» в Кривом Роге, прибыл на Колыму на пароходе «Феликс Дзержинский» 30 октября 1938 г., с 1938 г. работал на Бутугычаге помощником старшего геолога, старшим геологом, затем — главным геологом; в 1942 г. старший инженер отдела рудных разведок. Постановлением СНК СССР от 13 октября 1945 г. на Дальстрой была возложена задача по разведке урановых руд. По этому поводу в телеграмме Наркома НКВД Л. П. Берия подчеркивалось: «необходимо принять все меры к тому, чтобы энергично развернуть поиски уранового сырья и уже в 1945 г. организовать добычу руды и выпуск концентратов урана». С февраля 1946 г. Всеволод Володин — начальник 5-го отдела ГРО ТГПУ, занимающегося поиском урана и тория. 22 февраля 1948 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 392–148сс на базе производства геолого-разведочных работ 5-го отдела ГРУДальстроя организовано Первое управление, так называемый 14-й Почтовый ящик. В. Д. Володин в 1948–1949 гг. работает в составе Первого управления. (Этому управлению передавался весь личный состав, а также оборудование, транспортные средства, здания и сооружения 5-го отдела ГРУДС. — Ред.) В 1954–1956 гг. В. Д. Володин — руководитель Омчакской тематической экспедиции на Наталкинском и Омчакском золоторудных месторождениях, геологический отчет получил отличную оценку у специалистов. В 1958 г. — руководитель Пионерской структурно-поисковой партии. Позже работал над составлением ряда геологических карт. С Колымы уехал в 1961 г. Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Все это приводит к мысли, что и Всеволод Дмитриевич — главный геолог Бутугычага, а в 1946 г., судя по титулу одного из геологических отчетов, начальник 5-го отдела, созданного при Геолого-разведочном управлении ГУС ДС и ЦНИИ и организованного «для руководства исследованиями, поисками и разведками на уран, а также для разработки методов его обогащения», и Виктор Дмитриевич, судя по сохранившимся геологическим отчетам, занимавшийся в 1946 г. «выяснением характера проявления металла № 5 (т. е. урана. — Ред.), его минералогии… и выявлением рудных тел с промышленной концентрацией металла № 5», вовсе не выезжали в отпуск. Скорее всего, оба продолжали работать в засекреченном Первом управлении. А скудность повествования о работе в этот период объясняется довольно просто — «подпиской о неразглашении государственной тайны», которую давал каждый из участников атомного проекта. За разглашение информации работники привлекались к ответственности по Указу ПВС СССР от 9 июня 1947 г., который в момент написания воспоминаний никто не отменял. Можно, конечно, предположить, что работа, проделанная к этому времени геологами Володиными, была достаточна для страны, остро нуждающейся в уране, и руководство Первого управления решило специалистов отправить в отпуск, но это маловероятно. Кроме этого, награждение Виктора Володина орденом Ленина в 1951 г., высшей наградой страны, явно было не за открытие довольно скромного оловорудного месторождения «Сталинградец» в 1943 г. Но все это делает воспоминания Виктора Володина еще более интересными. Появление этой книги стало возможным благодаря Тамиле Петровне Володиной, невестке Всеволода Дмитриевича Володина, которая решила опубликовать эти «геологические тетради», завещанные ей и ее сыну Всеволоду, внуку Всеволода Дмитриевича Володина, так как она геолог и работала в свое время на Колыме.
Павел Жданов
Последние комментарии
5 часов 4 минут назад
21 часов 8 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
3 дней 12 часов назад
3 дней 16 часов назад